Э.М. Хоумс Да будем мы прощены
Посвящается Клавдии – с благодарностью
«Да будем мы прощены» – заклинание, молитва, надежда, что я как-нибудь выберусь живым из этой передряги. Случалось ли вам хоть раз подумать: ведь я же сам все это устраиваю, это ведь я все порчу, и сам не знаю, зачем?
A.M. Homes
MAY WE BE FORGIVEN
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© A.M. Homes, 2012
© Перевод. М.Б. Левин, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
Хотите знать мой рецепт катастрофы?
Предупреждающий сигнал: прошлый год, День благодарения у них дома. Двадцать или тридцать человек гостей, цепочка столов из столовой в гостиную, внезапно упирающаяся в табуретку для пианино. Он сидел во главе самого большого стола, выковыривая из зубов кусочки индейки и вещая о себе самом. Я то и дело поглядывал на него, бегая с тарелками в кухню и обратно, и кончики пальцев у меня были перемазаны остатками пищи – клюквенный соус, сладкий картофель, холодный жемчужный лук, хрящики. И с каждым рейсом из кухни в столовую я ненавидел его все больше и больше. Всплывали в памяти все грехи нашего детства, начиная с его рождения.
Он вошел в мир через одиннадцать месяцев после меня, родился болезненным, потому что ему по дороге кислорода не хватило, и отвлек на себя чертовски много внимания. Хотя я всегда твердил ему, какой он отвратительный тип, сам он считал себя даром Божьим и держался соответственно. Ему дали имя Джордж, но он любил, чтобы его называли Гео – что-то ему мерещилось в этом стильное, научное, математическое, аналитическое. Я называл его Геод – как осадочную породу. Его противоестественная самоуверенность, его торжественно-самодовольная голова, облепленная белобрысыми прядями, высоко задранная, чтобы привлекать внимание, создавали впечатление, будто он и правда что-то знает. Люди испрашивали его мнений, старались заинтересовать его собой, а я никакого такого обаяния в нем не видел. Когда ему было десять, а мне одиннадцать, он был выше меня, шире в плечах, сильнее. «Ты уверена, что этот мальчишка не от мясника?» – спрашивал шутливо мой отец. И никто не смеялся.
Я притаскивал тяжелые тарелки и блюда, утаскивал кастрюли с коркой объедков, и никто не замечал, что нужна помощь, – ни Джордж, ни двое его детей, ни его смехотворные друзья – на самом деле прихлебатели у него на службе. Среди них – девица из погодной передачи и разные запасные ведущие, с прямыми спинами и волосами, распрямленными, как у Кена и Барби, а не прямыми, как у Клер – моей жены, американской китаянки, которая терпеть не может индейку и всегда нам напоминает, что у них в семье принято праздновать жареной уткой и клейким рисом. Жена Джорджа Джейн целый день хлопотала по хозяйству, готовила и убирала, и сейчас сбрасывала кости и объедки в колоссальный мусорный бак.
Джейн очищала тарелки, складывала грязные в стопки и бросала измазанные жиром приборы в исходящую паром мыльную воду. Взглянув на меня, она отвела волосы тыльной стороной ладони и улыбнулась. Я пошел за следующей порцией.
Глядя на ее детей, я воображал их в одежде переселенцев и в черных башмаках с пряжками. Представлял, как они выполняют работу, поручаемую детям переселенцев, – таскают ведра с молоком, как вьючная двуногая скотина. Натаниэл, двенадцати лет, и Эшли, одиннадцати, сидели за столом, как бесформенные кучки какие-то, сгорбившись, даже свернувшись, будто они беспозвоночные и их небрежно вывалили в эти кресла. Они глаз не отводили от своих экранчиков. Единственное, что у них двигалось, это большие пальцы рук – одна писала эсэмэски друзьям, которых никто никогда не видел, другой истреблял оцифрованных террористов. Это были дети-отсутствия: отсутствие личности, отсутствие характера и физическое отсутствие в доме всегда, кроме каникул. Их послали в пансион в возрасте, который иные могли бы счесть слишком юным, но Джейн как-то созналась, что это была своего рода необходимость: имелись намеки на общие трудности обучения, на несоответствие развития возрасту; и подразумевалось, что непредсказуемые перепады настроения Джорджа создают в доме не совсем идеальную атмосферу.
Звуковой фон обеспечивали два телевизора, громко состязавшиеся за внимание зрителей, которых не было. По одному шел футбол, по другому – фильм «Могучий Джо Янг».
– Я компанейский человек, душа и сердце любой компании, – говорит Джордж. – Король развлечений в сети, нахожусь в состоянии боевой готовности, двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю.
Телевизоры натыканы повсюду. Джордж не может быть один даже в уборной.
И еще, видимо, он не в состоянии прожить без постоянно звучащих подтверждений своего успеха. Десяток с лишним «Эмми» просочились из его кабинета и расползлись по всему дому со всякими прочими премиями и цитатами в резном хрустале, и каждая из них прославляла умение Джорджа переваривать популярную культуру и выдавать ее нам обратно – с едва заметной долей насмешки, чаще всего в виде получаса ситкома или часа новостей.
Центр стола занимало блюдо с индейкой. Я перегнулся через Клер и поднял его – тяжелое блюдо заколебалось, едва не вырвалось. Я напрягся, велел мышцам быть сильными и справился с работой, не уронив при этом зажатую сгибом другой руки кастрюльку с брюссельской капустой и беконом.
Индейку, эту «птицу наследия» (в чем бы оно ни состояло), натерли, расслабили, приправили до полной покорности, до мыслей, что не так уж плохо, если в некотором ежегодном обряде тебя обезглавят и начинят панировочными сухарями и клюквой до самой задницы. Птицу растили, внушая ей эту мысль, ради той даты, когда выпадет ее жребий.
Я стоял в кухне, поглядывая на птичий труп, а Джейн в ярко-синих перчатках мыла посуду, руки по локоть в мыльной воде. Моя рука ушла глубоко в мякоть птицы, пустое тело было еще теплым, и в нем торчали лучшие куски начинки. Я зарылся пальцами, поднес к губам щепоть начинки. Джейн на меня посмотрела – рот у меня был влажный, жирный, пальцы скрючены где-то там, где у птицы находилась точка джи – если она у птиц бывает. Джейн вынула руки из воды, подошла ко мне и влепила поцелуй – никак не братский. Серьезный, влажный, полный желания, и это было жутко и неожиданно. Потом она сорвала перчатки и вышла из кухни. Я держался за столешницу, вцепившись в нее скользкими от жира пальцами. Крепко вцепившись.
Подали десерт. Джейн спросила, хочет ли кто-нибудь кофе, и снова вышла в кухню. Я за ней, как собака, просящая добавки.
Она меня в упор не видела.
– Ты меня игнорируешь? – спросил я.
Она без слов протянула мне кофе.
– Можно мне чуть-чуть расслабиться, сделать что-нибудь только для собственного удовольствия и ни для чего другого? – Помолчав, она спросила: – Сливки, сахар?
От Дня благодарения до Рождества, от Рождества до Нового года я мог думать только об одном: как Джордж имеет Джейн. Вот он на ней, а вот особый случай: он снизу, а однажды, фантастически, Джордж уделывал ее сзади – глаз не сводя с телевизора, а внизу экрана шли бегущей строкой заголовки новостей. Не мог я об этом не думать. Я был убежден, что Джордж вопреки своему обаянию и колоссальным профессиональным достижениям в постели не ас и все, что он знает о сексе, почерпнуто из журналов, которые он тайно читает в сортире. И я все думал, как мой брат трахает свою жену, – постоянно думал. Стоило мне увидеть Джейн, у меня вставал. Чтобы не выдать свой предательский энтузиазм, я одевался в мешковатые штаны и две пары плавок. От этого я становился объемным, и мне не нравилось, что выгляжу ожиревшим.
В без чего-то восемь вечера, ближе к концу февраля, звонит Джейн. Клер еще на работе – она всегда на работе. Другой бы подумал, что у его жены интрижка. Я думаю, что Клер умница.
– Нужна твоя помощь, – говорит Джейн.
– Не волнуйся, – отвечаю я, еще даже не зная, о чем волноваться.
Представляю, что она звонит мне с кухонного телефона, длинный кольчатый шнур обернулся вокруг ее тела.
– Джордж в полиции.
Я смотрю на нью-йоркский горизонт. Наш дом – уродство, послевоенный белый кирпич, унылый и скучный, но мы высоко, окна широкие, и есть терраса, где мы по утрам сидим и завтракаем.
– Он что-нибудь натворил?
– Видимо, – отвечает она. – Меня просили приехать его забрать. Ты можешь? Можешь забрать своего брата?
– Не волнуйся, – повторяю я.
Через несколько минут я уже на пути от Манхэттена к местечку Уэстчестер, где живут Джейн и Джордж. Клер я звоню из машины, включается ее голосовая почта.
– Что-то там стряслось с Джорджем, я должен его забрать и отвезти домой к Джейн. Я поужинал, тебе оставил в холодильнике. Позвоню.
Драка. Именно о ней думаю я по дороге в полицейский участок. У Джорджа это есть: термоядерная реактивность, таящаяся под поверхностью до тех пор, пока какая-то мелочь не послужит спусковым крючком, и тогда он взрывается, переворачивает столы, лупит кулаком в стену, а то и… Я сам не раз бывал реципиентом его фрустраций: мне в спину летел бейсбольный мяч и бил по почкам так, что я падал на колени, у бабушки на кухне мне доставался такой толчок, что я спиной вперед вылетал через стеклянную дверь – это Джордж не давал мне взять последний пирожок. Видимо, он после работы поехал выпить и с кем-то сцепился.
Через тридцать три минуты я паркуюсь возле небольшого пригородного полицейского участка – белая коробка года этак семидесятого. В участке – календарь с грудастыми девками (пожалуй, в полиции не совсем уместный), банка леденцов, два металлических стола, которые гремят, как автоавария, если их случайно задеть, – а это я как раз и делаю, споткнувшись на пустой бутылке диетического «доктора пеппера».
– Я брат человека, жене которого вы звонили, – объявляю я. – Я здесь по поводу Джорджа Сильвера.
– Вы и есть его брат?
– Да.
– Мы звонили его жене, она едет его забирать.
– Она позвонила мне, и я за ним приехал.
– Мы хотели его отправить в больницу, но он отказывается. Продолжает утверждать, будто он человек опасный, а мы должны отвезти его «в город», запереть и на том закончить. Лично я думаю, что этому человеку нужен врач – из такой переделки целеньким трудно выйти.
– Он ввязался в драку?
– В дорожно-транспортное происшествие, неприятное. Не похоже, чтобы он был под кайфом. Он прошел проверку дыхания, согласился сдать мочу, но на самом деле ему нужен врач.
– Инцидент по его вине?
– Он проехал на красный, впоролся в минивэн. Мужа убило на месте, жену на заднем сиденье тяжело ранило. С ней был мальчик, который выжил. Пока спасатели резали кузов ножницами, женщина скончалась.
– Ее ноги вывалились из машины, – говорит кто-то из глубины офиса.
– Мальчик в приличном состоянии, он выживет, – сообщает полисмен помоложе. – Я приведу вашего брата.
– Моего брата обвиняют в преступлении?
– Сейчас – нет. Будет полное расследование. Патрульные сообщают, что на месте происшествия он выглядел дезориентированным. Отвезите его домой, позвоните врачу и адвокату – такие дела могут плохо обернуться.
– Не хочет выходить, – говорит молодой коп.
– Скажи ему, что у нас для него места нет, – предлагает старший. – Объясни, что скоро появятся настоящие преступники и ночью они ему дырки позатыкают.
Появляется растрепанный Джордж.
– Почему ты? – спрашивает он.
– Джейн мне позвонила. Кроме того, ты же взял машину.
– Могла на такси поехать.
– Поздно уже.
Я вывожу Джорджа через парковку в ночь, чувствуя себя обязанным вести его под локоть – то ли чтобы не сбежал, то ли чтобы не упал. Так или иначе, руку Джордж не вырывает.
– Где Джейн?
– Дома.
– Она знает?
Я отрицательно качаю головой.
– Это было страшно. Там светофор был.
– Ты его не видел?
– Вроде бы видел.
– Решил, что его сигнал не для тебя?
– Не знаю. – Он влезает в машину. – Где Джейн? – снова спрашивает он.
– Дома, – повторяю я. – Пристегнись.
Заезжаю на дорожку, свет фар прорезает дом и выхватывает из темноты кухни Джейн с кофейником в руках.
– Как ты? – спрашивает она, когда мы входим.
– Как я могу быть? – отвечает Джордж.
Он вываливает все из карманов на стол, снимает туфли, носки, штаны, трусы, пиджак, рубашку, нижнюю рубашку и все это сует в кухонное мусорное ведро.
И стоит голый, склонив голову, будто прислушиваясь.
– Кофе? – снова спрашивает она, приподнимая кофейник.
Он не отвечает. Идет из кухни через столовую в гостиную, садится в темноте – голый – в кресло.
– Была драка? – спрашивает Джейн.
– Автоавария. Ты бы позвонила в страховую компанию и адвокату. У вас есть адвокат?
– Джордж, у нас есть адвокат?
– А мне он нужен? – спрашивает тот. – Если да, звони Рутковски.
– Что-то с ним случилось, – говорит Джейн.
– Он убил двоих.
Молчание.
Она наливает Джорджу кофе и несет его в гостиную вместе с посудным полотенцем. Полотенцем накрывает гениталии мужа, будто кладет салфетку на колени.
Звонит телефон.
– Не подходи, – говорит Джордж.
– Алло? – отвечает она. – К сожалению, его сейчас нет дома, что-нибудь передать? – Джейн слушает. – Да, я вас отлично слышу, – говорит она и вешает трубку. – Кто хочет выпить? – спрашивает она в пустоту и наливает сама себе.
– Кто это был? – спрашиваю я.
– Друг семьи, – отвечает она, и ясно, что это был друг той семьи, которая погибла.
Джордж долго сидит в кресле, полотенце закрывает интимные части, чашка кофе небрежно стоит на ноге. Под ним собирается лужа.
– Джордж! – умоляющим голосом обращается Джейн, услышав звуки капающей воды. – Кажется, с тобой беда.
Тесси, старая собака, встает со своей подстилки, подходит, нюхает.
Джейн бежит в кухню, возвращается с пачкой бумажных полотенец.
– Это же разъест покрытие пола, – говорит она.
Все это время Джордж сидит безучастно, как сброшенная шкура линяющей рептилии. Джейн берет у Джорджа чашку и отдает мне. Снимает у него с колен мокрое кухонное полотенце, помогает ему встать и бумажными полотенцами вытирает ему зад и тыльную сторону ляжек.
– Давай я отведу тебя наверх.
Они поднимаются по лестнице, я провожаю их глазами. Мне видно тело брата – обмякшее, отвислый живот, подвздошные кости, таз, плоская задница – все такое белое, будто светится в темноте. Они поднимаются, и ниже зада, между ногами, виден розовато-лиловый мешок с яйцами, качающийся, как у старого льва.
Я сижу на диване. Где моя жена? Клер неинтересно, что случилось? Она не гадает, куда я девался из дома?
В комнате воняет мочой. На полу – мокрые бумажные полотенца. Джейн не возвращается вытереть лужу. Я это делаю сам и снова усаживаюсь на диван.
В полутьме таращусь на старую африканскую маску из дерева, отделанную волокнами конопли и перьями, украшенную племенными бисерными узорами. Я смотрю на это незнакомое лицо, которое Нейт привез из школьной поездки в Южную Африку, и маска будто тоже смотрит на меня, будто в ней кто-то есть, будто хочет что-то сказать, но дразнит меня молчанием.
Ненавижу эту гостиную. Весь этот дом ненавижу. Хочу домой.
Я эсэмэской сообщаю Клер, что случилось. Она пишет ответ: «Я воспользовалась твоим отсутствием и все еще на работе. Вероятно, тебе надо будет там остаться на случай ухудшения ситуации».
Я послушно укладываюсь спать на диване, укрыв плечи коротким пахучим пледом. Собака Тесси составляет мне компанию и греет мне ноги.
Поутру начинаются торопливые телефонные переговоры, приглушенные реплики в сторону. Из факса выползает копия протокола вчерашнего события. Мы отвезем Джорджа в больницу, там что-нибудь поищут – какое-нибудь объяснение, избавляющее Джорджа от ответственности.
– Я, что ли, глохну и что тут вообще творится? – желает знать Джордж.
– Джордж! – отчетливо произносит Джейн. – Мы едем в больницу. Собери вещи.
И он собирает.
Я их везу. Джордж сидит рядом, в сильно потертых вельветовых штанах и фланелевой рубашке, которая у него лет пятнадцать. Выбрит неровно.
Я веду осторожно, беспокоясь, что эта его покладистость сейчас испарится. Может случиться приступ воспоминаний, взрыв, попытка схватить руль. От страховочных ремней есть польза: они не одобряют внезапных движений.
– Ехал на ярмарку Саймон-простак, пекаря встретил, сказал ему так: что-то ты вкусное, пекарь, испек, – читает Джордж с выражением. – Саймон рыбачить решил неспроста – выловить Саймон задумал кита. Чтоб за китом далеко не ходить, в старом ведре он решил поудить[1]. Ты поаккуратнее, – говорит он мне. – А то что просил, то и дадут.
В приемном покое Джейн с документами о страховке и полицейским протоколом идет к стойке и объясняет, что вчера вечером ее муж был участником автомобильной аварии с жертвами и, кажется, не ориентировался в обстановке.
– Не так все было! – ревет Джордж. – Этот долбаный внедорожник торчал передо мной белым облаком, я через него ничего не видел и вокруг ничего не видел, и оставалось только сквозь него идти, через дешевый кусок алюминия, как через жирную подушку. Подушка безопасности мне двинула в морду, выдавила воздух из легких, а когда я наконец вылез, увидел людей в той машине, их стиснуло, как лазанью. Мальчишка позади ревел не переставая, хотел я дать ему в морду, но его мать на меня смотрела, и глаза у нее на лоб лезли.
Пока он говорит, к нему сзади подходят с двух сторон двое крупных мужчин. Он их не видит, они его хватают. Он сильный, он сопротивляется.
Чуть позже мы видим Джорджа в ячейке в глубине приемного отделения, руки и ноги привязаны к каталке.
– Вы знаете, почему вы здесь? – спрашивает его какой-то доктор.
– Не туда поехал.
– Вы можете вспомнить, что произошло?
– Вспомнить… Забыть не могу! И никогда не смогу. Ушел с работы около половины седьмого, поехал домой, решил остановиться перекусить, чего обычно не делаю, но должен признаться, устал. Ее не видел. Как только понял, что на что-то наехал, так остановился. И оставался с ней. Она сама из-под себя выскальзывала, текло из нее, как из пробитого двигателя. Меня замутило. Я ее ненавидел. Ненавидел за оглушенный вид, за серость кожи, за то, что вокруг нее натекала лужа – не знаю даже откуда. Пошел дождь. И люди с одеялами были – откуда взялись одеяла? Сирены стало слышно. А нас объезжали машины, и из них таращились на нас.
– О чем он? – спрашиваю я, думая, то ли я все перепутал, то ли Джордж совсем дезориентирован. – Не так же все было. Может, в каком-то другом происшествии, но не с ним.
– Джордж! – говорит Джейн. – Я видела протокол – все было совсем не так. Или ты о чем-то другом думаешь? Что тебе померещилось? Или ты это видел по телевизору?
Джордж пояснений не дает.
– Психические или неврологические расстройства были? – спрашивает доктор. Мы все мотаем головами. – Вы в какой области работаете?
– Право, – говорит Джордж. – Я изучал право.
– Вам бы хорошо его сейчас оставить с нами, – говорит доктор. – Возьмем кое-какие анализы, потом будем дальше разговаривать.
И снова я провожу ночь в доме Джорджа и Джейн.
На следующее утро, когда мы едем его проведать, я спрашиваю:
– А подходящее для него это место – психиатрическая больница?
– Она в пригороде, – говорит Джейн. – Что может ему грозить в такой психиатрической больнице?
Джордж в палате один.
– Доброе утро, – говорит Джейн.
– Правда? Вот уж не знаю.
– Ты уже позавтракал? – спрашивает она, увидев перед ним поднос.
– Собачий корм, – кривится он. – Отвези его домой Тесси.
– У тебя изо рта воняет. Ты зубы чистил? – спрашиваю я.
– А это не они мне должны чистить? – переспрашивает Джордж. – Я никогда в дурдомах не был.
– Это клиника для душевнобольных, – отвечает Джейн. – Ты оказался в клинике для душевнобольных.
– Не могу пойти в уборную, – говорит он. – Не могу посмотреть на себя в зеркало. Не могу! – В голосе появляются истерические нотки.
– Хочешь, я тебе помогу? Помогу тебе умыться, – говорит Джейн и открывает принесенный с собой туалетный набор.
– Не заставляй ты ее, – говорю я. – Ты не грудной младенец, прекрати это и возьми себя в руки. Нечего зомби изображать.
Он начинает плакать. Я сам удивлен, каким тоном с ним разговариваю. Выходя из комнаты, слышу, как Джейн открывает воду и смачивает полотенце.
Вечером после работы в больницу приезжает Клер и привозит из города китайскую еду для всех нас. Насчет китайской еды Клер при своих китайских корнях на удивление неразборчива – для нее эта еда вся одинакова, вариации на одну тему. Мы ее разогреваем в микроволновке с надписью: «Для пациентов. Лекарственные препараты не ставить». Руки мы оттираем из бутылок пенного очистителя, которые висят на стенах каждой палаты. Я боюсь что-нибудь положить или поставить, тронуть какую бы то ни было поверхность – вдруг мне в рот попадет смертоносный микроб? Заглядываю в китайскую еду и вижу червяка, которого осторожно показываю Клер.
– Это не червяк, это зернышко риса.
– Это личинка, – шепчу я.
– Ты с ума сошел.
Она вилкой вытаскивает зернышко.
– А у риса бывают глаза? – спрашиваю я.
– Это перчинки, – говорит она, стирая глаза прочь.
– А откуда эта еда? – спрашиваю я.
– Из того заведения на Третьей авеню, что тебе нравилось.
– Это которое санитарный департамент закрыл? – спрашиваю я с некоторой долей тревоги.
– Тебе предстоит серьезное путешествие? – отвлекает нас Джейн.
– Еду в Китай на несколько дней, – отвечает Клер.
– В Китай никто не ездит «на пару дней»! – рычит Джордж.
Клер ездит.
Отказавшись от еды, Джордж высасывает острую горчицу прямо из пакетиков – так он себя наказывает. Ему никто не мешает. «И мне тоже», – так и хочется сказать мне. Я сдерживаюсь.
– Когда едешь? – спрашивает Джейн.
– Завтра.
Я передаю Джорджу очередной пакет с горчицей.
Потом, наедине, Клер меня спрашивает, есть ли у Джорджа и Джейн пистолет.
– Если нет, пусть купят, – говорит она.
– Что ты говоришь? Чтобы они приобрели пистолет? Так вот и погибают: покупаешь пистолет, и кто-то тебя пристрелит.
– Я только говорю, что не удивлюсь, если Джейн как-нибудь придет домой вечером, а ее будут ждать родственники той семьи, которую убил Джордж. Он разрушил их жизнь, и они могут захотеть как-то отплатить. Побудь с ней, не оставляй ее одну, Джейн очень ранимая, – говорит Клер. – Представь себя на месте Джорджа. Если бы ты сошел с ума, ты бы не хотел, чтобы кто-нибудь побыл со мной рядом и за домом присмотрел?
– Мы живем в доме, где есть швейцар. Так что, если я сойду с ума, с тобой ничего не случится.
– Это правда. Если с тобой что-то случится, я отлично справлюсь, но Джейн – не я. Ей нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Еще тебе следует навестить мальчика, который выжил. Адвокат станет говорить, что не надо, но ты навести – Джордж и Джейн должны знать, с чем имеют дело. Я не зря руковожу всеми азиатскими операциями, – говорит Клер. – Я всегда обо всем думаю.
Она стучит пальцем себе в висок. Всегда. Обо всем. Думает.
И вот на следующий день я посещаю пострадавшего мальчика. Скорее из чувства семейной вины, нежели из необходимости подсчитать невообразимую сумму, необходимую для его «восстановления». Останавливаюсь возле сувенирной лавочки, где выбор ограничен яркими гвоздиками, нашейными цепочками с религиозными символами и конфетами. Покупаю коробку шоколадных конфет и зеленовато-голубые гвоздики. Мальчик в той же больнице, где и Джордж, на два этажа выше – в педиатрическом отделении. Он сидит в кровати, ест мороженое, не сводит глаз с телевизора – «Губка Боб Квадратные Штаны». Ему с виду лет девять, пухлый такой, сросшиеся брови поперек лица буквой «М». Правый глаз заплыл черным кровоподтеком, большой кусок на голове сбоку выбрит, и на свет Божий выставлена мясистая красная линия швов. Я передаю подарки женщине, которая сидит с мальчиком. Она мне говорит, что он выздоравливает, как ожидается, что с ним всегда кто-нибудь есть: из родственников или из сестер.
– Что он помнит? – спрашиваю я.
– Все, – отвечает женщина. – Вы из страховой компании?
Я киваю. Это то же самое, что соврать?
– У тебя все есть, что нужно? – спрашиваю я у мальчика.
Он не отвечает.
– Я через пару дней опять зайду, – говорю я, торопясь уйти. – Если придумаешь что-нибудь, дай мне знать.
Забавно, как быстро что-то новое входит в привычку, становится образом жизни. Я остаюсь у Джейн, и мы как будто играем в дом. В этот вечер я выношу мусор и запираю дверь, она готовит еду и спрашивает, не поднимусь ли я наверх. Мы смотрим маленький телевизор и читаем. Я читаю что под руку попадается из запасов Джорджа – его газеты и журналы, «Медиа эйдж», «Варьете», «Экономист» и большую историю Томаса Джефферсона, лежащую рядом с кроватью.
Сперва случается авария, потом происходит это. Происходит не в ночь инцидента, не в ночь, когда мы все навещали Джорджа в больнице. Все происходит на следующую ночь, после того, как Клер просит меня не оставлять Джейн одну, после того, как Клер улетает в Китай. Клер в командировке, Джордж в хреновом состоянии в больнице, и тогда это происходит. То, что никогда не должно было бы произойти.
Вечернее посещение больницы оказывается неудачным. По причинам, нам неясным, Джордж заперт в обитой мягким палате, руки привязаны к телу. Мы с Джейн по очереди заглядываем в глазок. У Джорджа вид жалкий. Джейн просит, чтобы ее к нему пустили. Сестра ее предостерегает, но Джейн настаивает. Она входит к Джорджу, зовет его по имени. Джордж поднимает голову, смотрит на нее. Она отводит волосы с его лица, вытирает нахмуренный лоб, и он на нее бросается, прижимает своим телом и кусает, кусает, в лицо, в шею, в руки, кое-где прокусывая кожу до крови. Вбегают санитары, его оттаскивают. Джейн отводят вниз и обрабатывают раны в приемном покое – промывают, перевязывают. Делают какой-то укол, вроде вакцины от бешенства.
Мы возвращаемся в дом. Джейн разогревает низкокалорийное печенье, я поливаю его обезжиренным мороженым, она сбрызгивает бескалорийными взбитыми сливками, а я оживляю шоколадной крошкой. Мы едим молча. Я выношу мусор и снимаю одежду, в которой хожу уже не первый день, – надеваю его пижаму.
Я обнимаю Джейн. Просто в утешение. Я в его пижаме, Джейн полностью одета. Не думаю, что случится что-нибудь. «Прошу прощения», – говорю я, не зная, что говорю, и она припадает ко мне, руки на боках, и юбка слетает вниз. Джейн притягивает меня к себе.
Был момент, когда я чуть не рассказал Клер про День благодарения. Я даже попытался ей рассказать как-то ночью после секса, когда мы были особенно близки. Стоило мне начать, Клер села, выпрямилась и плотно завернулась в простыню. Я сдал назад, не стал говорить, как все было. Поцелуй я опустил, только что-то сказал насчет того, как Джейн прошла мимо впритирку.
– Ты стоял у нее на пути, она пыталась пройти мимо и тебя не потревожить, – сказала Клер.
Я не стал упоминать, что почувствовал, как головка члена трется о бедра моей невестки и как сжимаются у Джейн ляжки.
– Только ты мог подумать, что она с тобой заигрывает! – с отвращением произнесла Клер.
– Только я, – повторил я. – Только я.
Джейн притягивает меня к себе, бедра у нее узкие. Моя рука лезет ей в трусы. Новые джунгли. Джейн вздыхает. Ощущение от нее, от интимной мягкости, невероятно. И я думаю, это же не на самом деле?
Она припадает ко мне ртом, рукой тянется за каким-то кремом, он сначала холодный, потом теплый. Она меня гладит, глядя мне в глаза. И снова припадает ко мне ртом, и невозможно сказать «нет». Она стягивает с меня пижаму, быстро оказывается на мне, скачет верхом. Я взрываюсь.
Весь в ее аромате, но слишком на взводе, чтобы идти в душ или спать в их кровати, я жду, пока она заснет, и только тогда спускаюсь вниз, в кухню, и моюсь жидкостью для посуды. Я в кухне у моего брата в три часа ночи отмываю член у него в мойке, вытираюсь полотенцем с надписью «Дом, милый дом». Утром это происходит опять, когда она обнаруживает меня на диване, и еще раз днем, после поездки к Джорджу.
– Что у тебя с рукой? – спрашивает Джордж, заметив повязки. Он снова в своей палате, о предыдущем вечере ничего не помнит.
Джейн начинает плакать.
– Ужасно выглядишь, – говорит он. – Отдохнула бы, что ли.
– Ей нелегко пришлось, – говорю я.
В этот вечер мы открываем бутылку вина и снова делаем это – медленно и осознанно.
Его выпускают из больницы, или, что вероятнее, он просто сам решает уйти. Необъяснимо, но ему удается уйти незамеченным посреди ночи. Джордж приезжает домой на такси, расплатившись деньгами, которые он нашел на дне кармана. Ключи найти не удалось, поэтому звонит в звонок, и собака отвечает лаем.
Может, это я и слышал – как собака лаяла.
А может, он не звонил, а собака не лаяла. Может быть, Джордж взял запасной ключ из-под фальшивого камня в саду у двери и, как взломщик, молча вошел в собственный дом.
Может быть, он взошел по лестнице, думая, что залезет сейчас в свою постель, но его место было занято. Не знаю, как долго он стоял. Не знаю, долго ли Джордж ждал перед тем, как взять лампу с тумбочки со стороны Джейн и врезать ей по голове.
Вот тогда я и проснулся.
Она кричит. Одного удара оказывается мало. Она пытается встать, а лампа даже не разбилась. Джордж смотрит на меня, снова хватает лампу и бьет с размаха. Фаянсовая ваза – основание – разлетается вдребезги о голову Джейн. Меня в кровати в этот момент уже нет. Джордж отбрасывает в сторону оставшийся в руке осколок – по пальцам стекает кровь, – берет телефон и бросает его мне.
– Вызывай, – говорит он.
Я стою с ним лицом к лицу, в его пижаме. Мы одинаковы, как отражения, у нас одни и те же жесты, одинаковые лица – фамильный подбородок, отцовский лоб, – одинаково неуживчивые характеры. Я таращусь на него, не представляя, как все дальше раскрутится. Тревожный булькающий звук напоминает мне, что надо звонить.
Я случайно роняю телефон. Наклоняюсь его поднять, и нога моего брата влетает мне в подбородок, сильно. Голову отбрасывает назад. Я падаю, а он выходит из комнаты. Из-под одежды торчит больничный халат, свисая хвостом. Слышны тяжелые шаги Джорджа вниз по лестнице. Джейн издает пугающие звуки. Я тянусь по полу, подтягиваю к себе телефон и набираю «0». Как будто в отеле, ожидая, чтобы кто-нибудь взял трубку. Прокручивается длинная запись – вроде устной статьи, что можно сделать кнопкой «0», и до меня доходит, что это будет тянуться вечно, пока не подойдет реальный человек. Я даю отбой и после нескольких неуверенных попыток набираю «911».
– Избили женщину, приезжайте быстрее, – говорю я и называю адрес.
Поднимаю себя с пола, иду и беру махровую мочалку, будто она поможет, будто кровь можно смыть. Но даже не могу найти место удара: голова превращена в месиво – волосы, кровь, кости, фаянс. Стою с этой мочалкой и жду.
Жду вечность. Сначала появляется пожарная машина – дом трясется, когда она останавливается. Я оставляю Джейн и подхожу к окну. Они идут по траве в полном пожарном снаряжении, в шлемах и накидках, не замечая предрассветных брызг оросительной системы.
Не знаю, открывает им дверь Джордж или они заходят сами.
– Наверху! – кричу я.
Они быстро оказываются рядом с ней. Один стоит чуть поодаль, говорит в свою рацию, будто диктор вещает:
– Женщина средних лет, открытая рана головы, ткани наружу. Длинную доску-носилки, кислород, аптечку. Запросите помощь санитаров и полиции. Кто эта женщина? – спрашивает диктор.
– Джейн. Жена моего брата.
– У вас есть ее водительские права или иное удостоверение?
– У нее в сумочке внизу.
– Существенная медицинская информация? Аллергии, хронические заболевания?
– У Джейн есть медицинские проблемы? – кричу я вниз.
– Лампой по балде получила, – отвечает мой брат.
– Еще что-нибудь?
– До хрена жрет витаминов, – говорит Джордж.
– Она не беременна? – спрашивает диктор.
У меня от вопроса даже ноги подкашиваются.
– Не должна бы, – говорит Джордж, и я не могу не подумать, что это могло бы случиться.
– Стабилизируйте шею, – произносит один пожарный.
– У нее не шея, у нее голова, – говорю я.
– Отойдите немного, – велит мне диктор.
Приходят санитары, подсовывают под Джейн оранжевую доску, приматывают чем-то вроде скотча, оборачивают голову марлей. Она становится похожа на мумию, на раненного в бою или на рыцаря Храма, отправляющегося на съезд.
Джейн издает звук – низкое грудное рычание, – когда пять человек поднимают ее и выносят, оставляя за собой обрывки перевязочного материала и следы. Сворачивая за угол, они ударяются в стойку перил, она с треском ломается.
– Извините!
И тут же, быстрее мысли они вываливаются из кухонной двери к корме «скорой».
Джордж сидит в кухне и пьет кофе. У него на руках кровь, на лице – какие-то брызги, осколки лампы.
– На траве не парковаться, – говорит он первому приехавшему полисмену. – Сообщите, будьте добры, вашим коллегам.
– Кто из вас мистер Сильвер? – спрашивает коп. Наверное, детектив, потому что в штатском.
Мы оба одновременно отвечаем, подняв руку:
– Это я.
– Покажите какие-нибудь документы.
Джордж суетится, ищет, развевая полы больничного халата.
– Мы – братья, – говорю я. – Я старший.
– Так. Ну, и кто, что и кому сделал?
Он вынимает блокнот.
Джордж попивает кофе.
Я молчу.
– Вопрос несложный. В любом случае мы снимем с лампы отпечатки пальцев. – Лампу дактилоскопируйте! – кричит детектив. – Вызовите группу сбора улик. – Он заходится в кашле. – Теперь: есть в доме еще кто-нибудь? Кого нам надо было бы поискать? Если это не кто-то из вас угасил ее лампой, то лицо, совершившее это, может сейчас находиться в доме? Может быть найдена еще одна жертва?
Он замолкает в ожидании, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал.
Но слышно только тиканье настенных часов в кухне. Я едва из шкуры не выпрыгиваю, когда вдруг выскакивает кукушка – ку-ку, ку-ку, ку-ку, – шесть раз.
– Прочесать дом, – велит детектив своим людям. – Убедиться, что никого больше нет. Все вещдоки запаковать. Лампу в том числе. – Он снова оборачивается к нам. – Сегодня понедельник, раннее утро. Меня из постели вытащили. Как раз в понедельник утром жена мне дает, причем без лишних вопросов – любит, чтобы неделя у меня хорошо начиналась. Так что у меня к вам чувства не слишком нежные.
– Да мне плевать, какую ты там хрень думаешь, козел! – вываливает Джордж.
Возле кухонной двери возникают два здоровенных копа, и вдруг оказывается, что выход перекрыт.
– В наручники его, – командует детектив.
– Я не вам, – говорит Джордж. – Я своему брату. – Он смотрит на меня. – А пижама моя. Так что быстро пошел и все сделал.
– На этот раз не смогу тебе помочь, – говорю я.
– Я совершил преступление?
– А то непонятно, – говорит один из копов, надевая на него наручники.
– Куда вы его повезете? – спрашиваю я.
– Есть какое-то место, куда бы вы хотели его отправить?
– Он был в больнице. Наверное, ушел оттуда ночью – видите больничный халат под одеждой?
– Так он что, сбежал?
Я киваю.
– И как он добрался домой?
– Не знаю.
– Я шел пешком по темным улицам, ублюдки. А ты – ублюдок в кубе.
«Скорая» увозит Джейн, копы забирают Джорджа, я остаюсь с полисменом, поджидающим группу сбора вещдоков. Пытаюсь подняться наверх, но коп меня останавливает.
– Место преступления, – говорит он.
– Одежда, – отвечаю я, хлопая штанами своей пижамы. То есть пижамы Джорджа.
Он конвоирует меня в спальню, которая выглядит как после торнадо – осколки лампы на полу, кровь, неприбранная кровать. Я снимаю пижаму брата и без малейших сомнений беру чистую одежду Джорджа, висящую на дверце шкафа еще в пакете из химчистки.
– Грязное оставьте в комнате, – говорит коп. – Никогда не знаешь, что может оказаться важным.
– Вы правы, – отвечаю я и спускаюсь вниз.
Провожаемый копом, я странно себя чувствую – будто под подозрением. Мне приходит в голову, что неглупо было бы позвонить адвокату Джорджа и сообщить ему о развитии событий, но не могу вспомнить его фамилию. Еще меня интересует, отчего это коп за мной наблюдает, будто мне не стоит делать резких движений, тянуться к каким-либо предметам и так далее. Как мне от него скрыться, чтобы позвонить без помех?
– Надо бы мне белье переложить в сушилку.
– Подождет, – отвечает коп. – Можно и потом. Пусть пока мокрое будет мокрым.
– Ладно. – Я сажусь за кухонный стол, якобы случайно беру в руки телефон и просматриваю список вызовов, надеясь, что там где-то встретится фамилия адвоката, и я ее узна2ю. Бинго – Рутковски.
– Ничего, если я позвоню?
– Дело ваше.
– Можно я выйду из кухни?
Он кивает.
– Я вас поднял из постели? – спрашиваю я, когда адвокат Рутковски берет трубку.
– Кто говорит?
– Сильвер, Гарри Сильвер, брат Джорджа Сильвера.
– Я сейчас еду в суд, – отвечает адвокат.
Я стою во дворе на мокрой траве босиком.
– Произошло кое-что, – говорю я и замолкаю на секунду. – Джордж вчера ушел из больницы, Джейн ранена – о ее голову разбили лампу. Здесь полиция, ждет группу сбора вещ-доков…
– Как вы-то там оказались?
– Меня просили не оставлять Джейн одну, пока брат в больнице.
– Где Джейн?
– Увезли в больницу.
– А Джордж?
– Его тоже увезли.
– Преступление кажется серьезным?
– Да.
– Когда приедут полицейские, ходите за ними повсюду, даже если вас попросят выйти. Куда бы они ни направились. Не разрешайте ничего переставлять, а если вас попросят помочь, держите руки в карманах. Они будут фотографировать, брать предметы пинцетами и укладывать в пластиковые пакеты.
– Соседи смотрят из окон.
– Я подъеду к дому в шестнадцать тридцать, до тех пор ничего на месте преступления не трогайте.
– Если я уйду и не вернусь, то оставлю ключ под искусственным камнем возле входной двери.
– Куда вы собираетесь?
– В больницу.
– Оставьте мне номер вашего сотового.
Я диктую ему номер, он вешает трубку. А у меня в голове звучит голос Джейн: «Презервативы?»
Да. И где они теперь? Кончились, все использованные валяются в помойном ведре, полные спермы.
Возвращаюсь в дом.
– Ничего, если я себе свежего кофе сварю?
– Не стану вам мешать, – отвечает коп. – Эта собака всегда тут?
Коп показывает на Тесси, которая слизывает воду у меня с ног. Миска у нее сухая.
– Это Тесси.
Я наливаю собаке свежей воды, насыпаю корма.
Эксперты из группы сбора вещдоков располагаются на газоне перед домом, раскладывая белые одноразовые комбинезоны, потом залезают в них, будто готовясь работать с опасными веществами, натягивают бахилы и латексные перчатки.
– Да нет, это не нужно, – говорю я им. – Мы не заразные, а ковер все равно загублен. – Ни один из них не отвечает. – Кофе кто-нибудь хочет? – спрашиваю я, поднимая кружку. Обычно я кофе не пью, но сегодня уже четвертая чашка – по личным причинам. Как было велено, я хожу за ними из комнаты в комнату. – Так вы и на пленку снимаете, и на цифровой аппарат?
– Да! – отвечает фотограф, резко отодвигаясь.
– Это потрясающе интересно. А как вы определяете, что именно фотографировать?
– Сэр, пожалуйста, отойдите в сторону.
Перед отъездом группы коп достает блокнот.
– Пару вопросов на прощание. В вашей истории несколько белых пятен, дыр.
– Например?
– Когда ваш брат вошел домой, вы занимались сексом?
– Я спал.
– У вас были отношения с женой брата?
– Я оказался здесь потому, что мой брат попал в больницу.
– А ваша жена?
– Она в Китае. Это она и предложила, чтобы я здесь переночевал, у жены брата.
– Как бы вы охарактеризовали свои отношения с братом?
– Близкие. Я помню, как они покупали дом. Помню, как помогал им кое-что подобрать. Кафель в кухню. После того случая я тут оставался, чтобы поддерживать Джейн.
Коп захлопывает блокнот.
– В общем, понятно. Если что, мы знаем, где вас найти.
Когда коп уезжает, я нахожу сумочку Джейн на столе в прихожей и проглядываю, перекладывая к себе в карман сотовый, ключи от дома и – необъяснимо – губную помаду. Перед тем как сунуть помаду Джейн себе в карман, я ее открываю и провожу «нежной фуксией» поперек губ.
Из машины я звоню Клер в Китай.
– Произошло несчастье, Джейн ранена.
– Мне приехать завтра?
В Китае завтра уже сегодня, и там, где у нас сегодня, у них завтра.
– Не надо, оставайся где ты есть, – отвечаю я. – Очень все запутано.
Почему Клер так хотела, чтобы я поехал? Почему послала меня в объятия Джейн? Она меня проверяла? Или действительно настолько мне доверяет?
– Сейчас поеду в больницу и позвоню тебе, когда буду знать больше. – Я замолкаю на секунду. – Как там работа?
– Нормально. Чувствую себя нехорошо – съела что-то непонятное.
– Уж не червяка ли?
– Перезвони мне потом.
Когда я приезжаю в больницу, мне говорят, что Джейн в хирургии, а Джордж все еще в приемном, привязанный там в глубине к каталке.
– Ты подонок, – говорит он, когда я отодвигаю штору.
– Что у тебя с лицом? – Я показываю на линию свежих швов над глазом.
– С возвращением, считай, поздравили.
– Я собаку покормил и был там, пока копы работали, а потом позвонил твоему адвокату – он позже приедет.
– Они меня не хотят принимать обратно, потому что я «сбежал». Так мне вроде никто не говорил, какие тут правила выписки и что мне разрешение нужно на уход.
Проходит больничная уборщица с ведром и металлической шваброй.
– Он заразный?
– Нет, просто буйный, заходите, – отвечаю я.
Молодой доктор ввозит на столике огромное увеличительное стекло с подсветкой.
– Я Чинь Чоу, пришел почистить вам лицо.
Врач наклоняется над Джорджем и выбирает у него из лица какие-то осколки.
– У тебя сисек нет, – сообщает Джордж доктору.
– И это хорошо, – говорит Чинь Чоу.
Я иду к сестринскому посту.
– У моего брата швы на голове. Утром, когда он уезжал из дома, их не было.
– Я запишу, что вы хотели бы, чтобы доктор с вами поговорил.
Я возвращаюсь к Джорджу. У него лицо – в крупный горошек красных пятен крови.
– Этот Чинарь меня ковырял и пытал: «Ах, так что же вас сегодня сюда привело? Плохо спали дома?» Он мне, блин, без анестезии рожу ковырял. Я же ему сто раз говорил: «Хватит. Хватит», – а он, сука: «Ну, большой мальчик, ну, плачь, плачь! Ты же взрослый, веди себя как мужчина!» Это ни хрена не доктор, это полицейский агент, он из меня признание вытягивал!
– Правда? А я думаю, он просто беседу поддерживал. Вряд ли он знает, почему ты здесь.
– Еще как знает, и сказал, что про меня все прочтет в «Нью-Йорк пост». – Джордж начинает плакать.
– Да ладно, перестань.
Он еще какое-то время рыдает, потом, фыркая и шмыгая, перестает.
– Ты маме расскажешь?
– Твоей жене оперируют мозг, а тебя волнует, чтобы я маме не рассказал?
– А тебя?
– Как ты думаешь?
Он молчит.
– Когда ты последний раз маму видел?
– Пару недель назад.
– Пару недель?
– Может, месяц?
– А сколько месяцев?
– Не знаю я, блин! Ты ей расскажешь?
– Зачем? Она половину времени не знает, кто она сама такая. Давай так: если она про тебя спросит, я скажу, что ты уехал за границу. Пришлю ей чаю от «Фортнум и Мейсон», и пусть думает, что ты большая шишка.
Он извивается на каталке:
– Слушай, почеши мне задницу? Я не дотянусь. Ты мне друг, – говорит он, вздыхая с облегчением. – Друг, когда не последняя сука.
Санитарка приносит Джорджу ленч, и он со связанными руками и ногами умудряется так дернуть коленями, что сбрасывает поднос со стола на пол.
– Добавки не будет, – говорит санитарка, – вторая попытка завтра.
– Поставьте ему капельницу, чтобы обезвоживания не было, – в ту же минуту слышу я голос сестры.
– Они не шутят, – говорю я Джорджу, когда сестра отодвигает штору. В руке у сестры игла, за спиной у нее подпевка из четырех здоровых ребят. – Кстати, насчет ленча. Я в кафетерий.
– Может, ты сегодня и не умрешь, – говорит он, – но я тебя размотаю, как катушку ниток.
– Тебе принести что-нибудь? – обрываю его я.
– Шоколадного печенья.
Я иду по рядам кафетерия, огибая дымящиеся подносы овощей, фаршированных раковин, мясных рулетов, холодных сандвичей на заказ, пицц, пончиков, каш, я обхожу весь ряд и остаюсь с пустым подносом. Обхожу снова, беру томатный рисовый суп, пакет крекеров «Голдфиш» и пакет молока.
Когда я разрываю пакет, оранжевые крекеры разлетаются по всему столу и на пол возле стола. Я собираю, что удается. Они не такие, как я помню: не могу точно сказать, это вообще «Голдфиш» или какие-то стокалориевые – они поменьше, более плоские и у них выражения лиц. Они плавают на боку, глядя на меня одним глазом с идиотской ухмылкой.
Я ем, вспоминая «червяка» в китайской еде, о том, как человек из забегаловки возле моего дома произносит «томатный лис». Я ем, представляя себе этот суп на маминой плите. На супе, пока его варили, образовывалась корка, и мне всегда доставался этот жилистый узел, а я всегда воображал, что это действительно кровь.
Я съедаю суп, представляя себе, что это кровь, что я переливаю ее себе, пока Джейн в операционной делают «краниотомию и эвакуацию» – эти слова они употребили. Я представляю себе нержавеющий хирургический отсос, извлекающий фаянс и кость. Представляю, как Джейн выходит оттуда со стальными пластинами, словно с листами брони, и должна теперь круглые сутки носить футбольный шлем.
Она вообще поняла, что случилось? Проснулась ли она с мыслью: «Этого не может быть, это дурной сон», – а потом, когда все кончилось, была ли у нее сокрушительная головная боль? Она успела подумать: «Что же у меня за воронье гнездо вместо волос?»
Она в операционной, мое пролитое семя гуляет в ней, плавает бешено туда-сюда – мы делали это без защиты не реже, чем с защитой. А обнаружат меня, что я там плаваю? Мне самому-то адвокат нужен?
Суп меня согревает, и я вспоминаю, что со вчерашнего вечера ничего не ел. Проходит человек с подбитыми глазами, держа в руке поднос с ленчем, и я вспоминаю, как отец однажды вырубил моего брата, послал в нокаут без особой на то причины. «Не забывай, кто тут главный».
Я думаю о Джордже. Зазубрина на сухой штукатурке, когда он «случайно» поскользнулся. Внезапно вылетевшая из руки чашка, разлетевшаяся о стенку. Я вспоминаю рассказ Джейн – как однажды в воскресенье ехали завтракать, и Джордж, сдавая задом, зацепил мусорную урну. Он так рассвирепел, что стал ездить по ней туда и обратно, дергая передачи спереди назад и обратно, и детей швыряло по всей машине, пока Эшли не вырвало. Такие вспышки против неодушевленных предметов – значат ли они, что ты когда-нибудь убьешь жену? Это и правда так страшно?
В мужском туалете больницы я мою руки и смотрю в зеркало. И вижу там не столько себя, сколько своего отца. Когда он появился? Мыла нет, я втираю в кожу лица дезинфектор для рук, и лицо горит. Чуть не захлебываюсь, отмывая его под краном.
С лица капает, рубашка мокрая, а полотенца в держателе нет. Ожидая, пока вода высохнет, я ключом от машины царапаю имя Джейн на шлакоблоке стены.
Меня чуть не залавливает какой-то больничный служитель, но я предупреждаю его атакой:
– Почему бумажных полотенец нет?
– Мы их больше не используем. Экология.
– Но у меня же лицо мокрое!
– Попробуйте туалетной бумагой.
Я так и делаю, и она застревает в щетине на подбородке. Как будто я пробежал сквозь метель из туалетной бумаги.
В понедельник к вечеру Джейн выносят из хирургии. Выносят в коридор, подключенную к большому механическому вентилятору, голова завернута, как у мумии, глаза в кровоподтеках. Лицо, как котлета. Из-под одеяла тянется шланг к пакету для приема мочи в ногах кровати.
Я ее сегодня ночью туда целовал. Она сказала, что никто ей еще такого не делал, и я ее еще целовал, глубоко. Взасос целовал, туда. И языком работал. Никто никогда этого не узнает.
Себе я говорю, что делал так, как мне сказали. Клер велела остаться там. Джейн меня хотела – притянула к себе. Почему я такой слабый? Почему всегда у меня кто-то другой виноват? Я себя спрашиваю: ты когда-нибудь думал, что надо остановиться, но не мог или просто не останавливался? Теперь я понимаю, что значит «так вышло». Несчастный случай.
Доктор мне говорит, что Джейн, если выживет, прежней уже не будет.
– Даже за то небольшое время, что она у нас, шла деградация. Она отступает, уходит в себя. Мы вычистили рану, сделали отверстия, чтобы дать место отекающему мозгу. Прогноз плохой. Родственники знают? Дети?
– Нет, – говорю я. – Они учатся в пансионе.
– Известите их, – просит доктор и уходит.
* * *
Звонить прямо детям или сперва звонить в школу? Звонить директору каждой школы и объяснять, что мать детей в коме, а отец в наручниках, и, может быть, следует прервать выполнение домашнего задания и сказать им, чтобы собирали вещи? И должен ли я вываливать все сразу и говорить, как плохо обстоят дела на самом деле? Вырвать ребенка из круга повседневности и сообщить, что прежняя знакомая ему жизнь закончилась?
Первой я звоню девочке.
– Эшли, – начинаю я.
– Тесси? – сразу же перебивает она.
– Родители, – отвечаю я, запнувшись.
– Развод?
Она разражается слезами, не дожидаясь моих слов, и трубку спокойно берет другая девочка:
– Эшли сейчас не может говорить.
Мальчику я сообщаю:
– Твой отец сошел с ума. Наверное, тебе следует вернуться домой, а может быть, ты не хочешь домой, может быть, никогда больше не захочешь сюда возвращаться. Я помню, как твои родители покупали этот дом. Помню, как вещи собирали…
– Я не совсем понял.
– С твоей матерью случилось несчастье, – говорю я, а сам думаю, сказать ли ему, насколько все серьезно.
– Это папа? – спрашивает он.
Прямота вопроса застает меня врасплох.
– Да, – отвечаю я. – Твой отец ударил мать лампой. Я пытался сказать об этом твоей сестре, но не очень получилось.
– Я ей позвоню.
Спасибо ему, что мне не придется проходить через это снова.
Я стою в пустом коридоре, залитом затхлым флуоресцентным светом. Ко мне идет человек в белом халате и улыбается. Я себе представляю его в роли злого волшебника: сдергивает с себя халат, а под ним – судейская мантия. А не было ли так, что ваш брат узнал, что вы шпокаете его жену, поднялся с одра болезни и явился в дом?
– На данный момент я воздержусь от комментариев. Мне все это очень, очень тяжело, – заявляю я коридору, в котором никто не слушает.
Я перехожу в зал ожидания для родственников. И снова набираю номер.
– Джордж ударил Джейн лампой, – сообщаю я матери Джейн.
– Это ужасно, – отвечает она, не понимая, насколько это все серьезно. – Когда это случилось?
– Сегодня ночью. Ваш муж дома?
– Да, конечно, – отвечает она слегка неуверенно.
Слышно, как он спрашивает:
– Кто это?
– Брат мужа твоей дочери, – говорит она. – С Джейн что-то случилось.
– Что там с Джейн? – спрашивает он, взяв трубку.
– Джордж ударил ее лампой по голове.
– Она подаст в суд?
– Более вероятно, что она умрет.
– Это не тема для шуточек.
– Я не шучу.
– Сука, – говорит он.
Я хочу домой. Хочу вернуть себе свою жизнь. У меня же была своя жизнь. Чем-то же был я занят, когда все это случилось, нет? Что-то происходило? У меня нет записной книжки с календарем, но ведь должно было что-то быть? Прием у дантиста, ужин с друзьями, собрание преподавателей? Какой сегодня день? Я смотрю на часы. Через пять минут у меня занятие. Двадцать пять студентов войдут в аудиторию, рассядутся, нервничая, на стульях, зная, что не сделали задания, не прочли заданного. Курс – «Никсон: призрак в машине», тщательное исследование неисследованного. Они сидят как идиоты, ожидая, чтобы я им рассказал, что все значит, чтобы с ложечки скармливал им образование. И они, тупо сидя на стульчиках, сочиняют письма декану. Один пожаловался, что его на занятиях попросили писать, другой посчитал стоимость каждого из двадцати двух занятий за семестр и представил список вещей, которые он мог бы купить за эти или даже меньшие деньги.
Мне еще предстоит определить долларовую стоимость тех девяноста минут два раза в неделю, когда они тупо на меня таращатся, стоимость приема их в мои присутственные часы, когда они спрашивают: «Что новенького?» – будто мы старые друзья, потом рассаживаются с таким видом, будто они здесь хозяева, и рассказывают мне, что у них не получается «выработать точку зрения на предмет». А мне перед их уходом хочется потрепать каждого по голове и сказать: «Молодец, деточка, хорошая детка», – просто так, без всякой причины. Они держатся небрежно, с таким видом, будто имеют право. В годы моего детства такое поведение привело бы к суровой нотации за неправильное отношение к жизни и неделе домашнего ареста.
За все эти годы ни разу не было, чтобы я не явился. И переносил занятие я всего два раза: один раз – канал коренного зуба, второй – приступ холецистита.
Я звоню в университет, звоню на факультет, звоню секретарше декана – повсюду голосовая почта. Нигде ни одного реального человека, с которым можно поговорить. Что случится, если я не появлюсь? Сколько они там будут сидеть?
Я звоню в офис охраны.
– Говорит профессор Сильвер, у меня чрезвычайная ситуация.
– Вам нужен санитар?
– Нет, я как раз в больнице. Но у меня через две минуты занятие. Не может ли кто-нибудь пойти и повесить на двери записку, что я его отменяю?
– Кто-то из наших людей? Сотрудник службы охраны?
– Да.
– Это не входит в наши обязанности.
Я пробую обходной маневр:
– Как раз входит, именно в ваши обязанности. Если никто не появится, если ни один представитель руководства не распорядится, могут произойти беспорядки. Курс по политологии, и вы знаете, что это означает: вспыхнут радикальные идеи и студенты решат, что имеют право. Помяните мое слово.
– Что должно быть в записке?
– Профессор Сильвер приносит свои извинения, что по чрезвычайным семейным обстоятельствам вынужден отменить занятие. Оно будет проведено позже.
– Хорошо. Здание, аудитория?
– Вы не могли бы сами посмотреть? Никогда не умел запоминать названия и цифры.
– Подождите у телефона, – говорит он. – Сильвер, сегодня нет занятий. Вы из Школы искусств и наук, сегодня у ваших выходной. Корпоратив на пляже…
– Ой! – говорю я. Совсем забыл. Попросту забыл. – Спасибо.
У меня была какая-то жизнь. Я чем-то в ней занимался.
Адвоката я встречаю возле дома. На одной машине приезжает он сам, на другой – его люди. Они несут тяжелые ящики и напоминают мне дезинфекторов или дератизаторов.
– Вверх по лестнице направо, – говорю я, показывая наверх.
– Что тут стряслось?
– В смысле – что стряслось?
– Тут же бардак!
– Вы же мне сами велели ничего не трогать! – кричу я наверх.
– Воняет, как в сортире!
Тесси идет за мной по лестнице. На полпути мне в ноздри бьет запах.
– Ну и срач! – говорит адвокат.
У собаки виноватый вид.
Тесси, оставшись одна дома, решила малость прибраться: слизала с пола кровь Джейн, оставила розовые отпечатки лап на полу, а потом ее пронесло на кровати.
Она смотрит на меня, будто хочет сказать: «Тут все пропитано безумием. Что-то должно было случиться».
– Ничего, девочка, нормально, – произношу я, спускаясь вниз за коробкой плотных пакетов.
Собака мне оказала услугу. Если оставались какие-то улики на постели, они сейчас уничтожены. Я засовываю постельное белье в два пакета, открываю окна и расходую целую банку лизола.
Мусорное ведро вынесено, адвокат и его помощники уезжают.
– Ситуация более чем неудовлетворительная, – говорит один из них, выходя.
– В самую точку, Шерлок, – соглашается второй.
Я стою в кухне, в голове назойливо вертятся мысли о постельном белье. В мусор – достаточно? А если я его выброшу, не возникнут ли подозрения? А что будет, если я его сожгу? Дым от простыней – не будет ли он сигналом за много миль?
Звоню в службу срочной доставки матрасов.
– Насколько быстро можно доставить новый матрас?
– Куда именно?
– Сикамор, шестьдесят четыре.
– А что вы ищете? Есть что-то конкретное на уме? «Серта», «Симмонс», плюшевый, с толстым наполнителем поверх пружин?
– Открыт предложениям. Должен быть кинг-сайз, мягкий, но не слишком, плотный, но не слишком. Что-то вот как раз.
– Получается две восемьсот – матрас и пружинная коробка.
– Дороговато.
– Могу сделать две шестьсот пятьдесят с доставкой, а если покупаете наш наматрасник, то получаете гарантию на десять лет. Обычная цена сто двадцать пять, но для вас за сотню оформлю.
– А старый вы заберете?
– Да.
– Даже если он с пятнами?
– Они все с пятнами.
– Так когда?
– Подождите секунду.
Я вытаскиваю из кармана кредитную карту Джейн.
– Сегодня вечером от шести до десяти.
Я приношу ведро горячей воды, щетку, рулон бумажных полотенец, моющие средства «Мистер Клин» и «Комет», бутылку уксуса и латексные перчатки Джейн, которые были на ней в День благодарения. Надевая перчатки, всхлипываю.
Отмываю пол на четвереньках. Кровь темная, сухая, шелушится хлопьями. Размокая, превращается в розовые клубочки с жилками, расползается по бумажным полотенцам, как свекольный сок. Обо что-то я режу палец – об осколок фаянса, протыкающий кожу, – и в месиво добавляется моя кровь. Я залепляю порез тюбиком медицинского клея. Все время, пока я работаю, у меня чувство, будто за мной наблюдают, шпионят. Кто-то проходит мимо, задев меня за ногу. Я оглядываюсь, и кто-то перепрыгивает через меня. Резко разворачиваюсь, оскальзываюсь на мокром полу, шлепаюсь на задницу. Это кот. Сидит на комоде, смотрит, подергивает хвостом из стороны в сторону.
– Чтоб тебя, – говорю я ему. – Напугал.
Он моргает, не сводя с меня жарких зеленых глаз. Как изумруды.
Дитя привычки, я останавливаюсь, лишь когда работа сделана, кровавая вода из ведра вылита, тряпки выброшены. Тогда я смотрю, что там есть поесть. Приоткрыв дверцу холодильника, гляжу на остатки нашего вчерашнего ужина. Отщипываю кусочки того-другого, думая о Джейн. Как ужинали вчера, как потом любили друг друга. Накладываю себе на тарелку и ложусь на диван перед телевизором.
Просыпаюсь от эха выстрелов. Возникает мысль, что Джордж опять удрал и прибежал меня убивать.
Бах. Бах. Бах.
Тяжелый стук в дверь.
Лает Тесси.
Матрас привезли.
– Как же хорошо, что матрасы не бьются! – говорит один из грузчиков, пока они затаскивают матрас вверх по лестнице. – Работал я с плазменными телевизорами – это чистый кошмар.
Старый матрас и коробку с пружинами они берут без комментариев.
На выходе во дворе их встречает вспышка.
– Какого…
Вспышки одна за другой.
Один из грузчиков бросает матрас и кидается в темноту. Из кустов доносится возня. Вылезает грузчик с дорогим фотоаппаратом в руках.
– Отдай фотоаппарат! – требует незнакомый человек, поднимаясь с клумбы.
– Кто вы такой? – спрашиваю я.
– Это мой фотоаппарат! – кричит незнакомец.
– Был, – отвечает грузчик, по крутой дуге запуская аппарат на улицу.
Мне надо домой, уже почти одиннадцать вечера.
Я запираю дом, веду Тесси к машине и выезжаю в сторону хайвея. Тесси трясется.
– Уколов не будет, – говорю я. – Не к ветеринару едем. Мы просто в город, Тесси.
Собака пускает ядовитый газ. Я торможу у края дороги, и Тесси взрывается на обочину.
– Хорошо съездили? – спрашивает швейцар. Я молчу. – Ваша почта, ваши пакеты. – Он выкладывает все это мне в руки. – А это из прачечной.
Он цепляет вешалки на мой согнутый палец.
– Спасибо.
Про собаку, поводок которой намотан у меня на руку, он не говорит ни слова.
В квартире чувствуется отчетливый запах, знакомый, но затхлый. Сколько же меня тут не было? Как будто все застыло во времени, было заморожено, и не только в те дни, что меня не было, но лет за десять до того. Что было когда-то современным, уточненным, выглядит как декорация к исторической пьесе, Эдвард Олби года этак тысяча девятьсот восемьдесят третьего. Телефон кнопочный, со шнуром, редко используется. Вытертые подлокотники у дивана. Ткань ковра истончилась вдоль определенного пути, накатанной дороги из комнаты в комнату. Стопка журналов полуторагодичной давности.
И все же я рад оказаться там, где все знакомо, где я могу вслепую найти дорогу. Я погружаюсь в эту обстановку, мне хочется в ней кувыркаться, хочется, чтобы ничего из того, что было, на самом деле не было.
Орхидея все еще цветет. Я ее поливаю и будто смотрю замедленную съемку, через час лепестки опадают, словно внезапно освобожденные, спрыгивают на верную смерть в подставленный ящик. К утру останется лишь голый стебель.
Из холодильника тянет сывороточным запахом скисшего молока, там лежит половина высохшего грейпфрута, кусок черного хлеба, пушистый и белый по краям, старый рисовый пудинг с зеленой серединкой, как яблочко у мишени, в пластиковом магазинном контейнере. Я поспешно открываю ящики и выбрасываю все, у чего истек срок годности. Интересно, у всех ли так: тут стаканы, там тарелки, сушеные продукты и консервные банки вместе? Где же этому научаются – группировать похожие предметы?
Я выношу мусор и заказываю китайскую еду. Приемщик заказа узнает номер телефона.
– Вы сегодня поздно, давно вас не было слышно. Остро-кислый суп, жареная курица с рисом, свинина мушу?
Ожидая доставки, я спускаюсь на лифте в подвал, открываю кладовую и с трудом вытаскиваю огромный, древний синий чемодан. Приношу наверх, раскрываю его на кровати и начинаю собирать. Не очень понимая сам, что именно я думаю, пакуюсь, будто хочу себя консолидировать, минимизировать. Я догадываюсь, что когда Клер вернется, мое пребывание здесь станет нежелательным. Выдвигая ящики, открывая шкаф, аптечку, я поражаюсь, с какой аристократичностью сосуществуют вещи, как они висят, лежат, отдыхают бок о бок без малейшего напряжения или осуждения. Ее зубная нить, зубная щетка, депилятор «Нэр», тушь для ресниц, мое полоскание для горла, спрей для носа, щипчики для ногтей. Все такое интимное, такое человеческое и так все разделено на «его» и «ее». Почти без перекрытия.
Мы поздно поженились. Клер уже побывала один раз замужем, недолго. Прошло два года, прежде чем я повез ее знакомить с родителями. Первое, что она им сказала: «Это была скромная свадьба, только друзья».
– Почему ты ее так долго от нас скрывал? – спросила моя мать. – Она красивая, и работа у нее хорошая. Ты думал, мы не одобрим?
Мама взяла ее за руки:
– Мы думали, у вас какой-то дефект, раз он вас не привозит. Волчья пасть, например, или пенис, или что-то еще такое?
И мама приподняла брови, будто хотела спросить: как же на самом деле?
Уйти насовсем – как это делается?
Вещи идут в чемодан без всякой логики. Фотографии, безделушки из детства, пара костюмов, туфли, холщовая сумка с последним черновым вариантом моей незаконченной рукописи о Никсоне, маленький черный будильник с ее стороны кровати. Я не хочу многого, не хочу быть очевидным, я намеренно оставляю свои любимые вещи. Не хочу, чтобы меня обвинили в бегстве с корабля.
Далеко за полночь звучит дверной звонок. Я щедро даю курьеру на чай и сажусь за стол есть прямо из коробок, как будто уже пару дней не ел. Вкус восхитителен – все горячее, острое, с правильной текстурой – от скользких грибов и тофу до твердых кубиков свинины. Я намазываю блины сливовым соусом и поливаю сверху соевым – избыток натрия и глутамата вдыхает в меня жизнь.
Тесси терпеливо сидит у моих ног. Я ей накладываю миску белого отварного риса – крахмал для желудка должен быть полезен. Она быстро ест. Я даю ей добавку, и она снова пускает ядовитый газ.
Я подумываю, не посмотреть ли в компьютере, погуглить «вредные последствия питья крови», но не хочу оставлять электронных следов своего прихода.
– Тесси, тебе сколько лет? Двенадцать есть? Тогда тебе по человеческим меркам больше ста – ты из тех, кого Уиллард Скотт должен поздравлять. А что это был за кот? Ты его знаешь? Кажется, ты не возражала против его присутствия. Я вот что думаю, – продолжаю я, – мы с тобой здесь заночуем и вернемся утром, при полном дневном свете.
Я с собакой разговариваю.
Звоню Клер в Китай, решив сделать еще одну попытку.
– Я на заседании, – говорит она.
– Ладно, потом поговорим.
– Джейн лучше?
– Она на вентиляции.
– Рада, что ей значительно лучше, – говорит Клер.
Все, что говорят в таких случаях, сказано. Остальное не важно.
В постели я стаскиваю подушки с ее стороны, прижимаю к груди. Мне не хватает Клер у меня за плечом, когда я свожу баланс чековой книжки. Она настаивает, чтобы у нас были отдельные счета – ее и его, и один общий. Не хватает Клер в ванной, когда она украденным на заправке резиновым скребком вытирает дверцу душевой кабины, когда на кухне возле раковины наливает себе стакан воды, потом моет стакан, вытирает и убирает его. Не хватает Клер, ничего не оставляющей не на месте, ничего на волю случая, всегда за всем следящей. То, что нравилось мне в ней, конечно же, стало проблемой: ее здесь не было. Она очень мало от меня хотела. А это значит, что ее самой было очень мало, и очень мало она давала взамен.
Тесси расхаживает вокруг, вид у нее недоуменный. Я беру из ванной полотенце и устраиваю ей место на полу возле кровати. Она – старый сеттер, купленный во времена, когда были надежды и планы, когда еще казалось, что все может обернуться к лучшему.
Мы спим.
Она подходит ко мне и лупит подушкой.
– Вон из моего дома, вон из моего дома! – повторяет она. За спиной у нее стоит мужчина в костюме.
– Хватит ему пока. Потом еще добавим, – говорит он.
Я бегу к двери. Там какой-то человек меняет замок.
Просыпаюсь. Кто это был – Клер или Джейн?
Собака хочет гулять. Собака хочет завтракать. Собака хочет обратно к себе домой.
* * *
Приезжают дети, уже все договорено, наняты машины – отвезти их домой. Телефонные переговоры прошли у них за спиной.
– А как дети? Куда они должны ехать? – спрашивают родители Джейн в телефонной конференции.
Мне эти дети не нравятся, думаю я про себя, но молчу.
– Могут поехать ко мне, – говорит сестра Джейн Сьюзен. – У нас пустая комната.
– Там кабинет, – напоминает ее муж.
– Кровать там есть, – отвечает Сьюзен.
И двое цепных близнецов в поисках приключений. Я вспоминаю об этих полуторагодовалых террористах, которые ни секунды не сидят на месте и часто бегут к пропасти. Представляю Сьюзен и ее мужа на каникулах с детьми. Можно устраивать соревнования: отпускать близнецов и делать ставки, кто первым кого поймает.
– У них есть собака, – говорю я.
– А у тебя аллергия, – напоминает Сьюзен ее мать.
– Ну а для моих родителей это слишком, – говорит Сьюзен. – Два умственно нестабильных подростка.
Для детей это тоже слишком. Они с ума сойдут, если ими будут командовать дед с бабкой, которые большую часть времени обсуждают консистенцию продукта своего пищеварения и вопрос о том, не надо ли принять еще сливового сока.
Замечание насчет умственной нестабильности я игнорирую. Не больше и не меньше нестабильны, чем все мы прочие.
– Дети должны жить в собственном родном доме, – говорю я.
– У нас своя жизнь, – отвечает Сьюзен. – Мы не можем все бросить, и вообще я этот дом терпеть не могу и никогда не могла.
– Дело же не в здании, – возражаю я.
В процессе разговора я поднимаюсь в главную спальню. Кровать я уже застелил и оставшуюся лампу, стоявшую со стороны Джорджа, убрал в шкаф. Все выглядит нормально, насколько это возможно. Я беру какой-то цветок с кухонного подоконника и ставлю на ночной столик Джейн.
* * *
Первым приезжает Натаниэл. Машина тормозит перед домом, и он выходит, таща за собой огромную сумку.
Я придерживаю кухонную дверь, держа Тесси за ошейник. При виде мальчика собака радуется.
– Привет, – говорю я.
Он не отвечает, ставит сумку и обращается к собаке:
– Тесси, что такое, а? – спрашивает он, теребя собаке уши. – Что тут творится, детка? Это ж с ума сойти! Можно дать ей печенюшку? – он поворачивается ко мне.
– Конечно, – отвечаю я. Не думал, что он спросит. – Дай ей печенье. Два дай. Сам-то есть хочешь? Бутерброд?
Не ожидая ответа, я поворачиваюсь к холодильнику и вываливаю все на стол: хлеб, сыр, жареную индейку, горчицу, майонез, помидоры, корнишоны – то, чем мы с Джейн ужинали всю прошлую неделю. Даю мальчику тарелку, вилку, нож и салфетку.
– А ты что-нибудь будешь? – спрашивает он меня, соорудив себе сандвич.
– Я не голоден.
– Крем-сода у нас есть? – спрашивает он.
Странно звучит в такой момент вопрос о чем-то столь конкретном. Покопавшись в холодильнике, на нижней полке в глубине нахожу упаковку из шести банок «Доктора Брауна». Вынимаю две.
Эшли приезжает с маленькой розовой сумкой «Мой маленький пони» на колесах – явный пережиток ее детства. И тут же падает на колени перед собакой.
– Тесси. Ох, Тесси!
– Хочешь сандвич?
– Хочу молока.
Я наливаю ей стакан.
Она отпивает и говорит:
– Вот-вот.
Я киваю.
– Молоко вот-вот. Уже протухает, – уточняет она.
– А! – отвечаю я. – Надо будет купить еще.
Мы молчим.
– Папа приедет домой? – спрашивает Эшли, и я не знаю, что ответить.
– Нет, – говорю я осторожно.
– А где наша машина? – спрашивает Нейт.
– Не знаю, говорила ли вам мама, но все началось с того, что ваш папа попал в аварию. Машина в ремонте, но у меня есть своя. Хотите поехать в больницу?
Дети кивают. Наверх они не поднимаются. Единственное, что сделали, – собаку потискали.
Когда мы выходим, мне вдруг вспоминается, что когда в детстве дядя Леон выпихивал меня в двери, костяшки впивались в спину. Это было больно и страшно. И унизительно. До сих пор обидно.
Я придерживаю дверь.
– Не торопитесь, время есть, – говорю я детям.
В больнице, по дороге от машины через парковку, Эшли сует руку мне в ладонь.
– Как там все будет выглядеть? – спрашивает Нейт.
– Мама в интенсивной терапии, так что там очень светло. К ней прицеплено много всякой аппаратуры. Аппарат искусственного дыхания вентилирует ей легкие, в руке у нее капельница, через которую вводят лекарства и питание. Голова забинтована после операции, и лицо, как у енота, – черные кровоподтеки вокруг каждого глаза.
– Отец бил ее по глазам? – спрашивает Нейт.
– Нет, кровоизлияния произошли во время операции.
В лифте Эшли стискивает мне руку до боли и не отпускает до самого отделения.
Когда входят дети, мать Джейн разражается слезами.
– Перестань, не пугай их, – говорит ее муж.
– Слишком много посетителей, нельзя, – говорит сестра, выпроваживая лишних.
Дети остаются наедине с матерью.
Родители Джейн стоят в коридоре, злобно глядя на меня.
– Сукин сын, – говорит мне отец. – Пойдем кофе выпьем.
Это жене.
Я прижимаюсь к стеклу. Эшли берет мать за руку. Рука, наверное, теплая, хотя и безжизненная. Девочка трется щекой, лицом, гладит себя этой рукой, сама себе создает материнскую нежность. Натаниэл стоит рядом с ней, плача, потом заставляет себя перестать. Чуть позже, когда голова Эшли лежит у матери на животе, девочка улыбается, поднимая глаза, и показывает пальцем:
– Там урчит, – говорит она через стекло. Как будто урчание – признак улучшения.
Сестре надо выполнить с Джейн какую-то манипуляцию, и я веду детей в кафетерий.
– Что дальше? – спрашивает Натаниэл, поедая второй ленч.
– Вы должны проводить с мамой как можно больше времени, сколько захотите, давая ей знать, как вы любите ее, и понимая, как она вас любит.
Когда Эшли выходит в туалет, Натаниэл наклоняется ко мне:
– Ты маму трахал?
Я не отвечаю.
– Она к тебе неравнодушна была, все время отца тобой поддразнивала.
Я опять молчу.
– А где папа? – спрашивает Эшли, возвратясь к столу.
– Он здесь.
– В этой больнице? – спрашивает Нейт.
Я киваю:
– Хотите его видеть?
– А нам это обязательно? – спрашивает Эшли.
– Как захотите.
– Мне нужно думать, будто он мертв, – говорит Нейт. – Только тогда это как-то в голове укладывается. Сделал, что сделал – и повернул ствол к себе.
– Не было никакого ствола, – говорю я.
– Ты меня понял. Почему ты ему не помешал? Почему ты его не убил?
А почему я его не убил?
Слишком хорошо знакомый с географией больницы, веду детей в приемное отделение. Джордж припаркован в боковом коридоре, привязан к креслу, обмякший, будто целые дни спит, лицо в щетине.
– Или накачиваем седативами, или он бунтует, – говорит сестра, заметив меня.
– Вот это дети, – говорю я. – Эшли и Натаниэл.
– Он хорошо пообедал, и мы ждем решения, куда его направить, – говорит сестра чуть живее.
– Это куда он захочет? – спрашивает Эшли.
– Нет, бумага придет, где будет сказано, куда его везти, – отвечает сестра.
Джордж открывает глаза.
– Дети пришли, – говорю я ему.
– Здравствуй, па, – говорит Эшли.
Натаниэл молчит.
– Извините, – говорит Джордж.
Неловкое молчание. Все мы таращимся на пол, на узоры линолеума.
– Джордж, я все собирался тебя спросить: там кот, который царапается в кухонную дверь. Серый, с зелеными глазами, с белым кончиком хвоста. Пару раз заходил в дом. Похоже, его никто не кормит, так что я купил ему немножко корма.
– Это Маффин, – говорит Джордж. – Наша кошка.
– И давно у тебя кошка?
– Несколько лет. Лоток ее в гостевом туалете – стоило бы его почистить.
– Она любит корм в консервах, – тихо говорит Эшли.
– Ты о чем думал? – спрашивает отца Натаниэл.
– Понятия не имею, – отвечает Джордж. – Какой сегодня день?
Мы возвращаемся в интенсивную терапию. Там врач.
– Она хорошо восстанавливается после операции, – говорит он.
– Ну конечно, восстанавливается, – отвечает ее отец. – Она девочка хорошая.
– Но все еще никаких признаков мозговой деятельности. Вы не думали о донорстве органов? – спрашивает доктор.
– А это ей поможет? Донорство? – спрашивает отец Джейн.
– Он про то, чтобы мама была донором, – поясняет Нейт.
– А разве для этого не надо сначала умереть? – спрашивает мать Джейн.
– Просто надо иметь в виду этот вариант, – отвечает доктор. – Скоро будем знать больше.
– Можем здесь остаться, если хотите, а можем сейчас уйти и прийти после ужина, – говорю я детям.
– Давайте перерыв сделаем, – предлагает Эшли.
Я веду их в молл.
– Вы обычно сюда ходите? С мамой?
Я покупаю им сникерсы и замороженный йогурт. В молле неуютно, пусто. Будний день, никого нет.
– С чего ты такой ласковый? – спрашивает Натаниэл.
Я молчу.
– Хреново. Все хреново, – говорит он. Потом, в машине, спрашивает: – Можешь взять меня покататься?
– Куда?
– Отсюда куда-нибудь.
– У тебя велик есть? Приедем домой, сможешь покататься. Сейчас вполне тепло.
– Я не спрашиваю, могу ли я поехать покататься, – говорит он. – Я прошу, чтобы ты взял меня покататься. – Пауза. – Я там таблеток принял.
– В смысле – «таблеток»?
– Не слишком много, но хватит.
– Хватит, чтобы убить себя?
– Нет, успокоиться. Я в раздрае.
– А где ты их взял?
– Дома, в аптечке.
– Откуда ты знал, какие брать?
Нейт на меня смотрит, и на лице у него написано: «Я, может, и не гений, но ведь и не идиот».
– Хорошо, так куда ты хочешь поехать?
– В парк аттракционов.
– Это ты так шутишь?
* * *
Выходит, что нет.
По настоянию Нейта я звоню в парк аттракционов и выясняю, что из-за необычайно не по сезону теплой зимы он еще не закрылся.
– Владелец решил, что лучше держать народ на работе и в случае чего дать выходной, – но пока не потребовалось, – сообщает мне служащий.
Нейт мотается по всем аттракционам – русские горки, «Зиппер», «Ракета Банджи», «Башня ужаса», «Гравитон», который вертится так быстро, что Нейт прилипает к стенке с таким выражением лица, будто его прогнали через ветровой туннель.
– Ты считаешь, это дико? – спрашивает он, пока мы идем к следующему аттракциону.
– Кто я такой, чтобы судить?
– У меня диагноз, – говорит он.
– Какой?
– Такой, что у меня голова не в порядке.
– К чему ты?
– Ты не думаешь, что это правда? – спрашивает он.
– А ты?
Он пожимает плечами.
– Хочешь покататься? – спрашиваю я у Эшли. Она в свои одиннадцать держит меня за руку, как шестилетняя. И мотает головой. – Ты уверена? Я могу с тобой поехать.
Она пожимает плечами.
– Мне жалко, что снега нет, – говорит она, грустно мотая головой. – Когда я была моложе, зимой был снег.
– И еще будет, – отвечаю я.
– Когда?
– Когда ты меньше всего его ждешь.
Мы оставляем Нейта на русских горках. Ему, похоже, легче от этого вращения, от пролетов снова и снова через воздух. Эшли выбирает что-то под названием «Волновые качели» – судя по названию, нечто вполне невинное.
Как и молл, парк аттракционов пуст. У Нейта и Эшли у каждого свой сопровождающий, операторы аттракционов действуют как экскурсоводы этого механического тура. Они ведут нас от одного аттракциона к другому, включают каждый и делают пробный прогон перед тем, как запустить туда детей.
– Не тяжело это – так сидеть в пустом парке? – спрашиваю я у одного оператора.
– Все лучше, чем дома с женой, – отвечает он и пожимает плечами с таким видом, будто я полный идиот.
– А у меня мама в больнице, – говорит Эшли оператору, когда он поворачивает сиденье качелей. – Нас из школы домой отослали. Папа ее стукнул по голове.
– Во как, – говорит оператор. Будто гавкнул, а не сказал.
«Волновые качели» плавно взмывают с земли. Я в кресле перед Эшли, подвешенный на двадцатифутовой анодированной цепи. Кресло делает пару оборотов по широкому кругу, поднимаясь все выше, и потом расходится, вертясь все быстрее и быстрее. Оно широко раскачивается, болтается, мы взлетаем круто вверх и пикируем далеко вниз. У меня кружится голова, тошнит, я пытаюсь найти, за что зацепиться вниманием, что-нибудь такое, что не движется. Таращусь на пустые кресла впереди, на синее небо над головой. Теряю чувство равновесия, боюсь, что вдруг потеряю сознание, выскользну из кресла и упаду на землю.
Когда мы приземляемся, Нейт уже нас ждет. Я выхожу с аттракциона, пошатываясь, при выходе ударяюсь головой о цепь.
Мы направляемся к «Дому с привидениями», прыгаем в вагончики, и поезд через двойные двери врывается в темноту. Там тепло, пахнет потными носками. Над головой слышны завывания, душераздирающие визги мертвецов, треск бревен, падают с неба призраки, дюйма не долетая до наших лиц, и их втягивает обратно наверх. Механический саундтрек перебивается жуткими задыхающимися звуками.
– Что это? – спрашиваю я.
– Это Эшли, – отвечает Нейт.
– У тебя удушье? – спрашиваю я, отстегивая ремень и пытаясь повернуться на нее посмотреть.
– Она плачет, – говорит Нейт. – Это так она плачет.
Вокруг трещат молнии, вагоны лезут наверх в темноту замка, а я поворачиваюсь и пытаюсь перелезть из своего вагончика к Эшли. Вдруг начинает мигать стробированный свет, и, как в каком-нибудь замедленном фильме братьев Маркс, я оказываюсь на крыше вагона на четвереньках. Поезд едет прямо на закрытую дверь замка. Перед самой дверью он резко сворачивает, и меня выбрасывает из вагона прямо на стену. Я пытаюсь за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть, думаю, как бы не попасть на третий рельс, если здесь есть такая штука. И все останавливается. Темно, как в шахте.
– Не двигаться, – слышится голос сверху.
Эшли продолжает плакать, всхлипывая в темноте. Через минуту «Дом с привидениями» заливает яркий флуоресцентный свет, и обнажаются все тайны ночи: хилые стены из папье-маше, дешевые, связанные веревочкой скелеты на проволочных подвесках, выкрашенные, как и все вокруг, флуоресцентной желтой и лиловой краской.
– Ну, и какого? – спрашивает оператор, шагая по рельсам.
– Извините, – говорю я.
– Извиняется он, – буркает оператор, не глядя на меня.
– Девочка расплакалась.
– Ты как, детонька? – спрашивает оператор у Эшли с неподдельным участием. – Никто не ранен?
Мы все качаем головами:
– Нет, все целы.
Оператор хватается за толстый канат спереди поезда и стаскивает нас вниз, нагибает голову перед дверью, и мы вываливаемся в дневной свет.
– Точно всё у вас в порядке?
– Насколько это возможно при данных обстоятельствах, – отвечаю я и даю ему двадцатку. У меня почему-то ощущение, что так надо. – Поехали домой, – говорю я детям, выводя их на парковку.
– Все было хорошо, пока в «Дом с призраками» не попали, – говорит Нейт.
– Да, – соглашаюсь я.
На обед мы едим спагетти под соусом, сделанные Джейн.
– Люблю мамины спагетти, – говорит Эшли.
– Отлично.
Я думаю, что их осталось всего два контейнера в морозильнике, и на всю жизнь растянуть не получится. Интересно, можно ли спагетти клонировать? Сохранить образец или взять мазок соуса Джейн, а кто-нибудь изготовит такой же?
Спагетти, замороженная брокколи, крем-сода и фунтовый пирог от «Сары Ли». Можно подумать, что у нас все под контролем.
Проходит кошка, зацепив меня хвостом за лодыжки. Эшли поднимает крышку и показывает мне ящик, где аккуратно сложены сорок банок кошачьего корма.
– Больше всего она любит лосося, – говорит Эшли.
После обеда я снова везу детей в больницу. Тут все как-то потише, отделение освещено скудно. Его пространство разделено на восемь палат со стеклянными стенами, из которых шесть заняты.
– Как? – спрашиваю я сестру.
Она качает головой:
– Все так же.
Дети пришли навестить мать. Натаниэл принес статью, написанную им для школы. Читает ее вслух, потом спрашивает, как она думает: не нужно ли еще добавить? И ждет ответа. Механическим дыханием дышит вентилятор. Натаниэл, прочитав статью, рассказывает о парке аттракционов, потом про какого-то мальчика из школы, о котором она, очевидно, уже знает. Рассказывает, что провел подсчеты, и выходит, что когда он пойдет в колледж, это будет стоить около семидесяти пяти тысяч долларов в год, а когда Эшли – то уже и больше восьмидесяти. Говорит матери, что ее любит.
Эшли растирает мамины ноги.
– Это приятно? – спрашивает она, втирая крем в пальцы ног и вверх, до лодыжек. – Давай я завтра принесу лак и ногти тебе накрашу.
Потом, вечером, я прохожу по дому и выключаю всюду свет. Уже почти полночь. Эшли в своей комнате, играет со старыми игрушками. Все куклы с полок сидят на полу, а она – посередине.
– Пора спать, – говорю я.
– Еще минуточку.
Натаниэл дальше, в комнате родителей, растянулся на их кровати и спит, полностью одетый. С ним Тесси, положила голову на подушку. Вместо Джейн.
Утром к дому подъезжает фургон. Из него выходит человек и выгружает шесть ящиков. Я смотрю из дому, как он их переносит по одному к входной двери. Сперва я думаю, что это родственники той семьи, которую убил Джордж, прислали адскую машину. Но доставщик работает так методично, так тщательно, что он явно профессионал иного рода. Перед тем как позвонить, он выкладывает все по ниточке.
Тесси лает.
Я осторожно отпираю дверь.
– Доставка, – говорит он. – Распишетесь за все это?
– Конечно. А что это?
– Ваше имущество.
– Мое?
– Офисное барахло, – говорит он, поворачиваясь уходить. – Откуда мне, на фиг, знать? Я курьер. Восемь утра, а люди уже вопросы задают. Когда ж это кончится?
Он идет к своему фургону, всю дорогу причитая.
Я затаскиваю ящики в дом. В них – вещи из офиса Джорджа.
– Ты что-то заказывал? – спрашивает Эшли.
– Это для твоего папы, – говорю я, и мы втроем затаскиваем ящики к нему в кабинет и закрываем дверь.
– Можно я цветок себе возьму? – спрашивает Нейт.
Принято решение снять Джейн с системы жизнеобеспечения и взять у нее органы для пересадки.
– Я всю ночь не спала, – говорит ее мать. – Я приняла решение, передумала, снова решила и снова передумала.
– Кто скажет детям? – спрашивает кто-то.
– Это ты должен, – говорит отец Джейн, тыча пальцем в мою сторону. – Это ты во всем виноват.
Нейта и Эшли ведут в конференц-зал; они просят меня пойти с ними. Мы сидим, ждем, ждем, и наконец приходит доктор. Приносит сканы, диаграммы и графики.
– Ваша мама очень больна, – говорит он.
Дети кивают.
– Повреждения мозга неустранимые. Поэтому мы хотим, чтобы ее тело помогло вылечиться другим, кто страдает. Ее сердце поможет тому, у кого сердце уже не работает. Вы понимаете?
– Папа убил маму, – говорит Эшли.
К этому трудно что-нибудь добавить.
– Когда вы затычку вытащите? – спрашивает Нейт.
Доктор берет себя в руки:
– Мы отвезем ее в операционную и изымем органы, которые можно пересаживать.
– Когда? – хочет знать Натаниэл.
– Завтра, – говорит врач. – Сегодня позвонят всем, кому может помочь ваша мама. Они приедут в ближайшую к своему дому больницу, и их врачи начнут готовиться.
– Нам можно ее увидеть? – спрашивает Эшли.
– Да, – отвечает доктор. – Можно ее увидеть сегодня и завтра с утра.
Каким-то образом известили полицию, и приходит коп с фотографом. Нас просят выйти из палаты, задергивают занавески вокруг ее кровати и начинают снимать. Снова и снова полыхают белые вспышки, высвечивая силуэты копа и фотографа. Я не могу удержаться от мысли: они делают крупные планы? А одеяло снимают? И фотографируют ее голую? Вспышки привлекают внимание; родственники других пациентов смотрят на нас странно, но молчат. Инсульт, инфаркт, ожог – УБИЙСТВО! – мы тут известны всем, и не по фамилии.
Когда полицейские заканчивают, нас впускают обратно. Я смотрю на одеяло. Если они его сняли, то что увидели? На что похожа женщина, мозг которой умер? Боюсь, что ответ я знаю: на покойницу.
С адвокатом Рутковски мы встречаемся на больничной парковке и вместе идем к Джорджу разговаривать.
– Он ни разу о ней не спросил, – сообщаю я.
– Будем считать, он не в своем уме, – предлагает адвокат.
– Джордж! – говорим мы с Рутковски одновременно, когда сестра отводит штору. Джордж лежит в кровати, свернувшись в клубок.
– У вашей жены Джейн диагностировали смерть мозга. Ее снимут с системы жизнеобеспечения, и выдвинутые против вас обвинения будут переквалифицированы на обвинение в предумышленном или непредумышленном убийстве или на что нам удастся их уговорить, – говорит адвокат. – Но дело в том, что, как только это произойдет, машина придет в движение и вариантов у вас останется меньше. Я договариваюсь, чтобы вас отправили в одно заведение – я с ним работал когда-то. После прибытия будет период детоксикации, а потом, надеюсь, они смогут заняться вашим основным психозом. Вы понимаете, о чем я говорю? К чему веду? Вы меня слышите?
Адвокат делает паузу.
– Я смотрю, а она у моего братца отсасывает, – говорит Джордж.
Несколько минут все молчат.
– Как она выглядит? – спрашивает Джордж, и я не уверен, что правильно понимаю смысл вопроса. – Да все равно, наверняка ей хорошую шляпку сделают.
Сестра говорит, что ей нужно побыть с Джорджем наедине. Мы понимаем намек и уходим.
– Есть у вас минутка? – спрашивает меня адвокат. Он приглашает меня присесть в вестибюле больницы. Свой огромный портфель он ставит на столик рядом со мной и вытаскивает оттуда документ за документом. – В связи с состоянием здоровья как Джорджа, так и Джейн, вы теперь стали по закону опекуном двух несовершеннолетних детей, Эшли и Натаниэла. Далее, вы являетесь временным опекуном и медицинским представителем Джорджа. С этими ролями связана ответственность как юридическая, так и моральная. Как вам кажется, вы в состоянии принять ее на себя?
– В состоянии.
– Вы являетесь хранителем ценностей, недвижимого имущества и прочих вещей, которые надлежит передать детям по достижении ими совершеннолетия. У вас полномочия доверенного лица в отношении всех транзакций, активов и прав владения. – Он передает мне небольшой ключ со сложной бородкой. Похоже на прием в тайное общество. – Это ключ от их банковского сейфа. Что в нем, я понятия не имею, но предложил бы вам ознакомиться с его содержимым. – Он вручает мне новенькую банковскую карту. – Активируйте ее с домашнего телефона Джорджа и Джейн. Бухгалтер, мистер Муди, также имеет доступ ко всем счетам и будет отслеживать ваше пользование ими. Система ограничений и противовесов: Муди контролирует вас, вы контролируете Муди, а я контролирую вас обоих. Вам понятно?
– Вполне, – отвечаю я.
Он мне дает конверт из плотной бумаги.
– Копии всех документов, на случай, если кто-нибудь спросит.
А потом, как ни странно, адвокат достает пакетик шоколадных медалей и болтает им у меня перед носом.
– Денежки? – спрашиваю я.
– Вид у вас бледный, – говорит он. – Моя жена купила таких сотню, и почему-то вышло так, что избавляться от них приходится мне.
Я беру пакетик медалей.
– Спасибо, – говорю я. – За все.
– Это моя работа, – отвечает он, уходя. – Занятие такое.
Где Клер?
Она пропала где-то по дороге. Направлялась домой, потом изменила маршрут. По дороге до нее стали доходить слухи от подруг. Мне был яростный звонок с Гавайев, где самолет застрял из-за неисправности. С обвинениями.
– На чем основаны твои слова? На чужих словах?
– На «Нью-Йорк пост», – отвечает она.
– Там новая статья или запись?
– Да катись ты, – говорит она. – Подальше катись! – И бьет телефоном об стену. – Слышишь? Это я «блэкберри» в стену засадила. Сукин ты сын.
– Ты у меня на спикерфоне, – говорю я, хотя это и неправда. – Мы тут все в больнице – дети, родители Джейн, ее доктор. Очень жаль, что ты так расстроена.
Я вру. Я тут один в бывшей телефонной кабинке. Всю аппаратуру отсюда сняли, осталась просто стеклянная будка. Без питания.
– Катись!
День преддверия. Странное чувство от осознания, что завтра Джейн умрет. В доме звонит телефон, включается автоответчик, и звучит голос Джейн: «Привет, мы сейчас подойти не можем, но если оставите свой номер, мы вам перезвоним. Если хотите позвонить Джорджу на работу, то телефон двести двенадцать…»
Она все еще здесь, в этом доме. Я натыкаюсь на нее, сворачивая за угол, разгружая посудомойку, включая пылесос, складывая выстиранное белье. Просто она вот здесь, подожди секунду, сейчас вернется.
На следующий день в больнице мать Джейн падает в обморок рядом с ее постелью, и все тормозится, пока ее не приводят в чувство.
– Вы можете представить, каково это – принимать такое решение о своем ребенке? – говорит она, когда ее вывозят в кресле в коридор.
– Не могу. Потому-то у меня и нет детей. Нет, поправка: могу. Потому-то у меня и нет детей.
Я это сказал вслух, говоря сам с собой, не отдавая себе отчета в том, что меня слышат все.
– Мы думали, у вас не может быть детей, – говорит сестра Джейн.
– Мы даже не пытались, – отвечаю я не вполне искренне.
Все родственники по очереди прощаются с Джейн наедине. Я последний. У нее на лбу след от помады матери – как индуистская точка «кровь-и-земля». Я целую Джейн. Кожа теплая, но никого там нет.
Эшли идет за каталкой по коридору. Пока ждут лифта, она что-то шепчет на ухо матери.
Мы остаемся, хотя оставаться совершенно незачем. Сидим в зале ожидания для родственников отделения интенсивной терапии. Через стекло видно, как уборщица снимает постельное белье, моет пол, готовя палату для следующего пациента.
– Пойдемте в кафетерий, – говорю я.
По коридорам быстро снуют люди. У них в руках кулеры «Иглу» с надписями «Человеческая ткань» или «Орган для пересадки – человеческий глаз». Подбегают, пробегают, убегают. В большом окне кафетерия виден прилетающий вертолет. Он садится на парковку и снова взлетает.
Сердце Джейн уехало.
С одной стороны, время будто остановилось, а с другой стороны, будто только время и существенно, люди ускоряются и ускоряются. Куда мы идем, когда все кончено? Куда уходим? С каждым часом, с каждой изъятой частью она уходит все дальше и дальше. Возврата нет. Все. На самом деле все.
– Хорошо, что она может людям помочь. Она была бы рада, – говорит ее мать.
– Сердце и легкие не пропадут, – говорит отец. – Глаза у нее были хорошие, красивые. Может быть, кому-то пригодятся, и будет у кого-то хорошая жизнь, раз уж у нее накрылась медным тазом.
– Не говори так при детях, – напоминает ее мать.
– Я вообще ничего не говорю. Если кто хочет слышать, что я по этому поводу хотел бы сказать, я ему полные уши насыплю.
– Слушаю, – говорю я.
– Не с тобой разговариваю. Ты чмо, ты не меньше виноват, чем твой брат, сука. Засранцы оба.
И он прав. Непостижимо, как это все так кончается.
Муж сестры должен привезти гроб. Он хочет, чтобы я спросил у Нейта, поедет ли тот с ним помочь организовывать. Я спрашиваю, но мальчик не слышит – у него наушники включены. Я его постукиваю по плечу:
– Хочешь принять участие в организации?
Он смотрит непонимающим взглядом.
– В организации. В смысле, планировании похорон. Муж Сьюзен едет в похоронное бюро выбирать гроб – хочешь поехать с ним? Я выбирал для своей бабушки, – добавляю я, будто хочу сказать, что в этом нет ничего плохого.
– Что там надо делать?
– Смотреть гробы, выбрать один, потом подумать, во что должна быть одета мать при этом своем последнем выходе.
Натаниэл отрицательно качает головой.
– Эшли спроси, – говорит он. – Она любит выбирать.
В эту ночь Нейт навещает меня на диване.
– Ты папу гуглил?
– Нет.
– Он не только маму убил. А целую семью.
– Это была авария. С нее все началось.
– Его все ненавидят. Посты о нем – как он всю сеть развалил, каким хамом был на работе – особенно с женщинами. Пишут, что была куча дел о приставании к подчиненным женщинам и коллегам, улаженных втихую.
– Это не ново, – отвечаю я. – Твой отец всегда вызывал у людей сильные чувства.
– Тяжело мне об этом читать! – Нейт почти в истерике. – Одно дело, когда его считаю гадом я. Совсем другое – когда о нем пишут гадости посторонние.
– Хочешь мороженого? – спрашиваю я. – В морозильнике половина «Карвела» есть.
– Он там еще со дня рождения Эшли.
– Это же не значит, что его нельзя есть?
Он пожимает плечами.
– Так будешь?
– Да.
Огромным зазубренным ножом я отпиливаю куски. Мороженое старое, по консистенции как резина, твердое как камень, но чуть подтаивает и становится лучше, а когда мы с ним заканчиваем, оно просто превосходно. Тесси долизывает за нами тарелки.
– Машина предварительного мытья, – говорит о ней Нейт.
Он заваливается на мой диван, головой в другую сторону, вонючие ноги возле моего лица. Когда он засыпает, я выключаю телевизор и ставлю тарелки в посудомойку. Тесси идет за мной, я ей даю сухарик.
* * *
Возле дома у тротуара останавливается длинный черный лимузин. Из дома появляются дети в выходной одежде. Я набиваю карманы салфетками и всякими батончиками.
– Никогда не была на похоронах, – говорит Эшли.
– Я ходил однажды, когда сын одного папиного сотрудника себя убил, – отвечает Нейт.
В похоронном бюро нам открывают дверь два человека.
– Близкие родственники проходят налево, – сообщает один.
– Мы близкие, – отвечает Нейт.
Человек ведет нас по коридору. Родители Джейн уже на месте, и сестра с мужем тоже.
Что-то в этом есть очень мучительное. Чужие люди – или, хуже того, близкие – наклоняются к детям, обнимают их, гладят, прижимаются к ним напряженными, карикатурными лицами. И стыдная неловкость, когда пытаются что-то сказать, а сказать-то и нечего. Совсем нечего.
Сочувствую вашей утрате. Ох, бедные деточки. Как же вы теперь будете жить? Ваша мама такая чудесная была женщина. Что может ваш отец о себе сказать? Даже представить не могу. Вашего папу посадят на электрический стул?
– Сочувствую, сочувствую, от всего сердца сочувствую, – повторяют они детям на разные голоса.
– Ничего страшного, ничего страшного, – отвечает им всем Эшли.
– Перестань, – обрывает ее Нейт. – Это не называется «ничего страшного».
– Когда тебе говорят «сочувствую», вполне нормально будет ответить просто «спасибо», – говорю я.
Нас ведут в капеллу на службу и усаживают на скамьях, как на свадьбе. Родители и сестра Джейн с одной стороны, мы – с другой. За нами сидят знакомые родителей Джейн, люди, с которыми она ходила в детский сад, знакомые по тренажерному залу, друзья и подруги, соседи. Ведущий с Дня благодарения тоже здесь, и помощник Джорджа – солидный гей, баловавший детей по мелочи. Это он доставал им хорошие места на концертах, пропуска за сцену.
Гроб стоит в передней части зала.
– А она и правда там? – говорит Эшли, кивая на гроб.
– Да, – отвечаю я.
– Откуда ты знаешь, что ее одели как надо? – спрашивает она.
– Приходится доверять.
Ко мне подходит муж Сьюзен.
– Гроб вам нравится? – интересуется он. – Верхний в ценовой линейке. Но в такой ситуации жестоко было бы экономить.
– Вы спрашиваете моего одобрения?
Я вспоминаю о похоронах Никсона. Инсульт хватил его дома в Нью-Джерси, вечером, как раз перед ужином. Домработница вызвала «Скорую», и его отвезли в Нью-Йорк, парализованного, но в сознании. Сперва прогноз был хорошим, но начался отек мозга, больной впал в кому и умер. Гроб Никсона перевезли самолетом из Нью-Йорка в Йорба-Линду, где люди в холодную ночь толпами высыпали на улицу и несколько часов ждали его в промозглой ночи. Я собирался поехать, совершить что-то вроде паломничества – как мормоны собираются к своей горе или фанаты на концерт своего кумира.
Но я только смотрел по телевизору.
За сутки мимо гроба Никсона прошли четыре тысячи двести человек. И я сожалею о том, что меня среди них не было. Смотрел по телевизору, но ничего не чувствовал. Я не провел ночь на холоде, ожидая вместе с другими. Лишь однажды я побывал в Йорба-Линде, спустя много лет после смерти Никсона.
– Как я в школе расскажу? – спрашивает Эшли.
– Там, наверное, уже знают, – говорит Нейт.
– Так нечестно! – отвечает Эшли.
Я ей протягиваю горсточку «Мишек Гамми».
Сестра Джейн видит это и спешит с другой стороны зала. Садится на скамью прямо у меня за спиной, наклоняется и шепчет:
– С каких это пор ты знаешь, что надо какую-то еду с собой носить?
– А я не знаю, – отвечаю я, не поворачиваясь.
Детей я не люблю, но чувствую себя виноватым. Хуже того, чувствую себя ответственным. И еще того хуже: считаю, что жизнь у них сломана.
В этом эмоциональном напряжении я верчу в памяти случаи из жизни, не своей жизни, и меня тянет на сладкое. Я закидываю в рот парочку «медведей», не предлагая Сьюзен.
– Где близнецы? – спрашиваю я ее.
– С няней, – говорит она.
Ботокс у нее такой свежий, что лицо совершенно неподвижно.
К нам наклоняется пожилая женщина, трогает прядь волос Эшли.
– Бедные вы деточки, ах, какие у тебя волосы красивые!
Начинает играть музыка.
Появляется раввин.
– Друзья и родственники, родители Джейн, сестра ее Сьюзен и дети ее Натаниэл и Эш!
– Ее зовут не Эш, – говорит вполголоса Натаниэл.
– Невозможно постичь разумом, как могло случиться такое несчастье, так трагически оборваться жизнь! Джейн была матерью, дочерью, сестрой и другом – и вот она стала жертвой преступления, обрубившего естественный ход жизни.
– Никогда не любила Джорджа, – громко говорит ее мать, не обращая внимания на службу. – С первого свидания он себя вел как дурак и сволочь.
Ребе продолжает:
– Смерть Джейн ставит нас перед нарушением традиции: когда умирает еврей, непреложно совершаются ритуальное омовение и погребение тела – но что есть тело? Родные Джейн решили пожертвовать органы для пересадки, и части тела Джейн, сохранившие силу жизни, спасут жизнь другим. Этим ее родные совершили мицву. Похороны же совершаются еще и для того, чтобы дать родным и друзьям смириться с невозвратностью потери. Пусть обстоятельства смерти Джейн заставляют нас безуспешно искать логику, но мы восславляем ее жизнь и ту жизнь, которую она дала другим. Ха-Маком йинахаим этхем батох шар авали Цион ве Йерушалаим. Да утешит вас Бог со всеми плакальщиками Сиона и Иерусалима, – провозглашает ребе. – Такова традиционная еврейская формула выражения соболезнования.
– А мы сироты? – спрашивает Эшли.
– Вроде того.
– Йит-гадал ве йит кадаш ш’мей раба, б’алма ди в’ра хирутей, вйам-либ малхутей в’га-йей-гон ув’га-йей д’гол бейт йисраель ба-агала у-визман карив, в’имру амен, – выпевает раввин.
– Мы всегда были евреями? – спрашивает Эшли.
– Да.
Церемония заканчивается. Один из гостей поворачивается ко мне и говорит:
– Учитывая все обстоятельства, раввин выступил очень здорово. Вы не считаете?
– У меня правило: не критиковать похороны.
– Если гости благоволят оставаться на местах, пока родные выйдут, это будет весьма похвально, – говорит раввин.
Мимо нас провозят гроб Джейн. Среди тех, кто везет каталку, – ведущий с Дня благодарения.
Выходят родители Джейн, между ними идет Сьюзен. Когда она плачет, выражение лица не меняется. Слезы клоуна.
Мы с Нейтом и Эшли выходим вслед за гробом, забираемся в лимузин, а Джейн поднимают в катафалк.
– Надеюсь, никогда мне больше не придется этого делать, – говорит Нейт.
– Теперь мы уже можем домой? – спрашивает Эшли.
– Нет, – говорит Нейт. – Тут теперь что-то вроде афтерпати должно быть?
– Отсюда мы едем на кладбище. Возле могилы будет сказано еще несколько слов, и гроб опустят в землю. – Я гадаю, надо ли им сказать про горсть земли на крышку гроба или лучше некоторые вещи не говорить. – После кладбища мы будем сидеть шиву в доме Сьюзен. Будут приходить люди, которые знали твою маму, и там будет обед.
– Я хочу побыть один, – говорит Нейт.
– Не получится.
– Кто эти автомобили присылает? Они другую работу делают? – спрашивает Нейт.
– Какую, например?
– Скажем, рок-звезд возить. Или только похороны?
Я наклоняюсь вперед и задаю водителю вопрос:
– Вы только похоронами занимаетесь или рок-звезд тоже возите?
Водитель смотрит на нас в зеркало заднего вида.
– Я лично – похороны и аэропорты. Рок-н-ролл не люблю. Тебя подписывают на двухчасовую работу, а через четыре дня ты все еще стоишь на парковке возле какого-то отеля и ждешь, пока этот рокер решит, хочет ехать за бургером или нет. Я люблю, когда все по порядку и по графику. – Он замолкает, потом говорит: – С погодой вам повезло. Вы не подумайте чего, но хуже нет, как работать на похоронах, когда погода хреновая. У всех настроение портится.
В машине по дороге на кладбище дети утыкаются в свои электронные устройства. С одной стороны, нехорошо играть в компьютер, если едешь на похороны матери. С другой стороны, их очень можно понять. Они хотели бы где угодно оказаться, только не здесь.
Джейн положат между ее теткой и бабкой, между раком яичника и инсультом. Она приложится к народу своему. Эти люди умирали от болезней или старости, но не было среди них жертв домашнего насилия. Это другое. Это хуже.
Дети сидят на складных стульях за спиной деда и бабки. Хотя день ясный, но прохладно, все одеты в пальто, руки в карманах. Когда гроб опускают в могилу, по рядам провожающих проносится шелест шепотов, ветер удивления.
– Папа приехал, – говорит Эшли.
Все поворачиваются посмотреть. И, конечно же, он вылезает с заднего сиденья автомобиля. Рядом с ним двое здоровенных черных мужиков в больничной униформе.
– Ну и наглость, – говорит мать Джейн.
Вокруг нас шорохи, шелест, шепот, повороты головы.
– Она его жена.
– Пока смерть не разлучит их.
– Должен был хотя бы подождать, пока мы уйдем, – говорит Сьюзен.
– У него пока еще есть права, – слышен чей-то голос.
– Пока не признан виновным.
Время кончается. Джорджу лучше было бы остаться в машине, чтобы его никто не видел. Он держится на расстоянии, пока не заканчивается церемония у могилы.
– Нам надо подойти к нему? – спрашивает Натаниэл.
– Не сейчас, – отвечаю я. – Скоро мы его увидим.
Когда похоронная процессия тянется с кладбища, мы проходим мимо Джорджа. Он стоит у могилы на коленях, на лице темные очки, руки скованы наручниками. Я вижу, как он двумя руками спихивает землю в могилу, одновременно двумя, соединенными в запястьях.
Кто-то с длинным объективом фотографирует.
– Бабушка и дед нас ненавидят, – говорит Нейт.
– Они переживают.
– Они так себя ведут, будто это мы виноваты.
Шиву сидят в доме у Сьюзен. Это далеко, от кладбища час езды. Мы едем уже примерно три четверти часа, и дети начинают ныть. Я спрашиваю у водителя, можем ли мы сделать техническую остановку. Длинный лимузин выезжает из колонны, ждет, пока все проедут, а потом мы заезжаем в «Макдоналдс».
– Я угощаю, – говорю я, имея в виду всех, включая шофера.
– Я думал, на шиве дают обедать, – заявляет Нейт.
– Ты что предпочитаешь, гамбургер или салат с яйцом?
– Я выброшу улики, – говорит шофер, когда мы подъезжаем к дому Сьюзен.
– Полагаю, вы подождете? – спрашиваю я.
– Разве у вас нет машины?
– Моя машина возле дома, где вы нас подобрали.
– Обычно мы только подвозим клиентов. Но я подожду. Оформим как работу по времени: семьдесят пять в час, минимум четыре часа.
– Мы столько не пробудем.
Водитель пожимает плечами.
Близнецы на свободе. Они бегают по всему дому, за ними радостно гоняется собачка, о которую рискуешь споткнуться. Прихожая выложена зеркальной плиткой с золотыми прожилками. От взгляда на нее мне неуютно; мое отражение разбивается на тысячу кусков, и я думаю: уж не волшебное ли это зеркало, имеющее власть отражать мое внутреннее состояние?
Сьюзен ведет экскурсию по своему отремонтированному разноуровневому дому, показывая подругам Джейн, как она подняла потолок и отодвинула заднюю стену, и теперь у нее есть большая комната и столовая, а гараж «отобрали» и сделали кабинет-студию с застекленной створчатой дверью и «всюду» добавили террасы.
– Все сделали, о чем только могли подумать, и даже больше, – говорит она с гордостью.
И это заметно.
Гости – те же, кто был на похоронах: друзья, соседи, доброхоты, любопытствующие болваны, которым вообще нечего тут делать. Я хотя и съел двойной чизбургер, кружу возле стола в столовой, где накрыт ленч. На меня таращатся маслины без косточек и помидоры черри, взгляд их непроницаем. Авокадо и артишоки, яйца со специями и паприкой, копченый лосось, багели, салат с макаронами, – смотрю я на все это, и вдруг еда превращается в органы. Форма с желе становится печенью, салат с макаронами превращается в содержимое черепной коробки. Я наливаю себе диетколы.
Ко мне с деловым видом подходит пожилой мужчина и протягивает руку.
– Хайрэм П. Муди, – представляется он, пожимая мне руку, – бухгалтер вашего брата. Естественно, вам сейчас о многом надо думать, но я хочу, чтобы вы знали: в фидуциарном смысле у вас все будет в порядке.
Наверное, я как-то не так на него глянул.
– Вам не о чем волноваться. Финансово вы в отличной форме. Джордж был слегка игроком, кое-где рисковал, поддавался азарту время от времени, но, скажем, отлично чувствовал, когда это можно.
– Прошу прощения?
Как-то я не очень понимаю, куда ведет Хайрэм П.
Он кивает:
– Позвольте тогда прямо. О вас и о детях будут заботиться. Я плачу по счетам. Если вам что-то нужно – просто даете мне знать. Я вам не просто налоговый адвокат – «Ну, пока, до середины апреля!». Я с вами все время, я держу завязки от кошелька, и вы теперь тоже. У меня тут бумаги, которые вам надо подписать. Спешки нет. Я так понимаю, что вы теперь законный опекун этих детей, а также опекун и медицинский представитель вашего брата. Кроме того, Джейн особо хотела, чтобы вы были распорядителем ее имущества. Ее беспокоило, что сестра не разделяет ее ценностей.
Я киваю. Голова прыгает вверх-вниз, как у куклы с грузиком.
Хайрэм П. сует мне в ладонь визитку.
– До скорого, – заканчивает он. Я поворачиваюсь, он меня окликает: – Подождите, у меня есть получше. Дайте-ка руку. – Я даю, и он что-то шлепает мне в ладонь. – Магнит на холодильник, – говорит Хайрэм П. – Мне их жена сделала. Тут вся информация, вплоть до номера сотового – на аварийный случай.
– Спасибо, – говорю я.
Хайрэм П. берет меня за плечи и этак пожимает-встряхивает.
– Для вас и для детей я всегда дома, – говорит он.
Почему-то у меня глаза наполняются слезами. Хайрэм П. подается мне навстречу, чтобы меня обнять, как раз когда я несу руку к глазам – вытереть. Ну, может, и не руку, а кулак, чтобы утереть слезы тыльной стороной. И этот кулак попадает под подбородок Хайрэму П. Муди легким, но быстрым апперкотом, который бросает его на стену. Висящая над ним картина качается, соскальзывает и повисает наискось.
Хайрэм П. смеется.
– Вот что мне нравится в вас обоих, что психи вы оба абсолютные. В общем, – говорит он, – звоните. Как только созреете.
Я сижу на секционированной софе Сьюзен рядом с Эшли и Нейтом. Рядом с нами пожилая женщина.
– Я знала твою мать. Я ей ногти делала – у нее очень красивые ногти были. Она много о вас говорила, очень гордилась вами обоими, очень.
– Спасибо, – говорит Эшли.
Нейт встает и идет взять какую-нибудь еду. Возвращается с тарелкой ягод для Эшли.
– Ты хороший брат, – говорю я ему.
Какая-то женщина наклоняется к детям, открывая болтающуюся морщинистую щель в вырезе. Я отворачиваюсь. Она протягивает руку – никто не берет. Рука с крупным бриллиантом ложится Нейту на колени.
– Я была у нее зубным гигиенистом. У нас чудесные бывали разговоры… то есть в основном говорила я, потому что у нее стоял слюноотсос, но она очень хорошо умела слушать. Очень.
– У тебя что-нибудь есть? – спрашивает меня Нейт.
– Что-нибудь в смысле чего?
– Валиум, антиван. Может, кодеин.
– Нет, – удивляюсь я. – С чего бы им у меня быть?
– Не знаю. Ты же взял конфеты – «Мишки Гамми» и салфетки. Я думал, ты мог и лекарства прихватить.
– А что ты обычно принимаешь от нервов? Что тебе врач назначил?
– Да просто беру у мамы с папой в аптечке.
– Класс.
– Ладно, не бери в голову. Просто подумал спросить на всякий случай.
Нейт шагает прочь.
– Ты куда?
– В уборную.
Я иду за ним.
– Ты идешь за мной?
– В аптечку хочешь заглянуть?
– Отлить хочу, – отвечает Нейт.
– Если так, то пойдем вместе. И вместе посмотрим.
– Блин, как же все через задницу!
– Если ты пойдешь один, разве оно меньше через нее будет?
Я иду за ним в туалет и запираю за нами дверь.
– Мне правда надо отлить.
– Отливай.
– Не при тебе.
– Я отвернусь.
– Не могу, – говорит он.
– Я тебе не доверяю.
– В школу вернусь – расскажу, что ты увязался за мной в туалет. Есть же и у недоверия границы. Дай мне отлить, и только.
– Ты прав, но как только ты отольешь, так и начнется «через задницу», – говорю я, открывая аптечку. – Его прилосек – это от изжоги, ее противозачаточное, ее прозак, ацикловир – вот это мило, герпес у них, что ли? Оксикодон ему для спины.
– Оксикодон подойдет, – заявляет Нейт. – Окси – штука нормальная.
– Возьми вот это, – говорю я, вытаскивая розовую с белым капсулу и протягивая ему.
– Это что?
– Бенадрил.
– Так он же даже без рецепта.
– Это не значит, что он не действует. Отличный седатив.
– А что тут еще? Диазепам, это же дженерик валиума. Дай мне две штучки его.
– Нет.
– А одну? Как перед полетом.
– А четыре не хочешь? Как перед колоноскопией, – предлагаю я.
– Веселый ты, – говорит Нейт, принимает одну таблетку и кладет флакон в карман.
– Поставь обратно. По всему видно, тут есть камера, и обвинят меня.
Когда мы возвращаемся по коридору, меня хватает за локоть отец Джейн.
– А ты себе должен отрезать член. Чтобы жить без чего-то, что тебе было дорого.
Он слегка толкает меня и идет говорить с официанткой. Здоровенный официанткин бойфренд направляется ко мне, и я думаю, что меня сейчас попросят убраться, а потому начинаю пробираться сквозь толпу, стараясь уйти от этого амбала, думая, что надо бы найти Эшли и сказать детям, что нам пора. Но официанткин бойфренд настигает меня раньше.
– Вы тунца пробовали? – спрашивает он.
– Гхм… нет. Еще не пробовал.
– Попробуйте обязательно, – говорит он. – Я сам его делал, свежайший.
– Да, конечно, – говорю я. – Обязательно. – Меня слегка трясет. – Пора мне, – сообщаю я Нейту.
– О’кей, – говорит он. – Сейчас Эшли приведу.
– Куда мы? – спрашивает Эшли.
– Не знаю, – отвечаю я. – Не привык я кому-то о своих делах докладываться. И не привык где-нибудь быть с кем-нибудь.
– Можешь нас здесь оставить, – предлагает Нейт.
Я после паузы говорю:
– Поеду мать навестить.
– Ты ей расскажешь про все про это?
– Нет, – отвечаю я.
Мы уходим, не прощаясь. Водителю лимузина я называю адрес дома престарелых, он включает навигатор, смотрит, и мы пускаемся в путь.
– Стоит нам ей что-нибудь принести? – спрашивает Нейт.
– Например?
– Комнатный цветок.
– Вполне.
– Я думаю, – говорит Эшли, – правильно было бы принести что-то такое, что можно оставить после себя. Чтобы видно было, что о ней кто-то заботится.
Когда лимузин проезжает мимо флориста, я прошу водителя остановиться. Минут двадцать мы обсуждаем, что привезти, и выбираем африканскую фиалку, решив, что она лучше всего подходит к горячему сухому воздуху дома престарелых.
Воняет в этом доме престарелых дерьмом.
– Наверное, с кем-то случилась неприятность, – говорю я.
Чем дальше мы уходим от входной двери, тем меньше пахнет дерьмом и больше – химией и стариками.
– Мы переместили вашу мать в палату на двоих, – говорят мне. – Ей нужно больше общества, – сообщает медсестра.
Я стучу в дверь – ответа нет.
– Мам, здравствуй, – говорю я, открывая дверь.
– Здравствуйте.
– Мама, это я. И я кое-кого с собой привел.
– Заходи, заходи!
Мы входим в палату, а там на другой койке женщина, и она думает, что мы к ней.
– Ближе подойдите, – говорит она. – Не очень хорошо вижу.
Я подхожу к краю кровати:
– Я – Гарри. Пришел к вашей соседке. Я ее сын.
– Откуда вы знаете?
– Когда я рос, она жила в том же доме. Как вас зовут?
– Не знаю. Да что толку в имени?
– Вы не знаете, где ваша соседка? Моя мать?
– У них там что-то вроде вечеринки с мороженым, сами себе его готовят, кому как нравится. Дальше по коридору, в столовой. А диабетиков не пускают. На нас надевают эти вульгарные браслеты. – Она поднимает руку, показывая желтый браслет с надписью заглавными буквами «ДИАБЕТ». На другой руке браслет с надписью «Не реанимировать». – Оттого у меня и глаза паршивые. Их сахаром забило.
Во время ее монолога в дверь вкатывается моя мать, держа двумя руками огромную порцию мороженого.
– Я услышала, что у меня гости, – говорит она.
У нее тоже браслеты на руках. На одной синий «Деменция», на другой тот же оранжевый «Не реанимировать».
– Я разговаривал с твоей соседкой.
– Слепая, как крот, – говорит мать.
– Но не глухая, – отзывается соседка.
– Как хорошо, что вы пришли, – говорит мама Нейту и Эшли. – Как дети?
– Бабушка принимает вас за Джорджа и Джейн.
– Она знает про маму? – спрашивает Эшли.
– Не говори о человеке в третьем лице в его присутствии. Это невежливо, – заявляет женщина на соседней койке.
– Рад тебя видеть, – говорит Нейт, обнимая бабушку.
– Все работаешь? – спрашивает мама у Нейта. – Накачиваешь эфир чепухой? А дети в школе? Тот, у кого проблемы, ему лучше?
– Дети восхитительны, – отвечает Нейт. – Каждый в своем роде талантлив.
– Откуда бы? – спрашивает соседка. – Они приемные, что ли?
– Ладно, мам, – говорю я. – Мы сейчас ненадолго, скоро приедем опять. Тебе что-нибудь нужно?
– Например?
– Ну, не знаю. Тебе виднее.
– В следующий раз, когда приедете, можете кое-что мне привезти, – говорит соседка. – Что-нибудь вкусненькое без сахара. Если я диабетик, это еще не значит, что я наказана. Посмотрите на меня: я не толстая. Я не переедаю. А вот она мороженое ест.
– Со взбитыми сливками, а не с помадкой, и с вишенкой сверху, – говорит мама и кашляет. – Черенок съела, забыла выплюнуть.
– На здоровье, – говорит соседка. – А я могла черенок вишни завязать языком в узел.
– Теперь уже не можешь, – отвечает мать.
– Еще как могу, – спорит соседка. – Девочка, дай мне его, и я вам всем покажу.
– Дать? – спрашивает меня Эшли.
– Не вижу причин отказывать, – говорю я.
Эшли идет в столовую и возвращается с мараскиновой вишенкой. Отдает ее маминой соседке, и алый сок капает кровью на белое покрывало. Старуха сует вишенку в рот, и видно, как она там ходит по кругу за шевелящимися щеками.
– С протезами труднее, – говорит она, делая секундный перерыв, – но у меня постепенно получается.
И – вуаля! – выплевывает вишенку в ладонь. Черенок завязан в узел.
– Как вы это делаете? – интересуется Эшли.
– Практика, – отвечает старуха.
– Ладно, мам, нам уже пора.
– Вот так сразу, – говорит соседка. – Вы же только пришли.
– Нас машина ждет на улице, долго рассказывать.
– Ну что ж, – говорит она. – В следующий раз и расскажете.
В понедельник рано утром дети уезжают в школу, увозя с собой ленч, который я сделал из оставшихся в холодильнике продуктов.
После их отъезда тиканье кухонных часов становится оглушительно громким.
– Эти часы всегда тут были? – спрашиваю я у Тесси. – И всегда вот так гремели?
Загружаю посуду в посудомойку, наливаю Тесси и кошке свежей воды, болтаюсь по дому и убираю вещи, пока уж совсем не остается никакой работы.
Хожу по дому кругами.
Куда уйти отсюда? Я представляю себе, как ухожу, – выхожу и уже не возвращаюсь. Собака на меня смотрит. Ладно, выхожу и оставляю почтальону записку, чтобы зверей отправили к Джорджу в дурдом. Животные очень полезны для душевнобольных.
До всего этого у меня была жизнь. Может, мне это только казалось, но иллюзия была полной. Я собирался что-то сделать…
Книга. Пришло время закончить книгу. И мне сразу становится легче, как только я вспоминаю, что было же что-то, была какая-то цель. Книга. Я вытаскиваю матерчатую сумку, где лежит рукопись на тысячу триста страниц, все покрыты сложным узором наклеек и флажков, расшифровать который кажется неразрешимой загадкой. Ставлю сумку на кухонный стол.
Сижу. Пот стекает по спине, хотя и не жарко. Сердце бьется быстрее и быстрее, мир катится к концу, дом вот-вот взорвется. Спешу к аптечке, принимаю таблетку из пачки с надписью: «В случае приступов тревожности». Принимаю лекарство Джорджа и думаю о Джордже. Надо уйти из этого дома. В нем холодно, адски холодно. Как можно быстрее собираю вещи, рукопись, пачки чистой бумаги. Если сейчас же не уйду, что-то случится. Хватаю свое барахло и выбегаю из дверей.
На улице светлое небо, воздух ровен. Я останавливаюсь и стою.
Книга. Я буду работать. Я поеду в библиотеку в город и буду писать свою книгу. Вот прямо сейчас.
Я сажусь в машину, ключей у меня нет – на мне брюки Джорджа. Бегу обратно в дом, хватаю ключи, телефон. Тесси виляет хвостом, будто думает, что я приехал за ней.
– Тесси, я в библиотеку, мне надо книгу писать. Веди себя хорошо.
Библиотека, последний раз обновленная в семьдесят втором году, для моих целей подходит идеально. Современный ее вид наводит на мысль об унитарианской церкви или общественном центре. В вестибюле стоит доска объявлений от пола до потолка, утыканная объявлениями об общественных программах «Кофе и беседа», «Мама и я», рядом с ней стол, набитый информацией по регистрации избирателей и брошюрами «Как подготовиться к катастрофе». Не могу не подумать о сирене гражданской обороны «Молния», которая все мои школьные годы раз в месяц срабатывала на три минуты в одиннадцать утра.
Оказавшись внутри, я раскладываю содержимое портфеля по длинному столу и начинаю читать то, что успел написать, стараясь быть одновременно критичным и доброжелательным – комбинация несовместимая. Я проскакиваю вперед, запоминая, где бросил текст. Когда я последний раз над этим работал? У меня с собой стопки бумаги и ручка, уже так давно не бывшая в деле, что работать не хочет, – я беру тупую половину карандаша, «гольф»-карандаш со справочного стола и возвращаюсь на свое место, думая, что надо бы, наверное, посмотреть, что есть нового в мире Никсонианы, и только потом двигаться дальше. Сам Никсон написал десять книг, и последняя, «Помимо мира»[2], была закончена за пару недель до смерти. Названия вроде «Помимо мира» меня напрягают, будто намекают, что автор в глубине души знал о близости конца. Первый том автобиографии Рональда Рейгана, выпущенный в начале шестидесятых, пророчески назывался «Где же остальной я?». Есть ли ниша еще для одной книги о Никсоне? Меня часто спрашивают, и я отвечаю: ну, вот вы слышали о поездке Никсона в Китай, а о его страсти к недвижимости в Нью-Джерси? А про его интерес к благополучию животных? Я просматриваю собрание библиотеки и нахожу на некоторых книгах следы перечитывания. У меня в нью-йоркской квартире есть экземпляры этих книг – я называю это собрание «Никсоновская библиотека», а Клер – «Твоя Никсоновская библиотека», в отличие от «Никсоновской библиотеки» настоящей.
Набрав большую стопку книг, я иду к столу регистрации выдач.
Задним числом я понимаю, что лучше было бы мне сесть с книгами, прочесть их и оставить на месте, где им и полагается быть. Я хотел их проверить для страховки, чтобы не оставить ни одного неперевернутого камня.
Кладу книги на прилавок и протягиваю женщине читательский билет.
– Это не ваш билет, – говорит она.
– Я его достал из кармана, – отвечаю я, вытягивая оттуда все остальное.
– Это не ваш.
– Вы правы, – говорю я. – Это моего брата билет. А это его штаны и его водительские права. Я для него беру эти материалы.
– Ваш брат жену убил, – говорит она.
Я перевожу дыхание.
– Мой брат не мог приехать и взять книги сам, поэтому я их беру для него.
– Я этот билет отмечу как краденый – против вас будут выдвинуты обвинения.
– В чем?
– Это не важно – в чем, – говорит библиотекарша. – Мы живем в сутяжном обществе, и обращением в суд люди выражают свой гнев. А на вашей репутации будет пятно.
– Верните мне билет.
– Ну нет, – говорит она. – Вот тут на обороте написано, что право пользования библиотекой может быть отозвано.
– Если это билет не мой, как его можно аннулировать?
– Недостаточное использование.
– Дело в моей теме? В Никсоне есть что-то такое, что вам не нравится?
– Нет, – отвечает библиотекарша. – Это вы мне не нравитесь.
– Вы же меня даже не знаете.
– И знать не хочу. Уходите, пока я вас не обвинила.
– В чем?
– В приставаниях.
На улице я спотыкаюсь о трещину в тротуаре, портфель вылетает из руки, рукопись – со всеми наклейками и прочим – рассыпается. Я на четвереньках собираю листы. Согнувшись, глянув вверх против солнца, я замечаю ночное книгохранилище. Про себя вспоминаю пару вещиц, которые мог бы сюда заложить как-нибудь вечером после закрытия.
Звонит телефон. Шарю по карманам, первым достаю телефон Джорджа, вторым свой – на экране высвечивается «Клер».
– Слушаю, – говорю я, все еще сидя на асфальте.
– Кто знает, как было на самом деле?
– Ты дома, – констатирую я.
– Кто знает? – повторяет она.
– Не знаю я, кто знает.
Я заканчиваю собирать бумаги.
– Ты понимаешь, о чем я.
– Если ты спрашиваешь, кому я говорил, то никому.
– А люди знают, – говорит Клер. – Все есть в «Нью-Йорк пост», с фотографиями окровавленного матраса, и ты там стоишь с совершенно идиотским видом.
– Видимо, я пропустил.
– Это внутри. А на первой странице, в правом нижнем углу, фотография – твой братец скованными руками сталкивает землю в могилу.
– Ты думаешь, это подстроил адвокат?
– Кстати, об адвокатах. Тебе он наверняка понадобится. И еще я вызвала компанию по перевозкам.
– Куда ты собралась? Тебе не надо переезжать, это же твоя квартира.
– Я – никуда. Это для тебя. Куда вывезти твое барахло?
– Сюда. На адрес Джорджа и Джейн.
– Отлично, – говорит она.
И пропадает.
Я поднимаюсь с земли, закидываю сумку на плечо и шагаю по улице, чуть кренясь набок. Прохожу мимо спортивного магазина с мячами и ракетками, мимо химчистки, захожу в «Старбакс». Пытаюсь выработать себе какой-то привычный распорядок. Делать то, что люди делают.
– Кофе медиум, – говорю я.
– Гранде?
– Медиум.
– Гранде, – решает она.
– Non parlo Italiano, – говорю я, показывая на чашку среднего размера.
Она дает мне обжигающий кофе, я сажусь за стол, распаковываю страницы рукописи и перекладываю их по порядку. На меня таращится группа женщин, одна прямо пальцем показывает.
– Что такое? – спрашиваю я громко, глядя на них в упор.
– А вы похожи на того типа, – говорит мальчишка, вытирающий столы пахнущей рвотой тряпкой.
– Какого типа?
– Который свою жену убил, нет? Она вот с ними сюда заходила после тренировок. Часто бывали. Вы тут человек новый.
Он начинает вытирать мой стол, словно намекая, что мне надо уйти.
– О’кей, – говорю я, встаю и кофе беру с собой – как-никак четыре доллара. Я вообще даже не хочу кофе. У входа стоит человек, похож на бездомного, и я пытаюсь отдать чашку ему.
– Вы мне отдаете свой кофе? – спрашивает он.
– Да.
– Вы его пили?
– Нет.
– А зачем мне ваш кофе? Может, вы туда чего подсыпали?
Я смотрю на этого человека и вижу что-то знакомое. Нечто среднее между дешевым автомехаником и Клинтом Иствудом.
– Понимаете, – говорит он, – дело в том, что я кофе не пью.
– А! – отвечаю я, случайно обжигая себе руку горячей «явой».
– Я сюда пришел за лимонным пирогом и чашкой чая.
Я киваю, все же думая, что откуда-то его знаю.
– Что ж, – говорю я, чувствуя, что сумка начинает сползать с плеча. – Всего наилучшего.
– И вам. Надеюсь, вы найдете, кому отдать кофе.
Я ставлю кофе на крышу машины, отпираю дверцу, кидаю внутрь сумку. Делилло, думаю я, захлопывая дверцу. Делилло, повторяю, заводя двигатель. Дон Делилло, известный писатель, черт меня побери. Можно было бы с ним поговорить про Никсона.
Включаю передачу и еду. Заднее стекло тут же покрывается черным кофе. В зеркале видно, как чашка прыгает за мной по мостовой.
Возвращаюсь в университет. Готов ли я к занятиям? Я читаю этот курс уже десять лет. Конечно, готов. Более того, я на автопилоте.
По дороге запутываюсь – никогда не подъезжал с этой стороны; обычно еду из дому и дорогу знаю наизусть. Опаздываю. В машине меня застигает телефонный звонок. Пытаясь вытащить телефон из кармана, задеваю бортом отбойник. Опять Клер. На этот раз не говорит ничего.
– Клер! – говорю я. – Алло, ты здесь? Ты меня слышишь? Клер, я в машине, еду в университет. Давай позже созвонимся.
Спешу забрать почту в деканате. В моем ящике ее очень мало. Открытка от студентки – извиняется, но должна пропустить два занятия, потому что серьезно заболела ее бабушка в штате Мэн. Приклеена марка из Дейтона-Бич, штат Флорида. К сожалению, подпись так неразборчива, что я даже не знаю, кто это так отличился. Остальная почта – межфакультетская переписка. «Декан вашего факультета хотел бы договориться о времени с вами побеседовать». Я засовываю голову в его приемную, говорю секретарше:
– Прошу прощения, я не уверен: вот это мне?
– Да, – отвечает она. – Он хочет с вами поговорить.
– Мы должны запланировать встречу?
Она ныряет в кабинет декана и возвращается почти в ту же секунду.
– Совместный ежегодный ленч в следующую среду. Он говорит, детали вы все знаете, у вас годы опыта.
– Отлично, – говорю я. – Спасибо.
Я отпираю дверь нашего кабинета на двоих: профессор Спайвак по вторникам, четвергам и пятницам, я по понедельникам и средам с двух до трех часов дня. Жду. Никто не приходит. Я вынимаю рукопись, ставшую моей спутницей, размашисто вписываю замечания, предлагаю для себя переделки, – преподаватель, проверяющий работу, только свою собственную. До занятий пять минут. Я запираю кабинет. На полпути через кампус мне едва не сносит голову «летающая тарелка» фрисби, ударившая в затылок. Никто не извиняется, не спрашивает, сильно ли меня ушибло. Я сую фрисби в сумку и иду дальше.
Стою в аудитории 304 Донцигер-Холла и приветствую каждого студента. Они едва удостаивают меня взгляда, разбредаясь по комнате.
– Добрый день. Надеюсь, каникулы у всех были приятными и плодотворными. Пришел срок сдачи ваших работ. Прошу передать их сюда, и начнем беседу о Никсоне, Киссинджере и парижских мирных переговорах.
Ко мне приплывает горстка работ. Глаз цепляется за заглавие: «ОТСОСАТЬ – или ВОЙНА. Парадигма тестостерона». Еще одно многообещающее: «Шашки, приятель и роль собаки Белого дома в формировании общественного мнения».
– Здесь что-то маловато. Кто еще не сдал работу?
У меня звонит телефон. Я отвечаю – только потому, что по какой-то идиотской причине не позволяю себе сбросить вызов.
– Привет, Ларри! У меня занятие, ты меня буквально посреди него застал, я тебе потом перезвоню, ладно? Мой адвокат, – говорю я студентам. – По неотложным семейным делам.
Одна из студенток фыркает. В этом есть и плюс: хоть кто-то из них следит за событиями.
Девяносто минут я разливаюсь соловьем о сложностях мирного процесса, начатого в шестьдесят восьмом после различных задержек, в том числе дебатов насчет «рассаживания». Северный Вьетнам хотел, чтобы конференция была за круглым столом с равенством всех участвующих сторон. Южный Вьетнам считал, что нужен только прямоугольный стол, физически иллюстрирующий, что в конфликте две стороны. Вопрос был решен так: делегации Северного и Южного Вьетнама посадили за круглый стол, а все прочие участники процесса расселись вокруг за индивидуальными квадратными столами. Я сообщаю детали о Никсоне, Генри Киссинджере, о роли Анны Шеннолт, организовавшей закулисный саботаж парижских мирных переговоров шестьдесят восьмого года. Тогда южные вьетнамцы прервали переговоры накануне выборов, что помогло Никсону избраться и проложило ему путь к продолжению войны. Киссинджер за свои «усилия» получил в семьдесят третьем Нобелевскую премию мира – вместе с северовьетнамцем Ле Дык Тхо, который от премии отказался.
Тут поток идей увлекает меня в сторону, и я потчую студентов рассказами о Марте Митчелл – не Маргарет Митчелл, авторе «Унесенных ветром», которая бросила приличного соискателя Джона Марша и вышла за Реда Апшоу (бутлегера, бившего ее смертным боем), потом бросила его и вернулась к Маршу. Нет, я про Марту Митчелл, жену бывшего генерального прокурора Джона Митчелла, он же «Уста Юга». Она пила по-черному, могла позвонить кому угодно среди ночи и гаркнуть: «Мой муж – генеральный, блин, прокурор гребаных Соединенных Штатов!» Вот про эту заведенную алкоголем миссис Митчелл я не могу не рассказать. Ее обвинения в том, что Белый дом участвует в незаконной деятельности, объявляли симптомом ментального расстройства и отметали. Потом она была полностью оправдана, и ее опыт привел к официальному признанию синдрома, получившего название «Эффект Марты Митчелл». Он заключается в том, что профессиональные психиатры воспринимают как бред рассказы пациента о событиях совершенно невероятных, – а события между тем оказываются вполне реальными.
Я разматываю, верчу, тщательно расплетаю нить повествования. Такого хорошего занятия у меня уже много лет не было.
– Замечания? Вопросы? – спрашиваю я. Студенты сидят не мигая, будто в ступоре. – Хорошо, тогда до встречи через неделю.
Я ухожу, исполненный энергии, и люблю Никсона еще больше. Еду к Джорджу, стараясь вспомнить, какая дорога туда ведет. Когда въезжаю в город, все уже закрывается – забегаловка, магазин дамской одежды. Возле киоска с мороженым стоит липкое семейство, капая вокруг шоколадом. Паркуюсь возле китайского ресторана. Красные неоновые иероглифы могут означать все, что угодно. По мне, так там написано: «Нажрись дерьма и сдохни» – по-китайски.
У меня с собой работы студентов. Заведение принадлежит семье китайцев, которые бешено кудахчут, разнося тарелки с дымящимся супом и идеальные холмики отварного риса. И снова звонит мой телефон.
– Клер, какой смысл звонить снова и снова, если ты ничего не собираешься говорить? Скажи, что хочешь. Знаю, я дерьмо, но слушать умею. Могу выслушать все, что ты хочешь сказать. Я в китайском ресторане. Заказал блинчики с луком, которые ты терпеть не можешь, и креветок в остро-кислом соусе. Да, я знаю, что у тебя на них аллергия, но у меня ее нет.
В доме темно. Тесси нервничает, я ее выпускаю пописать и даю сухого корма. Кошка трется о мою ногу, подергивая хвостом.
– Я о вас не забыл, – говорю я. – Разве я когда-нибудь о вас забывал?
И только когда Ларри звонит снова, я вспоминаю, что обещал перезвонить.
– Извини, какое-то очень странное время сейчас, – смеюсь я. – Жуть до чего странное.
Я сижу на диване с пультом в руке, перещелкиваю каналы, отмечая про себя, насколько велик экран – освещение комнаты резко меняется с каждым щелчком пульта. Мне старые черно-белые телевизоры нравятся больше – меньше нагрузка на глаза.
– Это Ларри, – повторяет он.
– Я… – начинаю я какую-то фразу.
– Молчи и слушай, – обрывает он. – У меня для тебя новость: Клер попросила меня ее представлять.
– Но ты ведь женат и счастлив?
– Представлять, а не жениться. Я буду ее адвокатом.
Я выключаю телевизор.
– Ларри, мы же друзья. Мы с четвертого класса знакомы.
– Вот именно, – отвечает он.
– Не понял?
– Я этого момента долго ждал. Никогда не забывал, как вы с твоим братцем меня третировали. Я же был новичком из Ньюарка.
– Ага, – говорю я, но на самом деле не припоминаю.
– Ты устроил танец «еврей-новичок!», а потом твой братец сказал, что я ему должен платить три доллара в неделю. Если жить хочу.
– Ты еще легко отделался. С меня он пятерку брал.
– К делу не относится. Клер считает, что у нее есть основания для претензий. У тебя есть адвокат? Кто-нибудь, к кому мне обращаться?
– Ты же мой адвокат.
– Уже нет.
– Не хочет ли Клер выбрать время, чтобы сесть и поговорить о нашем общем имуществе, пенсионных накоплениях и льготах по медицинской страховке, вообще обо всем таком?
– Нет. Она это все предоставила мне.
– А у тебя не будет конфликта интересов?
– У меня – нет.
– Ладно, если ты будешь ее адвокатом, кто будет моим?
– Ты никого больше не знаешь?
– Да нет. Вроде у меня нет приятелей «в законе».
– У Джорджа наверняка есть адвокат. Также я должен тебя попросить перестать звонить Клер. Она говорит, что ты продолжаешь ей звонить на сотовый и оставлять сообщения.
– Я этого не делаю. Звонки с ее телефона продолжаются, я отвечаю, но она молчит.
– Я не собираюсь влезать в игру «А он сказал, а она сказала». Это должно прекратиться.
Я молчу.
– Ладно, – продолжает Ларри после паузы. – Еще одно: будильник. Она говорит, что ты взял будильник с ее стороны кровати. Это черный дорожный будильник четыре на четыре дюйма, «Браун».
– Я куплю ей новый.
– Она не хочет новый. Она хочет получить обратно свои часы. – Долгая пауза. – Больше она ничего не просит: ни алиментов, ни какой-либо поддержки какого бы то ни было рода. Я уполномочен предложить тебе двести тысяч долларов за то, чтобы ты больше никогда к ней не обращался.
– Это меня ранит.
– Я могу добавить до двухсот пятидесяти.
– Не деньги ранят, а что Клер не хочет больше со мной разговаривать. Плюс еще оскорбление: она думает, что для этого ей нужно от меня откупиться.
– Так ты берешь двести тысяч?
– Двести пятьдесят.
– И вернешь ей часы.
– Отлично, – отвечаю я.
И разговор окончен.
Мне нужно воздуху. Пристегиваю Тесси поводок. Она упирается при выходе со двора, колеблется, и ближе к тротуару мне приходится просто ее тянуть.
– Пошли, Тесси! – говорю я. – Я знаю, что ты любишь дом, но собакам нужно гулять. И мне нужно гулять. Обойдем вокруг квартала и будем считать вечер завершенным? – Собака сидит у края газона – и ни с места. – Ну, понимаешь, без тебя мне будет не очень уютно. Человек, идущий сам по себе, выглядит подозрительно. Человек с собакой имеет правильный вид. Он при деле, выполняет свои обязанности.
Я как следует дергаю поводок, и Тесси с воем перелетает тротуар.
– Не ушиблась? Я тебя слишком сильно дернул?
Никогда не ходил по этим улицам ночью. Это слегка будоражит, пугает. Ощущение ложного спокойствия, длинные автомобильные дорожки, упирающиеся в дома – фонари включены, – излучают какую-то приятную меланхолию. Далекие голоса играющих детей, лающих собак.
По дороге Тесси подбирает и ест что-то странное, какие-то темные комья. Я свечу телефоном, чтобы лучше видно было. Похоже на лошадиный навоз, но это странно. Не видал я, чтобы тут табуны ходили.
На следующее утро звонит секретарша адвоката Джорджа:
– Ручка у вас есть?
– Да.
– У меня для вас информация. Вашего брата перевели в «Лодж», павильон «Мохонк», палата «Б». Вас просят представить список препаратов из его домашней аптечки. Дата, доза, аптека, врач. Также будет полезна любая информация о личном враче и психиатре. Просмотрите чеки по кредитным картам. Любая необычная запись за последние шесть месяцев была бы нам интересна. Потому что обвинение не снято. – Я сначала подумал, что она мне говорит, будто с кредитной карты Джорджа что-то пытались снять. Ну, как если вдруг блокируют карту, потому что кто-то пытался в Интернете купить по ней трактор. – Но она продолжает: – Окружной прокурор утверждает, что ваш брат ушел из больницы, имея умысел на причинение физического вреда.
– Ну нет, – говорю я, удивившись. – Я так не думаю.
Меня отвлекает движение за окном. Там на огромном и дорогом с виду коне неспешно проезжает женщина в полном костюме для верховой езды и с хлыстом в руке. На улице холодно. Из огромных ноздрей лошади клубится пар.
– У них там версия: убийство без заранее обдуманного намерения или с наличием такового. Главное – что не несчастный случай.
– Может, он пришел домой, потому что по собаке скучал. Он к ней очень привязан.
– Вдруг почувствовал неодолимый порыв в полночь удрать из больницы и дать ей печеньице?
– Вроде того, – говорю я.
– Ну-ну, мистер. Желаю удачи, – говорит секретарша. – Факсом вам скину, как проехать в «Лодж».
Ожидая факса, я нахожу в шкафу большой вещевой мешок и набиваю его футболками, тренировочными штанами, джинсами. Носки, белье, зубная щетка Джорджа, паста, бритвенный прибор, кроссовки, плавки – мало ли что. Лает собака – звякает почтовый ящик, и падает рукописная записка: «У нас для тебя кое-что есть». Открываю дверь…
На улице никого.
Отличный день для автомобильной поездки. Но я не перестаю удивляться, как далеко забрался в глубь штата этот «Лодж»: высоко в горах, сельский адирондакский особняк с привратницкой у въезда.
Оттуда выходит человек и просит меня открыть багажник. Зеркалом заглядывает под машину, обыскивает меня и сумку металлоискателем.
– Не возражаете, если я это пока у себя оставлю? – У него в руке монтировка. – Мы вас обратно без нее не выпустим, мы очень аккуратны, – говорит он.
На вершине холма машину принимает парковщик, и я иду с вещмешком к Джорджу.
Большой письменный стол, за ним – секретарша. Будто и не психбольница, а отель.
– Могу я увидеть брата?
– Фамилия?
– Джордж Сильвер.
– Посетители не допускаются.
Я показываю вещмешок:
– Мне было сказано привезти его вещи.
Она берет мешок, распаковывает, небрежно вываливая на стол одежду и белье.
– Слушайте, я же это аккуратно складывал!
– У нас тут психбольница, а не дом мод, – отвечает она, отдавая мне его электрическую зубную щетку, дезодорант и зубную пасту. – Только нераспечатанные упаковки и ничего электрического.
– Когда я смогу его увидеть?
– Вновь поступивший, пять дней без посещений. – Она складывает непропущенные предметы обратно в сумку. – Заберете или мне их выбросить?
– Заберу. Так – что дальше? Есть здесь кока-кольный автомат или заведение, где можно выпить кофе?
– В городе большой выбор заведений, где можно поесть.
– Послушайте, – прошу я. – У него умерла жена, и у нас не было возможности об этом поговорить. – Женщина кивает. – И я считаю этот проезд в ваше заведение возмутительным. Ехать три часа, чтобы – что? Забросить сюда чистые трусы?
– Хватит! – рявкает женщина. И снова успокаивается. – Могу вам дать экземпляр нашего рекламного фильма. – Она лезет под стол и придвигает ко мне плоский пакет. – Здесь вся информация о нас, с описанием программы. Реальную экскурсию мы для вас провести не можем: строго бережем тайну личности наших пациентов. Я отмечу, что вы просите доктора вам позвонить. Родственные посещения следует планировать заранее. Сюрпризы не допускаются – они слишком расстраивают наших пациентов.
– Я приехал издалека.
– Да, знаю. Хотите сами написать врачу записку?
– Засунь ее себе поглубже, – бурчу я, поворачиваясь к выходу.
Адвокату я звоню из автомата в «Бургер-кинге». Сотовый здесь бесполезен – сигнала нет. Скармливаю автомату монетки.
– Вы хотите, чтобы я обратился в суд с жалобой по поводу того, что у вас не приняли для передачи зубную пасту и ваши чувства оскорблены?
– Именно так. Я проехал весь этот чертов путь, чтобы его увидеть. Отправить все это я мог федексом. Они даже его зубную щетку не взяли, чему он рад не будет.
– Уверен, они ему скажут, что вы приезжали. Показаться – это уже что-то, – говорит адвокат. – А сейчас мне пора.
Без дальнейших объяснений он отключается.
На скоростной дороге на заправке телефон снова ловит сигнал, но перестает работать банковская карточка.
– Да, – говорит мне представитель банка из Индии, а не из Паттерсона, Нью-Джерси. – Ее действие прекращено.
– Почему?
– Защита от недобросовестного доступа. Вы знаете свой пароль?
– Иисус грядет! – кричу я. На меня оборачиваются.
– Без богохульства, – предупреждает человек в телефоне.
– Это не богохульство, это мой пароль.
Тишина, нарушаемая щелканьем компьютерных клавиш.
– Пятнадцать долларов в кафетерии больницы, покупка в садовом магазине?
– Да, это я платил. Кто заблокировал мою карту?
– Этого я вам сказать не могу, но вам высылаются новые карты. Вы их должны будете получить в течение недели, максимум – десяти дней.
– Вы можете послать мне карту туда, где я сейчас живу, потому что я не в городе?
– К сожалению, мы можем послать их только на тот адрес, который у нас записан.
– Убери сотовый! – орет на меня кто-то.
– Ты хочешь тут всех нас взорвать? – вмешивается другой.
– От машины своей отойди, кретин!
С заправочным пистолетом в одной руке и телефоном в другой я смотрю на них возмущенно.
– Ты читать умеешь, дебил недоделанный? – орет один из них и показывает на плакат над колонками: «Искра от сотового телефона или иного электронного устройства может воспламенить пары бензина. Не ведите разговоров и не набирайте текстовых сообщений во время заправки».
Я убираю руку с пистолета. Он выскальзывает из горловины и плещет мне на туфли. Отойдя от машины, я кричу громче:
– Я на заправочной станции в сотнях миль от моего отделения банка, – кричу я в телефон. – И я бы спросил ваше имя, но вы же назоветесь Джоном или Томом или еще каким-нибудь выдуманным именем, чтобы «звучало» по-американски, а на самом деле оно какое-нибудь Аби-Маню.
– Вы желаете говорить с супервайзером?
– Да, пожалуйста.
Я возвращаюсь к машине и запускаю мотор, собравшись в ожидании взрыва, которого не происходит. Трубку берет дама-супервайзер, я повторяю весь рассказ, упоминая в конце тот факт, что у меня нет наличных и я нахожусь на заправочной станции в сотнях миль от дома.
– Похоже, счет был заморожен из-за недопущения вполне законного действия, – говорит супервайзер.
– Вы заморозили мой счет, я этого не делал.
– Вам нужны деньги? – спрашивает она.
– Да.
– К этим счетам подключена кредитная линия, которая по какой-то причине не заблокирована. Можете брать оттуда. Доступная сумма – шестьдесят тысяч долларов, и ее можно снять в любом банкомате в количестве до тысячи долларов в день за вычетом транзакционных сборов.
В продуктовой лавочке заправочной станции я снимаю деньги и засовываю их в карман.
В город Джорджа я приезжаю уже под вечер – в медлительное время дня, когда все вроде бы повисает в воздухе незаконченным, пока наконец не нальют коктейли. Будь мы котами, мы бы спали.
Я еду не в дом, а в синагогу. Мне нужен совет. Паркуюсь. Выключаю мотор, но выйти из машины не могу. Как будто застрял. Как вы думаете, может быть, что раввин выйдет и поговорит со мной? Существуют храмы с въездом на машине? Я набираю телефонный справочник и узнаю номер. В синагоге установлена автоматизированная система. «Если вас интересует школа иврита – нажмите «два». Если хотите узнать расписание богослужений – нажмите «один». Чтобы соединиться с приемной ребе Шарфенбенгера, нажмите «три».
Я нажимаю «три», трубку берет женщина.
– Ни хао!
– Я бы хотел говорить с ребе.
– Ребе очень занят.
– Я недавно перенес утрату, ребе выступал на похоронах. Мы с ним пожали друг другу руки.
– Вы член конгрегации?
– Я – нет, а мой брат – да. У моего племянника здесь будет бар-мицва.
– Допустим, вы бы вступили в конгрегацию. Мы бы стали с вами разговаривать.
– Я здесь не живу.
– Вы делаете пожертвование?
В голосе женщины слышится что-то очень странное. Будто она переводит, а не говорит сама.
– Простите за нескромный вопрос, но у вас необычный акцент. Откуда вы?
– Я китайская еврейка. Удочеренная взрослая.
– Сколько вам было лет, когда вас удочерили?
– Двадцать три. Приехала семья искать младенца. Младенцы им не понравились, они взяли меня. Я как младенец. Я не имею образования. Я ничего не знаю. Для всех выгодная сделка. Мы шутим – я большая новорожденная. Мне не смешно. Мне нравится быть еврейкой. Хорошие праздники, вкусный суп. – Пауза. – Так какое большое вы делаете пожертвование?
– Вас следует понимать так, что я покупаю время ребе?
– Еврейская община нуждается во многом, сильно поврежденная фаянсовой пеламидой.
– Финансовой пирамидой?
– Да, деньги ушли в дым. Сколько вы будете давать?
– Сто долларов.
– Это нехорошо. Вы делаете лучше?
– Сколько бы вы предложили?
– Минимум пятьсот.
– Хорошо. И сколько времени уделит мне ребе за пятьсот долларов?
– Двадцать минут.
– Вы очень хороший еврей, – говорю я. – Хороший бизнесмен.
– Бизнесвумен.
Я диктую ей номер моей кредитной карты, и она меня переводит в режим ожидания на минуту. Слышна древняя музыка – марш евреев через пустыню.
– Карта отклонена.
– Почему?
– Не было сказано. Позвоните туда, потом позвоните мне опять. Пока, шлимазл[3].
Она правда сказала «шлимазл»?
Выезжая с парковки, я едва не задеваю всем бортом грузовик доставки.
В доме меня ждет другая записка, лежащая на полу под почтовой щелью:
«Я тебя работаю. Будь дома».
– Тесси, кто эти записки оставил? Ты видела, чтобы кто-то приходил? Или чья-то неизвестная рука бросает их в щель? И как эта рука выглядит? И что она от меня хочет?
Тесси на меня смотрит, будто говорит: «Слушай, друг, я вижу, что ты стараешься, но я тебя едва знаю, а тут столько последнее время всякой фигни творилось, что я даже не знаю, с чего начать».
Что-то изменилось. Ничего существенного, но такое чувство, будто вещи двигали, будто, когда я уходил, газета была снаружи… или внутри? И стопка почты, которую я держу возле двери, тоже по-иному смотрится. Банка крем-соды на столе. Тронул – холодная.
Сердце перескочило на передачу выше.
Я смотрю на Тесси. Она лупит хвостом.
– Эй? – говорю я. – Есть кто дома? – Жутковато как-то. – Эгей!
Сверху шум.
– Кто там? Натаниэл? Эшли? Отзовитесь!
Сердце стучит в ребра, будто хочет выскочить. Сложив руки рупором, я говорю басом:
– Я сержант полиции Спиро Агню! Мы знаем, что вы в доме. Выходите, положив руки на голову!
Громкий стук чего-то упавшего.
– Блин! – произносит кто-то.
– Ну, ладно, я сам поднимусь. Вынимаю из кобуры пистолет. А я не люблю, когда меня вынуждают доставать это тяжелое и мощное оружие. Уоллес, в сторону.
Четыре раза топаю ногой по нижней ступеньке – будто имитируя звук тяжелых шагов. Тесси на меня смотрит как на психа.
– Последнее предупреждение! Уоллес, звони, вызывай машину спецтехники!
Тесси смотрит на меня искоса, будто спрашивает: «Какой такой еще Уоллес, ты спятил?»
Я беру со стойки зонтов бейсбольную биту Нейта и направляюсь вверх.
– Не стреляйте! – кричит женский голос.
– Где вы?
– Я в спальне. – Иду, подняв биту, готовый ударить наотмашь. В спальне Сьюзен. В руках – охапка одежды Джейн на плечиках. – Вы меня не будете убивать?
– Я не знал, что у тебя есть ключ.
– Я взяла тот, что под фальшивым камнем.
Я смотрю на охапку одежды в ее руках.
– Нашла то, что искала?
– Я хотела взять какие-нибудь вещи Джейн, на память. Это понятно?
Я пожимаю плечами.
– Можно мне их взять?
– Бери что хочешь. Телевизор возьми – здесь по штуке в каждой комнате. Если нужно серебро, его полно внизу – в небольших бархатных мешочках.
– Мне на него посмотреть?
– Дело твое. Это была твоя сестра, и ты сейчас своих племянников обкрадываешь.
Я отхожу в сторону, пропуская ее к лестнице.
– А где у тебя пистолет?
– Какой пистолет?
– Да ты сказал, что у тебя большой страшный пистолет, а я вижу только биту Нейта.
– А, это было вранье. – Я отставляю биту в сторону и помогаю Сьюзен донести вещи до машины. – У нее еще наверняка туфель много осталось.
– Ноги у нее были хорошие, – говорит Сьюзен. – Легко подобрать.
– Хорошие ноги и норковое манто, – отвечаю я.
– А где оно, как ты думаешь? – спрашивает Сьюзен.
– Ты в шкафу в передней смотрела?
– Этот мерзавец убил мою сестру. Я хотя бы манто должна себе взять? – Сьюзен возвращается в дом, открывает шкаф в передней и роется. Находит манто, надевает и идет к двери. Там останавливается и оборачивается ко мне, будто спрашивает: «Ты хочешь мне помешать?»
– Я же сказал: все, что хочешь, твое. – Я подаю ей банку крем-соды. – Это тоже твое?
– Можешь взять себе, – отвечает она.
Я отпиваю глоток.
– Ты что-нибудь о почте знаешь? Кто-то мне в почту подсовывает странные записки.
– Какие?
Я показываю ей одну.
– Хана тебе, – говорит она.
– С чего вдруг?
– Наверняка это родственники тех, кого убил Джордж. Хотят поквитаться.
– Мне показать это полиции?
– Я тебе не советчица.
Она садится в машину и выезжает задним ходом.
Я направляюсь в хозяйственный магазин присмотреть систему защиты от взлома и купить ночные фонари и таймеры для освещения на втором этаже. Сьюзен ввалилась без предупреждения, в почтовую прорезь кидают записки. А если учесть, что последние двадцать два года я прожил в квартирке на одну спальню на высоте шестнадцати этажей от земли, можно понять, что мне неуютно одному в доме.
В пролете, где батарейки, какая-то женщина держит что-то запрятанное в наволочку и напряженно с этим предметом возится. Я не собирался таращиться, но почему-то наблюдаю. Наблюдаю, будто загипнотизированный, как она засовывает в наволочку руки и безуспешно пытается что-то сделать.
– Так что там в мешке? Зайчику нужна батарейка?
Она поднимает на меня глаза:
– Настолько очевидно?
Я пожимаю плечами:
– Да нет.
Она протягивает мне наволочку, я заглядываю внутрь. Огромное розовое дилдо с мешочком, набитым шарикоподшипниками, и с длинными кроличьими ушами.
– Просто заскрежетал и остановился, – говорит женщина. – Вот, нажмите кнопку.
Я нажимаю. Предмет делает пол-оборота, и раздается звук, будто машина не может завестись, только стартер завывает.
– Может, что-то сгорело, – говорю я.
– Ха-ха, – отвечает женщина.
– Серьезно, проблема может быть не только в батарейках.
Я беру у нее наволочку и осторожно, чтобы никто не видел, работаю руками внутри. Открываю отсек батареек, вставляю четыре новые, и – вуаля – зайчик готов к работе. Я его включаю и смотрю снаружи, как он вертится и пляшет.
– Настоящий диско-зайчик, – говорю я, отдавая наволочку владелице.
– Он еще изгибаться умеет, – говорит она. – Можно менять и угол, и частоту вибрации.
– Класс.
Зайчик в наволочке продолжает танцевать. Снаружи кажется, что в наволочке – змея.
– На всякий случай: этого просто не было, – говорит женщина. – Если я вас когда-нибудь снова увижу – мы не знакомы.
– Аналогично, – отвечаю я, оставляю ее с батарейками и иду в отдел систем защиты от взлома. Нахожу систему тревоги, которую можно «обучать». Покупаю ее, хотя не очень понимаю, что это обучение значит. Оказывается, просто программируется предупреждение. Можно сделать так, чтобы устройство кричало: «ГРАБИТЕЛЬ, ГРАБИТЕЛЬ!» или же «НАРУШИТЕЛЬ, НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ ТЕРРИТОРИЮ!». Громко кричала, или генерировала пронзительный сигнал тревоги, или записанное вами самим сообщение. Скажем, писклявый голос: «Милый, я же не просто так просила приказ суда, чтобы тебе запретили ко мне подходить».
Я кладу сумку в машину и еду в китайский ресторан. Там меня уже начинают узнавать.
– Вам то же самое или другое?
– То же самое.
– Одинокий вы человек, – говорит официант, когда приносит мне суп.
В доме Джорджа я снова кормлю и выгуливаю собаку, подключаю таймеры, устанавливаю лампы в комнатах Нейта и Эшли на включение в полседьмого вечера и отключение в десять. Комнаты прибраны и пусты, как на фотографии в каталоге, как нежилые. Детская комната – плюшевое хранилище сувениров опыта, коллекция предметов, отмечающих этапы детской жизни: камешек с пляжа, фишка из игры, сувенирная шляпка из семейного путешествия. Здесь этот опыт отредактирован так, чтобы аккуратно помещаться на полке. Все зафиксировано, будто жизнь разложена на стоп-кадры.
Тишина гнетет. Я думаю о Никсоне, записывающем каждую мелочь, о Никсоне и его бесконечных блокнотах и лентах, о Никсоне, его обширной и, увы, уличающей библиотеке записей. Я думаю о Ричарде М. Никсоне, названном в честь Ричарда Львиное Сердце, сына короля Генриха Второго, храброго солдата и барда, и понимаю, что недостаточно знаю о Никсоне и его отношении к всякому хламу. И делаю себе заметку: вернуться к этой теме.
Спускаюсь вниз и звоню детям в школу.
– Сейчас удобно разговаривать? – спрашиваю я у Нейта.
– Ага.
– Я не помешал ни урокам, ни тренировке по футболу?
– Нормально все.
– Угу. Я просто хотел узнать, как дела.
– О’кей.
– Дела о’кей – это отлично, – говорю я.
– Да никаких тут у меня дел нет, – говорит он и на секунду замолкает. – Только вот она не звонит, только слишком тихо здесь, и я все время забываю, что мамы больше нет, и так оно, знаешь, лучше. Лучше, когда забываю, лучше, когда она есть. А когда вспоминаю, сразу очень плохо.
– Могу себе представить. – Я замолкаю. – А когда тебе звонили родители? Было какое-то расписание, раз или два в неделю?
– Мама звонила каждый вечер перед ужином, от без четверти до без пяти шесть. А чтобы папа звонил, вообще не помню.
– Это как-то очень странно, – говорю я и замолкаю снова. – С Тесси все нормально. Я ее вывожу на прогулки – у меня такое чувство, что никто никогда этого не делал, ей не нравится выходить со двора, но как только я ее вытащил дальше подъездной дороги, так все стало нормально.
– Там невидимая ограда, – говорит Нейт.
– Ну, наверное. Она очень хорошо выдрессирована. Выходит со двора, только когда я ее вытаскиваю. Будто я ее заставлять должен.
– Потому что ограда бьет ее током.
– Какая ограда?
– Невидимая, я же сказал!
– «Невидимая ограда» – это не образ? Это на самом деле?
Нейт тяжело и демонстративно вздыхает.
– У собаки на ошейнике коробочка. Это передатчик. Когда ее выводишь, коробочку снимай. Иначе ее током бьет. Даже если с ней поедешь куда-нибудь на машине, все равно снимай передатчик.
Я смотрю на собачий ошейник. Коробочка там, вполне явная.
Нейт продолжает:
– Коробочка побольше вмонтирована в стену в прачечной, рядом с сиреной охранной системы. Она управляет этой невидимой изгородью. Инструкции ко всему в ящике, под микроволновкой.
– Поразительно, что ты все это знаешь.
– Я не дебил и живу в этом доме всю жизнь.
– Значит, есть охранная система? А я только что купил такую.
– Мы ее почти не использовали. Однажды она сработала и ужасно всех перепугала.
Я копаюсь в кармане и достаю чек из хозяйственного магазина.
– Там какой-то код или что? Чтобы включать и выключать систему?
– Все в инструкциях, – говорит Нейт. – Читай инструкции.
– Ага, ладно.
– Пойду я, – говорит Нейт.
А я думаю, что надо будет вскоре снова позвонить. Например, завтра без четверти шесть.
Эшли не может говорить – так сообщила ее соседка по комнате. Она в школьном лазарете со стрептококковой ангиной. Я звоню медсестре.
– Почему школа меня не известила?
– А кто вы? – спрашивает она.
– Я – дядя Эшли, – отвечаю я, ушам своим не веря.
– Дядей и тетей мы не извещаем, только родителей.
– Видите ли, – начинаю я, готовясь выдать ей полные уши, – вы явно отстаете на пару страниц…
В этот момент кошка отрыгивает волосяной шар, и я просто говорю, что позвоню завтра и надеюсь говорить с Эшли, а сейчас пусть передаст ей от меня привет.
– Ваше имя есть в ее списке вызовов? – спрашивает она, но я уже вешаю трубку.
Меня самого чуть не рвет, пока я убираю этот шар. Кошка и собака смотрят на меня с презрительным сочувствием, а я ползаю на коленях, оттирая ковер минералкой и губкой.
Закончив, я выхожу в аккаунт Джейн на «Амазоне» и посылаю Эшли несколько книг. Это проще простого: Джейн составила на компьютере список подарков. Я выбираю парочку и нажимаю «отправить Эшли». Трачу еще несколько баксов на подарочную упаковку. Набираю текст надписи: «Поправляйся скорее, – пишу я. – Очень любим. Тесси, твоя собака, и твоя кошка, она же Волосорыгательница».
Чуть позже звучит резкий щелчок почтовой щели, который застает Тесси врасплох. Она яростно лает, а на пол опускается очередная записка:
«Завтра наступит».
– Да, – говорю я Тесси. – Завтра наступит, и я должен быть готов. – Вздрагиваю от неожиданного звонка моего сотового. – Да?
– Это брат Джорджа Сильвера?
– Кто это?
– Говорит доктор Розенблатт из «Лоджа». – Слово «Лодж» звучит как-то по-особому, будто это шифр.
– Вы позвонили мне на сотовый.
– Вам удобно говорить?
– Я вас почти не слышу. Перезвоните по городскому, я в доме Джорджа.
Я спешу в кабинет Джорджа и успеваю снять трубку, как только телефон на столе начинает звонить.
Стою я на «другой» стороне стола, вижу кресло Джорджа, книжный шкаф за креслом, этикетки с ценами, не отклеенные от рам его картин.
– Мне сесть? – спрашиваю я.
– Как вам удобнее.
Я обхожу стол и устраиваюсь на кресле Джорджа лицом к фотографиям детей, Джейн, Джорджа, Джейн, детей, Тесси, Джорджа, Джейн и детей.
– Были у вашего брата какие-либо травмы головы, сотрясения, коматозные состояния, аварии – кроме последней, о которой у меня есть кое-какие заметки?
– Мне ничего такого не известно.
– Болезни – менингит, ревматическая лихорадка, малярия, нелеченый сифилис?
– Мне неизвестно.
– Злоупотребление лекарственными средствами?
– Что он сам говорит об этом?
Неловкая пауза. Доктор начинает снова:
– По вашему опыту: употребляет ли ваш брат наркотики?
– Я скажу так, – отвечаю я. – Как бы хорошо ты человека ни знал, что-то все равно остается неизвестным.
– Что вы можете сказать о его детстве? Сам он, похоже, мало что помнит. Вас наказывали, шлепали, избивали?
У меня вырывается смешок.
– Что смешного? – спрашивает доктор.
– Понятия не имею, – со смехом отвечаю я.
– Есть правила, – говорит он. – Рамки, существующие не без причины.
Перестаю смеяться.
– Нас не шлепали, не насиловали и никаким иным образом не использовали. Если кого-то избивали, то избивал обычно Джордж. Он забияка.
– Значит, вы подвергались агрессии со стороны брата?
– Не только я, но и другие, множество. Могу вам назвать имена и их количество – последствия еще ощущаются.
Психиатр хмыкает.
– Как бы вы описали своего брата?
– Большой. Неумолимый, – говорю я. – На самом деле он маленький и средний, а бывает и большой – флуктуирует. У него размер личности плавает, настроение плавает. Бывает очень нетерпим к другим.
– И ваш опыт общения с ним – это опыт общения с нетерпимостью?
Я секунду молчу.
– А вы? – спрашиваю я. – Как вы опишете себя и свою жизнь?
Он не клюет. Похоже, даже не видит крючка с наживкой.
– Наш подход состоит в рассмотрении личности как целого, с учетом семьи и общества, в котором мы живем. Психическое здоровье начинается с каждого индивидуума, но психическое нездоровье, если его не сдерживать, растет и ширится экспоненциально! – В голосе врача появляется и растет энтузиазм, будто мысль о поголовно психически больной стране манит его, как непочатый край восхитительных трудностей. Чтобы успокоиться, он переводит дыхание и говорит уже более сдержанно: – Мы выполнили для вашего брата ряд исследований: анализ крови, сканирование мозга, стандартизованные тесты интеллекта – и теперь хотели бы знать, согласны ли вы пройти те же исследования – в целях сравнения.
– Не горю желанием, чтобы у меня копались в голове.
– Не обязательно отвечать сегодня. – Он секунду молчит. – Разрешите еще вопрос: помимо матери, есть ли другие родственники поколения ваших родителей, которые еще с нами?
– Сестра моего отца.
– Вы не согласились бы нанести ей визит и задать несколько вопросов?
– Возможно, – говорю я, не желая сознаваться в собственном любопытстве: отчего же никто из всей семьи годами не разговаривал с тетей Лилиан. Произошла ссора?
Пока доктор говорит, я вхожу на компьютер Джорджа и машинально начинаю гуглить. Прежде всего смотрю прогноз погоды на десять дней, потом, не думая, ввожу в строку поиска «Секс+Пригороды+Нью-Йорк», и вываливаются тысячи сайтов, как будто сам компьютер включился на форсаж. Я ввожу зип-код, потом выполняю быстрый поиск. Я – МУЖЧИНА, который ищет ЖЕНЩИНУ в возрасте от 35 до 50.
Какой у меня и-мейл? – интересуется компьютер. Мой адрес, Mihouse3@aol.com, ощущается как что-то оставшееся в прошлом, принадлежавшее другому человеку в другие времена. Я создаю новый, AtGeodesHouse@gmail.com, свидетельствую, что мне уже есть восемнадцать, – и вуаля! Поразительно, как сразу можно найти в сети голую женщину.
Доктор задает вопросы про пищевые аллергии: арахис, пшеница, глютен…
– Джордж в еде привередлив? Были у него проблемы с одеждой, не раздражали его этикетки? Была привычка метаться? Разбрасываться?
– Привычка была разбрасываться камнями. По чужим головам.
– Это опять же ваше мнение.
– Брошенные им камни часто попадали в чужие головы, – перефразирую я.
– Небрежно целился, – говорит доктор. – Как у него было с едой?
– Едой он не бросался.
– Ел с удовольствием?
– У нашего поколения не было возможности что-то не любить. Ты либо ел, что дают, либо не ел вообще. Носил одежду, которую покупали тебе родители. Или ту, что доставалась тебе от двоюродных братьев. Особого выбора не имелось.
– У него бывали неприятности в школе?
– Школу он любил. Был для своего возраста крупным и потому многих там задирал безнаказанно. А дома, можете себе представить, главным себя считал отец, с чем Джорджу мириться было трудно.
Я вижу на экране монитора груди, много-много грудей. Видимо, женщины их фотографируют и вывешивают в сеть. А потом, в зависимости от того, насколько далеко ты согласен ехать, можешь выбрать себе для романа большие, маленькие, невероятно огромные, изящные или простецкие.
Я заполняю формы, описываю себя, свои хобби, доход, цвет глаз, прическу – все в спешке: поскорее бы найти женщину, которая захочет со мной познакомиться, а может, и не только.
– Итак, вы росли только вдвоем?
– Угу.
– У Джорджа и его бывшей жены было двое детей?
– Она не была бывшей. Она была его женой.
– У них было двое детей?
– Да.
– А эти дети – где они теперь?
– Уехали в школу. Нейт в порядке, Эшли в лазарете со стрептококковой ангиной.
У меня мысли перескакивают на то, что на экране. Я рад, что делаю это под наблюдением профессионала, имея возможность лишь часть внимания направить на то, что передо мной. И не менее рад, что мой наблюдающий профессионал – он же Джорджев мозгодав – понятия об этом не имеет. Останься я с этими сайтами наедине, они бы меня ошеломили. Это больше, чем я мог вообразить. Почему я никогда раньше этого не делал?
Доктор чувствует, что я отвлекся.
– Какие отношения у детей с отцом?
– Ну, поскольку он убил их мать, отношения переменились. Не думаю, что сейчас уже ясно, насколько. В последний раз они видели его на кладбище, когда хоронили мать.
Я просматриваю фотографии одну за другой – настоящий, из плоти, каталог человеческой анатомии. Кто знал, что люди вот так явно себя рекламируют, показывая обнаженные части. Это какое-то… царство животных.
А доктор продолжает говорить:
– Мы хотели бы пригласить вас приехать. Вы могли бы остаться с ночевкой, пробыть у нас некоторое время?
– Не мог бы, – отвечаю я, слушая вполуха. – Я живу в доме Джорджа, мне тут нужно обихаживать его собаку и кошку.
– Вы могли бы их привезти с собой – Джордж скучает по собаке.
В онлайне кто-то запостил: «У тебя груди полны молока? Я обожаю грудное молоко и был бы в восторге от знакомства с кормящей или беременной женщиной в целях дневного кормления. Если хочешь, я уткнусь лицом тебе между ног и языком доведу до оргазма, еще и еще, пока не попросишь перестать. Взаимность не требуется. Материально обеспечен, белый, женат, здоров, без вредных привычек, некурящий. Нежный и почтительный. Хотелось бы регулярных встреч на твоей территории».
– Может, вы бы сумели как-нибудь приехать? – снова спрашивает доктор.
– Я у вас был, – отвечаю я рассеянно. – Только вчера. Тащился целый день, везя его барахло, и не могу сказать, чтобы сохранил хорошие воспоминания о приеме.
– Понимаю. Но будем надеяться, что запланированный визит пройдет лучше.
– Ну, увидим.
Я за миллионы миль отсюда.
– Мы скоро вернемся к этому разговору, надеюсь, – говорит доктор.
– Конечно, – отвечаю я. – Звоните в любое время, я всегда здесь.
* * *
Сижу в сиянии компьютерного экрана, сгорбившись, как старик. Собака и кошка приходят меня проведать.
– Пригородная мамочка ищет компанию на ленч. БСС.
Я сперва читаю «БОСС» и не понимаю, то ли она ищет «босса», то ли хочет им быть. Перечитываю, гуглю «БСС» и узнаю, что это может быть все, что угодно – от Бостонского союза синефилов и до «Без скрытых смыслов». Последнее, наверное, и имелось в виду.
Где-то между половиной третьего и тремя утра я засыпаю за компьютером в середине чата, и женщина, с которой я разговаривал, спрашивает:
«Ты за рулем эсэмэски набираешь?»
«Нет, – печатаю я, – не за рулем уснул, а за столом».
Женщина, с которой я болтаю, – жена полицейского (или называет себя так), с нетерпением ждет мужа домой, – и говорит, что отвлекается от тревожных мыслей о работе супруга, занимаясь в сети виртуальным сексом.
На следующую ночь я снова там же, мне чего-то хочется, и я думаю, что приятно было бы есть китайский суп в компании.
Я заполняю собственный профиль. На компьютере у Джорджа есть его официальная рабочая фотография, снятая несколько лет назад, когда волосы у него были гуще, а сам он тоньше. Загружаю ее как свою.
«Один дома. Уэстчестер. Мужчина ищет подругу для игр, усталая душа просит пищи. Галантный кавалер предлагает удовольствие. БСС».
Не успел я это повесить, как приходит мейл от какой-то женщины:
«Я тебя знаю».
«Сомневаюсь», – отвечаю я.
«Нет, правда».
«Потрепаться я рад, но, уверяю, меня никто не знает».
«Меняемся фотографиями?» – предлагает она.
«О’кей», – пишу я. Это похоже на карточную игру «Рыба». На компьютере нахожу фотографию Джорджа в отпуске, с удилищем в руке. Загружаю.
Она присылает фото своего выбритого паха.
«Похоже, мы в разные игры играем», – пишу я в ответ.
«Джордж!» – пишет она, приводя меня в ужас.
«?» – отвечаю я.
«Я же на тебя работала. И про эту историю слышала».
«Не понимаю, о чем ты», – пишу я, отлично зная, о чем именно она говорит.
«Я – «папочкина дочка». Мы играем, будто мамы нет дома. Ты проверяешь у меня домашнее задание, я его тебе привожу в офис на восемнадцатый этаж, тридцатая комната, «Рокфеллер-плаза». Я делаю все, что ты мне говоришь – всегда папочку слушаюсь. Ты мне говоришь, чтобы я у тебя пососала, на вкус, говоришь, как тесто для пончиков. И ты прав. А потом я наклоняюсь над твоим столом, грудями сметаю с него авторучки, а ты меня имеешь сзади. Дверь офиса открыта – тебе нравится, что кто-нибудь может войти в любую минуту».
«Еще рассказывай», – печатаю я.
«Да ладно, Джордж, все путем. Я уже больше в этой сети не работаю. Ушла и нашла место получше. Моя начальница – лесбиянка».
«Я не Джордж», – пишу я.
«Фотография твоя».
«Я его брат».
«У тебя нет брата, ты единственный ребенок в семье, – пишет она. – Ты всем и каждому так говорил. Единственный сын, свет очей матушки».
«Это неправда».
«Без разницы, – пишет она. – Пока, Джордж, удачи тебе».
В домашнем офисе Джорджа я нахожу небольшой цифровой фотоаппарат, щелкаю себя несколько раз, гружу в сеть и вижу, насколько я плохо выгляжу, – а ведь даже понятия не имел. Ухожу в ванную наверху, кустарно привожу себя в относительный порядок, причесываюсь, бреюсь, подравниваю виски, гелем Джейн для волос укрощаю растительность на груди, которая в последнее время приобрела серо-стальной цвет. Надеваю одну из глаженых рубашек Джорджа и снова фотографируюсь, постепенно раздеваясь – рубашка расстегнута, рубашка снята, на штанах расстегнута пуговица, молния, сняты, остались только трусы. Загружаю фотографии, создаю профиль. «Вы слышали об Одиноком профессоре?»
Утром я думаю: происходило ли все это на самом деле или это был какой-то кривой эротический кошмар? Принимаю душ, делаю себе завтрак, вывожу собаку. К кабинету Джорджа не подхожу до половины десятого.
Мне пришла почта.
«Чтобы не было неясностей: я в переходном периоде. – Решаю, что это женщина, потерявшая работу или ведущая дело о разводе, но не угадываю. – Тридцать пять лет я прожила на свете как мужчина, но последние три года я женщина. Считаю себя обычной девушкой и ищу встреч с обычным парнем. Если вас это не интересует – вежливого «нет, спасибо» будет достаточно».
«Футбольная мамочка, время между играми. Встретимся в моем минивэне, я вся твоя».
«Я несчастна. О деталях говорить не буду. На прошлой неделе я увеличила дозы лекарств, и это дало мне силы писать эти строки. Теперь я хочу постели. Рада буду принять у себя или встретиться ради БСП. Пообедаем!»
Я пишу в ответ:
«Что такое БСП?»
«Бекон с помидорами, что же еще?»
«Извини, достают меня эти сетевые сокращения».
«Чего хочешь на обед?»
«Со мной просто, – ввожу я. – Тарелки супа хватит».
Она присылает указания, как проехать.
«Только без странностей, о’кей?»
«О’кей», – пишу я.
Не могу поверить, что вот сейчас это делаю.
Женщина живет в семи милях от дома Джорджа. Я доезжаю, паркуюсь, нервничая, на дорожке позади ее машины, звоню в звонок. Открывает совершенно нормальная женщина.
– Вы – это вы? – спрашиваю я.
– Заходи, – предлагает она.
Мы сидим у нее на кухне. Она мне наливает вина. Болтаем, она достает еду из холодильника. Я ловлю себя на том, что смотрю на большую грифельную доску с разноцветной то ли схемой, то ли расписанием. Там имена – Брэд, Тэд, Лэд, Эд и Я сверху вниз, а в верхней строке – Понедельник, Вторник… Против каждого имени свое расписание: футбол, занятия, поездка в школу, йога, ужин в складчину – и все соответствующими цветами. Эд красным, местоимение «Я» – желтым.
– У тебя свой малый бизнес?
– Нет, только семья.
– Черил – настоящее имя?
– Да.
– Не то чтобы сетевой ник?
– У меня имя только одно. Иначе бы я стала их путать. А Гарольд – твое настоящее имя или выбрал псевдонимчик покрасивее?
– Меня назвали в честь деда по отцу, – объясняю я. – Он из России притопал.
– Пойдем в столовую? – предлагает Черил и ведет меня туда. Там накрыт стол. Она приносит блюдо за блюдом – канапе, говяжье жаркое, тартинки с лососем.
– Это я не для тебя делала, – поясняет она. – Моя подруга – кейтерер, и я ей вчера помогала на одном мероприятии. Это остатки.
– Невероятно вкусно, – говорю я, набивая рот. – Давно уже ничего не ел, кроме китайской еды.
Меня подмывает спросить: «Часто ли ты это делаешь?» – но если она ответит «да», мне станет противно и придется уйти. А уходить я не хочу и потому не спрашиваю.
– Я должна посочувствовать? – спрашивает она.
– Не надо. Дети у тебя есть? – спрашиваю я, оторвавшись от второй порции жаркого.
– Трое парней. Тэд, Брэд и Лэд. Шестнадцать, пятнадцать и четырнадцать. Можешь себе представить? Я похожа на женщину, три раза рожавшую? – Она поднимает блузку, ошеломляя меня плоским животом и округлостями грудей.
– Очень красиво смотришься, – говорю я, вдруг чувствуя, что трудно дышать.
– Кофе хочешь?
– С удовольствием.
Она выходит в кухню, слышатся обычные звуки приготовления кофе. Потом она возвращается с чашкой в руке. Голая.
– Ой, – говорю я. – Я приехал познакомиться, поговорить. Мы же не обязаны… ну, то есть…
– Но мне хочется.
– Да, но…
– Что «но»? Никогда не слышала про мужчину, который откажется от секса на халяву, – возмущается она и подает мне кофе. Я его быстро выпиваю, обжигая горло.
– Просто я не…
– Что «не»? Ты, мальчик, давай формулируй. А то сейчас могут проснуться оскорбленные чувства.
– Я никогда раньше такого не делал.
Она смягчается.
– Ну, все когда-нибудь бывает первый раз. – Она берет меня за руку и ведет наверх. – Хочешь, я тебя свяжу? Некоторые не могут без этого расслабиться.
– Спасибо, мне и так хорошо. Предпочитаю свободу.
Наверху она спрашивает меня, как я насчет теста. Я сначала думаю, что она про деньги, но она смазывает руки и берется за мой орган с двух сторон, говоря, что сейчас будет его месить, как тесто. В первые мгновения в этом чувствуется что-то медицинское, но не так чтобы неприятное, а потом она берет его в рот, и я честно не думал, что это может быть так легко. Клер никогда не хотела его сосать – говорила, что у меня яйца пахнут сыростью.
И тут хлопает входная дверь.
– Мам, привет!
Рот сползает с меня, но рука держит крепко, будто чтобы не дать крови уйти.
– Тэд? – спрашивает она.
– Брэд, – отвечает ее сын, несколько обескураженный.
– Привет, деточка. У тебя все нормально? – говорит она туда, вниз.
– Клюшку забыл хоккейную.
– Ага, беги, потом увидимся. Да, я печенье испекла, на столе в кухне. Возьми себе.
– Пока, мам!
И дверь снова хлопает.
Мгновением раньше мне казалось, что меня инфаркт хватит, но женщина возобновляет свою умелую работу, и ощущение проходит моментально.
Я приезжаю домой, долго сплю и начинаю думать о завтрашнем дне. Наконец мне есть чем заняться, есть на что потратить время. Я собираюсь это делать каждый день. Вставать пораньше, с шести утра до полудня работать над Никсоном, обедать каждый день с новой женщиной, возвращаться домой, гулять с Тесси и как следует отсыпаться ночью.
Один сеанс, раз в день. А не попробовать ли два раза – обед и ужин – в те дни, когда у меня нет занятий? Нет, это было бы несколько слишком. Лучше размеренно, установить режим – как спортсмен для тренировок.
«Насколько далеко ты согласен?» – пишет одна женщина.
«В смысле?» – не понимаю я.
«Ехать насколько далеко».
Тут тонкий баланс. С одной стороны, не хочется слишком близко к дому – во избежание нечаянных встреч. С другой – мне неожиданно приходится думать о времени. У меня есть работа, и я не хочу проводить целый день за рулем. Это захватывает – все вместе, от домов и участков, на которых они стоят, и до различных вариантов меблировки и дизайна. Не больше двадцати пяти миль, это представляется разумным.
Как-то раз при уходе одна женщина хочет мне заплатить.
– Нет-нет, – отказываюсь я. – Мне было только приятно.
– Я настаиваю.
– Не могу. Тогда это получается как работа, как…
– Проституция, – подсказывает она. – Именно это я ищу. Мужчину, который способен взять за это деньги, ощутив и удовольствие, и падение.
– Не могу. Я это делал для себя, для собственного удовольствия.
– Да, – говорит она. – Но чтобы я получила удовольствие, я должна тебе заплатить.
И мне не удается отвертеться от двадцати баксов. Двадцатка – это все, чего я стою? Я думал, больше.
Может, это она и хотела сказать?
После этого в каждом доме и от каждой женщины я что-нибудь беру. Ничего крупного, ничего ценного, но какую-нибудь безделушку, мелочь, за которую зацепился глаз. Вроде одного носка.
Как-то в среду я с особенным нетерпением ждал раннего ленча, потому что моя корреспондентка оказалась очень остроумной и веселой.
«А в чем вообще суть? Зачем ты это делаешь?» – спросила она.
«Бог его знает, – отписал я. – Но очень не терпится с тобой увидеться».
Я приезжаю в дом – постройка-модерн со стеклянными стенами из ранних шестидесятых, вписанная в изгиб тупика. Мне виден интерьер дома – весьма стилизованный, как декорация к фильму, место, которое люди проходят насквозь, похожий на аэропорт или музей, а не на уютный дом, где живут. Звоню в звонок, и в дальнем конце дома неожиданно появляется девочка лет девяти-десяти. Идет из комнаты в комнату, от окна к окну, с ковра на ковер, доходит до двери.
– Мама дома? – спрашиваю я, когда она открывает дверь.
– А вам зачем?
– Мы с ней договорились сегодня пообедать.
– А, так это вы. Заходите.
Я вхожу. Прихожая – куб внутри куба. Я вижу кухню, гостиную, столовую и за ней – задний двор.
– Так мама дома? Наверное, мне надо уехать. Передай ей, что заезжал Джон. Джон Митчелл.
– Я вас могу покормить, – говорит девочка. – Сыр пожарить или что-нибудь еще.
– При всем уважении, я не уверен, что тебе можно пользоваться плитой, если мамы нет дома.
Она упирается руками в бока:
– Хотите правду?
– Да.
– Мама в городе. Они с папой вместе обедают сегодня – проверяют, могут ли снова поладить.
– Ну, ладно.
Я отступаю, готовый уехать.
– А потому, – она делает эффектную паузу, – мы с братом решили разыграть наш вариант телепередачи «Хищник». Папа говорит, поразительно, насколько человек бывает тупым. А мы знали: мама что-то крутит, только не знали что.
Тут из туалета выскакивает ее брат, заводит мне руки за спину и щелкает наручниками.
– Послушайте, – говорю я. – Во-первых, вы поступаете нехорошо. Я не совершал никакого преступления. Во-вторых, вы неправильно надели наручники. Если вы мне нарушите кровообращение, то ничего не добьетесь. Их нужно ослабить.
Мальчишка глазом не моргнет. Я дергаю руками в воздухе:
– Браслеты слишком тугие, больно.
– Так ведь это хорошо, – отвечает он. – И должно быть больно.
– Ослабь, пожалуйста, – снова прошу я. Мальчик качает головой. – Ослабь.
Он и ухом не ведет.
Я прикидываю, не рухнуть ли на колени, изображая пену у рта, или симулировать сердечный приступ. Непонятно, сколько в этом будет игры и сколько реальности, потому что приступ паники у меня уже есть. Думаю упасть, но смотрю на жесткие плитки пола и рассчитываю вероятность разбить коленную чашечку. Слишком она велика, чтобы рисковать.
– Сколько вам лет? – спрашиваю я, чтобы отвлечься.
– Тринадцать, – говорит девочка. – А ему почти одиннадцать.
– Ваши родители не знают, что вы пускаете в дом чужих? Откуда вам известно, что я не какой-нибудь страшный монстр, опасная личность?
– Мама не стала бы обедать с опасной личностью, – говорит мальчик.
– Я не очень хорошо знаю вашу маму.
– Посмотри на себя, – говорит девочка. – Не очень-то ты страшный.
– А не надо его еще и связать? – спрашивает мальчик. – Ноги не надо? У меня есть стропы для банджи-джампинга.
– Не надо, – отвечает она. – Он и так никуда не денется.
Мальчик дергает меня за руку – сильно.
– Сядь, – приказывает он, толкая меня, и я изумлен его силой.
– Эй, полегче! – отвечаю я.
Меня усаживают в гостиной – если это положение со скованными за спиной руками можно назвать сидением, – а сами дети становятся передо мной, будто ожидая, чтобы я что-нибудь сказал. Я принимаю подачу.
– Ну, хорошо. Так как это все задумано? Тут скрытая камера, что ли?
– Камера есть, – говорит мальчик. – Только батарейки нет.
Гостиная вся белая. Белый диван, белые стены. Единственный цвет – два ярко-красных мягких кресла.
– Ну, так в чем дело-то?
– В основном – что жизнь у нас паршивая, – говорит мальчик. – Родители на нас внимания не обращают, папа все время работает, мать то в компьютере, то еще в чем, и не помню, когда мы с ними чем-нибудь занимались веселым.
– И мы думаем, что у него интрижка, – говорит девочка.
– Что такое интрижка? – спрашивает мальчик у сестры. Она ему шепчет, и он брезгливо морщится.
– Почему вы думаете, что у него интрижка? – спрашиваю я.
– А когда у него звонит сотовый, он из комнаты выбегает. А мама вслед ему орет: «Если это с работы, почему ты не можешь здесь говорить?»
– Мы залогинились в мамин компьютер. Она тоже там всякое творит, и мы думаем, папа знает, но не уверены.
– Вы с ней сколько раз уже это делали? – перебивает сестру мальчик.
– Делали что? – Тут до меня доходит, о чем он, и я краснею. – Никогда. Мы даже не виделись ни разу. Только болтали в сети, и она меня пригласила на ленч.
– Вот так просто? – спрашивает девочка.
– Да.
– Жена у вас есть?
– Я разведен.
– Дети? – интересуется мальчик.
– Нет.
– Ладно, но у нее есть, – говорит девочка.
– Ага, – подтверждает мальчик.
– Понимаю, – говорю я. – Вы пытались говорить с мамой, спросить, как вообще быть?
– С ней говорить не получается. Она только вот это делает.
Мальчик показывает странные движения большими пальцами.
– Моя мать разговаривает только со своим «блэкберри». Весь день и всю ночь. В полночь она просыпается и общается с людьми из разных стран. Я слышу, когда она сидит в уборной, все стучит и стучит, – говорит девочка. – Отец однажды так взбесился, что спустил этот прибор в унитаз. Он застрял в трубе, пришлось вызывать водопроводчика.
– Неудачное решение, – говорит мальчик.
– Очень дорогое, – соглашается девочка.
Мы какое-то время сидим просто так. Дети приготовили перекусить: ананасовый сок, мараскиновые вишни, белый хлеб с американским сыром. Из-за наручников им приходится кормить меня самим.
– Постарайся не ронять крошек, – говорит девочка.
Вишней я чуть не давлюсь.
– Вообще-то стоило бы срок годности посмотреть у всего этого.
– «Макнуть чайный пакет» – это что значит? – спрашивает девочка, скармливая мне кусок белого хлеба без корочки.
– Не знаю, – честно отвечаю я.
Она промокает мне уголок рта салфеткой и дает отпить сок из пакета.
– Это такая штука, которую взрослые делают. Видел у мамы в и-мейлах, – говорит мальчик.
– Нехорошо читать чужие письма. Это дело личное, – говорю я.
– Без разницы, – отвечает девочка. – Потом погуглю.
Она убирает сок.
– У вас животные в доме есть? – спрашиваю я.
– Мне поручили за школьной рыбкой ухаживать на каникулах.
– А школу вы любите?
Они оба смотрят на меня, не понимая.
– Друзья у вас есть?
– Скорее знакомые. Мы с ними не друзья, но мы их знаем. Ну, типа, ты ходишь куда-нибудь и кого-нибудь видишь, можно рукой помахать, но мы ни о чем не разговариваем.
– А бебиситтера у вас тоже нет?
– Мама ее уволила. Решила, что не нужно ей, типа, чтобы чужой человек все время был, – отвечает мальчик.
– У нас электронный напоминатель есть. Мы каждый день в три часа дня должны на нем отметиться. Если нет, он нам гудит. Если не отвечаем, звонит по списку фамилий. И если никто нас найти не может, он звонит в полицию.
– А как вы отмечаетесь?
– Набираешь номер и вводишь код.
– Я свой всегда забываю, – говорит мальчик. – Потому он у меня на руке написан.
Он показывает руку. На ладони цифры «1 2 3 4».
– У нас чипы есть, – говорит он и встает.
– Спасибо, но я пытаюсь не есть лишнего.
– Не чипсы, которые едят, а чипы. Внедренный под кожу чип, чтобы найти можно было.
– Вот если кто захочет знать, где мы, – говорит девочка, – то увидит, что сейчас мы дома. Только я думаю, что они программу так и не инсталлировали. Или им наплевать.
– Послушайте, детки. Надеюсь, все не так плохо. Если не считать, что вы меня похитили и удерживаете против моей воли, вы с виду хорошие дети – приготовили правильную еду, волнуетесь о своих родителях и хотите, чтобы они проявляли о вас заботу, – то есть не просите чрезмерного. А что, если предложить родителям карточку «Освобождение из тюрьмы»? Предложите им свободу и попросите отдать вас в приемные семьи. Знаете, как много людей хотели бы иметь домашних – в смысле, приученных к горшку детей, белых и англоговорящих?
– Вау. Даже не думала об этом, – говорит девочка.
– Для вас может найтись милая семья, где будут следить, чтобы вы ходили в школу, делали уроки и чистили зубы.
– Может, ты нас усыновишь? – спрашивает мальчик.
Я отрицательно качаю головой.
– У меня явно стокгольмский синдром.
– Это что? – интересуется девочка.
– Потом погуглишь. У меня и без того хлопот полон рот: дети моего брата, и еще я хочу закончить книгу о Ричарде Никсоне – вы знаете, кто это был?
– Нет.
– Тридцать седьмой президент Соединенных Штатов, родился в городке Йорба-Линда, Калифорния, в доме, который его отец построил сам, своими руками. Никсон – единственный президент за всю историю США, который ушел в отставку.
– В отставку – это куда? – спрашивает мальчик.
– Это значит – бросил на полпути, – объясняет ему сестра.
– Ох, отец его наверняка взбесился, – говорит брат.
– Который сейчас час? – спрашиваю я.
– А что?
– Мне нужно занятие провести сегодня. Вы не против, если я зайду в туалет?
– Он вон там, – говорит мальчик.
– Ванна сидячая, – добавляет девочка.
Я сдвигаюсь к краю дивана и шевелю руками.
– Мне там понадобятся руки, без них трудно.
– Естественно, – отвечает девочка.
– Верно.
Мальчик подходит ко мне, пытается открыть. Возится с ключом.
– Не торопись, получится, – говорю я.
Почему-то эта ободряющая фраза его успокаивает, и через секунду наручники с меня сняты. Я иду в сторону туалета.
– У меня для вас новость, – объявляю я, выходя оттуда, искренне готовый драться, если придется. – Я ухожу. Но очень вам советую поговорить с родителями: вы заслуживаете лучшего. Хочу, чтобы вы знали: сегодня вы добились успеха, отлично меня убедили никогда больше, никогда не назначать свидания по Интернету – это небезопасно. Получилось как программа «Воспитание испугом», только для взрослых.
– Это что-то для геев, – объясняет девочка, старшая.
У меня уже не хватает запала исправлять.
– Ну, ладно, – говорю я, открывая дверь. У девочки на глазах слезы.
– Боюсь, это безнадежно, – вздыхает она.
– У вас вся жизнь впереди. В следующий раз, когда они оставят вас одних, позвоните в школу, объясните, что с вами обращаются как с младенцами, выслеживают, как потерявшихся собак. Пусть вы еще не взрослые, но у вас есть своя жизнь, и вам надо самим брать ее в руки.
– А он дело говорит, – заключает мальчик.
– Вы очень убедительны, – соглашается девочка.
– Ну, пока.
Я иду к машине, зная, что они смотрят мне вслед.
Представляю, как они переходят из комнаты в комнату, от окна к окну, смотрят, как я прохожу по продуманному ландшафту двора, топча идеально подстриженную траву, от которой воняет благополучием и аккуратным использованием пестицидов. Середина дня, середина недели и, если не считать процветающих растений, никаких признаков жизни.
Я уезжаю, думая, что они могли всерьез со мной разобраться. Могли связать, приковать к батарее – были там батареи? – или держать в подвале в порядке научного эксперимента. Могли распилить бензопилой на части и сложить в неиспользуемый лишний морозильник. Если они о родителях говорили правду, меня бы не нашли никогда, и уж точно до Четвертого июля. У меня голова идет кругом. Я побывал в заложниках, я – интернет-идиот, я – умственная развалина.
Что-то дрожит на ходу. Я думаю, что дело в машине, но останавливаюсь на красный, смотрю вниз – это у меня ноги трясутся.
Еду прямо в университет. Секретарша факультета смотрит на меня с тревогой:
– Вы, надеюсь, получили мое сообщение?
Я понятия не имею, о чем это она.
– Про ваш сегодняшний ленч. Получили?
Меня начинает пробирать пот.
– Я сегодня еще не ел.
Чувствую, как лезет обратно из глотки вишня.
– У вас был запланирован ежегодный ленч с доктором Шварцем.
Я начисто забыл.
– У него произошла неприятность, я вам оставила сообщение на домашнем телефоне. Профессор Шварц сегодня на завтраке с преподавателями сломал зуб, и, похоже, ему нужно будет пломбировать канал. Он все же хочет вас увидеть лучше рано, чем поздно, поэтому я переназначила на завтра – в полдень.
– Буду, – отвечаю я.
Присутственный час. Надо это прекратить. Что бы я ни делал (или думал, что делаю) с этими «леди на ленч», этому надо положить конец. Сегодня я легко отделался, в другой раз может выйти гораздо хуже. У меня на завтра намечено свидание с женщиной… единственное, что я о ней помню, – это что в чате она несколько раз ссылалась на сериал «Заколдованные» шестидесятых годов. Интуиция – а может быть, фантазия – мне подсказывает, что у нее на уме что-то магическое, и ей нужен человек, с которым можно будет разыграть свой сценарий. С другой стороны, сегодняшний опыт окрашивает эту мысль в черные тона – может, она какая-то пригородная тайная ведьма, практикующая свое темное искусство на собаках – тупых мужиках, которые клюют на приманку.
Пытаюсь войти в свою почту с университетского компьютера. Не получается. Несколько напряженное чувство: мне нужно отменить это сейчас, прямо сейчас – не через десять минут, а вот сию секунду, пока хватает силы и решимости, пока еще волю не потерял. Я поднимаюсь, разъяренный, к секретарше факультета.
– Есть причина, по которой я не могу выйти в сеть?
– Сервер накрылся, – говорит она.
– По всему кампусу?
Может быть, получится забежать в библиотеку и оттуда войти.
– Да, вся система рухнула. Если вам нужно почту посмотреть, могу дать мой телефон.
Она протягивает свой телефон – одну из этих штучек двадцать первого века с выдвигающейся клавиатурой.
Крошки. Если я войду в свою почту с ее «андроида», то оставлю след электронных крошек, тех же, что оставил бы, войдя с университетского компьютера. И, чуть приложив усилия – эквивалент небольшого электронного веника, – меня смогут проследить до самой этой «Заколдованной».
– Да нет, нет необходимости.
Все это вдруг оказывается не так срочно. И я даже рад, что сервер накрылся – он спас меня от меня самого.
Я иду в аудиторию, готовый обсуждать происхождение прозвища «Хитрый Дик». Начинаю я с введения в действие фигуры Хелен Галахан Дуглас, актрисы и жены актера Мелвина Дугласа, заседавшей в конгрессе три срока в сороковых – включая тот период, когда у нее был роман с конгрессменом и будущим президентом Линдоном Б. Джонсоном. В пятидесятом Дуглас конкурировала с Никсоном на выборах в сенат. Никсон сыграл на антикоммунистических чувствах, обвинив Дуглас в сочувствии «красным», и запустил кампанию по ее дискредитации, распространяя антидугласовские памфлеты на розовой бумаге. Хелен Галахан Дуглас выборы проиграла, но припечатала Никсона прозвищем, которое уже не отлипло – «Хитрый Дик».
Это прозвище потом вспоминали при различных поступках Никсона – от использования избирательного фонда в личных целях и до шпионажа, краж, подслушивания, заговоров в целях ниспровержения и еще похуже. Никсон, когда оказывался в невыгодном положении, становился очень злым, а если проигрывал или терпел крах, так еще злее. Слишком далеко заходила его уверенность в себе. В знаменитом интервью тысяча девятьсот семьдесят седьмого года с Дэвидом Фростом на вопрос о законности некоторых его действий Никсон с полной убежденностью ответил: «То, что делает президент, не может быть незаконным».
Аудитория таращит глаза. Я повторяю:
– То, что делает президент, не может быть незаконным. – Они кивают. – Это так? – спрашиваю я. – Они не знают, что ответить. – Вот и подумайте, – говорю я. – Фильм посмотрите.
Закрываю книги и выхожу.
– Про встречу со Шварцем забыл, – говорю я Тесси, не успев еще войти в дом. – Совершенно чудной был день, и забыл я совершенно. – Опускаюсь на колено, смотрю собаке в глаза. – Тесси, даже не буду тебе рассказывать, что я сегодня пережил. Ты все равно не поверишь.
Захожу на компьютер и отменяю завтрашнее свидание.
«В смысле – отменяешь?» – пишет мне женщина.
«В смысле, что должен отменить».
«Переносим на другое время?»
«Не в этот раз».
«Динамишь меня? Другого раза не будет».
«У меня нет выбора – годовой отчет на работе».
«Чтоб у тебя хрен отсох», – пишет она.
«Ваша враждебность лишает меня слов».
«Пошел ты…»
«Повежливее, – печатаю я. – Я же знаю, где ты живешь. Помнишь, ты мне адрес давала?»
«Это угроза? Мой муж тебе так морду набьет…»
«Твой муж? Ты же говорила, что не замужем и никогда не была».
«Упс. Ладно, будь здоров, успехов тебе с твоим отчетом. Насчет морды я пошутила, сам понимаешь. Захочешь передоговориться – напиши, что-нибудь придумаем».
Я выключаю компьютер – выдергиваю вилку из розетки. Мне мало его просто выключить. Экран чтобы не заснул, а почернел.
Ежегодный отчет, готовлюсь к ленчу со Шварцем. Выискиваю все связанное с Никсоном и освежаю знакомство со всеми недавними и выходящими в скором будущем книгами на эту тему. Пересматриваю список своих студентов и пытаюсь сопоставить лица с именами – на случай, если Шварц упомянет сына подруги приятеля. Изучаю годовой отчет факультета и собираю собственные мысли о положении высшего образования в стране. Выезжаю, напоминая себе, что я в своем деле знаток, что я уникален, что я – специалист по Никсону.
Шварц. С одной стороны, я его уже не первый год знаю. С другой стороны, он за это время изменился: меньше преподает, больше мелькает в телевизоре. Его специальность – военная история – делает его желанным комментатором почти по всем вопросам. Наверное, он сейчас попросит меня больше взять на себя, скажет что-то типа: хватит возиться с одной группой в семестр, ты столько можешь сказать, у тебя такой ценный опыт, и ты нам нужен, как никогда, – можешь взять еще одну-две группы?
Наш ленч перенесен из привычного ресторана, где я всегда беру шницель по-венски, а он – печенку с луком, и мы шутим насчет наших родителей и насчет того, что в молодости мы никогда такого не ели, но сейчас, когда нам столько, сколько было когда-то нашим родителям, можем себе позволить. А в этой забегаловке я могу думать только о том, как моя мать и ее друзья идут на ленч, где им дают творог и персики, у которых косточка не отделяется.
– Мы здесь из-за твоего зуба? – спрашиваю я у Шварца.
– С зубом все в порядке, – отвечает он. – Мы здесь потому, что времена такие. Мне суп, – говорит он официантке.
– В чашке или в тарелке?
– В чашке.
– А что еще?
– Минеральную, – говорит он.
– А вам?
Я сдаю назад. Вместо задуманного клубного сандвича с индейкой и жареной картошкой заказываю:
– Омлет по-гречески.
– Картошку по-домашнему или фри?
– Без разницы, – отвечаю я, вдруг встревожившись. – По-домашнему.
– Ну, как Хитрый Дик? – спрашивает Шварц.
– Хитрит, – отвечаю я.
– Ты когда-нибудь этот роман напишешь?
– Заметки пока. Это скорее не роман, а нон-фикшн.
– Заметки ты делаешь с той поры, как он в отставку ушел.
– Еще не закончено. Сюжет разворачивается, ситуация развивается, постепенно открывается все больше и больше интересного.
– Скажу тогда коротко: тебе много с чем надо разобраться. – Официантка еще воды не налила. – Ты у нас давно работаешь, но времена меняются…
– Ты считаешь, я мог бы прочесть другой курс? «Сопоставление двух президентств: Ричард Никсон и Джордж Буш-младший – кто подлее?»
– На самом деле мы хотим заменить это на нечто совсем иное. Взяли этого деятеля с новым подходом к преподаванию истории. Нацеленным в будущее.
– Это как – «нацеленным в будущее»?
В моем голосе больше возмущения, чем я хотел туда вложить.
– Вместо изучения прошлого – исследовать будущее. Мир возможностей. Мы думаем, это менее депрессивно, чем пересматривать в который раз фильм Запрудера.
– Ага, – говорю я. – Ага.
И ничего больше.
– Естественно, этот семестр ты закончишь.
Я киваю. Естественно.
Приносят еду.
– Надеюсь, ты с нами ссориться не станешь. Никсон умер, а твои студенты еще и не родились, когда он был президентом.
– Ты предлагаешь вообще больше не преподавать историю?
– Я говорю, что твоя группа – фикция.
– Прости, не могу согласиться.
– Да ладно, что ты знаешь? Мы твою группу заполнили остатками. Деточки, которым нужен один обязательный курс по истории и которым не нашлось места в группах Интернета и американы. Поверь мне, на Никсона им наплевать.
– Но у некоторых были очень хорошие работы.
– Купили в Интернете. Берут статьи о других людях и меняют имена – потому что, если честно, статьи о Никсоне сейчас никто не продает. Так что берут статьи про Клинтона и причесывают.
– Не может быть!
Я искренне поражен.
– Может. Мы даже провели в твоей группе эксперимент, переименовав «Мораль Моники Левински» в «Вероломство в Уотергейте». Работе, посвященной не взлому, а отсосу, ты поставил Би с плюсом.
– Может, я подгонял оценки под гауссиану?
– Может, ты витал в облаках.
– Я университетский преподаватель. Нам полагается витать в облаках. Заплаты на локтях и трубка – помнишь?
– Не в этом веке.
– Может, мне прочитать курс по убийству, по написанию мемуаров, по моему брату-убийце, по закату Америки? – предлагаю я.
Учитывая выбор момента, не могу не думать, что как-то все это связано с историей Джорджа.
Шварц невозмутим.
– Я тебя все равно не могу спасти – у нас денег нет. Напиши свою книгу, напиши несколько книг – тогда поговорим. – Он поднимает руку, подзывает официантку рассчитаться. – Знаешь, – говорит он, – сейчас некоторые университеты запускают в Интернете образовательные программы. Может, тебе стоит выбрать пару интернетских курсов, чтобы держать руку на пульсе.
– Вот так просто? – спрашиваю я. – После всех этих лет – что я получаю? Половину ленча – и будь здоров?
– Я не хотел тебя торопить, – говорит Шварц. – Но сказать мне больше нечего.
Ищу совета. В местной церкви – вечернее собрание. Я проезжаю мимо, вижу припаркованные машины, свет в старом здании. От него идет ощущение теплоты и гостеприимства. Я паркуюсь и захожу, брожу по залу.
– Собрание внизу, – говорит мне привратник.
Собрание уже идет. Я тихо вхожу и сажусь сзади. У собравшихся людей вид добрых знакомых – не просто, а давно знакомых. Я тут лишний. Вижу, как они слегка меняют позы, чтобы обернуться на меня. И наконец наступает мой момент.
– Здравствуйте, меня зовут Гнид.
– Здравствуй, Гнид, – говорят они хором.
Эхо их голосов заставляет меня вздохнуть. Это эхо принятия и доброжелательства.
– Что привело тебя сюда сегодня? – спрашивает кто-то один.
– Меня уволили. – Я останавливаюсь и начинаю снова: – Я имел жену своего брата, а потом брат пришел домой и убил ее. Моя жена подает на развод. А сегодня, после долгих лет работы в одном колледже, мне сказали, что это мой последний семестр. Я живу в доме брата, пока он в кутузке. Ухаживаю за его собакой и кошкой, а недавно начал пользоваться его компьютером – ну, выходить в сеть, заходить на разные сайты. Много раз устраивал себе свидания за ленчем с женщинами. Обычно ленча не было, был только секс. Много секса.
– Ты был пьян? – спрашивает кто-то.
– Нет, – отвечаю я. – Ни капли.
– Ты сильно пьешь?
– Я почти не пью. Наверное, мог бы пить больше. Я вас увидел с улицы через окно, от вас пахнуло теплом, дружелюбием, гостеприимством.
– Извини, Гнид, – отзывается хором вся группа.
– Но вам придется уйти, – добавляет руководитель, и у меня такое чувство, будто меня вышибли с острова.
Встаю со складного стула и выхожу, мимо старой алюминиевой кофеварки, на которой светится огонек готовности, мимо кварты цельного молока, сахара, пончиков и всего того, что я уже предвкушал. Есть у меня искушение отволочь себя в бар и стать за одну ночь алкоголиком, чтобы можно было вернуться.
– Есть места и для таких, как вы, – говорит один мужчина.
– Для каждого есть место на свете, – добавляет женщина мне в спину.
Я сижу на парковке, представляя, как дальше идет без меня собрание и все они обсуждают меня за глаза – или просто продолжают свое?
* * *
Когда я выезжаю, звонит Клер.
– Нам надо продать парковочное место, – говорит она.
– Конечно, – отвечаю я. – Можем, если ты хочешь. Ты уверена, что оно тебе не нужно?
– Ты забыл, что я не вожу машину? Продаю место соседям сверху.
– У которых ребенок плачет, а они день и ночь топочут у нас над головой?
– Да. У них минивэн, и они предложили двадцать шесть тысяч долларов.
– Двадцать шесть тысяч?
– Была война предложений – мест очень мало.
– Вот это да!
– Они платят наличными.
– Класс. Так что поделим пополам?
– На самом деле за место платила я, – напоминает она.
– Тогда зачем ты мне рассказываешь?
– А просто чтобы ты знал.
Она дает отбой.
Мне снится Никсон.
Никсон, «Ночные рассказы». Идея вот какая: у него был друг-конфидент, и каждую ночь, когда Никсон не мог заснуть, он звонил этому другу поговорить, и иногда друг ему читал из «Моби Дика», или «Записок из подполья», или из Пола Джонсона «Путешествие в хаос» или «Враги общества», а бывало, они вместе телевизор смотрели. Никсона ласкала мысль, что этот конфидент бодрствует, когда бодрствует он, Никсон, и ему никогда не приходится быть одному.
Одиночество его пугало.
В пятницу вечером, закончив работу и убрав швабру с ведром, уборщица Мария выходит из гардеробной, переодетая в уличное, и говорит мне:
– Мистер, я здесь больше работать не могу – очень уж я тоскую по миссис Джейн. И расстраиваюсь, когда сюда прихожу. Я вот работаю, а вы целый день тут сидите. Я вас не знаю. Ваш брат убил миссис Джейн. И что теперь будет с этими красивыми детками, которые остались без матери? Вы, пожалуйста, передайте им от меня очень большой привет, а с вами я прощаюсь.
Я достаю бумажник, даю ей пять сотенных банкнот. Она берет три и две отдает мне обратно.
– Долгов не имею, – заявляет она. Что она хочет этим сказать, я не знаю.
– Я передам детям, – говорю я.
– Хорошо, – отвечает она. – И еще у вас кончаются «Мистер Клин» и «Виндекс».
– Спасибо, Мария.
Утром в понедельник к дому подруливает грузовой фургон – большой, белый, а на крыше приделано огромное насекомое. Из фургона вылезают два парня в белом, выгружают большие белые аэрозольные канистры, надевают на лица маски и идут к входной двери. Перед дверью сворачивают, один налево, другой направо, и обходят дом, брызгая струями из канистр. Лай Тесси и тошнотворный запах заставляют меня открыть дверь и спросить:
– Чем могу служить?
От первого же вдоха легкие сжимаются в гармошку, глаза жжет. Эти двое снимают маски.
– Ужасающий запах, – заявляю я.
– Кто вы такой? – спрашивает второй из них.
– Я хотел бы у вас спросить то же самое.
– Мы два раза в год приезжаем по контракту; дата определяется заранее за пару месяцев.
– Ситуация переменилась, – говорю я.
– Теперь уже поздно: мы начали. Обработку прерывать нельзя – появляются устойчивые породы вредителей, здоровенных. Это очень, очень плохо.
Тесси лает.
– Господи, и собака здесь? Где хозяйка дома? Она всегда сажала кошку и собаку в машину и уезжала на весь день. Это же яд. Будете тут сидеть – убьет.
– Ну, хорошо, так что вы мне предлагаете делать?
– Не знаю. Вам не положено тут быть. А положено вам забрать котов с собаками и уехать на восемь часов минимум. Если астма у вас, то надольше.
– Ладно, вы хоть на время можете остановиться? Дать мне несколько минут, чтобы собраться?
– Зашибись! – говорит один. – Еще и половины десятого нет, а уже у нас весь день перепохаблен. Опаздываем же, блин. Опаздываем всюду. Да не стойте вы столбом! – Он поворачивается ко мне: – Собирайтесь!
Я беру Тесси на поводок, сую для нее сухари в карман. Ловлю кошку. Не могу найти ее переноску, как-то запихиваю кошку в холщовую сумку и выбегаю к машине под истошный мяв. Приношу ее лоток, ставлю на пассажирское сиденье, выпускаю кошку из сумки, ставлю еду и воду, приоткрываю окна щелочкой и возвращаюсь за Тесси. Я так рассчитываю, что мы с ней чуть пройдемся, и если будет нужно, я потом вернусь и увезу куда-нибудь и ее, и кошку. Не очень тщательно проработанный план.
Мы пускаемся с Тесси в путь по улице. Утро светлое, солнечное, не по-зимнему теплое, утро обещания, надежды, возможностей.
В парке пусто. Эта территория предназначена лишь для произрастания деревьев, снабжающих кислородом городок, – зеленый массив, на который показываешь рукой гостям, проезжая мимо: «Правда, у нас прекрасный парк, прелестная загородная зелень?» У дальнего края – парковка для автомобилей, теннисные корты, баскетбольные площадки, качели, шесты и лестницы для лазания. Мы с Тесси бежим через парк. На той стороне я привязываю ее поводок к качелям, и – просто чтобы убедиться, что во мне еще есть силы играть, – прыгаю на качели. Толстое резиновое сиденье точно такое, как мне помнится из детства. Я качаюсь, качаюсь туда-сюда, выше, выше и еще выше, а потом, на пике и высоты, и движения, запрокидываю голову, передо мной открывается небо, и зрение наполняется синим, голубым, пронзительными белыми облаками, идеальными белыми облаками, и на миг все более чем идеально, божественно. И тут я на махе качелей вперед открываю глаза, и скорость ошеломляет, желудок подкатывает к горлу, меня мутит, закрываю глаза – хуже, открываю опять – еще хуже. Я бросаюсь вперед, сваливаясь на четвереньки на землю, и сиденье качелей лупит в спину, будто хочет сказать: «Вот тебе, кретин!» Отказ вестибулярного аппарата? Я иду к горке, вскарабкиваюсь по лестнице. Гладкая прохлада поручней ощущается точно так же, как сорок лет назад. Наверху я отталкиваюсь и съезжаю вниз. Когда встаю, зацепляюсь пуговицей кармана, она рывком отлетает. Вопреки соблазну, вопреки отголоскам памяти (тело помнит, как перепрыгивать с перехватом от перекладины к перекладине, раскачавшись на руках, или качаться, зацепившись согнутыми в коленях ногами) я не забираюсь на лазалку. Я твердо уверен, что могу все это сделать, и хочу эту уверенность сохранить.
Думаю о временах, которых никогда не было, об идеальном детстве, существовавшем только в моем воображении. Когда я рос, детская площадка была не отлично ухоженным газоном, а скорее пустой парковкой. Нашим родителям не требовалось, чтобы у нас была безопасная и чистая игровая площадка. Они вообще считали игру потерей времени. Ресурсы были скудные. У кого найдется перчатка, у кого бита, остальные ловили голой рукой, терпя жалящий ожог ладони, и руки гудели не только от боли, но от звенящей радости успеха, когда выхватываешь мяч из синего неба, прервав его полет (и почти наверняка сэкономив кому-то стоимость замены стекла в окне). Короче говоря, если оказывалось время поиграть, то молчать надо было глухо – родители бы тут же нашли тебе работу.
Так что играли мы тихо и подальше от чужих глаз, игрушки делая из того, что попадалось под руку. Отцовская обувь превращалась в отличный военный флот, лаковые туфли девятого размера плыли строем по ковру, источая запах кожи и ножного пота. А что у меня было авианосцем? Да серебряное блюдо из столовой. Когда мать увидела серебряное блюдо в окружении туфель, она заявила, что я не в своем уме. Как она не понимала, что ковер – это океан, поле боя? Она обозвала меня никчемным негодником, и помню, как я плакал, а Джорджа все это очень веселило.
Рядом ходят кругами две женщины, одетые в спандекс, – спортивной ходьбой, на самой грани бега. Они смотрят на меня, даже показывают руками – будто одна другую просит подтвердить, что я на самом деле здесь. Машу рукой – они не отвечают.
У теннисного корта нахожу старый мячик и бросаю его Тесси. Она срывается за ним, и мне приходится за ней гоняться, чтобы его отобрать. Она в восторге от игры, от невероятной шири и свободы, и бегает, бегает кругами без конца, пока наконец не выкапывает себе ямку в земле и устраивается разодрать желтого пушистика. Сейчас не сезон. Половина деревьев стоит голая, другие в унылой вечной зелени, а трава – клочковатое чередование зойсии и плевела.
Я сижу. Сижу в парке, в чудесный зимний день, – один. Тут так чертовски пусто, что нервы начинают гулять, когда вот так один посреди чистого поля. И на меня что-то находит. Это не совсем приступ тревожности, а скорее облако. Тяжелая темная туча, и она еще грознее оттого, что небо совершенно чисто. Все прекрасно, или должно быть прекрасно, если не считать, что приехала газовая камера и выгнала меня из дома брата. Я утопаю. Прямо здесь тону, в траве, ощущая ее, эту глубину, – а может, она всегда тут была. Если меня припереть к стенке, я бы сказал, что всегда это знал, знал, что верчусь, дергаюсь и выворачиваюсь изо всех сил, чтобы упасть помягче, чтобы выплыть, чтобы просто, блин, выжить. Но сейчас я это чувствую, чувствую, как тысячу лет назад в родительском доме – может быть, пять минут на качелях открыли во мне какую-то заслонку, – но все возвращается каким-то психическим приливом, и во рту противный вкус, металлический, стальной, и острое чувство, насколько все в этой семье друг друга ненавидели, как плевать было нам на всех, кроме самих себя. Теперь я чувствую, как глубоко разочаровала меня вся моя семья, как я в конце концов скатился вниз, стал никем и ничем, потому что так куда безопаснее, чем пытаться быть кем-то и чем-то, кем-нибудь и чем-нибудь перед лицом такого презрительного пренебрежения.
Смотрите на меня. Смотрите, что со мной сталось, смотрите, что я сделал. И мотайте себе на ус. Я даже не с вами сейчас разговариваю, а сам с собой. Я сворачиваюсь в клубок, клубок, в клубок из одного человека в дальнем закоулке парка. И не могу на себя смотреть – видеть нечего.
И всхлипываю, рыдаю, плачу так глубоко, так горестно, как только раз в жизни бывает, это вой, это рев.
Собака подходит ко мне, лижет мое лицо, уши, уговаривает перестать, но я не могу перестать, я только начал. И много лет, кажется, буду я так рыдать – смотрите, смотрите, что я наделал. Я же даже не алкоголик, а вообще никто, хрен с горы, Джо с соседней улицы, и это самое худшее, наверное, знать, что ничем ты не исключителен, ничем ни от кого не отличаешься. До того и за исключением того, что случилось с Джейн, я был самый обыкновенный, самый нормальный, и с самой свадьбы даже не спал ни с кем, кроме жены.
Смотрите на меня: пусть никто не выйдет и не скажет это вслух, но вы знаете не хуже меня, что я настолько же убийца, такой же убийца, как и мой брат. Не больше и не меньше.
– У вас все в порядке? – спрашивает молодой коп.
Киваю.
– Нам тут позвонили, что в парке человек плачет.
– Это запрещено?
– Нет, но не так чтобы часто бывает, тем более в это время года. С работы домой идете?
– Отставлен. А сегодня у меня в доме работает дезинсекция, мне велели уйти. Мне показалось, что парк вполне для этой цели подходит.
– Обычно люди едут по магазинам, – говорит он.
– Вот как?
– Ну да. Когда не знают, куда себя девать, едут, расхаживают по моллам туда-сюда, ну, и деньги тратят.
– Не подумал об этом, – отвечаю я. – Я не часто по магазинам езжу.
– Большинство так поступает.
– Даже с собакой?
– Ну, есть моллы открытые, есть закрытые.
Коп стоит и не уходит.
– Не хочу показаться невежливым, но здесь общественный парк, и я никого не трогаю и никому не мешаю.
– Бродяжничать здесь нельзя.
– А как вы отличите бродяжничество от прогулки в парке? На табличке написано, что парк открыт с семи утра до темноты. Я сюда пришел с собакой подышать свежим воздухом. Видимо, это не одобряется? Видимо, в этом городе прийти в парк считается странным и подозрительным поступком? Знаете, наверное, вы правы, потому что тут никого нет, ни одного человека, кроме вас и меня, и потому приношу извинения.
Погрузив в машину и собаку, и кошку, я еду вести занятия. Приезжаю к университету, паркуюсь в тени, оставляю каждому из зверей миску с водой на полу и приоткрываю окна – на улице чуть больше пятидесяти[4]. Оставляю их, понимая, что им не хуже и не лучше, чем если бы я припарковался возле дома.
– Сегодня темой нашего занятия будет «залив Свиней»…
Несколько студентов поднимают руки и заявляют, что эта тема их не устраивает.
– Почему?
– Я вегетарианка, – говорит одна из них.
– Это непатриотично, – подсказывает другой студент.
– Понимая вашу заботу, я все же продолжаю, как запланировано. И прежде всего должен сообщить, что эта акция была патриотической, пусть и неудачной – вдохновленная любовью нашего правительства к нашей стране. «Залив Свиней» – не ресторан и не фуд-груп, а название неудачной попытки свергнуть правительство Фиделя Кастро руками эмигрантов, обученных ЦРУ. План был идеей Никсона и разрабатывался при поддержке Эйзенхауэра, но приведен в исполнение был лишь после того, как пост президента занял Кеннеди. В ретроспекции идея новой администрации взять на себя ответственность за выполнение тайной операции, запланированной прежней командой, кажется сомнительной. Роль Никсона в организации обучения кубинских изгнанников силами ЦРУ была весьма значительной, и об этом написано в книге Никсона «Шесть кризисов». Все же вполне можно предположить, что многие дела в нашем правительстве передавались от одной администрации другой – что показывает история войны во Вьетнаме или более близкой к нашему времени – в Ираке. Провал попытки Кеннеди свергнуть Кастро, хаос, в который превратились тщательно разработанные и вдруг измененные планы, разозлили Никсона и его «коллег» до невероятной степени. Интересно отметить, что некоторые участники этого события со стороны ЦРУ снова всплыли в истории Уотергейта.
Студенты смотрят на меня пустыми глазами.
– Что-нибудь из сказанного вам знакомо? – спрашиваю я.
– Не-а, – отвечает вегетарианка.
Я несколько отпускаю веревку, даю разговору уйти в сторону. Говорю о том, что история любит повторяться, о важности осознания самих себя, своих корней. Мы говорим об истории как о нарративе, о разворачивающемся повествовании, куда вписывается и малое, и огромное. Мы говорим о том, как мы узнаем новое, как ведем исследование, что значит изучать, что значит продумывать. Говорим об исторических документах, о том, как изменилась жизнь в эпоху Интернета и дисковых накопителей. Я спрашиваю, с какими материалами они работают.
– С текстами, – говорят они. – Как вот если с кем-то встречаешься или с кем-то ругаешься – текстовые сообщения сохраняешь.
– Мы их не распечатываем, – добавляет кто-то. – Это неэкологично.
Я спрашиваю, какие у них первые воспоминания, когда они узнали, что существует большой мир, кто самый влиятельный человек в стране. Обычно это бывает кинозвезда или спортсмен-звезда, но не президент.
Я напоминаю, что они сейчас должны работать над статьей, в которой им полагается определить и сформулировать собственные политические взгляды и противопоставить их или сравнить со взглядами ведущих политических фигур.
– Это же трудно, – говорит один студент.
– Для некоторых, – соглашаюсь я, резко заканчивая занятие.
Я возвращаюсь к машине. Кошка с собакой живы-здоровы, хотя вонь чудовищная. Кошка в приступе паники разодрала пассажирское сиденье и использовала его как туалет. Домой еду, дыша только ртом.
В доме на полу нахожу записку. «Тебя ждет большой сюрприз».
Запах дезинсекции все еще держится. Достаю всякие тряпки-щетки-жидкости для чистки и возвращаюсь к машине. Кошку отношу в дом – надеюсь, астмы у нее нет, – счищаю дерьмо и отмываю разодранный салон, насколько это возможно.
Из подвала вытаскиваю старый сетчатый шезлонг, устанавливаю его на заднем дворе. Нахожу старый арктический спальник, как-то устраиваю себе постель и заваливаюсь спать. Просыпаюсь только от лая Тесси. Выходя из-за дома, замечаю стоящий у тротуара фургон.
Открывается пассажирская дверь, оттуда выходит человек азиатской наружности и держит в руках белый квадратик. Записка!
– Что вам угодно? – спрашиваю я.
– Меня весьма достал человек, который тут живет. Вы его знаете?
– Кто это?
– Некто Сильвер.
– Я Сильвер.
– Где вас носит? Я вам оставляю сотни записок, как забытая любовница!
– Каким образом это со мной связано?
– У меня для вас большая посылка. Я многие недели езжу тут с вашим барахлом. Надо бы дополнительную плату взять.
– Что за барахло?
– В моей машине ящики вашей жизни. Куда их вам?
– Ящики моей жизни?
– Барахло из вашей квартиры.
Он открывает задний борт фургона.
Азиат и его напарник вносят в дом коробку за коробкой. В гостиной у дальней стены они возводят новую стену из коробок, несут еще и еще, и комната превращается в инсталляцию, в декорацию пещеры. Что поразительно – все коробки совершенно одинаковые: белый картон без маркировки, каждое ребро на четырнадцать дюймов. Если у меня и был какой-нибудь предмет, не влезающий в эти габариты, мне его уже никогда не увидеть.
Я расписываюсь за доставку и даю каждому по двадцать долларов.
– После такого трудного, это нам все?
– Я потерял работу, – говорю я. – И жизни у меня тоже нет.
Не могу начать распаковывать. Могу только продолжать делать то, что делал, – возвращаюсь во двор. Когда темнеет, захожу в дом, делаю себе сандвич, достаю одеяло и подушку и снова на улицу. Тесси не хочет – она свернулась на своей лежанке и отказывается шевелиться.
Я сплю один в шезлонге на заднем дворе. Никогда раньше не спал ночью на улице. Всегда хотелось, но, честно говоря, боялся. А сейчас я думаю: а что такого? Мне совершенно нечего бояться. На самом деле я даже стал человеком, которого боятся.
Рано утром, когда выгуливаю Тесси, все еще в той же одежде, что накануне, только теперь мятой и потной, меня замечает вчерашний коп. Останавливает свою патрульную машину и спрашивает, что я тут делаю.
– Собаку выгуливаю.
– Где вы живете?
– Вон там, – отвечаю я.
Он меня провожает до дома и, похоже, недоволен, когда я достаю из-под искусственного камня запасной ключ, чтобы войти в дом.
– Сейчас почти никто запасным ключом не пользуется, – говорит он.
Я пожимаю плечами, открываю дверь. На полу записка: «Ты гад. Ты еще заплатишь».
Я показываю полисмену инсталляцию «Моя жизнь» из белых картонных коробок. Провожу для него экскурсию по дому, в спальню наверху, объясняю, почему нет ламп при кровати. Указываю в сторону кабинета Джорджа, где много семейных фотографий из «старых добрых времен», что бы это ни значило.
– Похоже, вы на своем месте, – говорит коп, уходя. – Берегите себя.
Это происходит чуть позже, когда я чищу зубы. Будто вода ворвалась потоком, будто я тону. Я чищу зубы, полощу рот, смотрю на себя в зеркало. У меня болит голова, болит глаз, и вдруг вижу, что мое лицо раскалывается и половина его опадает, будто перед плачем. Просто опадает. Я хочу состроить гримасу, хочу осклабиться – едва улыбается половина рта. Как будто я сам над собой издеваюсь, будто мне вкололи новокаин. Ручкой зубной щетки я трогаю лицо, чуть не протыкаю щеку – ничего не чувствую. И понимаю, что как-то оползаю, как поврежденная марионетка. Работаю только одной рукой. Хромаю, выходя из ванной. Ощущение, будто голову завернули в пластик: не то чтобы боль, а размягчение, будто я плавлюсь и стекаю по собственной шее. А лицо в зеркале продолжает опадать, совсем провисает – я сразу старею на сотню лет. Хочу поменять выражение лица – и не могу.
Я говорю себе, что это пройдет. Просто мне попало что-то в глаз – мыло, скажем, – и вымоется слезами.
Выхожу из ванной, одеваюсь, – кажется, часы уходят. Я измотан. Я даже не знаю, лечь или все-таки двигаться. Соображаю, что мне нужна помощь. Собака на меня смотрит странно.
– Что-то случилось? – спрашиваю я. – Не могу понять, что говорю. А ты?
Правая нога – как резиновая лента, пружинит, выскальзывает из-под меня. Я хочу позвонить своему доктору, но не только номера его не помню, а вообще с телефоном не управляюсь. Ладно, думаю, сам себя в больницу отвезу.
Выбираюсь как-то из дому и влезаю в машину. Ставлю рычаг на задний ход и тут соображаю, что ключа у меня нет и мотор не работает. Тогда снимаю ногу с тормоза и выхожу.
Машина катится по дорожке.
Меня рвет там, где стою. Машина выкатывается на улицу, под колеса едущей по дороге. Столкновение.
Почему-то я еще стою на дорожке, рядом с лужей рвотных масс.
Прибывший коп – тот самый, что помнит меня по парку.
– Как можно так с утра напиваться? – спрашивает он.
Я не могу ответить.
– Его не было в машине, – говорит женщина из соседнего дома. – Он просто так тут стоял.
Я пытаюсь сказать: «Больница», – не получается. Пробую произнести «Скорая» – слово расползается.
– ДЕБИЛ! – говорю я вдруг совершенно четко.
Показываю жестом, чтобы мне дали перо и бумагу. Тем же жестом, которым в ресторане прошу счет, пожалуйста. Показываю: написать. Мне кто-то дает бумагу и ручку.
– Заболел, – пишу я большими дрожащими буквами. Это усилие меня добивает, я падаю на землю.
– Может, воды ему, – говорит кто-то. Я удивляюсь: полить? Как растение?
«Скорая». Очень громко. Все слишком, все обидно, все оскорбительно. Слишком быстро, слишком медленно. До тошноты. Никогда так не тошнило. Может, меня отравили, думаю. Может, в этом дело, в этом спрее, а может, в пещере из коробок в гостиной, может, она источает ядовитые пары, потому что прежняя моя жизнь гниет в этих ящиках и испускает миазмы. От этих мыслей я начинаю беспокоиться, что у меня логика расшаталась.
Нарушение кровотока, тромб, инсульт, утечка в голове. Рентген, МРТ, какой-то анализ крови, тканевый активатор профибринолизина, аритмия, эндоскопия артерий, церебральная ангиопластика, эндартерэктомия сонной артерии. Стент.
А все Джордж виноват. Джордж со своим письменным столом, со своим скоростным Интернетом. Во всем он виноват: в том, что я слишком много часов посвящал той деятельности, которую открыл для себя недавно – тут и физическое истощение от избыточного, – ох, чересчур избыточного! – секса, и напряжение, травма. Во всем виноват Джордж и его аптечка. Джордж, «работник новостной программы», считал, что должен знать все обо всем. Вот и аптечка у него была набита всякими виаграми и прочей дрянью. Комбинация его компьютера, его аптечки и событий последних недель – конкретно, я про Джейн, – вызвали у меня что-то вроде мании, сексуальное безумие, резко оборвавшееся вот здесь, на каталке в отделении «Скорой помощи».
Это что было – всерьез, оно, – или легкая дрожь, предупреждение? Мне становится лучше? Ощущение снящегося под водой сна уходит?
Над моей каталкой стоит сестра.
– Мистер Сильвер, проблема с вашей страховкой. Похоже, она отменена. У вас есть с собой действующая страховочная карта?
– Тесси.
Я пытаюсь объяснить, что некому покормить Тесси и погулять с ней. Но всем наплевать, никто внимания не обращает, пока я не выдергиваю иглу капельницы.
– Кто-то, чтобы погулял с этой проклятой псиной.
Меня стараются уложить обратно, спрашивают, есть ли собака на самом деле, и сообщают, что есть волонтерская программа ухода за животными.
– Позвонить моему адвокату, – говорю я.
Мне приносят телефон.
Не знаю, почему номер Ларри выделяется как определившийся на моем телефоне. «Трейн и Трауб», 212-677-3575.
– Ларри, – говорю я. – Скажи Клер, что у меня инсульт.
Сам слышу, как получается: «Гарью жуй эклер меня несут».
– Как? – переспрашивает Ларри.
Я стараюсь отчетливее:
– Ты не мог бы сказать Клер, что у меня инсульт?
– Это ты, что ли?
– Кто ж еще?
– Ты решил доставать меня звонками?
– Нет.
Слышу свой голос. Звучит так, будто я носок жую.
– Не стану я ей говорить, – отвечает он. – Это манипуляция. И откуда вообще я знаю, что у тебя инсульт, а не спьяну мордой грохнулся?
– Я в приемном отделении, Ларри. Меня тут спрашивают про страховку, я им только отвечаю «не волнуйтесь, есть у меня страховка».
– Нет у тебя страховки. Тебя Клер исключила. Я исключил по ее просьбе.
Я снова блюю, размазывая рвоту по проводам электрокардиографа.
– Поскольку вы официально продолжаете состоять в браке, у тебя кое-какие возможности есть. Ты можешь оспорить это решение.
– Ничего не могу оспорить. Едва могу говорить.
– В больнице может найтись адвокат.
– Ларри, пожалуйста, попроси Клер прислать мне по факсу копию страховочной карты, – прошу я, и сестра забирает у меня телефон из руки.
– Мистера Сильвера нельзя волновать – у него мозговые явления. Волнение при этом диагнозе никак не показано.
Ларри что-то ей говорит, и она отдает мне трубку.
– Ваш друг хочет сказать последнее слово в разговоре.
– Ладно, – говорит мне Ларри. – Я все сделаю, улажу вопрос. Считай это одолжением с моей стороны. Последним, которое я тебе делаю.
Интересно, Никсону тоже пришлось разбираться с такой фигней или он просто залег на дно с тарелкой консервированных спагеттиос?
У него был флебит, у Никсона. В шестьдесят пятом, когда он ездил в Японию, впервые проявился – в левой ноге? Я вспоминаю семьдесят четвертый, осень, сразу после отставки, когда левая у него снова распухла, а в правом легком оказался тромб. Была операция в октябре, потом кровотечение, и Никсон оставался в больнице до середины ноября, так что когда судья Джон Сирика вызвал бывшего президента в суд, тот не смог дать показания по состоянию здоровья.
Пока мы ждем очереди на КТ (которая мне кажется чем-то вроде детектора лжи для мозга), я все сильнее укрепляюсь в мысли, что между тромбами Никсона и Уотергейтом есть связь. Нет, я к себе не примеряю, но уверен, что случай с Джорджем и последовавшая смерть Джейн взорвали мне мозг.
Пока мне делают КТ, я для самоуспокоения пересматриваю список врагов Никсона.
1. Арнольд М. Пикер
2. Александр Е. Баркан
3. Эд Гутман
4. Максвелл Дейн
5. Чарлз Дайсон
6. Говард Штайн
7. Аллард Левенштейн
8. Мортон Гальперин
9. Леонард Вудкок
10. С. Стерлинг-Манро-младший
11. Бернард Т. Фелд
12. Сидни Давидофф
13. Джон Коньерс
14. Сэмюэл М. Ламберт
15. Стюарт Роулингс Мотт
16. Рональд Деллумс
17. Дэниел Шорр
18. С. Гаррисон Доголь
19. Пол Ньюман
20. Мэри Макгрори
Меня поместили в двухместную палату на наблюдаемом этаже. Мне приходит мысль позвонить своему «обычному» доктору. Каждое слово дается тяжелым трудом. Я объясняю положение как могу. Секретарша мне отвечает, что все в руках Божиих. Кроме того, доктор не практикует вне города, а еще, что более существенно, он сейчас в отпуске. Еще она спросила, хочу ли я перевода в «Смерть Израиля», когда доктор вернется.
– «Смерть Израиля» – это что?
– Это больница, с которой аффилирован доктор, – отвечает секретарша.
– Антисемитски звучит, – говорит мой сосед, который все слышит.
– Надеюсь к тому времени оказаться дома, – отвечаю я, и моя речь мне уже кажется более связной и знакомой.
– Если передумаете, дайте нам знать.
– Ничего нет хуже, чем когда врач нужен на самом деле, – говорит мой сосед.
– А вы с чем сюда попали? – спрашиваю я, хотя звучит это скорее как «Вы щипали?».
– Спектакль окончен, – отвечает он. – Завод вышел в часах. Вы заметили, что я не двигаюсь? Я стукнутый – и все это еще происходит в моем мозгу или в том, что от него осталось. Кстати, это вы расплываетесь или у меня в глазах?
Я не успеваю ответить – входит собачий волонтер.
– Я консультант из фирмы «Ваши пушистые друзья». – Женщина подтягивает стул и вытаскивает пакет с какими-то документами и бланками. – У вас собака или кошка?
– И собака, и кошка.
– Если дверь откроет чужой человек, они нападут? Где их корм и сколько они его получают? Собака ночью спокойна или нужен компаньон, который будет ночевать? У нас студенты и школьники такими ночевками подрабатывают.
– Сколько я здесь пробуду? – спрашиваю я.
– Вопрос к вашему доктору. Кстати, есть вариант приемной семьи.
– Меня в приемную семью?
– В новую семью ваших зверей – если, скажем, вы не станете возвращаться домой.
– А куда же я пойду?
– Ну, например, в интернат с хорошим уходом или куда-нибудь еще…
– На кладбище, она хочет сказать, – поясняет человек с соседней кровати. – Они таких слов говорить не любят, а мне можно, потому что – как вам уже сообщил – сам там скоро буду.
– Вы с виду совсем не так больны, – говорю я ему. – Вполне связно выражаетесь.
Я вытираю с губ нити слюны.
– Оттого-то все так сурово, – отвечает он. – В полном своем уме, все осознаю, но уже ненадолго.
– А вы не думали про хоспис? – спрашивает моего соседа консультант-пушистые-друзья.
– А в чем разница? Картины на стенах? Что тут, что там, всюду дерьмом воняет. – Он подносит руку к лицу. – Это я или кто-то другой? Рука моя или ваша?
– Ваша, – говорю я.
– Ага, – замечает он.
– Не хотела бы прерывать, – перебивает пушистая волонтерка, – но вы за целый день еще успеете наговориться, а у меня работа есть.
– То ли целый, то ли нет, – отвечает ей умирающий.
– Давайте о ваших любимцах. Клички, возраст? У вас ключ от дома с собой?
– Собака – Тесси, возраста не знаю, Маффин – кошка. Запасной ключ под фальшивым камнем слева от двери. Фальшивый ключ и десять баксов.
Умирающий жужжит, чтобы заглушить наш разговор.
– Слишком много информации, – говорит он. – Больше, чем мне следует знать.
– Ага, будто вы прямо сейчас встанете и обокрадете мой дом?
– Можете записать под мою диктовку? – спрашивает умирающий.
– Могу попытаться.
Давлю на кнопку и прошу бумагу и карандаш.
– Это не сразу, – предупреждает сестра.
– Тут умирающий, который хочет исповедаться.
– Всем нам что-то нужно, – отвечает она.
Я дремлю. Во сне слышатся выстрелы. Просыпаюсь с мыслью, что мой брат хочет меня убить.
– Это не ты, – говорит сосед по палате. – Это в телевизоре. Пока ты спал, приходил коп. Сказал, что придет еще.
Я молчу.
– Можно тебе вопрос задать? Ты тот, который жену убил?
– Что заставляет так думать?
– Услышал тут разговор про человека, который жену убил.
Я пожимаю плечами:
– Моя жена подала на развод. И аннулировала мою медстраховку.
Человек с порога спрашивает:
– Кто тут просил священника?
– Мы просили бумагу.
– А!
Он выходит, возвращается с большим блокнотом и ручкой.
– С чего начать? – спрашивает умирающий. – Определенно существуют вопросы, на которые надлежит дать ответы. Трудность в том, что не на все ответы есть. Есть такие вещи, которые знать невозможно.
Он начинает разворачивать рассказ – сложное повествование о женщине. Как они сошлись и как расходились.
История красивая, затейливая, сэлинджеровская. Они не говорили на одном языке, у нее был яркий красный шарф, она забеременела.
Я пытаюсь записывать. Глядя на то, что выходит из-под пера, вижу, что получается бессмыслица. Это и текстом-то назвать нельзя. Оставленные на бумаге следы вряд ли кто-нибудь смог бы прочесть. Я сосредотачиваюсь на ключевых фразах, рисую картинки, пытаюсь начертить карту – на всю страницу, – надеясь, что потом разберусь. А он говорит и говорит, и как раз когда я уже жду, что вот сейчас будет конец, развязка, он вдруг резко садится на кровати.
– Дышать не могу! – говорит он.
Я давлю на кнопку вызова.
– Он не дышит! – кричу я. – Был бледный, а сейчас побагровел весь, даже лиловым стал!
Палата быстро наполняется людьми.
– Мы разговаривали, он как раз хотел сказать заключительную реплику и тут вдруг резко сел и говорит: «Дышать не могу».
Он отплевывается, задыхается, он в беде, а люди все подходят и подходят, как публика на спектакль. И все стоят и на него смотрят.
– Вы так и будете стоять и глазеть или будете что-то делать? – спрашиваю я.
– Сделать мы ничего не можем, – отвечают мне сестры.
– Как так не можете?
– Он – НР. «Не реанимировать».
Хотел умереть достойной смертью. Но посмотреть на него – дергается, будто его душат.
– Кто ведает, когда и как призовут его, – говорит одна из них и задергивает занавеску между койками.
– Так не годится, – говорю я, вытаскиваю свою многострадальную тушу из проклятой койки и отодвигаю занавеску.
Он бьется в судорогах, его подкидывает, он будто просит кого-то что-то сделать. Забыв о проводах кардиомонитора и шлангах капельниц, я придвигаюсь к нему ближе, голой задницей отодвигая с дороги сестер. Мысленно я слышу, как он просит меня двинуть его как следует, и я так и делаю. Чертовски сильный апперкот, в живот, изо всех оставшихся сил.
У него распахивается пасть, и из нее вылетают зубы. Больной ловит ртом воздух.
– Эти гребаные челюсти чуть меня не угробили, – выдыхает он.
– Вы сказали, что не хотите быть реанимированным, – говорит сестра возмущенно.
– Но я же не говорил, что хочу подавиться собственными зубами!
– Я думала, это эмболия. Вы ведь тоже так думали? – спрашивает одна сестра у другой.
– Сделайте одолжение, отправьте меня домой. Там я хотя бы застрелиться смогу, когда буду готов.
– Вы хотите, чтобы я позвала вам кого-нибудь?
– В смысле?
– Представителя больницы? Специалиста по разбору дел, адвоката пациентов? Доктора? Скажите только.
– Начните с первого и до самого конца списка. И немедленно измените у меня в документах. У вас просто никто не понимает, что такое НР.
Через полчаса приходит женщина с бланками отзыва распоряжения НР.
– Пока все изменения зарегистрируются в системе, пройдет время, так что я объявление напишу на вашей двери.
– Делайте, что считаете нужным, – говорит мой сосед.
«ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СПАСАТЬ!» – пишет она на привинченной к двери грифельной доске, где уже наши фамилии, а также факт, что мы «СКЛОННЫ К ПАДЕНИЮ/ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО».
В середине дня возвращается девушка из «Пушистых друзей», приносит фотографии Тесси и кошки, сидящих на диване Джорджа и Джейн рядом с симпатичным парнем.
– Все уладилось, – радостно сообщает она.
* * *
Приходит тот коп из парка – он в форме и тащит здоровенный подарочный букет: цветы и плюшевый медведь, цепляющийся за вазу сбоку.
– Слушайте, я пришел извиниться. Я с вами был груб, хотя вы совершенно этого не заслуживали.
– Ничего страшного, – отвечаю я.
Коп садится на край койки, и мы мило болтаем, а когда уже действительно нечего сказать, он мне говорит, что зайдет еще.
– Просто смотреть было больно, – говорит мой сосед после его ухода. – В программе небось участвует.
– В какой программе?
– Типа «Двенадцать шагов». «Анонимные те», «Анонимные эти». Шаг номер девять – загладь вред, который ты причинил.
– Занятно, – говорю я.
Меня подмывает рассказать, как я чуть не сорвал собрание «Анонимных алкоголиков», но, учитывая, как он хорошо разбирается в этих шагах, лучше промолчать.
Приносят ужин. Ему – ничего.
– То есть как это – ничего?!
– Вы у меня ни на одно кормление не записаны, но могу вам принести напитки на выбор, – говорит разносчица.
Я открываю крышку на своей тарелке и не могу понять, что там за блюдо.
– Что это? – спрашиваю я.
Женщина заглядывает.
– Это у нас курица в соусе «Марсала».
– Я умираю, – подает голос мой сосед. – И не хочу свою последнюю еду пить, если только это не очень хороший скотч.
– Вот несколько меню с сестринского поста. Они всегда себе заказывают доставку.
– Вот это был бы класс!
Он обрадован, более того – вдохновлен.
Я закрываю тарелку крышкой, чтобы не чуять ароматы, и жду, что будет дальше.
– Вы что хотите на ужин? – спрашивает он, проглядывая меню.
– Что угодно, лишь бы не китайское.
Он оживляется, вытаскивает телефон откуда-то из-под подушки или одеяла, начинает набирать. Возможности движения у него ограничены, но его ведет цель. Первым делом он звонит в бургерную и заказывает два чизбургера делюкс с картофельными чипсами и огурчиками. Потом в пиццерию и просит среднюю пиццу-пеперони, звонит в кафе и заказывает рисовый пудинг и крем-соду. Я прошу его добавить парочку батончиков «херши» с миндалем. А потом приемщик заказов из магазина говорит, что за доставку двадцать долларов, и мой сосед говорит тогда, что даст курьеру еще пятьдесят на чай, если тот заедет в винный магазин за вполне определенной бутылкой виски. Приемщик говорит, что сам доставит.
– И если я заказал больше, чем могу съесть, что с того? Я умираю, и об остатках мне нечего беспокоиться. Могу я вам заказать что-нибудь особое, что-то такое, за что вы умереть готовы, простите за каламбур?
Когда-то я любил икру, свежие сырные блинчики, шоколадные эклеры, и были лет этак сорок назад пончики, которых мне никогда не забыть. Апельсиновое печенье-хворост в холодное утро возле магазина на президентских выборах семьдесят второго года было так близко к совершенству, как может быть близка к нему любая еда. Но дело в том, что сейчас я лежу в больнице и ни к каким вообще кулинарным изыскам меня не тянет.
– Спасибо, – говорю я. – На ваш вкус что-нибудь.
Мы ждем. Интересно, они вспомнят про кетчуп и горчицу? Не надо ли им позвонить напомнить про майонез? У нас, как выясняется, общая любовь к майонезу, и сосед меня спрашивает, случалось ли мне хоть раз есть картошку по-бельгийски, зажаренную до хруста, посоленную, жуть до чего горячую, макая в соус? Ага, говорю я, и описание очень хорошее.
Ждать приходится дольше, чем можно было бы подумать. Надо проехать по больнице, объясняться внизу с охраной (там заставят открывать чизбургеры?), потом лифты, коридоры.
– Не могли бы вы мне достать штаны из шкафа? – спрашивает сосед. Я медленно встаю и начинаю двигаться к шкафу, волоча за собой штатив капельницы, провода и левую ногу, которая не хочет работать в полном объеме. – Посмотрите у меня в кармане.
Карманы у него набиты наличкой – пачки двадцаток и бумажник с дорожными чеками, евро и английскими фунтами.
– Да, кажется, вы совсем разорены, – говорю я, пытаясь пошутить.
– Последнее время я, выходя из дома, не забывал подойти к банкомату. Никогда не знаешь, что может случиться, и если что, то нет ничего хуже, чем оказаться без денег. Живем мы в экономическом обществе и умираем в нем же: куда бы ты ни шел, а подмазывать надо. Смысла нет катиться вниз и получать при этом паршивый сервис. Я свои похороны оплатил еще много лет назад. Хотите евро? Возьмите их себе.
– Я никуда не собираюсь ехать, – отвечаю я, возвращая иностранную валюту ему в карман.
Мы держим пари, сколько времени займет дорога у каждого курьера. Я выигрываю с результатом тридцать восемь минут, и когда привозят чизбургеры, сосед мне вручает сто баксов «как премию». Пицца появляется почти сразу за ними.
– Никогда еще не возил пиццу пациентам, это клево, – говорит курьер. – В смысле, только если вы не заразны.
Последним прибывает курьер из кафешки.
– Простите, что так долго, – говорит он. – Надо было найти кого-нибудь, кто меня пропустит, – говорит он.
И передает пакет с товаром, а также бутылку виски. Сосед отделяет от пачки еще сотню для уплаты долга и предлагает парню выпить.
– Я пас, – отвечает курьер. – Мне обратно на работу надо. Но любопытно мне, что же у вас за болезнь такая, если вы прямо на больничной койке рисовый пудинг и скотч заказываете.
– А я умираю, – отвечает мой сосед. – И знаешь, что поразительно? Вот сегодня я чуть не умер на самом деле, здешние уже смирились, и это было очень интересное чувство – когда я выжил. Не то что будто я буду жить вечно, а что помирать – это нормально. – Он замолкает, повторяет снова: – Я умираю. И сегодня повторяю это чаще, чем раньше, и вдруг это оказалось просто фактом, вот чем-то таким, что есть. Как ожидаемая кульминация в кино.
– Так все мы умираем, – говорит курьер. – В смысле, рано или поздно все там будем.
Разносчица больничной еды приходит забрать поднос. Задерживается на секунду ради ломтя пиццы и нескольких чипсов.
Я с удовольствием ем чизбургер. Он как раз нужной степени резиновости и хрусткости, прорезанной солеными чипсами и кисловатой остротой огурчиков. И уже далеко за чертой сытости беру себе кусок рисового пудинга и наполняю две синие больничные чашки виски.
– Лед тебе нужен? – спрашиваю я.
– Соломинку. Соломинку бы – это было бы здорово, да.
Мы приподнимаем изголовье его кровати и с удовольствием засасываем виски.
– А вот я бы не против кусочка шоколада, – говорит он.
Я ему протягиваю целый батончик:
– Ни в чем себе не отказывай.
С набитым брюхом, отрыгивая жареной картошкой и огурцами, таща за собой штатив капельницы, я выношу мусор в коридор и засовываю в урну на другом конце этажа. Сестры радуются, глядя, как я здорово приспособился, волоча парализованную ногу и щеголяя одним халатом, надетым спереди, другим сзади, – шикарный способ прикрыть задницу.
Мы смотрим какую-то полицейскую передачу по телевизору, и где-то между десятью и одиннадцатью моему соседу становится нехорошо, и он звонит сестре, чтобы принесла маалокс. Ему отвечают, что у него в карте такого назначения нет. Он спрашивает, обновили ли вообще его карту.
– Да, – отвечает она.
– Отлично, – говорит он. И напоминает мне: – Если я до сих пор жив, это не значит, что прямо сейчас не умираю.
Где-то после полуночи меня будит жуткий звук. Сосед сидит на кровати, глаза вытаращены, будто он во власти жуткого кошмара. Я звоню сестре.
– Быстрее, – только и могу сказать.
Они еще не добежали, а он уже рухнул на спину и лежит, как тряпка.
Вбегает сестра, за ней еще и еще – их набивается полная палата. Суета, крики, треск ампул, уколы того и сего – шумно, страшно, грубо, и в какой-то момент ясно уже, что, как бы ни старались они, лучше ему не станет. После двух ударов дефибриллятора, когда тело буквально спрыгивает с кровати, а они все так же теснятся над ним стервятниками, я выхожу из палаты. Расхаживаю, волоча ослабевшую ногу, туда и сюда по коридору, потом обратно в палату и стою, оттесненный в угол, когда они наконец «регистрируют время» в ноль часов сорок восемь минут. Его накрывают чистой простыней и выходят, увозя с собой свою магическую тележку. Всюду валяются осколки ампул, части шприцов, кусочки пластика, марлевые салфетки. А он лежит под простыней. Я подхожу ближе. Никогда не видел тела, которое не дышит. Над ним изогнулись складки свежевыглаженной простыни. Я беру его за руку, касаюсь лица, трогаю ногу. Тело еще теплое, человеческое, но уже пустое. Мышцы словно отвалились от костей, никакого напряжения в них не осталось. Нас оставили одних. Примерно через час за ним приходят два охранника с каталкой и увозят. Что-то в этом во всем – вот был и нету – до невозможности странное.
В палате еще пахнет жареной картошкой.
Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Если позвонить в дом Джорджа, что будет? Включится автоответчик с голосом Джейн? Если я буду говорить, умолять, уговаривать достаточно долго, может снять трубку человек, пришедший опекать зверей. А если залаять, Тесси может гавкнуть в ответ. Я хочу позвонить Тесси. Тесси и Джейн.
Уже совсем собрался набирать номер, как появляется сестра с таблеткой снотворного.
– Нелегко это, – говорит она.
Я беру таблетку. Сестра наливает мне воду в чашку, не зная, что разбавляет виски. И тоже ничего не говорю и проглатываю все залпом – снотворное и скотч.
Сестра стоит и ждет, пока я засну.
Утром соседняя кровать стоит раздетая, пол вымыт, осколки выметены.
Ни слова о вчерашнем.
Ближе к полудню приходит кто-то из больничного персонала с пластиковым мешком и освобождает шкаф соседа, его тумбочку, потом спрашивает меня:
– Тут еще что-нибудь есть?
– В смысле?
– А то не знаете? В смысле, вы всю ночь тут были при его барахле. Может, взяли чего?
– Есть бутылка виски, если хотите. Берите, она ваша. Но если вы вот так, наобум обвиняете меня в воровстве, потому что я был на соседней койке, – это уже слишком.
– Могло у него тут быть еще что-нибудь? Часы, кольцо?
– Понятия не имею, что у него было и чего не было.
Этот тип смотрит на меня так, будто он местный вышибала, зондеркоманда, которую посылают приводить в чувство зарвавшихся пациентов.
– Этого я терпеть не обязан.
Я поднимаю телефон, набираю девятку для выхода на город, потом «911».
Этот тип выдирает у меня телефон.
– Не балуйся, – говорит он, вырывает у меня телефон и выключает его тычком.
Через минуту, пока он еще здесь, телефон звонит, я отвечаю. Это «911», мне перезвонил оператор. Я объясняю ситуацию. Она мне говорит, что, так как я повесил трубку, они должны послать людей проверить, что меня тут не взяли в заложники и не заставляют говорить против воли. Зондеркоманда на меня смотрит, глазам своим не веря.
– Сука, – говорит он.
– Что вы теперь будете делать? Избивать меня?
Он снова на меня смотрит, качая головой.
– Чувства юмора у тебя нет, – говорит он и уходит.
Копы приезжают через час – слава богу, настоящей срочности не было.
– Как вы, нормально?
– Насколько это возможно в данных обстоятельствах.
Один из них дает мне визитку – на случай, если у меня будут продолжаться неприятности.
– Вы не поверите, – говорит он, – сколько к нам приходит вызовов из больниц, домов престарелых, от пожилых людей, запертых в домах собственных детей. Жестокое обращение с пожилыми – это проблема.
Никогда не думал о себе как о пожилом. Еще минуту назад я был человек в расцвете сил. И вдруг – пожилой.
Сегодня у меня учебный день. До меня это доходит, когда входит сестра и отрывает две страницы календаря.
– Иногда мы опаздываем, – говорит она мне.
Я звоню в университет и говорю, чтобы отменили занятия в связи с моими семейными обстоятельствами. Умер близкий родственник.
Наступает большое облегчение, когда за мной приходит волонтер из отделения лечебной физкультуры и уводит меня к себе.
Там мне выдают ходунок – в личное пользование, – с зелеными теннисными шариками, чтобы легче скользил. Врач-инструктор мне говорит, что ее работа – подготовить меня к выписке.
– Обычно после таких случаев, как у вас, человеку нужна реабилитация в течение недели. Но с вашей непонятной страховкой вас никто держать столько не будет, так что придется вам заниматься дома самому. Хорошая сторона в том, что, в общем, при таких явлениях вам повезло: у вас нарушения несущественные.
– Мне они кажутся очень даже существенными.
– По десятибалльной шкале ваш случай оценивается балла на два, – говорит она. – Поверьте мне, вы легко отделались.
Она пытается вовлечь меня в игру с пуговицами и молниями, что мне сначала кажется идиотизмом, но когда я пытаюсь, оказывается, что пальцы меня не слушаются. Я снова пытаюсь расстегнуть пуговицы, и наконец она мне приносит другой набор, побольше, и у меня получается.
– Класс, – говорю я. – Так мне что теперь, отдать все рубашки пуговицы перепришивать?
– Тоже метод, – говорит врач.
– У меня теперь лучше не будет? – спрашиваю я. – Всегда вот так?
Кто мог бы подумать, что одеться и пройти четыре ступени вверх бывает так трудно.
– Не паникуйте, – говорит она. – Просто нужно время.
После часа лечебной физкультуры я выжат как лимон и возвращаюсь в палату, чувствуя себя очень одиноким. Мне предложили прийти снова через пару часов, если я пожелаю повторить попытку.
Ленч уже ждет. Томатно-рисовый суп, все тот же томатно-рисовый суп, который я ел в кафетерии, когда ожидал известий о Джейн. Не могу отделаться от мысли, что если съем его, то никогда отсюда не вырвусь, так и останусь в этом порочном круге томатного супа и больниц, и потому я его просто оставляю в тарелке.
В палату входит молодая женщина:
– Папа?
– Вы ошиблись палатой.
– Не ошиблась, – говорит она. – Я ждала. Была здесь, а вас не было. Я пришла к больному на койке «А», а на койке «А» никого нет.
– Мне очень жаль.
– Он ушел домой?
Я замечаю, что на ней красный шарф.
– Откуда у вас такой шарф?
– Подарок от матери. А что?
Ну почему это должен делать именно я?
– Он умер, – говорю я.
– Когда?
– Сегодня ночью.
– Можете мне о нем рассказать? Я его так и не увидела.
– Я тут записал кое-что; ваш отец меня просил это вам рассказать.
Я достаю записки и пытаюсь их расшифровать, заполняя пропуски фрагментами, которые я запомнил, но не успел записать.
– Два года назад умерла моя мать. У нее в бумагах я нашла его письма. Я писала ему и ответа никогда не получала – вплоть до самого последнего времени.
– Прекрасный был человек, – говорю я. – Необычайно, дьявольски интересный. Сложный и очень человечный – во всех смыслах. Наверняка он жалел о том, что случилось. И наверняка был еще более сложным, чем мы знаем или узнаем когда-нибудь.
В палату входит священник.
– Меня вызвали. Сказали, что есть желающий получить отпущение грехов.
– Он умер, – отвечаю я. – А раввин у вас тут есть?
Он вытаскивает из кармана ермолку и натягивает на голову.
Меня это как-то смущает – ермолка при сутане.
Тут еще и доктор входит.
– Ну, как мы себя чувствуем, мистер… – он смотрит в карту, – Сильвер?
– Мы знакомы? – спрашиваю я.
– Нет.
Женщина встает и говорит, что не хочет мешать.
– Это несколько минут, – объясняю я. – Доктора надолго не засиживаются.
– Я кофе выпью и вернусь, – говорит она.
– Я тут сейчас один остался, – сообщаю я доктору. – Другой умер.
– Бывает, что ничего сделать не можем, – отвечает он. – Зато у вас все в порядке. Скоро домой пойдете. Какие-нибудь ко мне вопросы?
– Трахаться мне можно? – Оглушительная пауза. – Боюсь, этот «инцидент» случился из-за виагры, которую я брал у брата.
– Каким образом?
– Принимал солидными дозами и, наверное, вроде как предохранитель пережег.
– Не думаю. Но теория интересная, возьму на заметку.
– Так можно мне трахаться? Принимать виагру? Или левитру, или что там еще бывает.
– Я бы на вашем месте дал себе отдых.
– И надолго?
– Скажем так: если у вас есть естественная эрекция, то нормально. Если же головные боли или просто паршиво себя чувствуете – отдохните. Если эрекции не удается добиться, что вполне возможно после событий вроде этого – кратко-временное ее отсутствие, – я бы на вашем месте отложил это дело, извините за каламбур. Тут все дело в том, на какой риск вы согласны идти. Я знал мужчин, которые после этих событий так пугались, что даже думать о сексе не хотели. Другие же пытались снова прямо здесь, в больнице – где всяческая помощь в случае чего намного ближе. Но я вам этого не говорил, вы от меня не слышали.
– Конечно, – отвечаю я. – И вопрос, конечно же, гипотетический. По правде говоря, дело в том, что мне страшно, я теперь всего боюсь. Не могу представить, чтобы снова стал принимать эти таблетки, чтобы мне вообще захотелось секса.
– Это вполне нормально, – говорит он. – Надо перестать считать себя к этому обязанным. Соскочить с этого крючка.
– Вот что я хотел бы знать на самом деле, – начинаю я снова, – это уже было оно или только предупреждение? Дальше будет еще? Готовиться мне к худшему?
– Обещаний мы не даем, – говорит доктор, качая головой. – Артерии у вас с виду хорошие, нет скрытых тромбов, готовых оторваться и закупорить сосуд. Для вашего физического состояния форма у вас вполне. Так что я ожидаю полного вашего выздоровления, а к работе вы вернетесь на следующей неделе. Пора мне, – говорит он, глянув на часы.
Девушка возвращается, держа в руке чашку кофе.
– Вы устали, – говорит она и смотрит на меня заботливо.
– Да.
– Трудно вам пришлось.
Я не совсем понимаю, это сказано саркастически или нет.
– Да, – отвечаю я.
Как вышло, что она нашла своего отца лишь на следующий день после его смерти? Где она была вчера?
Я думаю об Эшли и Натаниэле, вспоминаю, на чем мы остановились. Гадают ли они, почему от меня ничего не слышно? И как они сами там? Я бы позвонил им прямо сейчас, пока не забыл, но не могу вспомнить, где они конкретно. Как их школы называются?
Наверное, еще повезло мне, что я не забыл про них начисто.
После обеда меня вдруг, без всякого предупреждения, выписывают.
– Ну вот, мистер Сильвер, вы свободны, – говорит сестра. У меня ощущение, будто меня не столько выписали, сколько выставили.
– У меня был инсульт, и вы уже отправляете меня домой?
– Вы выжили, вас отпускают домой, так радуйтесь. В приемном штабелями лежат люди, которым похуже, чем вам, они ожидают места. Вас там ждет такси внизу.
Не знаю, как и почему это получилось, но у меня карманы набиты деньгами – деньгами моего соседа. Я их туда не клал, но кто-то это сделал вполне сознательно. Обнаруживаю я это, лишь когда лезу за бумажником и нащупываю пачки двадцаток.
– Сегодня у вас счастливый день, – говорю я водителю, отдавая ему две двадцатки вместо двенадцати.
– Кто бы спорил, – отвечает он.
Собачник уже ушел, но оставил записку: «Надеюсь, вам лучше. Я приду около пяти, Тесси выгулять. P.S.: Также рад буду выполнять эту работу по необходимости. Карточка с моими условиями приложена».
Я смотрю на карточку, украшенную узором из отпечатков лап. Пятнадцать долларов за разовую прогулку, пятьдесят за ночевку. Вполне разумные цены.
Засыпаю на диване, рядом сворачиваются кошка и собака. Никого никуда не вызывают, никаких тебе красных и синих кодов, не воняет ни антисептиком, ни вареной капустой, только тишина дома, тихий звяк почтового ящика, приятность, что Тесси на страже. Я сплю, пока в пять часов вечера не приходит собачий друг. Он укрывает меня одеялом, выгуливает собаку и говорит, что утром придет опять.
– Не знаю, как вас благодарить, – говорю я.
– Это необязательно.
Я киваю. Веки тяжелеют.
– До завтра, – говорит он.
Темнеет, и ко мне подкрадывается какой-то холодный страх. Включив всюду свет, а заодно и телевизоры, я задумываюсь: что мне сообразить себе на ужин? Иду в кухню, открываю и закрываю холодильник, возвращаюсь на диван.
Среди бумаг, данных мне при выписке, есть листочек доставки продуктов на дом. Я набираю номер. Сегодня они уже закрыты, оставляю сообщение.
Тут вспоминаю рекламный ролик «Доминоз пицца», насчет доставки за тридцать минут. Звоню, заказываю пиццу и пару банок колы.
Пока я жду, мне перезванивают из доставки продуктов.
– Послушайте, – говорит мне женщина, – ваше сообщение прозвучало очень уж жалобно. Выписались из больницы, живете в доме брата, пока его нет, – совершенно непонятно, что это значит. Мы же не служба вроде кабельного телевидения: захотел – подключил, захотел – отключил. У нас программа, клиент должен подходить под ее условия.
Что-то в ее голосе заставляет меня пожалеть, что я им звонил, и я рву их листовку на тысячу клочков. А женщина продолжает говорить:
– Я затем перезвонила, что, если у вас в доме нет еды, я могла бы что-то по дороге забросить.
– Спасибо, все у меня нормально.
Мне хочется закончить разговор.
– Вы уверены?
– Просто убежден.
– Потому что, знаете, для людей со средствами есть другие варианты. Различные диетические планы предлагаются такими службами, как «Зоун», «Хоум бистро», «Смарт фуд», «Карб каншиоус». Если сегодня вам ничего не надо, давайте я попрошу, чтобы вам завтра позвонили и договорились?
Звонок в дверь. Пицца!
Я вешаю трубку, не дожидаясь конца разговора, и с ходунком иду к двери. Мы с Тесси выполняем странный танец, связанный с теннисным шариком на опоре ходунка и нашим состязанием, кто придет к двери первый.
* * *
Пицца похожа на соленый картон, украшенный плавленой резиной. Я ее съедаю целиком.
В первый же вечер дома звонит психиатр, ведущий Джорджа.
– Прошу прощения, что не проявлялся, – говорит он.
– Да и я тоже. – Я уже набрал воздуху рассказать про больницу, про человека, который умер, про все, что было, – и останавливаюсь. Включается сигнал личной тревоги. – Тут меня отвлекло небольшое событие.
– Надеюсь, приятное, – говорит он.
– Не свадьба, – отвечаю я, не добавляя больше ни слова.
– Я хотел с вами поговорить о вашей семье.
– Я был в больнице.
Вопреки моему нежеланию это говорить, из меня эта фраза вырвалась, как из пролома, из сорванного крана, на вдохе, комом слов.
– Простите? – переспросил он, не расслышав.
Я молчу. Он продолжает:
– Как вы помните, мы говорили о необходимости более полно осветить историю семьи. Я хотел бы вам послать несколько анкет для заполнения. Там запрашивается информация о ваших родственниках. Кто где родился, как жил, болезни, госпитализации, тюремное заключение, смерть.
– Хорошо, – говорю я.
– Вы не надумали приехать к нам с кем-нибудь из более старших родственников? Нам было бы очень важно узнать больше.
Вопрос действует как будильник для совести.
– Мне бы тоже хотелось знать больше, – говорю я доктору. – Присылайте анкеты, я займусь.
– Ну и чудесно, – радуется он. – Когда закончим этот процесс, подумаем о второй стадии – пригласить вас сюда на день-два. Но сейчас еще об этом рано думать.
– Есть ли известия относительно его юридического статуса?
– Это не моя компетенция. Позвоните координатору, может быть, он сможет вам ответить.
Разговор взбадривает меня, оставляя странный прилив энергии. Положив трубку, я думаю о матери и понимаю, что уже почти месяц не навещал ее.
Звоню на пост ее отделения и спрашиваю, можно ли с ней поговорить.
– Сейчас она не может подойти, – говорит сестра.
– Что значит – не может подойти? Она разве не должна находиться у себя в комнате? Скоро ведь уже спать ложиться.
– Она на уроке танцев.
Не могу поверить.
– Во-первых, сейчас уже половина десятого, а во-вторых, моя мать лежачая!
– Это уже не так.
– Правда?
Я неподдельно удивлен.
– Да. Комбинация нескольких факторов. Во-первых, у нас теперь новый психотерапевт, и ваша мать в нее просто влюбилась. Мы ее пересадили в кресло-коляску, и она ездит по коридору. Во-вторых, тут у нас один молодой врач проводит некоторое исследование, и вашу мать выбрали для участия в нем. Поэтому ей сменили состав препаратов, и она хотя и не то чтобы летает, но дела намного лучше.
– Она ходит?
– Ползает, – ответила сестра с явной радостью. – Ползает по полу всюду, где хочет, и ей это нравится. Мы ходим осторожно, чтобы не наступить… и выдали ей на колени и на локти хоккейные щитки моего сына. Прислать вам фотографию?
Она присылает мне по почте снимок. На нем, естественно, мама. Она ползает по полу в коридоре, как краб по морскому дну.
Я звоню Лилиан, младшей сестре матери, и она ворчливо дает мне разрешение ее навестить.
– Тебе что-нибудь привезти?
– Борща из того заведения на Второй авеню.
Я ей не говорю, что мне до Второй авеню ехать час с четвертью.
– Сколько тебе его привезти?
– Давай большую порцию, – говорит она. – А лучше давай две – суну одну в морозильник.
– Еще что-нибудь?
– Раз уж собрался, так привези что-нибудь, что на тебя смотрит.
Мама перезванивает.
– Женщина из приемной помогла мне набрать номер. Она сказала, что ты меня ищешь.
– Я просто так позвонил, и она мне сказала, что ты на уроке танцев. Все хорошо у тебя?
– Все прекрасно, я снова начинаю двигаться.
– Я собрался к Лилиан заехать, – говорю я и не успеваю закончить, как она перебивает:
– Она заболела?
Мамин голос полон заботы.
– Просто хочу ее навестить. Есть пара вопросов.
– Ага, у меня тоже к ней пара вопросов есть. – Мама щелчком возвращается в обычное состояние. – Где мои жемчужные серьги? И браслет к ним, что мне от твоей бабушки достался? Лилиан взяла их у меня на вечеринку, а потом что – решила сделать вид, будто так и было?
– Я могу ее об этом спросить, – предлагаю я.
– А ты не спрашивай, – советует мама. – Ты просто сделай, как она: залезь в шкатулку и возьми. А ей скажи потом, когда уже дома будешь.
– Посмотрю, что смогу выяснить.
– Когда будешь смотреть, проверь заодно ожерельице с рубином в середине и брильянтиками вокруг. Не помню, то ли я его потеряла, то ли твой папочка его прихватил, когда шлялся на ипподром.
– Папа был способен на такое?
– На такое все мужчины способны, – отвечает она.
Не зная, как у меня насчет вождения после инсульта, я вызываю водителя, который возил нас на похороны Джейн, и спрашиваю, согласен ли он меня отвезти к Лилиан, подождать и отвезти обратно. Он мне объясняет, что называется почасовой работой: семьдесят пять в час, не менее четырех часов. Я соглашаюсь. Он заезжает за мной в указанное время, мы заглядываем в магазин на Второй авеню, который теперь уже не на Второй авеню, и берем курс к Лилиан на Лонг-Айленд. Я прошу водителя остановиться, не доезжая до самого дома, чтобы не обсуждать с Лилиан мои обстоятельства.
Я медленно иду к дому, и перед мысленным взором мелькают летние дни рождения, фейерверки на Четвертое июля, пикники. Дома на этой улице были когда-то однообразными, кирпичные разноуровневые, все на одно лицо, и отличались только тем, какого года стоял на подъездной дорожке «понтиак» или «бьюик». Сейчас они превратились в ублюдочные варианты себя прежних. Какие-то достроились, другие перестроились, будто на них выросли опухоли размером с комнату, третьи снесли, освобождая место для постмодернистских стероидных чудовищ. Двухуровневые гостиные и парадные салоны пришли на смену излюбленным эркерам, которые придавали каждому дому пятидесятых-шестидесятых неповторимое сходство с аквариумом. Я выгружаю продукты на кухонный стол Лилиан, гадая, может ли вот эта древняя, почти уже крошащаяся клеенка быть той самой, что лежала тут тридцать лет назад? Лилиан с мышиной быстротой прячет все принесенное. Она крошечная, футов четырех ростом, и быстро усыхает.
– Что с тобой? – говорит она. – Ты весь побитый.
– В аварию попал. – Не могу заставить себя рассказать ей про инсульт: у меня от этого ощущение, будто я очень старый. – Цветы красивые, – киваю я в сторону вазы на столе.
– Сто лет тут стоят, – отвечает она. – Пластмассовые, я их раз в неделю мою с «Айвори». Это оставь себе. – Она возвращает мне контейнер с кашей. – Я такое есть не буду. И это тоже. Мне мака нельзя. Никаких тебе семян, орешков, ядрышек. Ни попкорна в кино, ни фисташек. Кишки не принимают.
Она говорит это так, что меня подмывает пошутить на тему «зачем тогда жить», но если учесть мой недавний опыт насчет того, как ненадежна и шатка жизнь, так вроде и шутить не о чем.
– Стыдно должно быть твоему брату, – говорит она.
– Да.
– А ему стыдно?
– Нет, не думаю.
Мы сидим за ее обеденным столом. Она мне заваривает чай, «липтон», крепкий и очень хороший.
– Сахар будешь или тебе сахарозаменитель?
– Сахар – это хорошо.
Он давно уже в сахарнице, слежался комками, сплавился под многими поколениями мокрых ложек, праздничный сахар, грязный сахар – старый сахар. Лилиан приносит из кухни предмет – синий металл с клеймом «Датское масляное печенье», и я готов поклясться, что эта жестянка уже много поколений в семье (когда евреи выходили из Египта, они несли с собой жестянки с датским масляным печеньем), если бы не знал, что это не так. И жестянки, в которых, насколько мне известно, никогда не было датского масляного печенья, ходили из дома в дом, но всегда возвращались к Лилиан. В каждом роду и племени есть Хранительница жестянки, чья работа – занудливо буровить: «Не забудь отдать мне жестянку», или «Что значит – забыла? Больше не получишь. Я без жестянки не пеку. Какой смысл? Печенье развалится».
Длинные искривленные пальцы тети Лилиан откручивают тонкую крышку, ее содержимое постукивает там, запертое. Руки у Лилиан в леопардовых старческих пятнах, редкие волосы, выкрашенные густым ненатуральным красным, зачесаны на темя и похожи на ржавую стальную проволоку.
Наконец ей удается открыть жестянку, там осталось только десять печений.
– Уже не столько пеку, сколько раньше, – говорит она.
Я беру одно, надкусываю. Твердое как камень, как еврейские бискотти.
– Очень вкусно, – говорю я с набитым ртом.
– В последний раз я тебя видела на похоронах твоего отца, – говорит она.
Я макаю печенье в чай. Второй раз откусить получается проще. Доедаю печенье и пытаюсь взять второе, но Лилиан резко убирает жестянку и закрывает ее крышкой.
– Приходится ограничивать выдачу, – говорит она. – Уже не так часто пеку. Это, может, вообще последняя партия.
– Расскажи мне про отца, – прошу я. Выдохнув слово «отца», я на следующем вдохе будто вижу его самого и слышу его запах. Вот пять костюмов, оставшихся висеть в шкафу после его смерти. Вот лосьон для ухода за волосами, маслянистый, с пряным запахом – отец плескал его на руки, втирал в волосы и потом зачесывал их назад. От лосьона оставались пятна (мама называла их «жирными») на подушках, на диване, на креслах в гостиной – всюду, где оказывалась голова отца.
– Менеджер среднего звена, – бубнит тетя Лилиан. – Им он и был всю жизнь. Всегда над ним был начальник, которого он ненавидел, и кто-нибудь в подчинении, на ком отрывался он сам. Он продавал страховки. Он работал на синагогу. Потом занимался инвестициями. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался с ним спорить, он взрывался. Всегда делал все по-своему, запугав всех вокруг.
Я киваю. Вполне согласуется с моими собственными смутными воспоминаниями. Она продолжает:
– Вот мой муж, он моих родственников не любил, говорил, что они слишком категоричны и необразованны. И был прав. Твой отец всегда спорил с Монти и никогда не отступал, пока его не сокрушит, – прав он был или не прав.
Я качаю головой.
– А потом Монти не стало. Никогда не говорила этого вслух, но до сих пор уверена, что твой отец тут очень немалую роль сыграл. – Она говорит с отвращением, будто выплевывает, открывая глубокую тайну. – Вот таким был твой отец. Ему требовалось всеобщее внимание, и если его не оказывалось, он себя вел как ребенок. Вот почему он с твоим братом никогда не ладил – они одинаковые были. А ты, – она тычет в мою сторону узловатым пальцем, – стоял тут, как умственно отсталый.
Я ничего не говорю. Насколько я помню, меня никто никогда не называл малолетним тупицей.
– А что-то было конкретное, из-за чего мы перестали встречаться семьями? – спрашиваю я, записывая «умственно отсталый» на полях блокнота, в котором делаю заметки.
– Мы с твоей матерью горшки побили.
– С моей матерью?
– Я знаю, ты ведь думаешь: «Она же из тех, с кем легко ладить», – но она у твоего папаши подхватила пару фокусов.
– А на тему, о чем побили горшки?
– Шарики мацы.
Я вскидываю на нее взгляд, думая, что она шутит. Лилиан смотрит на меня, будто хочет сказать: что непонятно?
– Поругались из-за шариков мацы, – повторяет она. – Класть их в суп или подавать отдельно? Воздушными их делать или плотными?
Я на нее смотрю, ожидая продолжения, ответа.
– Твоя мать думала, что вот как она думает, так и правильно, и что она потому настоящая еврейка, а я так, второй сорт. И, честно говоря, когда с одной стороны – твой отец, а с другой – вот такое вот, мне уже не слишком хотелось давать себе труд поддерживать контакт. Если мы с тобой не разговариваем, это еще не значит, что мы не разговариваем между собой.
Я собираюсь спросить, кто из родственников еще жив, когда она резко меня обрывает:
– И был еще тот инцидент с вами, детьми, в комнате отдыха. – Она снова на меня смотрит. – Ты правда тупой или все же прикидываешься?
Не зная, к чему относится вопрос, я не даю ответа.
– Твой брат сделал моему сыну операцию, – говорит она, будто давая подсказку, ключик, запускающий память.
– Операцию какого рода?
– Повторное обрезание с помощью циркуля, транспортира и клея «Элмерз».
Я что-то смутно припоминаю. Был какой-то еврейский праздник, и мы, дети, играли внизу. Смутно, как тридцативаттная лампочка, помню, как мы валялись на полу, на ковре, с нашими двоюродными, и шла жаркая игра в «Монополию», покупались и продавались дома и отели, и пока мы играли, мой брат с кузеном Джейсоном что-то делали за столом моего отца, непонятное что-то. Помню, я еще подумал, как это похоже на Джорджа – заставить кого-то для собственного удовольствия делать то, что он не обязан делать. Комната отдыха была наполовину игровой комнатой, наполовину кабинетом, и сторона, где кабинет, была закрыта шкафами с бумагами и белыми пушистыми коврами, и вряд ли я мог на самом деле видеть, что он там творит, но понятно было, что не подвиги добродетели.
– С Джейсоном все обошлось?
– Да, физических повреждений мало было – порез небольшой, полно крови, пришлось к пластическому хирургу обращаться, но теперь он гей.
– Ты хочешь сказать, что Джейсон стал геем из-за Джорджа?
– Ну стал же из-за чего-то? Геями не рождаются. Что-то происходит, какая-то травма, и человек превращается в гея.
– Тетя Лилиан, есть очень много геев, которые сказали бы, что они такими и родились, и на самом деле в теории что-то там важно насчет внутриутробных гормонов… – Я продолжаю, дивясь про себя, откуда мне это вообще известно. Наверное, какую-то статью читал. Но что бы я там ни говорил, для Лилиан и ее точки зрения это совершенно несущественно. – А как отреагировали на этот случай мои родители?
– Я им не рассказывала. Джейсон заставил меня поклясться, что я сохраню тайну, – ему было очень стыдно. – Джордж только потому перестал, что кто-то спустился проверить, как вы там.
– А кто это был? – спрашиваю я.
– Тетя Флоренс.
– И что она видела?
– Ничего она не видела, но Джордж испугался и бросил это дело.
– А что сказал ваш муж?
– Его не было дома, – отвечает она. – Поэтому еще только хуже было.
– А где он был?
– Хороший вопрос, – говорит она и ничего к этому не добавляет. – Оправданий нет.
– Никаких, – отвечаю я.
– В последний раз я тебя видела на похоронах твоего отца, – повторяет она уже сказанное.
– Можешь мне тут помочь в одном вопросе? – говорю я, вытаскивая генеалогическое древо. – Надо вот это заполнить.
– Заполнить генеалогическое дерево? Ты оплатишь мое время? Мне какое-то вознаграждение полагается?
– Я тебе борщ привез.
Она отмахивается и придвигается ближе, чтобы видеть анкеты и желтый блокнот с заметками.
– Сколько тебе лет, тетя Лилиан?
– Больше, чем кажется. Мне восемьдесят восемь, но, говорят, я выгляжу на семьдесят с хвостиком.
Мы вместе восстанавливаем наше генеалогическое древо. В какой-то момент тетя приносит пару старых семейных альбомов – вещественные свидетельства – и перелистывает страницы, что-нибудь бормоча над каждой.
– У твоего отца были крупные заскоки насчет мужественности.
– Ты хочешь сказать, что он сам был скрытым гомо?
Она приподнимает плечи, делает гримасу:
– Кто знает про кого-нибудь наверняка?
– Преступники в нашем роду есть? – спрашиваю я.
– А как же. Полно. Вот дядя Берни, которого закололи за карточным столом.
– Кто?
– Так никогда никто и не сказал.
– А что с тетей Беа было?
– Умерла, – отвечает Лилиан. – Ты знаешь, у нее было трое детей, и ни один из них не дожил до четырех лет. Диагноз ставили «внезапная смерть новорожденного», но мы с твоей мамой не шибко в это верили. Никого из вас никогда с ней наедине не оставляли.
– Ну, это уж как-то малоправдоподобно. У евреев детей не убивают – их только с ума сводят.
– Тут наследственное, – поясняет она.
– Что ты имеешь в виду?
– Вспыльчивость твоего отца. Ты что, такой святоша и не понимаешь? Ты думал, мама делала себе пластику носа? Это ее твой папаша двинул.
Я понимаю, о чем говорит тетя, и она совершенно права. У мамы был сломан нос, но я и правда думал, что это была случайность.
– С чего это он?
– Кто его знает? Иногда он просто психовал.
– Даже не думал такого.
– Родители вас с братом щадили и не рассказывали. Вот еще пример – твой дядя Лу, никчемник, все время пытался какие-то делать дела. И жена его, тоже мне цаца, она с бухгалтером синагоги крутила.
– Это тот, с бугорками? Похожими на волдыри или бородавки?
Снова я смутно вспоминаю.
– Это жировики у него были, и он был очень хороший человек, куда лучше твоего Лу, но все равно поступок не становится от этого правильным. Он был женат. Жена была косолапая и глухонемая, он ее в покер выиграл.
Я не могу удержаться от смеха.
– Не вижу ничего смешного. Он ее любил, очень о ней заботился, и детей у них было четверо.
– А помнишь, мы всегда вместе отмечали большие праздники: роша-шана и йом-кипур, а потом вдруг перестали?
– Помню, конечно, – отвечает она. – И все из-за шариков мацы. – Лилиан переводит дыхание, смотрит на меня глазами, полными жалости, досады, презрения. – Неужто ты так и не наберешься смелости взять на себя ответственность за то, что сделали твои родные? Я надеялась, ты пришел извиняться.
– Я прошу прощения, – говорю я.
– За что?
– За все, что случилось и за что ты обиделась. Приношу тебе извинения.
– Не уверена, что ты не лукавишь.
– Ну, я сам не уверен, что правильно понял, что произошло, но ты чувствуешь обиду – и я за эту обиду прошу прощения. Мне и правда очень жаль. Я пришел с открытым сердцем. Извиниться за то, что я не делал, у меня не получится.
– Пришел ты потому, что больше деваться тебе некуда. Было бы у тебя все хорошо, ты бы и носа не казал.
Мне не очень уютно. Ее обвинения, напряжение разговора, дурацкая поездка в город за борщом, потом оттуда, усталость, раскрытие тайн, все это вместе – слишком.
– Тетя Лилиан, мне пора, но если хочешь, я мог бы еще раз приехать.
– Нет необходимости. Своей матери передай мои наилучшие. Где она, кстати? – спрашивает Лилиан, будто это ей только что пришло на ум.
– В интернате.
– И в каком она состоянии?
– Оно улучшается, похоже.
– Скажи ей, что я насчет супа извиняюсь. Варить шарики сначала в воде или сразу в супе – в конце концов, какая, к черту, разница?
– Спасибо, я ей передам. Кстати, она просила спросить у тебя про какую-то пару сережек…
Лилиан взметает вверх руки.
– Боже мой, опять эта фигня! Для того все это и было? Ты приперся издалека, любезничал, борщ мне привез, и тут, когда уже почти прощаешься, поворачиваешься стрелять в упор? Надо было мне с самого начала понять…
Она вихрем выбегает из комнаты.
– Тетя Лилиан! – кричу я ей вслед. – Совсем не хотел тебя расстраивать или огорчать. Просто спросил, что мать просила меня спросить.
Она возвращается с древней шкатулкой в руках.
– А ты всегда делаешь так, как мама просит?
Шкатулку она ставит на стол, открывает и вытаскивает жемчужные серьги, браслет и ожерелье с рубином.
– Она интересовалась, не те ли это, что она потеряла.
– Их мне продал твой отец, – говорит тетя Лилиан. – Можешь представить? Продал мне драгоценности своей жены. Хотел сохранить их в семье, сказал он.
Лилиан отдает мне все, что просила мать, и еще многое.
– Что-то из этого она мне подарила, что-то просила просто хранить, но мне этого не нужно. Не нужно всего этого на моей совести. Никакого отношения к этому всему не имею, не имела и иметь не хочу.
Она двумя руками хватает меня за голову, тащит вниз, к себе, и пришлепывает мокрый поцелуй.
– А ты как был умственно отсталый, так и остался, – говорит она, подталкивая меня к двери.
* * *
Через несколько дней я разговариваю с Нейтом, и он спрашивает:
– Ты приедешь на наш день зимнего спорта?
– А надо?
Я только-только начинаю приходить в норму, пусть даже не совсем в норму, а в такое состояние, что в этот безумный месяц с чем-то мне норму заменяет. Не могу сказать, что я уже пришел в себя, – не очень понимаю, что значит быть в себе и что для меня это «себя» может значить.
– Родители всегда приезжали на этот день, – говорит Нейт.
– Когда это будет?
– В эти выходные. Начинается в субботу утром и продолжается в воскресенье после утренней службы в церкви.
– Евреям тоже в церковь? – спрашиваю я.
– Она не деноминирована.
– «Церковь» – это уже значит, что христианская.
– Мне там нравится.
– Собаку с собой привозить? – спрашиваю я.
– Нет, пусть кто-нибудь с ней останется.
– Эшли приедет?
– Тебе не дали никакого руководства или инструкций?
– Нет, – отвечаю я. – В слепом полете. Я соображу – надо только знать параметры. Что-нибудь нужно тебе привезти? Из дому ничего не хочешь?
– Например?
– Любимый свитер, книжку «Над пропастью во ржи»?
– Нет, – говорит он так, будто вопрос его задел. – У меня есть все, что нужно.
Уик-энд за городом звучит заманчиво – позволение свалить отсюда к чертовой матери. Не знаю, как это получилось, но я полностью захвачен миром Джорджа, и кажется, что если я на миг отойду, все, что осталось, рассыплется в пыль.
Во время разговора с Нейтом я гуглю его школу: она куда престижнее, чем я себе представлял. Среди выпускников – несколько членов кабинета Никсона и его технических работников.
– Ты знаешь в школе кого-нибудь по фамилии Шульц?
– Это который комиксы «Арахис»?
– Нет, другой. А Блаунт? Или Дент?
– Кто это такие?
– Из исторических сносок к тексту.
– Ничего не говорит, – отвечает Нейт.
– И не надо. До субботы тогда, – говорю я и даю отбой.
На веб-сайте школы – список местных отелей и сдаваемых комнат. Я начинаю обзванивать, но все отели и пансионы забронированы заранее. Разговаривая с женщиной из «Песни ветра», я уже представляю себе, как буду спать в машине. Ничего страшного, прихвачу с собой подушки, арктический спальный мешок, пару одеял, таблеток снотворного немножко и найду безопасное место где-нибудь прямо в кампусе.
– Может, вы хоть чем-нибудь сумеете мне помочь? – умоляю я. – Я не могу бросить этого мальчика, у него никого больше нет. Мать его умерла, отец под замком. Вы можете что-нибудь придумать?
– Комната моей дочери, – говорит женщина. – Обычно мы ее не сдаем, но там двуспальная кровать. Могу вам ее уступить за сто пятьдесят долларов за ночь. Завтрак включен, санузел общий.
– Идеально, – соглашаюсь я.
– На самом деле, – говорит она и отвлекается, там слышны разговоры, – я ошиблась, это сто восемьдесят за ночь. Я уже сказала, что мы ее вообще-то не сдаем, но тут муж напомнил, что когда сдавали в прошлый раз, было сто восемьдесят. Там матрас новый.
– Даю вам мою кредитную карту?
Я тороплюсь, боясь, как бы цена вновь не подпрыгнула.
Решив как следует сыграть роль исполняющего обязанности родителя, я беру напрокат из шкафа у Джорджа галстук, туфли и спортивную куртку и ровно в шесть утра в субботу быстро отбываю. До границы Массачусетса я ползу два часа двадцать минут. У ворот академии мерседесовские фургоны и спортивные уик-эндовские машинки родителей направляют к главному зданию, где уже подают кофе и плюшки. Молодые люди с фамилиями вроде Скутер и Бифф приветствуют родителей, мужественно обнимая вельветовых отцов и целуя в щечку мохеровых матерей. У всех у них одинаковые треугольные лица, очень американские, непроницаемые улыбки. Еще четверо азиатов и трое чернокожих – вот тебе и все разнообразие.
Расположением зданий заведение напоминает стародавнюю английскую деревню, и колледж, в который я прихожу, похож на городское техническое училище, затерянное в одном из пяти слившихся городишек, – такое, где людей учат менять масло и чинить телевизоры, не более. Главное здание академии – особняк, величественный, подавляющий, с огромными высоко висящими на стенах портретами маслом, изображающими отцов-основателей, и большими цветочными композициями на старинных деревянных ящиках. Все темное – полно тусклых деревянных панелей, потайных переходов, старых кожаных кресел и диванов. Длинные столы с крахмальными скатертями накрыты не слабо. В очереди за кофе меня находит Нейт, и я рад знакомому лицу.
– Плюшки тут отличные, попробуй обязательно, – говорю я, не очень понимая, как надо по протоколу: обнять его или нет. Решаю, что нет.
– Пробовал уже, – отвечает он. – Они тут каждые выходные пекут. В штате школы есть кондитер.
– Как ты оказался в этой школе?
– В смысле, что в таком престижном месте делает такой лох, как я? – Он секунду молчит. – У меня был отличный результат по тестам, да и папа тоже «имел влияние». Председатель совета этой сети – весьма активен в товариществе выпускников.
– У тебя тут есть друзья?
– Да, – отвечает он. – Мне тут хорошо. Лучше, чем дома.
– И Эш тоже в подобном месте? – спрашиваю я, прожевывая коричную плюшку.
– У нее иначе. Девочки живут в домиках, не в спальнях. Там меньше соревнования, более по-домашнему.
– Ваша мама отличную работу проделала, выбирая для вас правильные места. – Опускаю в карман спортивной куртки багель с сыром, завернутый в салфетку. Рука на что-то натыкается. – Тесси просила тебе это передать.
Я вытаскиваю из кармана сильно пожеванный кусок сыромятной кожи и отдаю Нейту. Он улыбается. Когда мы выходим из здания, он показывает мне библиотеку:
– Тут примерно полтора миллиона томов и активный обмен с другими библиотеками.
– Лучше, чем в большинстве колледжей и в том, где я преподаю.
– Это ты еще бассейна не видел.
Перед спортзалом нас встречает человек в одежде придворного шута и вручает свитки, перевязанные лентой, – как могло быть в Риме много лет назад.
– Это программа сегодняшнего мероприятия, – говорит Нейт. – Начинается с посвящения. Когда-то это была первая пущенная стрела, сейчас – выстрел из пушки директора. Он из Шотландии.
Почти сразу раздается гудение волынок, и пара волынщиков медленно проходит перед нами по холму, предваряя шествие директора в клетчатом килте, отмахивающего в ритм жезлом вверх и вниз.
– Он там внизу голый, – шепчет Нейт. – Это традиция. И висит у него, как у коня, и он старается, чтобы все об этом узнали.
С травяного склона стреляет пушка, и я рефлекторно пригибаюсь.
– Да начнутся игры! – провозглашает директор.
– А ты спортом занимаешься? – догадываюсь вдруг спросить я.
– Конечно! Хоккей, лакросс, теннис, еще я в межшкольной команде по фехтованию и по плаванию – сегодня и то и другое будет. Еще барьерным бегом занимаюсь и упражнениями на гимнастическом коне. Да, и я записал нас на скалолазание «отцы и сыновья».
– Я даже и не знал, что ты спорт любишь.
И действительно, я видел его только за видеоиграми.
В спортзале тренеры нам напоминают, что игры – «демонстрация наших программ, а не соревнование. Главное – научить их создавать команды, чтобы наши мальчики умели взаимодействовать». Они бросаются ключевыми фразами «среда успешности», «приз для каждого игрока, медали всем, кто участвовал». Но что бы они там ни говорили, а каждый четко следит за всеми победами и поражениями.
– Который ваш? – спрашивает меня кто-то из родителей, кивая в сторону стайки ребят.
– Я с Нейтом, – отвечаю я и чувствую, хотя это теоретически невозможно, как он отшатывается.
– Ну да, – говорит он, ничего не добавляя. Всем все известно.
Смотрю на Нейта – высокого, взъерошенного. Прочие ребята – всех видов, размеров и узоров прыщей. Нейт среди более симпатичных, привлекателен, в отличие от других. В спорте он не среди первых и не среди последних, и ясно одно: все хотят включить его именно в свою команду. Он надежный игрок, ровный и правильный, он не будет жертвовать интересами команды ради личной славы. Я испытываю незнакомое чувство гордости, оно поднимается где-то в груди, приятный такой прилив, когда смотрю, как Нейт баттерфляем перемахивает бассейн. Вздрагиваю, когда на фехтовании второй мальчик делает выпад и «протыкает» Нейта, после чего поединок окончен.
За ленчем возле нашего стола останавливаются многие мальчишки и их матери.
– Если тебе нужно будет когда-нибудь выбирать, куда поехать на каникулы, приезжай к нам кататься на лыжах, – говорит одна.
Другая просто стискивает ему плечо и спрашивает:
– Держишься?
– Справляюсь, – отвечает Нейт.
– Еще бы, – говорит она.
Я съедаю второй кусок торта – просто потому, что он тут лежит, и здесь четыре вида тортов на выбор, так что число два кажется разумным. И как раз жую торт, когда Нейт мне сообщает о скалолазании связок «отец – сын».
– Сразу после ленча, – говорит он, и видно, что ждет с нетерпением.
– Традиция такая, – саркастически замечаю я, отодвигая тарелку. Но поздно – уже исчез целый кусок чизкейка и половина шоколадной слойки.
– Ага, – подтверждает Нейт. – На искусственной стенке под крышей, три этажа высотой. Отцы не обязаны проходить весь путь вверх, но некоторые идут. Есть такие, что хоть сдохни, а должны превзойти ожидания.
– Это не про меня, – бурчу я. – А если я буду стоять внизу и смотреть, как лезешь ты?
– Не выйдет. Участие должно быть стопроцентным.
– У меня тут был недавно микроинсульт, мне рекомендуется избегать напряжения.
Нейт смотрит на меня, вдруг встревоженный, вдруг беззащитный.
– Да ничего, – говорю я. – Просто надо быть чуть осторожнее.
– Тебе только управиться с собственным весом, – говорит он. – Так годится? Там обвязка и карабин, так что упасть на самом деле невозможно.
– Я никогда особенно спортивным не был.
– Поверь мне, эти все тоже. Хвастуны они.
Создалась патовая ситуация: моя боязнь спорта, боязнь выступления, хуже того, боязнь провала перед всеми этими детьми и их родителями. От этого я просто больным себя чувствую.
– Да папа тоже никогда не лазил, – замечает Натаниэл с некоторой тоской.
– Отчего так?
Я действительно удивлен.
– Без реальной причины. Каждый год, как я записывался, всегда у него не получалось. То телефонный разговор, то там потянул, то здесь стукнулся.
– Я полезу, – говорю я, вдохновленный тем фактом, что Джордж не лазил.
Инструктор снабжает каждого из нас обвязкой. Нас учат, как работать с веревками. У него это выходит просто и без усилий, а я потею. Все остальные взрослые примерно на том же уровне. В последнюю минуту добавился плотный такой мужчина в темных очках. На нем что-то вроде черных кальсон – причем не своих, потому что они слишком ему тесны. Под ними ничего нет – мужские достоинства обтянуты и выставлены на всеобщее обозрение. Я невольно на него таращусь, а потом думаю: это тут типа стандартная павлинья демонстрация?
Находясь уже в четырех футах над землей, я молюсь только, чтобы Нейт, держащий мою страховочную веревку, оказался сильнее, чем кажется, и когда я хлопнусь, чтобы он не взлетел следом вверх, как оторвавшиеся качели. Я бросаю вызов гравитации и при этом полностью осознаю ее тягу.
– На ноги опирайся, – советует снизу Нейт.
Я нащупываю неровности искусственного камня – они похожи на упоры для дверей. Отталкиваясь от них, я поднимаюсь на несколько футов и вцепляюсь в захваты прямо над головой.
– Ты толкайся, – советует Нейт. – Толкайся, это легче, чем подтягиваться.
За те шестьдесят пять тысяч в год за обучение, как сказано на сайте школы, приятно, что он что-то смыслит в физике.
Я отталкиваюсь – и отрыжка. Рот заполняется едким кофе и тортом. Глотаю все снова, нахожу опоры для ног и опять толкаюсь вверх. Другие лезут и выше меня, и ниже, воздух наполняется резиноватым запахом мужчин под физической нагрузкой. Я лезу выше, целеустремленно. Вот да, целеустремленно, блин.
Пока я лазаю по стене, директор обходит публику внизу, пожимает руки. Я на высоте двух этажей, и только надеюсь, что Натаниэла не отвлечет вид его «босса» в юбке. Переношу вес с ноги на ногу, гляжу вниз – и вдруг у меня тестикулы попадают под соскользнувшую обвязку. Ощущение мучительное, и я чуть ли не танцую, пытаясь исправить ситуацию.
– Ты что делаешь? – вопит Нейт.
Я обхватываю стену, действуя обеими руками, поправляю обвязку.
Тут я замечаю, что у многих специальная обувь для скалолазания – а у меня дурацкие туфли Джорджа без шнурков. Одна падает, кувыркается, отскакивает от стены и хлопается на пол.
– Могу тебе ее обратно забросить, – говорит Нейт.
– Так сойдет, – отвечаю я, карабкаясь вверх. Носок скользит.
– Это папины туфли? – кричит мне Нейт.
– Да, – отвечаю я вниз.
– Прикольно.
Я отворачиваюсь, все внимание теперь на стену. Ругаюсь вполголоса, заставляя себя лезть все выше.
И угадайте, что там лежит наверху? Блин, черт побери – ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО. Не шучу: золотое яйцо – фаянсовая, черт бы ее побрал, свинья-копилка. И проблема: как доставить это вниз? Как нести такую хрупкую штуку, если нужны обе руки, а не только ноги? Я засовываю ее в штаны. Висит там, как у коня, и мотается это золотое яйцо, пока я по веревке спускаюсь вниз. Нейт стоит со слезами на глазах, и мне ничего не остается, как расстегнуть штаны, достать яйцо и отдать Нейту – как некое подношение. Он меня обнимает и плачет. А я ощущаю вкус победы и пота, и это восхитительно. На какой-то сверкающий миг я в экзальтации!
Через двадцать минут у меня пульсирующая боль в голове, походка избитого ковбоя и отчетливое отсутствие ощущений в трех пальцах. Присев на унитаз, еле-еле потом встаю. Спрашиваю у Нейта, есть ли у него тайленол, и он говорит, что надо у школьной медсестры спросить.
– Бог с ним, – бурчу я, и мы идем в главное здание, где подают херес и сырные кубики.
Я выпиваю слишком много. Если честно, так любая доза хереса это уже слишком много. Голова болит сильнее.
– Выпей колы, – предлагает Нейт, и он прав.
Я выпиваю две банки колы и съедаю полфунта сыра, показываю свою медаль каждому, кто согласен слушать рассказ об инсульте и чудесном исцелении.
– А теперь что? – спрашиваю я, когда коктейльный час заканчивается.
– Идем ужинать в «Ревейджед фоул», – отвечает он так, будто это само собой разумеется. – Ты столик заказал?
Я смотрю как баран.
– Мы всегда туда ходим ужинать, – говорит Нейт.
Интонация у него такая, что деваться некуда. Решено и подписано.
– Не вопрос, – говорю я. – Все под контролем.
Из кабинки мужского туалета я звоню в «Ревейджед фоул». Слышится неприятное эхо в трубке.
– Ничего нет, – отвечает мне женщина. – Все заказано. До понедельника – ничего.
Нейту я не говорю – некоторые вещи лучше узнавать лично, – но по дороге туда мой и без того хилый организм предчувствует какой-то стресс и гадает, что же должно случиться.
Мы приходим, я включаю дурака. Сообщаю хостессе свою фамилию.
– Сейчас посмотрю, – отвечает она, и я начинаю нервничать:
– У нас заказано. Мы сюда каждый год приезжаем. Сколько уже? – поворачиваюсь я к Нейту.
– Четыре, – отвечает он, глядя на ботинки.
– Вот уже не менее четырех лет мы сюда приходим, в один и тот же день. И я всегда заказываю столик. – Я начинаю возмущаться – девушка совершенно не реагирует: отвечает кому-то по телефону, я прямо перекрываю ее речь: – Мы думали, что можем на вас положиться.
Она приподнимает палец, будто переводя разговор со мной в режим удержания. У меня голос становится громче, настроение меняется.
– У тебя лицо как у папы, – говорит Нейт.
– Всегда или вот сейчас?
– Вот сейчас.
– Настроение паршивое.
– Хочешь, брось меня тут? Ты пойди, разберись со своей головной болью, а я к кому-нибудь пристроюсь за стол.
– Не вариант, – отвечаю я. – Слушай, может у человека на минутку испортиться настроение? На меня сегодня много навалилось.
Я не могу начать объяснять, как и почему, но шум, успех, блеск этого прекрасного сияющего дня меня гнетут. Все было так чудесно, что меня от этого тошнит, и я не могу объяснить Нейту и его приятелям, что само оживление, заразительная энергия их юности, манящие перспективы будущего – все это для меня чертовски депрессивный фактор.
– Как скажешь, – говорит он, и я чувствую, как он уходит, испаряется, оставляя пустую оболочку.
Хостесса заканчивает телефонный разговор, поворачивается и уходит. Меня подмывает броситься за ней – куда это ты, посреди разговора? Издеваешься надо мной на глазах у мальчишки?
Злость во мне кипит. Не говоря ни слова, я разрываю ее на части, сам удивляясь отвратительной ясности мыслей. Она исключительно непривлекательна – гротескна. До невозможности гордится тем, что кто-нибудь назвал бы хорошей фигурой, одета поэтому в изумрудное платье, слишком тугое, с глубоким вырезом, и буфера вываливаются. Не на хостессу похожа, а на уличную проститутку, на торговку наркотиками. Губы широкие и толстые, смазанные дешевым розовым дерьмом с блестками. Поры огромные, черные, каждая как отдельная выгребная яма, черная с черной головой. Из меня рвутся слова: «Не надо мне тут рассказывать, что вы забыли забронировать столик по заказу месячной давности. Какой вообще в этом смысл, в бронировании, если вы за ним не следите?» – и тут я вспоминаю, что ничего на самом деле не бронировал, и представляю себе, как вываливаю на нее вазочку мятных конфеток, опрокидываю стакан с зубочистками, рекомендую сливочный соус засунуть себе в одно место, а потом мы с пацаном уезжаем в какую-нибудь тошнотную забегаловку за двадцать пять миль отсюда.
Я себе все это представляю и слышу голос Нейта:
– У тебя сейчас такая же противная рожа, как у папы.
Эти слова жалят, ранят глубоко. Не хочется мне, чтобы он думал, будто мы с Джорджем – слабоумные двойники. Не хочу, чтобы он догадывался, что творится у меня в голове.
– Ты как себя чувствуешь? – спрашивает Нейт.
– Вроде нормально. А что – я что-то не то делаю?
Я подумал, не стал ли я мыслить вслух.
– Похоже, задумался.
– Я сегодня не подремал днем. После инсульта я каждый день сплю. Как объяснил доктор, мозг был поражен, и теперь ему нужно время восстановиться.
Хостесса возвращается, ведя с собой приземистого усатого мужчину, который тут же здоровается со мной за руку.
– Извините за задержку, мы не были уверены, что вы придете. Естественно, стол для вас зарезервирован. Сюда, пожалуйста.
Лучше все просто не могло кончиться.
Я копаюсь в кармане, и когда этот человек усаживает нас, я ему сую двадцатку.
– Ты и правда бронировал? – спрашивает Натаниэл.
– Наверное, это твоя мама заранее забронировала. Она была очень организованная.
Официантка не успела еще к нам подойти принять заказ напитков, как Натаниэл наклоняется ко мне через стол.
– Для сведения, – говорит он, – есть традиция: ты мне пиво заказываешь.
– Ты несовершеннолетний.
– Традиция, – повторяет он. – Заказываешь ты, пью я.
Я осматриваюсь. Ни за одним столом никто из детей пива не пьет.
– Мозги мне паришь, – говорю я.
Он молчит.
– Лучше бы ты со мной по-честному, – говорю я. – Это окупается.
– Ладно, – говорит он. – Мне хочется пива.
– Хочешь – получишь, – отвечаю я. – Машину тебе не вести, днем отлично поработал, и вообще какое мне дело. Ты какое предпочитаешь?
– «Гиннес», если у них есть…
– Правда?
– Ну, оно как еда в стакане. Я к нему привык прошлым летом, когда в Оксфорде был.
Я заказываю «Гиннес» и рутбир. Когда приносят, я беру кружку пива, чуть отпиваю и ставлю перед Нейтом.
– Тебе соломинка к нему нужна?
Он пьет, блаженно закрыв глаза. Явно это не первое пиво в его жизни.
– Я видел, как ты хостессу разглядывал, – говорит он, когда отрывается перевести дыхание. – Может, тебе стоит ее на свидание позвать? Ты же холостой теперь?
Знал бы он, что я на самом деле о ней думал.
– Я и понятия не имел, что ты такой спортивный, – говорю я, меняя тему. – У нас в роду спортсменов как-то не особо.
– А это не из твоего рода. Мамина бабушка была знаменитой пловчихой. Первая женщина, проплывшая вокруг острова Манхэттен.
– Правда?
– Ага. А ее муж, мой прадед, был глотателем огня. Колоссальный объем легких имел.
– Никогда бы не подумал.
– Так что не воображай, будто все на свете связано с тобой.
– Мальчики, что вам принести? – спрашивает официантка.
Я вижу директора – входит все в той же юбке, она раздувается над волосатыми и очень белыми коленями.
– Крабовые пироги как? – спрашивает Натаниэл.
– Отличные, – отвечает она. – Стопроцентно мышечная часть.
– Не уверен, что сейчас сезон для крабов, – говорю я.
– Я их каждый год ем, – возражает Нейт. – Мне салат «Айсберг» и голубой сыр, а потом крабовый пирог.
Почему мне всюду мерещится блевотина? Пиво, сыр с плесенью, крабовое мясо?
– Мне тоже «Айсберг» и сыр с плесенью, а потом – стейк дня.
– Жареный или печеный?
– На гриле.
– Картошку – жареную или печеную?
– Печеную, если можно.
Я отпиваю рутбира, и тут к нам идет директор.
– Ты что это пьешь, сынок? – спрашивает он Нейта.
– Да вот, попробовал глоток у дяди – он говорил, что какой-то странный вкус. А как по-вашему? – Он поднимает стакан с пивом в направлении директора.
– Для меня любое пиво – моча. Пью я только бурбон, да и то не на работе.
Подбегает усатый:
– Все тут нормально?
– Принесите этому человеку другое пиво. И юноше тоже можно бы налить еще – что у тебя там было? Кола? – благодушно ревет директор.
– Вообще-то рутбир.
– Хороший у вас спорран, – говорю я, не в силах сдержаться. – Тюленья кожа?
Интересно, откуда я это словечко подцепил – «спорран»?
– Тюленья кожа, – отвечает он. – Зоркий у вас глаз. – Спорран еще дедушкин.
Он включает шотландский акцент на полную мощность.
– Оно и видно, – говорю я, он кивает:
– Приятного аппетита, и поздравляю с восхождением. Рад наконец-то увидеть, откуда у Натаниэла такая удаль.
И он спешит к другому столу.
– О чем это вы? Про какой-то спор или спорт или про что оно?
– Спорран, сумка его. Я похвалил эту сумку. Вот эта штука на цепи называется спорран. В килте карманов нет.
На Нейта это производит впечатление. Я вытаскиваю пакет с таблетками на вечер и раскладываю их: перед едой, во время еды и после еды.
– А что еще должен я знать о тебе, Нейт?
– У меня школа есть в Южной Африке, – говорит он. – И я очень этим горжусь.
– В смысле, ты помогал собирать деньги на строительство школы? Кажется, твоя мама что-то говорила про это.
– Я ее построил, – буднично отвечает он.
– Руками?
– Руками, и руками тех поселян, кто там живет, и с помощью досок, гвоздей и листов металла – материалов, из которых строят школы. И я устроил систему фильтрации воды для деревни. Ее назвали моим именем. Было другое название, но сейчас ее все называют Нейтвиль.
Неужто он правду говорит?
– И как же ты все это смог сделать сам?
– Это не так трудно, как кажется, – поясняет он. – Что-то вроде очень большого «Лего». У меня были сансетовские книги планов для малых строений, я их собирался использовать, чтобы себе что-нибудь на заднем дворе соорудить, и мы выбрали их как источник идеи. Вопрос тут другой: если это может сделать мальчишка, почему другие не могут? Совершенно нет причины миру быть в таком мерзком виде. Просто люди, черт бы их побрал, жуть до чего пассивны и ленивы, и всегда выискивают, что не выйдет, вместо того чтобы искать, что получится.
Нейт излагает дальше, и все, что он говорит, не только правда. Это еще и логично, отлично продумано, хорошо сформулировано, убедительно. Он объясняет себя и окружающий мир, и у меня только одна мысль: невероятно, в голове не укладывается, что Джордж и его не убил.
Я влюбляюсь в Нейта. Он именно такой, каким я хотел бы быть в его возрасте, да даже и сейчас хотел бы. Я от него в благоговейном ужасе. Умелый, как никто из нас, и при этом еще ребенок.
– Твой папа знает, что ты все это умеешь?
– Сомневаюсь.
– А ты ему говорил хоть раз?
– Не знаю, как бы это выразить повежливее, но когда папа сюда приезжал, он в основном ручкался с народом и мало что замечал вокруг. И я предпочитал, чтобы так и было. Меня он вообще не замечал – считал неудачником, который зря тратит кислород и ресурсы. Так он и говорил – ресурсы.
– Да, он мужик суровый, – подтверждаю я.
– Не хочу я на эту тему.
– Без проблем. А о чем можно?
– Почему у вас с Клер детей нет?
Я беру у него стакан и отпиваю пива – слишком много, одним глотком. Оно щекочет ноздри, я давлюсь, разбрызгивая «Гиннес» по столу.
– Красиво, – говорит Натаниэл, пока я вытираю брызги.
– У нас однажды почти уже был ребенок. Клер забеременела, но произошел несчастный случай.
– Она потеряла ребенка? – требует ясности Нейт.
Я киваю. Это такая, приглаженная версия. На самом деле ребенок был мертворожденный, застрял и вышел по частям, когда его вытаскивали. А я все это видел. Я сидел с ее стороны занавеса, когда ребенка вытаскивали. Доктор вдруг крякнул с досадой, и я тогда встал, посмотрел – и увидел куски. Какое-то время до родов ребенок уже был мертвым. Клер приподняла голову:
– Можно мне посмотреть на ребенка?
– Нет, – слишком резко ответил я. И ничего ей потом не рассказывал.
– Младенец – все, – сообщил доктор. Я до сих пор не знаю, хотел он сказать, что его извлекли полностью или что он родился мертвым.
– Клер долго еще была в депрессии. «Тяжело прощаться с тем, кого ни разу не увидела», – говорила она. А я не знал, что ей ответить. Насчет второй попытки мы даже не заговаривали – слишком тяжело нам это далось.
– Моя мама тебе нравилась? – спрашивает Натаниэл, возвращая меня в настоящее.
Официантка ставит передо мной тарелку. От картошки поднимается пар, а мясо оживляет меня, как нюхательные соли.
– Нравилась? – повторяет он.
– Да, – отвечаю я не задумываясь.
– Ты ее любил?
– Это довольно сложный вопрос.
– Ты скучаешь по ней?
– Невероятно.
– Мне хочется думать, что она погибла не без причины. Умереть за любовь – причина вполне достойная.
– Тебя кто-нибудь спрашивал, хочешь ли ты видеть отца? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает он. – И нет.
Несколько секунд молчания.
– Ты часто разговариваешь с Эшли?
Он удивлен:
– Я ей каждый день звоню.
– Так всегда было?
– Нет, – отвечает он и снова замолкает. – Вот растешь, думая, что у тебя семья нормальная, не хуже, чем у прочих, а потом вдруг раз! – и происходит ненормальное, а ты понятия не имеешь, как это так получилось, и метаться уже некуда, и никогда снова не будет нормально. Это же не то что несчастный случай, когда на кого-то дерево упало, и не то, когда можно на кого-то другого злиться, на чужого человека… – Он осекается, молчит. – А что с мальчиком?
– С каким мальчиком?
– Который выжил после аварии. Он где?
– Живет у родственников. Кажется, у тетки.
– Мы должны для него что-нибудь сделать.
– Может, имело бы смысл создать фонд, чтобы у него всегда было все необходимое, – предлагаю я.
– Могли бы взять его как-нибудь на выходные, – предлагает Нейт. – Я очень люблю аттракционы, и он, наверное, тоже.
– Могу подумать в эту сторону. Это то, что ты хотел бы сделать, – взять этого мальчика куда-нибудь развлечься?
– Это самое меньшее, что мы можем, – говорит Нейт.
И он прав.
Мы едим. Ничего нет лучше на самом-то деле, нежели салат «Айсберг» с сырной заправкой, стейк и печеная картошка. Я заливаю сметану в дымящуюся шкурку картошки, напоминая себе при этом, что сметана в рекомендованный доктором список не входит. Ну и хрен с ней. Я еще сверху накручиваю соли и перца из мельничек – это утонченно.
После ужина я отвожу Нейта обратно в школу, медленно проползая по дорожке в длинной колонне родительских автомобилей, возвращающих мальчиков на ответственное хранение.
Можно строить догадки, как и почему представители рода человеческого, молодые люди в частности, образуют специальные клубы, вырабатывают ритуалы, привычки, повторяющиеся и передающиеся из рода в род. В таких вещах есть что-то очень уютное, спокойное, есть убежище – быть одним из многих, элементом группы, членом стаи – помимо семейной.
– Бывает, что взрослые пробираются внутрь и остаются ночевать? – спрашиваю я. Мне очень любопытно было бы понаблюдать изнутри жизнь дортуара.
– Нет, – отвечает он.
Я снимаю ногу с тормоза, и машина осторожно движется на холм. Один за другим выходят перед главным зданием ребята, в книге отмечают вернувшихся.
– В церковь ровно в девять утра, кофе и континентальный завтрак в восемь, – говорит директор и отпускает меня.
– Спасибо, что полез на стенку, – говорит Нейт. – Это было потрясающе.
Когда он закрывает дверцу машины, я не сдерживаюсь и выпаливаю:
– Нейт, я люблю тебя.
Хлопнувшая дверца отсекает мои слова. Нейт снова ее открывает:
– Прости, ты что-то сказал?
– До завтра, говорю.
– Ага, пока.
И дверь опять захлопывается.
Я еду в свой пансион. Ощущение – будто это я ребенок, и сейчас оставил взрослого – Нейта – в большом доме на холме. Комната в пансионе у меня крошечная – то, что называется каморка горничной, – и в ней приятно пахнет кедром. Когда я приезжаю, хозяйка спрашивает, не возражаю ли я, чтобы принадлежащий хозяйскому ребенку хомячок ночевал в моей комнате. Она говорит, что в случае необходимости может перенести животное, но ему лучше оставаться на месте, если это возможно.
– Он теряет ориентировку, если его переносить. Похоже, у него альцгеймер, хотя не знаю, какие точно у хомячка должны быть симптомы.
Я смотрю на хомяка, хомяк на меня. Не похоже, что у него альцгеймер: слишком много сознания в глазах. Отворачиваюсь от хомяка и раздеваюсь, инородное тело среди белой мебели под стиль королевы Анны, но с наклейками «Хелло, Китти». Кто такая, черт ее побери, эта «Хелло, Китти»? Насколько я понимаю, никак не Дженис Джоплин и не Грейс Слик.
Беру с кровати тощую стопку грубых полотенец, перебрасываю одно через плечо и следую по коридору в ванную. Там совершаю омовение (так я это называю) и под конец наливаю в пластмассовый стакан воду, которую наполовину расплескиваю по дороге к себе. Закрываю дверь, припираю ее стулом – замка нет, – и выкладываю свои таблетки на ночь. Никогда не думал, что буду пользоваться таблетницей с ящичками по дням недели, разделенными на ячейки для утра, дня и вечера. Как будто ношу с собой большую книгу таблеток – обернутую резиновой лентой, чтобы не раскрылась случайно.
Приняв таблетки, сижу на кровати. Половина одиннадцатого.
Решаю позвонить Джейсону, сыну тети Лилиан. Он все время у меня в мыслях, с самого ее посещения.
Вытаскиваю сотовый, раскрываю – здесь, в комнате, хороший сигнал, – и нахожу листок бумаги с номером Джейсона. Набираю.
– Алло? – отвечает мужчина.
– Джейсон, это я, Гарри, твой двоюродный брат.
Молчание.
– Я был у твоей мамы.
Молчание.
– Мы хорошо поговорили.
Из-за стены слышен голос жены, совладелицы пансиона:
– Чего?
– Ничего, – отвечает муж.
– Ты меня позвал по имени.
– Я молчал. Это тот постоялец из комнаты Лори, он с кем-то разговаривает.
– У себя в комнате?
– По телефону.
– Он тебе не кажется подозрительным?
– Нет, – отвечает муж, – не кажется. Это ты подозрительная: что ни день, а про кого-нибудь спрашиваешь, не подозрительный ли он. Такая подозрительная, что понять не могу, зачем тебе захотелось открыть пансион.
– Джейсон? – спрашиваю я. – Я тебе звоню по сотовому, ты меня слышишь?
– Да.
И снова молчание.
Что он думает, интересно, о том, зачем я звоню? Ему мать сообщила, что я к ней приходил? Не думает ли он, будто я ему звоню сказать, что у его мамы слишком много в холодильнике банок с истекшим сроком, что знаменитая жестянка с печеньем почти пуста и очень тревожит мысль, что она вообще, быть может, не будет больше полна?
– Джейсон, я звоню извиниться от имени всей нашей семьи. Не знаю точно, что случилось тогда в подвале, но я действительно прошу прощения.
– Я этого не помню, – говорит он.
– Как ты можешь не помнить? Твоя мать сказала, что это и сделало тебя геем.
– Ей необходимо думать, будто что-то «случилось», из-за чего я стал геем. Как будто недостаточно было жить с ней. В нашей семье геев полно.
– Кто у нас гей?
– Тетя Флоренс, – говорит он.
– Не может быть!
– Может. И двоюродный дедушка Генри, и его друг Томас. А в нашем поколении – Уоррен и Кристиан, который хочет стать Кристиной.
– Кто еврейского мальчика называет Кристианом? – спрашиваю я и замолкаю. Вдруг меня осеняет. – Джейсон, это с тех пор у тебя душевная травма?
– Не знаю.
– Ты не хотел бы рассказать кому-нибудь? – спрашиваю я, ставя телефон в режим спикера, чтобы ухо потом не горело.
– Кому, например? – спрашивает Джейсон.
– Ну, не знаю. Кстати, слышал ли ты…
– А то бы я не слышал. Весь мир слышал, на первой странице «Нью-Йорк пост» было. Что толку пережевывать?
Он в крайнем раздражении.
– Кто там орет? – спрашивает жена-совладелица у мужа. – Этот, что в комнате Лори, на кого-то орет?
– На него орут, – отвечает муж.
– Ты зачем звонишь? – спрашивает Джейсон.
– Не знаю. Лечащий врач Джорджа просил меня собрать информацию о родственниках. Я пошел к твоей матери узнать, из-за чего была ссора…
– Шарики из мацы, – говорит Джейсон таким тоном, каким напоминают общеизвестный факт.
– Да, теперь я знаю. И когда я у нее был, она мне рассказала, что произошло в подвале.
– Ты там был при этом, – говорит он. – И вот так ничего не заметил?
– Очевидно, – отвечаю я. – Но я хочу извиниться от имени своей семьи. – Перевожу дыхание и начинаю снова, чуть тише: – Можно тебе задать вопрос?
Долгая пауза.
– Можно, – разрешает он наконец.
– Твой отец умер? Твоя мать говорила, что он «ушел».
– Он уехал.
– В каком смысле?
– Он уехал в деловую поездку и не вернулся. Не позвонил и не написал.
– Она сообщила в полицию?
– Нет, оставила так.
– Ты его искал?
– Через много лет.
– И как?
– Он скрывался. Сказал, что ему нужно было уйти. Что мать от него хотела больше, чем он мог дать. Что это как-то меня касается, он будто и не замечал.
– Джейсон, я прошу прощения, – говорю я, повторяясь. – Если хочешь как-нибудь увидеться – выпить, вместе провести выходной, китайской дурацкой еды поесть в пятницу вечером, дай мне знать. Ты мой телефон знаешь?
– Да, у меня определился.
– Ну, буду надеяться, что ты перезвонишь. Доброй ночи, Джейсон.
– Ничего не слышу, – говорит через минуту жена.
– Может, он спит, – отвечает муж.
– Не бывает так, чтобы говорил – и вдруг заснул.
– Ну, хорошо, может, читает.
– Вряд ли, – говорит она.
– Да какая разница? Будет мне хоть минута покоя? Может, он думает.
Крошечная постель в крошечной комнате, и у меня – минута ясности. Я – взрослый человек, который так и не стал взрослым. Как Оскар в «Жестяном барабане» – отказался расти.
Просыпаюсь ночью. Тихие скребущие звуки, а потом начинается: «ээ-ох», «ээ-ох», – как разболтавшаяся пружина кровати, как человек, занимающийся сексом. Первая мысль: мотельные пружины! Ритмичный скрип дешевых, разболтавшихся пружин. Прислушиваюсь к стене – ничего. К другой – все те же разговоры мужа с женой. К полу. Там телевизор.
Гляжу на хомяка. Он застывает, сжавшись, пойманный на месте преступления, бусинки глаз встречаются с моим взглядом. Круглое хромированное колесо уже не вертится, но все еще покачивается взад-вперед, замедляя движение.
– Ты? – спрашиваю я.
Хомяк шевелит носом.
– Я? – будто спрашивает он, удивленный не меньше меня.
Утром я просыпаюсь с чувством, будто вернулся после долгой поездки, и во рту держится вкус вчерашнего стейка. Ощущение не неприятное, но к завтраку лишнее.
Голова прошла.
Я еду с Нейтом в церковь. Капелла школы, построенная из невероятно старых камней – их притащили прямо из Англии, – просто идеальна. На витражах в технике Тиффани – мозаика на библейские сюжеты. Школьный капеллан представляет женщину-раввина, и она говорит так, будто избрана напомнить нам то, что мы и без нее знаем: мы – люди, со всеми людскими пороками, и наша человеческая сущность, наше человеческое сознание подразумевают сочувствие, доброту и смирение. Ее выступление похоже не на лекцию, а на опрос: она ставит перед нами вопросы, будто ей интересно наше мнение.
– Что значит – приносить пользу? – спрашивает она. – Для чего это делается – ведь не для улучшения резюме, чтобы попасть в колледж? Что движет человеком, что волнует его? Что лучше – быть в гуще своей культуры, своей традиции – или чувствовать, что ты вылетел на обочину и безнадежно отстал? В любых вопросах самое главное – быть участником, а не посторонним наблюдателем.
К моменту окончания службы мы испытываем подъем чувств, ощущаем духовную мотивацию и готовы начать новую неделю с новыми силами. Мне понятно, что нравится в этом Нейту: настрой речи, родительский добрый совет, которого в ином месте ему не получить.
При выходе молодая раввинша, школьный капеллан и директор – теперь уже в штанах – выстраиваются в эрзац-шпалеру. Трудно пройти мимо, не пожав руку. Не знаю почему, но меня сильно подмывает сказать что-нибудь вроде «Шабат шолом» или «Да пребудет с тобой Сила». Но я сдерживаюсь.
Мы выходим на лужайку. Все в воскресной одежде, закутанные в зимние пальто, смотрят в синее небо, на высокие белые облака. В центре лужайки открывается огромный ящик, из него вытаскивают толстый старый канат, раскладывают. Люди достают из карманов перчатки, другие раздают рулоны клейкой ленты, ею обматывают себе руки, отрывают прямо зубами и передают дальше. Одна женщина бинтует руки медицинским бинтом – они становятся похожими на раненые лапы. У всех на руках что-то есть: автомобильные перчатки, митенки, перчатки для гольфа, просто по куску войлока в каждой руке, у кого-то на одной руке лыжная перчатка.
– Что это? – спрашиваю я Нейта.
Канат растянули полностью. Он старый, тяжелый, такие бывают на старинных верфях. Сейчас уже таких не делают, его нигде не купить.
– Традиция, – говорит Нейт. – Уик-энд завершается перетягиванием каната – учащиеся против родителей. А канат с того корабля, на котором прибыли в Америку отцы-основатели. Он жуть до чего стар, и никто не знает, отчего до сих пор цел. По идее, он давно должен был лопнуть.
– А с руками что они все делают?
– От каната рукам чертовски больно. Он обжигает.
И у всех на ногах горные ботинки, туфли для гольфа, футбольные бутсы, каблуки, которыми можно врыться в землю, снеговые цепи – народ явно относится серьезно и подготовился заранее. Многие снимают пальто.
– Чтобы движения не стесняло, – объясняет один из них.
Люди занимают позиции вдоль каната: впереди пятеро мужчин, потом мужчина – женщина, мужчина – женщина, до самого конца, где опять одни мужчины. Некоторые застенчиво стоят в стороне, то и дело оправдываясь: замена колена, или двух бедренных суставов, или плечевого два месяца назад, шунтирование всех коронарных сосудов. Несколько мальчиков в гипсе, на костылях, один в кресле-каталке, и я задумываюсь: он оказался в кресле до того, как попал в школу, или это здесь случилось?
Я смотрю и вдруг вспоминаю, как мы с Джорджем играли в перетягивание каната. Тяну изо всех сил, и вдруг Джордж отпускает свой конец, я лечу назад и плюхаюсь на задницу в кучу битого стекла.
– После вчерашнего я еще никакой, – говорю я Нейту. – Так что на этот раз пропущу.
– Без проблем, – отвечает он, спеша занять место среди своих.
Гремит выстрел. Я поднимаю глаза и вижу директора со старинным пистолетом в руке. Воняет порохом, рука у директора в черных полосах и будто дымится.
Соревнование началось. Я не могу отвести глаз от женщины в куртке из вареной шерсти, белокурые локоны схвачены сзади лентой, чтобы не падали на лицо, губы раздвинуты в оскале, зубы стиснуты, тянет канат так, будто жизнь от этого зависит.
– Замечаю, вы глаз не сводите с моей жены. Вы ее знаете? – спрашивает меня сосед. Рядом с ним мужчина с ампутированной до колена ногой.
– Лицо знакомое, – отвечаю я. Не потому, что это правда, а просто не знаю, что еще сказать.
– Она из Мидлбранчей, – говорит он. – Семья древняя. Кто-то из них жил в одной комнате с Беном Франклином во Франции в тысяча семьсот пятьдесят третьем году. Чертовски интересный дневник вел.
– А как вы познакомились? – спрашиваю я.
– Я тут учился, а она с двумя еще подружками из «Школы Эммы Уиллард» приехала навестить брата. Странно, не правда ли – жениться на девушке, с которой познакомился в четырнадцать?
– Может, это самое лучшее. В юности есть великая ясность.
– А отчего вы не тянете? – спрашивает он.
– Инсульт. А вы?
– Колостома, черт бы ее побрал! – он похлопывает себя по животу через пальто. – Рак был размером с апельсин, и мне там все трубы перемонтировали. Клянутся, что потом сделают как было, но я что-то не очень уверен.
Наш разговор прерывает стон участников. На ком-то штаны лопнули, кто-то стискивал челюсти так, что зуб сломал. Взрослые тянут, тянут, тянут изо всех сил, зарываясь в землю несокрушимо, как солдаты. Обе стороны весьма решительны, весьма уверены не только в победе, но и в том, что в этой победе, в поражении другой стороны есть какая-то еще более великая победа.
– Взяли! – кричит кто-то на родительской стороне.
– Взяли! – мальчишеский голос с другого конца.
– Дышим! – кричит какая-то женщина. – Как в упражнениях по Ламазу!
У Миддлбранч натягивается, растягивается вареная шерсть куртки – видны белые волокна, нити. Это и правда борьба изо всех сил, борьба за первенство, и у меня создается впечатление, что это родители отчаянно пытаются что-то заявить, доказать, поставить на своем. А что и почему – я не очень понимаю.
И вдруг все будто взрывается, канат остается у мальчишек, и они исполняют на лужайке импровизированный танец победы – дикие вариации на тему Марты Грэм.
Родители поднимаются, отряхиваются, и как-то вдруг становится ясно, что уик-энд окончен. Отцы и матери обнимают сыновей, прощаются.
Нейт крепко сжимает меня в объятиях и благодарит за приезд.
– Дай мне знать, как доберешься домой, – говорит он.
– Обязательно.
Пока я иду к машине, муж Миддлбранч успевает мне сообщить, что это обычный исход – родители редко выигрывают. И руководство школы любит, чтобы прощание было горячим и коротким: ребята заканчивают уик-энд выполнением домашних заданий и молочным поросенком на ужин – такова традиция. Завтра понедельник, учебный день, и будущим капитанам индустрии, титанам банков, звездам хирургии и корифеям бухгалтерии надо сделать уроки.
Я быстро возвращаюсь к обычному распорядку дома Джорджа. В четверг вечером, когда я отдыхаю, перечитывая «Свидетеля власти» Джона Эрлихмана, мне звонит лечащий врач Джорджа.
– Мы перешли ко второй стадии. Наша группа считает, что было бы полезно вам приехать и у нас погостить.
– В каком качестве? – спрашиваю я, опасаясь, что мне придется как-то официально «вписываться».
– В качестве товарища по играм. Под наблюдением, конечно.
– Могу я это прекратить, если мне не понравится?
– Теоретически – да, – отвечает он.
– Теоретически?
– Просто там больше делать нечего. Но держать вас в заложниках мы не собираемся.
– Тогда ладно, – говорю я.
– А можете привезти с собой собаку? – спрашивает доктор.
– Могу, – отвечаю я, мысленно отметив, что в этот прекрасный уик-энд единственное, чего мне не хватало, так это Тесси.
Я складываю сумку для себя и сумку для собаки. Для Тесси я беру здоровенный пластиковый мешок сухого корма, поменьше – с собачьими сухарями, игрушками, туда же несколько мешков для уборки кала и старое полотенце – чтобы ей на нем спать. Себе – смену одежды, пижаму, зубную щетку и пластиковый закрывающийся мешок для своих новых лекарств вместе с инструкцией, которую мне надо каждый день перечитывать – иначе я не запомню, когда и в каком порядке их принимать.
Ощущение, будто месяцы прошли с тех пор, как я ехал в это «заведение», везя Джорджу одежду. Это далеко, куда дальше, чем школа Нейта. И ехать туда – это как тянучку тянуть: с каждым часом цель все дальше и дальше. На полпути я заезжаю в одно из этих случайных лесистых мест, где написано «Площадка отдыха». На краю парковки пара фур и несколько туалетных кабинок. Я откидываю спинку сиденья, закрываю глаза, и мне снится, как Никсон создает в семидесятом Агентство охраны окружающей среды, проводит через конгресс закон чистого воздуха, закон о морских млекопитающих, закон о чистоте питьевой воды, закон об угрожаемых видах, – и тут меня будит постукивание в стекло и всполошенный лай Тесси.
Возле машины человек с расстегнутой ширинкой, озабоченно-набухшие серые трусы торчат на уровне моего глаза.
– Ищу любви, – говорит он, виляя бедрами, голос приглушен через стекло.
Я смотрю в его лицо – небритое, с дикими глазами. Хватаю ключ, включаю зажигание, газ в пол – и прочь со стоянки. Тесси бросается вперед, теряет равновесие и стукается о приборную доску. Я сбрасываю ход, давая ей подняться, и снова на хайвей, стараясь поднять спинку, не снимая ногу с газа.
И пока я еду, гоню все дальше и дальше на север, у меня стоит перед глазами эта картина… У этого типа член выпирал из штанов, и он хотел, чтобы я…
Что сделал?
– Как он мог вообще думать, что это кого-то привлечет? – спрашиваю я у Тесси.
День клонится к вечеру, когда я сворачиваю налево у почтового ящика с надписью «Лодж». Тесси рычит на привратника, который на нее не обращает внимания, а меня просит открыть багажник, что я и делаю. Получив разрешение въехать, я паркуюсь и выпускаю Тесси. Она несется к главному зданию, влетает на клумбу и тут же выдает полный заряд диареи.
– Как собаку зовут? – спрашивает мрачный мужчина с переносной рацией.
– Тесси, – отвечаю я.
Он приседает, не замечая запаха псины.
– Ты хорошая собачка, Тесси. Мягкая собачка, пушистая. Да, Тесси? Не какая-нибудь здоровенная злобная кусака, не брехливая собачатина, да? Ты не рычишь, зубами не лязгаешь? – Собака лижет его в лицо. – Я так и знал, ты собачка-поцелуйщица!
Нас с Тесси вносят в список – персонал на этот раз дружелюбнее, хотя, должен сказать, подходя к столу в приемной, я ожидаю неприятностей. Сумку плюхаю прямо на стол, практически требую: «На, обыщи меня!» Приемщица как-то очень охотно расстегивает пакеты, вытаскивает мой пухлый мешок с лекарствами и вызывает начальника, объявляя в интерком:
– На приемном столе – проверить колеса.
– Не думаю, что отпущенные по рецепту лекарства следует называть «колесами», – замечаю я.
– У нас своя терминология, – говорит девушка. – Хотите печенье и чашку чая? Начальник смены будет с минуты на минуту.
Она подвигает ко мне чайник с кипятком и жестянку датского масляного печенья. Я беру одно для себя, одно для Тесси.
– Это животное для психотерапии? – спрашивает девушка.
– Да нет, просто собака.
Приходит начальница, поднимает прозрачный пакет с лекарствами к лампочке в потолке, будто та рентгеновские лучи испускает. Встряхивает пару раз пакет, звенящий колокольчиком, и возвращает его мне.
– У себя в комнате вы найдете запирающийся шкаф – как сейф в отеле. Свои лекарства будете постоянно держать там. Есть у вас какие-либо металлические предметы, фотоаппарат, записывающие устройства, оружие?
– Ничего. Кроме того, что ЦРУ мне в голову вмонтировало.
– Юмор легко может быть истолкован неправильно.
– Я нервничаю, – говорю я. – Никогда еще не был в психиатрической больнице.
– Совершенно нет причины нервничать. Вы ведь только посетитель?
Появляется молодой человек, с виду старшеклассник, но представляется он как доктор Розенблатт.
– Мы с вами по телефону разговаривали. – Он энергично жмет мне руку. – Я знаю, что в последний раз вы не особенно хорошо рассмотрели наше заведение, поэтому давайте начнем с обзорной экскурсии. Здешние ландшафты проектировал тот самый архитектор, что создавал проекты Центрального парка и Парижа.
Розенблатт выводит меня через главный павильон к задней двери.
– Красиво, – говорю я при виде играющих солнечных пятен на холмистом ландшафте. – Прямо как национальный парк.
– Мы называем нашу территорию кампусом, – сообщает Розенблатт.
«Кампус» укомплектован боулингом, площадками для гольфа и теннисными кортами. Всего этого достаточно, чтобы безумие начало выглядеть заманчивым. Тесси экскурсия нравится, она неоднократно писает и какает. Заканчивает экскурсию Розенблатт возле участка территории, несколько выпадающего из общего стиля: длинное низкое здание, похожее на охотничий отель в глубинке.
– Это здание у нас используется для различных целей, в частности, как жилище для наших гостей. Если вам покажется, что охрана слишком интенсивна, то это так и есть. У нас сейчас находится один бывший кандидат в президенты, и приходится принимать меры предосторожности. Известно ведь, что папарацци подкрадываются из леса, ну, и так далее.
– Интересно, – отвечаю я.
– Мы лечим самые разные случаи.
– А проигрыш выборов – тоже ваш случай?
– Это достаточно большой стресс, а про нас известно, что мы умеем работать с клиентами из высших сфер. Наша отдаленность от цивилизации, малая текучесть кадров, частный аэропорт в пятнадцати минутах езды – аргументы в нашу пользу. Несколько лет назад у нас лечился один из известнейших киноактеров. У него после подтяжки возникла инфекция, и в конце концов лицо стало совершенно другим. Он чуть окончательно не лишился рассудка.
– И как же вы его лечили?
– Уговорили отрастить бороду и носить до тех пор, пока не привыкнет, – говорит он так, будто сообщает нечто совершенно очевидное.
Розенблатт отпирает двери и заводит меня в помещение, будто спроектированное марсианином, читавшим переводные книги по американской истории: все красное, белое или синее. Или коричневое. Все здесь сговорилось выглядеть стопроцентно янковским, норманно-рокуэлловым, полезным для здоровья. Мебель деревянная, «Этан Аллен», стопроцентно американского производства. Стиль этот лучше всего описывается как «колониальный», но я бы его обозначил как «безопасный» и «вневременной». Плечики не снимаются с перекладины в шкафу, на стене электрические часы на батарейках, у всех ламп наверху шнуры очень короткие. На тумбочке – корзиночка с двумя бутылками воды, белковым батончиком и горсткой сушеных ягод – на случай, если придется перейти в режим выживания. Ироническим противоядием к этой поддельной домашности над дверью нависает красно-белая подсвеченная надпись «ВЫХОД». Все это – флешбек, воспоминание об Америке, которой никогда не было, Америке мечты героев фильма «Приключения Оззи и Харриет». На ночном столике рядом с кроватью – блокнот с логотипом заведения, прекрасный подарок для собирателей сувениров подобного рода.
Я вспоминаю мебель Никсона. Любимый диванчик коричневого бархата, на котором Никсон любил вздремнуть после ленча в «личном» офисе в старом здании администрации президента, за углом от Белого дома. Вспоминаю «вильсоновский» письменный стол, который Никсон попросил поставить в Овальный кабинет, думая, что им пользовался президент Вудро Вильсон, а получил он тот стол, что принадлежал бывшему вице-президенту Гарри Вильсону и в который по поручению Никсона в семьдесят первом году установили пять записывающих устройств. Этот стол, вернувшийся сейчас туда, где был раньше, в кабинет вице-президента в Капитолии, с тех пор служил Уолтеру Мондейлу, Джорджу Бушу, Дэну Куэйлу, Алу Гору, Дику Чейни и Джо Байдену. Понятия не имею, что случилось с «жучками», которые передавали информацию из стола в старую гардеробную в подвале Белого дома. Я оглядываю номер мотеля и думаю о насекомых всех видов, от «жучков» и до клопов. Последнее время в новостях говорят об эпидемическом росте количества последних.
– Супружеские визиты дозволены? – спрашиваю я.
– Это решает врач, – отвечает доктор Розенблатт, забыв, что врач – это он и есть.
Отметив, что в номере нет телевизора, я спрашиваю:
– А у Джорджа телевизор есть?
– В кампус телевизоры не допускаются. Но по пятницам у нас показывают кино.
– Дома у него телевизор в каждой комнате. Одиночество ему невыносимо. Даже в туалете ему нужно, чтобы с ним кто-то говорил. Вы знаете, что он руководил телесетью?
Розенблатт кивает.
Я продолжаю рассказывать о Джордже, все более воодушевляясь.
– Он изменил лицо телевидения. Джордж, и только Джордж создал такие программы, как «Твоя хреновая жизнь» и «Войны у холодильника», «На дороге – своя дорога», «Врачи без белых халатов». – Розенблатт, похоже, перестал слушать, и потому я вбрасываю пару названий, состряпанных на месте для проверки, вроде «Чем лечь с женой, так лучше лечь в могилу», – и Розенблатт механически кивает. – Вы не особенно увлекаетесь телевизором? – спрашиваю я.
– У меня его нет, – отвечает он. – И не было никогда. Хочешь стакан воды?
Это к Тесси.
– Теория «стакана воды» не про нее, ей бы практику миски, – отвечаю я, не сразу перестав придумывать названия. Отстегиваю поводок и начинаю доставать миску. Тесси тем временем находит туалет и долго, с удовольствием пьет из унитаза. – Так где вы медицину изучали?
– В Гарварде, – отвечает он.
– А здесь как оказались?
– Я специалист по электрошоку, – говорит Розенблатт. – Еще в школе лечил кота от приступов тревоги домашней электрошоковой установкой, которую с тех пор применяют в странах третьего мира.
– Там, в третьем мире, много случаев тревожности у котов?
– У людей, – поясняет он.
– Я и не знал, что электрошок до сих пор применяется.
– Он весьма популярен, – отвечает Розенблатт. – Триумфально вернулся после нескольких успешных случаев лечения лекарственно-устойчивой депрессии.
Что-то в голосе Розенблатта, произносящего «лечение лекарственно-устойчивой депрессии», мне напоминает рекламный ролик стирального порошка, когда этот порошок на глазах изумленной публики удаляет травяное пятно с джинсового колена. Теперь у меня электрошок и «Тайд» неразрывно друг с другом связаны.
– Понятия не имел, – говорю я. (И я действительно думал, что он всюду запрещен как антигуманный и, возможно, жестокий.) – Кстати, сколько стоит пребывание здесь?
– У вашего брата очень хорошая страховка.
– Насколько хорошая?
– Насколько есть.
– Куда отсюда уходят люди после, как бы сказать, окончания?
– Кто в другие программы пребывания, кто в переходные учреждения, а некоторые – домой.
– А в тюрьму – никто?
– Похоже, вы несколько сердитесь на брата.
– Есть малость.
– И хотели бы, чтобы он был наказан.
– Не думаю, что его можно наказать. Во всяком случае, так говорила моя мать.
– Правда?
– Да. Она часто говорила: «У твоего брата интересное свойство. Он может творить что хочет, потому что если его попытаешься наказать, ему плевать».
– Интересно. И вы думаете, это правда?
Я киваю.
– Он мало что воспринимает эмоционально, – говорю я. – Кстати, когда мы с Джорджем увидимся?
Я смотрю на часы – половина шестого.
– Доктор Гервин, определяющий лечение вашего брата, хотел бы прежде кратко переговорить с вами, а потом отвести вас к Джорджу. – Розенблатт вынимает напечатанное расписание и отдает мне. Потом еще одну бумагу – бланк отчета. – Если сможете, заполните это перед отъездом и оставьте на вахте. Всем отчетам присваивается балл, и нам за них начисляются очки – мили, которые можно использовать для поездок, скидки в магазинах, по другим услугам – в зависимости от балла. Я собрался на пробежку, – говорит он, глядя на Тесси. – Был бы рад взять с собой вашу собаку.
Я вспоминаю про его эксперименты с котом.
– Спасибо, но пусть лучше она побудет со мной.
Я возвращаюсь в главное здание, где в небольшой комнате встречаюсь с доктором Гервином. Такое совершенно безличное стерилизованное помещение, где уместно было бы подписываться на членство в фитнес-клубе или подавать заявление в военно-морской флот. Мы пожимаем друг другу руки, и он тут же брызгает себе на свои ладони антисептиком.
– Мне, наверное, тоже следует, – говорю я, стараясь, чтобы звучало небрежно. Он толкает «Пюрелл» ко мне, я наполняю руки пеной и быстро потираю их одну о другую. – Чертовски забавно.
Гервин похож на Стива Мартина: черты лица слегка резиновые, но выражение его одно и то же, будто он изучил себя в зеркале и решил оставить вот это: вполне толерантная, но безучастная улыбка. Так лучше всего.
Он вытаскивает конверт из плотной бумаги и устраивается за небольшим столом.
– Когда вы впервые обратились к психиатру? – спрашивает он.
– Я?
– Ну да, вы.
– Я не обращался. И вроде бы как не собираюсь.
– Вам не кажется странным: прожить такую долгую жизнь и обойтись без помощи?
– Не кажется.
– Ну, пойдем дальше, – говорит Гервин. – Половая жизнь.
По его интонации не вполне понятно, утверждение это или вопрос.
– Да, – отвечаю я.
– Как бы вы ее описали? Какого оттенка?
– Ванильного.
– Секс вне основных отношений? – спрашивает он.
– Нет, – отвечаю я, гадая, насколько ему известны события, приведшие к этому моменту.
– Проститутки?
– Мы про меня или про Джорджа? – спрашиваю я. – Можете честно написать в этой графе: «Реакция враждебная». Я готов помочь брату, но у меня есть право на частную жизнь.
– Да, частная жизнь есть у нас у всех, – соглашается Гервин, и интонация у него понимающая. – Проститутки? – повторяет он.
– Нет, – отвечаю я. – Когда я говорю «частная жизнь», это значит, что с вами обсуждать ее я не хочу.
– Как бы вы описали свою эмоциональную жизнь?
– Таковой не имеется, – отвечаю я честно. В этой области я сильно завидую Никсону: он умел плакать, его даже можно было плаксой назвать. И часто он открыто рыдал, скорее даже всхлипывал. – Я стараюсь избегать эмоций.
– У каждого из нас свои методы, – говорит он. – Если с вами случится что-то такое, что вам не нравится, если с вами кто-то обойдется дурно, что вы будете делать?
– Буду делать вид, что этого не было.
Джорджа мы находим на теннисном корте. Автомат кидает в него мячи, а тренер кричит: «Замах, удар, проводка».
– У него сильный удар слева, – говорит доктор, глядя в окно.
– Всегда был, – отвечаю я.
После занятия меня приглашают встретиться с Джорджем в раздевалке. Гервин берет Тесси, и я вхожу. Джордж стоит голый под душем, обращаясь ко мне с намыленным лицом:
– Тесси с тобой?
– Здесь, за дверью. Сюда я ее заводить не стал, она кафель не любит. У тебя отлично получается слева, – говорю я, завязывая разговор. Черт его знает, о чем я должен с ним разговаривать.
– Врачи говорят, я поправляюсь.
– Это здорово.
Я успеваю мельком подумать, понимает ли он, что находится не в каком-то профилактории для высшего руководства, а за решеткой в сумасшедшем доме.
– Скоро на ужин, – говорит он. – Ты остаешься?
– Да, я сегодня и завтра здесь.
Это несколько странно все, будто на свое тело со стороны смотришь. Его врачи послали меня в раздевалку увидеться с ним, пока он голый и плавает в чем-то вроде послеигрового кайфа, как следует сдобренного лекарствами.
– Я тебя тут оставлю, одевайся, – говорю я, готовясь выйти. Выхожу и встречаю Гервина, который передает мне поводок. С ним еще Розенблатт и тренер по теннису, они стоят и говорят друг другу, как это хорошо, что Джордж «снова в игре».
Когда из раздевалки выходит Джордж, Тесси, завидев его, изо всех сил натягивает поводок. Джордж приседает перед ней, отклячив задницу и расставив руки, – игровая стойка. Собака ведет себя возбужденно, но подозрительно-осторожно. Джордж валится на траву, начинает кататься на спине, болтая руками и ногами в воздухе. Собака ведет себя так, будто рада его видеть, но знает, что он псих. У меня отношение такое же: настороженно-оптимистическое.
– Умница, – говорю я собаке.
По дороге в столовую кто-то из обслуги берет Тесси и уводит – «на то время, пока вы будете есть».
Джордж оборачивается ко мне:
– Ты постарел.
– Со мной произошел небольшой несчастный случай.
– Так он же со всеми произошел.
– Со мной еще один. После того первого.
Вслед за нами в столовую входят Розенблатт, Гервин и тренер по теннису.
Мы рассаживаемся. Я кладу под себя папку-гармошку, которую привез из дому и тут всюду таскаю с собой. Официант спрашивает, кому из нас «ягодный взрыв». Они все поднимают руки.
– А вам да или нет? – спрашивает тренер, глядя на меня.
– А что такое «ягодный взрыв»?
– Красно-зеленый молочный коктейль, богат антиоксидантами, с добавкой «омега-три», – отвечает он на автомате.
– Тогда и мне, – говорю я.
– Батончик какой? – спрашивает Джордж.
– «Тоффи-мока-мушкетер».
Жаль, что я не знаю языка, на котором они говорят.
– Мне стейк, – говорю я.
– У нас вегетарианский стол, – отвечает официант. – Могу вам сейтан в петрушечном соусе принести. Говорят, что по вкусу как телятина.
– С удовольствием.
Официант собирает у всех заказы и извещает нас, что салатный бар открыт. Я смотрю на прочих посетителей. Трудно сказать, кто тут сотрудник, а кто пациент: все одеты так, будто в гольф играть собрались. По ту сторону салатного бара видна дверь, ведущая во что-то вроде отдельного кабинета. Вдруг в вихре движения целая группа пролетает через главный зал и туда, в отдельный кабинет. В окружении этих людей я успеваю заметить затылок седого мужчины. Видимо, это и есть бывший кандидат в президенты.
– Вы историк? – спрашивает меня Гервин, пытаясь завязать вежливый разговор.
– Преподаватель и исследователь. Сейчас тоже работаю над книгой.
– Мой маленький братик думает, будто на Никсоне собаку съел, – добавляет Джордж.
– Я вообще-то старше на одиннадцать месяцев. Старше, – повторяю я.
– И что вас интересует в Никсоне? – спрашивает Гервин.
– А что в нем не интересно? Он увлекает невероятно, и история все еще развивается, – отвечаю я.
– Вообще-то мой братец в Никсона влюблен. Не может на него налюбоваться, вопреки всем его недостаткам. Мне типа нравится, все время есть над чем поржать.
– Кстати, о тебе. Джордж остаток жизни проведет за решеткой?
– Такие решения принимаем не мы, – отвечает Гервин, будто беря Джорджа под защиту.
– Мы не юристы, – подхватывает тренер по теннису.
– Умеешь ты сразу быка за рога, – говорит Джордж.
– А ты им сказал, как тебя однажды отец вырубил так, что потом неделю искры в глазах мелькали?
– Напомни! Как это было?
– Ты насчет чего-то старика доставал, и он тебя попросил подойти поближе. Ты подошел. Он тогда сказал: «Ты только никогда не забывай, кто из нас главный», – и врезал тебе. Папочка у нас был как мафиози: чуть что – заорет и в морду. Примитивный был человек.
– Ты на него клепаешь, потому что меня он любил больше, – говорит Джордж.
– Мне плевать, любил он меня или нет. Думая о тебе, Джордж, задним числом, понимаю, что надо было увидеть письмена на стене. Разбитая о стену кофейная чашка, зазубрина в человеческий рост на штукатурке, погнутая крышка мусорного бака.
– Агрессия против неодушевленных предметов не всегда означает, что человек убьет свою жену, – замечает Розенблатт.
– Вы правы. Джордж, ты помнишь, тебя психиатр спросил: «Тебе случалось ударить женщину?», а ты ему ответил: «Только по заднице».
Джордж искренне смеется:
– Помню, как же.
– А игрушечное оружие помнишь? Когда играли на эстакаде над пляжем в карнавальные игры, стреляли шариками в мистера Магу, и ты вдруг повернул ружье на своего брата?
– Такое событие трудно оценить вне контекста, – говорит Розенблатт.
– А он вам не рассказывал, как сбил меня машиной?
– Ну, понес свою излюбленную байку, самую лучшую. И я тебя не сбил, а стукнул раз.
– Нарочно.
– Не стану опровергать, – пожимает плечами Джордж.
– В школе у него прозвище было – Победитель.
– Хватит, – говорит Гервин. – Смысл этого ужина – потрепаться ни о чем и просто притереться малость.
– Ага, – говорит Джордж. – Так что заткни фонтан.
Я зарываюсь в сейтан, напоминающий печеный картон в резиново-лимонно-каперсно-крахмальном соусе. За едой я спрашиваю у Розенблатта, когда у меня будет возможность поговорить с Джорджем наедине – о некоторых частных семейных делах, ремонте дома, собаке и кошке, детях, финансах.
– Этого нет в расписании? – спрашивает он озабоченно.
Я качаю головой:
– Я для этого и приехал, мне нужно с ним поговорить. Можно ли сегодня, после ужина?
Розенблатт смотрит на меня так, будто ему эта мысль и в голову не приходила.
– Можно устроить, – отвечает он, вынимает ручку и что-то черкает в расписании.
И вот после тофутти с фальшивой горячей помадкой и чайником зеленого чая, на вкус напоминающего воду из аквариума, Гервин, тренер и Розенблатт встают.
– Мы с вами прощаемся, – говорит Гервин, – на сегодня.
Тренер хлопает Джорджа по спине.
– Горжусь тобой, – говорит он. – Вот стараешься, так видно, что стараешься.
Они так чертовски оптимистичны, что аж тошнит.
– Так обращаются со всем пациентами?
– Да, – говорит Гервин. – Мы стараемся создать безопасную среду: очень много трудностей возникает из-за страха.
– Я буду здесь. – Розенблатт показывает на стол возле двери. – На случай, если понадоблюсь.
– Уродский цирк, чтоб их всех, – говорит Джордж им вслед, когда они уже не слышат.
– А ты в нем звезда арены.
– Как там мой котенок и собаченька?
– Нормально, – отвечаю я. – Жаль, не знали про невидимую изгородь, но разобрались.
– Ты даешь Тесси противовоспалительные и витамины?
– А которые ее?
– В кухонном ящике, большая банка.
– Я думал, это твои. Сам ежедневно принимал.
– Дебил, – говорит Джордж.
Я вытаскиваю из-под задницы папку-гармошку.
– Вот тут хочу у тебя кое-что спросить. Начну с мелочей: как действует внешнее освещение двора перед домом? И еще: я видел Хайрэма П. Муди, он приходил на похороны – это он оплачивает все счета? Есть ли что-то, за чем я должен присмотреть, вроде счетов? Какой у тебя пин-код? Да, и я пытался воспользоваться кредитной картой, а она защищена паролем. Спрашивают девичью фамилию матери. Я ввел «Гринберг», но это оказалось не то.
– Дендридж, – говорит Джордж.
– Это чья фамилия?
– Марты Вашингтон, – отвечает он, удивляясь моему вопросу.
– Забавно. Никогда бы не подумал. Я решил, имеется в виду девичья фамилия твоей матери, а не матери всей Америки.
– Иногда я забываю живых родственников, но никогда не забуду Марту, – говорит он. – Удивлен, что ты не знал. А еще называешь себя историком.
– Кстати, об истории. Пытался ввести место твоего рождения – Нью-Йорк, но тоже не угадал.
– Я всегда использую Вашингтон, округ Колумбия. Его мне проще удержать в памяти.
– Вот именно, – говорю я. – Да, и пока не забыл, – (слово «память» навело на мысль о компьютерах и их сетях), – я тут с твоей подругой виделся.
– Вот как? – удивляется он.
– Она сказала, что у тебя он на вкус как тесто для пончиков и что сзади ты ее знаешь лучше, чем спереди.
Морда у Джорджа в этот момент миллион стоит. Он тут же начинает суетиться:
– Вообще не понимаю, о чем это. Ты говорил, что хочешь меня спросить про какие-то вещи в доме, и вдруг кидаешься гранатами. Ты уверен, что не на врага работаешь?
– Откуда мне знать? Кто враг, назвался ли он врагом? И раз уж мы сползаем по этому скользкому склону, к тебе заезжал твой адвокат? Какую-нибудь линию защиты готовят? Тебе кто-нибудь звонил или писал?
– Ни одна душа, – отвечает Джордж. – Я оставлен всеми, как Христос на кресте.
Меня забавляет грандиозность сравнения. Джордж здесь – и Христос на кресте.
– Ты с кем-нибудь здесь дружишь?
– Не-а. – Он встает из-за стола. – Тут псих на психе сидит и психом погоняет.
– Куда ты?
– Отлить надо.
– Тебе разрешено ходить одному? – спрашиваю я с неподдельной тревогой.
– Может, я псих, но не младенец. А ты козел.
Джордж выходит.
Розенблатт, отрываясь от своих диаграмм, кидает на меня взгляд – дескать, все ли в порядке?
Я показываю большой палец.
Столовая пуста, если не считать официанта, расставляющего столы на завтра, и уборщика, который чистит ковер.
Когда Джордж возвращается, мы как будто начинаем заново. Он пахнет лосьоном на спирту.
– Я «Пюреллом» намазался, – говорит он. – Сперва руки и лицо, и так стало хорошо, что я еще и рубашку снял и подмышки намазал. Люблю этот запах – здорово бодрит. Гервин меня на эту штуку подсадил. Я вижу, как он целый день моется, – и не могу не ломать голову, что же здесь такое происходит, отчего он себя чувствует таким грязным.
Джордж подмигивает.
Я подмигивания не замечаю и рассказываю ему, как ездил в школу на родительский день.
– Представляешь, мне пришлось остановиться в пансионе «кровать-завтрак» за сто восемьдесят в сутки. Все было занято, меня поселили в комнату для ребенка. И всю ночь у меня над головой крутился этот дурацкий мобиль «Хелло-китти».
– У меня номер в «Шератоне»; забронирован и оплачен на ближайшие пять лет.
– Откуда мне было знать?
– Неоткуда.
– Вот потому-то я и здесь: есть вещи, которые мне нужно знать. Как ты думаешь: должны дети тебя видеть? Стоит им приехать на уик-энд?
– Не думаю, что дети здесь приветствуются, – отвечает он. – Я ни одного не видел. – Джордж задумывается. – Ты помнишь тот день – давным-давно, когда нам было восемь или девять – я тогда ударил незнакомого, какого-то типа, который шел по улице?
Я киваю. Кто бы мог забыть?
– Это была фантастика, – говорит Джордж с нескрываемым удовольствием. Видно, что даже сейчас ему приятно. – Он прямо на глазах согнулся, спросил, что за черт, а я помню, как это было фантастически кайфово. – Он встряхивает головой, будто проясняя мозг от воспоминания и возвращаясь к реальности. – Мы тогда были мелкими веселыми гадами, которые чего хотели, то и брали.
Я пожимаю плечами:
– Кстати, о странностях. Мне тут все время приходит на ум одно и то же воспоминание. – Я замолкаю на секунду. – Мы с тобой трахали миссис Йохансон?
– Что значит «мы»?
– Я помню, как мы с тобой эту нашу соседку дрючили. Ты ее обрабатывал у нее на двуспальной кровати, а я тебя подбадривал, выкрикивал: давай, давай, давай! А потом, когда ты все сделал, она еще захотела, и я тогда ей выдал.
– Я ее трахал. Может, тебе про это рассказывал, – говорит Джордж. – Я им газон стриг, иногда она меня приглашала лимонаду выпить, а потом стала приглашать на второй этаж.
Так оно и было? Джордж ее имел, мне рассказал, а я уже нафантазировал, что тоже там был? Но так ярко разворачивается перед глазами картинка. У Джорджа здоровенный багровый, он входит и выходит, а у нее платье задрано, темная материнская пещера зияет, как свежая рана.
Я на миг затихаю, вдруг выдохшись.
– Ты козел, – говорит Джордж, пока я складываю гармошку, собираясь уходить. – Ты мне ничего про маму не рассказал. Как она? Она про меня спрашивала?
Я напоминаю Джорджу про свой недавний инцидент и рассказываю, что последнее время маму не видел, но работники приюта говорят, что у нее все в порядке. Я ему рассказываю про ползание, и он неприятно удивлен, встревожен.
– Она по полу и ползает, как таракан?
– Так они говорят. У них там фотографии есть. Если хочешь, посмотри.
– Ты должен ее навестить, – говорит Джордж. – Как только отсюда поедешь, должен заехать к ней и увидеть все сам.
– Это у меня записано, – говорю я. – Еще что-нибудь, о чем я должен знать?
– За розами моими смотри, – велит он. – Подкармливай почаще, опрыскивай, смотри, чтобы не завелись там тли или трипсы, черные пятна, гниль или какая другая зараза. Любимая у меня – это розовая «Гертруда Джекиль» у входа.
– Постараюсь, – отвечаю я. – У тебя есть какой-нибудь список, кто чего чинит в доме? Водопроводчик, электрик, газонокосильщик и так далее?
– Понятия не имею, у Джейн спроси, – бросает он, и мы замолкаем.
– Пора ложиться спать, – говорит пришедший за нами Розенблатт.
С ним Тесси, и мы с Джорджем одновременно тянемся за поводком.
– Она пойдет со мной, – говорит Джордж.
– Джордж хочет собаку, – говорит Розенблатт.
– Это моя собака, – говорит Джордж.
– А я все время с ней вожусь, мы привязались друг к другу. – Это уже я.
– Я мог бы изобразить сурового отца и решить, что ни с кем из вас Тесси спать не будет. Однако не стану. Сегодня собака побудет у Джорджа, потому что во все остальное время она у вас.
– Мой верх! – кричит Джордж, выхватывая у Розенблатта поводок.
Меня выводят через заднюю дверь в холодную ночь и ведут к моей комнате, срезая путь. Мы минуем двери, открывающиеся жужжанием электромоторов, проходим через зоны, с двух сторон запертые на замок, и я все думаю, что делать, если, упаси господи, ночью понадобится выйти.
– Я знаю, о чем вы думаете, – говорит Розенблатт. – Вы не волнуйтесь, двери заперты только в одну сторону, выйти вам можно будет.
У двери моей комнаты он продолжает:
– Как хорошо, что вы приехали. Очень хорошо.
У меня такое чувство, будто он хочет меня обнять.
– Ну, ладно, до завтра, – бросаю я, быстро ныряю в комнату и закрываю дверь. Подпираю ручку стулом. Теперь не только я не выйду, но и никто не войдет.
При взгляде на сумку Тесси, стоящую на полке рядом с моей, я остро ощущаю свое одиночество. Как же мне теперь заснуть без собаки, без телевизора, без чего бы то ни было, что может отвлечь от этого кошмара?
Я открываю сейф, вытаскиваю свои лекарства, читаю инструкции и понимаю, что забыл принять за едой таблетки к ужину. Остается надеяться, что все будет нормально, если принять их сейчас с таблетками на ночь. Проглатываю восемь разновидностей таблеток и капсул, переодеваюсь в пижаму, залезаю в постель.
По сравнению с этим гробом комната «хелло-китти» в пансионе выглядит как номер отеля «Времена года». И мне даже не хватает хомяка, тяжелого взгляда глаз-бусинок, немолчного скрипа колеса. Тут единственное, что слышно, – тишина склепа.
Чтобы унять мысли, я думаю о Никсоне, о его любви к боулингу, излюбленных его конфетках – «скиттлс», о его отношении к жизни. «Человек кончается не тогда, когда его победили. Он кончается тогда, когда прекращает борьбу». И еще: «Не думаю, что лидер в какой-то серьезной степени может управлять своей судьбой. Редко когда он может сделать шаг и переменить ситуацию, если силы истории направлены в другую сторону». И это: «Вполне готов это выдержать. Чем труднее, тем я спокойнее».
Я думаю о своей книге, о том, что с ней делать дальше. Думаю о матери, ползающей как таракан. О том, как Джордж в огромном пижамном комбинезоне приходит на сестринский пост и говорит:
– Хочу молока.
– Кухня закрыта, вернитесь в постель.
– Хочу молока!
Всполошившаяся сестра нажимает кнопку под стойкой, и со всех сторон входят крупные мужчины с дубинками и тазерами. Они бьют Джорджа током, он падает на пол, и его везут обратно в постель на чем-то вроде грузовой тележки.
Слышится топот тысяч ног – люди бегут и влетают в стену, и я соображаю, что рядом с моей комнатой – автомат раздачи льда, и сейчас его как раз загрузили.
Я впадаю в панику, мне не хватает воздуха. Вдруг мне оказывается совершенно необходимо узнать, что там, за синим бархатным занавесом. Раздергиваю его одним сильным рывком – хуже, чем ничего, там просто шлакоблочная стена. Ищу окно – нахожу только маленькую отдушину в ванной. Прижимаюсь к ней ртом, втягиваю воздух, чувствуя, что здесь ядовитое что-то, что меня ждет смерть. Бросаюсь обратно к сейфу, вытаскиваю запас «амбиена», будто это противоядие. Почти никогда не принимал снотворного, но сегодня глотаю сразу две таблетки, засасываю еще несколько вдохов из отдушины и заставляю себя вернуться в постель.
Просыпаюсь от оглушительного грохота. Стул, заткнутый под дверную ручку, шевелится, подпрыгивает. Слышен приглушенный голос:
– Вы не спите? Все в порядке?
Более секунды у меня уходит, чтобы привести язык в движение.
– Всевпрдке! – кричу я в сторону двери, и стул перестает дергаться.
– Завтрак пропустили, – снова слышится голос. Это Розенблатт.
– Охтыгспди.
Наверное, это я так реагирую, понимая, что проспал.
– Двадцать минут вам хватит?
– Сьюминуту.
Я тащусь в ванную, чувствуя, что теперь мне понятно, каково было бы прожить двести пятьдесят лет. Принимаю холодный душ, разговаривая вслух сам с собой, четко артикулируя слова. Через двадцать минут я уже одет, сижу на стуле, которым подпирал дверную ручку, жую батончик из корзинки и гадаю, что принесет этот день.
– Вы меня напугали до потери пульса, – признается Розенблатт, заходя после повторного стука в дверь. – Я подумал, вы самоубийство совершили.
– Это было бы слишком просто. Не мог заснуть, неуютно было без собаки. Принял много снотворного.
– Похоже, подействовало. Кофе хотите?
– Да, спасибо.
Мне дают большую чашку кофе, а потом Розенблатт говорит:
– Ну, что же, будем продолжать. Джордж сейчас работает с тренером, а я вам тем временем покажу одну штуку.
Мы идем в какой-то конференц-зал, где есть машина, очки-консервы с проводами и экран.
– Мы попросим вас надеть очки. Они всего лишь отслеживают движение глаз. А вот на этом экране будут появляться слова. – Он подает мне какое-то устройство с кнопкой, провода от которого ведут к той же машине, что и провода от очков. – Когда какое-нибудь слово напомнит вам о взаимоотношениях с вашим братом, щелкните кнопкой. Готовы?
– Готов.
Появляется первое слово. «Цветы». Щелк.
– Вы не ошиблись? – спрашивает Розенблатт.
– Нет. Джордж любит цветы.
Второе слово: «Доброта». Нет щелчка.
«Сочувствие». Палец отдыхает.
«Гнев». Щелк.
«Антагонизм». Щелк, щелк.
– Вы нарочно щелкнули дважды?
– Сам не знаю.
«Враждебность». «Злоба». «Ярость». Щелк, щелк, щелк.
«Добродушие». Чуть по инерции не щелкаю.
«Ласковость». Отдыхаю, не шевеля пальцем.
«Чистосердечие». Пальцы немеют от бездействия.
«Рана». «Уничтожение». «Задира».
Тут все просто: щелк-щелк-щелк.
«Преданность». Щелк.
Экран гаснет.
– Вы знакомы с термином «перемежающееся эксплозивное расстройство» – ПЭР? – спрашивает меня Розенблатт.
– Похоже на нарушение работы кишечника?
– Его еще называют «частичное безумие». Встречается чаще, чем вы могли бы подумать. Неспособность противостоять агрессивному импульсу, выражение гнева в крайних формах, неконтролируемая ярость. Мне кажется, именно с этим мы имеем дело.
Почему я жду от него слов «праздный мозг – мастерская дьявола»?
Розенблатт говорит дальше:
– В такой ситуации ясно, что действует не один фактор, а много – химия, стресс, наркотики, перепады настроения, иные виды ментальной нестабильности. Наш подход – точный многофакторный диагноз и длительное лечение.
– Вы будете лечить его электрошоком?
– Нет, но я думаю, он может стать кандидатом на получение нашего нового психохирургического лечения, вроде гамма-лучевого ножа или, что вероятнее, глубокой мозговой стимуляции. Мы встраиваем в мозг нечто вроде ритмоводителя – сверлим отверстие, просовываем три проводка, встраиваем нейростимулятор на батарейках и калибруем воздействие. Не без побочных эффектов, конечно: некоторое падение исполнительных функций. И, естественно, мы вполне осознаем, что мог бы сказать суд, если бы представили согласие вашего брата на экспериментальную операцию на мозге.
Для меня его слова – шок. Я понимал, что какой-то необычный козырь в рукаве у них спрятан, но что это все тот же удар по тыкве топориком для льда – такого я не ожидал.
– То есть вы описываете нечто подобное лоботомии?
– Я бы не назвал ее так, но это явления близкого порядка.
– А как вы считаете, в суде эта операция на мозге будет в плюс или в минус?
– Естественно, это означает, что мы действуем активно. Я бы назвал это плюсом.
– А что говорит Джордж?
– Он еще не знает. Никто не знает, я даже Гервину не говорил. Сначала я кое-какие исследования проведу, потом уже выступлю с предложением.
– А вы бы сами согласились на психохирургию? – спрашиваю я, зная, что я бы ни в жизнь.
– В мгновение ока, – отвечает он. – Даже сам бы на себе ее выполнил.
– Интересно, – говорю я, и это очень преуменьшено, потому что на самом деле я думаю: «Ну, ты и псих!» – Итак, какова дальнейшая повестка дня и как там Тесси?
– Отлично. Позавтракала в кухне и пошла погулять. По нашему плану вы с Джорджем разыграете некоторую структурную пьесу, предназначенную для организации связей и создания команды.
– А именно?
– Очень забавная вещь.
Я становлюсь подозрительным. Появляется Джордж после утренней тренировки. От него воняет потом, одежда прилипла к телу.
– Как ты? – спрашиваю я.
– Потрясающе.
– Рад слышать, – говорит Гервин, заходя в комнату вслед за ним и неся нечто вроде картонной шкатулки для драгоценностей. – Итак, сегодня мы поиграем в некоторые игры.
У Джорджа загораются глаза:
– «Риск»? «Монополия»? «Тривиал персьют»? «Мафия»? Мы в детстве играли в «Убийство мячом». Бросаешь здоровенный резиновый красный мяч изо всех сил. Если кому в лицо попал – убил.
Я до сих пор помню, как это было больно.
– Там не полагалось целиться в лицо.
– Давайте начнем с воздушного шарика, – предлагает Гервин, доставая смятый желтый шарик из кармана. Несколько раз его растягивает и надувает.
– Я вообще-то к игре не склонен, – говорю я в ужасе перед тем, что будет дальше.
– Заверяю вас, мы это знаем и учитываем, – отвечает Гервин, завязывая горловину шарика узлом. – Теперь я просил бы вас встать лицом друг к другу.
Мы послушно становимся.
– Я сейчас помещу шарик между вами, – говорит он, устраивая шарик точно между нашими телами. Шарик медленно падает на пол. – Так, еще раз пробуем. Вы не могли бы сдвинуться теснее, нос к носу?
Джордж делает шаг вперед. Я – шаг назад, рефлекторно. Джордж еще ближе, я снова отступаю. Танец.
– Эх! – говорит Гервин.
– Дело в том, что я его не вижу, когда он близко. В глазах все расплывается.
– А вы смотрите куда-нибудь за спину Джорджа, – предлагает Гервин.
Я так и делаю. Мы стоим, зажав шарик телами, я чувствую на лице горячее дыхание Джорджа, запах его пота.
– Ты регулярно моешься?
– Вроде да, – отвечает он, будто точно не знает.
– Хватит, – говорит Гервин, и мы замолкаем. – Цель игры в том, чтобы вы совместными усилиями перенесли шарик отсюда туда, – он показывает в дальний угол комнаты, – не дав ему коснуться пола. Capisce?[5]
– Capisce, – отвечает Джордж и идет в угол. Я делаю два шага боком, чтобы не отстать. Шар, который мы держали грудинами, опускается до уровня диафрагмы.
– Может, стоит скоординироваться? – говорю я Джорджу. – Перед каждым шагом говорить «шаг»?
– Шаг. Шаг. Шаг.
Мы отлично идем, но потом Джордж отвлекается и идет не через комнату, а на меня.
– Мы слишком забираем на север – надо взять на юг.
Шар соскальзывает ниже, мы его чуть не теряем. Джордж коленом заезжает мне в пах – пытаясь подтолкнуть шар вверх. Я сгибаюсь пополам, и шар опускается еще ниже.
– Ты можешь хоть что-нибудь сделать правильно?
Я не отвечаю. Вихляюсь одним бедром, потом другим, прижимая шар к Джорджу, подталкивая вверх. Мне удается его поднять от колен до паха.
– Давай ты теперь.
– Шаг. Шаг. Шаг.
У нас получается, мы переносим шар через всю комнату.
– Есть! – провозглашаю я, хлопая Джорджа по ладони. – Есть!
Лишь когда мы перешли через комнату, до меня доходит, что были, наверное, люди, у которых это не получилось. А я такой вариант даже не рассматривал.
– Можете выбрать себе приз, – говорит Гервин, поднимая шкатулку. – По одному на каждого.
Я запускаю туда руку и вытаскиваю бумажный самолетик – такой, как мне в детстве давали, если я у дантиста хорошо себя вел. Джордж получает звезду шерифа – с острой булавкой, и его заставляют ее на что-нибудь поменять. Он выбирает резиновую змею.
– Следующая наша игра… – начинает Гервин, и тут Джордж прыгает на желтый шарик, который мгновенно с треском лопается. Розенблатт наклоняется, подбирает обрывки, а Гервин повторяет: – Следующая наша игра…
Так и идет дальше: игра за игрой, приз за призом. А потом Гервин приносит перчаточные куклы.
Я надеваю одну и поворачиваюсь к Джорджу:
– Я не мошенник, – говорю я.
Джордж надевает на руку куклу и поворачивает ее к себе:
– Доброй ночи и удачи всем!
Надевает еще куклу на другую руку:
– Спасибо, Эдуард Р. Мэрроу!
– Ну уж нет. Спасибо, мистер Кронкайт! А не пойти ли нам в «Тутс шорс» и не съесть ли по стейку?
– Выберем что-нибудь другое, – предлагает Гервин.
– Ладно, – говорит Джордж, показывая на меня. – Я буду Ф. Скотт Фицджеральд, а ты можешь стать Хемингуэем и застрелиться.
– А не хочешь стать Уильямом Берроузом и убить жену? – отвечаю я.
– Стоп-стоп-стоп! – Гервин вспрыгивает между нами, а мы тем временем набираем по охапке кукол и швыряемся ими через всю комнату, как ругательствами.
– Уинстон Черчилль! – говорит Джордж.
– Шарль де Голль! – отвечаю я.
– Никита Хрущев! – Это Джордж.
– Барри Голдуотер и Рой Кон, – говорю я.
– Герберт Гувер!
– Вилли Ломан, чтоб его!
Гервин выхватывает что-то вроде банки дезодоранта, взметает ее в воздух и распыляет – раздается неожиданно громкий ГУДОК, вроде как клаксон мощного грузовика.
– ТАЙМ-АУТ! – выкрикивает Гервин. Мы с Джорджем одновременно пытаемся что-то сказать, но Гервин перебивает: – Тихо! Все на улицу.
Мы с Джорджем распихиваем по карманам призы, оставляем кукол и идем за Гервином, который несет коробку с призами, бормоча про себя, что теперь нельзя будет играть в «ходьбу доверия» с повязкой на глазах и почему всегда все должно быть так трудно?
Мы выходим на холмы за главным зданием, и у меня наступает момент полного понимания, почему так сражались за эту землю отцы-основатели. Она величественна, прекрасна.
Гервин бросает мне футбольный мяч, я его ловлю, мы начинаем им перебрасываться. Идиллия – синее небо, запах свежескошенной травы, зеленые пятна от нее на коленях. Мяч летает и летает, идет разговор о командах или против них, но Гервин повторяет: держим его в движении, держим в движении. В какой-то момент доктор достает из кармана фотоаппарат и начинает снимать. Джордж начинает играть на камеру, изображать героические усилия, ярость. Не знаю, зачем Гервин снимает, но он в таком трансе, что кажется невозможным прервать его вопросом.
Розенблатт бросает мяч мне, я его ловлю, оглядываюсь и вижу, что Джордж летит ко мне, как шар боулинга, как торпеда. Сбив на землю, он молотит меня кулаками. Мы катимся вниз по склону, закрученные приливом братской ярости. Неподалеку стоят Гервин и Розенблатт, потом Розенблатт бежит прочь. Я стараюсь не оказаться внизу. У подножия холма мы перестаем катиться, Джордж меня молотит, подавив сопротивление, только кулаки мелькают. Гервин стоит рядом, но не пытается его остановить.
– Ах ты, гад гребучий, сука, это тебе еще мало, сука, дерьмо собачье, мало…
Я без особого успеха пытаюсь защитить лицо, ребра, яйца. Откуда-то прибегает Тесси, спущенная с поводка, бежит к нам, громко лая, пытаясь прекратить безобразие, лает Джорджу в лицо, а потому – мне в ухо, и Джордж – «случайно или нет» – бьет ее по морде. Она с воем отскакивает. Джорджа стаскивают с меня санитары.
Я лежу на траве, окровавленный, избитый, стараясь перевести дыхание. Никто не пытается мне помочь. Никто ничего не делает. Я лежу, и первая моя мысль не о себе, а о детях. Я должен защитить Нейта и Эшли. Что бы ни случилось, я не могу допустить, чтобы этот монстр оказался снова рядом со своими детьми. Я смотрю на Джорджа – он тяжело дышит, рвется, явно хочет еще, и его удерживает четверка здоровенных парней. Я переворачиваюсь, медленно собираюсь, – подтягиваю каждую конечность по очереди. Подбежавшая Тесси лижет меня в лицо.
Призы вывалились из карманов и рассыпались по поляне – йо-йо, бумажный самолетик (помятый), резиновая змея, китайская ловушка для пальцев.
Хромая в сторону главного здания, я смотрю на Гервина, ожидая какой-то реакции. Наконец он произносит:
– У меня нет слов.
– Если вы не способны как минимум защитить меня физически, я не могу участвовать в вашей затее. И вам еще чертовски повезет, если я не подам на вас в суд за неспособность держать пациента под контролем. И лед, мне нужен лед.
Кто-то приносит лед – мусорные пакеты, набитые льдом и завязанные сверху.
– Хотите, вас осмотрит врач? – спрашивает Гервин.
– Нет. Я только хочу, чтобы мне вернули собаку. И домой.
– Я так понимаю, с Джорджем вы прощаться не желаете?
– Очень смешно, – отвечаю я. – Чтобы он еще нанес нокаутирующий удар?
Ожидая, чтобы мне пригнали машину, я слышу, как кто-то из них говорит:
– На самом деле для нас очень хорошо. Отличное посещение. Мы видели Джорджа с той стороны, с которой не увидели бы иначе никогда. Тут есть с чем работать.
Когда пригоняют машину, Тесси уже в ней, и моя сумка там, и ее, полностью собранные. А мне дико больно, и становится все больнее, во всех частях тела, и в тех, что сгибаются, и в тех, что нет. Морщась и охая, я опускаюсь на водительское сиденье. Подгоняя его, я замечаю бумажный пакет, на котором написана моя фамилия. В пакете две бутылки воды, бутерброды с арахисовым маслом и вареньем и полиэтиленовый пакет с морковными палочками. Блин, кто же для взрослого мажет на хлеб арахисовое масло с вареньем? Я съедаю бутерброды, думая, нет ли в этом высокомерной снисходительности.
На остановке для отдыха я иду в туалет, задираю рубашку и рассматриваю в щербатом зеркале собственный бок цвета сырого мяса. В досаде, что не дал сдачи, не отбивался лучше, я иду в местный магазин и беру с полки адвил. Тут передо мной пытается влезть какая-то женщина, я ей говорю:
– Эй, я тут раньше стоял.
А она мне отвечает:
– Не стояли вы тут, я бы не стала лезть.
Мне надоело быть размазней, и я ее отпихиваю локтем в бок, в буквальном смысле прокладываю себе дорогу локтями.
Продавец за конторкой выхватывает какой-то здоровенный, длинный черный зонтик и раскрывает его прямо мне в лицо. Он мне говорит, чтобы я уходил из его магазина, и тычет в меня металлом.
– Я ранен, – отвечаю я. – Я пытаюсь вам заплатить за адвил.
– Ты хулиган! – заявляет он с сильным индийским акцентом. – Я хулиганов не обслуживать. Уходить и не приходить никогда.
– Адвил я забираю, – говорю я в ответ. – Вот здесь, на шоколадных батончиках, оставляю десятку.
Я, пятясь, выхожу из магазина, оступаюсь на ступенях и падаю в лужу масла и бензина. Возвращаюсь к машине, весь провонявший, прямо на парковке снимаю рубашку, надеваю вчерашнюю, проглатываю четыре таблетки адвила и запускаю мотор. Гоню домой, по дороге думая, как все это дико и что никогда я туда больше не поеду. Тут звонит мой сотовый. Адвокат Джорджа.
– В больнице мне сказали, чтобы ты больше туда не приезжал. Ты угрожал пациенту и работникам.
– Джордж на меня напал. Физически.
– Они это увидели иначе. По их мнению, ты его спровоцировал. Ты не бросал ему мяч, ты разговаривал только с врачами, а с ним нет, ты его унижал, заставлял чувствовать себя лишним, ущербным.
– Боже мой, это бред! Они психи, это просто какой-то цирк уродов. Никогда не видел более психованной шайки специалистов по психическому здоровью. Ты знаешь, что один из них планирует подвергнуть Джорджа операции на мозге, но ему еще об этом не сказал? Как в фильме ужасов. А вообще, как ты это заведение нашел?
– У меня там зять, – говорит адвокат.
– Он пациент?
– Главврач, – отвечает адвокат, и связь начинает прерываться, потрескивать, потом рвется начисто, и трубка глохнет.
– Алло? – спрашиваю я. Ответа нет. – Алло!
Понедельник, я снова в доме – в буквальном смысле на месте преступления. У меня все то же жуткое ощущение, будто я тону. В доме какая-то сила, вроде электромагнитного поля, и она гнетет меня невероятной тяжестью.
При возвращении из поездки меня перед самой дверью окончательно оставляют силы. Вхожу – и не могу функционировать. Как в «Штамме «Андромеда» Майкла Крайтона, костный мозг у меня рассыпается в пыль. Я себе представляю, как меня найдут через несколько дней на полу мертвым, кровь превратилась в тонкий зеленый порошок, и когда мне непонятно зачем надрезают руку, он сыплется на пол, как мелкое драже. Почему «непонятно зачем»? Потому что кому это надо – разрезать человеку запястье? Рядом со мной будет сидеть кошка, невозмутимая, она будет чиститься, вылизываться, протирать глаза. Я вижу, как люди в белых халатах пытаются забрать ее в качестве образца выжившей фауны.
Я сижу на полу и рыдаю. Что случилось? Что со мной? Я сижу и ненавижу всех и вся, больше всего себя самого – вот это правда, более всего другого правда, потому что я больше всего сам собой разочарован. Как случилось, что поколение «Я» потерпело такой крах?
Как будто я ждал, что моя жизнь пойдет на стремительный взлет и полет будет на много лет. Иногда я думал, что иду вперед, приближаюсь к цели, иногда я будто просто ждал, чтобы меня открыли, – но кто? Когда я сейчас смотрю на себя, на свою наполовину потраченную жизнь, мне невыносимо думать, что вот здесь я и кончился. Кончилась жизнь? А она вообще начиналась?
Я ничего в жизни не сделал. Если точнее, то кое-что сделал, чудовищное по последствиям, и это было преступление, которое повело к убийству Джейн. Успешность моя в супружеской измене, роль приспешника в убийстве – да, есть чем гордиться.
Мысли перепрыгивают к моей теории насчет президентов. Они бывают двух видов: те, кто усиленно занимается сексом, и те, кто начинает войны. Короче – только не цитируйте меня, поскольку это очень коротко и неполно, – минет предотвращает войну.
И не могу не думать: хотел ли Джордж и меня убить? Уверен, что остановил его только нарциссизм: убить меня – значило отчасти убить себя. Это также объясняет, почему уцелели Нейт и Эшли.
Собрав себя в кучку с этими сине-зелеными леденцовыми венами, выхожу из дома посмотреть, что на улице. Странное кажется странным лишь в сравнении, а если сравнивать не с чем, все вполне нормально. Мои мысли перескакивают к Джону Эрлихману, еврею и члену секты «Христианская наука», единственному участнику Уотергейта, который получил реальный срок. Эрлихман отправился за решетку еще до того, как закончился его апелляционный процесс. Он сдался властям.
Как пьяный, по ошибке вошедший не в тот дом, я выхожу во двор, напоминая себе, что прошлый уик-энд на родительском дне у Нейта прошел отлично, был полон надежд на будущее и оказался в тысячу раз лучше жуткой поездки к Джорджу.
Оказавшись на заднем дворе, я открываю ящик с садовым инструментом Джорджа и вытаскиваю садовый совок и травоочиститель. Потом становлюсь на четвереньки – это, черт побери, как преждевременное весеннее пробуждение. Сад густо засажен, и все растет отлично. Я вкапываюсь в землю. Думаю о сегодняшнем вечернем занятии. Я никому не говорил, что меня увольняют, – а кому мог бы сказать? И какую, черт побери, работу найду теперь?
Я копаю, бросая через плечо комья земли с сорняками, и представляю лица своих студентов, идиотов, которые сидят и ждут, что я сейчас буду их кормить с ложечки, буду им объяснять: есть такая штука – история называется, и это очень важная штука.
Ползаю на четвереньках, как одержимый, вспахивая неровную землю, выдергиваю корни, клевер, всякие штуки, что цветут, расползаются, дают побеги. Вкапываюсь в землю, как среднестатистический идиот, копающийся на заднем дворе, будто желающий вернуть себе древнюю энергию погружением рук в почву.
На краю двора появляется тот самый гуляльщик собак.
– Вы себя нормально чувствуете? – спрашивает он. – Вам разве можно так наклоняться? Не слишком давление в голове растет?
– Мне никто не говорил, что нельзя.
– Может быть излишняя нагрузка, – говорит гуляльщик. – У моей тети был инсульт, так ей велели не наклоняться.
– Больше не наклоняюсь, – бросаю я, поднимая голову.
– Может, стоит отдохнуть, – предлагает он. – Я тут принес для Тесси палочку из хряща поиграть. А кошке – мышь с кошачьей мятой, они любят.
– Как-то мне в голову не приходило им игрушки давать, – мямлю я смущенно.
– Они скучают, им нужно что-то новое – ну, как нам, – сообщает он, уходя прочь по дорожке. – Если буду нужен – позовите, я тут неподалеку за рыбками присматриваю.
Тесси нюхает вывороченную землю. Потом валится на спину посреди двора и катается на куче свежевыполотых сорняков.
Через минуту после ухода гуляльщика я случайно попадаю себе в глаз приличным куском жирной черной земли и слепну. Хватаюсь за лицо, пытаюсь протереть глаза, протираю их рубашкой, встаю слишком быстро и наступаю на совок, теряю равновесие. Падаю на жаровню для барбекю и отлетаю, в голове рисуя заголовок: «Несчастный случай в саду, или Самоубийство кретина». К лестнице меня ведет Тесси – я держу ее за ошейник, приговаривая: «А вот печенье, а вот печенье, пойдем найдем печенье».
В ванной внизу я себе позволяю расслабиться.
– Рожа говенная, – говорю я своему отражению и думаю, что мог и в самом деле не землю закинуть себе в глаза, а дерьмо какое-нибудь: от Тесси, от енота или оленя, но воняет оно противно, как старый сыр, настолько редкий, что его держат отдельно и достают лишь по большим праздникам.
Открыв один глаз, я рассматриваю себя в зеркале, читаю себе нотацию и вспоминаю тот раз, когда смотрел в зеркало и буквально растаял в нем. Когда инсульт был.
– Нечего таращиться, – говорю я себе. – У тебя такой тупой вид, будто ты вообще не понимаешь, о чем я тебе говорю, будто для тебя все это ах какой сюрприз. Как это может быть? То, что тебе это впервые говорят вслух, не значит, что для тебя оно ново. Я с тобой неделями разговариваю, да что там – годами, всю твою дурацкую жизнь, а ты придурком как был, так и остался.
– Почему ты себе позволяешь такие выражения?
– Да потому что иначе ты не слышишь, тебе надо, чтобы все открытым текстом говорили до мелочей. Ты во всем облажался, жена твоего брата убита, сам он в дурдоме, а ты хочешь, чтобы я тебя хорошо чувствовал? Да посмотри на себя: ты же катастрофа ходячая! Ты еще опаснее, чем твой брат. И тот факт, что он там, а ты на свободе, – тому доказательство.
Голова моя врезается в стенку. Будто это вот происходит – и все, будто кто-то это за меня делает. Стук. Стук.
– Ну почему Джейн позвонила мне, когда хотела узнать, где лампочки? Почему я поступил, как моя вторая половина, функциональная половина моего брата?
– Ты ее считаешь виноватой?
– Нет, – отвечаю я.
И голова моя больше не стучит об стену, и не в раковине она – в унитазе, и что-то давит на затылок. Я сперва думаю, будто это чья-то рука, но потом соображаю, что голова застряла под ободом сиденья.
– Блевать будешь? Тебя от тебя тошнит?
Я не отвечаю.
Унитаз спускает воду, захлестывает меня, топит. Я сам себя пытаю утоплением.
Откашливаясь, отплевываясь, вытаскиваю голову. Меня рвет. Я на полу ванной, мокрый, прокисший. Молчу.
– Обижаешься?
Не отвечаю.
– Не хочешь со мной разговаривать? Мне перестать?
– Говори что хочешь, выложи как есть, давай. Явно ты это давно в себе носишь.
– Ладно. Как ты мог столько лет писать книгу про Никсона? Это скука, это скучнее скуки, и это жалкое занятие. Да плевать мне было бы, если бы ты провалился, ты ведь даже ничего не сделал, что меня бы расшевелило по-настоящему.
– Так плоха моя книга?
– Да дерьмо она. И ты дерьмо. Личность у тебя некротическая, умирающая. И ты отравляешь все вокруг. Посмотри на меня, стану я тебе врать? Я же как призрак, который пытается изнутри до тебя достучаться и вбить в тебя малость смысла.
– Что тебе от меня нужно? – спрашиваю я, боясь, что все это ведет к какому-то неминуемому концу.
– Жизнь твоя мне нужна.
И больше сказать уже нечего.
Звонит телефон.
– Да, – отвечаю я.
– Это ты?
– Да.
– А это я, – говорит она.
– Клер?
– Кто такая Клер?
Голос у нее вдруг строгий, будто оскорбленный. Словно я должен был ее узнать. Я ухожу еще глубже в собственную тьму:
– Джейн?
– И сколько всего? – спрашивает она.
– Чего сколько?
– Девушек, – говорит она. – Женщин. Давалок.
– Кто это? – спрашиваю я испуганно.
– А ты зачти весь список до конца. Попадешь на меня – я тебе крикну «бинго»!
– Вы не туда попали.
– Еще как туда. Я дважды номер проверила, потом только набрала.
– Вам, наверное, нужен мой брат.
– А у него на левом соске есть родинка в виде сердца?
Долгое молчание.
– Кто это?
– Блин, – вздыхает она. – Не помнишь, значит. А я тебя ленчем кормила и потом еще кое-что. – Она останавливается. – Слушай, я же не хотела тебя заставать врасплох. Можем откатить назад и попробовать снова? Нажать на кнопку перезапуска?
– Конечно, – говорю я, все еще не зная кому.
Линия отключается. Я кладу трубку. Телефон тут же звонит опять.
– Привет, Черил говорит. Гарри дома?
– Это я.
– Как ты там?
– Отлично, а ты?
– Прости, что никогда тебе не звонила. В смысле, до сих пор. То есть, ну, после нашего момента и до этих пор.
– А, – отвечаю я, не в силах понять, о чем речь, – это нормально.
– Хочу с тобой быть честной насчет всей этой затеи с Интернетом.
– Понимаю.
Мозаика начинает складываться.
– Я думала, что нормально поступаю, все уже хорошо, так что перестала принимать лекарства, пошла работать к подруге в кейтеринговую компанию, потом в бизнесе наступило затишье, образовалось лишнее время. Я и стала бродить по сети и назначать «свидания» вроде такого, как с тобой. Вышла из-под контроля – и грохнулась. Жесткая посадка. В больницу загремела – ненадолго.
Мы молчим. Я снимаю рубашку и отпускаю на пол. Раздетый, мокрый, воняющий блевотиной, сажусь за кухонный стол.
– На самом деле, – продолжает она, – это еще не вся правда. Я то, что мне было выписано, перестала принимать и начала самолечение. И совсем контроль утратила: наша встреча была одной из многих. Я рисковала собой и своими родными. Мой сын, если помнишь, пришел домой как раз в середине… В общем, нехорошо вышло.
У меня вдруг все проясняется.
– Ну конечно! – говорю я воодушевленно.
– А ты, – говорит она, несколько встревоженная моим взрывом энтузиазма и потому меняющая тему, – ты что скажешь?
– Раз уж мы полностью раскрываемся, – говорю я, – то я тоже лежал в больнице. С инсультом.
– Отлично, – говорит она.
– В смысле?
– Я рада, что с нами обоими что-то случилось. Какое-то событие, которое нас с тобой остановило.
– Думаю, дело было в виагре. Слишком много ее принимал.
– Просто поразительно, – говорит она, – как легко сойти с рельсов. Как ты сейчас?
– Нормально, вполне. А ты?
Я оглядываю комнату, и перед глазами все как в тумане. Я как минимум наполовину ослеп и не знаю, временно это или постоянно.
– Я о тебе думала, – говорит она. – Много думала. Но надо было подождать, прежде чем тебе звонить. Прийти в форму.
Я что-то согласно мычу.
– Прости, что я деталей не помню, но кем ты интересовался: Ричардом Никсоном или Ларри Флинтом?
– Никсоном, – говорю я. – Никсон умер от инсульта, и сам не знаю почему, но когда и со мной инсульт случился, я все время думал о Никсоне. Чувство такое было, будто я знал всегда: нас что-то связывает, но только сейчас понял, что это не убеждения или политическая философия, а что-то чисто человеческое, на эмоциональном уровне. Я считаю, с ним несправедливо обошлись.
– А я вот думаю, не сообщить ли тебе одну идею, – прерывает она.
– Я весь обратился в слух.
Может, это и правда, если учесть, что у меня с глазом.
– Тебе бы надо с Джулией поговорить, – сообщает она с энтузиазмом и уверенностью, как о решенном деле.
– С Джулией?
– С Джулией Эйзенхауэр.
– С Джулией Никсон Эйзенхауэр? – спрашиваю я несколько недоверчиво.
– Да.
– Нет, правда?
Я вдруг радуюсь, как будто весь поток событий и слов вдруг отхлынул, оставив эти три имени: Джулия Никсон Эйзенхауэр. Как когда-то радостно запнулся Гумберт Гумберт о три слога: «Ло-ли-та».
– Правда.
Я хохочу в голос. Потом, придя в себя, спрашиваю:
– Неужели это возможно?
– Не спрашивай. – И после паузы: – Ладно, раз уж совсем в открытую: она свояченица моего мужа. Попросить ее, чтобы тебе позвонила?
– Буду рад.
– Не знаю, насколько ты в теме, но в последние годы были некоторые трения по библиотеке.
– Да.
Я вспоминаю различные публикации относительно завещания Бебе Рибозо на девятнадцать миллионов долларов и трения между Джулией и Тришей насчет того, как должна работать библиотека.
– Но тут еще кое-что. – Она замолкает, потом говорит: – Я хочу тебя видеть. Поговорить, вместе пообедать.
– Согласен, – говорю я. – Не вижу препятствий.
– Просто пообедать, – уточняет она.
– Само собой.
– Когда?
– Когда тебе удобно, у меня никаких дел нет.
– Хорошо, – говорит она. – Давай через пару дней – на случай, если ты передумаешь или я снова сойду с рельсов.
– Пятница подойдет? – предлагаю я.
– Пятница, – соглашается она. – И я предложила бы «Джерк К’зин» – не потому, что мне название нравится. Там дешевизна бешеная.
– А ты выбери другое что-нибудь, – говорю я. – Такое, что тебе действительно нравится. Куда ты хочешь пойти.
– Ты бывал когда-нибудь в «Кварри таверн»?
– Нет, – отвечаю я. – Я вообще нездешний.
– Там отлично, – говорит она. – Потрясающую пиццу с тефтелями делают. Про меня знают, что я ее в машине ем. Там и увидимся. И я дам Джулии твой телефон.
– Жду с нетерпением, – говорю я.
Она добавляет после паузы:
– Если Джулия спросит, как мы познакомились, скажи, что на барбекю виделись. Нет, постой. Скажи просто – дети и спорт, без подробностей.
– Понял.
– Ну, ладно тогда. Рада, что мы поговорили. Просто почему-то о тебе думала. Впрочем, говорила уже.
– Пятница в полдень, – отвечаю я.
– Пятница в полдень, – повторяет она.
– До пятницы, – говорю я и рассыпаюсь. Я одновременно и на подъеме, и подавлен, и, ну, да, дальше разговаривать было бы трудно.
Может ли быть, чтобы эта женщина, которую я не помню, держала в руках ключи от будущего?
У меня кружится голова, уносит восторг – только на самом деле она и не кружится, а пульсирует болью. Я себе говорю не заводиться слишком, не обольщаться – все может оказаться совершенно напрасно.
Я себя сдерживаю, не даю себе выдернуть из себя чеку… и от этого слова начинаю ржать. Чек! Чекерс, знаменитый кокер-спаниель Никсона! Проигрываю мысленную сноску – как каталожную карту. Чекерс, умер в шестьдесят четвертом, похоронен на кладбище домашних животных «Байд-э-ви», недалеко от того места, где живет тетя Лилиан. Может, в следующий раз, как куда-нибудь поеду, навещу.
Возможно, это и есть тот момент, тот большой прорыв, тот стремительный старт, которого я ждал. Джулия Никсон Эйзенхауэр – и я!
Тесси в ванной подлизывает за мной пол, наводит порядок.
– Хорошая собачка, – говорю я, понимая, что мое настроение полностью продиктовано этой переменой ветра.
Поднимаюсь наверх принять душ и подготовиться к занятию. Глаз выглядит плохо: красный и распухший. Закапываю какие-то капли из аптечки, они бешено жгут. Не удивительно – они для ушей. Снова промываю глаз. Принимаю душ, одеваюсь и еду преподавать, гордясь собой, что не забыл прихватить пустые коробки. Сегодня – день сбора вещей: планы занятий за годы, оценки студентов, примеры хороших и плохих работ – все это будет отредактировано и, подчеркнутое, плотно забито в картонные ящики из-под бухла. Предвидя конец, я хочу смыться намного раньше его официального объявления. В свой последний день просто поставлю точку: провел последнее занятие – и ушел.
Когда я захожу на факультет, меня останавливает секретарша.
– Декан хотел вам сказать пару слов.
Как можно более непринужденно я засовываю физиономию в кабинет декана.
– Искал меня?
Декан, мой бывший друг Бен Шварц, поднимает глаза:
– Как жизнь?
– Какой ее аспект тебя интересует?
Декан отвечает не сразу:
– Я тебя много лет знаю, мы старые друзья.
– Верно, – отвечаю я. – Не так давно ты меня позвал на ленч, заказал тарелку супа и полбутерброда и сказал мне, что моя карьера окончена. Ты сказал так: «Мы наняли этого деятеля с новым подходом к преподаванию истории: нацеленность в будущее. Вместо изучения прошлого студенты исследуют будущее – тут главное теория вероятностей. Мы думаем, что это менее депрессивно, чем пересматривать фильмы Запрудера».
– Не было бутерброда, – отвечает декан. – Только суп. И решение не полностью мое было. Мне хочется считать тебя своим другом: это ведь я тебя брал на работу.
– Не ты. Мы были коллегами, ты мне сказал, что есть вакансия, но нанимал меня не ты. Честно говоря, я полагаю, что если бы мог заказывать суп ложками, то взял бы ровно две.
Он ничего не отвечает.
– Чего ты хочешь? – спрашиваю я, думая, не хочет ли он, чтобы я понял его и простил.
– Пойдем пройдемся, – предлагает декан, надевая куртку.
Мы выходим из здания и идем к его машине.
Парковка забита компактными автомобилями разных возрастов – у нас почти все студенты приезжают на машинах. Отражение солнца в этом море хрома слепит глаза. Мы считали себя избранными – потому что для преподавателей были отведены маркированные места на парковке, – пока один аспирант инженерного факультета намеренно не разбил в хлам машину на месте с номером 454, и администрация решила, что лучше сделать парковку без различий, демократичную – с исключением только для тех, у кого на машине инвалидный знак.
Босс отпирает дверцы своей «тойоты». Песня автоматического замка эхом отдается от других машин. Я себе представляю, что когда-нибудь автомобили начнут отвечать друг другу на чириканье в постмодернистской перекличке. Гибридные, где вы? Чирп-чирп, мы везде.
Он вытаскивает из-под сиденья конверт – стандартный белый номер 10 – и подает его мне.
– Возьми.
Я не вынимаю рук из карманов.
– Возьми, – повторяет он уже настойчиво.
– Что это?
– А по виду не понятно?
– С виду похоже, что это деньги.
Он сует конверт мне.
– Ты идиот, – говорит он. – Я пытаюсь тебе помочь. Мне хреново. Я должен был все это по-другому сделать. А вот ты, – это он мне, – вот ты должен был свою книгу закончить.
– Жертва виновата, – говорю я, не вынимая рук из карманов.
– Я не мог тебя прикрыть. Мне нечем было подкрепить свою точку зрения.
И он снова сует мне конверт.
– Спасибо, не надо.
– На каком основании?
– На том, что я ни у кого не возьму конверта с деньгами. Насколько я тебя понимаю, ты меня подставляешь. Секретарша – свидетель, как ты меня вызывал, заставил пройти к твоей машине, где был спрятан конверт. Не сомневаюсь, что тут повсюду камеры, которые все записывают. А в машине – микрофоны.
– Ты параноидальный кретин.
– Я специалист по Никсону, – отвечаю я. – И знаю, о чем говорю, – бросаю я, резко поворачиваясь и направляясь к зданию.
– Куда ты?
– Присутственные часы.
Я слышу чириканье запираемой машины, потом его тяжелое дыхание и топот, когда он догоняет.
– Послушай, дело тут не в деньгах… – начинает он.
– Но ты же суешь мне именно деньги. По-тихому, чтобы я тихо ушел в ночь.
– Это мои деньги, не факультета.
– Тем извращеннее все это выглядит.
– Я надеюсь, ты передумаешь, – говорит он, входя со мной в здание. – Считай это творческим грантом.
Я беру коробки, оставленные у двери кабинета, – одна уже необъяснимым образом заполнилась мятыми бумагами. Как получилось? Может, студенты тренировались кидать бумажки в цель?
У меня в кабинете кто-то уже есть, сидит в гостевом кресле. Человек спиной ко мне, на голове заколкой для волос пришпилена ермолка.
– Чем могу служить?
– Вы профессор Сильвер?
– Да, я. – Он знает, что сейчас было на парковке? Он здесь сидит, готовый выслушать мой рассказ об искушении – как в какой-нибудь программе вроде «Напуганы, точно!». Или он тоже – элемент ловушки? – Вы интересуетесь Ричардом Никсоном?
– Не особенно, – отвечает он. – Я студент, учусь на раввина.
– И вы должны так одеваться, хотя вы пока лишь студент?
– Так – это как? – осматривает он себя. – Я всегда так одеваюсь.
– Вы работаете на декана?
– Простите?
– Шварц, декан факультета, только что пытался всучить мне конверт с деньгами.
– И что вы сделали?
– Как вы думаете, что я сделал? Послал его подальше.
– Меня интересует ваш брат.
– Расширяете клиентскую базу?
– Изучаю взаимоотношение евреев и криминала. Если не считать азартных игр, евреи практически не участвуют в преступной деятельности.
Он смотрит на меня забавным таким взглядом. Будто споткнулся о шкатулку с леденцами и отчаянно старается не показать, как оживился.
– Как вы решили стать раввином?
– Я не решал, – отвечает он. – У меня в семье все раввины. Мой отец, мой дядя. Моя сестра – автомеханик: она решила, что положение женщины-раввина слишком стеснительно.
– Мой брат Джордж прошел бар-мицву, потому что хотел получить в подарок сберегательные облигации, радиоприемник с часами от тетки, вечное перо от женщин общины и поездку во Флориду от бабки с дедом. Там, во Флориде, ему повезло – получил от одной девушки свой первый, гм… оральный опыт. Его рвение никак не относилось к Богу, а полностью – к сексу.
– Я хотел бы его изучить, – говорит ученик раввина и тут же поправляется: – Я его изучаю, но хотел бы изучить более близко.
– Каковы ваши предпосылки? Что вы хотите изучить? Как евреи сбиваются с пути?
– Можно посидеть на вашем занятии? – спрашивает он, даже не реагируя на мой вопрос.
– Нет, – сразу отвечаю я.
Молчание.
– Евреи жен не убивают, – заявляет он.
– Вы с кем-нибудь еще говорили?
– С Лефковичем.
– Это строитель пирамид? Который запихал свои «Ролексы» и украшения жены в задницу собаке, а потом взял ее на прогулку, находясь под домашним арестом? Собака просралась, а один хмырь подобрал какашку, отмыл часы и продал их, взяв за это пятьдесят процентов? Федералы этого Лефковича называли «Говенная рука».
– Да, это он.
– Еще кто?
– Эрнандес и Квон.
– Оба обращенные.
Студент-раввин удивляется, что я это знаю, но почему бы мне и не знать? В конце концов, знание фактов – суть моей профессии.
Он после паузы говорит:
– Извините, хотел бы спросить вас. Каковы ваши отношения с Богом?
– Ограниченные, – отвечаю я. – За исключением спонтанных молитв в моменты сильного горя.
– Я бы хотел больше узнать о вашей семье.
– Я человек весьма не публичный. Мы с братом очень разные люди. Разные стороны медали.
– Но у вас очень много общего. Что вы делаете, когда злитесь?
– Я никогда не злюсь. Обычно у меня вообще никаких чувств нет. – Я смотрю на часы: – Сейчас нам придется прерваться. Мне нужно подготовиться к занятию.
– Я бы хотел снова с вами увидеться.
– В приемные часы моя дверь открыта.
– На следующей неделе?
– Почему нет? Если вам это необходимо. Можно спросить, как вас зовут?
– Райан.
– Забавно, – отмечаю я. – Никогда не встречал еврея по имени Райан.
– Нас очень мало, и мы рассеяны в общей массе, – поясняет он и на выходе добавляет: – До следующей недели.
Все полки моего офиса забиты никсонианой: я специально собирал здесь толстые исторические книги, чтобы студенты в моем кабинете видели хранилище исторических материалов. Еще у меня есть несколько редких политических плакатов: Макговерн/Иглтон, Хамфри, Джеральдин Ферраро. Я аккуратно их снимаю и сворачиваю. После Никсона следующий мой любимый политик – Л.Б.Дж. Я думаю, это связано с периодом, когда я обрел политическое сознание, осознал, что существует мир за пределами гостиной моих родителей.
Перед занятиями по дороге я заношу коробки к себе в машину. Конверт лежит на переднем сиденье. Дверь заперта – но вон он, прямо на сиденье и лежит. Это Шварц туда его подложил? Меня все-таки подставляют?
Я беру конверт и пытаюсь вернуть его в машину Шварца, но у него дверцы заперты. Сую конверт через верх окна. Край его проходит, но там, где потолще (купюры) – застревает. Я бегу обратно в офис декана. Дверь у Шварца закрыта, секретарши факультета тоже нет. Черт!
Кладу конверт обратно на сиденье моей машины, запираю дверцу и спешу в аудиторию. Не хочу таскать конверт с собой. И не хочу ссоры в аудитории.
– Здравствуйте, – говорю я, входя.
Аудитория заполнена лишь на треть. Я даю студентам несколько минут, чтобы собраться, потом начинаю с серии объявлений об экзаменах и крайних строках записи у регистратора.
– Как вам известно, у вас было задание написать статью, которую надо сдать не позже чем сегодня. Прошу собрать и передать сюда работы. – Я жду, пока будут переданы двенадцать работ. – Хотелось бы знать: когда как-то дадут о себе знать остальные?
Ни слова. Смотрю на стол. Верхняя статья озаглавлена: «Ричард Никсон как злодей. История в картинках».
Пролистываю работу. Студент вместо статьи сделал книжку комиксов. Мне полагается испытывать недовольство, но идея увлекает. На рисунках – шаржи на Никсона, Халдемана и Киссинджера, с гипертрофированными чертами – развитие темы «Не видь зла, не слышь зла, не говори зла». И контуры специально размыты, как после фразы: «Позвольте мне высказаться совершенно ясно».
Глаз у меня пульсирует болью, я чувствую, как он закрывается, а второй, будто из солидарности, сузился до щелки.
– Хорошо, так на чем мы остановились?
– Уотергейт, – подсказывает кто-то.
– Отлично. И что мы знаем об Уотергейте?
– Первый из «гейтов», – говорит кто-то из студентов, остальные смеются.
У студентки звонит телефон. Звонит, звонит, пока наконец она вытаскивает его из сумки. Все наблюдают.
– Алло? – произносит она. Я таращу на нее глаза, потрясенный, что она вот так посреди занятия отвечает на телефонный звонок.
– Кто это? – спрашиваю я.
– Моя мать, – шепчет она громко.
– Передайте мне телефон, – требую я, и его передают вперед. – Алло?
– Кто это? – спрашивает мать.
– Это профессор Сильвер. С кем я говорю?
– Малина Гарсия.
– Сколько у вас детей, миссис Гарсия?
– Четверо.
– Это прекрасно. Вы, наверное, гордитесь ими. Но у нас сейчас занятие.
– Ой, – говорит она, – по йоге? Мои девочки йогу обожают.
– Нет, миссис Гарсия, не по йоге. Вам что-нибудь говорит имя «Ричард Никсон»?
– Да, конечно. Президент, который умер от этой забывательной болезни. Так жалко, такой красивый был мужчина.
Дочь в аудитории краснеет.
– Да, миссис Гарсия, красивый был мужчина. С вами разговаривать – просто удовольствие. Ваша дочь должна была сегодня сдать работу. Она что-нибудь об этом говорила?
– Нет, не помню.
– Вы примерно знаете, о чем она могла бы писать?
– Пожалуй, нет.
– У нее есть привычка обсуждать с вами учебные дела?
– Не особенно. Обычно мы говорим о родственницах, о ее подругах, ну, и прочее в таком роде.
– Благодарю вас, миссис Гарсия. – Я вешаю трубку и отдаю телефон владелице. – У кого-нибудь еще есть срочный телефонный разговор? – Ответа нет. – А забавно, что во времена Никсона не было сотовых телефонов, текстовых сообщений, «блэкберри». Представьте, как могло бы все повернуться по-другому, если бы Никсон работал с передовой техникой, а не со старым магнитофоном с большими кнопками, которые легко перепутать – так что секретарша случайно нажала не на ту кнопку, а потом, отвечая на телефонный звонок, наступила на педаль дистанционного управления и все стерла.
Аудитория смотрит пустыми глазами.
– Ну что ж, вернемся к делу. На чем мы… может ли кто-нибудь рассказать, в чем была суть Уотергейта?
Поднимается единственная рука.
– «Гейт» – суффикс, применяемый к слову, чтобы превратить его в название скандала. Например, «Уотергейт», который был так назван, потому что произошел в Вашингтонском комплексе зданий, имевшем такое название. С тех пор любой крупный всплывший скандал стал называться «Что-то-такое-гейт». Так что фактически это был первый из «гейтов».
– Интересно. Спасибо. Вы работу сдали?
– Да, сдал. Я прибыл очень издалека, и мне, чтобы оставаться в этой стране, нужна очень хорошая отметка. Мои родные отрежут мне голову, если я не покажу хороших результатов.
Аудитория смеется.
– Вы хотите сказать, что ваша семья вас от себя отрежет, если вы не покажете хороших результатов.
– Я хотел сказать то, что сказал.
– Поверю вам на слово.
Я продолжаю занятие, цитирую мемуары Никсона:
«Фактическая правда об Уотергейте вряд ли будет когда-нибудь восстановлена, поскольку каждый из нас был вовлечен в это дело своим путем, и ничьи знания в каждый конкретный момент не повторяли полностью знания кого бы то ни было другого».
Я объясняю, что в те времена, когда разворачивался этот скандал, он был самым крупным примером нечестных приемов и привел к единственной за всю американскую историю отставке президента и официальному обвинению «уотергейтской семерки» (Никсон был назван соучастником заговора, хотя изначально таковым не являлся). Джон Митчелл, Г.Р. Халдеман, Джон Эрлихман и Чарлз Колсон отсидели тюремные сроки, Гордон С. Стракан, Роберт Мардиан и Кеннет Паркинсон за решетку не попали. Среди тех, кто отсидел по уотергейтскому делу, были Е. Говард Хант, Дж. Гордон Лидди, Джеймс Маккорд, Фред Ларю… По привычке, я отклоняюсь от темы, излагая эволюцию специальной расследовательской группы Никсона под кодовым названием «Водопроводчики». Первым ее заданием было проникнуть в офис психиатра, лечившего Дэниела Эллсберга, и набрать материал на этого бывшего сотрудника РЭНД, решившего, что его гражданский долг – организовать утечку бумаг Пентагона. Никсон решил, что эта утечка – «заговор» против его администрации, и хотел Эллсберга дискредитировать. Он приказал своим «водопроводчикам» выдать СМИ все, что найдут, и попытаться «испытать его прессой… чтобы найти течь». Последовавшая попытка взлома была комедией ошибок: взломщики ждали, пока уйдет уборщица, потом дверь оказалась заперта, и им пришлось вламываться в окно. Их было трое: Бернард Бейкер, Фелипе де Диего и Эухенио Мартинес, еще двое стояли на стреме: Е. Говард Хант и Дж. Гордон Лидди. Как ни странно, некоторые из этих «водопроводчиков» были действующими или бывшими сотрудниками ЦРУ, и их путь можно проследить назад до «залива Свиней» и вперед до «Уотергейта».
Боль в глазу убийственная. После занятия захожу в медицинский центр. У них установка для промывания глаза, смонтированная прямо над раковиной. Дежурная «сестра», открывающая краны, напоминает:
– Просто чтобы вы знали: я на самом деле не медсестра, а санитарка, медсестру сократили еще два года назад, когда урезали бюджет, так что ее у нас нет… – Потом она спрашивает: – Вы уверены, что никакой химии в глаз не попало, что роговицу не обожгло?
– Это просто земля была, – говорю я и думаю, что вполне могла быть и химия. Может, в ванной был какой-нибудь освежитель для туалета, и я им сдуру промыл себе глаз.
Не-сестра дает мне какую-то мазь, такую густую, что теперь перед глазами все расплывается.
– Это лубрикант, – говорит она. – На ночь еще положите, и если завтра боль не утихнет, то к врачу.
– Спасибо.
Наполовину ослепший, выхожу на парковку. В ушах еще звучит спокойный голос индийского студента насчет того, что ему отрежут голову. Чертов конверт по-прежнему в машине. Я сажусь и еду к дому Шварца. Открывает его жена. Я отдаю ей конверт:
– Это для Шварца.
– Его нет дома, – отвечает она. – Он на факультетском вечере.
– Возьмите вот это.
Я слегка агрессивно протягиваю ей конверт.
– В этом нет необходимости… – начинает она.
– Я это ему возвращаю, – объясняю я. – И конверт, и его содержимое принадлежат ему.
– А что это?
– Не знаю, я не открывал. Он оставил его у меня в машине.
Она берет конверт со словами:
– С вашей стороны очень мило, что вы его вернули.
Я молча пожимаю плечами.
– А что у вас с глазом?
– Укус паука, – отвечаю я невесть почему.
– Наверное, надо что-нибудь сделать. Нехорошо выглядит.
– Обязательно.
Я поворачиваюсь уходить.
– С нетерпением жду, когда смогу прочесть вашу книгу, – говорит она мне вслед. – Мой муж то и дело о ней вспоминает.
– До свидания, счастливо оставаться, – отвечаю я, не оборачиваясь.
Телефон звонит, когда готовлю себе ужин. Хватаю трубку, думая, что это может быть она – Джулия Никсон Эйзенхауэр.
– Привет! – говорит Нейт. – Пытался тебе позвонить раньше, тебя не было.
– У меня занятия.
– Может, стоило бы сообщение поменять на автоответчике. Там все еще мама.
Я так себя и не заставил его сменить. Не могу стереть Джейн. Но понимаю, каково ему слышать ее голос.
– Завтра новый автоответчик поставлю, – отвечаю я, умалчивая о том, что мне очень нравится слышать произнесенное голосом Джейн небрежное: «Здравствуйте! Нас сейчас нет дома…»
– Я все думаю про того мальчика, с автомобильной аварии, – говорит Нейт. – Мы должны о нем позаботиться.
– Я знаю, тебя заботит его судьба. Поговорю с адвокатом твоего отца, узнаю, что мы можем сделать.
Я и правда рад слышать его голос, но еще меня беспокоит мысль: есть ли у Джорджа режим ожидания на звонки? Если вдруг Джулия Эйзенхауэр позвонит и услышит сигнал «занято»? Я прерываю речь Нейта внезапным вопросом:
– У этого телефона есть режим ожидания?
– А что такое? У тебя гудит? – спрашивает Нейт.
– Не знаю даже.
– Когда есть ожидающий звонок, слышны гудки. И если кто-то записывает разговор, тоже гудки слышны.
– Ты записываешь? – спрашиваю я.
– Нет. Но я знаю об этом, поскольку мы это проходили в курсе «Политические скандалы двадцатого века» – можно было такой выбрать по истории. Если хочешь записать разговор, то сначала надо спросить разрешения, записать разрешение и подтверждение: твой абонент знает, что разговор записывается.
– Интересно. А в каком контексте возник этот вопрос?
– Мы проходили Уотергейт, и я работу писал про тетю Роуз.
– Про кого?
– Роуз Мэри Вудс. Она была секретаршей Никсона.
– Конечно, – говорю я гордо. – Ты же знаешь: Никсон – моя специальность.
– Я знаю. Дети Никсона звали ее «тетя Роуз». Она была ему беззаветно верна, – говорит Нейт. – А меня интересуют вопросы верности, даже если человек, которому преданы, порочен, преступен или вообще какой-то не такой. Еще я изучаю эволюцию «диктабелта» – эта аппаратура появилась в сорок седьмом году вместо «эдифона», а после нее, конечно, был катушечный магнитофон, а потом и еще потом какие-то уже фантастические штуки, в том числе восьмидорожечный магнитофон, у отца до сих пор такой есть – он хранит экземпляр записи живого концерта «Айрон баттерфлай», красная такая, лежит у него в ящике с носками… – Нейт останавливается, явно решив, что сболтнул лишнего. – Как там Тесси?
– Ничего, только понос у нее. Залезла в мусор.
– Это она любит. Ну, пойду я, пожалуй, у меня домашней работы куча.
– Ладно, – отвечаю я. – Спрошу про мальчика, но, ручаюсь, ничего мы до суда сделать не сможем. Это будет выглядеть как попытка повлиять на его исход.
– Я об этом не подумал, – отвечает Нейт. – Я только о мальчике думал.
На следующее утро, раннее и ясное, звонит телефон.
– Простите, что так долго. У меня был напряженный день, – говорит Джулия Никсон Эйзенхауэр.
– Я однажды вашего отца издали видел, – выпаливаю я настолько взволнованный, что даже пот прошибает. – Я был в предвыпускном классе, и нас всех повезли в Вашингтон. Ходили в Белый дом, а ваш отец принимал какого-то почетного гостя иностранного, я его видел издалека, через газон. А потом в Смитсоновский музей, показывали маятник Фуко и флаг из Форт-Генри, который Мэри Янг Пикерсгилл сшила, – тот, что был замечен Фрэнсисом Скоттом Ки и вдохновил его написать «Знамя, усыпанное звездами». Мы ходили на Монетный двор, в Бюро по выписке денежных знаков и в Национальный архив, где Декларация независимости. – Все это ко мне возвращается, захлестывает. Я же не помнил ничего этого, пока не зазвонил телефон, и как будто открылась дверь в какой-то мозговой чулан, и оттуда посыпалось наваленное под потолок. – Я люблю Вашингтон. Когда был моложе, то мечтал вырасти и жить в Вашингтоне, ездить на работу по Индепенденс-авеню, мимо Смитсоновского института, в Капитолий Соединенных Штатов…
– Боже мой, – говорит она, когда я останавливаюсь дыхание перевести, – вы истинный патриот.
– Спасибо, – отвечаю я. – С вами говорить – это волнующее переживание.
– Не знаю, насколько вы в курсе всех событий, – говорит она, – так что простите, если скажу то, что вы уже знаете. С две тысячи седьмого года библиотека вошла в федеральную систему президентских библиотек. До того это была частная библиотека, содержащая пред– и постпрезидентские материалы моего отца.
– Если мне не изменяет память, – начинаю я, изо всех сил подбирая слова, – по ее поводу были какие-то семейные трения.
Она молчит пару секунд, потом продолжает:
– Перевод в подчинение администрации архивов и записей США навел нас на мысль о реорганизации. Перехожу прямо к делу: мы нашли в ящиках материалы, которые содержались отдельно.
– Какого рода материалы?
– По моим ощущениям, они были для отца довольно личными. Бумаги, с которыми никто из нас не был знаком, неизвестные прежде документы. В общем, я хочу сказать, что мы открыли нечто…
– Правда? – спрашиваю я, удивленный. – А что именно?
Она молчит. И линия молчит, почти мертвая.
– Я слушаю.
– Рукописные материалы, о которых мы не знали, – говорит она сдавленно.
– Дневники?
– Может быть. Или нечто иное.
– Любовные письма?
Она молчит.
– Мемуары?
Снова молчание, и наконец она отвечает:
– Рассказы.
– Вроде тех, что в «Нью-Йоркере» печатаются?
– Мрачнее.
– Невероятно, – говорю я.
– В поисках человека, который мог бы работать с этими материалами, мы хотели выйти за привычный круг, за рамки обычных кандидатов, известных ученых, чье отношение к моему отцу несколько предвзято, и Черил подумала, что это может заинтересовать вас.
Я проглатываю реплику: «Кто такая Черил?» – успеваю поймать себя за язык, хотя и кашляю.
– Я заинтересован, – говорю я. – Очень заинтересован. Вы знали, что ваш отец пишет художественную прозу?
– Никто не знал, – говорит она. – Я бы хотела, чтобы вы взглянули, а после этого, наверное, продолжим разговор. Где вы сейчас?
– На кухне, – отвечаю я.
Она ждет.
– В Уэстчестере.
– Мы с Дэвидом живем возле Филадельфии. Я могу предоставить вам эти материалы в офисе юриста на Манхэттене.
– Вполне устроит. У меня занятия по понедельникам и средам, а в эту пятницу назначена встреча, но в любое другое время я доступен.
– Я подумаю, как это организовать, и перезвоню вам.
– Жду с нетерпением.
Трубку я вешаю в состоянии такого подъема, как будто мне дали ключи от царства. Бросаю Тесси «Милк боунз» и рассыпаю по полу кошкино угощение. Открываю холодильник – пустой, с кислой вонью – и напоминаю себе, что надо пойти в магазин купить еды и чего-нибудь для мытья холодильника.
Я чувствую, что многим обязан Черил и начинаю думать, как ее отблагодарить. Так прямо цветы посылать нельзя. Может, коробку бифштексов? Что можно послать такого, что останется в тайне? Я могу послать в Нейтвиль съестные припасы. «От вашего имени отправлено сто – ладно, двести, – банок витаминизированного арахисового масла голодающим детям в Нейтвиль, Южная Африка». Или купить ей сертификаты спа – женщины любят, когда им скребут ноги, и чтобы не на фоне футбольного матча.
Тем временем я иду в хозяйственный магазин, надеясь, что снова случайно встречу женщину, которая искала батарейки, и куплю в дом новый автоответчик.
– Люблю ваш магазин. В нем есть все, что тебе нужно, и даже то, что ты не знал, что тебе нужно, – говорю я старику за кассой.
Он смотрит на меня с недоумением.
Старый автоответчик я прячу в шкаф Джейн и устанавливаю новый. Оставляю на нем исходный механический голос: «Здравствуйте, мы не можем подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте сообщение».
К вечеру звонит телефон, я жду, чтобы ответчик снял трубку, – для проверки. Это Эшли, вся в слезах:
– Это мой дом? Я не туда попала? Мне мама нужна!
– Что случилось? – беру я трубку. Автоответчик отключается.
– Просто мне нужна мама.
– Расскажи, что случилось.
– Мне мама нужна.
Она шмыгает носом.
– Я понимаю, но ее сейчас нет, – говорю я как можно тактичнее. – Что случилось?
– У меня… изменения. И мне нужен мамин совет.
– Изменения?
– Ну, я стала взрослая.
– У тебя месячные? – Она шмыгает носом и ничего не говорит. Я спрашиваю: – А есть в школе кто-нибудь, с кем можно говорить? Медсестра, скажем?
– Я пробовала. Она мне выдала целую лекцию по биологии, прокладки и «тампаксы», а потом сказала, что, если я религиозная, мне это нужно обсудить со своим духовным наставником, а только потом использовать. А после она говорит: «Вообще-то это не важно, пользуйся так, как тебе удобнее». Я ничего не поняла.
– А как поступают твои подруги?
– Они с мамами говорят или со старшими сестрами. – Эшли всхлипывает. – А я ничего про все это не знаю. Мне только когда-то мама рассказывала, что, когда она была школьницей, ей школьная сестра выдала большой санитарный пакет. Как пеленка, говорила мама, и она засунула его между ног и пошла по коридору, и была уверена, что все знают, что у нее месячные. Она так смущалась, просила отпустить ее с физкультуры, взяла ножницы, пошла в туалет и там разрезала пакет на четыре куска, а их клейкой лентой прилепила к трусам.
– Твоя мама всегда опережала свое время, – говорю я. Не то чтобы эта история меня взволновала, но я всегда рад поговорить о Джейн.
– Я попробовала «тампакс», – снова разражается слезами Эшли. – И я его не в ту дырку сунула.
Я пытаюсь представить, о чем она, и ничего не могу сказать.
– Ты знаешь, что там две дырки?
– Вообще-то да. И я сунула не в ту.
– Откуда ты знаешь?
– Ну, ощущение, что неправильно.
– Ты вложила его в попу?
Я не знаю, как сказать. «Снизу» – так и то, и другое «снизу». А «задница» или еще какое-нибудь слово – слишком грубо в разговоре с одиннадцатилетней девочкой.
– Ага. И это здорово больно. Очень трудно было там нащупать, что где, и первая казалась слишком маленькой, ну, я и надавила.
– Там есть веревочка?
Я вот откуда знаю: когда-то добивался секса с одной девушкой, а она сказала, что у нее месячные, а я сказал, что это не важно. Но я заткнута, сказала она, и тут я не понял. Потяни за веревочку, сказала она, я и потянул. Вылетел ком окровавленной ваты, и я, думая, что бросаю его на пол, дернул рукой слишком сильно, а он полетел, хлопнулся о стену и сполз к плинтусу, оставив кровавый след.
– Была там веревочка, – отвечает Эшли.
– Ты можешь подойти к зеркалу и посмотреть?
Я себя чувствую как человек, который должен посадить самолет, имея опыт пассажира.
– Там так все грубо, – говорит она.
– Я буду с тобой на телефоне. Ты где сейчас?
– У себя в комнате.
– У вас в комнатах телефоны?
– Нет, я уговорила одну девочку дать мне свой тайный. Нам не разрешают иметь сотовые.
– Включи радио, чтобы никто тебя не подслушал.
Она включает фоном какую-то музыку.
– Хорошо, теперь посмотри в зеркало и скажи мне, что ты видишь, – говорю я, прикидывая, не арестуют ли меня за этот разговор.
– Не знаю.
– Ты можешь пальцем потрогать там, куда засунула тампон? Нащупать его там?
– Нащупать могу, а достать не могу.
– Он в какой дырке?
– В задней.
– Которая самая задняя?
– Да!
Она раздражена и очень смущается.
– Ничего страшного, наверняка это со многими случалось. Не может же быть, чтобы ты одна так ошиблась? Ты стоишь или сидишь?
– Да стою я!
– Ну, хорошо, ты присядь. Теперь нащупывашь?
– Да, но ухватиться все равно не могу!
В ее голосе сильная досада.
– Сейчас мы его достанем. Ты не волнуйся, слушай меня. Вот сейчас, когда ты присела на корточки, ты натужься – как будто очень стараешься в туалете. И попробуй одновременно вытащить.
– Боже мой, какая гадость!
Слышен звук упавшего телефона.
– Что случилось? Ты его вытащила?
– Я какнула на пол. Фу, как противно!
– «Тампакс» ты вытащила?
– Да. Боже мой, как же я все это уберу?
– Представь, что это Тесси покакала. Возьми пластиковый пакет и вынеси все в туалет.
– Мне пора идти, – говорит она и вешает трубку.
Я несколько взволнован, но в то же время чувствую себя как рок-звезда, как инженер НАСА, только что спасший своими указаниями космическую станцию.
Вечером, когда звонит телефон, я снимаю трубку, не дожидаясь автоответчика.
– Это Джулия, – говорит она, напомнив мне другую Джулию, автомат из «Амтрака». «Здравствуйте, я Джулия, автомат-агент «Амтрака». Чем я могу вам быть полезна? Вы звоните забронировать место? Кажется, вы сказали, что хотите с кем-нибудь говорить? Минутку, я вас соединю».
– Вы слушаете? – спрашивает она. – Нормально слышно? Я с мобильного.
– Громко и отчетливо, – отвечаю я.
– Отлично. Я организовала для вас просмотр материалов. Во вторник в десять утра, на фирме «Герцог, Хендерсон и Марч». – Она дает мне адрес и заканчивает указанием: – Спросите Ванду, она вами займется.
– Есть ли что-то конкретное, на что я должен посмотреть? Или что-то конкретное, что я должен искать?
– Не сомневаюсь, что у вас есть вопросы, но на данном этапе чем меньше их будет, тем лучше. Рассмотрите как следует, и тогда мы поговорим. И чтобы не было неясностей: это не приглашение к постоянному доступу. Это первый шаг. Если получится, будем двигаться дальше. – Она делает паузу. – Кстати, вы кого-нибудь знаете в издательстве «Рэндом хаус»?
– Никто на ум не приходит, – отвечаю я.
– В какой-то момент редактор по имени Джо Фокс спросил моего отца, не интересуется ли он написанием художественной прозы. Что-нибудь это имя говорит?
– Он ушел, – отвечаю я.
– В другую компанию?
– На тот свет. Скоропостижно, на рабочем месте. Он был редактором Трумена Капоте.
– Тогда понятно, – говорит она. – Мой отец пометил на полях его письма: «Ни за что». Он Капоте ненавидел, терпеть не мог. Говорил, что он среди них худший.
– Среди них?
– Гомосексуалистов. Папа их не любил. – Она замолкает на секунду. – В четверг, в десять утра. Ванда вас проведет.
– Спасибо, – говорю я. – Очень заинтригован.
– Как и должно быть, – отвечает она.
В шесть утра в четверг я уже принял душ, побрился, оделся в один из костюмов Джорджа, прямо из химчистки, и смотрю в сети сайт дешевых парковок в поисках недорогого гаража возле этой адвокатской конторы. В один из старых портфелей Джорджа загружаю ручки и блокноты и отчаливаю.
Паркуюсь в полуквартале от офиса Клер. Я не знал про это, или же знал, но решил забыть? Улицы кишат прилично одетыми людьми. Я себя ощущаю как приезжий провинциал, будто все во мне не так, как нужно. Ошеломленный ощущением дежавю, знаю, что я здесь когда-то был, при других обстоятельствах. Как будто сейчас я живу в альтернативной реальности, и не оставляет неприятная мысль, что инсульт повредил мне мозги сильнее, чем я думаю.
Возбуждение перерастает в злость.
В вестибюле здания охранник спрашивает у меня какое-нибудь удостоверение. Я лезу в карман, нахожу две скатанные вместе двадцатки и пятьдесят – смешные деньги, – и соображаю, что надел костюм Джорджа, а карманы не перегрузил. Меня прошибает пот. Я сознаюсь охраннику, что у меня с собой нет документов.
Он кидает мне кость: предлагает позвонить наверх, попросить Ванду спуститься и провести меня.
Ванда – высокая, чернокожая, деловитая. Обращается со мной как с наглядным пособием: экземпляр рассеянного профессора.
– Прошу прощения, что вам пришлось спускаться, – говорю я в лифте.
– Не вопрос, – отвечает она, и тут двери открываются на двадцать седьмом этаже. – Фирма расположена на этом и следующем этажах.
В фирме тихо. Телефоны не звонят – они мигают, люди передвигаются по коврам беззвучно. Единственное, что слышно, – шелест одежды.
Ванда проводит меня по коридору, отпирает дверь и вводит меня в конференц-зал, заставленный скромной, хотя и дорогой мебелью. В середине стола стоит нечто, напоминающее НЛО, – телефонный аппарат для телеконференций. На дальнем конце стола – две потертые картонные коробки с надписью печатными буквами сбоку: «Р.М.Н.». У меня сердце начинает частить.
– Ваш рюкзак придется оставить у меня, – говорит Ванда.
– Рюкзак?
– Сумку.
Она показывает на то, что я держу в правой руке.
– Портфель Джорджа?
– Да.
– Там для заметок, – хлопаю я по портфелю, – бумага и ручки.
– Посторонние материалы не разрешены. У нас свои. – Она показывает на лежащие на столе блокноты и карандаши. – И, пожалуйста, цитаты не длиннее семи слов подряд.
Я киваю, отдаю ей портфель. Она мне вручает соглашение о конфиденциальности на трех страницах. Подписываю, не читая.
– Сколько у меня времени? – спрашиваю я.
– Я здесь до пяти.
– Благодарю вас.
Она собирается уходить, но поворачивается обратно:
– Вы под постоянным наблюдением. Так что без глупостей.
– Мне позволено распаковывать коробки?
– Да.
– А перекладывать материалы?
– На столе перчатки. У вас же нет аллергии на латекс?
– Никакой, – отвечаю я. – Все прекрасно.
Я надеваю перчатки, представляя себе, что я – врач, а РМН – пациент. Невероятно волнуясь, открываю старую коробку. Вижу почерк Никсона – и кровь бросается в лицо. Щеки горят, ладони в перчатках потеют. Хорошо, что я один – потому что, честно сказать, я перевозбужден, как двенадцатилетний подросток, впервые листающий журнал с голыми девицами.
Я касаюсь бумаги, которой касался он. Это не копия, это она и есть. Стандартные листы покрыты густым синим курсивом Никсона – с зачеркиваниями, с абзацами, подчеркиваниями, номерами. Зачастую на странице несколько заголовков, куски с номерами 1, 2, 3, 4.
Он совершенно буквально дышит на этих страницах. Тут его мысли, его идеи. На полях нацарапано: «Ешь меньше соли. Вместо нее добавь перца. Или корицы». И отвечает сам себе: «Терпеть не могу корицу, она похожа на грязь».
Держа в руках эти изрядно потертые страницы, я чувствую, как меня захлестывает удовольствие. «Посмотрите, потом поговорим», – слышу я голос Джулии. Думаю о том, как она в декабре шестьдесят восьмого вышла за Дэвида Эйзенхауэра, внука генерала и бывшего президента. Меньше двух месяцев прошло после победы Никсона на выборах. А венчал их не кто иной, как преподобный Норман Винсент Пил – «мистер Сила-Позитивного-Мышления».
Предаваясь высоким надеждам, предвосхищению, увлеченный личностью РМН, я начинаю думать о себе, спотыкаюсь о мысленного лежачего полицейского – и проваливаюсь в собственную семейную историю. Юмор ее в том, что родители – хотя и надеялись, что мы с Джорджем вырастем и станем президентами, – считали нас неспособными даже улицу перейти без присмотра. Это было воспитание на контрасте, крайности одновременных ожиданий чуда и напоминаний, что мы – никчемные отбросы. Сейчас, ретроспективно, это можно бы назвать жестоким обращением. Разумеется, «ненамеренным», и возникло оно из лишений и неудач наших родителей и из чувства, что в нас они должны получить компенсацию, получить все, что им недодано. Я всегда ощущал какую-то «дефектность» своей семьи, и как раз эти очень хорошо скомбинированные дефекты: умение любить и презирать одновременно – и не давали расстаться моим родителям. В основном они гвоздили нас сарказмом. Мы должны были стать президентами, правящими из-за детского стола, и даже думать не сметь пойти хоть на дюйм дальше, чем продвинулись наши родители. Ни за что не переступить черту.
Тут у меня сердце екает: доходит, что я тут стою с листами бумаги, держа в руках объект своего исследования, – и трачу время на пустые воспоминания.
Начинаю снова, все время помня о Никсоне, его современниках и том периоде колоссальных преобразований в стране. Период-мост между культурой эпохи предвоенной депрессии и культурой послевоенной процветающей Америки, Америки Американской мечты.
ИЗ КОРОБКИ РМН 345, БЛОКНОТ № 4, ЗАМЕТКИ, ОЗАГЛАВЛЕННЫЕ «ДОБРЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД»
Уилсон Грейди живет сам по себе. Каждое утро он просыпается и чувствует, как в груди ширится гордая радость, как наполняет его уверенность, что этот день будет лучше предыдущего. Счастливый и везучий, едет он по равнине милю за милей, вздымая облака пыли и так ревя дырявым глушителем, что его принимают за низко летящий опрыскиватель. Люди смотрят на его приближение еще издали, и он, выходя из машины, шутит по этому поводу.
– Да что уж, – говорит он. – Гремит старушка, гремит, но зато она меня доставила к вам и, даст Бог, и домой меня отвезет к концу недели.
Хозяйка дома спускается к нему с крыльца. Одинокая женщина никогда не пригласит его зайти – это понятно.
– Уилсон Грейди, – представляется он, протягивая руку. – Заранее спасибо за потраченное на меня время.
Если он ей нравится, она ему предложит кофе.
– Это было бы прекрасно, – отвечает Уилсон, независимо от того, пил он кофе за две мили отсюда или нет.
– Как вы любите? – спрашивает она и добавляет, прежде чем он ответит: – У нас молоко кончилось.
– Черный с сахаром будет очень хорошо.
Он ждет, пока она возвращается в дом. По веранде можно много сказать о жителях дома. Покрашена? Стулья есть? Цветы? Шторы на окнах? Вязаные абажуры на лампах? У Грейди давно уже есть мысленный список признаков.
Кофе горячий – толстая фарфоровая чашка едва не обжигает руки.
– Вы вспоминали о детях. Сколько им?
– Уильяму, старшему, одиннадцать. Роберту девять, Кэролайн восемь, Реймонду – шесть.
– У меня с собой среди прочего есть полная энциклопедия, набитая информацией, историческими сведениями, картами, – всем, что только нужно человеку знать. – Он ведет женщину к машине – аккуратно открывает багажник, который заполнен как лавочка «Все за пять долларов». – Про эти книги могу вам вот что сказать: каждый день после ужина я сажусь и читаю какую-нибудь букву алфавита – там столько всякого можно узнать. Сейчас я дошел до «Н» – и это хорошее образование.
– Сколько она стоит?
– Отвечу честно, – говорит он. – Недешево. Двадцать шесть букв алфавита собраны в тринадцать томов, и к ним прилагается атлас мира. Но это потрясающий подарок на Рождество и такой, которым дети будут пользоваться. Даже тот юный джентльмен, который скоро научится читать.
– А у вас, мистер, есть дети?
– Пока нет – но будут. Я уже положил глаз на одну девушку, которую хочу взять в жены. Только она об этом еще не знает.
Женщина улыбается.
– Весь комплект могу вам отдать за сорок долларов.
Она кивает:
– Это приличная сумма.
– Естественно, – соглашается он. – Это же инвестиция в знания на всю жизнь.
– У вас случайно утюга не найдется?
– Случайно найдется… – Он секунду ищет утюг. – Вот, паровой электрический. – Грейди аккуратно вынимает утюг, показывает женщине. – Я один такой подарил маме, и она не нахвалится.
– И сколько такой стоит?
– Шесть долларов сорок пять центов.
– А конфетки есть? – спрашивает она застенчиво.
Он смеется:
– Не думайте, что вы первая, кто о них спрашивает. Есть мятные шарики, лимонные леденцы, красная и черная лакрица, а если хотите что-то поизысканнее – есть пара коробок шоколадных «Си».
– Я когда-то одну пробовала, – говорит она. – Рай на земле.
– Шоколадная дорога к звездам, – соглашается он.
Она смеется и лезет в карман платья.
– Давайте возьму у вас утюг – и конфет на пятьдесят центов.
Грейди работает «от двери к двери» с девяти утра до пяти вечера. Если муж дома, Грейди демонстративно заинтересован всем, что глава семьи готов ему показать (это всегда какая-нибудь штука, которую тот мастерит у себя в сарае или в подвале). Грейди даже как-то грустно: все, что нужно этому типу, – чтобы его похлопали по плечу и назвали молодцом. Он слушает, разрешает собеседнику говорить ровно сколько нужно, потом, прежде чем подавать свой мяч, чуть отрезвляет хозяина воспоминанием, что никогда не видел отца в костюме – только в гробу. А потом начинает продавать. Если выходит меньше, чем на пятьдесят долларов, то это провал. Успех – если удается всучить энциклопедию для детей и коробку конфет для жены, а перед праздниками у него еще запас игрушечных грузовиков с настоящими работающими фарами и куклы, умеющие открывать и закрывать глаза, – для девочек.
Хороший день для Уилсона Грейди заканчивается в забегаловке. Если не считать пирогов матери, он никогда не ел ничего лучшего, чем просунутая в окошко еда под витриной будочки с неновой вывеской, умятая под чтение очередной буквы из энциклопедии. Приятная компания к ужину.
– Сначала чашка похлебки, а потом ваше фирменное.
Тарелка с двумя толстыми ломтями мясного рулета, хорошо приготовленная зеленая фасоль, теплый хлеб и половник пюре, горкой сложенного на тарелке с кратером коричневой подливки, все это так прекрасно, – что плакать хочется.
Он любит Америку.
Ночью задувает ветер и температура падает. И пусть день был хорош, но Уилсон Грейди чертовски мерзнет. У него есть в машине пара старых шерстяных одеял да еще подушка, принадлежавшая в детстве брату. Он паркуется в переулке и устраивается на ночь. Его редко кто замечает, а если заметят – он извиняется и уезжает, вспоминая официантку, у которой передник завязан на талии, как пояс верности.
И скрывается на темной дороге.
Я дочитываю едва ли не в слезах: это та сторона личности Никсона, которой я никогда раньше ни в чем не видел, но всегда подозревал, что она есть. В этом Никсоне есть человечность, есть безнадежная грусть, а это ранний Никсон, не президент, но такой, каким Никсон себя знает. Этот Никсон – человек с бурным честолюбием, идеализированный, пусть и типовой, рядовой человек, колесящий по стране и готовящий почву для грядущего великого момента. Уилсон Грейди – человек, который чего-то хочет, но не очень понимает, как этого добиться.
* * *
Я распаковываю ящик, выкладываю материал в ряды стопок, осторожно, чтобы сохранить порядок, – но желая добраться до середины, до конца, понять общий смысл материала, форму вещей.
Примерно в середине стопки я нахожу короткую вещь. Мое внимание привлекает, что Никсон много раз на верхних двух дюймах страницы написал грубую бранную фразу. Рассказ, состоящий почти полностью из ругательств, безделушка на тему о том, как на человека напала мебель его собственного офиса. Он приезжает поздно, потому что поезд опоздал. А еще и дождь. Туфли промокли. Носки тоже. Он входит в офис, снимает туфли и носки и кладет на радиатор, ставит мокрый кожаный портфель (замечая, что тот пахнет хлевом), достает важные бумаги и садится в кресло. Оно тут же начинает его кружить, кружить, а потом вываливает на пол. Он ставит кресло обратно и наклоняется включить настольную лампу, а та вдруг бьет его током. Он берет ручку – та течет и заливает пальцы, и когда он наконец, злой как черт, ищет платок, чтобы вытереться, и захлопывает ящик для карандашей, тот ему прищемляет пальцы.
Боже мой.
Что за черт?
Ах, чтоб тебя!
Потом я нахожу еще одну историю. Сверху в скобках примечание: «Без имен, потому что с этим человеком я однажды пил».
Квартира на Авеню
Артур приходит домой поздно, приняв на пару стаканов больше, чем стоило бы. Жену он застает в спальне, она раздевается. Он смотрит и думает, что она еще очень хорошо выглядит, сексуальна, и настроение у него сменяется на игривое, но как только она начинает говорить, все его надежды…
– Я тебе могу быть чем-нибудь полезна, Артур?
– Нет, ничем.
– Ну, хорошо. Я подумала, глядя, как ты там стоишь, будто ты ждешь чего-то.
– Хочешь знать, как на самом деле, Бланш? Самая что ни на есть чистая правда… она в том, что я никогда тебя не любил. Женился на тебе, считая, что мне это на пользу.
– Я это и так знала, Артур.
– И если бы я не думал, что мне это дорого обойдется во многих смыслах, меня бы уже давно здесь не было.
– Ты не единственный, у кого здесь такие мысли.
– Когда ты последний раз меня хотела? В том смысле, в котором женщина должна хотеть своего мужчину.
– Секс я никогда не любила, и ты это знаешь, – отвечает она, глядя на него в зеркало трельяжа.
– Именно! – обращается он к ее отражению. – А ты понимаешь, насколько мне от этого плохо? В смысле, что мне-то секс нравится, и приятно было бы иногда заниматься этим с женщиной, которой это не противно.
– Насколько я понимаю, ты определенно нашел места, где можно «заниматься этим».
– Ну ведь всегда этим кончается, разве нет?
– Разве нет? – переспрашивает она. – Кстати, Артур, насчет того, от чего тебе плохо: отношения с секретаршей босса вряд ли принесут тебе много хорошего.
– Мужчины и женщины смотрят на эти вопросы по-разному.
– Не сомневаюсь, – говорит она.
Он подходит к ней ближе, к подзеркальнику, за которым она сидит, намазывая лицо кремом.
– Мазни и меня, – просит он, почти умоляет. Она не проявляет интереса:
– Ты вполне и сам можешь.
Она встает и выходит. Он пытается ее остановить, но не везет ему, и рука попадает ей по лицу, будто при ударе наотмашь. Такое уже бывало.
Она не реагирует – как будто ударилась о неодушевленный предмет. Именно это отсутствие реакции, чего-нибудь человеческого, подталкивает его повторить, уже намеренно. Сжав кулак, он наносит удар, попадает в щеку.
Она не падает – стоит, едва покачнувшись.
– На сегодня хватит? – спрашивает она и сплевывает. На ковер падает одинокий зуб.
Говорить больше не о чем. Он выходит в коридор, берет из шкафа одеяло, которое использовалось летом для пикников в парке, и устраивается на диване. Один, в окружении прикроватных столиков, ламп и кресла, он всхлипывает. По лицу катятся тяжелые слезы, он говорит сам с собой, гулко что-то бормочет и замолкает лишь тогда, когда сует в рот большой палец. И сосет, пока не приходит сон.
В полдень приходит Ванда и несколько сдувает мое восторженное состояние.
– Перерыв на ленч, – говорит она.
– Да нет, спасибо, – отвечаю я. – Лучше я поработаю.
– У нас перерыв на ленч, – говорит она, и я на нее взглядываю. – Некому будет вас курировать, так что вам придется уйти на час. Материалы можете оставить как есть, мы их здесь запрем.
Я спускаюсь с Вандой на лифте. Мы выходим, я смотрю на нее, и она на меня – озабоченным взглядом.
– Вам нужны деньги на ленч? – спрашивает она.
– Нет-нет, у меня их хватает. Просто документа с собой не было. Не беспокойтесь, спасибо. Вы мне тут какое-нибудь заведение не порекомендуете?
– Есть салатный бар в магазине напротив и рестораны вдоль улицы, – отвечает она с облегчением.
Выхожу из здания в дневной свет, соображаю, что сейчас здесь может быть Клер, и быстро ныряю в магазин, где вливаюсь в круговращение народа, медленно плывущего вокруг салатных стоек, и что-то про себя бормочу, будто в медитации. На стойках – нарезанный латук, помидоры черри, яйца вкрутую, дымящиеся подносы с мясом в непонятном соусе, ярко-оранжевые макароны с сыром.
Мне вспоминается забегаловка из рассказа Никсона, и я невольно кладу себе на тарелку мясной рулет и картофельное пюре, а потом большой половник горячих тяжелых макарон, от которых проседает пенопласт контейнера. Расплачиваюсь и ухожу в глубь помещения, где вижу нескольких человек, сидящих на пустых пластиковых бочках из-под огурцов.
– Не возражаете, если я присоединюсь?
Они молча смотрят на меня и продолжают есть.
Еда великолепна. Более чем великолепна, божественна. Такой союз вкусов мне никогда не приходилось ощущать.
– У вас занятой вид, – говорит мне китаянка из кафе, пока я устраиваюсь на бочке.
– Очень судьбоносный был день, – отвечаю я.
– Вернетесь на работу – и победа, победа, победа.
Я киваю. Она мне приносит чай.
– Вы знаете Ричарда Никсона? – спрашиваю я.
– Конечно! Без Никсона меня бы сейчас не было.
– Я занимаюсь Никсоном.
– Возьмите что-нибудь, – говорит она. – Перед уходом, возьмите себе на потом.
– Да, хорошо, – отвечаю я, не очень понимая, каких действий она от меня ждет.
Она хлопком кладет мне в руку батончик «херши».
– С миндалем любите?
– Отлично, – говорю я и смотрю вниз. Миндаль.
– Вы хорошо работаете, – кивает она. – Я вас знала от раньшего времени, давно, вы печенье покупали для жены.
Я ничего не понимаю.
– Не помните? – Она показывает мне коробку печенья в руке. «ЛУ пти экольер». – Покупали.
– Да, – говорю я, – правильно. Я такие покупал для Клер.
– Покупали, конечно.
– Это здесь было?
– Квартал дальше. Мы переезжали, место куда лучше. Большие банкиры, много всех, все жевать хотят.
– Не ожидал, что вы меня помните.
– Я никогда не забывала, – говорит она и на миг замолкает. – Сочувствую вам. Видела газеты. Очень плохо получилось.
– Это скорее у брата, чем у меня.
– У вас тоже. Вы и есть ваш брат.
– У меня все в порядке, – возражаю я. – Все проясняется.
– Будь здоров, не кашляй, – говорит она, провожая меня за двери.
В вестибюле после ленча в ожидании Ванды я сдираю обертку с батончика и откусываю кусок. Очень приятно, что эта дама из кафе меня запомнила. Странно, что она вообще знает, кто я. Знает меня, знает Клер, знает все о моем брате. Посочувствовала мне и подарила шоколадный батончик. Сейчас уже никто никому ничего не дарит.
Откусываю второй кусок, уже не волнуясь, как выглядит мой костюм и нет ли «где-то поблизости» Клер в облегающей рабочей юбке и в туфлях на каблуках, чуть высоковатых для респектабельных. Гляжу на снующих в вестибюле людей, думаю о Никсоне, человеке своего времени, и представляю, как бы он использовал новые технологии для шпионажа, для сбора информации. Интересно, писал бы он все так же без сокращений, бродил ли бы по порносайтам с айпада, качаясь в любимом бархатном шезлонге в своем тайном убежище в здании администрации президента? Что думал бы он о современных женщинах во власти? В конце концов, это же он сказал, что не видит женщин на работе в правительстве, ни на какой. Они эмоциональны и склонны к ошибкам.
Вторую половину дня я читаю многочисленные черновики леденяще-мрачной новеллы «О братской любви». Действие происходит в небольшом калифорнийском городке. Выращивающий лимоны фермер-неудачник сговаривается с женой убить трех своих сыновей, уверенный, что у Творца на них большие планы на том свете. После смерти младшего сына средний соображает, что происходит, и пытается рассказать старшему. Тот с ним обращается как с умалишенным: само Божие Слово нарушает. Средний брат возвращается домой к вечеру того же дня, и родители ему сообщают, что старший ушел к Господу. Мальчик в ужасе. В страхе за свою жизнь он говорит родителям, что должна быть какая-то причина, почему Господь, взяв жизни двух его братьев, оставил его на этом свете. Значит, у Господа есть на него план. Пораженные горем родители кивают и велят ему идти спать. Он произносит молитву на сон грядущий, притворяется спящим. Ночью он встает и убивает сперва отца, потом мать, все время боясь гнева Божия. Убив родителей, он поджигает дом и сарай и мчится прочь в семейном автомобиле, надеясь проскочить за границу до того, как власти его найдут.
Новелла насыщена паранойей, вопросами веры, опасениями, что родители плохо заботятся о детях, что сам Бог этим недоволен. Ожидание, что уцелевший брат должен совершить что-нибудь еще, что-нибудь героическое, – он обязан возместить им утрату.
Я читаю эти фрагменты, отражающие попытки Никсона пережить раннюю смерть двух своих братьев, Артура и Гарольда, а еще – собственный кризис веры. По контрасту с нервозным утром вторая половина дня приносит некоторое спокойствие. Я прошу ключ от мужского туалета, и мне дают запрограммированную карту, как ключ-карту гостиничного номера, говоря, что она действует десять минут. Туалеты роскошные, писсуары полны льдом – он щелкает, трещит, хлопает под моей струей. Говорят, что в уборных чище, когда мужчинам есть во что целиться.
Карта мне дает предлог пройти по коридорам, думая, как попали сюда документы Никсона. Каковы отношения этой «фирмы» с родственниками Никсона? Кто-то кого-то откуда-то знает. Тут всегда так: кто-то кого-то знает, с кем-то ты в школу ходил, с кем-то во дворе играл.
Описав пару кругов по фирме, я возвращаюсь в конференц-зал. Через секунду чихаю, и тут же появляется молодой человек с коробкой салфеток.
– Спасибо, – говорю я.
Мне напомнили, что за мной наблюдают.
В шестнадцать тридцать появляется Ванда.
– Тридцать минут до закрытия.
В без десяти:
– Десять минут.
Без пяти пять я кладу карандаш. Появляется Ванда, я ей показываю несколько страниц, начерканных карандашом на листах блокнота.
– Вы рассчитываете вернуться? – спрашивает она.
– Надеюсь. Это невероятно волнующее открытие. Я только-только приоткрыл крышку.
– Я передам миссис Эйзенхауэр, что вам понравилось.
– Спасибо вам. И за вашу помощь тоже. Доброго вам вечера.
Она улыбается.
Я еду домой, преисполненный еще большей любовью к Никсону, восхищаясь его разносторонностью, его тонкостью, его искусством в описании поведения людей. Останавливаюсь купить китайской еды, доезжаю до дома, устраиваюсь за столом в столовой и рассказываю все Тесси. Разговариваю с собакой, хлебая острый суп, и одновременно пишу с максимальной скоростью. Записываю все, что могу вспомнить, все изгибы мысли Никсона, глубины характера, юмора, такого темного и едкого, открывающего уровень рефлексии куда более глубокий, чем можно было предположить у Никсона по внешним признакам. Я думаю о том, как эти рассказы переопределят личность Никсона, изменят историческую науку – в частности, мою книгу. Пишу без остановки около часа, а потом вспоминаю соглашение о конфиденциальности и говорю себе, что сейчас я работаю только для себя, это черновой вариант, первые впечатления. Углубляясь, ловлю себя на желании описать характеры, текст детально. Я чувствую, будто мне заткнули пасть, облапошили, использовали, обвели вокруг пальца, и начинаю строить планы. Если родственники отрицают, что материалы существуют, если они не каталогизированы, то трудно будет что-нибудь доказать, куда-нибудь обратиться. Но меня не оставляет надежда, что Никсоны – люди разумные. Наверное, они захотят, чтобы я оставил его такого, как есть, во всей его славе и сложности. Сейчас интересно, какой будет следующий шаг. Есть у меня телефон Джулии? Пролистываю определившиеся номера. Терпение, говорю я себе. Пусть события идут своим чередом.
Телефон звонит.
– Добрый вечер, это мистер Сильвер?
– Вероятно. С кем имею честь?
– Джеффри Орди-младший, из фирмы «Вурлитцер, Пулитцер и Орди».
– Какой мистер Сильвер вам нужен?
– Простите?
– Джордж или Гарольд?
– Учитывая положение вещей, я делаю вывод, что Джордж в данный момент к телефону подойти не может, – отвечает он с некоторой досадой.
– Да, верно.
– Извините, что звоню так поздно.
– Ничего страшного, меня целый день не было.
– Я прямо к делу. Завтра в одиннадцать утра слушания в «Уайт-плейнз» по поводу автомобильной аварии вашего брата. Мы забыли вам сказать. Туда привезут и Джорджа – первое его появление на публике. Прессы будет полно.
– Завтра?
– Как я уже говорил, тот, кто должен был вас известить, просто забыл.
– У меня завтра ленч, очень важный, с человеком, которого я не могу себе позволить подвести.
– Я только передаю информацию.
– Звучит как нечто очень важное, но что при этом в более широкой перспективе можно и пропустить, – если это первое появление, то наверняка будут и другие.
– Верно.
– Одиннадцать утра, «Уайт-плейнз».
– Именно так.
– Джордж там будет.
– Подтверждено в суде графства.
– Я постараюсь. В следующий раз было бы приятно узнать заранее.
– Приму во внимание. Доброй ночи.
В эту ночь мне снится лежащий на полу Никсон в сером костюме и белой рубашке. Голова на взбитой диванной подушке, тело извивается из стороны в сторону, будто он пытается развязать узел. Здесь же Пэт, в красном платье, расхаживает по комнате, переступает через него. В этом сне Никсон пытается под платье заглянуть.
– Чулки, а трусов нет? – спрашивает он удивленно. – Это удобно?
– Да, – отвечает она.
Звонит телефон.
– Слушай, ты, сукин ты сын… – орет на меня голос без тела.
Я в ужасе. Это же он, Ричард Никсон мне звонит!
– Ну ты и наглец! – продолжает орать он, а я постепенно прихожу в себя. Это все-таки не Никсон, а отец Джейн. – Как подумаю про тебя или твоего братца, сразу противно становится.
Она меня соблазнила, говорю я про себя, но вслух этого не произношу.
– Я хочу, чтобы ты никогда не забывал, что натворил.
– Постоянно об этом думаю.
Но я знаю, что его это слабо утешит.
– Мы слышали, что дело идет к разрешению, катится своим ходом, будет слушание, пресловутый топор готов упасть, и, в общем, за детей волнуемся, – говорит он.
– Дети сейчас в школе.
– Хватит уже с них. Мы считаем, что они должны остаться в стороне от всего этого.
– Сейчас у них все хорошо.
– Мы считаем, что ты должен куда-нибудь их увезти.
– Я на позапрошлых выходных видел Нейта, в родительский день – он потрясающий спортсмен.
– Не надо, чтобы в них пальцами тыкали, когда все это будет происходить.
– И Эшли пару дней назад звонила. У нас был чудесный телефонный разговор – по-настоящему душевный. Будто мы вместе прошли через какое-то испытание.
– Ты, чмо, – говорит он. – Ты меня вообще не слышишь, что ли? Мы считаем, детей надо увезти из страны.
– Куда?
– Ты бы мог съездить с ними в Израиль.
– Они не говорят на иврите. И вообще едва осознают, что они евреи.
Тишина.
– Ох, дерьмо ты скользкое! – говорит наконец отец Джейн. – Ладно, про Израиль я пошутил.
– Ничего себе шуточка. Разве можно еврею шутить про Израиль?
– А спать с женой брата, пока брат в дурдоме, можно? Я вот что хотел сказать: ты их должен куда-нибудь увезти подальше, чтобы вся история им по мозгам не стучала. Без разницы куда.
– Не знаю, что сказать.
– Слушай, идиот, я тебе заплачу, чтобы ты их увез.
– Они в школе, – отвечаю я. – А по делу: если хотите их куда-нибудь увезти, так запланируйте себе отпуск и скажите мне, когда поедете.
– Сейчас я могу только о себе и своей жене заботиться, – говорит он.
И я слышу, как он плачет. Одиночный возглас, глубокий, ревущий всхлип.
Потом он вешает трубку.
Я вывожу собаку. Утреннее небо густо-синее, полное обещаний и возможностей. Оно невероятно оптимистично – иными словами, нервирует меня, слишком высоко ставит планку.
Для поездки в суд и для ленча я одеваюсь в один из серых костюмов Джорджа, надеваю белую рубашку и синий галстук. Синее кажется мне более оправданным, чем красное – сигнал агрессии. Меня грызет ощущение неизбежного рока.
Одеваюсь как можно лучше, дезодорантом брызгаю не только под мышками, но и в середину груди, внизу на поясницу, куда только могу достать. Я склонен к потению, и когда приходится нервничать, рубашка пропитывается за две минуты.
В «Уайт-плейнз» я описываю круг возле здания суда. Всюду знаки: «Парковка запрещена круглосуточно». В конце концов паркуюсь возле молла «Галерея» и прохожу через него насквозь.
Здание – как всякое современное здание суда – представляет собой безликую крепость, твердыню бумажной волокиты, бюрократии и зарождающегося безумия нашей системы. Опочтарение – уже удел не только тех, кого «ни снег, ни дождь, ни мрак ночи не удержат от скорейшего завершения предначертанного им пути». Оно стало ритуалом ухода: выгнанный работник возвращается и убивает босса, брошенная жена убивает детей, брошенный муж разбивает машины, убивает посторонних, а потом жену. И самое поразительное, что при этом главной темой общих разговоров служит вопрос, какие деньги лучше – «бумага или пластик»? Обесчеловечивание – вот что меня пугает.
Я подхожу, ожидая увидеть репортерский цирк, фургоны телевидения, спутниковые тарелки. Это же Америка, тут все – цирк. То, что здесь не происходит никакого «торжественного события», не лежат красные дорожки, а идет обычная деловая жизнь, нервирует еще сильнее. Вообще «реально» ли то, что не документировано и не сообщено нам обратно средствами массовой информации? Имеет ли значение происходящее, если оно не освещено прессой? И что это говорит обо мне, если, на мой взгляд, все это без телеоператоров как-то нелегитимно?
В здании звучит безликая запись:
– Добро пожаловать. Просим вас выложить все из карманов в предоставленные контейнеры и пройти процесс сканирования.
Человек передо мной рефлекторно разувается.
Охранник ничего не говорит и просто проводит его через металлодетектор, не обращая внимания, что человек прижимает к груди хорошо поношенные туфли. Глядя на каблуки, я вижу, что он опирается на внешнюю сторону стопы. Это пронация или супинация?
Моя очередь. Я запускаю руку в карман и бросаю в корзину полную горсть – мимо. Мелочь – никели и даймы – рассыпаются по полу осколками стекла, раскатываются во все стороны.
– Сэр, пожалуйста, отойдите в сторону.
– Что-то не так? – спрашиваю я.
– В смысле? – переспрашивает охранник.
– Боюсь, я перестарался. Слегка нервничаю. Сегодня слушается дело моего брата.
– Как интересно, – говорит он, обводя меня датчиком и охлопывая. – Хотите получить свои деньги обратно? – спрашивает он, закончив.
Тем временем другой охранник ходит кругами, собирая мои никели, даймы и квотеры.
– Оставьте себе, – отвечаю я.
– Не имею права. Либо вы заберете, либо в то ведро.
Он показывает на безымянный сосуд Армии спасения, вроде тех, что Санта расставляет в сезон.
– В ведро, – говорю я. И, распихивая по карманам свое имущество, спрашиваю: – Меня проверили по какой-то особой программе?
– У нас для каждого особая программа.
Я слишком лично все это воспринимаю, будто это мне идти под суд сегодня. Нахожу зал суда (по ошибке, спрашивая дорогу, назвал его аудиторией). Он наполовину пуст. Идет какая-то неспешная подготовительная деятельность, передаются из рук в руки бумаги, ходят туда-сюда люди. Будто рабочие готовят сцену к спектаклю. Вся система построена ублюдочно, неуловимо напоминает английскую. Она нереальна, от нее разит американской культурой, фастфудом и отсутствием стиля: клерки и служители толсты и плохо одеты. Сам по себе зал неприятный и неопрятный. Ощущение, будто никто это помещение особо не любит. Похоже скорее на автобусную станцию, чем на объект, пользующийся более глубоким уважением.
Вот здесь я и сижу. Ожидал я СМИ, репортеров, публики, лезущей по головам, а вместо того – ноль. Большой ноль. Мужчина с пивным брюхом делает заметки в блокноте, который когда-то назывался «для стенографии», а женщина в наряде, который моя мама назвала бы рванью, повторяет его действия. Когда наконец объявляется наше дело, в боковую дверь входит Джордж со своим адвокатом, и они занимают отведенные им места. Я сижу в третьем ряду, смотрю на Джорджа сзади. Он оборачивается и смотрит на меня. Выглядит он не очень: тусклый, опухший, одурманенный лекарствами. Выполняются всякие формальности, кратко излагается положение дел и история того, как оно создалось.
В середине этого процесса Джордж вдруг издает звук, похожий на хрюканье атакующего носорога. Это нарушает атмосферу, но никто ничего не говорит, юристы продолжают свое. Я то задремываю, то прихожу в себя, а потом вскидываюсь, услышав слова, которые произносит представитель окружного прокурора:
– Короче говоря, мы снимаем обвинение в отношении дорожного инцидента со смертельным исходом. – Он читает по бумажке: – Независимое исследование подтверждает заявление защиты об известном дефекте производителя. Согласно документам, производитель не оповестил потребителей своевременно и должным образом. За год до этого инцидента производитель получал многочисленные жалобы на отказы, неуверенную работу и дефекты тормозной системы, в частности, недостаточную ее реакцию при нажатии на педаль. Полученные свидетельства указывают, что тормоза в автомобиле подсудимого относились к тому же типу, как те, что признаны дефектными, и подсудимый заявил сотрудникам полиции на месте происшествия, что он – цитирую: «пытался остановиться, но машина продолжала ехать». У подсудимого никогда не было замечаний по вождению, и мы делаем вывод, что несчастный случай произошел из-за дефекта автомобиля, а не по вине водителя. Мы полагаем, что наши силы следует направить на преследование производителя, о чем уже поданы соответствующие документы.
Это правда – то, что я слышу? Джордж из автомобильной аварии выходит чистеньким?
– То есть вы относительно этого инцидента снимаете все обвинения против мистера Сильвера? – уточняет судья.
– Да, сэр. Мы снимаем все обвинения в этой автоаварии, в силу недостаточности улик для поддержания обвинения.
Кажется, удивлены только мы с Джорджем.
– Это смешно! – говорит Джордж. – Я виновен, виновен так, как вы себе и вообразить не можете. Я хочу, чтобы меня наказали.
– Поддерживаю! – произношу я из публики.
– К порядку в суде! – требует судья, стукнув молотком. – Ваше желание, мистер Сильвер, к делу не относится. Здесь суд. До дальнейших уведомлений или до каких-либо изменений вашего состояния или обстоятельств, которые потребуют пересмотра такого решения, вы возвращаетесь на попечение «Лоджа».
Джордж оборачивается ко мне.
– Спасибо, что меня поддержал, – говорит он, пока его выводит из зала сотрудник «персонала» – громила из «Лоджа».
Одного из адвокатов Джорджа я застаю у питьевого фонтанчика.
– Я Орди, – говорит он, пожимая мне руку. – Мы разговаривали вчера.
– Очень это все странно, – говорю я. – Вы знали, что так будет?
– Если бы мы знали, то были бы ясновидящими, а не адвокатами. Нас потому и нанимают, что мы отлично умеем копать и раскапывать.
– Но это сделал он, он виноват. Я там был, я с ним говорил в тот вечер, когда это случилось.
– Что говорил Джордж, на самом деле не важно. Тормоза были дефектны, и производитель об этом знал.
– Я его забирал тогда из тюрьмы, это был просто другой человек.
– Отпечатки пальцев совпадают, так что это был он.
– Он убил свою жену!
– Есть вещи, которые выясняются только со временем, – говорит он, вытирая губы тыльной стороной ладони.
– У меня нет сомнений. Я видел, как это было. Он ее ударил лампой по голове.
– Вот как? – Адвокат смотрит на меня. – А может, это вы ее убили? Ударили его жену по голове и обвиняете его?
– Не думаю, что он это отрицает.
– Значит, он пытается выгородить вас. В конце концов, вы же младший брат.
– На самом деле старший.
– Без разницы, – пожимает плечами адвокат.
– Состоится ли суд по поводу убийства Джейн? Я бы хотел присутствовать.
– Будет видно, – отвечает он. – Пока что мы еще ведем переговоры.
Я меняю тактику.
– Нейт хочет что-нибудь сделать для мальчика, который выжил после аварии.
– Нейт – это кто?
– Сын Джорджа.
– И что он хотел бы сделать?
– Принять ребенка в семью. Или хотя бы взять его на день погулять.
– Потому что – что?
– Потому что – что? Потому что чувствует вину: его отец убил родных мальчика. Почему вы спрашиваете – разве это не очевидно?
– «Очевидно» – слово бессмысленное. А вопрос не ко мне, – отвечает адвокат. – Мальчик живет у своей тетки.
– Вы не могли бы дать ей мой телефон и сообщить, что мы хотели бы что-нибудь для него сделать? И даже не что-нибудь, а как можно больше.
– Вы ищете способ избежать гражданского иска?
– Один мальчик, потерявший родных, хочет помочь другому мальчику, потерявшему родных. Можете искать здесь любую подоплеку.
– Просто спросил.
– Может, вы мне дадите телефон этой тетки, и я сам ей скажу?
– Как вашей душеньке угодно, – отвечает Орди, пьет воду из фонтанчика и вытирает губы тыльной стороной ладони.
Нет у меня никакой душеньки.
На ленч я опаздываю. Приезжая, заявляю метрдотелю, что у меня тут встреча.
– С дамой, вдвоем? – спрашивает он.
– Да, – отвечаю я, внезапно нервничая, потому что не могу вспомнить, как Черил выглядит. Единственное, что приходит на ум, – яркая, но экзотическая подробность, в данной ситуации бесполезная: я вспоминаю, что у нее лобок подстрижен так, что вместо вертикальной посадочной полосы (в смысле, полоски волос сверху вниз) имеется «взлетная дорожка», как она это назвала. То есть широкая полоса из стороны в сторону, выкрашенная интенсивно-розовым. Я краснею, а метрдотель ведет меня к столу, где в одиночестве сидит женщина.
– Вы – это ты? – спрашиваю я.
– Я – это я, – отвечает она.
– Прости, что опоздал.
– Ничего страшного.
Я всматриваюсь пристальнее. Если говорить честно, я бы сказал, что совершенно ее не знаю, и это снова наталкивает на мысль, что все подстроено. Вот сейчас из-за гриля выскочит какой-нибудь тип и отрекомендуется: «Обдолбанный Поли из подсмотреть. ком». Может быть, это моя одержимость СМИ, настороженность к телеоператорам, мысль, что все должно быть задокументировано, иначе оно нереально. Как бы там ни было, я нервничаю, и она интуитивно воспринимает мою тревогу.
– Я перекрасилась, – говорит она.
– Красиво получилось, – говорю я, чтобы хоть что-то сказать.
– Я часто меняю цвет волос. Один из способов самовыражения. Розовую прядь помнишь?
Я краснею, испытывая облегчение.
– Что у тебя с глазом?
– Случайно запорошил, когда в саду работал.
– А выглядит так, будто ты плакал.
– Нет, просто пот в глаз попал. Могло стать хуже от соли.
– Ладно, так как живешь? – Она старается завязать разговор.
– Странно живу, – отвечаю я. – А ты?
– У тебя жизнь всегда была странная или только теперь стала?
– Я только что из суда, с процесса моего брата. Он слегка набедокурил, и, как ни странно, обвинения с него сняли.
– Фантастика, – говорит она, поднимая стакан с водой. – Ну, будем.
– Он же виноват! – возмущенно говорю я. – Я просто вне себя был. Рассчитывал, что свершится правосудие.
– Ты говорил, что у тебя был инсульт? – Она меняет тему. – А в чем он выразился?
– Чем вызван такой вопрос? У меня лицо обвислое? Именно в этом и выразился: я смотрел в ванной в зеркало, и лицо просто рухнуло вниз.
– Да ничем. Просто хотела больше о тебе узнать.
Я киваю.
Официант приносит оливки и хлеб, сообщает о фирменных блюдах и дает нам «минутку подумать».
Я рассказываю ей про Нейта и про родительский день.
– Дети – это здорово, – говорит она, просияв. – Но послушай. – Она наклоняется ко мне, забывая, что Нейт – не мой сын. – Это же мы не для детей делаем, а для себя. Я была такая, настоящая футбольная мамочка, и как-то стояла под теплым дождиком рядом с тренером, которому только что сообщили, что у его жены, корпоративного юриста, рак груди. Он был так опечален, так одинок и хотел чуть-чуть отвлечься. «Можешь его потрогать, прямо здесь и сейчас, под пончо? Так будет хорошо, если его кто-то потрогает. Давай, я его достал, пощупай, как он хочет для тебя станцевать».
Ее рассказ вызывает ужас. Но и заводит.
– Выбрали что-нибудь? – спрашивает вернувшийся официант.
– Нет, – отвечаю я. – Не было возможности подумать.
– Что-нибудь на двоих? – спрашивает она.
– Как тебе угодно, – отвечаю я и вижу, что ей этот ответ приятен. Она смотрит на официанта:
– Пиццу с тефтелями без лука и большой салат.
Официант кивает и уходит.
– Так что с тобой случилось? Ты говорила, что стала разваливаться.
– Спрыгнула с лекарства. Я столько на нем просидела, что не могла вспомнить, зачем его принимаю. Мне его назначили при послеродовой депрессии шестнадцать лет назад, и я на нем сидела, но недавно подумала, что смысла в этом нет. Я вполне счастлива, решила я, у меня все есть и я могу делать что хочу. Так что я перестала принимать лекарство, отняла себя от груди, так сказать, и с виду все было преотлично.
– А потом?
– А потом через пару месяцев скоропостижно скончалась одна подруга, которую я с детского сада знала, и что-то сдвинулось. У меня постепенно снесло крышу.
– Как это началось?
– С флирта. Стала выходить в сеть и рассылать игривые записочки. А потом мне стали звонить. Совершенно невинные, но забавные разговоры. А потом кто-то меня подначил выйти на свидание на парковке «Данкин донатс» – сказал, что будет держать в руках пончик с вареньем, – ну, я и согласилась. – Она отпивает из стакана. – Вообще-то я тебя не слишком хорошо знаю.
– А почему именно секс, а не, например, шопинг?
– Ты хочешь назвать меня шлюхой?
Голос становится резким. Я подаюсь вперед:
– Я стремлюсь понять, что это все для тебя значит и зачем ты хотела меня сегодня видеть.
Она откидывает голову назад, встряхивает волосами. Это движение выглядит красиво, когда его делает Фэрра Фосетт, но сейчас оно кажется странным, даже рискованно. Жесткие белокурые волосы чиркают кончиками по салату.
– Ф-фух, – говорит она, убирая их. – Считается, что нельзя перекрашивать волосы чаще, чем раз в полтора месяца, но я не могу столько ждать: если мне нужна перемена, то нужна немедленно.
Она моргает, будто ей в глаз попала ресница. Вспоминаю, что, когда мы виделись за ленчем у нее дома, она была в очках. Очки на шнурке висели на шее, словно увеличители груди, и когда я качал ее сзади, ритмично постукивали, будто хотели привлечь ее внимание.
– Ты ведь в очках ходишь?
– Да, но я их разбила. Лечу в слепом полете, – отвечает она, закладывая в рот порцию салата с волосами.
Медленно вынимает из салата длинный волос и подзывает официанта.
– Волос в салате, – говорит она.
– Редкое явление, – отвечает он невозмутимо. – Вам принести другой?
– Подождем пиццы, – говорю я.
– Ну, хватит про меня, – меняет она тему. – Давай о тебе. Значит, ты преподаешь?
– Да, – отвечаю я, не развивая тему.
– Ага, точно, я только не могла вспомнить, кто у тебя там – Ларри Флинт, Никсон или почему-то этот Джордж Уоллес. Застрял у меня в голове, потому что в него стреляли?
– И в Уоллеса стреляли, и во Флинта. В Уоллеса – в семьдесят втором, во время президентской кампании в Лореле, Мэриленд. Стрелял человек по имени Артур Бремер – его дневник вдохновил создателя фильма «Таксист», а этот фильм вдохновил Джона Хикли совершить покушение на Рейгана. Ларри Флинт был ранен в Джорджии снайпером, находясь под судом за оскорбление общественной нравственности. Сейчас разъезжает в позолоченном кресле.
– Как здорово, что ты все это знаешь.
– Я историк, – говорю я. – На самом деле все там гораздо глубже. Люди очень интересовались, работал Бремер сам по себе или на кого-то? На чьей стороне он был? Удалось ли Никсону подкинуть предвыборные материалы Макговерна в квартиру Бремера? И если да, это была пропаганда или операция прикрытия?
Я замолкаю и смотрю на Черил. Ловлю себя на мысли: со сколькими мужчинами она вместе «обедала», когда у нее был период безумия? И знает ли об этом ее муж?
– Он не знает, – говорит она, будто прочитав мои мысли. – В теории, по правилам «выздоровления», я должна была бы ему рассказать. Но пусть у меня бывают не все дома, все же окончательно крышу не срывает. Он знает, что я была не в себе, а детали несущественны.
Приносят пиццу – горячую, тягучую и правда исключительную. Я первым куском обжигаю себе небо, а третьим умудряюсь его ободрать. После этого ощущаю лишь вкус собственного мяса.
– А с Джулией Эйзенхауэр вы близкие подруги? – спрашиваю я, продолжая отдирать сыр от неба.
– Она очень хороший человек, но я бы не сказала, что мы близкие подруги. Я бы даже не была с ней знакома, но мы в дальнем родстве. Я политикой совсем не интересуюсь – меня больше привлекает светская жизнь, контакты с людьми. Но это, я думаю, ты сам понял.
– А с тобой случалось раньше что-нибудь подобное?
– Подобное чему?
– Да вот – всему этому.
– У меня была депрессия, когда я училась в колледже. Но об этом никто не знал. Пролежала месяц в постели, а потом встала.
– Пропускала занятия?
– Нет, на учебу я вставала и поесть тоже. А потом опять ложилась.
– То есть депрессия тебя не совсем парализовала?
– У меня было чувство, что я умираю. – Она смотрит мне в глаза.
– А потом прошло?
– Я смогла сделать то, чего от меня ждали.
Голос у нее приглушенный, печальный. Будто она пережила утрату, которая так и не восстановилась.
– Ты по телефону говорила что-то насчет «своего момента»?
– Да, – отвечает она, облизывая губы. – Ты на меня произвел впечатление человека, у которого этого «своего момента» еще не было.
– Позднее цветение?
– Очень позднее. И это очаровательно. Как будто ты ждешь, чтобы что-то случилось.
– Ага, улыбки судьбы.
– Чего-то в этом роде. И ты настолько не от мира сего, будто из другой эпохи. Это так мило. Я знаю только то, чем интересуются шестнадцатилетние мальчишки, и еще муж говорит все время о лодках и машинах, об отпусках и о том, какие новые игрушки хочет купить, дистанционное управление тем да этим. – Взгляд у нее виноватый. – А у меня реальная проблема.
– И в чем она состоит?
– Понимаешь, когда я пришла в себя, то вспомнила, что ты мне понравился. Вот почему и позвонила. А сейчас у меня реальная проблема. – Она машет официанту. – Можно бокал вина?
– «Арнольд Палмер» подойдет? – спрашиваю я.
– Белого, – говорит она. – Большой бокал белого вина.
– Бутылку не хотите? – предлагает официант.
– Нет, спасибо. Один бокал. – Официант уходит. – Если без дураков, то ты мне все еще нравишься. Не знаю, почему. Смешно, но это так, хотя и не надо бы. Я снова на лекарстве, снова в своем уме, но что есть, то есть – я все еще тебя хочу. И что еще более странно – если ты не против слышать странное: однажды я встретила парня, молодой парень, который собирает маски президентов. У него примерно сорок знаменитых лиц, и он любит ролевые игры с женщинами, которым приятно фантазировать, как их заваливает на кровать Джей-Эф-Кей или ставит раком Эйб Линкольн. А то, скажем, привязывает к кафедре и унижает обтянутый кожей с шипами Джимми Картер. Сценариев у него море, но фишка в том… что он – не ты. Он – историк липовый, а ты – настоящий. Так что же мне делать?
Я не знаю, что сказать, и потому делаю «физиономию Топотуна», как сам это называю: рука на подбородке, лоб наморщен. В «Бэмби» Топотун говорит так: «Если не можешь сказать ничего хорошего, не говори ничего». Хороший совет, восходящий к тысяча девятьсот сорок второму году.
Она все смотрит на меня, чего-то ждет.
– Даже не знаю, что сказать.
– Скажи, что тоже меня хочешь.
Я, чтобы сломать напряжение, изображаю парочку президентов.
Приносят вино. Она его осушает двумя глотками и просит еще бокал.
– Послушай, – говорю я, стараясь выразить сочувствие. – Наверное, нам не надо делать такого, что поставит тебя в рискованное положение. Ничего не хочу делать, что для тебя нехорошо или ставит под угрозу твой брак и твоих родных. Давай пока на этом и успокоимся. Сейчас нам эту проблему не решить. – Я поднимаю руку – прошу счет. – Можем еще как-нибудь вместе пообедать.
– Мне обеда вместе мало.
– Ну, прости. Я правда не знаю, что сказать.
– Скажи, что тоже меня хочешь, – повторяет она.
Я молчу. Приносят счет – я отдаю официанту кредитную карту, не глядя. Хочу уйти отсюда скорее.
У нее в глазах слезы.
– Не надо плакать. Было хорошо, весело, и пицца чудесная.
– Ты такой милый!
– На самом деле нет, – отвечаю я.
Мы вместе выходим на парковку. Я прощаюсь с Черил, но она толкает меня в просвет между двумя машинами, закидывает сумочку за плечо и вдруг стискивает мое «хозяйство».
– Я тебе нужна. Я – твое будущее.
Понедельничное занятие у меня в программе курса озаглавлено: «Никсон в Китае: неделя, переменившая мир». Фраза взята из самого великого человека, из описания поездки в Китай в семьдесят втором году. На самом деле поездка длилась восемь дней и была тщательно организована, выстроена как телевизионная картинка «За бамбуковым занавесом». Неимоверно-невероятное дипломатическое достижение патентованного антикоммуниста: когда Никсон изложил идею своей команде, ребята решили, что у него шарики за ролики заехали. В классическом своем стиле президент будто сдал назад, а на самом деле стал действовать закулисными дипломатическими каналами через Польшу и Югославию, максимально используя трещину в советско-китайских отношениях, очень озабоченный тем, что страна с самым большим в мире населением «живет в злобной изоляции». В результате этот дерзкий детант увеличил возможности США влиять на Россию, имел результатом переговоры ОСВ-2 и привел к медленному ослаблению сжатой пружины «холодной войны». Мой самый любимый момент этого сценария – остановка Киссинджера в Пакистане в июле семьдесят второго года, когда он на торжественном обеде притворился больным, покинул собрание и улетел в Китай для тайной встречи с Чжоу Эньлаем, заложившей фундамент визита Никсона. Сам президентский визит изобиловал знаками расцветающей дружбы, включал экскурсию к Великой стене, демонстрацию настольного тенниса и гимнастики и, конечно же, первой леди, незабываемой Пэт в ярко-красной куртке.
В позорный день двадцать первого февраля семьдесят второго года на банкете в Пекине президент Никсон произнес тост за здоровье председателя Мао. Вот его текст:
Какое наследство оставим мы нашим детям? Обречены ли они умереть ради ненависти, пронизывающей наш мир, или же будут жить, потому что у нас хватило сейчас прозорливости построить мир заново? Нам нет причин быть врагами. Ни один из нас не претендует на территорию другого, ни один из нас не хочет господствовать над другим, ни один из нас не хочет подчинить себе мир и им править. Председатель Мао писал: «Столь много деяний призывают выполнить их, и всегда срочно. Мир живет, время проходит. Десять тысяч лет – это слишком долго. Лови этот день, лови этот час». Вот этот час, вот этот день, когда наши народы восстают в величии, чтобы построить новый и лучший мир.
Через несколько дней звонит телефон. Звонка я не слышу, но слышу голос, диктующий автоответчику:
– Вы, естественно, понимаете, что, хотя мы решили продолжать, конфиденциальность сохраняется.
Я снимаю трубку:
– Естественно.
Понятия не имею, кто это.
– В какой-то момент нам еще придется видеться лично, но сейчас я бы хотела знать в общих чертах, что вы думаете о возможном содержании…
– Содержании чего? – спрашиваю я, надеясь по ответу понять, о чем речь.
– Страниц.
– Простите, – говорю я, – но я снял трубку, когда вы уже говорили. Могу я спросить, с кем разговариваю?
– Джулия Эйзенхауэр.
– Да, конечно. Прошу прощения.
Я перевожу дыхание.
– Как они вам?
– Поразительно, – отвечаю я. – Сбывшаяся мечта. Как ребенок в кондитерской – все это близкое и личное. Очень волнует, когда держишь страницы, которые он писал, чувствуешь тяжесть его руки, давление его пера, напор, с которым ему нужно было себя выразить. Это было… – перевожу дыхание я, – ощущение не от мира сего.
– А сами материалы? Как вы воспринимаете их содержание?
– Ну, в них ощущается свобода художника, отсутствие неловкости, самоограничения. На удивление объективные рассказы. Есть глубина воображения, есть чувство. Их можно было бы назвать сентиментальными, хотя сентиментальность – не то качество, которое связано в умах людей с вашим отцом. Более того: в этих рассказах просвечивает знакомство с жизнью простого человека, Джо из соседнего переулка. Образ вашего отца гуманизируется, читатель проникается личными деталями, его ценностями, следит за его ростом и развитием. Эти страницы добавляют новое измерение к его портрету. Наверное, сказать я хочу вот что: они могут содействовать изменению его сложившегося восприятия. Ваш отец – классик своего времени, целеустремленный, неравнодушный, отчаянный, он застиг Америку на повороте и исследует, насколько много тьмы в душе американца, как меняются после войны люди, заставшие еще предвоенные времена.
– Так вы считаете, что из этого может выйти книга?
– Вы знаете, я не литературовед, но меня захватило. Ваш отец открылся мне с такого ракурса, о существовании которого я даже не подозревал. Я увидел трудягу, которого не ценят, а ему, черт побери, хочется, чтобы его заметили. Мне вспомнился Вилли Ломан, персонаж Артура Миллера.
На имени «Вилли Ломан» я спотыкаюсь: невозможно не вспомнить, что Миллера здорово мурыжили в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, где Никсон, разумеется, играл одну из ключевых ролей. Миллер отказался называть имена и был привлечен к ответственности за неуважение к конгрессу. Произнеся имя Миллера, я ужасаюсь, что «забыл», и еще раз убеждаюсь, как это важно – знать свою историю и не забывать ее.
И замолкаю.
– Я не ошибаюсь, полагая, что сейчас на Бродвее играют какую-то пьесу Миллера? Не могу вспомнить название, но мы с Дэвидом собирались…
Я поспешно подхватываю:
– Наверняка в «Нью-Йоркере» об этом говорилось. Ну, в общем, в этих рассказах звучит эхо некоторых американских классиков: Шервуда Андерсона, Ричарда Йейтса, Раймонда Карвера… они не столько о политике, сколько просто о людях. И вы знаете, всегда очень зыбка граница между ними и нами, между правым и левым, синим и красным, личным и политическим…
Джулия прерывает меня:
– Я не шарахаюсь от демократов, мистер Сильвер, – говорит она. – Мне известно, что ваша привязанность к моему отцу выходит за пределы политики. Мы надеемся, что можно будет как-то обработать этот пакет его наследия, и заинтересованы в том, чтобы вы начали приводить материал в порядок.
Дальше она говорит, что ее интересуют мои мысли, можно ли сделать из материалов в коробках книгу или две, и что она договорится о дальнейшем доступе, и напоминает, чтобы в следующий раз я взял с собой какое-нибудь удостоверение, и потом смеется…
– Видимо, Ванда дала полный отчет, – говорю я смущенно.
– Все нормально, – успокаивает она. – Моя мать постоянно что-нибудь такое устраивала – уходила из дому без сумочки. А нам потом звонили от «Гарфинкеля» в Тенли и сообщали про женщину, которая настойчиво называет себя «миссис Ричард Никсон» и не менее настойчиво просит «записать на счет». Она уже не часто выходила одна – обычно ее сопровождали я или Триш.
Под конец разговора Джулия предлагает мне гонорар в семь с половиной тысяч долларов для начала и контракт, предусматривающий продолжение или окончание работы по результатам первых восьми недель.
– Звучит заманчиво, – говорю я.
– Скоро вернемся к этому разговору, – говорит она и вешает трубку.
Как только мы прекращаем говорить, телефон тут же звонит снова.
– Надеюсь, ты понимаешь, что я так легко не сдаюсь, – звучит женский голос.
Я молчу. Это Джулия или это она? Жду какой-нибудь зацепки.
– Ты слушаешь? – спрашивает она. – Ты готов быть со мной? Я готова… готова и жду.
– Мы вроде бы должны строить дружеские отношения?
– Дружеские я не хочу, – говорит она. – Я хочу, чтобы ты мне настучал по киске. Хочу кончать сильно, быстро и часто. Хочу, чтобы ты меня делал, делал и делал.
– Ты со всеми так, или это мне повезло?
– Я прекращаю с другими. Остаешься ты. И мой муж.
– И что он по этому поводу думает?
– Он хочет, чтобы я притворялась проституткой и торговалась с ним за свои услуги. А платить он любит при детях, которые понятия не имеют, почему ему так весело. Так когда я тебя увижу? Серьезно, давай я сегодня к тебе приеду?
– Невозможно.
– Я думала, ты живешь один.
– У меня животные в доме.
– Какие? Ревнивая макака?
– Это не мой дом. Я здесь всего лишь гость. Долгая история.
– А в мотель?
– Давай где-нибудь лучше в кафе. На ленч или на кофе.
– Мне нужен твой дрын у меня в дыре.
– Послушай, если ты будешь так разговаривать, я не смогу поддерживать…
– Ты шутишь, да?
– Я?
– Я тебя нашла на сайте в Интернете. Если ты не сделаешь, чего я хочу, я могу сказать, что ты меня изнасиловал. У меня еще остались трусы, которые на мне были, когда ты пришел. И когда вышел.
– Ты о чем?
– Я после каждого свидания трусы оставляю, на всякий случай…
– На случай, если появится желание заняться вымогательством?
– А не хочешь меня сделать по телефону? Я буду вести, ты только реплики подавай.
Каким-то образом она заставляет меня ввязаться в секс по телефону, и хотя я не хочу возбуждаться, постепенно втягиваюсь.
– Я все-таки продолжаю думать, что мое дело – тебе помогать, а не использовать тебя…
Я расстегиваю штаны.
– Я уже такая мокрая, – говорит она. – Рукой шурую в письке, она вся сочится, и только нужен твой толстый пистолет ее забить. Я хочу, чтобы ты меня отымел. Чтобы яйца твои стучали меня по заднице. Чтобы ты меня раком поставил. Стиснул сиськи, стиснул до боли.
И она начинает завывать – только так я могу назвать эти вопли. Бьющий в уши, галопирующий звук, как издает ковбой на родео, и я понимаю, что она не притворяется. Это и дико нелепо, и невероятно заводит. Она кончает, а я завожусь все больше и больше, и потом уже не могу остановиться – сижу за столом Джорджа и за долю секунды до того, как меня прорвет, резко отворачиваюсь на вращающемся кресле, и взрываюсь на его книжную полку, на тома американской истории и на семейные фотографии в серебряных рамках. Тут же хватаю салфетку и пытаюсь вытереть.
– Мне пора, – говорю я. – Я тут свинство развел.
Она смеется:
– Я знала, что ты не выдержишь.
Что да, то да.
Через минуту звонит Нейт. У меня такое чувство, будто меня поймали со спущенными штанами. Беру трубку у Джорджа на столе, прокашливаюсь и мямлю «алло».
– Ты как там?
– Нормально, – выдыхаю я, снова прокашлявшись.
Нейт полон энергии, и мысли у него летят со скоростью сто миль в минуту. Я будто окаменелый по сравнению с ним.
– Ты где? – спрашивает он.
– За столом у твоего отца, я тут кое-какую работу делал.
– Можем говорить с видео, – предлагает он с энтузиазмом. – Почему-то я раньше об этом не подумал. Прямо на папином компьютере есть камера, и все настроено. Ты только нажми синюю иконку внизу – она вроде пузыря, в котором слова в комиксе пишутся. Нет, подожди! Я сам тебе позвоню. – Через секунду компьютер начинает ритмично звонить. – Нажми «принять», – говорит он, и я нажимаю, не успев подумать.
Нейт меня уже ждет.
– А я тебя вижу, – говорит он.
– Я тебя тоже, – отвечаю я в трубку.
– Можем телефоны отключить, – говорит он, и я так и делаю.
– Ты меня слышишь? – говорит он.
Я слышу. Видеокамера прямо в компьютере – это же ужас. А вдруг за мной кто-то следил только что?
– А как это называется?
– Фейстайм, ай-чат или скайп, – отвечает он. – Зависит от программы, но результат один и тот же. Скайп, – говорит он, и у меня четкая ассоциация, как Элла Фицджеральд пела скэт.
– А что тебе видно? – спрашиваю я, интересуясь, насколько высоко разрешение.
– Весь папин кабинет, книжные полки, призы. Все, что у тебя за спиной. Не знаю, почему я раньше не вспомнил – все время могли бы говорить лицом к лицу.
– Да, могли бы, – говорю я, мучимый мыслью, не осталось ли что-нибудь от предыдущего разговора, пятна там незамеченного на книжной полке…
Видеочат – это как разговор с космическим кораблем: все время небольшая задержка звука и изображения. Как картинки из космоса: пиксельно-мозаичные, вроде постмодернистского мультфильма.
– Приве-ет! – кричу я.
– Орать не надо, – говорит Нейт. – Я в библиотеке, вполне хватит нормального голоса.
– Ладно, ладно, – шепчу я.
– Куда поедем в свободные дни? – интересуется Нейт.
– В смысле?
– Скоро школьные каникулы, вот интересуюсь, куда поедем.
– Вы всегда куда-нибудь ездите?
– Конечно, – отвечает он снисходительно.
– У Эшли тоже каникулы в школе в это время?
– Ага.
– Не слишком ли будет ездить просто так, без причины? – спрашиваю я.
– Иногда людям нужно развеяться, отвлечься.
– И куда обычно вы ездите?
– Кататься на лыжах в Аспен, иногда на Карибы или на образовательную экскурсию – например, посмотреть обиталище черепах на Галапагосских островах.
– А что тогда летом делаете?
– Лагерь, летняя школа, поездки, сколько-то времени на острове Мартас-Винъярд. У мамы всегда все продумано. Наверняка и на этот год план есть.
– Приятно знать. Выходит, на предстоящие каникулы есть план? И ты его имеешь в виду?
– На самом деле нет. Если ты ничего не придумаешь, можем всегда поехать в «Диснейуорлд».
– Как же это получается, что владелец собственного городка в Южной Африке желает поехать в «Диснейуорлд»?
Нейт отвечает не сразу.
– Я – человек, – заявляет он после паузы. – Ты думаешь, детишки Нейтвиля не знают Микки-Мауса? Он у них на футболках. Вся одежда, которую мы пихаем в благотворительные корзины на парковках моллов, продается – не отдается даром – бедным людям в заморских странах.
– Я понятия не имел.
– Никто не имеет, но когда смотришь документальный фильм о бедных странах, то все дети в футболках с американским киноперсонажем или лозунгом. Кстати, о детях: этого мальчика, сироту, мы можем с собой взять?
– Тут есть о чем подумать, – говорю я, несколько остолбенев.
Никогда не ездил никуда с детьми, тем более если детей двое, а к ним еще и сирота.
– Как его зовут?
– Не знаю.
– Как это не знаешь? Ты разве не навещал его в больнице?
– Заехал и закинул какие-то гостинцы, – отвечаю я, гадая, не знал ли я его имя и не забыл ли в какой-то момент. Я согласен с Нейтом, это кажется странным. – Уточню его имя, – говорю я. – Кстати, пока ты на линии: новости про отца хочешь узнать?
– Нет.
– Ну, ладно.
Я не собираюсь заставлять его слушать, но мне все-таки неловко владеть всей информацией в одиночку.
– Так мы можем наметить телефонную конференцию с Эшли и поговорить о поездке? – спрашивает Нейт.
– Конечно. Наверное, стоит с ней по скайпу связаться? – предлагаю я уже мягче.
– Не выйдет. У нее в школе видеочаты запрещены. Типа, педофилов боятся.
– Ладно, позвоним просто по телефону к концу недели.
Через несколько дней дети на телефоне оба. Я начинаю словами:
– Цель нашего разговора – составить план на каникулы.
– Что-нибудь веселое, – просит Нейт.
– Например? – спрашиваю я.
– На русских горках кататься, – предлагает Нейт.
– В отель куда-нибудь, – говорит Эшли. – Только чтобы не слишком жарко, не слишком холодно и чтобы не все время под крышей.
Не знаю, как это получается, но мы выбираем Вильямсберг – в основном благодаря Нейту, который все время разговора гуглит, как турагент, фильтруя и взвешивая желания, требования и запреты.
– Историческое место, отели с хорошим обслуживанием, и рядом – парк аттракционов «Сады Буша» и аквапарк «Грейт-Вулф-Лодж». Если захотим, можем остановиться в «Грейт-Вулф» в номере, где, скажем, двухъярусные кровати и встроенная бревенчатая хижина. А рядом – трек для картов.
Я смотрю на то место, о котором он говорит, и понимаю, что он еще ребенок. Это место – вирусный кошмар, озверевший летний лагерь, детская фантазия – водяные горки и картофельные чипсы. У меня заранее забивает хлором носовые пазухи, я представлю простыни из стопроцентного полиэстера и стулья с виниловой обивкой. Вспоминаю, как навещал в уик-энд Джорджа – тамошняя обстановка и то лучше. Но я молчу. Некоторые карты лучше не открывать.
– Будем голосовать? – спрашивает Нейт.
– Естественно, – отвечаю я.
– Все за Вильямсберг и его окрестности?
– Да! – дружно отвечают все.
Значит, решено. И как только принято решение, Нейт начинает меня бомбить насчет того, чтобы взять с собой мальчика.
Под конец разговора имя мальчика всплывает у меня в памяти. На самом деле всплывает какое-то мерзкое замечание Джорджа – как мать ребенка звала его по имени…
– Рикки, – говорю я. – То ли Рикки, то ли Рикардо.
– Так как его называть? – спрашивает Эшли.
– Рикки или Рикардо, – говорит Нейт.
– Хорошо, – говорит Эшли. – Давайте его позовем.
Я соглашаюсь позвонить, хотя сильно опасаюсь снова напоминать о нашей семье людям, которым мы столько вреда принесли. Но потом думаю про Нейта и Эшли, про их юношескую веру в возможность все исправить и заставляю себя позвонить.
– Можно попросить Кристину Мендес?
Имя я произношу медленно, потому что мысленно почему-то стал называть ее Кармен Миранда и боюсь, что вот так прямо в разговоре и назову.
– Нет дома, – отвечает мужчина.
Я хочу спросить, могу ли просить передать мое имя и телефон, но он вешает трубку.
Вечером я пытаюсь снова.
– Можно попросить Кармен?
– Ошиблись номером.
– Я хочу говорить с Кармен. Это про мальчика.
– У вас неправильно записано, ее зовут не Кармен, а Кристина. Ее еще нет дома.
– Прошу прощения, – говорю я, даже не поняв, что все-таки ляпнул. – Когда она будет?
Я с поразительной ясностью вижу предметы в кухне, фотографии детей, годами висящие на холодильнике, всякие вещи, валяющиеся там и сям и теперь уже залакированные временем и потеками апельсинового сока, молока, выплесками томатного соуса.
– Хотите что-нибудь передать?
– Я бы предпочел поговорить с ней лично.
При этих словах я отдираю край старой наклейки – эмблемы почтальона. Она глубоко залипла, и от отдирания края стало только хуже. Придется отскребать бритвой.
– Не кладите трубку.
– Алло? – звучит с подозрением женский голос.
– Здравствуйте, – говорю я. – Это говорит…
– Я знаю, кто вы.
– Нет, я его брат, дядя двух его детей.
Она молчит.
Я говорю, все вываливаю, все, что так трудно сказать.
– Дети человека, убившего ваших родных, очень переживают. Они волнуются за мальчика, хотят ему помочь… – Получается неловко, я действительно не знаю, что сказать. – Я везу детей в Вильямсберг, и они хотели бы пригласить мальчика с собой.
– Это что?
– Вильямсберг? Это в Виргинии, старый город, бывшая плантация. После пожара Йорктауна он был столицей штата – это произошло, кажется, когда американская революция набирала ход. В такие места ездят, чтобы изучать историю Америки. – Тут я перескакиваю: – А рядом парк аттракционов. Дети подумали, что мальчику это может понравиться. Ну и вам, конечно.
– Я работаю.
– Если можете взять отпуск, мы покрыли бы ваши потери в зарплате, – говорю я. – Мы едем на пару дней, длинный уик-энд.
– Он очень болен, – говорит она без нажима, так что непонятно, к чему она ведет.
– Все еще болен после аварии?
– Нет, – отвечает она. – Он очень болен, у него необучаемость, синдром дефицита внимания, отставание в развитии, биполярное расстройство и еще куча всего. Мне приходится держать его на лекарствах.
– А, – говорю я. – Племянники были бы рады лучше его узнать, и, как я уже сказал, вас мы тоже приглашаем.
Она не заинтересована или не понимает, о чем я толкую.
– Я переговорю с мужем.
– Хорошо, – говорю я. – Спасибо.
Несколько гордый собой, я звоню отцу Джейн:
– Я принял ваше предложение.
– Не может быть, – отвечает он.
– Принял. Я увожу детей. Мы едем в историческое место, Вильямсберг.
– Понял, – говорит он, молчит секунду и потом выдает: – Мое предложение состояло в том, чтобы тебе гореть в аду вместе с твоим говенным братцем. Это вы мою красавицу дочку убили, и Бог один знает, что ты там делаешь с детьми.
Я собираюсь с мыслями.
– Вы правы, – отвечаю я. – Произошедшее не подлежит прощению, и я хотел, чтобы вы знали: я слышал ваши слова. Постараюсь сделать для детей все, что смогу.
– Ты чмо, – говорит он и после паузы добавляет: – Так чего ты звонишь?
– Вы предложили, чтобы я куда-нибудь детей вывез. Я хотел вам сообщить, что мы едем в Вильямсберг.
– И ты ждешь, что я за это заплачу? Что Вильямсберг – это как Израиль? Ни пенни не дам, козел, ни пенни!
– Я не просил денег – просто хотел дать вам знать. Мы вам открытку пошлем.
Я вешаю трубку.
В следующем нашем разговоре я сообщаю Нейту, что беседовал с теткой мальчика.
– Сегодня что? – спрашивает Нейт.
– В каком смысле?
– Число какое?
Я говорю ему сегодняшнее число.
– Это я знаю. Сегодня мамин день рождения.
– Верно, – говорю я. Сам не сообразил.
– Не надо ли что-нибудь сделать? Торт с незажженной свечой – ну, символическое что-то?
– Вполне можешь, – говорю я.
– Ага. Я мог бы попросить на кухне сделать деньрожденный торт с незажженной свечой в память о моей покойной матери.
– А я съезжу на кладбище, – отвечаю я.
– И что сделаешь?
– Посмотрю, как и что, поговорю с ней…
Чем дольше говорю, тем ужасней кажется сцена: я стою возле могилы и пою «С днем рождения».
Тишина…
– Так что сказали родные мальчика? – спрашивает Нейт.
– Что они подумают.
– Надеюсь, он с нами поедет.
– Почему так?
– Вся эта история – такой кошмар, – говорит Нейт, – что мы должны хоть что-то сделать правильно. А это то, что мы как раз можем.
– И я надеюсь, – отвечаю я, сам для себя неожиданно.
Приезжаю на кладбище и езжу кругами – все всюду одинаково. Кое-где автомобили, могильщики, похороны. На этом кладбище не разрешены знаки над землей, и потому все как-то апокалиптически плоско. Нигде нет ни случайного побега деревца, брызнувшего вверх, ни укоренившегося одинокого вяза.
Не могу вспомнить, где могила Джейн, и потому приходится осведомиться в конторе.
– Пожалуйста, распишитесь в книге посетителей, – просит женщина за столом, но я не расписываюсь.
Я привез бы цветы, но на этом кладбище их не разрешают: нет живых цветов – значит, нет и мертвых, которые придется убирать.
Узнаю, куда ехать, и когда выхожу из машины и поднимаюсь на небольшой склон, то вижу ее – мать Джейн, Сильвию. Вижу и испытываю желание тихо смыться, развернуться и сесть в машину, не нарушать ее уединения, избежать сцены. Но на самом деле деваться тут некуда, и мне ничего не остается, как идти вперед.
– Здравствуйте! – говорю я ей.
Она кивает.
Мы оба смотрим на могилу. Здесь уложено несколько камней, показывающих, что Джейн не забыта. Кто-то побывал здесь до нас.
– Ничего себе место, – говорит она.
Трудно понять, как на это ответить.
– Угу, – говорю я. – Сегодня день ее рождения.
– Да, – говорит мать Джейн и светлеет. – Я помню день, когда она родилась. Живо помню, как вчера, – хотя вчера я не так хорошо помню. Извините. – Она говорит так, будто ей действительно нужно прощение. – Я на лекарствах – они иногда мне нужны, чтобы успокоиться. Но сейчас я как ходячий мертвец.
– Представляю, как это трудно. – Я останавливаюсь, начинаю снова. – Мне звонил Нейт – думал, как сегодняшний день отметить. Я ему сказал, что поеду сюда.
Пытаюсь рассказать ей что-то о детях, но замолкаю – она не слушает.
– Я знаю про ваш роман.
Я киваю.
– Мы говорили с Джейн…
Молчу – что я могу сказать?
– У меня тоже был роман, – говорит мать. – Когда она мне рассказала про вас, я ей рассказала про себя.
– С кем у вас был роман?
– С Голдблаттом, – говорит она. – С дантистом. И с Трошинским, который девочек учил на пианино играть. И был еще момент, не роман, с Гуральником, который у мужа в конторе работал. Конечно, муж ничего об этом не знает.
– Конечно.
– Джейн очень тебя любила.
– И я ее.
– И стоило оно того? Один момент… как бы это ни называть, стоил моей девочке жизни.
Она повторяет так, будто поверить не может.
– Случившееся очень необычно, – говорю я.
– Роман? – Она смотрит на меня, ушам своим не веря.
– Убийство.
Она замолкает на минуту.
– Ваша жена была иностранкой, – говорит она, помолчав. – И вышла за вас, чтобы узаконить свое пребывание.
– Моя бывшая жена, – отвечаю я, – американка китайского происхождения. Она родилась в этой стране, образование получила в Стэнфорде, состояла в обществе «Фи-бета-каппа», а ее отец был серьезным кандидатом на Нобелевскую премию мира.
– Понятия не имела.
Это относится не только к моим словам – ко многому еще.
На землю, где на следующий год будет оградка, она опускает синюю коробочку от «Тиффани».
– Вы купили ей подарок?
– Я еще с ума не сошла. Коробочка пустая. Она всегда любила синенькие коробочки.
В машине, по пути домой, я колеблюсь, не позвонить ли Джорджу. Представляю себе разговор:
– Сегодня день рождения Джейн. Я не знал, помнишь ли ты, решил, что надо тебе позвонить.
– А ты ее трахал, – скажет он.
– Я не затем звоню…
И эта мысль меня останавливает.
* * *
Звонит Кристина, тетка мальчика. У нее есть пара вопросов: она хочет точно знать, что им это ничего стоить не будет.
– Все расходы за наш счет, – отвечаю я.
– Мой муж интересуется, должны ли мы брать палатку.
Понятия не имею, откуда возникла эта мысль, но мне она не нравится.
– В этом нет необходимости. Мы будем жить в доме. Брать нужно пару смен одежды и зубную щетку.
– Хорошо, – говорит она. – Мы поедем.
Мы заезжаем за ними к тетке домой. Провожать их выходит муж, несущий два огромных чемодана, рюкзак и пакет с продуктами. Тетка принарядилась, надела лучшие джинсы, красивую блузку и туфли на высоких каблуках. Рикардо излишне упитан, одновременно и напряжен, и перевозбужден. Мне он сразу не нравится. На нем ярко-желтые трусы для европейского футбола и огромная синяя футболка «Янки» – такой наряд превращает его в большую расплывчатую кляксу. К Трентону я уже много раз готов передумать. Похоже, оглушительный шум от его видеоигры сводит с ума только меня, а остальные его просто не слышат.
– Ты не мог бы сделать потише? Не прикрутил бы еще? А если отключить? Может, выключишь ненадолго? Ну, отдохни сам. Ну, чуть-чуть. Пожалуйста, очень тебя прошу. Ну, просто умоляю, я машину вести не могу!
Тогда он начинает колотить ногами по спинке моего сиденья, открывать и закрывать окно – в салоне меняется давление воздуха. Нейт и Эш говорят ему что-то по-испански, он смеется и откладывает игру в сторону. Странный у этого мальчика смех: животный какой-то, противный и в то же время совершенно искренний и обаятельный.
Я спрашиваю у тетки, откуда она – предполагаю Никарагуа или Колумбию.
– Из Бронкса, – говорит она.
– А изначально откуда?
– Из Бронкса. Мой отец – супервайзер группы зданий, а у мамы свой магазин.
Из ревности – или тревожась, что она бросит его ради брата убийцы и двоих детей, – муж звонит каждые двадцать минут.
Рикардо, несмотря на свой потрясающий смех, гиперактивен: он все время дергается – останавливается, только чтобы проглотить кусок пахучей папайи или оглушительно пукнуть.
На Мемориальном мосту Делавэра, после пятого телефонного звонка от мужа, тетка ломается:
– Все, больше не могу. Не получается всем угодить. Каждому нужно мое внимание – ну, почему мужчины сами ни на что не способны, не в состоянии себе еду приготовить? Он вот работает в ресторане, казалось бы, должен уметь готовить? Нет, все я, я, я! Ну не могу же я разорваться, от меня уже и так ничего не осталось. На работе вкалываю на кого-то, потом домой прихожу и на него вкалываю, потом родителям нужна моя помощь, а потом муж говорит, что со мной уже невесело стало. Я раньше веселая была, ходила с ним на пляж, играла с ним или смотрела, как он с приятелями гоняет автомодели с дистанционным управлением…
Я киваю, она трещит без умолку, пока мы едем по мосту. Не знаю, почему, но мне страшно, что она сейчас выскочит из машины и бросится через перила моста. Я бы ее понял.
– Он ни с кем не может делить мое общество. Я мечтаю получить работу – стать сиделкой при глубоком старике, который любит спать весь день, на ужин и на завтрак ест овсянку. У него нет зубов, он меня не укусит. Потом он в меня влюбляется, его родные довольны – ну, на самом деле нет, но я делаю вид, будто они довольны. У нас происходит свадьба в кресле на колесиках, и он меня везет в спа «Каньон-Ранч», у меня есть футболка оттуда. Мне она досталась от родственницы, которая убирает в домах, а ей – от дамы, на которую она работает, делает у нее «весеннюю уборку». Он меня везет на медовый месяц в «Каньон-Ранч» и говорит: «Я знал, что тебе здесь понравится, потому что прочел у тебя на футболке».
Она говорит и говорит, я киваю и слушаю, время от времени сочувственно хмыкая или вставляя фразу: «Представляю себе, как это тяжело».
А дети на заднем сиденье почему-то понимают, что перебивать не надо, они будто за занавесом, увлечены видеоигрой, в которую играют с мальчиком.
Мы переезжаем из Делавэра в Мэриленд, проскакиваем мимо Балтимора и оказываемся в центре Вашингтона. Я веду их на короткую экскурсию по Капитолию, к мемориалу Второй мировой, потом к мемориалу Джефферсона, памятнику ветеранам Вьетнама, памятнику Линкольну, мемориалу Иводзимы и к Белому дому.
И у каждой достопримечательности я рассказываю связанные с ней исторические факты. В какой-то момент тетка останавливается и говорит:
– Вы что думаете: моя история отличается от вашей? Я здесь родилась.
– Но ваши родные переехали сюда из другой страны, – отвечаю я растерянно.
– Ваши тоже, – парирует она. И права.
Муж звонит еще раз десять, и когда мы готовы двигаться дальше в Виргинию, тетка объявляет, что решила вернуться домой. Она вручает мне лекарство Рикардо и пишет, как и когда его давать.
– А от чего оно конкретно? – спрашиваю я.
– Оно помогает ему думать в школе, – говорит она. – Но когда оно перестает действовать, он бесится и кидается на стены – я тогда посылаю его погулять.
Мы прощаемся и сажаем ее на поезд на Юнион-Стейшн. Она в бейсболке с эмблемой ФБР, купленной в сувенирной лавке на перроне. Тетка явно рада, что ее отпустили, а мальчик доволен обществом Эш и Нейта.
Мы движемся в Вильямсберг и прибываем перед ужином. Дети быстро врубаются в программу. Эш хочет одеться в платье того времени. Я начинаю оформлять прокат в Гостевом центре, но Нейт наклоняется ко мне и говорит:
– Не усложняй себе жизнь: купи новое, и вшей не будет. И вообще она его отдавать не захочет.
Я так и поступаю – покупаю ей платье, а она в придачу хочет башмаки переселенцев, которые тогда делались так, что левый от правого не отличался. Мы их покупаем, а мальчики хотят треуголки и деревянные ружья, которые кажутся достаточно безопасными, пока ребята не начинают ими пользоваться как битами и фехтовальными рапирами. Мы заезжаем в магазин Тарпли и на почту, где Нейт покупает старые газеты, всякие юридические документы и прокламации, Эш набирает себе гусиных перьев и порошковых чернил, а я играю роль человека-банкомата. И каждый раз, когда покупаю что-нибудь для кого-то из детей, приходится покупать то же самое для остальных. Стоит мне вынуть бумажник, они сбегаются, как утята, но Нейт, как ни странно, хочет очень мало. Каждый раз вместо вещей он говорит: «Я возьму деньгами», – и я ему даю десятку или двадцатку. Эшли нужны серебряные украшения, потом какая-то керамика, потом свечка для учительницы рисования, и еще, еще, еще. Я невольно задумываюсь, как должен был выглядеть банкомат того времени. Человек, сидящий в центре города на мешке золотых монет?
У меня смутные воспоминания о том, как я бывал здесь давным-давно, и в Йорктауне мне купили черное деревянное копье с резиновым наконечником – я потом его использовал как удилище.
Обедаем мы в «Йе олде паб» и посещаем какое-то вечернее представление, где нас всех учат танцевать виргинский рил.
– Обычно у нас одна комната, а у родителей другая, – говорит Эшли, глядя на наш большой номер в гостинице.
– На этот раз ночуем вместе, – сообщаю я, и тема закрыта.
В отеле мне почему-то не так напряженно, как было бы дома. Не надо думать о готовке и уборке, и ощущение такое, будто у меня есть поддержка: экономка, вооруженная дополнительными наволочками и подушками, и пожилой консьерж, который не выходит из-за конторки, но отлично снабжает нас билетами на все, что мы хотим: от танцевальных выступлений до экскурсий на ферму и занятий с оружием.
Шведский стол Рикардо завораживает.
– Это как праздничный завтрак, – восхищается он, – как складчина в церкви, когда ходишь и берешь что хочешь, и еще, и еще.
Я ему даю лекарство. Он заедает его десятью кусками бекона, четырьмя блинчиками, половиной тарелки каши, большим черпаком яичницы и какой-то плюшкой с корицей. Нейт и Эшли, привычные к школьным обедам в кафетерии, скромно обходятся кашей и фруктами. Эта скромность меня восхищает.
Эшли решает, что мы должны в это время жить более полной жизнью, и хочет, чтобы мы передвигались по номеру при свечах. Мысль об огне меня напрягает, и я соглашаюсь только на фонари. Чернилами и гусиным пером мы пишем друг другу письма и записки, запечатываем их сургучом и посылаем либо экспресс-почтой, складывая самолетики и запуская их в воздух, или же, что медленнее, «пони-экспрессом»: Рикардо на деревянной лошадке, но она отправляется лишь раз в пятнадцать минут.
Каждый из детей находит себе территорию в номере и ее осваивает. «Офисом» Эшли оказалась ванная, Нейт занимает письменный стол, Рикардо орудует в районе мини-бара, из которого по моей просьбе убрали всю выпивку. Я потом вижу солдатиков, расставленных в нишах, где раньше были бутылки. Моя личная зона – половина двуспальной кровати, которую мы делим с Нейтом. Ночью я просыпаюсь – Нейт спит с открытым лицом, дыхание у него свежее.
Эшли ведет себя тихо, часто сидит у себя в «офисе», посылая текстовые сообщения или ведя долгие разговоры с какой-то школьной подругой. Потом она засыпает на полу. Когда я подхожу, голова у нее лежит на коврике из ванной.
– Кажется, задремала я, – говорит она, когда я ее бужу.
– Пока разговаривала?
– Мне моя подруга рассказывала историю.
– А родители твоей подруги не возражают, что она так поздно не спит? – Эшли молча пожимает плечами. – А междугородние разговоры как?
– Никак, – отвечает она. – Звонила я, а платить за междугородние не придется: все включено.
Пока дети завтракают, я выясняю вопрос у портье за конторкой. Он мне предъявляет счет на четыреста долларов.
– Я платить не буду, – говорю я и прошу позвать менеджера.
– Ладно, – говорит менеджер. – На двести согласны?
– Сто пятьдесят и не больше, – говорю я, и менеджер соглашается.
Эшли я ничего не говорю. Незачем портить ребенку настроение, и хорошо, что есть подруга, с которой можно поговорить.
Каждый раз, глядя на Рикардо, я не могу сразу вспомнить его имя. Тут есть дополнительное осложнение: у него на куртке табличка, где вылинявшим маркером написано: «Привет, меня зовут КЭМЕРОН».
– Кто такой Кэмерон? – спрашиваю я.
– В смысле?
– «Привет, меня зовут Кэмерон»?
– Наверное, так звали человека, у которого эта куртка была раньше, – отвечает он.
– А почему ты оставил это имя?
– Мне так нравится. Я называю куртку «Кэмерон».
И мы замолкаем.
Пока мы возле здания Вильямсбергского суда ждем Эш и Нейта, которые захотели послушать речь актера, изображающего Джорджа Вашингтона, Рикардо спрашивает:
– А зачем ты убил моих папу и маму?
– Я их не убивал. Это мой брат Джордж их убил, а я не виноват.
Я не ожидал ни такой прямоты от него, ни такой горячности оправданий от себя.
– Он меня тоже пытался убить?
– Нет, он никого не пытался убить. Произошел несчастный случай, огромное несчастье. Мне искренне жаль.
– Ты мне шарик приносил.
– Да. Я хотел посмотреть, как ты.
– А почем мне знать, что не ты это сделал?
– Ну, потому хотя бы, что меня там не было. Я потом приехал. А Джордж теперь в специальной больнице. Он сошел с ума.
– Он убил маму и папу, – повторяет мальчик.
– Не нарочно, – объясняю я. – А потом он убил маму Нейта и Эшли.
Я не знаю, известно ли это мальчику, и не знаю, стоило ли об этом ему говорить, но почему-то захотелось до него довести, что не у него одного утрата.
Мальчик качает головой:
– Он богатый человек с большим телевизором, ему никого не надо было убивать.
– Это верно, – соглашаюсь я. – Ему никого не надо было убивать.
Я начинаю паниковать. Может, я забыл дать ему лекарство, и это всплытие со дна, прояснение связано с тем, что он не получил лекарства, и теперь непонятно, что дальше будет. Он сейчас превратится в Невозможного Халка?
– Ты лекарство сегодня принимал? – спрашиваю я.
– Да. Ты мне сам его давал утром.
Нейт и Эшли выходят из здания суда, и мы идем на демонстрацию мороженого, которое делают в колониальной кухне, а потом на ленч. Я все жду, чтобы что-нибудь случилось, но ничего не происходит, и жизнь продолжается.
В конце дня звонит гулятель собак и спрашивает:
– Вы кошку видели перед отъездом?
Вопрос явно с подвохом.
– А что, она пропала?
– Она родила котят, – отвечает собачник. – Шестеро здоровеньких, один не выжил. Я его похоронил под розовыми кустами за домом.
– Не знал, что она беременна. Она ни разу не говорила.
– Я думаю, мне надо их всех взять на осмотр.
– Да, имеет смысл. А как Тесси?
– Не в своей тарелке, – говорит он. – Да, и еще: она их родила в главной спальне. Я все с кровати выбросил, правильно?
– Да, отлично.
– Если будут новости, дам вам знать, – говорит он и вешает трубку.
Наверное, вид у меня удивленный, поскольку дети спрашивают:
– Что случилось?
– Тесси родила котят, – отвечаю я, и у них лица становятся еще более недоуменными.
– Она ведь собака, – говорит Эшли.
– Да, ты права.
Потом уже, утром, как будто все, кроме меня, получили указание, дети появляются к завтраку нормально одетые, и Нейт объявляет, что мы сегодня едем в «Сады Буша». Я узнаю об этом последним.
«Сады Буша» – это вам не среднестатистический парк аттракционов – это накачанная стероидами фантастическая композиция на европейские темы. У аттракционов немецкие названия. «Der Autobahn», «Der Katapult», «Der Wirberwind»[6].
Рикардо увлечен до крайности, но на аттракционах кататься боится, и потому Нейт с Эшли уходят вдвоем, а я увожу Рикардо к развлечениям для детей поменьше: «Kinder Ka-russel», «Der Rote Baron»[7] и прочее в таком роде. Ему это очень нравится, и вскоре мы сходимся со старшими детьми, и он отчаянно кидается кататься с ними – при условии, что я держу его за руку. А это значит, что меня тоже вертят в воздухе, кидают влево-вправо, раскручивают, бессловесного и глупого, пока, конечно, меня не выворачивает наизнанку.
– Фуу! – говорит Эшли, пока меня рвет у них на глазах, у всех троих. Я с самого приезда подъедаю за ними весь их фастфуд – сосиски в тесте, луковые кольца, цыплячьи ножки, недоеденное мороженое.
– Нехорошо, – отмечает Нейт, глядя, как я пытаюсь направить извержение в урну, сделанную в виде гнома. В дыру, в его распахнутый рот, но это не получается, у него вся голова измазана, и пятна на земле перед ним и за ним. И вдруг, будто из-под меня дно вышибли, я больше не могу стоять. Мне надо лечь – или упасть – у края желтой кирпичной дорожки, и под головой у меня стопка их курток.
– Мне надо минутку полежать, – говорю я, вытирая с подбородка горькую слюну.
Через несколько секунд, будто нас засекли веб-камерой из какого-то центрального офиса, появляется огромная парковая медсестра на гигантских размеров тележке для гольфа и увозит меня в центральный офис. Ребята едут сзади стоя. По дороге медсестра говорит:
– Официально и без дополнительной платы я могу вам дать нюхательные соли, имбирное пиво, соленый сухарик, смазать бактайном и наклеить пластырь. И еще у нас есть дефибриллятор. Я его купила в «Степлз» и сказала, что это тонер для копировального аппарата. Как же без него?
Мы подъезжаем к трейлеру первой помощи, и она прерывает речь.
Дети вслед за мной заходят внутрь. В трейлере две фибергласовые лежанки и пара стульев. Сестра продолжает мне рассказывать, что за сотню баксов может мне поставить капельницу с витаминами и минеральными солями. Укол витамина В12 – еще семьдесят пять.
– Подумайте, не спешите.
Дети садятся, я стою, гадая, не лучше ли переждать в туалете, сказав, что мне туда нужно.
– Печенья хотите? – спрашивает она детей. – У меня «син минтс» и «самоа». Дочка у меня герлскаут, и я их покупаю по пятьдесят коробок в год. – Каждый ребенок получает печенье. – Это важно, чтобы у тебя всегда было что предложить гостям, если учесть, что потерявшихся детей тоже я собираю, и если там колено содрано или рюкзак потерял, но надо как-то приподнять им настроение, облегчить горе…
Почуяв запах мяты и услышав хруст галет на зубах у детей, я несусь в туалет.
– Лед, – говорит она. – Я вам сейчас лед принесу. Тут часто бывает из-за жары, из-за еды, а есть такие, у которых внутреннее ухо плохо работает, у них в буквальном смысле мир кувырком.
Но я скрылся в туалете, и она свое внимание переносит на детей, прокладывающих себе путь сквозь коробки с печеньем.
– А вы не волнуйтесь, это часто случается со взрослыми. У них привычки нет, как у детей, так что я всегда готова.
Когда я выхожу из туалета, она показывает детям свою «аварийную каталку» – огромный желтый пластиковый ящик для инструментов, как бывают в «Хоум депо», полный всяческого добра.
Эшли протягивает мне жвачку:
– Чтобы изо рта не пахло.
– Спасибо.
– Так чего? – спрашивает сестра.
– «Тамз» у вас есть, от изжоги?
– Последнюю сегодня утром сама съела. В списке на заказ написала. – Она хлопает ладонью по длинному списку у себя на столе. – Пару коробок печенья на дорогу?
– Конечно, – говорю я. Вынимаю двадцать баксов, и дети выбирают печенье из огромного ящика. Сестра дает мне мини-баночку имбирного эля и соломинку, советуя взять банку с собой и пить медленно.
– Мы здесь весь день и полночи, сколько парк открыт, – говорит она. – Так что если что нужно, прямо зовите меня или скажите, чтобы позвали. Тут все знают, где меня найти.
Я протягиваю руку для пожатия, но она не соглашается.
– Нельзя, – говорит она, вытряхивая на ладонь щедрую порцию «Пюрелла» и побуждая нас сделать то же самое. Мы отмываем руки, берем печенье и прощаемся с сестрой. На придорожной заправке я покупаю себе большую старомодную слишком дорогую бутылку «тамз» и закидываю их по одной в рот.
– Как резиновые медведики, – говорит Эшли.
– Меловые медведики, – отвечаю я.
Посреди ночи Нейт просыпается от боли в животе и просит меня сопроводить его в туалет, где прованивает все помещение взрывным поносом.
– Спусти воду, – говорю я, когда он выстреливает длинную очередь, и он спускает.
Я ищу спички, чтобы их зажечь, но, видимо, сейчас в гостиницах уже не найти в номерах ни пепельниц, ни спичек.
– У меня в сумке есть, – говорит он. – В наружном кармане.
Я даже не спрашиваю, зачем они ему. Зажигаю всю пачку. Через несколько минут звонит телефон. Нейт берет трубку рядом с унитазом и протягивает мне.
– Чем могу служить?
– Из вашего туалета сигнал задымления, – сообщает портье.
– Мы не курим, мы какаем, – отвечаю я, думая, не отравили ли нас, не вырубили ли начисто на этой колониальной кухне.
– Извините за беспокойство, – говорит портье.
– Вот так думаешь, что у тебя нормальная семья, – говорит Нейт, тужась на унитазе. Я дышу через рот и пытаюсь внимательно слушать. – А вдруг случается что-то такое, и оказывается, что не так уж все нормально. – Из него вырывается мощный залп. – Я не про это, – хлопает он ладонью по унитазу. – Я про маму и папу. Вот звонят тебе по телефону, и жизнь уже не та… – Оглушительный зловонный выхлоп из зада. – Извини, – говорит он. – Ты не обязан тут со мной стоять.
Я молча пожимаю плечами. А он вдруг говорит, не вставая:
– Меня тошнит.
Я пододвигаю ему мусорное ведро, в которое, к счастью, вложен пластиковый пакет. Нейта выворачивает с двух концов одновременно, и мне очень его жалко.
– Может, доктор нужен? – спрашиваю я.
Он мотает головой.
– Нет, такое уже бывало. Все будет нормально.
И его снова тошнит.
– Похоже, мы подцепили что-то, – говорю я, пытаясь прояснить ситуацию.
– В каком смысле?
– Сначала я, потом ты. Будем надеяться, что Эшли и Рикардо это минует.
– Гадские мятные печеньки. – Нейт сплевывает в ведро. – Как он тебе?
Я молчу.
– А по мне, он очень смешной, – говорит Нейт. – На Чарли Чаплина похож.
– Чем это?
– Как он ходит, какой неуклюжий. И лицо совсем как резиновое.
– Как ты думаешь, он умный?
– А разве это важно? – с некоторой враждебностью спрашивает Нейт.
– Хороший вопрос.
Мы возвращаемся досыпать. Мне снится, что я лечу в Южную Африку. В аэропорту мне сообщают, что единственный способ – это выброска с парашютом из багажного отсека самолета. Еще меня информируют, что мать прислала мой старый чемодан из «спящего лагеря» и он уже на борту. Я соглашаюсь, и когда самолет набирает пятнадцать тысяч футов, залезаю в свой старый чемодан. В этом чемодане меня выталкивают в кормовой туалет и говорят, что когда кто-нибудь спустит воду, раздастся ухающе-свистящий звук и меня выбросит вакуумом.
Я пытаюсь задавать вопросы, но в ответ все только пожимают плечами:
– Просто это так делается.
Это какой-то гибрид сна, который мог бы присниться Любопытному Джорджу – обезьянке из мультика, с террористическим захватом. Ясно, что я должен был этого ждать: на мне надет гигантский парашют, и я его замечаю, уже только когда падаю. Еще не успев проснуться, я дергаю кольцо и парю, поймав невидимый поток высоко над саванной, по которой бродят жирафы. Просыпаюсь я в три часа ночи, руки над головой, все еще цепляются за стропы парашюта. Нейт сидит в кресле и вяжет.
– Ну и что? – спрашивает он недружелюбно.
– Да ничего.
– Я вяжу, когда заснуть не могу. Очень успокаивает.
Половина моего сознания там, во сне. Другая половина смотрит на Нейта, который вертит в руках длинный полосатый шарф.
– Не надо, – говорит Нейт.
– Чего не надо?
– Не спрашивай, уж не гей ли я.
– Не буду. Как живот?
– Бурчит, но в остальном нормально.
Я засыпаю снова.
В машине по дороге домой всем неловко. Какое-то напряжение от возврата к «нормальной» жизни. Я думаю: то ли мы слишком много пробыли вместе, то ли недостаточно?
Дети заваливают Рикардо угощениями, будто в жизни главное – получить большущий деньрожденный мешок с подарками.
– Не это главное, – повторяю я, но не мешаю им.
Нейт спрашивает, есть ли у мальчика и-мейл – нет. На остановке для отдыха Нейт отводит меня в сторонку и интересуется, не можем ли мы купить компьютер для семьи Рикардо, чтобы общаться по скайпу.
– Нет, – говорю я, возможно, слишком жестко.
– Переход – дело тяжелое, – говорит мне женщина, сидящая за кассой в магазине подарков. – Я была учительницей, и у меня сердце разрывалось, когда видела, как они мучаются. Один мальчик маме юбку порвал – цеплялся, плакал, чтобы она его не оставляла в этом ужасном месте. Мы из этого сделали обучающий момент: вместе заклеили маме юбку скоч-лентой.
– И тогда вы решили открыть магазин подарков на заправке? – интересуюсь я.
Эшли прочесывает все пролеты – выбирает подарок для подруги. Всюду, куда мы приходим, она что-нибудь покупает, а потом, позже, решает, что купила не то. Это начинает казаться несколько странным.
– Я выбираю то, что мне нравится, но не уверена, что у нас вкус одинаковый.
Рюкзак у Эшли набит мягкими игрушками, медальонами из лавочек на заправках, маленькими бокальчиками.
– Ну, хорошо, а что ты на ней видела?
– Знаешь, – говорит Эшли, – такие взрослые штуки, как бывают в синих коробочках, вроде как папа дарил маме, когда не знал, что ей подарить.
– «Тиффани»?
– Ага, вот это. И она этого терпеть не могла. Ей больше нравилось это, как его? Похоже на герпес… ну как оно?
– «Эрме»?
– Да, вот такое ей нравилось.
– Слушай, Эш, – вмешивается Нейт, – между сувениром из поездки и, скажем, пятисотдолларовым подарком от «Тиффани» или «Эрме» большая разница.
Я не вмешиваюсь – понятия не имею, что сказать. Ясно, что дружба в школе-пансионе куда выше и шире обычных стандартов для сувенирчика из поездки.
– Она тебе что подарит? – спрашивает Нейт.
– Это не соревнование. Я хотела ей что-нибудь хорошее привезти. И не надо так раздувать; совершенно не обязательно из мухи слона делать.
– Я только хотел тебе помочь придумать, что ей подарить.
– Оставь, – отвечает Эшли подчеркнуто резким и взрослым тоном.
Когда мы привозим Рикардо родственникам, дядя и тетка вместе выходят его встречать. Кажется, они довольны, что немного побыли одни. Дядя вытаскивает из багажника огромный рюкзак мальчика, а тетка мне подмигивает – а может, не подмигивает, а ей в глаз что-то попало, и она хочет проморгаться. Как бы там ни было, а у Рикардо полно рассказов и подарков для всех.
Нейт и Эш его обнимают и говорят, что скоро увидятся.
По дороге домой в машине стоит болезненная тишина, пока Нейт не выдает почти идеальную имитацию смеха Рикардо. Тут уж мы все по очереди пытаемся его изобразить.
Дома больше всего внимания привлекают котята. Они крохотные, беспомощные, на них смотреть почти страшно. Мама-кошка их кормит и умывает. В буквальном смысле лижет им задницу, чтобы они «сходили».
Я переплачиваю гулятелю собак – «за вредность», – и он мне рассказывает, что будет дальше: у них в ближайшие дни должны открыться глаза, но пройдет прилично времени, пока они будут по-настоящему видеть или смогут что-нибудь делать.
Тесси на меня смотрит, будто хочет сказать: «И о чем ты думал, когда оставлял меня тут за старшую? Ты можешь себе представить, каково мне было? Такой стресс, такая ответственность? Обещай, что больше ты так не будешь… кстати, не дашь ли мне печенюшку?»
– Похоже, котята глухие, – говорит Нейт. – Я с ними разговариваю, а они будто не слышат.
– Они рождаются глухими, – говорит собачий гулятель. – Защитный механизм такой. Ну, до скорого. Если нужен буду, звоните.
И он уходит.
– Я по нему скучаю, – признается Эшли.
– Ага, – подхватывает Нейт.
– Так что ты по этому поводу будешь делать? – спрашивает Эшли.
– Ну, завтра же вы оба возвращаетесь в школу, – говорю я, думая, что так хотя бы время выиграю.
– Мы ему нужны не только время от времени, – говорит Нейт.
– И хотим взять его в нашу семью. Мы это уже обсудили, – сообщает Эшли.
– За моей спиной?
– Да, – отвечает Нейт.
– Но вы же понимаете, что возиться с ним придется мне?
– Мы решили, что ты справишься, – говорит мне Эшли.
– Он у нас был бы младшим братиком. Как феникс, из пепла возрожденный, – говорит Нейт.
– Рикардо вам не говорил, что у него аллергия на кошек?
– От кошки избавимся, – тут же решает Эшли. – Я ее вообще не люблю.
– Как у тебя язык повернулся? Это же твоя кошка, она только что котят родила…
– Я кошку люблю, – заявляет Нейт.
– А может быть, мы сможем его вылечить от аллергии? – спрашивает Эшли.
– Не будем пускать кошку в его комнату, – говорит Нейт.
– Какая комната будет его? – спрашиваю я.
– Моя, – отвечает Нейт, будто это очевидно.
– Я не уверен, что в моей жизни есть место ребенку, живущему все время дома.
– Отправим его в школу, – предлагает Эшли.
– Мы убиваем его родителей, забираем его у родственников и отсылаем в школу. Это напоминает старый английский роман.
– А старый английский роман – это плохо? – спрашивает Эшли.
– И еще: усыновить его вы не можете, вы несовершеннолетние…
– Но можешь ты, – не отступает Эшли.
– У меня бракоразводный процесс, и я с недавнего времени безработный.
– Ты ушел с работы? – спрашивает Нейт.
– Меня уволили.
– Уволили?
– Ну, не совсем уволили. Я в этом семестре закончу курс. Но в принципе – да.
– И ты нам не сказал?
Нейт потрясен.
– Я не думал, что вам нужно знать.
– Это никуда не годится, – заявляет Нейт. – Худшее, что может быть, – это отсутствие доверия. Зачем вообще это все, если ты считаешь, что не должен нам ничего рассказывать? Нам же не нянька нужна, а какие-то отношения. Чтобы улица с двусторонним движением была.
– Это правда, – подхватывает Эшли. – Ты нам должен все рассказывать. Никто нам никогда ничего не рассказывал – только мама… – Она разражается слезами. – Я люблю кошку! – говорит она. – Я неправду сказала, что не люблю, я очень люблю ее!
Она вскакивает из-за стола и убегает.
– Ну, ты и молодец, – бросает с отвращением Нейт и тоже уходит.
Я понятия не имею, что случилось, но такое чувство, будто я гад последний.
Наутро дети возвращаются в школу. После завтрака за Эшли приезжает минивэн, а Нейта я отвожу на точку сбора, до которой минут двадцать езды.
– Позвоню вечером, – говорю я, когда он вылезает из машины.
Он хлопает дверцей – не знаю, услышал он меня или нет. Я сигналю. У него напрягаются плечи, но он не оборачивается, подтягивает лямки рюкзака и идет к автобусу.
Я жду, пока автобус отъедет, потом еду домой и сижу с котятами, которые в отличной форме. Глаза открылись, они встают на ножки – это поразительно.
Звонит Черил:
– А тебе не кажется странным, что ты вот так исчез, ни слова мне не сказав? И от кого я это услышала? От Джулии. И как я должна при этом себя чувствовать? Она мне сказала, что ты поехал в Вильямсберг на школьную экскурсию?
– Типа того, – отвечаю я.
– Небольшая колониальная акция? Хеппи-энд на бочонке пороха? Перепих в частоколе?
Я молчу.
– Да ладно, – говорит она. – Я там бывала и это делала.
– Если это так, то я был в другом Вильямсберге. Твои дети были на той неделе на каникулах?
– У Тэда какой-то проект гражданской службы, Брэд ездил в футбольный лагерь, а Лэд остался дома. Ну так как, можем увидеться? Пятница подойдет?
– Поверь мне, сейчас не лучшее время.
– В каком смысле?
– Я вернулся домой с глистами, еще непонятно, с какими. То ли от непропеченной оленины, то ли от завтрака добровольца пожарной дружины, который мы ели. Сегодня мне нести доктору образец экскрементов на анализ.
– Без подробностей! – провозглашает она, как рефери, объявляющий тайм-аут.
– Мне казалось, тебе все интересно. Эта штука очень заразная; мне нужно постоянно мыть руки и стирать одежду.
– Я тебе дам десять дней.
– А потом?
– Я пока не готова это обсуждать.
– Сделай одолжение, – прошу я, – не говори Джулии.
– Естественно. Это слишком интимно. А я пока почитала про Ричарда Никсона. Знаешь, мне не кажется, что он был такой уж хороший человек.
– А он им и не был.
– А тогда что ты в нем такого видишь?
– Много что. Очень упрямый был человек, считал, что правила к нему не относятся. Это очень увлекательно.
– Это интересно, – говорит она. – Я бы предположила, что тебя влечет что-то более обычное, Трумэн там какой-нибудь или Эйзенхауэр. Или что-нибудь современное и героическое, вроде Джей-Эф-Кей. Но Никсон – это где-то даже извращенно.
– Почти.
– Я тебе позвоню через несколько дней. Если тебе станет лучше, сможем что-нибудь придумать.
Чего-то не хватает. Ощущение, будто я провалился в щель между пространствами, будто я на самом деле не существую, – я все время вне контекста. В поисках ясности навещаю мать.
В вестибюле приюта стоит большая грифельная доска. «Тебе скучно? Нужно поднять настроение? Приходи к нам! Будем делать молочный коктейль по своему вкусу, с 10 до 11 и с 15 до 16 (у нас есть свежие фрукты, волокна, пробиотики и замороженный йогурт)».
– Ее сейчас нет, – говорит мне женщина в приемной. – Она с подругами ушла, у них новое хобби.
– Какое? – спрашиваю я.
– Плавание, – отвечает она. – Их одиннадцать человек поехало в местный бассейн ИМКА. У всех пенопластовые рукава, у некоторых надувные детские круги – в виде уток и лягушек, и все в купальных шапках. Все в подгузниках, наши большие младенцы. Одеваем мы их перед отъездом. На их подвижность это очень положительно влияет.
– С каких пор она плавает?
– Нам повезло с новым психотерапевтом, который работает вместе с психофармакологом, тут все зашевелилось. В чем-то работы прибавилось, но стало очень интересно. Иногда мы шутим, что оживляем мертвецов. И у них у всех такой счастливый вид! Ну, почти у всех.
Она кивком показывает на старика, идущего по коридору. Он целеустремленно направляется к нам.
– Что тут у вас творится? Нет, вы мне скажите, что? Кто этот человек у меня в кабинете? Вы меня что, у меня за спиной сместили? Я здесь начальник, черт меня побери, – по крайней мере я так полагал. Посмотрим, что вы в пятницу запоете, когда я вам чек не подпишу. Вы кто такой, черт возьми? – Это мне.
– Сильвер.
– Ну, молодец! Работай и дальше не хуже. Так, а теперь: где моя секретарша? Сказала, что пойдет на ленч, и я четко помню, что это было десять лет назад…
Он бредет прочь.
– Так я и говорю, почти у всех улучшения. И вот этого тоже приятно видеть, как он ходит и разговаривает.
– А чем его лечат?
– Я не вправе обсуждать больных. И так уже, наверное, слишком много сказала. Немножко тем, немножко этим – каждый день есть небольшой прогресс. Очень много зависит от движения – надо, чтобы они не валялись, шевелились. Если нет настоящего паралича, то нет у человека причины целый день лежать или сидеть. У кого настоящая слабость, с ними мы начинаем с подвешивания.
Она ведет меня по коридору в какую-то палату и открывает дверь. С потолка свисает десяток длинных пружин, и к каждой паре их прикреплено что-то вроде смирительной рубашки – парусиновый жилет на шнуровке, и в эти жилеты зашнурованы старики. Они висят, как обмякшие марионетки, полустоят, полуподпрыгивают, полутанцуют под музыку, а физиотерапевты ходят от одного к другому.
– Им это нравится, – говорит женщина. – Мы сами изобрели эти приспособления для поддержки вертикального положения с нагрузкой. И снизилось число респираторных заболеваний: легкие функционируют лучше.
– У них довольный вид, – говорю я, не в силах отвести взгляд от полной комнаты «подвешенных» стариков.
– Ну и хватит экскурсий на один раз, – говорит она, закрывая дверь. – Вы поедете в ИМКА посмотреть на мать? Они только что уехали, так что дого2ните.
Мне приходится заплатить пятнадцать долларов и дать подписку отказа от претензий – только потом меня пускают в зону бассейна ИМКА. Тот факт, что я не собираюсь плавать, на человека за конторкой впечатления не производит.
Я вхожу через мужскую раздевалку – не слишком приятный интерьер зеленого кафеля, кое-где утыканный мужскими телами и пропахший кроссовками.
При попытке войти в зону бассейна меня останавливают: я должен вернуться, снять туфли и носки и вымыть ноги под душем.
– Мам, привет! – кричу я, оказавшись в зоне бассейна.
Мой голос отражается от кафеля и затухает в хлорных парах бассейна. – Привет, мам! – повторяю я.
Ко мне поворачивается вся группа.
– Привет! – отвечают все леди из воды.
У мамы на голове латексная шапочка – точно такая, как была у нее тридцать лет назад, с большими резиновыми цветами на макушке. Не может ведь это быть та же самая? Мама плывет ко мне, и мне трудно поверить своим глазам: ведь совсем недавно она была прикована к постели, а сейчас рассекает водную поверхность взмахами рук. Брассом она подплывает к бортику, и я оказываюсь там же, глядя вниз на странно-открытое лицо – обрамленное латексными цветами – и глубокий морщинистый вырез.
– Отлично выглядишь, – говорю я. – Как себя чувствуешь?
– Фантастически, – отвечает она.
К ней подплывает мужчина с бочкообразной грудью.
– Привет, сынок!
– Здравствуйте.
– Рад тебя видеть.
– И я вас, – отвечаю я в тон.
– Как там сестра твоя?
– Отлично, – говорю я, хотя сестры у меня никогда не было.
– Меня очень беспокоит твоя мать. Я ее нигде не могу найти.
Голос у него гулкий, как у бывшего радиодиктора.
– Не можешь ее найти, потому что ее больше нет, – напоминает ему мама. – Но сейчас у тебя есть я.
– То есть вы вместе? – спрашиваю я.
– Да, – отвечают они.
– А как же папа?
Я вдруг снова стал маленьким, ничего не понимая.
– Твой отец умер много лет назад, – говорит мама. – И я имею право строить свою жизнь.
– Вы не хотели бы вернуться к занятиям? – спрашивает инструктор.
Они поворачиваются, плывут к группе, и подгузники торчат у них из плавок.
По дороге домой я заезжаю в «Эй-энд-пи» (обычно я туда не хожу, просто так вышло). За мной, куда бы я ни шел, все время следует какая-то женщина.
– Вы ходите за мной?
– За вами?
– Ну да, за мной.
– Трудно сказать. Здесь все ходят туда-сюда по пролетам, обходят ряд за рядом. Если у вас нет какой-то своей системы, вы обречены одни и те же лица видеть много раз.
– Прошу прощения, – говорю я. – Мы знакомы?
Она пожимает плечами, будто это абсолютно не имеет значения.
– Вы какой торт любите? – Мы стоим в отделе замороженных продуктов, возле десертов. – Простой или с глазурью?
– Никогда их не покупаю, – отвечаю я, и это правда. – Если бы мне захотелось торта, я бы пошел в кондитерскую, но я к ним равнодушен.
– А мне кажется, молодые любят с глазурью, а старые – без.
Она кладет себе в тележку торт «Сара Ли» без глазури.
– С виду вы не очень старая.
– Я внутри старая.
– Так сколько же вам лет?
Я отмечаю, что она стройная, фигура спортивная, скорее детская, чем женская. Волосы длинные, редкие, почти волокнистые. Сероватая блондинка.
– Угадайте.
– Двадцать семь.
– Тридцать один. Хреновая у вас интуиция.
Я толкаю тележку дальше. Казалось бы, должен быть польщен вниманием этой женщины, но почему-то нет. Отвлекаюсь: собачий корм, кошачий наполнитель…
– Вы любите животных?
Она снова перехватывает меня на пути.
– Кошка окотилась, – отвечаю я.
– Всегда хотела иметь домашнее животное, – говорит она. – Но родители бесились от одной мысли. «Они грязь и наносят», – говорил отец. А мать отвечала: «Мне с тобой и с твоей сестрой возни хватает».
– Ну, сейчас вам тридцать один, – говорю я, – так что сами можете решать, я думаю.
– Недавно у меня была кошка. – Она замолкает, потом спрашивает: – А можно посмотреть на ваших котят? Заодно и закусим слегка?
Она бросает в тележку несколько сырных палочек.
Я просто не знаю, что сказать. Точнее, не знаю, как сказать «нет».
И когда отъезжаю от магазина, она едет за мной, преследует – почти бампер к бамперу. Машина у нее такая же неприметная, как она сама: белый компакт неопределенного возраста, таких миллионы. По дороге я соображаю, что не я ее закадрил, а она меня, и от этого нервничаю. Зачем она ко мне привязалась? Есть же причина, по которым надо было людей друг другу «представлять», причина, почему приличное общество называется приличным и почему оно развивалось именно так: с пышными балами в замках и рекомендательными письмами.
Она паркуется прямо за мной на дорожке и входит, неся сумку замороженных продуктов, спрашивает, нельзя ли их пока положить в морозилку, и вдруг все это становится очень неловко. Не так, будто она заехала одолжить сковородку или чтобы я ей показал, как печь яблочный пирог.
Тесси заливается лаем.
– Кто это у нас такая большая собачка? – спрашивает женщина детским голосом.
– Тесси, тихо, все в порядке. Эта женщина из продуктового магазина, которая захотела приехать сюда со мной.
– Ты меня сам пригласил, – говорит она, все еще присев перед Тесси. – Он так сказал: «Хочешь поехать ко мне и поиграть с кисками?»
– Вряд ли я так сказал.
– Ага-ага, – говорит женщина собаке. Та, довольная вниманием, колотит хвостом.
Я убираю продукты и спрашиваю женщину, хочет ли она кофе или чаю.
– А вино найдется? – спрашивает она.
– Конечно.
Я иду в винный чулан Джорджа с таким чувством, будто граблю сокровищницу, и ищу что-нибудь непримечательное – дешевое то есть.
– Понимаете, на самом деле это не мой дом.
– О как? – говорит она. – А вроде бы ты знаешь, где тут что.
– Это дом моего брата, и я должен долгое время его курировать. – Я нашел «Шардоне Лонг-Айленд», больше похожее на принесенное кем-то на складчину, нежели на вино, которое Джордж мог бы купить у своего «винного дилера». – Значит, вы часто такие вещи делаете?
– Какие?
– Ловите мужчин в продовольственном магазине и едете за ними домой?
– Нет, – отвечает она. – Просто сейчас убиваю время.
– До пятичасового сеанса в кинотеатре «Йонкерс»?
– Где котята? – спрашивает она.
– Наверху.
Я отвожу ее в главную спальню, очень сильно изменившуюся с тех пор, как она превратилась в кошачью детскую.
– Бог ты мой! – Она опускается на четвереньки и ползет к ящику с котятами. – Какие же они умилительные!
Котята действительно умилительны: они уже расхаживают и слегка играют, а королева, кажется, не против разрешить мне с ними поиграть…
Я меняю им в ящике полотенце.
– Стирки много, – говорю я.
Она берет котенка и трется о него лицом. Королева недовольна.
– Лучше не брать их на руки, – говорю я.
– Прошу прощения.
Я смотрю на нее, стоящую на четвереньках в довольно-таки пахучей «кошачьей».
– У вас муж есть?
Она мотает головой.
– А бойфренд?
– Был, сейчас нет.
Мы еще несколько минут играем с котятами, потом спускаемся. Я рефлекторно включаю телевизор. Как будто мне нужна поддержка – голоса, имитация вечеринки. И когда я нажимаю кнопку, то невольно вспоминаю Джорджа, у которого телевизор был включен всегда.
Я смотрю на женщину и говорю:
– Когда мама предупреждала: не разговаривай с незнакомыми, тому была причина.
– Можно переключить канал? – спрашивает она.
Видимо, так она просит сменить тему.
– Не вопрос, – отвечаю я и делаю вид, что нажимаю кнопку у себя на животе – щелк! Канал сменился. – Вы есть хотите?
– Нет, я по-настоящему: можно переключить канал? Мне мозги надо проветрить. Можно на что-нибудь не типа заголовки новостей, а настоящее шоу, вроде «Два с половиной человека»? Ну, такое… жизнерадостное что-нибудь?
«Шоу, которое начинается с кокаиниста, вора и насильника, – жизнерадостное?» – думаю я, но молчу.
– Да, конечно. – Я переключаю канал. – Вы знаете, это же не настоящие люди там смеются.
– Когда-то были настоящие, – отвечает она, и больше сказать нечего. – Тут как-то холодновато.
– Хотите свитер? – В шкафу в коридоре еще остались вещи Джейн. Я даю гостье что-то вроде сиреневого свитера.
– Так ты женат, значит.
– Жена моего брата. Она ушла от нас, так что оставьте себе.
– Он кашемировый, – говорит она, будто чувствует себя обязанной раскрыть мне глаза на то, что я отдаю.
Когда она надевает свитер, я вспоминаю, как его носила Джейн, и я тогда замечал округлости ее грудей и не мог удержаться, чтобы не тронуть их, убедиться, что они на ощупь так же прекрасны, как на взгляд: манящие, нежные, сексуальные. Сейчас на другой женщине это выглядит иначе, но все равно некоторое особое действие оказывает.
– Закусим? – спрашивает она.
– Мне приготовить ваши сырные палочки?
– А что еще у тебя есть? – спрашивает она так, что я думаю: а зачем она эти палочки купила? Сохраняет для какого-то лучшего случая?
Покопавшись в морозилке, нахожу старые сосиски в тесте и заталкиваю их в тостер.
– С пылу, горячие, – предупреждаю я, принеся их через одиннадцать минут – в третий перерыв на рекламу.
– Не знала, что их делают для домашнего употребления.
– Извините, – говорю я, не совсем поняв смысл ее слов.
– Я думала, их только конторам по обслуживанию продают. – Она макает сосиску в дижонскую горчицу и откусывает кусочек. – Вау, отлично. Прямо слезу вышибает. Что это?
– Дижонская горчица?
В голове у меня одна-единственная мысль: ну как это ты ни разу в жизни дижонской горчицы не пробовала?
Закуски кончаются, мы еще смотрим телевизор, а потом она говорит, что не наелась.
– Тут есть рядом доставка?
– Понятия не имею.
– Что пицца тут есть, я знаю, – говорит она.
– Съел на ленч. Китайскую еду?
– А они доставляют?
Я звоню в свое привычное заведение.
– Это я, – говорю. – Посетитель, который «половина остро-кислого супа и половину яичницы-болтушки». У вас доставки нет?
– Болеете, не можете приходить?
– Вроде этого.
– О’кей, что вы будете хотеть?
Я смотрю на женщину:
– Двойную порцию моего обычного супа, пару яичных роллов, порция свинины мушу и креветки в кисло-сладком соусе. Еще что-нибудь? – спрашиваю я у женщины.
– Печений с предсказаниями, – говорит она достаточно громко, и человек, принимающий заказ, ее слышит.
– Сколько вы будете хотеть?
– Шесть, – говорит она.
Я даю адрес и телефон и включаю наружное освещение. Через несколько минут после этого, прервав пустой разговор и волнуясь, что доставщик не найдет дом, предлагаю ждать во дворе. Мы садимся на переднем крыльце. Что-то чудесно-меланхолическое есть в том, чтобы сидеть на улице весенним вечером, смотреть на исчезающий закат на фоне темнеющей голубизны, на контуры старых толстых деревьев, зеленеющих свежей и яркой листвой, ощущать неожиданную и легкую щекотку теплого бриза. И почему-то приятно быть живым.
Я стараюсь дышать поглубже.
– Это как в детстве, – говорит она. – Мы рано ужинали, еще когда папа с работы не приходил, а потом сидели и ждали фургон с мороженым. Мое любимое было «Клубничный торт» или «Шоколадный эклер».
– А нам не разрешали покупать мороженое с фургона, – вдруг вспоминаю я. – Моя мать считала, что через него заражаются полиомиелитом.
Тесси работает во дворе, обнюхивает подряд кусты, нарциссы, лилии, – все, что пробиваются из земли, метит лужицами то там, то здесь.
– Она действительно хорошо выдрессирована, – говорит женщина. – Даже попыток не делает выйти на улицу.
– Она улицу не любит.
К тротуару подъезжает владелец ресторана мистер Гао на старом джипе «хонда». На борту – название ресторана.
Я иду к машине. Мистер Гао сидит за рулем, его жена рядом с большим коричневым бумажным пакетом в руках. В пакете наш ужин – пахнет в машине изумительно.
Хотя вполне можно было бы передать пакет в окно, миссис Гао выходит из машины. Одета она в китайское платье хозяйки.
– Динь-дилинь, доставка, – говорит она, изображая звон колокольчика.
– Как вы поживаете? – спрашиваю я.
– Хорошо, – отвечает она. – Мы не видели долгое время вас.
– Я был занят. Кто сейчас управляет в ресторане?
– Мистер Фу, главный официант. Он уже давно у нас работает. – Она окидывает взглядом дом. – Хороший дом.
– Спасибо, – говорю я, вынимая деньги из бумажника.
Я расплачиваюсь, она передает мне пакет. Потом сует руки в боковые карманы и вынимает сжатые кулаки.
– В какой руке?
Я выбираю правую, она ее переворачивает и раскрывает. На ладони горка белых мятных конфеток с желейной серединкой, которые всегда лежат около кассы.
– «Трик-о-трит» для вас.
– Спасибо. – Я закидываю один леденец в рот. Она высыпает мне в руку остальные, сладко-липкие.
Гостья держится поодаль, на газоне, возле двери, будто не хочет, чтобы ее видели.
– К нам приходите скоро, – говорит хозяйка ресторана.
– Спасибо, обязательно.
Я смотрю вслед их уезжающей машине, потом поворачиваюсь к дому. Женщина уже зашла внутрь и в кухне ищет тарелки и приборы.
За едой она спрашивает, случалось ли мне красть.
– Что, например?
– Например, что под руку подвернется.
– Нет, но вам, похоже, случалось?
Она кивает.
– Интересно, а что было самое большое из того, что вы украли?
Она замолкает, на секунду задумавшись, откусывает кусок от ролла мушу и брызжет капустой и соевым соусом.
– Тридцатисемидюймовый плазменный телевизор, – говорит она, продолжая жевать.
– Под пальто?
– Нет, в арендованной машине. Мне он был нужен. Я так долго жила с тринадцатидюймовым и без пульта. Сколько же можно так отставать от жизни?
– Мне тревожиться при мысли, что на самом деле вы сюда приехали на разведку, а потом со своим бойфрендом вернетесь на фургоне и вынесете все дочиста?
Она поднимает глаза:
– Ну нет. Я у людей не краду, только из магазинов. У знакомого ничего бы не взяла.
– А я вам знаком?
– Вы меня поняли. У человека, не у корпорации.
Мы заканчиваем еду, и она аккуратно запаковывает остатки, кладет обратно в коричневый пакет и убирает в холодильник.
– Пора печенья открывать.
– Чаю хотите?
– Лучше еще вина, – отвечает она, разламывая первое печенье. Потом еще и еще, каждый раз ей явно не нравится результат, пока, наконец, не добирается до четвертого предсказания: «Ваша удача начинается сейчас».
Обломки печений она скармливает Тесси, пока я не прошу перестать: иначе у собачки живот заболит.
Мы переходим обратно на диван, смотрим телевизор, и я ловлю себя на мысли, что теперь понимаю высший смысл телевидения: оно дает людям, у которых нет ничего общего, возможность сойтись и о чем-то поговорить, дает знакомую территорию. Я начинаю уважать Джорджа за то, что он делал: телевизор объединяет нас как американцев. Человек есть то, что он смотрит.
– Мне скоро пора, – говорит она.
Я киваю. О сексе не думаю, но, видимо, он входит в программу, в меню – сразу после апельсиновых долек и печений с предсказанием. Без предупреждения она прижимает меня к дивану, налетает с тяжелыми влажными поцелуями, рот раскрыт и по-своему талантлив: я не могу не ответить. Она всаживает в меня язык и отодвигается на секунду, скидывает через голову рубашку – и, в сущности, одаривает меня собой. Груди у нее больше, полнее, чем я ожидал, на ней лифчик, темно-синий, кружевной, оттеняющий бледность кожи. Она довольно умело занимается мной, освобождая мою напряженную ситуацию из укрытия, но когда я тянусь к пуговице ее джинсов, она качает головой: нет. Я подчиняюсь. Дальше – горячо, нетерпеливо, с плотной хваткой, с соскальзыванием с кожаных подушек на пол. Потом я кончаю – и все. Меня оставляют, опустошенного, на полу, мой сморщенный конец валяется у меня на бедре растаявшим рожком мороженого, а она уже встала и надевает рубашку, как будто так и надо. Идет в кухню, берет свои продукты из морозильника, возвращается в гостиную, где я еще валяюсь на полу.
– Ну, пока, – бросает она небрежно.
– Не хочешь дать мне свой телефон?
– Я знаю, где ты живешь.
Когда она уезжает, я отмываюсь, поправляю диванные подушки и пытаюсь не думать о том, как все это было странно.
Я даже не знаю, как ее зовут.
На следующее утро меня заказным письмом информируют, что я официально разведен. Почтальон звонит в дверь, Тесси лает, я расписываюсь за письмо – и вуаля! – развод у меня в руках. Совсем не так трудно, как я думал.
В детстве, вспоминаю, слышал я разговоры взрослых о неудавшихся браках и о том, что жена должна была доказать измену мужа, «застать его в момент совершения», и еще какие-то случаи, когда пара была вынуждена жить в другом штате не менее года, чтобы решилось ее дело.
А сейчас развод буквально присылают по почте – с купонами на скидку при доставке пиццы и благодарственной запиской Эшли, написанной на ее «официальной» бумаге с выдавленными инициалами Э. С. С.
Эшли Сара Сильвер.
Почему никто не подумал, что когда-нибудь кто-то сократит до инициалов?
Спасибо тебе за поездку в Вильямсберг, это было очень интересно, я очень много узнала нового. Спасибо за платье, за туфли, за гусиное перо, за чернильный порошок, за писчую бумагу, сургуч и печать, за книгу про Покахонтас и за все еще, о чем я забыла здесь написать. Твой друг – Эшли Сильвер.
P.S. Я знаю, что на самом деле я тебе не «друг», но непонятно было, как написать. Просто «целую» – как-то неправильно было бы…
Еще в почте письмо из «Лоджа».
Уважаемый Родственник Пациента!
На недавнем заседании совета директоров было принято решение изменить статус нашего учреждения. «Лодж» из центра ментального здоровья с госпитализацией пациентов превращается в место проведения конференций руководства и семинаров. Такое решение подразумевает смену назначения организации: из лечебного учреждения она превращается в заведение для мотивационных и организационных собраний.
Как Вам известно, «Лодж» служит своим пациентам, их семьям и всему нашему обществу почти пятьдесят лет. Реорганизация его является существенным сдвигом в направлении работы служб ментального здоровья и связанных с ним медицинских служб не только в данном учреждении, но и в масштабах всей страны: госпитализационные схемы лечения сменяются более амбулаторно ориентированными, основанными на интенсификации взаимодействия пациента и общества.
В тесном сотрудничестве со всеми нашими пациентами и их родственниками мы делаем все от нас зависящее для беспрепятственного возвращения пациентов в домашнюю среду либо их перевода в наиболее подходящие для них учреждения. Мы надеемся завершить процесс перевода до конца августа и будем поддерживать с Вами контакт в индивидуальном порядке по поводу того, каким образом лучше этот перевод осуществить. Мы понимаем, что получение письма подобного рода может вызвать целый спектр эмоций и вопросов, и рады предложить Вам без стеснения обращаться к нашему главному врачу или в наш офис по связи с общественностью с любыми вопросами, которые могут у Вас возникнуть.
Поскольку данное известие было несколько неожиданным, мы приносим свои извинения за почтовую рассылку, но хотели бы связаться с Вами до того, как новость попадет в СМИ.
Наша глубочайшая благодарность за то, что допустили нас в свои сердца, дома и умы.
Искренне Ваш,
Джон Тревертани,
Генеральный директор «Лодж, инк.»
Я звоню.
– Мы пытались связаться с вами примерно десять дней назад, – говорит Розенблатт. Ясно, что он и есть назначенный «отвечатель». – Но к телефону подошел кто-то другой и сказал, что вы уехали на историческую экскурсию, а он не может разговаривать – должен помочь котятам «сходить». Он предложил, чтобы я перезвонил и оставил подробное сообщение на автоответчике, но я из соображений врачебной тайны решил выждать неделю и позвонить вам снова.
– Это был человек, который за животными присматривает. Я уезжал, а кошка родила котят.
– А, – говорит он. – Ну, в общем, я вижу, письмо вы получили. Мы уже связывались с адвокатом Джорджа, еще с некоторыми людьми из прокуратуры штата – поговорить о том, как теперь можно было бы устроить Джорджа. Учитывая, что первый набор обвинений снят, но Джордж ожидает суда по обвинению в убийстве, вы его можете перевести в другое учреждение «больничного» типа. От разговора с адвокатом у меня осталось впечатление, что они хотели бы держать его подальше от традиционной тюрьмы столько, сколько это будет возможно. Вероятно, хотят попробовать что-то «нетрадиционное». Но еще должен добавить, что я говорил с Джорджем, и, положа руку на сердце, могу сказать, что ему надоело находиться на больничном режиме. Боюсь, его сопротивление участию в таких видах деятельности, как групповая терапия, трудовая терапия, приобретение навыков и прочее, может быть отражено в отчетах как неподчинение, что отрицательно скажется на ходе судебного дела.
– Вы намекаете, что он филонит на шитье рукавиц?
– Вроде этого. Он не умеет сыгрываться с другими.
– Никогда не умел. Вы говорили что-то про нетрадиционный метод?
– Да, – говорит он. – Я тут выясняю с некоторыми людьми на уровне штата, не хотят ли они взять его в одну свою пилотную программу. Она достаточно необычна, и я не уверен, что готов рассказывать подробнее, пока сам получше не разберусь. Наверное, вскоре мы сможем поговорить снова.
– Я на месте.
– Я тоже на месте, до августа, – сообщает он. – Потом – непонятно.
Непонятно – это слабо сказано.
Я чувствую, что мне не хватает нормального. Обыденного, рутинного. Банального. Комфорта жизни, которая иным может показаться назойливо-скучной. Много лет я с понедельника по пятницу ел на завтрак одно и то же: два ржаных тоста, один с маслом, другой с апельсиновым джемом, хлеб всегда один и тот же, один и тот же джем, одно и то же масло. По субботам – яйцо с хлебом, по воскресеньям – либо блинчики, либо французский тост.
Семейные ритуалы оживляли нашу с Клер жизнь. Нам было в удовольствие ходить ужинать по пятницам, оставаться дома по субботам, привычно смотреть утреннее кино и заказывать китайскую еду на дом по воскресеньям. Если же добавлялось что-то новое или отличное от прежнего, это обсуждалось с той точки зрения, как оно изменит нашу обычную жизнь, наше расписание.
Но сейчас жизнь у меня – как бесконечное свободное падение, штопор, замедляемый лишь просьбами что-то сделать для кого-то другого. Если бы не дети, собака, кошка, котята, растения – я бы полностью рассыпался.
Из чистого любопытства звоню в департамент социальных служб округа и спрашиваю, что нужно, чтобы стать приемным родителем. Среди моих вопросов есть такой: «Обязательно принимать любого предложенного ребенка или можно выбирать?»
– Мы очень тщательно выбираем, куда помещать детей, – отвечает мне женщина.
– Не сомневаюсь. – Поэтому и репортаж по телевизору о приемных семьях был преисполнен энтузиазма. – Мой вопрос следовало поставить так: если родственникам ребенка нужен перерыв и они хотят, чтобы я взял ребенка на время, есть ли способ сделать это официально? Получить какую-то сертификацию или что там нужно?
– Чтобы получить право принимать «целевое размещение», как мы это называем, необходим «сертификат приемного родителя».
– И что нужно для его получения?
– Письмо о намерениях, заявление, справка от правоохранительных органов, обследование домашних условий, медицинская анкета, справка о прививках, письмо от юриста, финансовые документы, убеждающие, что вы это делаете не ради личной выгоды.
– И все приемные родители в вашей системе выполняют эти требования?
– Да, сэр, все.
Я описываю себя: отставной профессор, писатель, консультант семьи бывшего президента Никсона…
– Дети у вас есть? – перебивает она.
– Я опекун двоих детей моего брата – мой брат недееспособен.
– Вам необходимо посетить психиатра, – говорит она.
– Прошу прощения?
– Эксцентричным людям, вроде вас, это требуется. При подаче документов необходима оценка психического здоровья. Дело будет двигаться быстрее, если вы не станете упорствовать.
У меня искушение спросить: а те неудачные приемные родители, которых я вижу в вечерних новостях, – они все посещали психиатра? Но я сдерживаюсь.
– Тут есть о чем подумать, – говорю я. – Вы не могли бы мне выслать дополнительную информацию?
– Ой, нет. Нам запретили высылать – очередное сокращение бюджетов. Но все есть в сети.
– Ясно, – произношу я. – Благодарю вас.
И мать вашу тоже.
Звоню тетке Рикардо и спрашиваю, не против ли она, если я возьму мальчика на воскресенье.
– Можете забрать его пораньше? – спрашивает она.
– В восемь тридцать – не слишком рано будет?
– Восемь тридцать подойдет.
Чтобы строить отношения с детьми, я в числе прочего решаю разговаривать с ними чаще и честнее, как со взрослыми.
Нейт отдалился от меня после Вильямсберга, и я не совсем понимаю, почему, но разумнее будет, похоже, не привлекать к этому внимания и просто переждать. Я у него спрашиваю совета, как развлекать Рикардо в воскресенье.
– Ну, есть крытые манежи для скалолазания, или боулинг, или видеоигры. – Нейт останавливается. – А можешь поиграть с ним на улице, мячик бейсбольный половить. У меня такое чувство, что с ним никто не играет. Моя рукавица в шкафу в спальне. И если хочешь, можешь ему ее подарить, это старая. У меня есть поновее.
– Щедро с твоей стороны, Нейт.
– Почему ты решил ему позвонить?
– Честно сказать, я по нему скучал, как и по тебе и еще больше – по Эш. Наша поездка мне по-настоящему понравилась. – Повисает неловкое молчание, но я не жалею о своих словах. Рад, что это сказал. – А как ты, как жизнь идет?
– Идет как-то, – говорит Нейт и замолкает. – Я на занятиях по английскому написал мемуар.
– Могу себе представить, как это было трудно.
– Я написал про папу – кое-что, о чем помнил.
Долгая пауза.
– Можно будет мне когда-нибудь это прочесть?
– Не знаю, – отвечает он. Такое впечатление, что случившееся с Джорджем и Джейн только сейчас начинает доходить до Нейта. Первое потрясение миновало, и он начинает сопоставлять, что к чему. – Я стал плохо спать и даже ходил к школьному советнику, который предложил мне посещать какую-нибудь группу медитации два вечера в неделю.
– Можно и попробовать, – предлагаю я. – Очень трудные были последние месяцы.
– Посмотрим, – отвечает он.
Поговорив с Нейтом, я звоню Эшли:
– Хотел сказать тебе спасибо за записку.
– Ты ее получил?
– Получил. Произвела впечатление.
– Когда я была маленькой, нам учительница задавала упражнения: писать благодарственные записки за все на свете. Вроде «Дорогой Бог, большое спасибо за сегодняшний восход. Он был очень красивый, и я с нетерпением жду завтрашнего. Твой друг Эшли Сильвер».
– Чудесно.
– Она говорила, что если ничему иному мы не научимся, то хотя бы приобретем хорошие манеры.
– Может, она была и права. А что у тебя еще происходит?
– Естественные науки. И еще мы много готовим. У нас новая учительница, которая пытается преподавать нам химию на основе поваренного искусства – химия в быту, – и химическая лаборатория у нас работает как испытательная кухня.
– По описанию – вкусно.
– На самом деле нет. Я думаю, это даже опасно.
Готовясь ехать в нью-йоркскую адвокатскую фирму для дальнейшей работы с рассказами, я проигрываю ленты с Никсоном – видеозаписи интервью, сделанные с Фрэнком Гэнноном, в которых он говорит о Пэт, о своей семье. Я про себя называю это «официальной версией». Официальная версия есть во всех семьях, молчаливое согласие о том, что мы рассказываем о себе – кто мы и откуда. Я внимательно слушаю, пытаясь уловить интонации Никсона, уложить его формулировки у себя в голове, чтобы завтра, читая рассказы, слышать его голос.
На следующее утро Ванда знакомит меня с Чинь Лан, которая будет заниматься перепиской.
Длинная и тощая, как вытянутая вручную макаронина, она энергично трясет мне руку.
– Рада буду работать с вами. Чтобы вы только знали, я читаю о’кей, я говорю не очень.
– Вы откуда?
– Снизу, – отвечает она. – Я дочь владельца магазина.
– Я с вашей матерью давно знаком, – говорю со смехом.
Женщина кивает:
– Она мне говорила, что вы и есть, который покупал печенье. Повезло мне – они меня открывали. Я могу очень быстро печатать, читать китайский, мне плохой почерк все равно хорошо, читаю как ветер – я для них могу читать и печатать. Мы пойдем работать совместно. А если я буду что-нибудь не знать, буду спрашивать это, – говорит она радостно.
– Где вы родились?
– Ленокс-Хилл, – отвечает она. – Мне есть двадцать один лет. Я подрабатываю играть профессиональный волейбол.
– Вы счастливая женщина, – говорю я. – Исключительная.
Перед тем как мы приступим к делу, я объясняю вкратце, почему мне интересен Никсон.
– Не волнуйтесь, – говорит она. – Я изучаю. Ванда мне говорила, что вы делаете, я ходила к Википедии и узнала многое.
Я киваю:
– Меня больше всего интересует его личность и признаки, связывающие его действия и эмоции с конкретной культурой и эпохой – эпохой, которая создала и определила Американскую мечту. Не знаю, насколько вы знакомы с темой. Термин «Американская мечта» был сформулирован в тысяча девятьсот тридцать первом году Джеймсом Траслоу Адамсом, который написал: «Жизнь должна быть лучше, богаче и полнее для каждого, и для каждого должны быть открыты возможности, соответствующие его способностям и развитию, независимо от того, в каких обстоятельствах человек рожден и к какому общественному классу принадлежит». Ричарду Никсону в том году было восемнадцать лет, он только-только становился самим собой. Ушел он в отставку в шестьдесят, и это был знак конца эпохи и, быть может, неотмеченной смерти самой мечты, хотя многие ощущают это так, будто она всего лишь ушла в подполье.
Что-то в самой Чинь Лан подвигает меня говорить, делать отступления, растолковывать. Это ощущается как вдохновение, как освобождение. И она, кажется, понимает, о чем я говорю.
Мы работаем бок о бок. Я объясняю, в каком виде хочу переписать документы, и говорю, что если ей что-то покажется непонятным, пусть тут же обратит мое внимание.
Каждый час Чинь Лан делает короткий перерыв на разминку. Вставая, она уговаривает меня поступить так же.
– Делайте как я, – говорит она, и я повторяю ее движения, текучие, как в возрожденном старинном танце.
– Как это называется? – спрашиваю я.
– Цигун, – отвечает она. – Я каждый день делаю. Кровь к мозгу идет, пробуждает правильную природу.
Я повторяю за ней, пока она не наклоняется назад так, что пальцами касается пола за спиной. После этого она поднимает в воздух одну ногу, за ней вторую. Чинь Лан стоит на голове и держит это положение.
– Как хорошо, – говорит она. – Как правильно.
Она встает на ноги, и мы работаем дальше.
Воскресенье, восемь тридцать утра. Я заезжаю за мальчиком. Тетка уложила ему большой пакет из магазина, набитый едой, контейнеры с металлическими вилками, ножами, салфетками и смену одежды.
– Он все время на себя проливает, – говорит она.
Рикардо пожимает плечами.
– Вы на скольких человек нам еды даете?
– Это немного. У него хороший аппетит, – говорит она.
– Тогда ладно. Я собираюсь привезти его обратно к шести – знаю, что завтра в школу. Вот мой сотовый – на случай, если надо будет с нами связаться. И если хотите, я могу отзвониться днем.
– Мы с мужем уезжаем на весь день, – говорит она. – Так что развлекайтесь.
По дороге к машине я спрашиваю у Рикардо, завтракал ли он.
– Да, – говорит он. – Но могу еще.
– Давай пару часов подождем? А пока поедем в парк и в мячик поиграем.
В парке Рикардо замечает группу ребят, гоняющих в европейский футбол. Видно, он тоже хочет, и я ему говорю, чтобы шел играть.
– Я с ними не знаком, – грустно говорит он.
Я иду с ним, встраиваюсь в группу отцов на краю поля и спрашиваю, может ли Рикардо войти в игру. Один из них свистит в свисток и кричит:
– Новый игрок на поле!
Я подталкиваю Рикардо в спину, и он бежит играть. Отцы стоят и обсуждают водонагреватели, зонный климат-контроль и прочие серьезные мужские дела. Я поддакиваю, киваю и присматриваю за Рикардо. У него координация – не люкс: спотыкается, падает на задницу после удара по мячу, – но другие ребята вполне его терпят в игре.
Когда игра прекращается, мы с Рикардо сидим на скамейке. Я ему предлагаю немножко потренироваться с мячом – наверняка у меня в подвале один найдется.
Рикардо отдувается, раскраснелся, старается отдышаться, копаясь в своем пакете с едой.
– Хочешь устроить пикник? – спрашиваю я.
– А давай ты будешь есть это, а я – из «Макдоналдса»? Моя тетя отлично готовит, но я же это ем каждый день.
Он протягивает мне что-то вроде эмпанады. Она начинена говядиной, луком, пряностями, которые мне трудно назвать. И хотя остыла до комнатной температуры, на вкус просто восхитительна.
– Ладно, – говорю я. – Поменяемся, но что тебе взять?
– Двойной чизбургер, большой пакет картошки и молочный шейк? – предлагает он.
– Чизбургер, маленькую картошку и без шейка.
– Ладно, – бурчит он расстроенно.
Мы идем в «Макдоналдс», потом в кино – там что-то в три-дэ для детей, и когда мне удается приспособиться к очкам и перестает тошнить, это оказывается здорово. Рикардо все время смеется своим забавным странным смехом, которым меня покорил, и лупит меня по руке, когда ему что-то нравится.
– У меня есть одно дело. Ты любишь ходить в хозяйственные магазины?
– Еще бы.
К бачку на втором этаже нужна новая ручка. Я ее нахожу, потом вижу, что мальчик рыскает по магазину. Через пару пролетов от него я смотрю, как он перебирает содержимое тех или иных коробок, потом копается в карманах. Первая мысль – что он что-то тащит из магазина, потом замечаю, что он пересчитывает мелочь.
– Сколько у тебя есть? – спрашиваю я, подходя ближе.
– Два доллара шестьдесят семь центов.
– А сколько тебе нужно?
– Два доллара девяносто девять центов.
– Плюс налог, – говорю я. – И что ты хочешь?
Рикардо показывает на зеленый фонарик в форме лягушки, который квакает, если нажать. Я даю ему доллар.
Довольно пожилой мужчина, бродящий меж гаек и болтов, говорит мне:
– Симпатичный мальчик.
– Хороший парень, – улыбаюсь я.
И тут он наклоняется и спрашивает Рикардо в упор:
– А где твой второй папа?
Рикардо не понимает.
– Вы что себе позволяете? – спрашиваю я, рефлекторно кидаясь на защиту Рикардо.
– Извините, не хотел обидеть. Просто решил, что вы из семьи с двумя папами. Обычно белых детишек разбирают гетеро-семьи, а геи получают остаток.
Я припираю этого типа к шкафу.
– Вы понятия не имеете, о чем сейчас говорите. Ни малейшего!
У меня в животе свернулся жгучий ком, и больше всего на свете мне хочется дать этому типу в нос. Никогда в жизни никого не бил в лицо, но сейчас, кажется, идеальный для этого момент.
– Мой отец погиб, – говорит перепуганный Рикардо.
Сообразив, что мое поведение пугает Рикардо, я отпускаю наглого мужика.
– Недоумок! – говорит он, стряхивая меня.
Я ему показываю палец – и этого тоже сто лет не делал. Хмырь с отвращением уходит.
– А что это значит? – Рикардо повторяет жест.
– Пожалуйста, больше так не делай, – быстро говорю я.
– Но ты же сделал только что?
– Да, но этого делать не следовало. От такого может быть масса неприятностей.
Мы идем на кассу, и я, пока кассирша сканирует покупки, беру пару световых палочек из коробки возле кассы – такого типа, как возят в бардачке автомобиля на аварийный случай. Одну покупаю себе, другую мальчику – сбросить нервную энергию.
– Так что это на самом деле значит? – спрашивает Рикардо, когда мы выходим.
– Что?
– Вот то, что я не должен больше делать.
– Это значит, что человек сильно раздосадован.
– А я думал, это вроде языка глухонемых или старой индейской азбуки жестов, – говорит он.
На улице я достаю световые палочки, они вспыхивают в свете гаснущего дня, как сабли инопланетян.
– Класс, – говорит Рикардо.
Я ему даю одну, мы изображаем дуэль, и нам весело. Я уже так не играл… да никогда я так не играл.
Потом, уже отвозя его домой, я говорю:
– Послушай, ты извини меня за то, что там в магазине было.
Рикардо пожимает плечами:
– Нормально. Ты за меня заступился.
И он меня обнимает – ну, может, в телевизоре видел, как мальчик обнимает взрослого, или как будто это сцена из «Два с половиной человека», простроченная грубым закадровым смехом.
– Давай еще раз так погуляем, и поскорее, – говорит он с жаром.
В тот же вечер в поисках уж не помню чего я забираюсь в подвал. Он похож на созданное многими поколениями хранилище всякого барахла, лыж, клюшек для гольфа, теннисных ракеток, садовых распылителей, ящиков со стеклянными банками, и наверняка добрая половина всего этого оставлена прежними владельцами, а Джордж и Джейн оставили все это реликтами прошлой эпохи.
Я решаю все это выбросить.
Через четыре часа, вытащив к дороге четыре огромных зеленых пластиковых мешка и переполненный синий мусорный ящик, я чувствую себя так, будто вычистил конюшню. Должен же был кто-то это сделать.
Зачем Джорджу четыре комплекта клюшек? Зачем такое изобилие теннисных ракеток и таких длинных лыж, таких старых креплений и ботинок? И все это покрыто какой-то коркой, может, даже ядовитой.
Закончив и исполнясь ощущения хозяйственной добродетели, я грею себе в микроволновке поздний ужин и звоню Нейту.
– Как погуляли с Рикардо? – спрашивает он.
– Отлично. Я его случайно научил средний палец показывать.
– Случайно?
Я рассказываю, и Нейт говорит:
– Похоже, ты хорошо начал.
– В общем и целом, думаю, это не очень серьезная ошибка. – Я замолкаю. – Никогда не знаю, что тебе рассказывать, а что нет – про твоего отца.
– Ага, – отвечает Нейт, при этом не давая мне зацепок. – Тут трудно решить.
– Место, где его сейчас держат, закрывается.
– А что это за место?
– Лечебное учреждение, – отвечаю я за неимением лучшего термина.
– А хочешь знать, что он со мной делал? – спрашивает Нейт. – Он меня переворачивал вниз головой и мною размахивал. Это было весело и страшно. Иногда он меня обо что-нибудь стукал: о стенку, о стол, о стул. Не знаю, то ли он так увлекался, то ли нарочно, но трудно было отличить. Могло быть иначе, будь я другой. Которому бы больше нравилось.
– Или меньше, – говорю я. – А получается, что для тебя это было неплохое развлечение. Зачем соглашаться на то, что тебе не нравится? Ты же мог сказать, что боишься, или по любой другой причине не хочешь.
– Всегда мне казалось, будто он хочет, чтобы я был не таким, как есть. Он меня считал размазней. – Нейт замолкает. – Ты что, ешь сейчас, пока мы разговариваем?
– Ага, прости. Проголодался, почему-то вместе с Рикардо не поел. Хотел подать пример умеренности, а потом, когда домой приехал, повело меня подвал разбирать и чистить. Уж сколько там дряни было всякой.
Нейт вдруг затихает. Нет, становится очень серьезным.
– Какой, например?
– Лыжи, теннисные ракетки, коробки старых стеклянных банок…
– Мои биологические эксперименты по выработке антибиотиков из выращенных дома источников – имбирь, хрен, горчица и настурция? Я за них приз получил.
– Да нет, вряд ли, – отвечаю я, с тревогой вспомнив, что в каких-то банках была земля и что-то там росло… но я думал, это просто плесень. – Просто куча мусора, старые отцовские клюшки для гольфа.
– А мои?
– Которые твои? – спрашиваю я, не скрывая тревоги.
– Мои в клетчатой сумке на колесах, и у меня есть еще комплект с синими вязаными рукоятками.
– Ты знаешь, – говорю я с запинкой, отлично зная, что они в сумке у края тротуара, – я сейчас посмотрю. Проверю еще раз для верности.
– Черт тебя побери, ты можешь хоть куда-нибудь не лезть? Тебе всюду надо лапы сунуть? Это не твое, это мой дом, я в нем живу. Ты хочешь, чтобы у меня дома не было, чтобы мне деваться было некуда?
– Нейт, – рискую я вставить слово, пытаясь как-то что-то загладить, – Нейт…
– Нет уж. Я так, блин, спокоен был, так офигительно достойно себя вел, что у тебя, кажется, сложилось ложное впечатление. Ты трахал мою мать, мой отец убил ее, и теперь ты – мой опекун? Я по этой дорожке не пойду. Не стану таким, как вы. И не дам тебе меня за собой потащить.
Он вешает трубку.
Я стою, совершенно растерянный. Во-первых, он прав. Во-вторых, удивительно, что такое не произошло раньше.
Я бегу к тротуару, забираю его клюшки для гольфа и все, что выглядит более или менее пригодным, а потом «восстанавливаю» обстановку подвала как можно более рациональным способом.
Часа через два приходит мейл от Нейта.
«Прошу прощения. Мне один парень дал свое лекарство, сказал, что поможет сосредоточиться, и оно, кажется, дало такую неприятную реакцию.
P.S. Тебе могут из школы позвонить по поводу сломанной парты, но я тебе честно скажу, это произошло случайно: она давно готова была развалиться, еще с прошлого года, когда дубина Билли на нее приземлился в попытке полетать».
Я отвечаю:
«Все в порядке, ты был прав. Твои клюшки и все прочее в целости и сохранности на местах».
Во вторник утром в самом начале девятого – звонок.
– Ты тут должен со мной съездить в одно место, – говорит Черил.
– А где «Здравствуй, привет, как жизнь»?
– Это так необходимо? Я у тебя одолжения прошу.
– Это привычно, – отвечаю я. – Как правило, с этого все начинается. Куда ты хочешь поехать?
– Тебе это важно? Тебе недостаточно, что я тебя прошу?
Я жду.
– В один клуб, – говорит она.
– А почему ты мужа не можешь с собой взять?
– Я его даже в кино не могу вытащить. Так ты едешь?
– А что за клуб?
– Ну, скажем, единомышленники.
– Политическая группа?
– Скорее общественное объединение.
– Когда это?
– Сегодня.
– Сегодня вечером?
– Можно подумать, ты так сильно занят. С восьми до одиннадцати – я думаю приехать к девяти.
– Название у клуба есть?
Она вздыхает:
– Вечеринка друзей и соседей. За тобой заехать?
– Там встретимся. У тебя адрес есть?
– Это зал с лазерным пейнтболом, называется «Найт вижн», в мини-молле…
– Там, где аптека?
– Да, там. Встретимся на парковке?
– Давай. Дресс-код есть?
– Обычная одежда.
Сидя в машине возле аптеки и поджидая Черил, я думаю, рассказывать ли ей про женщину из «Эй-энд-пи». Не очень понимаю, почему я чувствую себя виноватым, разрешив этой незнакомке из магазина меня «обслужить», но ощущение, будто я обманываю женщину, обманывающую своего мужа. И почему чувствую потребность все рассказывать женщине, с которой у меня нет отношений, которой я ничем не обязан, – но почему-то так же или еще более дискомфортно было бы ей не рассказать. Из этого самопогружения меня выводит легкий стук в стекло, напугавший меня до чертиков.
Я выхожу из машины.
– Вообще-то в такое время я обычно еще дома и даже не встаю.
Это наполовину шутка: когда я жил в Нью-Йорке, то по вечерам слушал джаз.
– Я в магазин зашла, чтобы убить время, – отвечает она несколько нервозно. – Сто семьдесят восемь долларов оставила. Вряд ли скоропортящийся товар за два часа погибнет.
– Если ты не взяла ничего такого, что тает.
– Мясо и молоко, – говорит она.
– Ты прическу сменила, – говорю я, отмечая, что при каждой нашей встрече она выглядит по-иному. Сегодня у нее стрижка клином, как у Дороти Хэмилл, фигуристки.
– Это парик, – говорит она.
Мы идем через парковку.
– Ради полной откровенности… – начинаю я.
– Не надо, – перебивает она, и я замолкаю. – Это действительно важно?
– Да нет, не очень.
– Может подождать, – говорит она с интонацией полувопроса.
Я киваю. Да, может.
– Я немного нервничаю, – говорит она.
– По какому поводу?
– Никогда еще на таком не была. – Она переводит дыхание. – Вообще-то я должна была бы сказать тебе по телефону, но…
– Но что?
– Я не уверена, что там все будут одеты, – отвечает она, ни на секунду не запнувшись.
– Что?
Я резко останавливаюсь, и меня чуть не сбивает машина, проезжающая вплотную.
– Я просто сказала…
– Что там – вечеринка нудистов? И почему-то ты мне только сейчас об этом говоришь?
– Не хотела тебя нервировать, – лжет она.
– Не хотела, чтобы я отказался.
Она молчит.
– Нагота обязательна? – спрашиваю я.
– По желанию.
– И ты будешь раздеваться?
Она пожимает плечами:
– Сначала посмотрю, как там и что.
К двери приклеена записка от руки: «Закрыто на частную вечеринку». Перед билетным киоском стол, украшенный плакатом: «Вход для OurFriendsandNeighbors.org».
– Чем могу быть полезен? – спрашивает человек в джинсах и тенниске.
– Я записывалась на сегодняшнее мероприятие, – говорит Черил.
– Простите, ваше имя?
– Черил Стивенс.
Он находит ее в списке и улыбается:
– Я вижу, вы привели с собой друга?
– Это можно?
– Конечно! Чем больше, тем веселее, – отвечает он, придвигая мне бланки для заполнения. – У нас доступ только членам клуба: десять долларов вступительный взнос, и тридцать – сегодняшний вечер.
Я беру бумаги.
– Пока вы их будете заполнять, я вам расскажу о сегодняшнем формате и немножко о следующем мероприятии, вечеринка в складчину.
Заполняя формы, я сначала пропускаю имя и адрес, указав только и-мейл и номер сотового.
Человек в тенниске заметил это:
– Не решили еще, кем хотите сегодня быть?
Я молчу.
– Будьте собой, – говорит он. – Так проще. Однажды у нас один человек ударился головой на роллердроме, и три дня ушло, чтобы выяснить, кто он такой.
Я оставляю графы незаполненными.
– Ладно, формат… Как вы знаете, здесь общественное заведение, которое мы сняли на вечер. Мы надеемся и в дальнейшем так поступать, поэтому, хотя у нас собрание с необязательной одеждой, вседозволенности не будет. – Он подмигивает. – И вот еще… – Он делает паузу. – К этому мы относимся очень серьезно: нет – значит нет. У нас закрытый клуб, но основой является взаимоуважение. Инициатива исходит от дам. – Тут он смотрит прямо на меня. – В смысле приватности – наша организация весьма конфиденциальна – я настоятельно вас прошу обращаться только по именам, без фамилий. Мы не продаем, не предоставляем, не публикуем и не раскрываем списки фамилий членов клуба и не используем их ни для каких целей, кроме рассылки закрытых приглашений на наши мероприятия.
Я киваю.
– Вы играли когда-нибудь в лазерные пятнашки?
– Нет.
– Внутри при входе есть шкафчики для личных вещей. Судьи-рефери вам изложат правила игры и проинструктируют по пользованию жилетами и ружьями. Есть бар – это включено в ваши тридцать долларов, – а если вам нужно будет отдохнуть, то есть отдельные комнаты в глубине здания: сверните налево перед зеркальной горой. Бывают еще каждую неделю закрытые вечеринки – вот там-то самое веселое и происходит, но это за запертой дверью, в частных домах, строго по приглашению. Сегодня в основном вечер знакомств, отличная возможность узнать нас и дать нам узнать вас. – Он улыбается. – Как вы о нас услышали?
– Мне одна женщина, с которой мы вместе на пилатес ходим, сказала, что я уже созрела для приключения. И намекнула.
– Это была Дорин?
– Она. Откуда вы знаете?
– Моя жена, – радостно объявил мужчина. – Ее здесь сегодня не будет: у малыша ухо воспалилось. Я ей скажу, что вы были, она будет рада. Женщины нам всегда нужны. Парней хватает, а девушек всегда дефицит. – Он смеется. – Но это моя точка зрения.
По дороге через освещенный темными лампами коридор Черил говорит:
– Я сюда сына водила пару раз на дни рождения. Ему тут нравится.
– Ты его водила сюда?
– Не на это мероприятие, – отвечает она, – а в этот зал. Дорин мне сказала, что они его снимают раз в месяц – платят двойную цену и ставят свой персонал. Приходит команда добровольцев и делает некоторую специальную подготовку. Наверное, нам стоит надеть лазерное снаряжение. Так будет проще снять напряжение и не выделяться.
Мы натягиваем этот наряд – нагрудный рюкзак с ружьем, закреплены на эластичной привязи. Один из рефери объясняет нам:
– Если в вас попадут, ружье после этого не стреляет пятнадцать секунд – по сути, попадание выводит вас из строя. Двадцать пять попаданий – выключение на пять минут.
Он рассказывает, как можно с помощью зеркал направить луч рикошетом на кого-нибудь – и не надо все время скрадывать свою цель.
– Ну, вперед, ребята. Только помним: не бегать и не толкаться.
Проходя внутрь, мы минуем бар, где женщина в желтом спортивном лифчике и в лазерных доспехах пьет белое вино из бумажного стаканчика, а двое мужчин без рубашек, один с выбритой грудью, перебирают ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков.
Я ожидал и большего, и меньшего. Перед мысленным взором у меня мелькают картинки секс-клубов семидесятых, где наполовину лысые или в паричках мужчины ласкают сексуально раскрепощенных женщин слева, справа и по центру. Нынешнее мероприятие по сравнению с тем и смотрится грубее, более плотски и более инфантильно – может быть, лазерные пятнашки снижают тон. Здесь носятся потные мужчины в спортивных трусах и с игрушечными ружьями, карикатурно возрождая домашние игры тех времен, когда им было девять-десять-одиннадцать лет, но эти игры теперь выглядят нелепо. Мужчинам от тридцати до пятидесяти с довеском, и их поведение еще более неприглядно из-за волосатых тел, жира, случайных татуировок. Конечно, я не критиковать сюда пришел, но меня поражает, насколько они непривлекательны и насколько лишены стыда. Почему-то думается, что обнажаться должны только люди, у которых тела для этого годятся. А эти к тому же будто не знали, что им придется раздеваться, никак об одежде не позаботились, бегают в обычных белых плавках и семейных трусах, и обвисшее хозяйство болтается из стороны в сторону, когда они мечутся, стреляя друг в друга. Женщины все-таки как-то постарались. У некоторых сексуальное белье или вариант маскарада госпожи-проститутки, другие будто собрались проехаться на велосипеде – спортивные лифчики и шорты в обтяжку, у одной с разрезами сзади. Все это выглядит как неудавшаяся порнография, и я еще раз убеждаюсь, что любители против профессионалов не тянут.
– А вот тут у меня знакомые, – говорит Черил.
– Где?
– Вон там. На три часа смотри, тот человек и его жена.
Я смотрю, примерно на полтретьего замечаю группу мужчин, которые уставились на двух целующихся женщин. Никогда до конца не понимал, почему мужчинам нравится смотреть на двух женщин или иметь двух женщин сразу. Для меня это было бы источником путаницы: четыре груди, две вот-это-чья, куча работы… Мне кажется, у меня бы предохранитель выбило от перегрузки.
– Помню, я о них слышала, – говорит Черил.
– Что слышала?
– Что-то в этом роде, что они такое делают, – но не думала, что это правда. Думала, я одна такая.
– Ясно, что такого не бывает. Всегда найдется кто-то, кому тоже надо.
В половине десятого рефери объявляют пятиминутный перерыв, а потом – раунд салочек на раздевание. Каждый раз, как в тебя попадут, ты должен что-то с себя снять. Ух ты!
Я направляюсь к бару, по дороге останавливаюсь глянуть в отдельные кабинеты. Много вижу такого, что у нас называлось «на сухую», но стал бы я делать это в мини-молле с рядом живущими соседями?
Я припадаю к бару, пью больше обычного. Женщины топлесс с лазерными сумками смешивают белое вино с содовой, а мужчины бегают вокруг в полустояке, и я не знаю, отчего они больше заводятся: от полуголых девушек или от азарта игры. Слышу, как какая-то женщина спрашивает у Черил:
– Можно?
– Наверное, – отвечает та.
Я отвожу глаза: даже в таком месте у людей должна быть возможность уединения. Краем глаза, как в замедленной съемке, вижу руку женщины, длинные тонкие пальцы, блеск обручального кольца на руке, тянущейся к груди Черил. Она касается кожи – едва заметно, будто пыль сдувая, касается, не касаясь. А потом женщина наклоняется и целует Черил. Черил отвечает на поцелуй. И женщина тут же исчезает – испарившись от испытанного.
– Не хочу портить тебе удовольствие, но мне нужно завтра с утра в город, и я хочу быть дома в приличное время.
– Я позволила женщине прикоснуться ко мне, – отвечает Черил, явно не подозревая, что я стоял в это время рядом.
– Это было в первый раз?
– Да. – Она делает паузу. – Она так легко прикоснулась… щекотно было.
– Звучит так, будто тебе понравилось.
– Мне это не было неприятно.
– Двойное отрицание. Ты хочешь сказать, тебе понравилось?
– Я бы не высказалась так определенно. Мне случалось ощущать на себе женские руки – но всегда в кабинете врача. «Поднимите руку, другой рукой возьмите грудь, вложите ее вот сюда, в маммограф», – но никогда просто так, для удовольствия. Понятия не имела, что от женских губ ощущение такой мягкости. А ты как? Было что-нибудь?
– Ну, да, один мужик об меня потерся. Но я думаю, он просто протискивался мимо. Потерся и извинился. Вот от этого «извините» мне и стало неловко. Когда потерся – это было как-то даже интересно, а когда извинился – ощущение было не очень, поскольку мне и в самом деле понравилось.
– Мне кажется, ты слишком много в это все вкладываешь.
– Не стал бы, не будь это в первый раз, – отвечаю я. – Мне пора, уже поздно становится.
– У тебя еще есть время выпить кофе? Заодно и сделаем подробный разбор полетов.
Черил смеется собственной шутке. Когда мы идем через парковку, она спрашивает:
– Ты можешь поверить, что существует вот такое место прямо здесь, рядом с аптекой, магазином больничных товаров и открыточным киоском? Я тут для свекрови открытки покупаю.
Воняя потом, отчасти чужим, мы заходим во «Френдлиз».
– Мне кажется, тебе это не очень было по душе, – говорит она.
– Откровенно говоря, меня удивило, как это все тоскливо.
– И меня.
– Что вам принести? – спрашивает официантка.
– Кофе, – говорю я.
– И больше ничего?
– Кофе и яблочный пирог? – предлагаю я.
– С мороженым? – спрашивает официантка.
– Да, если не трудно.
– Кофе и яблочный пирог, – говорит Черил. – Так дедушка всегда заказывал.
– Отлично, – киваю я. – Яблочный пирог уберите, и мне клоуна из пломбира – шоколадного.
Официантка уходит, а я наклоняюсь к Черил.
– Зачем тебе это надо было? – спрашиваю я.
У нее такой вид, будто она сейчас расплачется:
– Я же любопытная. Я думала, ты это про меня уже знаешь. Мне все время нужно что-то другое, что-то новое.
Приносят мороженое, она за него принимается.
– Работа тебе нужна, – говорю я. – Может, лицензию риелтора или выучиться на социального работника.
– Есть у меня лицензия риелтора, – отвечает она. – Это значит, что можно трахаться с незнакомыми людьми в чужих домах. – Она неожиданно рыгает, и меня обдает через стол волной запаха белого вина и шоколадного мороженого. – Прошу прощения, – говорит она. – Наверное, не надо было мне пить, пока я на этом новом лекарстве.
– Не знал, что тебе выписали новое лекарство.
Я трезвею.
– Да, всю схему лечения поменяли.
– Ты не думаешь, что все сегодняшнее предприятие – следствие этого нового лекарства? Почем ты знаешь, что это было действительно твое желание, а не странный побочный эффект?
– Вряд ли желание посмотреть клуб свингеров включено в список побочных эффектов. Говорю же: я любопытная – разве это плохо? И если честно, мне нравится мысль о том, чтобы потрахаться с мужиком, а после не считать себя обязанной стирать ему одежду, готовить обед и покупать носки…
– Что-нибудь еще? – спрашивает официантка.
– Только счет, – отвечаю я, заметив теперь, что еще несколько «парочек» с вечеринки тоже сидят здесь, раскрасневшиеся, и смеются слишком громко.
Торжественно и печально я одеваюсь на свое последнее занятие. Надеваю костюм, галстук. Серьезно, с сознанием важности своей цели. Как на похороны полагается.
В аудиторию вхожу с высоко поднятой головой, сдерживая ощущение горя и предательства, и несу с собой только старый кассетный магнитофон.
– Сегодняшнее занятие заканчивает целую главу моей жизни, – говорю я, устанавливая оборудование. – В честь и память Ричарда Милхауса Никсона я буду записывать свои комментарии.
Магнитофон я устанавливаю на гулкую кафедру, несколько раз постукиваю по ней, чтобы привлечь внимание.
Гулкие удары по дереву усиливаются микрофоном – тук, тук, будто председательский молоток – слушайте, слушайте! Я одновременно нажимаю «вперед» и «запись» и откашливаюсь.
– Проверка, раз… два… три… проверка, проверка.
Нажимаю стоп, перемотку. Проигрываю записанный текст. Голос, какой ожидался, – классический металл.
– Я выхожу сегодня к вам, на это наше последнее занятие, собираясь говорить главным образом о силе и власти истории, о понимании, что, если жить только в настоящем, не чувствуя за собой прошлого, у нас не будет будущего. Представьте, если хотите, Америку без Ричарда Никсона, страну без прошлого, мир, в котором действительно каждый за себя, где не возникает, не строится доверие и союз между людьми и странами. Подумайте о времени, в котором вы сами живете. Ваша история – ваша культура, ваше поведение, – наверняка изучена тщательнее и документирована полнее, чем история любого предыдущего поколения. Десятки, если не сотни раз в день, фиксируется ваше изображение, а предписываемая вам дорога узка и не прощает ошибок. Представьте себе на минуту пост в Интернете, который никуда не исчезает – постоянно присутствует, не допуская возможности роста, развития или прощения.
Я останавливаюсь перевести дыхание.
– Сегодняшнее занятие отмечает переходный этап моей жизни: мое последнее выступление в университетском театре, прощальный поклон, если хотите. Я подумал, что могу воспользоваться случаем, чтобы просто поделиться с вами своими мыслями.
Но прежде всего я хочу попросить вас отключить все электронные приборы и представить себе заседание в никсоновском Белом доме: президент, глава его администрации Холдеман, Хейг, Генри Киссинджер и еще несколько избранных. Представьте, что у каждого из них в одной руке чашка кофе из «Старбакса», на которой написано имя владельца и аннотация содержимого, другая рука держит электронное устройство, а они почту смотрят, сидят в Твиттере, эсэмэски пишут и вообще. Не решил бы Никсон, что они его не слушают? И стал бы он записывать собственные мысли, полночные раздумья, чернилами на бумаге, или раскрыл бы смартфон и натвитил, наэсэмэсил бы многотомные отступления в создаваемое послание «О положении страны»?
Подумайте об этом и отключите свои устройства. Сегодня мое последнее выступление, и я прошу безраздельного внимания.
Я останавливаюсь на долгую минуту и жду, пока прочирикают, прощаясь, все приборы.
– Сегодня в девятнадцатый раз стою я перед вами – здесь, откуда столько лет исходит свет учения, где поколениями формировали умы и биографии. Я всегда старался давать вам материал как можно лучше. Я считал своим долгом сделать все возможное, чтобы донести до вас вашу историю и историю вашей страны, важность и ценность как знания прошлого, так и умения искать в этом знании ответы. Сегодня, в некотором смысле, день моей капитуляции. Чтобы учить, нужны ученики, адепты знания, жаждущие его. Мне известно, что многие из вас пришли сюда лишь потому, что курс истории обязателен. Я знаю по слухам, что этот курс считается «фигней». Равным образом мне известно, что многие из вас – первые в своих семьях, кто пошел учиться в колледж, и вместо того, чтобы воспринять эту привилегию как обязательство учиться, вы ее сочли индульгенцией, чтобы болтаться без дела с приятелями. Я всегда считал себя преподавателем, учителем, наставником молодежи. Не имея собственных детей, я допустил – вероятно, напрасно, – чтобы мне их заменили студенты. Я участвовал в вашей жизни, ходил на ваши футбольные матчи, подбадривал вас с трибуны. Я верил в вас. И как бы ни менялись течения в академической жизни, как бы ни спадал интерес к изучению истории, какие бы ни были веяния, я всегда ощущал долг, который мне следует выполнять. И позвольте мне высказаться совершенно ясно: я бы так поступал и дальше, как бы ни было мне трудно, как бы ни затрудняло преподавание мои научные исторические исследования. У меня нет привычки пасовать перед трудностями. Но так как в данном учебном заведении резко меняется направление, в котором должно идти преподавание истории, моя работа перестает приносить пользу. Я смотрю на это в долгосрочной перспективе. Сейчас я отмечаю контраст Белого дома Никсона и Белого дома Буша-старшего и Дика Чейни, по сравнению с которыми Ричард Никсон кажется простаком.
Никсон, по моим ощущениям, был мучим чувством вины по отношению к своим родным, в особенности к двум братьям, которых он потерял в ранние годы жизни. В недавние черные дни моей собственной семейной драмы мне пришлось подумать об отношениях с кровными родственниками и о том, что значит быть сторожем брату своему – в буквальном смысле слова. Подумать о собственном браке, рухнувшем в этом публичном фиаско. Я вспоминаю Дика и Пэт, восхищаюсь их стойкостью перед лицом всего того, что мы знаем о них и чего не знаем. Меня душит ярость, что я, как в капкан, попался в ту жизнь, которую беспощадно сам себе создал.
– Простите за отступление, – говорю я, переводя дыхание. – Бывают тропы, развилки, которые приходится проходить, дороги, которые приходится выбирать. Иногда выбирать не из чего, и остается только наилучшим образом поступить с тем, что тебе дано. Сегодня у меня смешанное чувство: это день окончания – и день начала. Я ухожу из университета, чтобы все свои силы отдать исследованиям деятельности Никсона, и очень надеюсь углубить свои знания в этом вопросе. Среди тех, кто пришел со мной попрощаться, двое почетных гостей: Райан, молодой студент-раввин, изучающий вопросы преступности среди евреев, – удачи ему. Декан нашего факультета, Бен Шварц, которого я знаю много лет и который знает всю глубину моих к нему чувств, – мне нет нужды говорить больше. Сегодня я обращаюсь к вам не только как к студентам, но как к людям – гражданам, надеюсь. Более того, я заверяю сегодня вас, что до тех пор, пока еще теплится жизнь в моем теле, я буду продолжать в том же духе. Я буду и дальше работать ради великих целей, которым посвятил свою жизнь. Есть одна цель, которой был я всегда предан и останусь предан столько, сколько буду жить. Впервые принимая присягу, я поклялся «посвятить свою власть, энергию и всю доступную мне мудрость делу мира между народами». И во все свои дни я изо всех сил старался быть верен этой клятве. В результате этих усилий, я уверен, мир стал гораздо безопаснее, чем прежде, не только для народа Америки, но для народов всех стран, и у всех детей во всех уголках Земли выросли шансы жить в мире, а не погибать в войне. Вот то, чего я более всего надеялся достичь. Вот главное мое наследство, которое я оставляю вам.
Я останавливаюсь, оглядываю аудиторию: уловил ли кто-нибудь, насколько густо я надергал цитат из самых знаменитых речей Никсона, в том числе и прощальной, конечно. Ни проблеска. И я заключаю, как когда-то сам мастер:
– Да будет благословение Господне на вас во веки веков.
Аудитория взрывается аплодисментами. Я киваю, кланяюсь, чуть ли не реверансы делаю. В задних рядах поднимается рука, а меня охватывают угрызения совести из-за авторского права.
– Перед тем как ответить на ваши вопросы, должен указать в скобках, что мое выступление составлено в основном из речей, произнесенных Ричардом Никсоном. В частности, из выступления по радио при его уходе в отставку, восьмого августа тысяча девятьсот семьдесят четвертого года.
– Семьдесят четвертого! – смеется девушка в первом ряду. – Меня же еще и на свете не было.
– Именно это я и хочу сказать. А сейчас вопрос с задней парты.
– Не могли бы вы сказать: не имея возможности учесть результаты итогового экзамена, как вы будете нас оценивать?
– Да воздастся каждому по делам его, – отвечаю я, довольный собственным остроумием. У них же на лицах недоумение. – Кто сдавал работы и участвовал в дискуссиях на занятиях, тот будет аттестован.
Часы бьют пять, студенты шумно радуются. То ли тому, что занятие последнее, то ли тому, что я наконец замолчу. Как бы там ни было, а причиной этой радости я считаю себя, и ухожу с ощущением победы, держа кассетник высоко над головой и рассуждая вслух:
– Вы меня и не знали толком.
Через несколько дней меня приглашают в «Лодж» на обсуждение, куда «поместить» Джорджа. Когда секретарша администрации звонит мне для подтверждения, то советует привезти для Джорджа одежду.
– Уличную, – поясняет она. – Джинсы, теплые носки, шерстяной свитер.
– Уже все решено?
– Понятия не имею, – отвечает она. – Я читаю, что у меня написано. Да, еще я должна у вас спросить, собираетесь ли вы ночевать.
– Нет, – кратко отвечаю я. – Вам известно, кто еще будет?
– У меня список участников: вы, адвокат вашего брата или представитель его юридической фирмы, главный врач и кто-то из управления исправительными учреждениями штата.
– У этого человека от штата имя есть?
– Уолтер Пенни.
Не прерывая разговора, я гуглю Уолтера Пенни и получаю фотографии сверхтощего бегуна из Гамбьера, Огайо. Но ведь мы живем в мире, где существует не только этот Уолтер Пенни?
Приходит собачий опекун – заняться Тесси и котятами.
Я собираю вещи для Джорджа, перегружаю их из ящиков и с вешалок в огромный чемодан, похожий на шкаф, – как будто он предназначен не для поездок, а непонятно для чего. Наверное, все, что Джорджу не понадобится, можно будет отдать.
В «Лодже» служитель вынимает чемодан из машины и несет в помещение.
– Регистрируемся? – спрашивает служитель.
– Вы тут новенький.
– Это так заметно?
– Да.
Они опаздывают. Я сижу в приемной рядом с кабинетом главврача, ем печенье из голубой жестянки и пью чай, налитый из чайника, очень подозрительного на превышение нормы содержания бактерий. Жестянку я держу на коленях, чтобы крошки на брюки не падали.
– Мэнни, – представляется мне человек напротив, протягивая руку. – Из фирмы «Вурлитцер, Пулитцер и Орди».
– Мы знакомы?
– Я из любопытства приезжал с Орди в Уайт-плейнз. Рутковски сегодня не будет – у него суд.
– Не знаете, насколько официальное или неофициальное сегодня заседание? – Мэнни пожимает плечами. Я ему предлагаю печенье, он отказывается. – У меня создалось впечатление, что мы будем обсуждать, что делать дальше. Но потом меня попросили привезти для Джорджа одежду. Такое чувство, что решение уже принято.
– Ничего пока еще не определено, – отвечает Мэнни. – Но в интересах экономии сил и средств у нас есть план, который вполне годится для Джорджа, как я думаю.
Наверное, я морщусь или какую-то еще гримасу строю.
Мэнни озабоченно поправляет стоящий на полу большой пакет:
– Давайте дождемся начала совещания.
Через несколько минут нас приглашают в кабинет доктора Кроули, главного врача. Уолтер Пенни уже там. Явно было какое-то предварительное совещание, на которое нас не звали.
– Заходите, заходите! – зовет доктор Кроули.
Это полный лысеющий мужчина непонятного возраста. Уолтер Пенни представляется, энергично встряхивает пожимаемую руку. Он молод, поджар, одет в дешевый костюм, который хорошо на нем смотрится лишь потому, что ему самому на это наплевать. Густые курчавые волосы пострижены почти под ноль. С виду может сойти за восемнадцатилетнего. Он то и дело почесывает за ухом – как Тесси, только она задней лапой.
Я смотрю на него, думая, не в самом ли деле он Уолтер Пенни из Гамбьера, Огайо, который пару лет назад бегал по гаревой дорожке, и гадая, что же он тогда может знать о людях или о юриспруденции.
Он протягивает мне визитку. Доктор Уолтер Пенни, докторская степень по уголовному праву.
– Уолтер, а как вы заинтересовались уголовным правом?
– В моей семье все военнослужащие и все охотники, – говорит он так, будто это все объясняет.
Я киваю.
– А вы откуда вообще-то?
– Из Огайо.
Мэнни передает ему свой пакет, и главврач вытаскивает оттуда огромную жестянку засахаренной кукурузы «Гаррет» из Чикаго.
– От моего шурина, – поясняет доктор Кроули. – Небезызвестный Рутковски.
– Взятка? – высказываю я предположение.
– Моя жена любит эту штуку, – отвечает Кроули. – На ней и выросла. – Он становится строже, меняет интонацию. – Итак, сейчас Уолтер нам расскажет о программе, над которой работает. И смею вас заверить: хотя мы никого еще туда не направляли, я разговаривал со многими людьми насчет пригодных для Джорджа вариантов. Так вот, если не считать тюрьмы или классического дурдома, их не слишком много. И не думаю, что для Джорджа один из этих двух был бы правильным.
– Позвольте мне? – просит Уолтер.
– Сделайте одолжение, – отвечает доктор Кроули.
– Мы постоянно ищем и исследуем новые концепции в уголовном праве – во всем, от архитектуры тюремных зданий до психологического переживания наказания. «Вудсмен» – эксперимент, который в сухом остатке должен дать малорасходную модель выживания наиболее приспособленных. И хотя Джордж – кандидат не самый типичный, мы считаем его вполне подходящим для передачи в нашу программу.
– А каков ваш типичный кандидат?
– Человек с уголовным прошлым, скорее сельский, чем городской, не так чтобы белый воротничок, немножко грабитель, в большой степени – вор, самую малость – убийца. Мужчина, владеющий собственными руками, которому нужны физические трудности. Мы обнаружили, что люди, склонные к буйному поведению, менее к нему склонны в естественной обстановке. Когда они сражаются со стихиями, то самообучаются, саморегулируются, потому что это борьба человека с землей, а не человека с человеком. Серийных убийц мы не берем – считаем, что это совершенно иной профиль, и в той же степени, в которой обладаем законным мандатом на исполнение наказания, мы обладаем и уважением к неотъемлемым правам наших заключенных и не подвергаем их неоправданному риску. По сути говоря, «Вудсмен» построен как недорогая и самоуправляемая исправительная колония. Как вам, быть может, известно, история самоокупаемых тюремных ферм достаточно продолжительна, как и история модели квакеров. Они построили первое пенитенциарное учреждение, где учитывалось, что человеку необходимо иногда глядеть в небо. – При этих словах Уолтер даже поднимает глаза вверх. – По сути: видь свет, будь с Богом и покайся!
– Вы сейчас говорили просто как священник, – замечает главврач.
– Благодарю вас, – отвечает Уолтер Пенни.
– А нельзя ли чуть более конкретно? – спрашиваю я. – Пока что по вашим описаниям получается эпизод из «Царства животных».
– Покажите ему презентацию, – предлагает Кроули.
– Разумеется. – Уолтер поворачивает ко мне экран своего лэптопа. – Для контекста, чтобы вы имели в виду: стоимость содержания одного заключенного в Нью-Йорке – более пятидесяти тысяч. Стоимость содержания в нашей программе – менее десяти тысяч на человека. – Он нажимает кнопку «Старт». На экран выходит брутальный логотип «ВУДСМЕН», сопровождаемый бурной музыкой в стиле хэви-метал, и потом ролик в стиле рекламы, зовущей вступать в армию или национальную гвардию. Показаны «типичные» заключенные: Крутой, Сильный, Волевой, Упорный. Они лазают по деревьям, ловят в реке рыбу себе на пропитание, спускаются по веревке со скальной стены. В их распоряжении тщательно отобранные инструменты и материалы из «рюкзака вудсмена», который был им выдан в начале программы и заменяется раз в год. Заканчивается ролик дисклеймером: «Программа «Вудсмен» – это модель управления человеческим поведением, разработанная на основе фундаментальных законов. В ней используются микросхемы Physics-300a и Physics-300b и спутниковое слежение, причем микросхема 300b осуществляет и постоянное считывание жизненных показаний. Возникающие проблемы, связанные с неправильным поведением или агрессией носителя, могут быть устранены посылкой беспилотного устройства или компьютерно управляемым разрядом в срок от одной до пяти минут».
– Вот это, в общем, суть, – говорит Уолтер Пенни. – Заключенные микрочипированы и выпущены на участок площадью сорок пять акров – бывший военный полигон. Действующего оружия и боеприпасов там не осталось, но инфраструктуры хватает на то, чтобы отслеживать поведение из подземного бункера, управлять им и так далее. Есть укрытия для сна, заключенные занимаются сельским хозяйством и собирательством, а над бункером есть центральное здание, где они могут постирать одежду, помыться, пополнить запасы – у нас там сыр из бесплатных наборов, дополнительные продукты, включая молоко и арахисовое масло, и питьевая вода в доступности. Мы испытываем новую систему «врач-в-коробке», позволяющую автоматически раздавать обычно применяемые медикаменты, и медицинского полевого робота, который умеет измерять температуру и давление, снимать ЭКГ и брать анализы крови. Зимой каждому участнику выдается юрта с солнечным отоплением.
– То есть это вроде программы отлова-чипирования-выпускания диких животных, только вместо животных люди? – спрашиваю я.
– Ага, – отвечает Уолтер. – Тщательно наблюдаемая безопасная зона. Отслеживается двадцать четыре часа в сутки.
– А если эти парни схлестнутся друг с другом?
– Мы знаем, где они и что делают в любую секунду, они под постоянным наблюдением. Дисциплинарные меры, если они нужны, применяются незамедлительно и без снисхождения.
– С неба, – говорит главврач, выпивая свою шипучку.
– Именно так. Запускается беспилотник – и привет родителям.
– А если кто-то из них выбросит свой чип и удерет?
– Чип вживлен сзади на шее, его невозможно удалить, не нарушив мозговых функций. Если кто-то кого-то убьет, мы точно знаем, кто это сделал и как. Трах-тибидох! – и беспощадный дрон обрушивается с неба.
– А они в итоге выходят из программы?
– Куда же им идти? – спрашивает Уолтер Пенни несколько недоуменно.
– Ну, не знаю. Лесниками в заповедник?
– Они же очень плохие люди, – говорит Уолтер таким тоном, будто я упустил смысл презентации.
– Случается им убегать?
– Заключенные и их представители подписывают контракт, где сказано, что мы можем применять тазер, электрошок и наказывать по необходимости. К вопросам дисциплины мы относимся очень серьезно, но случаи ее нарушения редки.
– Между этими людьми возникает дружба?
Уолтер качает головой, будто мы с ним говорим на разных языках.
– Это же не летний лагерь, «Кумбайя» и жареное на костре маршмеллоу.
– А почему вы считаете, что это подходящее место для Джорджа?
– Это вопрос ко мне, – вмешивается главврач. – У Джорджа много злости и избыток энергии, к тому же он очень любит быть главным.
– На этом месте я позволю себе вмешаться и кое-что для вас прояснить, – заявляет Мэнни. – В контексте уже сказанного: если мы остановимся на этой программе, если согласимся, что как раз здесь Джорджу и место, это будет сделка с правосудием. В рамках этой сделки уменьшается вероятность суда над Джорджем – а процесс был бы долгий, дорогой и очень интересный для публики.
– Вы хотите сказать, что если Джордж отправится в лес, то процесса не будет?
– Именно так, – подтверждает Уолтер Пенни.
– И сколько времени ему нужно будет оставаться в лесу?
– Трудно сказать, но в рамках соглашения любой перевод в другой режим будет оговорен. Не так, чтобы он вышел из лесу – и должен сразу отправиться под суд, – поясняет Мэнни.
– Скажу честно, – говорит Уолтер Пенни. – Для нас было бы хорошо иметь несколько громких случаев. Нам тогда легче будет оставаться в центре внимания. Начальное финансирование у нас есть, но чтобы оставаться на плаву, нам необходим хороший пиар – хотя у нас поразительно низкий уровень затрат на одного заключенного по сравнению с обычными учреждениями.
– Да, на логотип и презентацию вы денег явно не жалели.
– Создание брэнда в наши дни решает все, – соглашается Уолтер. – У нас была пара очень хороших грантов, на которых мы работали, но сейчас приходится выкручиваться самим.
– Короче, – вмешивается Мэнни, прерывая заинтересовавший меня разговор о том, кто дал им первоначальные гранты на создание этого деревянно-зернисто-зеленого логотипа. – Условия принятия Джорджа в программу таковы: мы воспринимаем направление в «Вудсмен» как одноразовое предложение; само предложение и его принятие прецедента не создают, и любое дальнейшее перемещение после первых сорока восьми часов в «Вудсмене» является выполнением данного соглашения и отмене не подлежит. Подразумевается, что время пребывания в программе «Вудсмен» определяется законами штата, в котором расположено учреждение, законами Соединенных Штатов, надлежащей правовой процедурой и так далее. Издержки по переводу из частного учреждения «Лодж» в общественное учреждение «Вудсмен» полностью возлагаются на «Лодж» в связи с закрытием указанного учреждения.
– И когда это все может произойти? – спрашиваю я.
– Скорее рано, чем поздно, – отвечает Уолтер Пенни.
– Я также хочу отметить, что представил этот пакет родителям Джейн, ныне покойной жены Джорджа. В ответ я получил «туда ему и дорога» – они более чем рады были бы отправить его в лес.
– Когда? – повторяю я вопрос.
– К концу этой недели, – отвечает врач. – Если случится что-то непредвиденное или нам придется передумать, мы хотим иметь возможность для маневра.
– Для того и предусмотрен пункт о сорока восьми часах, о котором я только что слышал?
– Первые сорок восемь часов – показательные, – говорит Уолтер Пенни. – Если человек выдержит эти двое суток, дальше почти наверняка все будет хорошо. Пока нам только одного пришлось изъять из программы.
– Джордж обо всем этом знает?
– Да, – отвечает главврач. – Мы с ним это проговорили.
– Я ему фотографии показывал, – добавляет Уолтер Пенни.
– У нас был сегодня утром неофициальный разговор о юридических последствиях.
– И что он думает?
– Если честно, – отвечает главврач, – то чувства у него смешанные.
– Что вполне понятно, – добавляет Мэнни.
– Да, – соглашается главврач. – Вы хотели бы его видеть, или боитесь?
Я молча смотрю на него в упор.
– Я же просто спросил.
Совещание заканчивается повторным рукопожатием с Уолтером Пенни, и я, как ни странно, поздравляю его с новаторским проектом, с боевым духом, с устремлением.
– Мы работаем на совесть, – отвечает он.
Трудно было бы отличаться от Уолтера Пенни больше, чем отличаюсь я, но по какой-то необъяснимой причине он мне нравится. Уолтер из тех ребят, которых хочется иметь в команде, когда машина ломается на далекой пустой дороге или когда самолет терпит крушение в снежных горах…
Джордж у себя в палате, один.
– Мне абзац, да?
Я сажусь на край кровати.
– Абзац мне, – повторяет он. – И лекарств не дают. Последний месяц сокращают и сокращают, снимают, так что сейчас я такой, как есть. О натюрель. Абзац мне.
– А нельзя на это посмотреть иначе? – Он поднимает на меня злые глаза. – Вроде как вытащил карточку «освобождение из тюрьмы»?
– Ты кретин, – говорит Джордж.
– Все-таки это не тюрьма и не дурдом.
– Они меня, блин, волкам скормят.
– Наверное, не время сейчас об этом говорить, но я твоему адвокату никогда не доверял. Он в одной постели с главврачом вот этого заведения.
– Они не в постели, а в родстве, кретин ты.
– Я не уверен, что они руководствуются твоими интересами.
– Так мне сейчас на переправе адвоката менять?
– Это позволило бы тебе выиграть время.
– Абзац мне! – Джордж в панике. – Меня шлют в глушь, в холодную ночь, жить среди людей, которые хуже зверей.
– Сейчас весна, Джордж. С каждым днем будет теплее и теплее, и каждая ночь тоже будет все теплее – близится лето, Джордж. Вспомни, как ты всегда хотел поехать пожить на природе. Ты же любил медведя Йоги и все такое, и ты страшно переживал, что у нас настоящего двора не было.
– Это же, блин, не Йеллоустонский парк! Мне запустили чип в шею и засадили противостолбнячную прививку – рука горит, раздулась, как бейсбольный мяч. А завтра против бешенства.
– Понимаешь, Джордж, выбор у тебя ограничен. Попробуй. Если не понравится, посмотрим, что еще есть.
– Ты всегда был таким дураком? – Джордж смотрит мне в глаза. – Помню, что ты туго соображал, но таким дебилом не был.
– Не знаю, что тебе сказать. Хочешь, расскажу малость, как живу, как дети, Тесси и котята?
– Что еще за Тесси?
– Твоя собака.
– Так бы и говорил, – бурчит он с интонацией «ну, теперь хотя бы понятно».
– Она благоденствует. – Джордж кивает. – Дети, похоже, тоже находят свой путь. – Он снова кивает. – Послушай, Джордж, я знаю, что это нелегко. Ситуация необычная – и что это заведение закрывается, и эта идея о новой программе, но если серьезно, может, ты смог бы обернуть ее себе на пользу. Ты делал такое, чего те парни не делали никогда. Пусть они воровали – ты тоже наверняка это делал, они убивали – и ты тоже. Но многие ли из них годами держались на работе или управляли телевизионными сетями? – Звучит так, будто я его воодушевляю, уговариваю вернуться на ринг: ты еще можешь один раунд провести, еще не все кончено. – Ты зол и страшен не меньше, чем эти парни. Помнишь, как ты меня укусил?
– Случайно.
– Вовсе не случайно, до крови. Кожу сорвал.
Джордж молча пожимает плечами.
– Я про то, что ты вполне сможешь. Помнишь, как мы надевали старую папину военную форму и играли в подвале? Ты – полковник Роберт И. Хоган.
Джордж произносит реплику из «Героев Хогана».
– Вот именно. – А затем цитирует еще одну фразу: – Вот это боевой дух. Ты сможешь. Далеко не загадывай, представь себе, что это летний лагерь «Аутвард баунд». И мы его штурмуем отсюда. О’кей?
Он кивает и отвечает по-немецки.
Когда я встаю, чтобы уйти, Джордж крепко меня обнимает. Пожалуй, слишком крепко. Я лезу в карман.
– Кое-что тебе принес, – говорю я, протягивая ему батончик «Херши» с миндалем.
У него выступают слезы на глазах. Бабушка всегда давала нам по батончику с миндалем: открывала свою огромную сумку, засовывала туда руку и вытаскивала – по одному на каждого.
– Спасибо, – говорит он. И снова меня обнимает.
– Можем переписываться. И я буду к тебе приезжать раз в пару месяцев, а у тебя все будет нормально.
Он шмыгает носом и отталкивает меня от себя:
– Какой же ты все-таки козел!
– Отлично, Джордж, – киваю я. – Будем держать связь.
И ухожу. «Какой же я все-таки козел». Что он этим хотел сказать? И хочется ли мне знать это? Такой я все-таки козел, потому что поехал, когда позвали, подтирал за ним блевотину, заботился о его жене – перестарался малость, – поливал его цветы, кормил его собаку, заботился о его детях. Какой же я все-таки козел.
Котята подросли. Мы с Эшли договорились, что одного оставим себе. Я послал ей по мейлу фотографию котят, но школьная система не позволяет их открывать на компьютере, так что я их распечатал и послал «Федексом». Мы решили оставить себе Ромео – маленького, черно-бело-серого, проказливого донельзя, явно единственного, с которого маме приходится глаз не спускать.
– Как ты будешь пристраивать остальных? – хочет знать Эшли.
– Добрым старым способом, – отвечаю я. – Встану где-нибудь с большой коробкой и надписью «Котята бесплатно».
На самом деле я, когда отбирал котят у мамы-кошки, чувствовал себя бандитом. Пару дней я забирал котят и уносил, а потом приносил обратно через несколько часов – думал, что так ей будет легче, чем если забрать сразу и насовсем.
Когда наступает тот самый день, я приношу из подвала пластиковую переноску для кошек и застилаю ее старыми полотенцами. В подвале нахожу древний карточный стол, на нем еще прилеплена наклейка лимонадного киоска – наверное, Эшли сохранила. Я переворачиваю постер и пишу на нем «Котята – бесплатно» большими красивыми буквами. Я готовлю документы – фото восемь на десять каждого котенка в отдельности, информация о матери, дата рождения, справка о всех прививках, которые им уже сделаны. Еще стартовые пакеты для каждого котенка с образцами корма и наполнителя.
Если вы спросите, откуда у меня взялась такая энергия, могу только сказать, что нашел в аптечке у Джорджа флакончик маленьких синих таблеток, на котором написано: «1–2 таблетки ежедневно сразу после пробуждения». Я принимаю парочку и примерно пять часов действую до изумления организованно. Много раз гуглил «маленькие синие таблетки», но в ответ выдается только «виагра», которая не круглая, а в виде ромба.
Когда я кладу котят в переноску, они начинают попискивать, кошка-мама нервно крутится под ногами, а Тесси на меня смотрит с пола так, будто хочет сказать: ну, Бог тебе судья.
Я еду к «Эй-энд-пи», где мы встретились с той женщиной: и ради шанса, что она опять покажется, и потому что стесняюсь располагаться возле обычного моего магазина, куда ездила Джейн с Джорджем. Не раз я ловлю на себе внимательные взгляды. Знают ли они, что это я, или думают, что это он, но в любом случае у меня такое чувство, будто я без одежды.
Я устраиваюсь на улице возле зоомагазина. С собой я привез переноску, фотографии, рулон клейкой ленты, образцы, большую картонную коробку, куда можно посадить котенка и поиграть с ним, не опасаясь, что он сбежит на улицу. Все готово, открываемся.
Первый клиент подходит ко мне из зоомагазина, на груди у него табличка: «Брэд – помощник менеджера».
– Что вы тут делаете? – спрашивает Брэд.
– Котят раздаю, – говорю я, хотя это и так видно.
– Мы продаем котят, – говорит он.
Я молчу.
– Вам придется убрать свой переносной магазин, – говорит Брэд.
– Извините.
– Вы конкурируете с нами.
– Но именно здесь каждую неделю стоит будка Ассоциации защиты животных от жестокого обращения. И они раздают животных в семьи.
– А вы тоже некоммерческая организация? – интересуется Брэд.
– Я их раздаю даром.
– Нечестная конкуренция, – говорит Брэд.
– Позвольте не согласиться, – говорю я. – Тому, кто возьмет этих котят, понадобится множество предметов плюс корм. Считайте, что эти пятеро котят – замануха.
– Замануха?
– Товар, что в магазинах продают себе в убыток, лишь бы заманить покупателя – потом он еще что-нибудь купит. Например, молоко – типичный пример заманухи.
– Давайте отсюда, – говорит Брэд. – Переносите свою деятельность к «Эй-энд-пи». Я вам помогу.
Он берется за край стола, и переноска скользит вниз.
Я хватаю переноску.
– Уберите руки! А то я сейчас позову полицию, а потом эта ваша корпорация как-ее-там вас ко всем чертям уволит.
– Я свидетельница! – заявляет какая-то пожилая женщина. – Я расскажу, как все было!
– Я же случайно! – уверяет Брэд, и я ему даже как-то верю.
– Судье будешь рассказывать, – говорит старуха и помогает мне перенести стол ближе к «Эй-энд-пи».
– Котеночка хотите? – спрашиваю я.
– Совершенно не хочу, – отвечает она. – Животных не люблю почти так же, как людей. Муж говорит, чтобы я все покупала только в онлайне – в мире гораздо спокойнее, когда я сижу дома и никого не трогаю. Он говорит, у меня скверный характер. – Она пожимает плечами. – А у него еще хуже.
– Вы давно женаты? – спрашиваю я, раскладывая документы и пакеты с кормом и наполнителем.
– С сотворения мира, – отвечает она и уходит.
Подходит не по сезону тепло одетая молодая женщина в пальто и шарфе, на руках у нее висит множество пакетов с продуктами. Она опускает их на землю.
– Можно одного подержать? – спрашивает она.
Я беру из переноски котенка и даю ей. Женщина подносит его к лицу, трется щекой, носом, губами.
– М-м-м, – говорит она, причмокивая. У котенка вид напряженный. – Такой нежный, как птенчик.
Я протягиваю руку к котенку.
– Давайте положим его в коробку, здесь его можно погладить.
Она послушно выполняет указание и опускает котенка в коробку, потом спрашивает, можно ли посмотреть другого. Я убираю первого и даю ей другого.
– У вас животные в доме есть? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает она. – Правила запрещают.
– Агги! – кричит какая-то женщина издали, заметив ее. – Мы же тебя повсюду ищем. Договорились же встретиться у выдачи покупок, ты что, забыла? Чьи это у тебя пакеты?
– Мои, – отвечает Агата, выпуская из рук второго котенка.
– Где же ты деньги взяла на эти покупки?
– Родители прислали.
– Они же хотели, чтобы ты тратила их понемногу каждую неделю, а не все сразу.
Агата пожимает плечами – ей все равно.
– Вот у него котята есть, – говорит она. – Такие милые.
– Это хорошо, – отвечает женщина. Она явно моложе Агаты. – Ну а теперь пошли быстрее, все остальные нас ждут.
Я глазами провожаю Агату. Вижу, как она подходит к остальной группе, и они парами, держась за руки, идут через парковку извилистой чередой, как на фотографиях Дианы Арбус.
– Котята возврату подлежат?
– Простите?
Прямо передо мной стоит женщина с сумкой размером с мешок для листьев.
– Если я возьму одного и меня он не устроит, я могу его принести обратно?
– Не устроит – в каком смысле?
– Ну, не понравится моей собаке, или мужу, или детям – я могу его сдать?
– Похоже, у вас полный набор в доме.
– Да, – кивает она. – Хочется нового ребеночка.
Мне она не нравится. Не нравится, как она встала прямо передо мной вплотную, мне очень хочется, чтобы она ушла.
– Может, вы еще подумаете, пока будете делать покупки, а потом снова ко мне подойдете? Я здесь долго буду.
Окрестности «Эй-энд-пи» и окружающего ее молла – совсем другой мир. Подозрительно отсутствуют мужчины от двадцати пяти до шестидесяти, избыток пожилых пар, женщин с младенцами и болтающихся среди публики безработных, раздающих флаеры. Ко мне подходит женщина с близнецами:
– Можно нам котенка? – спрашивает девочка.
– Можно? – эхом повторяет мальчик.
Дети в радостном восхищении смотрят в переноску.
– Сколько их там? – спрашивает мальчик.
– Пять, – отвечаю я.
– Тут много, – говорит девочка матери.
– А что папа скажет? – сомневается мать.
– А его все равно никогда дома нет, – отвечает мальчик.
Я кладу в коробку двух котят, чтобы каждому из них можно было поиграть со своим.
– Давайте я с папой выясню, – говорит мать, длинными ногтями вбивая текстовое сообщение. Через секунду приходит ответ – она показывает его мне, чтобы я сам прочел. Там говорится: «Сделай, как считаешь нужным».
– Наверняка это автоматический ответ, – говорит она. – У него смартфон, можно автоответ запрограммировать. Вот смотрите. – Она снова вбивает текст: «Тебе на ужин курицу или стейк?» И приходит ответ: «Сделай, как считаешь нужным». – Понимаете, о чем я? У него наверняка интрижка.
– Зачем ты всегда так говоришь? – спрашивает дочь.
– Я же не дура, – отвечает женщина. – Я в Йеле училась. – Она оборачивается ко мне. – Мы двух возьмем. Нам ничего по одному брать нет смысла.
– А можно, пойдем в зоомагазин и купим вот такую переноску, как у него? – спрашивает девочка.
– Да, – отвечает мать.
– И еды, и игрушек для них? – спрашивает мальчик.
– И какую-нибудь одежду, чтобы я их наряжала? – добавляет девочка.
– Мы сейчас придем, – говорит мне мать. – Отложите для нас вот этих двоих.
Она верна своему слову: через десять минут они возвращаются с большим пакетом кошачьего корма, наполнителя и с двумя красивыми переносками. Я кладу обоих котят в одну.
– На радость, – говорю я.
– Уже радуемся, – отвечает мальчик.
Что-то происходит: переменяется настроение, как меняется поверхность моря, как чуть усиливается бриз перед весенним штормом. До меня начинают долетать обрывки, кусочки разговоров, и все вокруг двигаются чуть-чуть быстрее.
– Я знаю ее мать…
– Она в лагере была с моими детьми…
– Обычные люди, такие же, как мы…
– Да никогда не знаешь, что у кого на уме…
Очевидно, пропала девушка.
Возле моего стола останавливается старик с женой. Две фигуры с сутулыми плечами и согбенными спинами составляют комплект, как солонка и перечница.
– А похоже, сегодня тот самый день, – говорит старик своей жене.
Они улыбаются. Лица у них открытые и приветливые, добродушные вопреки воздействию времени.
– Хорошо бы, – говорит она и поясняет мне: – Наша умерла недавно. Ей было девятнадцать.
Я киваю, не очень понимая, то ли мы говорим о кошке, то ли о пропавшей девушке.
– У вас есть такой, чтобы зрелым был для своего возраста? – спрашивает старик.
– Игривый, независимый и умный, – добавляет его жена.
Я смотрю в переноску и вытаскиваю того, которого назвал бы задумчивым.
– Красивый, – говорит жена, поглаживая выложенного в коробку котенка.
– Могу дать вам образцы корма, который они получали, и наполнителя. Котята здоровые, наблюдались у ветеринара, первые прививки сделаны.
– Последнюю нашу кошку мы взяли у девочки вот в таком же киоске – она продавала герлскаутские печенья и раздавала котят.
– Предпринимательница, – говорит старик. – Мы ей дали двадцать баксов.
– Надеюсь, котенок вам понравится.
– Я тоже так думаю, – говорит муж и уходит, извинившись, за картонной коробкой в магазин. – Чтобы было куда его положить, когда домой поедем.
На той стороне парковки какая-то женщина клеит объявления на фонарные столбы, на бетонные опоры.
«ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК»
– Это очень тревожно, – говорю я старушке.
– Как вы думаете, куда девушка могла деваться? – спрашивает она.
Ее муж возвращается с пустым ящиком из-под бананов, мы кладем туда котенка. Я даю им образцы корма и наполнителя, свой телефон, а потом вспоминаю, что обещал Эшли, и прошу:
– Нельзя ли спросить, как вас зовут, где живете и ваш телефон – ну, просто на случай, если надо будет связаться?
– Удачная мысль, – говорит женщина и великолепным почерком записывает свои координаты.
Из зоомагазина выходит Брэд и направляется ко мне.
– Перерыв у меня, – сообщает он с интонацией, с которой говорят «Перемирие». – Сколько у вас осталось?
– Два.
– Можно взглянуть?
Я вынимаю котят.
– Понимаю, что у нас вышла некоторая размолвка, – говорит Брэд. – Но если вы согласны ее забыть… я бы хотел этих двоих взять себе.
– Но вы же продаете котят, – говорю я. – И наверняка для вас есть скидка.
– Те, что мы продаем, они как инкубаторские. А вот эти – настоящие котята, выращенные с любовью. – Он протягивает руку, будто мы раньше не виделись. – Меня зовут Брэд. – Мне ничего не остается, как пожать ему руку. – Ну так как? Допустима вторая попытка?
– Надеюсь.
– Я всегда любил животных.
– Зачем бы иначе работать в зоомагазине?
– Когда мы жили в Аризоне, я работал в зоомагазине у дяди – в основном мы продавали ящериц. У меня самого есть ящерица «бородатый дракон», – говорит он, – но не вижу, чем это помешает коту. Дракон живет в большом отапливаемом террариуме. Они очень капризные, драконы.
– Вот уж не знал, что на свете есть одомашненные драконы.
– Ну а как же, – отвечает Брэд. – Так как?
– Забирайте, – говорю я и отдаю ему котят, картонную коробку и оставшиеся образцы.
– Я же их избалую невероятно, – вздыхает Брэд.
Выполняя свой долг, я записываю его фамилию, адрес и телефон и говорю, что на следующей неделе проверю и рассчитываю увидеть фотографии.
– Я очень благодарен, серьезно, – говорит Брэд. – И если я чем-то смогу вам быть полезным, только дайте знать.
– Спасибо, – отвечаю я, прищемляя себе палец, когда складываю стол, но в целом довольный, что удалось «завершить операцию» на радостной ноте.
Через парковку ползет полицейская машина. Вдали пропускает детей на перекрестке регулировщица школьного перехода. Она, распахнув руки, делает живой щит из своего тела, оранжевого жилета и форменной кепки, а дети струятся мимо, не замечая ее.
Я все думаю о пропавшей девушке. Не знаю, почему, но чувствую себя виноватым, будто я как-то с этой историей связан. Раньше у меня такого ощущения не бывало, и как-то оно вползает под кожу. Из-за женщины, встреченной возле «Эй-энд-пи», из-за Эшли, из-за Джейн, из-за того, что теперь я воспринимаю все острее, чем раньше, из-за того, что не могу перестать думать…
Мир вокруг меня такой новый, такой случайный и такой несвязный, что всех нас подстерегают опасности. Мы разговариваем в онлайне, мы друг друга френдим, когда даже не знаем, с кем говорим, мы трахаемся с незнакомыми. Мы почти все принимаем за отношения, за какую-то общность, а со своими родными, в своем реальном обществе мы беспомощны, нас замыкает накоротко, и мы сразу ныряем обратно в цифровую версию мира, потому что там легче, там мы и больше похожи на себя и ближе к нафантазированной версии себя самих, и оба эти варианта равноправны.
Я останавливаюсь возле «Старбакса». Внимательно рассматриваю постер, приклеенный к телефонному столбу снаружи. Это женщина из «Эй-энд-пи»? Вряд ли на самом деле, но я точно не знаю. Пытаюсь вспомнить, как она выглядела. Помню серовато-белокурые волосы – у пропавшей девушки тоже такие. Помню груди – они оказались больше, чем я думал, бледные, с красивыми голубыми жилками, будто древняя река под поверхностью кожи. Лицо было простое, невыразительное, а глаза синевато-серые.
Вот интересно: как вообще человек воспринимает другого человека?
На углу возникает телевизионный фургон, выдвигает вверх спутниковую тарелку.
Внутри в «Старбаксе» плачут девушки за стойкой. Очевидно, пропавшая тут летом подрабатывала, они все ее знают. Я выхожу, не выпив кофе, – очень уж тут печально.
На дорожку к дому я сворачиваю в совершенно уже мрачном настроении. Заношу в дом пустую переноску. Металлическая дверца кошачьего дома распахивается на ходу и снова захлопывается, прищемив мне палец. Я сделал ужасную вещь: взял то, что мне не принадлежит, – детей мамы-кошки – и отдал чужим людям.
Вхожу с пустыми руками. Кошка подходит, обнюхивает меня, проверяет переноску, и до нее будто доходит. Она удаляется под диван. Тесси даже не дает себе труда встать, пока я не ставлю перед ней ужин.
Шестичасовые вечерние новости начинаются с экстренного сообщения – о пропавшей девушке. Хизер Райан, двадцати лет, приехала домой на уик-энд навестить родителей. «Сообщается, что Райан вчера вечером вышла на пробежку и не вернулась. Согласно заявлению полиции, родственники особенно обеспокоены тем, что у девушки есть некоторые проблемы и что последние дни она принимала новое лекарство в связи с травмой головы, полученной при игре в баскетбол. Часто говорят о травмах в футболе у мужчин, но сейчас, когда и в женском спорте конкуренция становится более жесткой, травмы подобного рода бывают все чаще. Прошлой осенью во время баскетбольного матча в Ледюк-колледже она получила удар…»
Репортер продолжает трещать, пока на экране показывают запись, как мяч отскакивает от головы Хизер, голова резко дергается влево, а другая девушка в это время сбивает Хизер с ног.
– Подобные многократные сотрясения мозга нас настораживают, – говорит врач, к которому обратились за комментарием. – Эти повторяющиеся удары мозга о внутренние стенки черепа.
Репортер заканчивает обращением:
– Если кто-то видел Хизер или что-либо знает о ней, звоните по нашей «горячей линии».
Вот как. Значит, у пропавшей девушки – проблемы? А какие? Она не может назвать свое имя? Или живет в каком-то замутненном состоянии сознания? И кто – или кем была – эта женщина из «Эй-энд-пи»? Что-то в ней было странное, во всей этой встрече, что-то такое, что она подчеркнуто избегала мне рассказывать. Должен ли я кого-то проинформировать, позвонить по этой «горячей линии» и оставить свои жалкие признания?
Я обдумываю мучающий меня вопрос и решаю, что все это игра моего воображения, и девушка, с которой я встретился, на пропавшую совсем не похожа. Я пытаюсь сделать набросок, воссоздать то, что помню. Рисую какой-то овал в качестве головы, потом шею – я помню, она длинная, – потом плечи и ниже, но на самом деле запомнились мне только груди. Рисую их снова и снова, а потом возвращаюсь, пытаюсь восстановить шею, голову, лицо. Интересно, остался ли образец ее ДНК на банке с дижонской горчицей. У меня на органе должны бы остаться, но я с тех пор не раз мылся в душе. Вспоминаю все, что она говорила и делала, думаю про украденный телевизор, про товары у нее в магазинной тележке, замечание насчет торта с глазурью и без. Вот непонятно – похоже ли было, что она потерялась? И еще интересно, не могут ли ко мне заявиться для снятия отпечатков с мебели? Вывожу Тесси на прогулку, обхожу дом и двор, думая, не прячется ли кто-нибудь здесь поблизости.
Все время крутится мысль: как это девушка могла вот только что быть, а в следующий миг пропасть? Как вообще можно украсть человека? Применить физическую силу? Психологически переиграть? Дело тут в том, что женщины, мальчики и девочки слабее взрослых мужчин, которые их просто хватают и тащат на другой край земли? И это происходит в какой-то темной воронке, в проломе реальности, будто открывается дверь на темную сторону и кого-то туда затягивают?
К восьми часам я довел себя до лихорадки, волнуясь о пропавшей девушке, обо всех девушках, где бы они ни были, а заодно и о котятах. Хорошо ли им – или же они в своих новых домах плачут и царапаются, готовые отдать что угодно, лишь бы вернуться в безопасный мир, где есть Мама?
Как мы вообще выживаем? Любой из нас?
В четверть девятого я уже не могу больше выносить собственный душевный раздрай и звоню Эшли в школу – просто проверить, как она там.
Там какое-то замешательство: ее нет. Я прошу позвать ее соседку по комнате, та передает меня воспитательнице общежития, которая мне рассказывает, что школа решила переселить Эшли.
– Я думала, вы знаете, – говорит она мне.
– Понятия не имел.
– Она сейчас живет вместе с одной преподавательницей. Дать вам номер?
Я звоню на номер, попадаю на автоответчик, оставляю сообщение. Через несколько минут Эшли перезванивает, и голос у нее напряженный.
– Что случилось? – спрашивает она.
– Ничего не случилось, – отвечаю я. – Хочу узнать, как ты там.
– Ты обычно не звонишь вне графика.
– Сюрприз. – Что-то не так у Эшли, по голосу слышно. – Я тебя ни от чего важного не оторвал?
– Нет-нет, – говорит она. – Я как раз сейчас уроки делаю.
Врать она не умеет совершенно, но я не подаю вида.
– Что сегодня было на ужин?
– Рыба, по-моему.
– А что за рыба?
– Не знаю. С таким соусом, желто-оранжевым.
– И ты ее ела?
– Нет.
– А что ты ела?
– Был вегетарианский вариант: фаршированные ракушки и салат.
– А остальное все в порядке?
– Вроде бы да, – отвечает она.
– Ну, хорошо тогда. Тогда я прощаюсь, а поговорим завтра, в обычное время.
– Спасибо, – говорит она.
Я вешаю трубку с неловким ощущением, будто влез во что-то непонятное.
В одиннадцать вечера по телевизору показывают репортаж из парка, где девушку видели последний раз. Это тот самый парк, где я выгуливаю Тесси, где у меня был приступ рыданий. В этом парке бегают стайками женщины в забеге «Забери ночь обратно» и закидывают кроссовки на телефонные провода. Полиция расследует разные версии, но на данную минуту новой информации нет.
Я открываю для кошки банку лосося, она интереса не проявляет. Оставляю банку на столе как мирное подношение и иду наверх спать. Никто из зверей за мной не идет.
Жизнь продолжается – это ложь. Я думаю, не пойти ли мне волонтером в одну из групп, которые прочесывают окрестные леса, но боюсь, как бы меня не узнали – и не сделали какие-нибудь выводы.
На следующий день я пытаюсь отвлечься на книгу, и это получается. Работаю час или два, переставляю абзацы с места на место, потом возвращаю их обратно.
Сажусь в машину, езжу кругами и спрашиваю себя: что же я делаю? Так ее ищу, что ли?
Думаю о местах, где люди собираются, сходятся и переживают целыми группами. В «Старбакс» я не могу – это слишком близко, вроде как эпицентр взрыва. Нахожу предлог – электрическая лампочка – и еду в хозяйственный магазин.
Там собрались мужчины и ведут себя как мужчинам положено: притворяются, будто они не тревожатся, притворяются, будто человеческое им чуждо, но все же им хочется быть вместе.
– Я ходил с ними вчера – лес прочесывали. Возил их на своей машине.
– Стыд и позор какой-то…
– Да найдут ее, девчонки часто из дому сбегают…
– Сейчас уже нет. Раньше так было, сейчас стараются поближе к дому держаться, бегать опасно стало.
– Откуда вы знаете?
– Сам трех воспитал…
Жизнь продолжается, но я не понимаю, как можно жить по-прежнему, когда человек пропал. Жизнь останавливается; хуже того, она превращается в ад на земле, невозможно не сходить с ума от страха и неизвестности. Мысль зацикливается и мечется по кругу, не может покинуть его, потому что хоть на миг перестать об этом думать – значит забыть, перестать посылать поисковые сигналы – значит дать ей провалиться в трещину.
Краем глаза вижу у кассы Делилло. Не могу сказать, слушает он разговор или нет – он покупает клейкую ленту, респираторы и фонарь.
– Собираете аварийный пакет? – спрашивает его кассир.
– Весенняя уборка.
Он взглядывает на меня, рассеянно, мы встречаемся глазами, но я тут же отвожу их.
Покупаю лампочки. Почему-то мне хочется им всем крикнуть: «Вы ничего не видите, ничего не хотите знать, а мир изменился, поднялось какое-то зло, подобное змию из ада, высунуло из подполья чешуйчатую голову и схватило кусок свежатинки!»
А разговор у них такой пригородный, такой безмозгло-местный, что это невыносимо. Я выхожу, почти выбегаю, хватая ртом воздух.
Паническая атака, будто на меня вдруг обрушились мое знание о разновидности этой тьмы, мои не совсем отрешенные переживания на такие темы.
Я напоминаю себе, что это сделал не я. Но даже просто знать, просто чувствовать, просто быть более других знакомым с импульсами, позволяющими творить такие вещи, – от этого неуютно. Сам себе кажусь отдельным от себя человеком, подозреваемым. Собственная деградация, отвратительное впадение в прелюбодеяние, внутрисемейное убийство – мысли о них подступают и выводят меня из строя.
А она, оказывается, у меня на крыльце и ждет, будто ничего и не случилось.
– Мне стало страшно, что тебя нет.
– В каком смысле нет?
– Что это ты пропала.
– О чем ты?
– О той девушке.
– Какой?
– Ты что, слепая? Ты не видишь объявления по всему городу и телевизор не смотришь?
Она молчит. Все она знает, но говорить об этом не хочет.
– А я тебя видела, – говорит она. – Возле магазина, ты котят раздавал.
– Ты там была?
– Это мой магазин.
– Что же ты ничего не сказала?
– Мне нравилось на тебя смотреть.
– А что я делал?
– Котят раздавал.
– Ты за мной подглядываешь?
Она меняет тему:
– Ты всех котят раздал в хорошие руки?
– Одного пришлось оставить.
– Для дочки?
– У меня нет детей.
– Ага-ага, – говорит она так, будто я вру. – Ты их просто одолжил на время…
– Хочешь знать правду?
Она молчит.
– Мой брат, владелец этого дома, сошел с ума.
– Ну и что? Свой псих в каждой семье есть.
– В этом доме произошло убийство.
Я сам думаю, не потому ли я заостряю фразы, что она меня раздражает.
– Правда?
Едва заметно киваю, будто вдруг понял всю жуть своих слов.
– Это еще до того, как ты дом купил?
– Я же сказал, это не мой дом.
– Ага, ага. Не врубилась еще. – Она кладет ногу на ногу, устраивается поудобнее, собирается. – Ладно, готова слушать.
И все оказывается так коротко, будто вся история всосалась обратно в глубокий эфир, будто джинн трагедии устремился обратно в бутылку – моя собственная вина, мое понимание, что я еще ни с кем на самом деле об этом не говорил.
– Мой брат убил жену.
Долгая пауза.
– Намеренно?
– Трудно сказать, – отвечаю я.
– Это ужас.
– Жуть, – соглашаюсь я и понимаю, что если не считать звонка в «Скорую», когда Джордж убил жену, я никому еще об этом не рассказывал.
– Да, это и правда меня огорошило. Ты сам это придумал? Вроде городской легенды-страшилки?
– Зачем? Это увеличило бы мою привлекательность? Вот такова моя большая тайна, а у тебя какая?
Я пытаюсь ее разглядеть. Какого цвета у нее глаза? Почему ничего не осталось у меня в памяти? Я думаю снять ее на телефон – ее с котенком, что-то, за что можно зацепиться, проанализировать, предъявить как вещественное доказательство, если надо будет. Она одета небрежно, и это ее молодит. Волосы не светлые и не темные, не густые и не редкие, обрамляют лицо, как у сотни других. Она похожа на всех и ни на кого. Только руки слегка ее выдают: кожа на пальцах немного дряблая, а они тонкие и хрупкие, почти как у обезьянок. Несколько коричневатых пигментных пятнышек на тыльной стороне руки – возраст. Я смотрю ей в лицо. Она и похожа и не похожа на пропавшую, чью фотографию я распечатал и положил по центру стола Джорджа.
– Ты не хочешь мне рассказать?
– Перестань, а? – просит она. – Ты меня отпугиваешь. – Она переводит дыхание. – Почему ты не спрашивал у них, есть ли в доме другие животные, станет кошка жить в доме или на улице и не будет ли новый владелец так добр послать тебе фотографии котенка?
– Насколько близко ты подобралась?
– Ты не в настроении, я пойду, наверное, – говорит она, но не двигается с места. – Я видела ту сцену, когда ты заспорил с продавцом из зоомагазина, и пришлось перенести стол.
– А ты видела, что мы помирились, и я ему двух последних котят отдал?
Она отрицательно мотает головой:
– Наверное, я ушла раньше.
– Мне нужно что-нибудь о тебе знать.
– Я играю на флейте, – сообщает она.
– Еще что-нибудь.
– Диплом по французской литературе, библиотечное дело дополнительно.
Я киваю.
– Хотела вырасти и стать шпионкой, – говорит она.
– И на кого хотела шпионить – на нас или на них?
– На них, – отвечает она не задумываясь. – Никогда не считала себя одной из нас.
– С чего ты решила сегодня сюда прийти?
– В прошлый раз я у тебя видела дождевой душ в ванной и подумала, не позволишь ли ты мне его попробовать. Я тебе даже подарок привезла.
– Какой?
– Я его съела. Была распродажа выпечки, я купила две слоечки, а потом заехала в «Макдоналдс» кофе выпить. И по пути сюда обе сжевала.
– Наверное, не надо было тогда говорить, что везла мне подарок.
– Просто хотела быть честной. Так что я теперь на сахаре и энергична, даже эйфорична слегка.
– Ладно, душ твой. Сейчас чистое полотенце принесу.
Я сижу на кровати и смотрю, как она раздевается – кажется, это входит в программу, она хочет, чтобы я смотрел.
– Секс не обязателен, – говорю я. – Совершенно не нужно, чтобы ты натурой расплачивалась за душ.
– А если я хочу секса?
– Не знаю, хочу ли я. У меня слишком много сейчас тяжести на душе. Не знаю даже, смог ли бы я.
Она кривит лицо в гримасе.
– Никогда не слышала, чтобы мужчина такое сказал сразу. Обычно уже потом, после беканий, меканий, и когда выясняется, что у него жена есть.
– Я в разводе, – говорю я, встаю и выхожу, оставив ее принимать душ в одиночестве.
Пользуясь минутой, просматриваю ее сумку – ищу какие-нибудь зацепки. Нахожу огромный старый бумажник, почти пустой, а на дне сумки – водительские права. Прочитав имя, тут же в панике кладу их обратно и закрываю сумку. Хизер Энн Райан. Это так пропавшую звали? Я в недоумении.
Когда она выходит, я спрашиваю:
– У тебя есть шрамы от спортивных травм?
– Я не слишком спортивная, – отвечает она.
И идет ко мне, влажная еще после душа.
Это она? Она и есть пропавшая девушка? У нее что-то вроде психотического срыва и амнезии? Очень расплывчаты, неконкретны все ее ответы.
– Кто ты? – спрашиваю я.
– А как бы тебе хотелось? – отвечает она, сбрасывая полотенце.
И тут же на меня накидывается.
Много шума, тяжелое дыхание. Начинает лаять собака, кошка запрыгивает на ночной столик, глядит на нас, выгибается дугой, прыгает мне на спину и дерет когтями. Я вскрикиваю.
– Пойду я, – говорит она, когда все заканчивается.
– Ты точно не хочешь еще раз в душ?
– Нет, все нормально. Но это было приятно, люблю дождевой душ.
– А телефончик, может, оставишь? – спрашиваю я, пока она одевается.
Она мотает головой.
– Откуда же мне узнать тогда, все ли у тебя в порядке? Очень неприятно волноваться, не случилось ли с тобой что-нибудь.
– Я не из тех, с кем что-нибудь случается.
– Но я так не могу, – говорю я. – Не могу, чтобы приходила безымянная женщина и имела меня в моем доме.
– Это не твой дом, – отвечает она, застегивая «молнию».
– Мы хоть когда-нибудь поговорим нормально?
Она надевает туфли и встает.
– Не знаю, что и сказать.
– Ты меня пугаешь, – признаюсь я.
– Мужчины не пугаются. Можно нам обойтись без выяснений? Я слышу, как ты напрягаешься, – но мне и правда пора.
– Куда?
– Туда, откуда я приехала.
– Похоже, мы толчемся на месте.
– Но мы же разговариваем, вот прямо сейчас, – говорит она.
– Возьми что-нибудь, – предлагаю я.
Она на меня смотрит:
– Что?
– Телевизор возьми.
– Не смешно.
У нее звонит сотовый, она смотрит на него.
– Бойфренд? – спрашиваю я.
– Нет.
Она выходит, и я запираю дверь. Обхожу весь дом, опуская жалюзи. Слишком я на виду.
Телефон звонит в десять утра.
– Мистер Сильвер?
– Простите, а кто это?
– Я Сара Зингер из «Академии Аннандейл».
– Да.
– Вам удобно разговаривать?
– Да, но должен предупредить, что я Сильвер-дядя, а не Сильвер-отец.
– Мне это известно. – Долгая пауза, и она начинает снова: – Мистер Сильвер, мне немного неловко…
Я не тревожился, но сейчас она вдруг овладела мною – тревога, и глубокая.
– Что-то с Эшли?
Сара Зингер не отвечает.
– Вы знаете, где сейчас Эшли?
Единственная у меня мысль – о пропавшей девушке.
– Мистер Сильвер, если вы меня выслушаете…
– Она жива? – ору я в телефон.
– Разумеется, жива. Я не хотела вас пугать. Она на уроке английского до одиннадцати двадцати, потом у нее естественные науки с одиннадцати тридцати до двенадцати тридцати. – И она снова замолкает.
– Наверное, вы не знаете, что у нас тут случилось. Пропала одна местная девушка, и это очень тревожно.
– Прошу прощения, – говорит миссис Зингер. – Для человека вроде вас это должно было быть тяжело.
– В каком аспекте – вроде меня?
– Бездетный мужчина, вдруг оказавшийся в роли папы.
– Мне хочется думать, что я отлично адаптировался.
– Я уже сказала, что ситуация из тех, в которые никакая школа попадать не хотела бы. Мистер Сильвер, в курсе ли вы, что Эшли во время весенних каникул активно общалась по телефону?
– Да, – отвечаю я. – Эшли трудно было засыпать, и оказалось, что поговорить с кем-нибудь – помогает.
– Знаете ли вы, с кем она говорила?
– Сказала, что разговаривает с кем-то из друзей.
– Боюсь, это было преуменьшение.
– Преуменьшение чего?
– Там дело не ограничивается дружбой. Как бы правильнее сказать? Простите, мне трудно… – она замолкает на миг. – Мистер Сильвер, у Эшли любовная связь.
Вот при всем при этом я испытываю облегчение.
– Она очень молода, но в целом это вполне нормальное развитие событий.
– Не с мужчиной.
– Что в женской школе не должно быть удивительно. Многие девушки проходят через лесбийскую фазу, разве не так?
– Она сношается с завучем младших классов.
– А!
– Я вполне понимаю, что у Эшли был очень тяжелый год, но так не годится.
– Конечно.
– Я рада, что вы согласны, – говорит она с облегчением, но что-то в ее голосе выдает, что она обвиняет Эшли – жертву.
– И какие объяснения дает завуч младших классов?
– Я не уполномочена вам это сообщать. – Она делает паузу.
– Вы мне не хотите сказать, что именно случилось?
– Когда Эшли после смерти матери вернулась в школу, мы решили, что ей лучше жить вместе с завучем младших классов.
– Вы ей разрешили переехать к этой женщине?
– Это рассматривалось как временная мера. Мы тогда считали, что это может быть полезно для Эшли – иметь возможность обратиться к кому-либо в любой момент, в случае плохого сна или просто необходимости поговорить.
– Так это Эшли трахает завуча младших классов, или же завуч младших классов трахает ее? Кто из них взрослый, миссис Зингер, и кто ребенок? И риторический вопрос, миссис Зингер: у кого из них большая проблема?
– У завуча младших классов долгосрочный контракт со школой.
– Совращение ребенка – вполне законный повод для прекращения или аннулирования контракта.
– Боюсь, что никто, кроме Эшли, не подтвердит этого факта, – говорит миссис Зингер. – При этом я хотела бы заверить вас, что мы рассматриваем ситуацию как весьма серьезную и разберемся с ней сами весьма тщательно.
– Миссис Зингер, на нас лежит огромная ответственность. Мы как супергерои – не имеем права подводить наших детей.
– Естественно, мистер Сильвер. Поэтому я вам и звоню.
– Как вскрылась эта ситуация?
– К ней привлекло наше внимание некое лицо, пожелавшее остаться неизвестным.
– Я могу поговорить с Эшли?
– В начале нашего разговора я сообщила, что она в данный момент не может говорить – у нее английский, потом естественные науки, потом ленч.
– Вы ей передадите, чтобы она мне позвонила?
– Это само собой, но я надеюсь, вы не будете посвящать ее в детали нашего разговора.
– Я не буду этого обещать, но вы должны знать, что я озабочен. Как опекун девочки, столько пережившей дома, я надеялся, что в школе ей ничего не угрожает.
– Мистер Сильвер, обстоятельства меняются, и мир уже не таков, каким был когда-то.
– Кстати, миссис Зингер: другие ученицы знают?
– Насколько мне известно, нет.
Она глубоко вздыхает. Подозреваю, что на самом деле она вытаскивает сигарету.
– Вопреки рекомендации юриста – мой бывший муж юрист, и он учил меня этого не делать, – я хотела бы дать вам свой домашний и сотовый – на случай, если вам понадобится со мной связаться.
Записывая номер, я одновременно набираю эсэмэску Черил.
«Срочно», – пишу я.
«Мотель?» – тут же предлагает она.
«Скорее суп и сандвич».
«У меня есть дела», – отвечает она через какое-то время.
«Мне нужна помощь».
«Какого рода?»
«С детьми связано».
«Ладно. Встречаемся в ресторанном дворике молла в час. Я буду возле замороженного йогурта».
«Спсб», – печатаю я.
Она все же выкроила для меня время.
– Здесь главное не облажаться, – говорит Черил, скармливая мне хрустящие макароны и холодную курятину из китайского салата.
Волосы у нее сегодня белокурые, стриженные под пажа.
– Это парик?
– Нет, новая прическа. Послушай, если ты попрешь на Эшли, она замкнет створки, и ты ничего не добьешься. Тут не явное изнасилование, а скорее как в «Лолите».
– Мне пойти в полицию? Или от этого будет хуже?
Она мотает головой:
– Держи руку на пульсе – если только девочка сама не решит втягивать власти. Если не захочет и если все будет строиться на ее словах, может выйти неприятно и хуже для нее в долгосрочной перспективе. Тебе надо с ней поговорить, дать ей понять, что тебе все известно. Ты должен стать человеком, с которым она может поделиться своими чувствами – или не поделиться. И между делом спроси, как она насчет того, чтобы об этом сообщить. У одних бывает ощущение, что все это не взаправду, пока не сообщено. А другим легче умереть, чем начать об этом разговаривать.
– А может, все это крупная ложная тревога? – предполагаю я. – Может, Эшли влюбилась в завуча младших классов, и это было скорее материнское отношение, платонически-эмоциональное. Вот не думаю, что произошло много именно сексуального – не уверен, что Эшли даже знает «про это».
– Ты на какой планете живешь? – спрашивает Черил. – Эти детки на ходу подметки рвут и нигде своего не упускают. Можешь чем угодно ручаться, что училка все это выдала под маской родительской ласки или учительской заботы – уроки давала. Спроси, применяли они там фрукты или овощи?
– Овощи?
Она на меня смотрит как на идиота.
– Мой муж научил сына надевать презерватив на банан, а когда мою подругу дочка спросила, какое это ощущение – когда внутри у тебя пенис, та ее подвела к овощному контейнеру и сказала: «Мужские гениталии – как овощи, всех форм и размеров бывают. Есть морковки, кабачки, парниковые огурцы». Она очень радовалась, говоря своим девочкам, что в случае нужды можно душевые колпачки отеля применять как устройства контроля рождаемости. «И что бы ты ни делала, «это» никогда не должно попадать ни в тебя, ни на тебя. «Это» – как суперклей, который ни с одежды, ни с волос не сведешь, и быть им измазанной очень стыдно. Если мужчина тебя уважает, он свою «разрядку» направит куда угодно, только не в тебя, а если не уважает – пусть обратит свое внимание на кого-либо другого».
– И родители действительно говорят с детьми вот так прямо?
– Дети любопытны, и они все равно узнают – так лучше, пусть от тебя. И еще: поскольку твоя племянница уже почти подросток и у нее нет матери, тебе нужно найти женщину-врача, специалиста по подростковой медицине.
– Я не знал, что такие есть.
– Так будет лучше. Не стоит ей о месячных говорить с доктором Фауст.
– Откуда ты знаешь, что она ходит к Фауст?
Черил закатывает глаза:
– Да потому что туда все ходят, – говорит она и просит меня взять ей обезжиренный йогурт с радужными брызгами. – Спорим, тебе любопытно, почему я сама не хочу попросить?
Я не собираюсь спрашивать.
– Девушка за стойкой – бывшая подружка моего сына Брэда. Я его уговорила ее бросить. Если я буду заказывать сама, как бы она мне визина не подлила.
– Визина?
– От него понос бывает. Говорят, стюардессы его капают в выпивку в самолете неприятным пассажирам.
– Типичная городская легенда.
– Оставайся при своем мнении, – отвечает она, посылая меня за йогуртом.
– Понос может случиться от непереносимости лактозы.
Она задумывается:
– Про это я не подумала. Так ты принесешь мне йогурт?
Я возвращаюсь с густо посыпанным йогуртом и ложечкой.
– А себе ты не взял?
– Хотел было, но девушка за стойкой – невероятная стерва.
– Я же тебе говорила. Потому-то я и упросила Брэда ее бросить. Хочешь? – Она протягивает ложечку, я открываю рот, и она меня кормит.
– Ты не боишься, что нас увидят?
Она отрицательно качает головой.
– Почему?
– Я скажу тогда, что ты – больной с инсультом, а я – сиделка-волонтер. – Она скармливает мне еще ложечку йогурта. – Да, так что там с пропавшей девушкой?
Я вытираю с лица йогурт – Черил не снайпер.
– Так я думаю, они знают, кто это сделал, – говорит она.
– Ты не могла бы конкретнее?
– Они – то есть полиция – знают больше, чем говорят публике. То есть нам.
– Можешь привести факты, или это твое независимое мнение?
– Я только хочу сказать… все мы знаем, как делаются такие вещи. Я много смотрю телевизор, реалити всякие и другое, и я тебе говорю: они только и ждут, чтобы этот тип к ним пришел. В чем-то слегка облажался и себя выдал.
– Ты думаешь, они его уже нашли и наблюдают?
– Уверена. Понимаешь, я не верю в случайности, ничего не бывает так, как кажется.
– Кроме того, что полностью случайно, вот как это вот.
– Что «это вот»?
– Ну, то, что у нас с тобой.
Не могу не отметить, что очень сблизился с Черил, что делюсь с ней сокровенным, что начинаю ее считать другом, конфидентом.
– Миленький, если посчитать, так совсем ничего тут нет случайного – это закономерно происходит сплошь и рядом.
Что-то в ее голосе подсказывает мне вопрос:
– Ты пила сегодня?
– С утра «Кровавую Мэри». Так, отпраздновала слегка.
– В будний день?
– Ага. Они все смылись рано, а я увидела в холодильнике томатный сок и сельдерей и подумала: «Почему бы и нет?»
– Ты меня пугаешь.
– Даже не думала.
– Пугаешь.
Я думаю, рассказать ли ей про женщину из «Эй-энд-пи». Не люблю чувствовать себя двуличным, но ведь разве у меня есть обязательства перед этой замужней женщиной? И не могу же я попросить о помощи, а потом сказать: «Я тут встречаюсь с одной…» И само собой срывается:
– Я тут встречаюсь с одной женщиной.
– Как ее зовут?
– Не знаю.
– Ты встречаешься с женщиной и не знаешь, как ее зовут?
– Да.
– Давно?
– Уже недели две-три.
– Где вы познакомились? В онлайне?
– В «Эй-энд-пи».
– И часто вы видитесь?
– Виделись два раза.
Кажется, Черил вздохнула с облегчением.
– И что вы делали при этих встречах? – спрашивает она, будто старается дойти до сути.
– Не уверен, что с твоей стороны этично меня спрашивать о подробностях. Они несколько личного характера.
– С каких это пор жизнь стала этичной, мистер? Если ты сунул свою кочергу в чужую печку, у меня есть право знать – как минимум из соображений безопасности, чтобы принять информированное решение.
– И обратное тоже верно?
– В смысле?
– В смысле, если ты должна знать, что делаю я, то не должен ли твой муж знать, что делаешь ты?
Она смотрит на меня, будто обдумывает следующий ход. Будто.
– Я ему рассказала.
– Правда? – Я искренне удивлен.
– Правда.
– Когда?
– После вечера в «Френдлиз».
– Зачем?
– Запаниковала.
– По какому поводу?
– Подумала, что нас мог увидеть кто-нибудь из его знакомых.
– Но ведь рассказать твоему мужу – это значило бы себя выдать?
Она пожимает плечами:
– Может, знакомые считали, что он знает. А главное – мне надо было. Я по натуре не обманщица.
– Что он сказал?
Она снова опускает глаза.
– Выразил радость, что ему есть с кем разделить эту нагрузку. И спросил, ищу я развода или все развлечения.
– И?
– Я сказала, что развлечения, и он ответил: «Ну, тогда я не буду волноваться, пока ты мне не скажешь, что есть повод для волнения».
– Очень мило, что он предоставляет тебе решать, когда ему волноваться.
– А мне можно доверять, – говорит она и замолкает. – Он спросил, платил ли ты мне: он всегда хотел заплатить какой-нибудь женщине. Я спросила его, ходил ли он налево, и он ответил, что нет.
– Отчего?
– Боялся, – говорит она.
– Чего боялся?
Она пожимает плечами:
– Я ему сказала, что если хочется, то надо. У него были фантазии насчет проституток. Я ему сказала: «Давай», а он говорит: «Не могу». Я тогда спрашиваю: «Хочешь, я с тобой пойду?» – «В смысле, участвовать будешь?» – спрашивает он. «Нет, просто пойду с тобой вместе». Он тогда говорит: «Очень с твоей стороны любезно». – «А когда я была нелюбезной?» – спрашиваю.
– А дальше?
Для меня это все очень неожиданно, и хочется услышать подробности.
– Дальше мы с ним пошли вместе.
– Когда?
– Во вторник, после работы.
– К кому?
– Он у одного парня на работе взял номер.
– И ты мне не рассказала?
– Ты был занят.
– И как это происходило?
– Понятия не имею. Я сидела у девушки в гостиной и читала журнал – свой, с собой принесла, и куртку не снимала, и потом дома ее постирала. Очень старалась ничего не трогать.
– Твоему мужу понравилось?
– Он был рад вырваться из рутины, но чувствовал себя странно.
– В чем странно?
– Он сказал, что груди у нее огромные. Я ее видела до того, как он вошел: большие, но не так чтобы огромные. Он сказал, что твердые были, как баскетбольные мячи. И она его не целовала.
– А еще?
– Полностью эпилированная, спереди и сзади. Он никогда такого не видел – сказал слово «стандартизованная». В самый разгар процесса вернулась домой ее соседка и сказала, что ей что-то нужно в спальне. Держалась вполне безобидно, но я выхватила кухонный нож, взятый из дому, решив, что они действуют по плану: возвращается соседка, и они вдвоем берут заложника ради выкупа. Не думаю, что она ожидала меня встретить. Я ей объяснила, что там сейчас мой муж, в уединении с ее соседкой, и если она сейчас заорет и испортит ему удовольствие, я ее убью. Мы с ней тихо присели на диванчик, я ей сказала, что это ненадолго: у него всегда быстро. Когда он вышел и увидел, что я защищаю его… его… в общем, его удовольствие, его самого, назови как хочешь, – он был приятно поражен. Для нашего брака это очень полезно.
– Правда? – спрашиваю я несколько недоверчиво.
– Это открывает новые горизонты и поднимает наши отношения на совсем новый уровень.
Я сижу, оглушенный.
– Он хочет с тобой познакомиться.
– Ради секса?
– Да нет, просто увидеться. Может, поужинать всем вместе. – Она улыбается: – А ты думал, у тебя у одного новости.
– Так тебя не расстроила эта женщина из «Эй-энд-пи»?
– Конечно, расстроила. Ты шпокаешь какую-то девку из бакалеи, у которой даже имени нет. Что конкретно тебе в ней нравится?
– Трудно сказать точно – она такая загадочная.
– Звучит так, будто ты ее совсем плохо знаешь.
– Ты не очень тактична.
– Ты даже не знаешь ее имени.
– Знаешь, что мне точно известно о ней? – отвечаю я. – Она от меня ничего не требует.
Черил выскребает последние капли йогурта, пластмасса поскрипывает. Она смотрит на телефон.
– Пора мне. – И она резко встает.
– Ты меня бросаешь? – спрашиваю я, вдруг ощутив себя беззащитным и ранимым.
Она смотрит на меня как на идиота:
– Что в моих словах «мой муж хочет с тобой познакомиться» навело тебя на такую мысль?
– Прости, – говорю я. – Очень уж странный день выдался.
В этот вечер я наконец говорю с Эшли:
– Как ты там, нормально?
Она ничего не отвечает.
– Это невидимое пожатие плеч? Мы же не на видеосвязи.
– Угу.
– Ты хочешь мне что-нибудь рассказать?
– Вообще-то нет.
– Ты одна? В смысле, ты сейчас можешь свободно говорить?
– Здесь никого нет.
– Голос у тебя грустный, – замечаю я.
Слышно, как шуршит одежда при пожатии плеч.
– Ты боишься?
Снова молчание.
– Эш, если ты не против, я сейчас буду говорить пару минут, но ты, если захочешь, сразу перебивай в любой момент. Договорились?
– Угу.
– Хорошо. Значит, мне звонила женщина, которая управляет вашей школой. Я знаю, что случилось. И первым делом ты должна понять: ничего страшного не произошло. Никаких неприятностей у тебя не будет. И еще ты должна знать, что я понимаю и не считаю, что это дико или как-то там еще. И ты в любой момент можешь со мной поговорить, рассказать что хочешь, а что не хочешь – не рассказывать, и для меня главное – чтобы все у тебя было хорошо. Вот это мне важнее всего.
– Можно вопрос?
– Конечно.
– Мне надо будет вернуться в старый дом?
– В какой старый дом?
– Официально он называется «Роуз-хилл», но его все называют «Пачули».
– Есть ли причины, по которым тебе не следует жить в этом старом доме?
– Ну, тут стоит телевизор, а я очень люблю его смотреть. Он мне помогает успокоиться. Как вот ночью, когда не могу спать, я его включаю, а мисс Рини не возражает.
– Мисс Рини – это завуч младших классов?
– Ага, и еще я люблю, ну, когда серьезный напряг, так я возвращаюсь в середине дня и могу посмотреть «Все мои дети», «Главный госпиталь», «Одна жизнь, чтобы жить», и тогда снова все хорошо. Мне они помогают лучше понять мир и воспринимать его правильно. И еще: моя жизнь похожа на мыльную оперу больше, чем у всех, кто меня окружает.
– Интересный момент, – говорю я. – Надо будет об этом подумать.
– Я и правда не могу вернуться в свой старый дом, – говорит она. – Я решительно не согласна.
– Слышу.
Эшли начинает плакать:
– Я домой хочу.
– Это можно сделать, – говорю я.
Она шмыгает:
– Мне проект нужно сдать…
– А если на уик-энд приехать домой?
– Хорошо. – Она снова шмыгает носом.
– До тех пор переживешь как-то? Нам необязательно решать насчет дома прямо сейчас. Кажется, миссис Зингер сказала, что ты можешь жить у нее – наверняка телевизор там есть.
– Там каналов меньше.
Хлюпанье продолжается.
Я забираю ее в пятницу. Всю дорогу до школы восхищаюсь пейзажем: деревья расцвели разом.
Эшли по дороге домой неумолчно болтает – и все о мыльных операх. Мне трудно сказать, то ли это нервная реакция, то ли такое вербальное переосмысление дневных событий, то ли какое-то гипнотическое состояние Я просто ей не мешаю.
– «Все мои дети» снимались в Пайн-Велли, тогда были Тайлеры, Кейнсы и Мартинсы, и идут они уже лет сорок, эпизодов более десяти тысяч… – Она выдает некоторые подробности про Эрику и Кортлендов. – А теперь, на этой неделе… – Она выкладывает сюжет – историю к настоящему времени: кто на ком женат, кто у кого от кого родился, какие тайны еще не открыты.
– Эш, давно ли ты эти сериалы смотришь?
– Давно, – отвечает она. – Начала, когда мне было где-то семь, я месяц сидела дома с мононуклеозом, и мне мама позволяла с ней вместе смотреть.
– Мама их смотрела?
– Она их очень любила. Смотрела те же самые сериалы, которые смотрела в школе, когда сидела дома со сломанной ногой. А однажды в аэропорту она увидела настоящую миссис Тайлер, миссис Фебу Тайлер! Мама ее увидела и побежала ей помогать тащить чемодан. «По-настоящему» ее звали Рут Уоррик, она пару лет назад умерла. Мама говорила, что видела это в газете.
– Ты очень тоскуешь по маме, – говорю я.
– У меня никого нет.
– Ну, вот, я рад тебя видеть, и Тесси, и Ромео будут тебе рады. Ромео тебе понравится.
– А можно нам поехать на кладбище? – спрашивает она. – Не слишком это будет необычно?
– Можем. А будет или нет необычно – не знаю.
– А на что там похоже?
– Мы же там были на похоронах, ты не помнишь?
– Нет, наверное.
– Оно как большой парк, растут деревья, могилы вровень с землей.
– Почему?
– Потому что такова еврейская традиция – делать могилы вровень с землей. Через год после похорон происходит церемония «открытия», и тогда поставят памятник с именем твоей мамы. А когда ты будешь туда приходить, оставляй каждый раз на могиле маленький камешек – это значит, что человека не забыли.
– А почему целый год?
– Такая традиция. Если хочешь, можем навестить бабушку. Тебе хотелось бы?
– А можно ее вывезти куда-нибудь?
– Куда, например?
– Не знаю. Ну, просто вывезти. А то получается, что она вроде хрупких куколок в коробке, на которые можно только смотреть. Может, ей хотелось бы куда-нибудь поехать.
– Мы у нее спросим. Ей вполне нравится там, где она сейчас, но спросить мы можем. Так что будем делать? Поедем к бабушке? Испечем печенье? Разберемся в шкафах?
– Можем испечь печенье и отвезти бабушке.
– Можем.
– Здорово. Тогда сегодня, как приедем домой, будем печь печенье.
– Сегодня, как приедем домой, поужинаем и ляжем спать.
– Ладно, тогда завтра с утра будем печь печенье и поедем к бабушке.
Ей приятно, что у нас есть план.
– А когда ты печешь печенье, то что делаешь? – спрашиваю я через пару минут.
– Как что делаю?
– Ну, в смысле, как ты их делаешь?
– Мы либо нарезаем полуфабрикат и печем, либо смешиваем все, что написано на коробке. Это называется «с нуля».
– И ты знаешь, как это делается?
– Знаю. – Она смотрит на меня как на идиота. – Ты никогда не пек печенье?
– Никогда, – сознаюсь я.
– Тогда заедем в магазин, – предалагает она, и мы заезжаем.
Эшли стрелой летит к шоколадным чипсам, и мы закупаем все, что перечислено на обратной стороне коробки, плюс еще пакет молока.
– Нужно молоко по-настоящему свежее, – говорит Эшли. – Иначе смысла нет. – Она оглядывает разбегающиеся ряды товаров. – Очень скучаю по продуктовым магазинам, – говорит она, и мне вспоминается непривычная среда ее существования. Школа-пансион – изолированный инкубатор образования и социализации.
Мы печем печенье, и когда кухня наполняется чудесным теплым шоколадным ароматом, мне становится очень приятно. Мы сразу же съедаем большую часть, запивая молоком. Эшли правильно говорила: самое главное – чтобы молоко было свежее. Это поразительно – по-настоящему возвышенное переживание. Мы начинаем беспричинно смеяться, и кошка приходит и трется о мою ногу – впервые с того момента, как я раздал котят. Я ей наливаю молока в блюдце.
Когда печенье остывает, мы едем в дом престарелых. По дороге туда я рассказываю о том, что бабушке стало намного лучше, и о ее бойфренде.
– Я не поняла, они женаты или нет?
– Официально – нет.
– А что там насчет ползания и плавания?
– Помнишь, когда в прошлый раз мы у нее были, она лежала в постели?
– Ага.
– Ну, так теперь она с постели встала. Мы не знаем точно, это новое лекарство, или же она забыла, почему слегла. Я лично этого не помню. Знаю, мы ее поместили в дом престарелых, поскольку она была прикована к постели, но вот не знаю, помнит ли теперь хоть кто-нибудь, почему.
– Так это же хорошо, что ей лучше?
– Можно и так сказать.
– Доброе утро, мам! – здороваюсь я, когда мы входим в ее комнату.
– Чего в нем доброго, – говорит она.
– Что случилось?
– Они здесь.
В голосе слышится конкретное раздражение – будто явились наконец давным-давно ожидаемые инопланетяне.
– Правда? – переспрашиваю я.
– Да, – отвечает она убежденно. – Утром пришли и не уходят. – Она взглядывает на Эшли. – У тебя совсем не такой китайский вид. Тебе сделали операцию?
– Мам, это не Клер, это Эшли.
– Вы чьи?
– Мы твои, – отвечает Эшли и целует ее.
– Мама, Эшли – твоя внучка, она из нашего рода.
– Очень приятно, – говорит мама, пожимая Эшли руку.
– Мам, давно хотел тебе сказать: когда я заходил к тете Лилиан, то получил обратно твои драгоценности.
– Бриллиантовое обручальное кольцо? – спрашивает мама.
– Нет, жемчужные серьги, ожерелье с рубином и еще кое-какие мелочи: брошку и маленькое ожерелье. Она была очень рада их отдать, мне показалось. Избавиться от них.
– Еще бы, – говорит мама. – Ты смотрел на ее руку? Она все еще носит обручальное кольцо, которое мне твой отец купил?
– Понятия не имею, ма, – говорю я. – Похоже, вам надо это все вдвоем выяснить. Ты, когда говорила мне о драгоценностях, не вспоминала бриллиантовое кольцо.
– Хотела посмотреть, в чем она еще сознается до того, как я ее вздерну на дыбу.
Время ленча в столовой. Приходит дежурная по этажу – помочь маме туда дойти.
– Я не пойду, – говорит она.
– Почему? – спрашиваю я.
– Протест.
– Не думаю, что вам ленч сюда принесут. Дежурная качает головой.
– Раньше приносили, – отвечает мать.
– Это было раньше, – замечаю я.
– Все равно, не думаю, что я много потеряю.
– Я бы не была так уверена, – вставляет дежурная. – Там цыпленок с пастой.
– Черт!
– Что такое?
– Я очень люблю цыпленка с пастой, там еще лимон и брокколи, и я одну девушку с кухни подговорила мне туда бросить оливок и каперсов. И было почти как настоящая еда.
– А я принесла десерт, – говорит Эшли, показывая банку с печеньем. – Домашний.
– Ладно, – говорит мама, – мы пойдем.
Она поднимается и ведет нас за собой, чуть покачиваясь или подпрыгивая на ходу.
– Ты стала очень хорошо ходить, – замечаю я.
– Это все танцы. Когда думаешь о танцах, то можешь ходить. Как больные с инсультом поют, чтобы говорить.
– Фантастика, – замечаю я.
– Я вообще всю жизнь отлично владела телом, – говорит мама. – Только вряд ли твой отец об этом знал.
Когда мы подходим к дверям столовой, она жестом подзывает служителя, как метрдотеля в шикарном ресторане.
– Столик на троих, – приказывает она.
– На любые свободные места, – отвечает он.
– Хочешь холодный зеленый чай или жучиный сок? – спрашивает мама у Эшли.
– Жучиный сок?
– Фруктовый пунш, – говорит мама. – Только он тут сдобрен витамином С и метамуцилом.
– Тогда просто воду. Вода тут без ничего? – спрашивает Эшли.
– Насколько я могу понять, – говорит мама, глядя в глаза Эшли, – я очень рада тебя видеть.
– Ба, я тоже.
– Как дела в колледже?
– Ба, я в пятом классе!
– Главное – не падать духом, – говорит мама.
– А где твой друг? – спрашиваю я, не зная, как назвать его точнее.
– Что значит «где»? Вон, напротив, сидит со своими родственничками. Потому я и не хотела идти на ленч. Ты видишь, как они на нас косятся?
– Не заметил.
– Дебил ты, – говорит она мне.
– Вы рассорились? – спрашиваю я.
– Нет, конечно! – отвечает она возмущенно.
– Так в чем проблема?
– Его родные меня ненавидят, просто игнорируют. Когда мы с ним сидим рядом, они обращаются только к нему, никогда ко мне.
– Да, если так, нехорошо выходит.
– Что значит – «если так»? Я вру, по-твоему? Потому я ничего и не рассказываю, ты все равно не веришь. Не надо было мне за тебя выходить.
– Мам, это я, Гарольд, а не папа.
– Ну, значит, ты такой же, как твой отец.
– Бабушка, а какой был папин отец? И когда он умер? Я его знала?
– Зачем ты меня отвлекаешь всеми этими разговорами о прошлом, когда мне только одно интересно: моего мужчину, живого и настоящего, оттаскивают от меня его неблагодарные стервы?
– Ты не могла бы конкретнее?
– Это его дочери, – отвечает она.
– Мне подойти и попытаться разбить лед? – спрашиваю я.
– Между ним и мной льда нет. Мы еще до того друг друга знали.
– До чего? – спрашивает Эшли.
– Мы в одну школу ходили, – отвечает мама. – Я дружила с его сестрой – прекрасная была женщина, погибла на круизном корабле. Ее выбросили за борт, а там сожрали акулы. Никто так никогда и не узнал, кто это сделал.
– Ее муж? – предполагаю я.
– Она никогда замужем не была.
Когда уносят тарелки, Эшли достает жестянку с печеньем и пытается снять крышку, но нас окружает персонал дома престарелых.
– Здесь нельзя это открывать – приносить сюда еду запрещается.
– Это же не орехи и не семечки, – возражает Эшли.
– Сделано дома и с любовью, – говорит одна из служительниц.
– Да, – отвечает Эшли.
– Все равно нельзя. Здесь со всеми должно быть одинаковое обращение. Нельзя, чтобы пациенты, которых не навестили, огорчались, видя, как вы угощаете маму.
– А если мы поделимся? – спрашивает Эшли.
– Сколько у вас печений? – скептически спрашивает сотрудница.
– Сколько у вас пациентов? – отвечает Эшли вопросом на вопрос.
Сотрудница вместе с другой коллегой считают.
– По списку на ленч – тридцать восемь, и это не считая тех, кто ест у себя в комнатах.
Эшли ставит жестянку и начинает внимательно пересчитывать.
– У меня сорок.
– Ну, раздавай, девочка, – говорит сотрудница.
Эшли идет от стола к столу, от человека к человеку, предлагая печенье. Одни отказываются, другие пытаются взять два, и их приходится останавливать.
– Только по одному, – просит Эшли.
Когда печенья розданы, я уговариваю маму подняться и поздороваться с ее бойфрендом и его родственниками.
– Нет. – Она мотает головой. – Они меня не любят.
– Ладно, подойду представлюсь. Если это человек, к которому ты неравнодушна, он должен быть вежлив.
– Я останусь с бабушкой, – говорит Эшли, а потом шепчет маме: – Они ему не дали взять печенье.
Его родные вежливости не проявляют.
– Я просто хотел поздороваться, – говорю я, протягивая руку.
Принимает ее только мужчина:
– Рад тебя видеть, сынок.
Мы обмениваемся парой фраз, а потом одна из дочерей отводит меня в сторонку.
– Нам это не нравится.
– Почему?
– Потому что ваша мать – местная потаскуха. Она его убедила изменить нашей матери, которая пятьдесят три года ухаживала за ним днем и ночью.
– Я не знал, – говорю я.
– Уж конечно, «не знали». Зато мы хорошо знаем, кто вы такой… Повторяю еще раз: ваша мать нашего отца соблазнила. Такое случается в подобных заведениях – мужчин мало, женщин много.
– Мне кажется, моя мать была знакома с вашим отцом и раньше, – вставляю я.
– Она его и раньше пыталась от мамы увести, – отвечает девица.
– Это еще в школе было! – кричит мама через всю столовую. – Очень хороши эти новые слуховые аппараты. Я в то время не думала, что у них все так серьезно. Вы уж извините, это еще в школе было.
– Если можно спросить, где сейчас ваша мать?
– В «Маунт Синай» – потому-то он здесь и оказался. Они пошли поужинать, она упала, его уронила – он сломал бедро, а она ударилась головой. Все это время она в коме, и мы должны принять решение.
– Я понятия не имел.
– Сделайте мне одолжение – уберите вашу блудливую мамашу от нашего отца подальше.
– Послушайте, – говорю я. – От оскорблений вряд ли будет польза.
– Какой вы умненький-разумненький! – произносит дочь. – В словах «Отвалите от него к трепаной матери!» – что именно вы не расслышали? – орет она.
– Похоже, вас уже все расслышали, – говорит работница столовой, качая головой.
Я извиняюсь и возвращаюсь обратно к маме и Эшли.
– Ты знаешь, что его жена жива?
– Конечно, знаю, – отвечает мать. – Я ее тоже раньше знала – мы играли в пинокль. Он все время про нее рассказывает, пытается дозвониться до больницы. Она – овощ, – говорит мама. – Сестра держит трубку у нее около уха – или говорит, что держит, – и он с ней разговаривает. Вспоминает, что они делали и как жили. Напоминает, куда на медовый месяц ездили. – Она пожимает плечами. – А потом, когда вешает трубку, рыдает и хочет домой. А эти девчонки – они хуже всего. Если подумать, забрали бы они его домой, ухаживали бы за ним, возили бы на жену посмотреть. Эгоистичные стервы, вот они кто, но я этого ему не говорю, я говорю, у них своя жизнь, и она требует очень много времени. – Она встряхивает головой. – Но вот ты – ты же нашел время меня навестить? Вот так это и получается: если у тебя все хорошо, то заехать навестить мать времени нет. Ты, шлемазл, приезжаешь, на тебя можно рассчитывать, но ты жуткий зануда.
– Он хороший, – вступается за меня Эшли.
– Все нормально, – успокаиваю я ее. – У нас всегда были сложные отношения.
– Ба, а хочешь, мы тебя вывезем? Свозим куда-нибудь? – предлагает Эшли.
– Куда, например? – интересуется мама.
– Не знаю. Может, к нам домой поужинать?
Она мотает головой:
– Нет, не надо. Бывала я у вас дома – еда никуда не годится.
– Да ну, – говорит Эшли, ничуть не обескураженная. – Я теперь очень много готовлю; у меня все занятия по естественным наукам идут на тему «Кухня как лаборатория».
– Вы уж лучше приходите опять ко мне, милочка, – говорит мама, встает, посылает нам каждому воздушный поцелуй и уходит из столовой.
Мы с Эшли переглядываемся.
– Да, наша семья не похожа на другие, – говорит Эшли.
– Наши родные все сюрпризы преподносят, – соглашаюсь я.
Мы молча едем домой, ведем собаку на долгую прогулку и обсуждаем, что сделать на ужин.
– Я про пиццу думаю, – говорит Эшли.
– Тут отличное место есть, откуда развозят.
Она мотает головой:
– Сами сделаем.
– Из чего?
– Тесто, соус, сыр.
– Ты и правда любишь готовить, – замечаю я.
– А то, – отвечает она. – Мы с мисс Рини почти каждый вечер ужин готовили.
– Ты не ела с другими?
Она мотает головой:
– Мы готовили ужин и смотрели телевизор. Когда я уроки заканчивала.
Я киваю.
– Она говорила, что любит меня, – сообщает Эшли со сложной интонацией: настороженно-защитной и вопросительной одновременно.
– Наверняка любила, – подтверждаю я. Пауза. – А можно тебя спросить: сувениры из Вильямсберга – для нее были?
– Да, – отвечает Эшли. – Поэтому и должны были быть такими хорошими.
– Понятно, – говорю я. Потом мы оба молчим, пока животные не накормлены и тесто для пиццы не замешано.
– Она меня целовала, – говорит Эшли и смотрит в ожидании реакции. Я отвечаю ей абсолютно спокойным, заранее отрепетированным взглядом. – И поэтому я ее тоже целовала. Так это было мягко… не знаю, как описать.
– Это не обязательно, – говорю я и тут же жалею. Я не хотел ее обрывать.
– Это было хорошо. Так успокаивало – как когда мама. – И тут же она разражается плачем. – Она сказала, что я могу спать с ней в ее кровати, – говорит Эшли сквозь слезы. – И ты знаешь ведь, как говорят, типа, не садись в машины к незнакомым людям, не «френдись» ни с кем, кого в реале не знаешь, и все такое. А это же была мисс Рини, которую я знала, и давно.
– Эш, ты ничего плохого не делала. – Слезы буквально капают в тесто для пиццы. Мы оба это замечаем и не можем удержаться от смеха. – Соль, – говорю я. – Добавляет вкус.
– Я когда была маленькая, всегда чихала в тесто для блинчиков. Не нарочно, само получалось. Помогала маме его месить, и мука в нос попадала, и я всегда чихала прямо в миску.
Она шмыгает.
– Ты знаешь, кто тебя выдал?
У Эшли недоуменный вид.
– Кто про тебя рассказал?
– Бритни, – отвечает она не задумываясь. – Бритни завидовала, потому что втюрилась в мисс Рини, а это потому, наверное, что мама Бритни так мисс Рини превозносит. В общем, она стала вынюхивать, делать ей нечего, а отец у нее вроде шпиона, работающего на правительство. Вот она как-то раз спросила у мисс Рини, можно ли ей прийти после ужина, и пришла, а я как раз уроки делала, и сказала, что ей нужно с нами поговорить, с обеими, и выложила свои доказательства – фотографии и видеозаписи, сделанные скрытой камерой, она ее спрятала на подоконнике у мисс Рини. И сказала, что готова все забыть, если мы сделаем «менаж а труа», – я не знала, что это такое, и сейчас не очень понимаю. Мисс Рини очень сильно побледнела и сказала: «Это очень серьезно». Бритни еще несколько раз повторила про свой «менаж а труа», но я по-французски очень плохо понимаю, и вспомнился мне только спектакль «Стеклянный зверинец», который я весной смотрела – он французским словом «менажери» назывался. Сейчас тоже не знаю, правильно ли я поняла. А когда мисс Рини сказала, что должна «сообщить властям», Бритни испугалась, ушла к себе и приняла большую дозу какого-то лекарства, или комбинацию лекарств, потому что оказалось, у нее была странная такая проблема: у кого бы в доме она ни оставалась на уик-энд, она крала лекарства из аптечки. У нее даже есть бутылочка снотворных, принадлежавшая Джорджу Бушу, – отец для нее украл этот флакон. Там написано «Буш, Джордж», и название лекарства, и как часто его принимать. Видимо, очень многие знают про эту ее «привычку», и потому ее больше никто к себе не зовет. Она, наверное, не только лекарства воровала, и были девочки, которых в этих кражах обвиняли. И она приняла, типа, все таблетки, что у нее были, и отключилась в ванной, только сперва все-все всюду заблевала, и кошки ее нашли…
– Какие кошки?
– Ты серьезно? Кошки во всех домах живут, потому что есть мыши, потому что крошки, потому что все мы всегда что-нибудь грызем у себя в комнате по вечерам. Как в той книге – «Если дать мышке печенье».
– Я с этой книгой не знаком. Так Бритни все еще в школе?
Эшли кивает:
– Ее мать – выпускница и входит в совет школы. – Она замолкает на секунду. – Можно вопрос?
– Давай.
– Ты это делал с мамой?
Я молчу.
– Нейт говорит, что делал.
Все равно не знаю, как отвечать.
– Ты говорил, что мы должны быть друг с другом честны.
Я киваю.
– Это верно, что нам надо быть честными. Просто мне очень неудобно говорить о своих отношениях с твоей матерью.
– Я не прошу тебя о них говорить. Просто спросила: ты это с ней делал или нет?
Она скрещивает руки на груди.
– Да, – отвечаю я, покрываясь проливным потом.
– Ты любил маму?
Я киваю.
– Я почему спрашиваю: когда ты ребенок, очень трудно что-нибудь знать наверняка. Может, я даже и не понимаю, о чем говорю, – такое странное чувство… – Она не договаривает. – А не сходить ли тебе к доктору, пока ты дома? Может, имеет смысл записаться к педиатру?
– Доктору Фауст тут делать нечего.
– Понимаешь, чувства к другим девочкам – это нормально.
– Это было так грубо, – говорит она, заставая меня врасплох.
Я с беспокойством жду дальнейшего. Представляю себе, как мисс Рини заставляет Эш себя лизать. Вспоминаю, как мне самому оказалось жутко сунуть туда голову, и могу только воображать, каково это для ребенка, который любит только макароны без ничего.
– Она просто лежала и играла моими волосами, а потом поцеловала меня и попросила на нее лечь.
– И ты легла?
– Да, – отвечает Эшли, будто это очевидно и даже говорить тут нечего.
– Ты ее целовала куда-нибудь, кроме губ?
– Да, – отвечает она снова тем же тоном, будто я невероятно туп.
– Куда?
– По руке до локтя. Мы играли в игру, только вместо щекотки я ее целовала.
Я трясу головой. Понятия не имею, о чем она говорит.
Эшли берет меня за руку, и я в ужасе, что сейчас она будет ее целовать, и вот именно так одна душевная травма порождает другую, порождает и порождает, и соблазненная становится соблазнительницей. Отдергиваю руку.
Слишком резко реагирую.
– Руку, – твердо говорит Эшли.
Я выкладываю руку на стол.
– Закрой глаза.
– Только не целуй меня, – говорю я.
– Не собираюсь. С чего бы вдруг я стала тебя целовать? Жуть какая.
Слава богу.
Она щекочет мне руку кончиками пальцев.
– Скажи, когда доберусь до локтя, – говорит она.
Пальцы танцуют по руке вверх-вниз, дразнят, тоненькие волоски встают дыбом, рука покрывается гусиной кожей, и очень быстро я уже не понимаю, где у меня локтевой сгиб, так что через пару минут я возглашаю «Локоть!» – просто чтобы положить этому конец.
– Это называется «паук», – говорит она. – Ты никогда ни с кем в эту игру не играл?
– Нет.
Звонит телефон, разрывая воздух и пугая меня до смерти. Автоответчик берет трубку, на том конце ждут и кладут трубку после сигнала. Я уверен, что это она. Женщина из «Эй-энд-пи».
Эшли смотрит на меня с подозрением:
– Кто?
Я молча пожимаю плечами.
– Мне кажется, у тебя есть подруга. Женщина, которой ты эсэмэски пишешь, пытается до тебя дозвониться.
– Почему ты думаешь, что это одна и та же?
Она молчит, потом выдает суждение:
– Ничего плохого нет, что у тебя подруга. Незачем ее прятать.
– Спасибо, – говорю я.
Мы играем в «Монополию». Телефон звонит, звонит, сообщений никто не оставляет.
– Просто чтобы ты знала: та, кому я писал, – подруга. А вот эта, которая дозванивается, – пока не знаю.
В воскресенье во второй половине дня я отвожу Эшли обратно в школу. Мы берем с собой Тесси погулять – Эшли хочет взять еще и котенка, но я ей объясняю, что его маме будет тяжело. Даю ей новые часы, которые нашел в «подарочной» секции шкафа Джорджа и Джейн. Мы разговариваем насчет того, чтобы меньше смотреть телевизор и больше читать, я предлагаю книги, которые могут заменить привычку к телевизору, – Чарлз Диккенс, Джейн Остен, Джордж Эллиот, все Бронте.
– Все мужчины, – замечает Эшли.
Я мотаю головой – нет.
– Джордж Эллиот – женщина, и Остен, и сестры Бронте. – Я ей обещаю прислать некоторые. – Думаю, тебе понравится. Это классика, и очень похоже на мыльные оперы – на самом деле именно оттуда берут идеи писатели мыльных опер.
– Не напирай, – говорит она.
– Посмотри на Шекспира, на «Ромео и Джульетту», все там есть… – говорю я.
Она забирает сумку и выходит, оставляя туманный поцелуй на закрытом окне. Я даю гудок и машу рукой.
Через два дня пропавшую девушку находят в мусорном баке.
Мертвую.
Меня рвет.
Газеты объявляют о «трагической развязке».
Понимаю, я ни при чем, но чувствую себя виноватым. Тут, наверное, сказывается вина перед Джейн, перед Клер, вина за мои интернетные эскапады и вина перед женщиной из «Эй-энд-пи», – то ли она и есть убитая девушка, то ли нет. Пусть это нелогично, но я по-настоящему глубоко чувствую себя преступником, вопреки попыткам изо всех сил себя реабилитировать. И когда ко мне придут копы – это только вопрос времени.
Идут часы.
Дни.
Если бы у меня не было иных обязанностей, я бы подумал о самоубийстве. Конечно, реакция преувеличенная, но меня захлестывают чувства вины, стыда и ответственности. И не только по поводу убитой девушки. Я понимаю, что приношу вред всем – как будто эта девушка, и Нейт, и Эшли – были не на самом деле, как будто ничего не существовало на самом деле, лишь какие-то подводные течения. Они все стали реальными, только когда я их узнал. До того меня ничто не трогало. Глубина теперешнего восприятия всего на свете ужасает, когда не парализует.
И меня снова рвет.
В тот вечер перед самыми сумерками раздается дверной звонок. Она нетерпеливо стоит на ступенях.
– Я думал, тебя убили, – говорю я.
– Войти можно?
Я одновременно злюсь и радуюсь. Но терпеть незнание и неизвестность больше не намерен.
– Кто ты?
Она молчит.
– У тебя документы убитой девушки.
– Я их нашла.
– Где?
– В мусорном баке.
– Ты должна сообщить в полицию.
– Не могу.
– Я не стану продолжать этот разговор, пока ты не назовешь свое настоящее имя и адрес.
Я даю ей листок и ручку. Она пишет и отдает мне листок, где значится: «Аманда Джонсон».
– Иду тебя гуглить, – говорю я, удаляясь. Входную дверь оставляю открытой.
– Можешь добавить имя моего отца – Сайрус, или Сай.
– Так и сделаю! – кричу я из глубины дома.
Как сообщает Интернет, отец ее, Сайрус, ныне под восемьдесят, был главной шишкой в одной страховой компании и вынужден был уйти после разразившегося скандала.
– Он деньги украл! – кричит она с порога.
– По-видимому, – отвечаю я. – А ты была подружкой на свадьбе своей младшей сестры Саманты и играла на флейте, «подававшая когда-то надежды флейтистка»… ты все еще играешь на флейте?
– Да иди ты, – отвечает она, заходя в дом и обнаружив меня за столом Джорджа. – Я тебе говорила, что играла.
– Так как вышло, что у тебя удостоверение убитой девушки?
– Я же тебе сказала – нашла.
– Я же тебя спросил – где?
– В мусорном баке на парковке возле церкви.
– И в полицию не сообщила?
Она отрицательно мотает головой.
– Почему?
– Потому что не сразу сообразила, и потому что я туда хожу и не хочу, чтобы пришлось перестать ходить.
– В церковь?
Она кивает.
– По воскресеньям?
– На неделе. – Она запинается. – У меня есть проблема.
– Пьешь?
Она мотает головой.
– Наркотики?
– Нет.
– Секс? – спрашиваю я с некоторым чувством вины.
И снова она мотает головой.
– А что?
Она начинает плакать.
– Настолько все серьезно?
Она молча кивает.
– Расскажи, – настаиваю я. – Аманда, мне можно рассказать.
– Нет, – отвечает она. – Если расскажу, ты мне никогда больше не будешь верить.
– Можно подумать, я тебе сейчас верю.
Она смеется – и снова плачет.
– В магазинах воруешь? Переедаешь?
– Стегаю, – выпаливает она. – Стегальщица я.
– Ну, бывает. Но ты же стегаешь только тех, кто хочет?
– СТЕГАЮ ОДЕЯЛА! – орет она. – Я, блин, СТЕГАЮ ЛОСКУТНЫЕ ОДЕЯЛА! И если пойду в полицию, а потом вся эта мерзкая история всплывет, и будет жуткий скандал, и я еще более одинокой стану, чем сейчас!
– Ты знаешь, кто убил девушку?
– Нет.
– Ну вот, уже что-то.
Она все еще плачет.
– Я лгунья! – выкладывает она.
– То есть знаешь, кто убил?
Она мотает головой.
– Я патологическая лгунья. Лгу всегда и обо всем. Вот почему я хожу в ту группу в церкви – группа для лжецов, и даже там я лгу. Про одеяла – это я так, соврала. Если я расскажу полиции, там подумают, что я вру и для того и пришла. Вот почему тогда мне так важно было тебе сказать про ту слойку, что я купила тебе в подарок и сама съела.
– Успокойся немножко.
– Зачем вообще полиции говорить? – спрашивает она.
– Зацепка, след. Может, девушку ограбили, может, убийца что-то свое бросил в тот же мусорный бак, может, на этом самом удостоверении отпечатки пальцев, а может, полиция на тебя выйдет и скажет, что ты это сделала.
– А что, если мне сжечь удостоверение?
– Уничтожение улик, – говорю я. – А что, если просто пойти в полицию и сказать: «Здравствуйте, вот нашла это в мусорном баке и поняла, что это той девушки в мусорном мешке».
– Просто поразительно, – говорит она, – чего только не найдешь в мусоре.
– Что тебя вообще заставило туда заглянуть?
– Не знаю. Зацепилась глазом за что-то. У одного моего бывшего бойфренда хобби было – по помойкам рыться.
– Зачем понадобилось присваивать чужой документ?
– А тебе никогда не хотелось оказаться кем-то другим?
Я лишь пожимаю плечами – не моя идея.
– Я работала, было хорошее место, жила в Бруклине, мне это все нравилось. Встречалась с одним человеком, – он был никакой, просто живое дыхание, – у нас была кошка. А потом мать упала, отец за ней ухаживать не мог, пришлось мне вернуться домой, и это было как в трясину провалиться. Пришлось оставить работу, мой бойфренд родственников никак не любил. Давай будем реалистами, говорила я ему, не будем пороть горячку, я же скоро вернусь. Он мне не поверил. Кошку оставил себе и запретил мне с ней видеться и разговаривать – говорит, я плохая мать.
– Друзья, подруги?
– Моему бойфренду они не нравились, так что у меня никого из них уже не осталось. Я потеряла медстраховку и перестала принимать свои лекарства, начала принимать мамины, примерно те же, но не совсем те.
– У меня много всяких лекарств, – предлагаю я, а сам думаю: неужто сейчас все сидят на препаратах?
Она молчит.
– Но это еще не вся картина. Ты ухаживаешь за родителями и притворяешься, что ты кто-то другой? Так, Аманда? – Я повторяю имя еще раз: – Аманда. Тебя всегда так звали?
– Ты ко мне цепляешься? Вот такое чувство, что цепляешься, да?
– Я просто пытаюсь понять. Когда ты ухаживаешь за родителями, тогда ты – это ты, или вот эта предполагаемая личность?
– Когда я ухаживаю за родителями, я живу в комнате, в которой выросла, с теми же книжками и игрушками на полке, и такое чувство, будто я еще в школе учусь, будто я пришла из школы домой и они, как всегда, на диване сидят. Только теперь у папы штаны бывают мокрые.
– Они знают, какой сейчас год?
– Иногда знают, а иногда это много раз за день меняется. «Тебе уроки заданы?» – спрашивает мама. «Очень мало, – отвечаю я. – Может, придется ехать в библиотеку – мама одной девочки меня отвезет». Когда я вожу их к врачу, она спрашивает: «Как ты водить научилась и как ты ногами до педалей достаешь?»
– И что ты отвечаешь?
– «Я для своего возраста высокая». – Она замолкает на секунду. – Вот такая у меня теперь жизнь.
– А потом?
– Уеду и не вернусь.
Она это сказала – и я пугаюсь. Я ее на самом деле не знаю, но уже чувствую, будто меня бросили. Мечутся мысли: «А как же я? Возьми меня с собой. Поедем в Европу, поедем вокруг света».
Она замечает у меня в лице перемену.
– Да ладно, не надо, – говорит она. – Ну что ты, в самом деле? Ты живешь в доме брата, ходишь в его штанах, а я живу с родителями. Ты считаешь, это можно назвать отношениями?
– Мы должны найти того, кто сунул девушку в мусорный мешок. Мне станет гораздо лучше, если эта загадка разрешится.
Она собирается уходить.
– Слишком много телевизор смотришь.
Утром телефон приглашает меня снова. Я быстро отвечаю, думая, что это может быть она.
– Это Гарольд? – звучит женский голос.
– Да.
– Доброе утро, Гарольд. Это говорит Лорен Спектор, ответственная за празднества в синагоге.
– Я не знал, что там есть ответственный за празднества.
– Новая должность, – отвечает она. – До того я работала в городской опере по сбору пожертвований. – Еще пауза, будто она сверяется со шпаргалкой. – Мы составляем календарь мероприятий, и я вижу, что у нас Натаниэл записан на бар-мицву на третье июля. – Пауза. – Вот я думаю: как у нас с этим дела обстоят?
– Хороший вопрос.
– Натаниэл знает иврит? Изучал его? Здесь никто ни в зуб…
– На самом деле, – перебиваю я, – я пытался договориться о встрече с раввином какое-то время назад, но его помощница потребовала пожертвование не менее пятисот долларов, что я счел формой отказа.
Долгая пауза.
– По этому вопросу приняты меры.
– Эта китаянка больше не работает?
– Она вернулась в школу, – сообщает Лорен Спектор.
– Ну и хорошо, – отвечаю я. – Надеюсь, она найдет там то, что ей подходит.
– Она учится в ешиве.
Проплывает момент молчаливого раздумья.
– Есть два способа, как это организовать, – говорит Лорен. – Я вам могу дать ссылку на планировщиков торжества и на наших предпочтительных организаторов фуршета, цветов, персональных ермолок, или же можем подумать о том, чтобы отложить, – слово «отменить» я очень не люблю.
Что-то в ее тоне мне говорит, что синагога предпочла бы не проводить бар-мицву третьего июля.
– Синагоге и общине небезразличен их имидж. Ваш брат, его жена, этот строитель пирамид, – в общем, планка оказалась заниженной чуть больше, чем для основной части нашей общины приемлемо.
Я набираю воздуху и начинаю снова:
– Скажите, Лорен Спектор, существует ли еще такое мероприятие, как ленч женской общины?
– Вы про салат из яиц, тунца и огромного количества помидоров черри?
– Именно про это.
– Давно уже нет, – отвечает она. – Теперешняя община – в основном работающие женщины, у которых нет времени готовить. – Но у нас есть несколько кейтеринговых фирм, которые могут поставить нечто похожее. – Пауза. – Не хочу на вас давить, но мне бы лучше знать раньше, чем позже. У нас тут гей-пара, у которой свадьба в тот же день с утра. Они хотят отстреляться к одиннадцати, чтобы уехать на уик-энд в Пайнз и не попасть в пробку.
– Есть о чем подумать, – говорю я, не находя других слов. – Как сами можете себе представить, я несколько не в курсе тех планов, которые были раньше.
– Я думаю, что у Джейн был какой-то файл с информацией, сейчас у всех есть. Кроме того, она оставила залог. Залог, как правило, не возвращается, но можем к этому вернуться. Обсудить частичный возврат.
– Какова сумма залога?
– Две тысячи пятьсот, – говорит она. – Так как – будем продолжать?
– Давайте я поговорю с Нейтом и вам перезвоню.
– Это время было тяжелым для всех, – говорит она.
– Да, – соглашаюсь я.
Когда я заговариваю с Нейтом о бар-мицве, у него садится голос. Вот этого я и боялся.
– Я, наверное, не смогу. Очень это меня огорчает. Мама это все готовила.
– Ты можешь сделать это ради нее? В ее память?
– Не могу себе представить, как все, с кем мы были знакомы, будут на меня пялиться и думать, что мне повезло уцелеть. Не могу себе представить, как буду писать благодарственные записки за все айподы и прочую хрень, которую мне подарят и которая больше будет значить для них, чем для меня, потому что, если правду сказать, мне больше барахла не нужно. Не могу представить, что какой бы то ни было «бог», в которого я верю, сочтет это необходимым. – Он останавливается перевести дыхание. – Если говорить совершенно честно, – продолжает Нейт, – я бы не хотел делать ничего такого, что снова соберет вместе всех родственников. Вот говорят, ядерная семья – идеальная семья, но про расплавление в реакторе – молчат. – Он останавливается и спрашивает: – У тебя была бар-мицва?
– Была.
– И как? Тебе понравилось?
– Хочешь узнать, какая у меня была бар-мицва? – Я делаю паузу. – Мои родители не хотели, чтобы я много о себе мнил – как будто достойные чувства по отношению к самому себе могут вызвать нечто вроде слоновой болезни, от которой уже не оправишься, – и поэтому нам с Соломоном Бернштейном сделали одну бар-мицву на двоих. Мне это было преподнесено как намного более дешевое, а так как Бернштейны выше стояли в пищевой цепи, мои родители оказались среди правильных людей.
– Так что в основном это было для твоих родителей?
– Да, – отвечаю я. – А после церемонии было то, что называется «ленч женской общины». Все дамы из нашей синагоги приносили салат из яиц с тунцом. Кое-кто отравился – к счастью, никто не умер. Но после этого было введено новое правило: все ленчи общины приготовляются в синагоге, и используется майонез Беллмана, а не «майракл вип» – который был назван гойской едой и доверия не заслуживающим.
– Гойской едой?
– Как утверждает моя мать, твоя бабка, все на свете – вещи, продукты и так далее – бывает двух видов: еврейское и нееврейское.
– Например?
– Зубная паста «Крест» – еврейская, «Колгейт» – нееврейская.
– «Томс»? – спрашивает Нейт.
– Атеистическая или унитаристская. Джин – нееврейский, и «бельведер», и «Кетель ван», и любой кустарный алкоголь, кроме «Манишевица», который еврейский. В любом еврейском доме можно найти бутылку жидкости медового цвета, про которую никто уже не помнит, скотч это или бурбон, изредка две бутылки, но никогда – три. «Крем-де-мент» на ванильном мороженом – ассимилированно-еврейский. Маджонг и пинокль – еврейские.
– Вернемся к бар-мицве, – говорит Нейт.
– Стояли два стола с подарками – на одном мое имя, на другом Соломона, и в процессе я подходил иногда и смотрел, у кого груда подарков выше и выглядит лучше.
– И как?
– Трудно было сказать – учитывая, что мне кто-то подарил энциклопедию и завернул каждый том отдельно. Единственное, что мне действительно понравилось, – это бинокль, предназначавшийся для Соломона, но оказавшийся среди моих подарков.
– А как ты понял, что он был для Соломона?
– Карточка была приложена: «Солли, с любовью от тети Эстель и дяди Рувима». Мама хотела, чтобы я вернул его Соломону, но я отказался. Взял бинокль и спрятал его во дворе, под домом.
– Это неразумно – ожидать, чтобы ритуал перехода ощущался приятно и был по сути позитивным? – спрашивает Нейт. – А как же потеря девственности?
– Знаешь, Нейт, я намного старше тебя. Мне не хотелось бы, чтобы ты был разочарован.
– И потому ты прямо сейчас прокалываешь пузырь? – спрашивает он. – Чтобы я был таким же несчастным, как ты?
– Нет… – начинаю я решительно и останавливаюсь. – Я хотел тебя защитить.
– От чего?
– От жизни? – отвечаю я вопросом.
– Поздно уже. А ты бинокль так и не отдал Соломону?
– Я ему как-то в школе все выложил. А он говорит: «Оставь себе, у меня уже есть бинокль». – Я замолкаю. – Кажется, я этого еще никогда никому не рассказывал.
– И даже Клер?
– И даже ей.
Он молчит. Потом спрашивает:
– Почему у вас с Клер не было детей?
– Клер боялась, что будет слишком холодной родительницей. Она считала, что лишена способности любить по-настоящему и ребенок будет от этого страдать.
– А ты?
– Я с ней соглашался.
Долгая пауза.
– Я молился когда-то, – говорит Нейт. – Каждый вечер произносил молитву про главное, всегда верил, что есть что-то больше мира, идея какая-то. Теперь даже не знаю, как я думаю. У меня отношения к вере поменялись.
– Так что – у меня такое чувство, будто ты думаешь отменить бар-мицву?
– Я думал, мы пока просто разговариваем.
– Ты прав. Мы не обязаны решать это сегодня.
После вскрытия своей легенды Аманда из «Эй-энд-пи» исчезает.
Отчасти ради проказы, отчасти потому, что мне искренне любопытно, я решаю не ждать, пока она появится, и все же навестить. Вытаскиваю из холодильника полупустую коробку с китайской едой, заворачиваю ее в ту же коричневую бумагу, в которой ее принесли пару дней назад (на ней еще чек висит), и запечатываю степлером. В старом лабораторном белом халате Нейта, похожем на куртку официанта, еду к ее дому, вверх по улице Тюдор, и звоню в дверь.
– Ты что здесь делаешь? – спрашивает она, открывая.
– Тут вам полузаказ, – говорю я с плохо изображаемым китайским акцентом, передавая ей пакет.
Заглядывая в дом ей через плечо, я вижу только линялый узорчатый ковер, вешалку для пальто и шляп, массивные деревянные перила и лестницу, застеленную ковровой дорожкой. Догадываюсь, что слева – гостиная, справа – салон или столовая, а прямо под лестницей – ванная с сидячей ванной, а потом, у задней стены дома – кухня, и, быть может, с уголком для завтрака.
– Ты принес недоеденную китайскую еду?
– Здесь ее полно. Жареный рис и свинина мушу.
Она возвращает мне пакет, и тут к ней сзади подходит ее мать: тощая, но из эластичных штанов баскетбольным мячом торчит живот. Когда-то высокая, сейчас она существенно съежилась; пушистые белые волосы аккуратно уложены буклями вокруг головы, как на портретах Вашингтона.
– Мы регулярно жертвуем в Фонд почек, – говорит мать. – Мой муж не одобряет сбора от двери к двери, но у меня есть свои деньги, на булавки. – Вы берете наличными?
Она щелкает застежкой кошелечка и вытаскивает пять долларов, которые хочет отдать мне.
– Мама, он еду разносит, – говорит Аманда, отталкивая руку матери. – И ошибся адресом. Удачи вам в следующий раз, – говорит она и захлопывает дверь у меня перед носом.
Я от скуки делаю вторую попытку. По-моему, это весело и заодно демонстрирует мою целеустремленность: мне нужно что-то большее, какое-то более определенное заключение. Подъезжаю к «семь-одиннадцать» за галлоном молока и апельсиновым соком и снова паркуюсь у тротуара возле ее дома. Перейдя влажный газон пешком, вспрыгиваю на крыльцо и звоню два раза. Динь-дон, динь-дон.
Открывает ее мать.
– А я вас помню, – говорит она, и я вдруг нервничаю, что меня раскрыли – несмотря на переодевание. – Вы сюда приходили несколько лет назад, и молоко было в бутылке.
– Это был не я.
– Значит, ваш отец, может быть. – Она шаловлива, весела и совершенно очаровательна. Берет у меня молоко неожиданно сильными руками. – Запишите мне на следующую неделю полгаллона и пончики с сахарной пудрой, если у вас есть. – Она смотрит мне за спину. – Крокусы подрастают, – говорит она, и я вижу, обернувшись, что немало их передавил на дороге. – И нарциссы скоро зацветут.
– Этот человек нам родственник? – слышен вопрос отца.
– Тебе – нет, – отвечает мать, закрывая дверь.
Днем мне звонит Аманда:
– Ладно, мистер Проныра, хочешь прийти на ужин?
– Похоже, я твоим родителям понравился.
– Они тебя объединили с одним молочником, которому нужна пересадка сердца. Мать говорит, что дала тебе пятьдесят баксов.
– Пять там было.
– Не удивляюсь. Отцу она похвасталась, что дала пятьдесят. «Это любому, кто постучит в дверь, ты будешь давать по пятьдесят баксов?» – «Только симпатичным мальчикам», – ответила она.
– Когда ужин?
– Приходи в половине шестого.
– Могу я что-нибудь принести?
– Наркоту? – предлагает она.
– Какого типа?
– На твой выбор.
Я беру бутылку одного из лучших вин Джорджа.
– Вы, детки, пейте свой виноградный сок, а я свое обычное, если не возражаете, – говорит ее отец, смешивая себе коктейль и бурча, что скоро придется уволить уборщицу, потому что она прикладывается к бутылкам и водой доливает, чтобы грех прикрыть.
Убранство повсюду чопорное: набивной ситец, собачки-стаффордширы на каминной полке, часы, которые звонят каждые пятнадцать минут. Я даже не представлял себе, если честно, что люди так живут: очень не еврейский, очень компанейский человек, этим гордящийся, кресло с оттоманкой, софа, все до невозможности неофициальное, и вязаные салфеточки под лампами. Аманда приносит тарелку с закусками – трисквиты с каплями сырного соуса и нарезанные зеленые оливки с красным перцем в серединке.
На столе фарфор, хрусталь и серебро, и каждому подана маленькая чашка супа.
– Грибной крем-суп, – объявляет Аманда.
Я приступаю к супу, а потом замечаю, что больше никто его не ест. Мать опустила в суп ложку, а отец интересуется только выпивкой и оставшимися трисквитами. Сначала я решаю, что дело в молитве – они ждут, чтобы кто-нибудь произнес застольную молитву, – а потом понимаю, что просто это так.
Аманда смотрит на меня, я начинаю вставать – помочь ей убрать со стола, но она отрицательно качает головой. Убирает со стола, возвращается с мелкими тарелками – сперва подает их отцу и мне, потом матери и себе. По четыре рыбные палочки – для отца и для меня, по две – для Аманды и ее матери. Шесть жареных картофелин для мужчин, четыре для женщин. Каждому по три стебля спаржи и по половинке отварного помидора.
– Ой, как много, – говорит мать. – Мне никогда все это не съесть.
– Сколько сможешь, – отвечает отец.
– Рыба вкусная, – говорит мать.
– От миссис Пол, – одними губами сообщает мне Аманда, откусывая от рыбной палочки. Потом она рассказывает, что семейные меню составлены из того, чем ее кормили в кафетерии младших классов – рыбные палочки, спагетти и котлеты, томатный суп и горячие бутерброды с сыром, коричное печенье. – Почему-то мама сохранила копии всех меню и называет их своей кулинарной книгой.
– Что на десерт? – спрашивает мать, когда рыба подана.
– Пирог с ягодами и взбитыми сливками, – отвечает Аманда.
При слове «ягоды» отец начинает вспоминать, как ели ягоды со сливками в Уимблдоне.
– В те времена в теннис еще ракетками играли.
Я так понимаю, он имеет в виду деревянные ракетки.
– Давайте немножко расскажу вам о том, чем я занимаюсь, – говорит отец, наклоняясь вперед, к столу. – Я – тот самый, кто решает, чего стоит ваша жизнь, если вы умрете прямо сейчас. Я оцениваю, кто вы сейчас, кем можете стать и в чем рассчитывают на вас ваши родственники, – ответственность очень большая. Каждый думает, что он куда более особенный, чем есть на самом деле. Иногда я выбираю кого-нибудь и думаю: во сколько бы мы оценили эту жизнь?
– Чью, например?
– Уильяма Ф. Бакли[8].
– Он уже умер, – говорит Аманда.
– Когда это?
– Два-три года назад.
– Ой, как жалко. Ценный был человек. Ну, тогда мать Тереза.
– Тоже умерла, – сообщает Аманда.
– Сколько бы вы за нее заплатили? – спрашиваю я.
– Ничего. У нее ни родных, ни обязательств, дохода не было – она ничего не стоит. Правда, интересно? – спрашивает он воодушевленно. – Есть у нас кетчуп или какой-нибудь составной соус? Люблю, когда поострее.
Аманда уходит на кухню и возвращается со специями.
– Я тебе как следует на чай оставлю, – говорит отец, и я не понимаю, шутит он или нет.
– Кофе или чай? – спрашивает Аманда.
– Я уже ни кусочка проглотить не в силах, – говорит мать.
Помидор наполовину съеден, а с ним два стебля спаржи, половина рыбной палочки и две картошины.
– Мне дочь сказала, вы любите социальные науки. Читали доклад комиссии Уоррена? – спрашивает отец.
Я киваю.
– Никак не могу понять. Я тут читаю уже второй экземпляр – первый упал в ванну. Не очень понимаю, что я ищу – как в загадках Агаты Кристи. Не для протокола: один мой коллега постоянно клялся, что Джека Кеннеди убил его корсет.
– Простите?
– Ну, посмотрите фильм. Увидите, что после первого выстрела Кеннеди падает, а потом отскакивает, как мяч. Все потому, что он был в корсете, который его и вернул в прежнее положение. Вот ему вторым выстрелом в чан и попало, – говорит он, постукивая себя по виску. – И будто разговаривая сам с собой, спрашивает: – А сколько всего там было пуль?
– Три?
– Так что – вы считаете, там был заговор? – Я не успеваю ответить, как он продолжает: – Собственная наглость его догнала. Он таскал дам наверх во время официальных обедов, оставляя жену за столом. Мне бы половину его радикулита – если вы меня понимаете. Так вот, он слегка перестарался, и один мафиози из Майами, у которого новорожденный оказался слишком похож на Кеннеди, решил отомстить.
– Интересно, никогда раньше такого не слышал, – говорю я.
– Тьфу ты! – отвечает он так, будто я полный идиот.
– Папа! – говорит ему Аманда. – Гарри не очень интересуется Кеннеди, он больше по Никсону.
Она убирает со стола, я встаю и помогаю ей. В кухне я прижимаю ее к себе, пока она полощет тарелки.
– Нет, – говорит Аманда. – Это исключено.
– Почему?
– В доме родителей – ни за что.
– Тебе здесь не случалось целоваться с парнем? Играть в бутылочку в подвале?
– Наш кусок подвала неоштукатурен, – говорит она, глядя на меня с вызовом.
Когда мы возвращаемся, мать читает книгу в гостиной, а отца нигде не видно. Мать отрывается от чтения:
– Ты помнишь, что я тебя и твою сестру называла Саламанда? Комбинация Саманты и Аманды. Мне это очень нравилось. «Саламанда, а ну вылезай из воды!»
– Мне тоже нравилось, – отвечает Аманда, и лицо у нее смягчается – редкий и короткий миг. – Ты не знаешь, где папа?
– Понятия не имею.
– Я сейчас вернусь.
Аманда уходит искать отца.
– Никсон любил в творог кетчуп добавлять, – говорю я матери Аманды в попытке завязать разговор. – На завтрак он обычно ел творог с кетчупом или черным перцем, свежие фрукты, пророщенную пшеницу и чашку кофе.
– Ну уж точно не на этой еде мама его взрастила, – отвечает она. – Мать Сайруса всегда готовила яичницу с белыми сухарями. У меня годы ушли, чтобы приучить его к нормальному завтраку. Где папа? – спрашивает она вернувшуюся Аманду.
– Лег спать. Решил, что уже пора и все разошлись.
– Вот тебе и вечер для игр, – говорит мать Аманды. – Мы собирались в скрабл играть. Твой отец очень хороший стратег.
Домой я приезжаю в половине восьмого, небо все еще светлое. Воздух полон обещанием весны, каждый день свет держится чуть дольше, растения становятся плюшевыми от новой зелени. Слышен стрекот кузнечиков, где-то лает собака.
На крыльце меня ждет тетка Рикардо.
– Что-то не так? – спрашиваю я, и она кивает:
– Мой муж ревнует, говорит, я слишком много времени провожу с Рикардо. А не мог бы Рикардо переехать к вам на время и тут пожить? Я буду делать все то, что делала, – готовить, убирать, стирать его одежду, – но пусть он поживет у вас.
– Он же должен ходить в школу, – отвечаю я.
– Школа его тут недалеко, автобус может подъехать.
– А что говорит сам Рикардо?
– Мистер, я вас прошу. Из-за вас погибла моя сестра и оставила меня с мальчиком, и это для меня слишком. У вас есть деньги, вы способны ему помочь. Я очень, очень любила сестру, но не готова. Ну почему надо всем ломать жизнь? Прошу вас, вы же такой симпатичный раздолбай.
Симпатичный раздолбай?
– Вы же не можете просто взять отдать мне Рикардо.
– Почему?
– Я государством не утвержден для этой роли.
– Но он же гражданин США, – говорит она. – Он здесь родился.
Надо бы ей объяснить, как работает система социальной помощи, но я отвечаю:
– Давайте я подумаю, что тут можно сделать. А тем временем заберу его у вас на уик-энд. Можно с ночевкой.
– Он был такой мамочкин ребенок!
Она начинает плакать.
– Не плачьте, пожалуйста, не надо.
Я сам чуть не пускаю слезу вместе с ней. Она шмыгает, чтобы перестать.
– Вам-то чего плакать? Вы большой белый мужчина, и у вас большой дом.
Как гром с ясного неба приходит открытка от Джорджа. На ней фотография какого-то отеля в Майами, сама открытка сильно потертая, как будто годами моталась вокруг света на дне чемодана.
Здесь все так, как я и думал. Ночью у костра парни меня учат работе с отмычкой, а в искусствах и ремеслах я учусь делать цементировочные башмаки из дерьма и травы.
Не забывай обрывать засохшие головки на моих цветах.
Открытка (без обратного адреса) наводит меня на мысль, что у меня нет никакой контактной информации Джорджа – ни адреса, ни телефона для экстренного звонка. Я звоню в офис директора «Лоджа».
– Доброе утро, спасибо, что позвонили в «Лодж», новый конференц-центр руководителей в Адирондакских горах.
Я объясняю, что хочу говорить с главврачом.
– Одну секунду, прошу вас.
Звонок переводят.
– Отдел кадров. Вы ищете работу?
– Нет, – говорю я нетерпеливо и все повторяю. – Главный врач мне говорил, что останется здесь до августа. И знает ли кто-нибудь, где мой брат Джордж?
Трубку берет начальник отдела.
– Иногда ситуация меняется быстрее, чем ожидалось – одновременная смена владельца, сезон отпусков и заказ на большую конференцию в конце июля, – но я вам этого не говорил. Посмотрим, не может ли кто-нибудь раздобыть эту информацию, и я вам перезвоню.
Я звоню Рутковски, адвокату Джорджа. Как ни странно, он берет трубку после первого звонка.
– Вы знаете, где Джордж?
– Вот сейчас, когда вы спросили, – отвечает адвокат, – сообразил: понятия не имею. Подождите-ка… – Слышатся звуки, будто он копается в папках. – Видимо, его документы еще не пришли. Где-то потерялся в системе.
– У вас его адрес есть? Какой-то способ послать ему письмо или посылку? У него скоро день рождения.
– У меня есть карточка Уолтера Пенни, и на ней адрес. Наверняка можно что-то послать на этот адрес опекунам Джорджа, и до него дойдет.
Я записываю адрес.
– Когда я звонил в «Лодж», мне сказали, что главврача у них больше нет. Он не ваш родственник?
– Уже нет, развелся. Сейчас мы с ним не разговариваем. Я представляю свою сестру в процессе против него и, во избежание конфликта интересов, собираюсь передать дело Джорджа другому сотруднику фирмы.
Мы с Черил в молле, переходим из магазина в магазин. У нас существенный прогресс. Мы встретились не в дешевом мотеле, где Черил из страха перед клопами стелет старое синелевое покрывало, выкладывает слой мусорных мешков и накрывает их старой белой простыней, а потом мы трахаемся, как пьяные водители, елозя по этому матрасу из края в край. Сейчас мы бесцельно бродим, полностью одетые, по липовому тропическому раю со стеклянной крышей.
– Мы просто гуляем для моциона или ищем что-то конкретное?
– Диван и непригорающую сковородку, – отвечает она, придавая обоим предметам одинаковую важность.
На этот раз у нее волосы белокурые и заплетены в две тугие косички, как у восьмилетней девочки. Меня это несколько смущает, но я молчу.
– Вы с ней все еще видитесь? – спрашивает Черил.
– Очевидно. Но мне как-то неловко иметь сразу две сексуальные связи.
– Почему?
– Смущает это меня.
– Чем? В смысле, одна из них – это жалостливый трах?
– Не уверен. Что такое – жалостливый трах?
– Ну, вроде тебе ее жалко, и ты ее делаешь поэтому.
– Нет, мне ее не жалко.
– Для тебя она что-то значит, да? А обо мне она знает?
– Думаю, знает.
– Ты ей говорил?
– Ей все равно. Она от меня ничего не хочет – нулевая заинтересованность. Она хочет только меня, и тогда, когда сама хочет. Говорит, ничего личного – просто так сложилось.
Посредине молла – стенд для объявлений о потерявшихся, похожий на пакет молока. Он весь оклеен постерами Хизер Райан, объявлениями о пункте подкидывания нежелательных младенцев и месте отдыха от семейных конфликтов. Большой постоянный плакат гласит: «Беременна? Телефон анонимной помощи». И тут же оранжевая трубка.
– Это всегда здесь было? – спрашиваю я.
– Всегда, – отвечает она, не глядя.
Выходя из магазинов, я замечаю Дона Делилло. Мы встречаемся взглядами, и он будто хочет спросить: на что это ты уставился?
– Куда бы ни пошел, я вас встречаю.
– Я тут живу, – говорит он.
– Прошу прощения, я ваш большой поклонник. – Он кивает, но молчит. – Простите, можно задать вопрос? – Он не говорит «да», но и «нет» тоже не говорит. – Как вы думаете, Никсон участвовал в убийстве Джей-Эф-Кей?
Делилло глядит на меня с мрачной змеиной улыбкой.
– Интересный вопрос, – говорит он и идет прочь.
– Тебе бы надо ее бросить, – говорит Черил, полностью пропустившая предыдущий разговор. – Живи проще.
Я меняю тему:
– Мы ищем что-то конкретное?
– Я тебе уже сказала: диван и непригорающую сковородку. А, вот чего я еще хочу: зайдем в «Мейсиз», я выберу себе какое-нибудь белье, а потом ты зайдешь в примерочную и спросишь: «Ты в какой кабинке?» – и…
– И что?
– Ты зайдешь и меня сделаешь – встанешь на колени и языком, а я буду смотреть на это в трехстворчатом зеркале, а может, даже видео на телефон сниму. У тебя голова будет закрыта мной, так что никто тебя не узнает.
– Ты явно думала долго и много.
Она пожимает плечами.
– Нас арестуют.
– За что?
У меня звонит телефон – Аманда. Я не отвечаю, но он звонит снова, и Черил говорит, чтобы я ответил.
– Не становись из-за меня грубияном.
– Да?
– Поймали этого типа – убийцу Хизер Райан. Это был человек, которому родители Хизер продали ее старую двуспальную кровать – через Интернет. Оказалось, она зашила в матрас свой старый дневник, а этот человек его нашел, у него крыша съехала, и он стал за ней следить. Ее бойфренд, с которым она недавно порвала, встретил этого типа, и тот выдал себя за ее нового бойфренда, и в доказательство выложил много такого, чего в дневнике прочел. Потом прежний бойфренд встретился с Хизер, и она стала говорить, что никого нового у нее нет, а он ей сказал: «Он все про тебя знает, знает куда больше меня. И я вас с ним видел, вы шли через кампус. Он всегда совсем рядом с тобой, а когда я подхожу ближе, он уходит…» В общем, Хизер и Адам расстались, а этот жутик к ней подкатился, и ну, скажем, что у него не получилось…
Голос у нее такой громкий, тембр настолько своеобразный, что, хотя громкая связь не включена, слышно каждое слово.
– Ого! – говорю я. – Ладно, спасибо, что позвонила.
– Ого – и все? Больше тебе нечего сказать? Ну ты даешь!
Я смотрю на Черил – она слушает.
– Да, это для меня большое облегчение, и мне интересно услышать еще что-нибудь. Не то чтобы я тебе не верил, но все же проверю по другим источникам.
– Ну уж как хочешь, – говорит она и вешает трубку.
– А это гигантское облегчение, – говорит Черил. – Мне теперь намного лучше.
– Почему?
– Потому что ты не тот человек, который это сделал, – ухмыляется она.
– А ты думала, что это я?
– Нет, это ты думал, что это ты.
– Отчего ты так решила? – спрашиваю я, чувствуя себя как-то странно раскрытым.
Черил закатывает глаза.
– Вот это я и люблю в мужчинах: прозрачные, как стекло, – говорит она. – Кстати, ты к ней очень неровно дышишь. Она может так не думать, и ты можешь так не думать, но я это знаю.
– Ты все еще хочешь зайти в «Мейсиз»?
Она мотает головой:
– Резервирую до другого раза.
На день рождения я покупаю Джорджу айпад, загружаю в него фотографии детей и музыку из дома, потом отсылаю вместе с солнечной зарядкой по адресу на карточке Уолтера Пенни.
«С днем рождения, братик!»
Я записываюсь на уроки испанского в местной Casa Española. Кроме меня, в группе еще менеджер из «Макдоналдса», владелец фирмы ландшафтной архитектуры и женщина, которая «удачно вышла замуж» и хочет лучше объясняться с «прислугой».
Звонит медсестра из школы Эшли:
– Повода для волнения нет, но… у Эшли кожная инфекция, мы поговорили с доктором Фауст и хотим получить ваше разрешение на курс антибиотиков.
– Конечно, – отвечаю я. – Что-нибудь еще я должен сделать?
– Не прямо сейчас, – загадочно произносит сестра.
Когда потом мы разговариваем с Эшли, я про инфекцию не спрашиваю. Мы обсуждаем «Ромео и Джульетту» и работу, которую Эшли должна написать про мыльные оперы.
– Там все хорошо, – говорит она. – Я смотрю с часу до трех дня и делаю заметки. Работаю над статьей о нарративе мыльных опер как современного театра, разыгрываемого публично, – площадь ТВ похожа на театр.
– Звучит замысловато, – говорю я.
– Ага, – соглашается Эшли. – Тут штука в том, что задания подгоняются под интересы ученика, ну, типа, если ты чем-то интересуешься, так можно же далеко пойти, по-настоящему? В смысле, вот это задание – оно, типа, уровня восьмого класса.
К концу разговора она говорит:
– Тут тебе должно письмо прийти в почту, так я лучше тебе немножко расскажу, чтобы ты знал, как все на самом деле. – Она переводит дыхание. – Это никакой не «тату-клуб» был, просто мы друг другу набили самодельные татушки, ничего страшного, но потом другие девочки ходили в город на уик-энд и набили себе настоящие. А тогда Джорджия из моей группы решила, что наши должны быть нарочно уродливые и шрамовые-шрамовые. Посмотрела давние традиции шрамовых татуировок, и потом мы втроем выполнили этот ритуал и втерли себе в раны землю из компоста, и вот так у меня получилась инфекция. Это совсем не я придумала. А родители, которые узнали про наши «клубы», перепугались жутко, и вот теперь посылается письмо, что никаких новых татушек ни у кого чтобы не было, ни у школьников, ни у учителей, ну, и всякое бла-бла-бла.
– А что у тебя было на татуировке? – спрашиваю я.
– Единорог, – отвечает она так, будто иного и быть не могло.
Весь вечер я сижу у телевизора, как приклеенный. Рассказ Аманды об убийце Хизер Райан подтверждается. Родители опознали человека, который купил ее кровать, у него в машине нашли дневник Райан и пряди ее волос.
Готовясь притвориться библиотекарем, интересующимся судьбой книги, которую Аманда взяла на дом, я звоню ей. Трубку берет мать.
– Добрый вечер, я звоню Аманде по поводу ее абонемента. Она дома?
– Одну минутку.
– Кто там? – слышу я голос Аманды.
– Твой муж, – отвечает ей мать.
– Да? – озадаченно спрашивает она.
– Что сегодня было на ужин?
– Я отклонилась от плана, подала им средовый вместо вторничного. Просто посмотреть, заметят ли. Куриные палочки с макаронами и сыром. И даже ухом не повели, только отец сказал: «Мы желаем настоять, чтобы на десерт было коричное печенье». «Разумеется», – ответила я, хотя собиралась подать бисквитный пирог. Я легко перестраиваюсь.
– У меня идея: давай поставим палатку на дворе у твоих родителей – для ночевки.
– Чтобы они там ночевали?
– Нет, мы. Мы тогда сможем вместе спать, в палатке.
– Никогда не спала на улице.
– И я тоже.
– Мне всегда страшно было.
– Даже во дворе?
– Мы с сестрой как-то набрались храбрости и пошли с фонариками и майонезными баночками, набитыми светляками. Но как только стало темно по-настоящему и начали гаснуть огни в доме и вокруг, я жутко испугалась, и мы побежали домой.
– Если мы поставим палатку, нас заметят во дворе?
– Ну, нет, – отвечает она. – Они никогда из окон не смотрят.
– В пятницу?
– Я подумаю, – отвечает она.
– Что ж, тоже план.
Я вешаю трубку, полный энтузиазма.
Выкапываю в подвале палатку, надувной матрас с насосом на батарейках, новые батарейки для фонариков. Набиваю огромную холщовую сумку спреем от насекомых, подушками, и добавляю черно-белый видеомонитор для младенцев, чтобы присматривать за ее родителями.
Мы ужинаем вместе с ними. Я проникаю наверх и устанавливаю монитор. Потом прощаюсь и ухожу. Ощущая себя таким умелым и хитроумным, выхожу из дверей и незаметно проскальзываю обратно.
Машу рукой Аманде, которая в кухне. На долю секунды мне становится грустно: желтые перчатки напомнили мне Джейн и тот День благодарения.
Аманда моет и убирает посуду, устраивает на ночь родителей, а я тем временем обхожу дом и вешаю для украшения рождественскую гирлянду, найденную в подвале у Джорджа. Как будто я снова мальчишка. Украшаю и думаю об Аманде: узнаю ли ее когда-нибудь по-настоящему? Как будто она в доме один человек, а вне дома совсем другой. Две личности, для внутреннего и наружного режима.
Она выходит около половины десятого, предлагая себя мне. Стоит передо мной в свете фонаря, раздевается, а потом ей вдруг кажется, что она слышит что-то, чего на мониторе не видно. Она молнией одевается обратно и бежит проведать родителей.
В этой обратной ситуации – дети проверяют родителей, – Аманде все время кажется, будто что-то не так, что-то происходит, и она возвращается в дом каждые десять-пятнадцать минут. Она волнуется, как бы кто из них не упал, не сломал шейку бедра, как бы они не угорели, как бы не случилось утечки газа, от которой взорвется дом, или просто родители проснутся и будут бояться темноты, или захотят воды, или немножко виски на ночь.
Вопреки моей идее, что это будет отлично, ситуация оказывается куда менее эротической, чем я надеялся. Надувной матрас скрипит, земля под ним холодная и твердая. Примерно в полдвенадцатого, когда мы как раз занимаемся делом с переменным для обеих сторон успехом, отец Аманды (зернистый контур на мониторе) встает с кровати, выходит из комнаты, а через секунду входит в комнату матери, стаскивает со спящей одеяло, задирает ей ночную рубашку и залезает сверху.
– Он же делает ей больно! – восклицает потрясенная Аманда.
– Трудно сказать, – отвечаю я.
На экранчике монитора сцена выглядит так, будто мать Аманды пытается отбиться от него, не просыпаясь. Она отмахивается, как от здоровенной мошки, огромной мухи, а он ее прижимает к кровати, давя сверху.
Аманда вперивается в экранчик. Видно, как у отца из пижамных штанов выпирает инструмент.
– Мой отец насилует мою мать?
– Возможно, – отвечаю я. – Посмотрим, как они будут утром.
– Какой ты невозмутимо-циничный!
– Ни капельки не циничный, просто не знаю, что мы должны делать по этому поводу. Войти в дом и отвлечь их? Хочешь на них обрушиться с выговором, когда они в процессе? Может, они это так делают, и так было всегда. И вообще-то мы за ними шпионим. Пусть они престарелые граждане, но у них есть права, и по крайней мере у одного из них есть определенного рода чувства.
Она спускает на меня собак. Я отбиваюсь:
– Но если ты постоянно так волнуешься, если для тебя это такая нагрузка, почему бы не поместить их в дом престарелых?
– А почему бы тебе не пойти к чертям? – отрезает она, выключает монитор, поворачивается ко мне спиной и притворяется спящей.
В офис я хожу три дня в неделю. У меня теперь собственная карта-пропуск в здание, в офис и в мужской туалет. Мне выделили кабинет с узким окном – Чинь Лан сидит в ячейке снаружи. Я часто прошу ее зайти и прочесть вслух какой-нибудь рассказ Никсона, а для нее это практика в английском языке. Интересно слышать слова Никсона с хорошим китайским акцентом.
Девять из этих рассказов почти закончены. Я пересматриваю их, аккуратно выделяю нить повествования, слегка убираю лишние отступления. Для человека, очень не любившего болтать, Никсон в своем творчестве почти велеречив.
– Как лучше всего связаться с миссис Эйзенхауэр? – спрашиваю я у Ванды. – Тут есть рассказ, мне хотелось бы, чтобы она подумала насчет послать его в журналы.
– Я ей передам, – говорит Ванда. – Какие журналы?
– «Нью-Йоркер», «Атлантик», «Харперз», «Вэнити фэр». Да черт побери, можно и в «Пэриз ревю».
– А если «Мак-Суини» или «Ван стори»? – спрашивает Ванда. – Они способны рискнуть.
– Отлично, давайте разошлем повсюду, – говорю я, не подавая виду, что понятия не имею, о чем она говорит.
– У меня дополнительная специальность – сочинение художественных произведений, – говорит Ванда с большим оживлением. – Миссис Э. на линии, – сообщает она через час, позвонив для этого мне в офис на молчавший до того телефон. – Нажмите мигающую кнопку, чтобы ответить.
– Большое спасибо!
Через минуту светского разговора я делаю свое предложение:
– В конечном счете куда легче будет продвинуть сборник, если сначала будут опубликованы некоторые рассказы из него. Тут есть один, который уже готов к выходу, но думаю, под каким именем?
– То есть как это – под каким именем?
Тон агрессивный, будто она думает, что я хочу поставить свое.
– Ричард Никсон? Р.М. Никсон? Р. Никсон? Зависит от того, насколько вы хотите «засветиться», насколько очевидным должно быть указание.
– Интересный момент, – говорит она. – Давайте я обсужу это с родственниками и вам дам знать. Рассказ этот можете мне прислать?
– Разумеется. Вам чистовой вариант или все черновые версии?
– И то и другое, если вы не возражаете.
– Я прочла рассказ, – говорит мне в понедельник миссис Эйзенхауэр взвешенным тоном. – В исходной версии тысяча сто семьдесят слов, а в вашей – меньше восьмисот.
– Да, – отвечаю я. – Постарался изо всех сил, сделал короче краткого, – то, что называется «телеграфный стиль».
– Вы много вырезали.
– Смотреть надо не на число слов, а на воздействие. В этом конкретном рассказе словарь ограничен, и я не знаю, сколько выдержит читатель, пока дойдет до ударной фразы.
– «Ублюдок», – говорит она.
– Да, именно до этой.
Она отвечает не сразу.
– Мой отец был не очень подвержен спонтанному юмору, но когда давал себе волю, тут было на что посмотреть. Он наяривал на пианино песенки, и мать с ума сходила. Мы от смеха лопались. У меня хранятся его письма, которые он писал мне в детстве, – очень официальные, но полные добрых советов. Он всегда хотел, чтобы было хорошо, но всегда чувствовал свое одиночество. Какова бы ни была его цель, путь он к ней должен был найти свой. Такая жизнь берет свою дань, и больше с матери брала, чем с него, – вспоминает она. И вдруг обрывает себя: – Хорошо. Рассылайте. Подпишем «Ричард М. Никсон».
– Спасибо, – говорю я и вешаю трубку.
Пишу черновик сопроводительного письма:
Дорогой мистер Трайсман!
К сему прилагается художественное произведение огромного исторического значения. В последнее время я имел удовольствие и обязанность разбирать и готовить к публикации прозаические материалы Р.М. Никсона, который в представлениях не нуждается. Хотя давно известно, что Никсон составлял тщательные заметки по любому вопросу, некоторый набор материалов был исследован лишь в последние несколько месяцев. Этот рассказ Вы читаете первым, поскольку я решил, что наилучшее место для его появления – это страницы «Нью-Йоркера». Жду Вашего ответа, затаив дыхание.
Заранее благодарен.
Гарольд Сильвер.
Снова звонит телефон.
– Я не готова сейчас выходить на публику, – говорит она мне. – Прошу вас продолжать работу, и поговорим, когда весь сборник будет готов.
– Разумеется, – говорю я.
Шарик сдулся.
Рикардо приезжает на неделю. Я вожу его в школу, домой его привозят на автобусе. Дома правила: в будни телевизор не включается, никаких видеоигр и без сахара.
– И что мне в этом хорошего? – спрашивает он.
– Что я о тебе забочусь.
Вечером мы играем, делаем уроки и гуляем с собакой. Я проверяю у него грамматику, математику, слежу, чтобы он мылся и принимал свои лекарства. Я готовлю ему завтрак и даю с собой перекус на дорогу домой на автобусе. К концу недели я готов ручаться, что дела у него лучше, но не знаю, то ли это правда так, то ли я к нему привык.
Я звоню в департамент социальных услуг – удостовериться, что нас рассматривают для одобрения в качестве приемной семьи.
– Ваши документы рассматриваются, и больше мы пока ничего сказать не можем, – сообщает мне женщина по телефону. – У вас есть рекомендации, справки, письмо из банка и заключение психиатра?
– Я ждал, пока вы скажете, что это нужно.
– Никогда не ждите нас, действуйте. А мы догоним.
– Хорошо, тогда есть какой-нибудь психиатр, которого вы рекомендуете? Который «в системе»?
– Понятия не имею. Я тут новенькая – обычно работаю в отделе механических транспортных средств. Не кладите трубку, я спрошу.
Жду, кажется, целую вечность.
– Никого не могла найти, поэтому покопалась по файлам одобренных семей. Вот несколько фамилий, к кому они обращались.
Я записываю, гуглю по фамилиям и звоню тому, у кого офис поближе.
Звонит кузен Джейсон – он получил от Джорджа письмо по электронной почте.
– Странно как-то, нет? Он же в тюрьме?
Я не признаюсь, что подарил Джорджу на день рождения айпад.
– Он меня зафрендил на Фейсбуке и послал сообщение: «Я всегда знал, что ты гей, так что прости, если смутил тебя на семейном обеде». Я подумал, что он участвует в какой-нибудь программе «двенадцать шагов» и заглаживает прошлые грехи. Не стал бы принимать это всерьез, но он говорил очень конкретно. Вчера он мне написал, что все мои друзья на Фейсбуке такие мужественные красавцы, и он готов ручаться, что в «этом» у меня недостатка нет. Я не знал, что сказать, потому и не ответил. Сегодня пришло еще одно – он спрашивает, есть ли у меня кто-нибудь в «Святой земле» и чтобы с банковским счетом.
– Какой у него адрес?
– Woodsman224@aol.com, – говорит Джейсон.
Я записываю.
– Я подумал, не вступил ли он в какую-нибудь секту или кружок странного направления, или у него угнали почтовый аккаунт. У меня такое было, и все мои друзья получили письмо, что меня ограбили в Лондоне и чтобы слали мне деньги телеграфом. Моим приятелям это обошлось в пару тысяч баксов.
– Я посмотрю, – отвечаю я. – А ты сам как?
– Нормально.
– А мама?
– Хорошо, насколько возможно в ее возрасте.
– Джейсон, не хочешь вместе поужинать?
– В городе?
– Да, это было бы хорошо, – отвечаю я.
– Но это же не будет, как бы сказать, важное и долгое мероприятие? – спрашивает он.
– Конечно нет, – отвечаю я.
– Где-нибудь перекусить на скорую руку?
– На скорую руку, – повторяю я.
– Прости за грубость, тебе что-то нужно конкретное? В смысле, есть вещи, о которых ты хочешь конкретно поговорить?
– Да нет, ничего такого.
– Ну и отлично, – говорит он. – Как-нибудь давай так и сделаем. Не прямо сейчас, но когда-нибудь – обязательно.
– Ладно, – говорю я. – Ты мне дай знать.
Я вешаю трубку, не зная, надо ли писать Джорджу, надо ли выходить на контакт с AOL и выяснять, действительно ли это его аккаунт? Не очень понимаю, хочу ли я быть «в контакте», чтобы со мной так легко было связаться? Продолжаю рисовать круги вокруг адреса, пока он не становится похож на работу спирографа. Прикалываю его к стене рядом с холодильником – на всякий случай.
Снова звонит Сара Зингер, глава школы, где учится Эшли.
– Не буду ходить вокруг да около. У меня такое чувство, что дальнейшее пребывание в нашей школе – не в интересах Эшли.
– Вы ее выгоняете?
– Мы ее защищаем.
– От кого? От своего же персонала?
– И других учениц. Отношения обостряются, а Эшли заслуживает более благоприятной для себя среды.
– Давайте не будем выплескивать с водой ребенка. Вы приписываете патологию ребенку, девочке, которая пережила трагическую смерть матери, распад семьи, злоупотребление со стороны педагога – авторитетной личности, которая должна была быть утешением и моральным ориентиром?
– Ее подгребли под себя геи и бо2и.
– Не знал, что у вас в школе есть группировки.
– Это не группировки – предпочтения. Ее приняли к себе ученицы-геи и не определившиеся со своим полом. Честно говоря, я не думаю, что ей у них место. И началось какое-то брожение, вроде «кто ей сильнее посочувствует» – как в тех экспериментах, когда ребенок неделю таскает с собой яйцо и ухаживает за ним, как будто это младенец. В данном случае разные фракции ссорятся за право заботиться об Эшли, а преподавателям, сами можете понять, приходится занимать пассивную позицию.
– Извините за каламбур, – бурчу я.
– Пора поискать иные варианты. Было бы хорошо, если бы она оставила нас раньше, а не позже – чтобы дать другим ученицам возможность начать возвращение к норме.
– Когда вы хотите, чтобы она ушла из школы?
– Чем скорее, тем лучше. Понимаю, что конец года совсем скоро, но котел готов взорваться. Я готова предложить вам полное возмещение платы за обучение и залога будущего года, что составляет семьдесят пять тысяч долларов, и мы дадим отличное рекомендательное письмо, где посоветуем взять ее на стажировку на остаток этого года. Она сможет и дальше развивать свой интерес к мыльным операм. Я найду кого-нибудь, кто это организует. Эшли говорила о желании работать в Эй-би-си в Нью-Йорке, но моя близкая подруга по колледжу руководит театром кукол в Скарсдейле, он называется. «Хиггледи-Пиггледи-Поп: кукольный дом». Это городской театр, и, думаю, место подходящее. Эшли сможет написать финальную работу о пережитом, сочетая свой интерес к театру, марионеткам и мыльным операм.
– Не слишком ли амбициозный проект для одиннадцатилетней девочки? Что думает Эшли?
– Она сейчас у себя в комнате, собирает вещи. Бо2и ей помогут нести тяжелое.
– Что ж. Я не думаю, что семьдесят пять тысяч закроют вопрос, – говорю я.
– Что вы имеете в виду – «закроют вопрос»?
– Учитывая ущерб не только для ее учебы, но и для эмоционального развития, обман доверия…
– Я могу дать сто пятьдесят, – перебивает она.
– Разговор начинается с двухсот пятидесяти, – отвечаю я.
– Мне нужно выйти с этим на школьный совет.
– Эшли никуда не поедет, пока не будет заверенного чека.
– Могу я вам перезвонить?
– Сделайте одолжение, – отвечаю я и вешаю трубку, довольный, что так рьяно отстаивал интересы Эшли.
Через час звонит Сара Зингер:
– Чек будет завтра к полудню. Сегодня я оставлю Эшли у себя.
– Берете заложника?
– Беру под защиту, – отвечает она. – И нужно, чтобы вы с Эшли дали подписку о неразглашении.
– Я дам, – говорю я. – Она не может, она несовершеннолетняя.
Перед тем как окончательно заключить столь существенное финансовое соглашение, я чувствую себя обязанным согласовать его с Хайрэмом П. Муди. Объясняю ситуацию, насколько могу, собираюсь сказать, что доволен этим соглашением – и вообще думаю, что отлично справился.
– Они вот так вот выкладывают четверть лимона баксов? – спрашивает он с каким-то веселым недоверием.
– Очевидно.
– На каких условиях?
– Я согласился не раскрывать информацию об инциденте.
– Это значит, вы не будете выдвигать обвинения?
– Не хочу, чтобы ребенка еще таскали.
– А что было на самом деле, вам известно? В смысле, если они готовы выложить двести пятьдесят, нельзя не задуматься, все ли они сказали. Например, у этой женщины могла быть венерическая болезнь.
– Если есть информация, которую они намеренно скрывают, то проблема окажется серьезнее, но у меня чувство, что они просто раздосадованы и волнуются о своей репутации. Когда я получу чек, отправлю его вам. И вы мне скажете, что надо будет, о налогах, о том, куда вложить эти деньги и как лучше ими распорядиться.
– Конечно-конечно. И вы меня простите, я не хотел никого обидеть насчет венерической болезни.
– Никого и не обидели, – отвечаю я, хотя это замечание показалось мне странным. Вешаю трубку и перевожу дыхание.
Заехав за Эшли, я вижу, что у нее обе руки забинтованы.
– Драматический эффект?
Она мотает головой:
– Гной.
– Твоя идея его замотать?
– Вряд ли.
Сара Зингер обнимает Эшли на прощание, как будто все так, как оно должно быть. Обнимая девочку, она передает мне тонкий белый конверт.
– Что это? – спрашивает Эшли.
– Информация о твоей стажировке, – отвечает Сара Зингер, глазом не моргнув.
До меня доходит: Эшли не знает, что ее вышибли из школы, а просто думает, что получила какую-то награду – привилегию раньше закончить год и получить работу в кукольном театре. Какие-то подруги бегут через школьный двор и порывисто обнимают ее на прощание.
– Пиши!
– Эсэмэску пришли!
– В днявку запости!
– Для и-бея собирай сувениры!
– Эшли, это надо прекратить, – говорю я, когда машина полностью загружена и мы едем домой. – Надо вернуться на правильную дорогу, а все эти лесбийские любовные истории, племенные шрамы воина – это малость в стороне лежит.
– А чего ты хотел от закрытой школы-пансиона?
– Надо нам к врачу сходить, может, тебе нужно какие-то лекарства попринимать.
– Я на антибиотике.
– Я о другом. События последних месяцев – такая штука, которую трудно пережить без небольшой фармацевтической поддержки.
– Но я нормально себя чувствую. Чуть выбита из колеи «печальным событием», как все это называют, потому что никто не знает, как еще сказать. Но если этого не считать, так жизнь у меня вполне нормальная, только мой отец убил мою мать, а мисс Рини меня потом завела очень-очень сильно, а сейчас у меня на руке гнойник и еще один на бедре, про который только ты знаешь и девочки, а так – ну все-все у меня в порядке.
Я виляю в сторону, объезжая здоровенного сурка, топающего через дорогу.
– Вот-вот, – говорю я, – вот и я о том же. У тебя чертова уйма такого, что приходится переваривать самой, а есть лекарства, которые иногда помогают поправить самочувствие. У тебя большой потенциал, лекарства же могут чуть-чуть улучшить жизнь.
– Это вроде как ума добавить? Мне все всегда говорили, что я тупица.
– Ты не тупица. Кто мог сказать такую глупость?
– Папа, – отвечает она, и мы долго молчим. – Не хочу я иметь карстовую зависимость.
– И я бы для тебя не хотел лекарственной зависимости.
– Но ведь так она начинается? Мне всего одиннадцать. Это же очень мало.
И снова мы какое-то время молчим.
– Я хочу уши проколоть, – говорит она. – Мама сказала, что можно. Можно?
– Нет.
– Ну пожалуйста!
– Ну, может быть.
– В выходные?
– Посмотрим. Как-то не уверен, что подобное поведение надо вознаграждать.
Следующие три дня она выкручивает мне руки: можно? Можно? Можно? И на уик-энд я веду ее в сувенирную лавку в молле. Это нечто среднее между тем, что мы называли «хед шоп» (магазин для наркоманов), где продают сигаретные гильзы, косяки и футболки с Джимми Хендриксом, и киоском поздравительных открыток «Холлмарк», но с секцией эротических новинок. Обслуживающая нас девица пропирсована сверху донизу – нос, бровь, губа и язык. Ее речь трудно понять: слова превращаются в кашу.
Пока девушка ищет пистолет для пробивания ушей, я шепчу Эшли:
– Видишь, какой судьбы тебе следует ждать, если ты вот так себя украсишь? Когда вырастешь, сможешь получить работу в магазине.
Эшли на меня смотрит, будто говорит: не поняла.
– Я считаю, что другие вещи это затрудняет, – например, учебу в колледже или получение хорошей работы, разве что твое вступительное эссе будет на тему принятия нативной культуры и совершения клиторидектомии.
– Чего-чего совершения?
– Ладно, проехали.
Звонит Уолтер Пенни.
– Какого черта ты думаешь? – спрашивает он неприятным голосом.
– Это кто?
– Пенни, – говорит он. – Уолтер Пенни. Знаешь, ты себе создал крупную проблему. Я тебе сейчас в задницу вставлю такой фитиль, что тебе покажется, будто тебе аденоиды рвут.
– Кажется, вы не тот номер набрали.
– С какого бодуна я стал бы набирать не тот номер? – орет он. – Я именно тебе звоню, чтобы на тебя наорать, несравненный академический идиот!
– А в чем проблема?
– В международной торговле оружием.
– Понятия не имею, о чем вы говорите.
– Конечно, понятия не имеешь. Еще бы имел. Так вот, прямо и в лоб: ты посылал брату айпад?
– Посылал, на день рождения. Решил, что ему приятно будет получить фотографии детей, или найти путь, если заблудится в лесу, или скачать фильм на холодный зимний вечер. Трудно придумать, что подарить такому человеку, как Джордж.
– Ты предоставил аппаратуру для нелегальной торговли. Мы тебя можем бросить за решетку и ключ потерять.
– У меня не было такого намерения.
– Открой почту – я тебе там послал кое-что.
Подхожу к столу и, как мне было сказано, открываю почту. Серия инфракрасных фотографий, где Джордж держит айпад на ладони. Какой-то другой человек заглядывает ему через плечо.
– Это твой брат?
– Определенно на него похож. А кто второй?
– Израильский торговец оружием, – отвечает Уолтер Пенни.
– Как он сюда попал?
– Один из наших заключенных из Нью-Джерси.
– Но вы же говорили, что программа у вас только для крутых ребят, а не средних офисных…
– Не скули. Этот тип – бывший торговец автомобилями, еврей-мафиози из Джерси, оставил семью и вступил в израильскую армию. Когда вернулся, у его жены был другой мужчина. Он убил этого другого прямо за обеденным столом, в упор, на глазах у всех. Самое смешное, что мы не хотели израильского коммандоса помещать в какое-нибудь стандартное заведение. С какого бодуна ты решил, что брату можно посылать «подарки»?
– Мне казалось важным послать подарок на день рождения.
– Кретин, ты открыл портал в свободный мир. Эти типы засели на «Амазон прайм», и товары сыплются каждый день – еда, одежда, порнография. – Он перестает орать и делает долгий, сдавленный, всасывающий вдох. – С чего начать? – говорит он. – Сейчас инцидент приобрел федеральный масштаб и попал под наблюдение секретной службы, Бюро по алкоголю и оружию, ФБР и ЦРУ – вот так вот. Можешь представить, сколько глаз сейчас изучает мою маленькую пилотную программу, в которую я столько труда вложил, ради которой делал свой зернистый логотип с четырьмя красками – желтой, зеленой, красной и черной! Можешь себе представить, как им хочется меня прикрыть? Ты меня огорчил, Сильвер. Когда я тебя увидел, мне показалось, что у тебя есть нормальные мысли и чувство справедливости. Ты корчил из себя мыслителя, а оказалось – обыкновенный идиот.
– Чем я могу помочь, чтобы исправить положение?
– Надо составить план, – говорит он.
– Телефон установлен на автоплатеж, я могу его отключить. Буду рад это сделать прямо сейчас, пока мы разговариваем.
– Ничего не делай! Не надо вызывать подозрений. Я свяжусь с кем надо, потом тебе перезвоню. А пока что: первое движение без моего ведома и согласия, – и ты за решеткой. Да! Придумай что-нибудь, что Джорджу хотелось бы иметь и что с «Амазона» не получишь.
Уолтер перезванивает через несколько дней.
– Я поговорил с заинтересованными ведомствами: БАО, ФБР, секретная служба, национальная гвардия. Мы тебя используем как наживку, чтобы выудить этого израильтянина.
– Я в вашем распоряжении.
– А куда ты денешься! Напиши Джорджу по адресу, который получил от Джейсона…
– Вы знаете про Джейсона?
– Он хороший мальчик, – отвечает Уолтер.
– Он участвует?
– У нас разные ресурсы задействованы.
– Вы вскрывали мою почту?
– Первым делом, – говорит Уолтер. – Джорджу скажи, что приедешь вечером в пятницу получить его подпись на каком-нибудь документе.
– Но я в пятницу не один – ко мне на уик-энд Рикардо приедет.
Уолтер Пенни будто и не слышит.
– Скажи Джорджу, – продолжает он, – что можешь приехать от шести вечера в пятницу и до шести в субботу.
Я так и делаю. Джордж отвечает, что согласен в любое время до заката в пятницу или после заката в субботу. Я звоню Уолтеру.
– Блин! – говорит Уолтер. – Это я и подозревал. Твой брат ударился в иудаизм. Они с Ленни соблюдают субботу – это мы и видели по вечерам в пятницу. Федералы не поняли – говорили, что они зажигают какие-то «сигнальные огни», а потом сидят и дремлют – будто ждут чего-то. Не доперли федералы.
– Джерсийский торговец подержанными машинами подсадил Джорджа на религию?
– Когда человек предоставлен сам себе, он способен на странные поступки. – У него звонит телефон. – Кто-то из больших мальчиков. Ничего не делай, пока я не позвоню.
Тем временем в ящике входящих появляется еще письмо от Джорджа:
«Когда приедешь, привези мои шелковые трусы – в шкафу наверху слева. И кухонную утварь – кастрюли, сковородки, лопатку, половник. И можно еще мамин старый подсвечник, не серебряный, а тот, стеклянный».
Чуть позже снова звонит телефон:
– Так какой там может быть подарок – такой, который ты можешь привезти, а ему не получить с «Амазона»?
– Шоколадное печенье тети Лилиан.
Я опускаю два момента: 1) у меня в распоряжении нет ее печенья; 2) рецепта, чтобы его воссоздать, тоже нет.
– Тут как на фронтире: твой брат и этот тип Ленни держат магазин. Плохие парни приносят им убитую утку – и получают шоколадный батончик. С помощью коробок с «Амазона» они себе построили что-то вроде форта в форте, в данный момент для нашей камеры непроницаемый. Похоже, они кирпичи слепили из речного ила.
– Навоза, – уточняю я. – Навоза и соломы.
– Дерьма и соломы? – переспрашивает Пенни.
– Да.
Печенье тети Лилиан. Я даю себе секретное задание – воспроизвести его и жестянку, в которой оно лежит. Съездив в ближайший магазин и купив там жестянку датского печенья, возвращаюсь домой, играю жестянкой в футбол, гуляя с Тесси, пропускаю ее через посудомойку, кручу как следует в сушильной машине с пачкой полотенец на максимуме температуры, – в общем, издеваюсь как могу, чтобы быстро добиться патины, которая иначе нарастала бы годами. Потом покупаю шоколадные полуфабрикаты, половинки грецких орехов, коричневый сахар, белый сахар, ваниль, масло, муку, соль и питьевую соду и не забываю очень важную столовую ложку теплой воды, о которой мне говорила Эшли. Вскоре я уже переворачиваю хоккейные шайбочки шоколада «толл хаус», размером, цветом и комковатой формой совпадающие со знаменитым печеньем Лилиан. Каждый день их остается все меньше и меньше – я ничего не говорю предположительным виновникам, кроме того, что веду счет и точно знаю, сколько штук должно быть. И предлагаю им два за одно из «дефектной» партии, которая на самом деле куда лучше.
Потом, выяснив все подробности, я звоню тетке Рикардо и говорю, что мне нужно задержаться в городе допоздна по работе, и не могла бы она приехать присмотреть за детьми.
– Конечно, – говорит она.
И тут начинается настоящее безумие. Потом я еще буду гадать, произошло все это на самом деле или мне приснилось.
Еду в указанное место, находящееся в часах пути от дома. Там меня встречает машина без маркировки и отвозит к заброшенному аэродрому, освещенному, как на съемках фильма. На грунтовой взлетной полосе стоит маленький частный самолет и два военных вертолета. К моему прибытию небо из сумерек погружается в непроглядную черноту беззвездной ночи. На траве неподалеку стоят несколько черных машин без маркировки, четверо парней в нейлоновых куртках Агентства по алкоголю, табаку и оружию, с десяток национальных гвардейцев в полном снаряжении, люди из секретной службы, пытающиеся выглядеть непринужденно в теннисках и джинсах, пара непонятных лиц, предположительно ФБР или ЦРУ, и Уолтер Пенни с планшетом и висящим на шее свистком, – совсем как тренер перед ответственной игрой. Поле залито светом гигантских прожекторов, и есть даже серебристый автокиоск, предлагающий горячий кофе и пончики.
Я вынимаю папку девять на двенадцать дюймов, где лежат бумаги, которые Джордж должен подписать: разрешения на школьные поездки, бланки форм, анкеты о здоровье детей для летнего лагеря, выпуск документов относительно ипотеки и так далее.
– Это все настоящее? – спрашивает Уолтер.
– В основном, – отвечаю я. – Так в чем наш план?
– Нам нужен айпад и этот израильтянин. А все прочее – меньше знаешь, крепче спишь.
Я вижу, что какие-то люди работают с моей машиной: у нее открыты капот и багажник.
– Я тебя туда пошлю с двумястами фунтами халвы, – говорит Уолтер Пенни, спотыкаясь на непривычном слове «халва». Произносит его так, будто репетировал перед зеркалом.
У меня тут же срабатывает выключатель – культурная глухота.
– Снова-здорово. Вы никогда ничему не учитесь?
– О чем ты болтаешь? – спрашивает Пенни.
– Иран-контрас, – говорю я. – Оливер Нортон, Роберт Макфарлейн, оружие за заложников. Им послали Библию, подписанную Рональдом Рейганом, и шоколадный торт в форме ключа. Испек его израильтянин, что характерно.
– Все равно понятия не имею, о чем ты лопочешь.
– Важно, что я имею, – говорю я. – Какой смысл в этой халве?
– Я решил, что она понравится этому персонажу. С высоким содержанием жира – таким ребятам оно нравится, и не такая штука, которую правительственный продовольственный банк может без труда раздавать при всех этих правилах насчет орехов и семян. Ее нельзя использовать в школьных обедах, больницах, приютах ветеранов или домах престарелых. И еще я подумал, что местным птицам она тоже понравится. Если этим людям она придется по вкусу, мы можем достать еще. В буквальном смысле – тонны.
– И в какой момент моего «задания» я должен сказать: «Кстати, у меня тут двести фунтов ближневосточных сластей, они же еврейская еда, в багажнике. Вас интересует?»
– Играйте на слух, – советует один из неопознанных.
– А почему участвует столько ведомств?
– Транзакции были международные, источников денег множество, и использовалась информация, считающаяся совершенно секретной. Слишком легко к ней получили доступ ваш брат и этот израильтянин.
– Вы думаете, он шпион? Двойной агент?
– Я думаю, пора закрыть рот и начинать работать, – отвечает человек из непонятного ведомства. – Одно указание: когда будете общаться с братом и его подельником, держитесь так, чтобы между вами и любым другим человеком была дистанция. Вы же не хотите оказаться случайной жертвой? Наши солдаты вооружены, вместо пуль – экспериментальные снаряды. Исследуем продукт на основе глицерина, вводимый проникающим дротиком. Чтобы можно было добавить дополнительный агент при желании.
– Агент?
– Нервно-паралитический, или какой-нибудь биологический агент, или снотворное. Ничего такого, о чем бы вам стоило волноваться.
Уолтер Пенни подводит итог:
– На этой неделе мы выбросили маркер, посылающий сигнал, – туда тебе и надо ехать. В твою машину мы поставили GPS-навигатор, он тебя приведет. И для вспомогательного персонала операции мы используем тот же маркер.
Наверное, у меня лицо непонимающее.
– Для солдат, – поясняет он. – Теперь в твоей машине жучки, микрофоны внутри и снаружи. Не разговаривай с нами и не связывайся никак в пути. Тебе ехать две с половиной мили по разбитой старой дороге, даже не дороге, а тропе.
Вдруг все приходит в движение, меня подталкивают обратно в машину – поторапливают.
Дорога темнее темного – будто едешь по туннелю, где никогда не бывает света в конце. Фары машины высвечивают дорогу лишь за полсекунды до того, как я проеду. И я двигаюсь вслепую на мигающий огонь. Несколько раз дорогу перекрывают упавшие стволы, приходится их объезжать.
Я подруливаю к месту, и навигатор выключается, даже не дожидаясь моего прикосновения. Пару раз мигаю дальним светом, потом вылезаю из машины.
Слышу шелест в кустах. На свет фар выходит Джордж. Он выглядит отлично – закаленный и обветренный, отдохнувший, как в воскресное утро.
– Привет, Джордж! Как жизнь?
Он подходит меня обнять, что для него вроде бы необычно.
– Ты меня обнимаешь или обыскиваешь? – Джордж не отвечает. – Рад, что ты получил мой подарок.
– Прием хреновый, – говорит Джордж. – Если облаками закрыто, ничего не получаю.
– А «Нетфликс»?
– Сильно тормозит.
– А можно взглянуть? Я еще ни одного сам не видел.
Джордж расстегивает куртку и достает айпад. Экран светится.
– Красивая штука, правда? – Я постукиваю по разным приложениям. – Как тут фотографии достать?
Джордж тыкает куда-то, и открываются фотографии детей, перемежаемые снимками автоматов, пистолетов и прочей военной техники.
– Это что? – спрашиваю я.
– Всякая фигня, – отвечает он. – Помнишь, как мы с тобой играли в солдат, в «Героев Хогана» и всякое такое?
– Ага.
– Ну, так я снова начал. Тут особо делать нечего.
– Здорово, – говорю я. Тыкаю в почтовый ящик – вываливается письмо на иврите. – Без очков не разберу, – говорю я, делая вид, будто не понял, что это другой язык. Пока не видел пусковых установок с арабскими надписями и электронных писем из Израиля, я не верил на самом-то деле Уолтеру Пенни: считал это какой-то идиотской игрой. Но сейчас все складывается. Джордж всегда любил быть важной шишкой, рулить и править, и больше всего в детстве любил играть в войну.
– Тормозит, сука! – Джордж забирает у меня айпад и встряхивает его, как рисовалку, где так стираются линии.
– Наверняка вскоре должен появиться более быстрый. – Я достаю пакет с бумагами, которые Джордж должен подписать. – Прости, что с этим пристаю; не мог дозвониться до твоего адвоката.
– Я тоже не могу. И на письма он не отвечает.
– Хочешь, поспрашиваю насчет другого?
– Можно, – говорит Джордж и подписывает документ за документом на капоте машины.
Я постепенно успокаиваюсь.
– Белье мое привез? – спрашивает Джордж.
– Ага.
– Это хорошо. А то здесь выдают дерьмо какое-то. Казенные плавки, вокруг ног натирают, потом бегать невозможно, и тесные, как черт. Яйца-то большие.
– Да, ты всегда так про себя говорил.
– Кастрюли-сковородки привез? – спрашивает он, не прекращая подписывать.
– Со мной. Много готовишь?
– Тут, знаешь, не тридцатиминутная зона доставки «Домино-пицца».
– И что готовишь?
– Сырный соус, арахисовый соус. Муки здесь полно, масла, сыра, арахисового масла и макарон. Сахара вот мало, нужно еще. У тебя с собой есть?
Я вытаскиваю из карманов пару пакетов сахарозаменителя «Спленда».
– Если бы ты предупредил, я бы…
– Свечи? – перебивает он меня, будто торопится.
– Вот те, что нашел, – говорю я, передавая ему свечи. – Это свечи Джейн.
Он берет их так, будто они самое важное во всем этом.
– Спички?
Открываю пассажирскую дверцу и копаюсь в отделении для перчаток. Вываливается всякое барахло.
– Сигнальные огни мне отдай, – требует Джордж. – Они могут понадобиться.
– Блин, как на Хеллоуин угощение просишь, – бурчу я, передавая ему сигнальные огни и все закуски, что приготовил на дорогу. Джордж хватает из подставки полупустую бутылку кока-колы и допивает до дна.
– Поразительно, – говорит он. – Как божественный нектар этот вкус. Чего бы им здесь, на фиг, не поставить автомат с колой?
– Я тебе подарок привез, – говорю я, вынимая жестянку с печеньем.
Джордж искренне радуется, но вид у него тут же становится озабоченным:
– Это жестянка Лилиан?
Я энергично киваю.
– Что случилось? Она умерла?
– Жестянку я одолжил, а с тетушкой все в порядке, – отвечаю я, неожиданно впадая в панику. Об этом-то я и не подумал: откуда у меня жестянка Лилиан. Только помнил, что ее печенье – хорошая приманка.
Я гордо открываю жестянку. В ней лежит точно такая же старая, сморщенная, редко заменяемая пергаментная бумага. Печенья бледноваты, но точно так же из них выпирают шоколадная крошка и половинки орехов.
– Сколько? – спрашивает Джордж, глядя на меня в ожидании, как ребенок. Он не понял, что стоит ему захотеть – и вся коробка его.
– Два? – предлагаю я.
– На каждого? – уточняет он.
Я пожимаю плечами, решив, что он хочет свои два, а потом еще и два мои.
– Они кошерные? – уточняет Джордж.
Вопрос застает меня врасплох.
– Не знаю, соблюдает ли Лилиан кашрут, – говорю я, искренне озабоченный.
– Думаю, да.
Джорджу хочется, чтобы это было правдой.
Из-за дерева прямо за моей спиной выходит его друг Ленни и пугает меня до чертиков.
– Так это ты и есть тот поц?
– Это Ленни, – говорит Джордж. – Участник программы.
Я протягиваю жестянку:
– Печенья хотите?
И тут они на нас налетают, как дурацкий Человек-Паук – с неба. Жестянку с печеньем выбивают у меня из руки. Люди повсюду, инфракрасные очки подмигивают красным, как глаза насекомых. Дым, путаница. Что-то вонзается мне в зад и швыряет меня на колени. Глаза жжет, я лежу на земле лицом вниз. Вокруг меня какая-то суматоха, потом тишина. Какие-то белые клубы засасывает наверх – я смотрю и вижу, как в восходящем потоке от вертолета раздуваются белые семейные трусы Джорджа. Смутно вижу впереди самого Джорджа: он лежит, распростертый, из раны на голове идет кровь.
Так же быстро, как началось, все заканчивается.
Израильтянина нигде нет.
Я заползаю в машину, на переднее сиденье.
– Вы мне глаза выжгли на фиг, ничего не вижу! – ору я, протирая глаза.
– Все будет нормально, потерпи малость! – говорит мне лишенный тела голос Уолтера Пенни. – И перестань глаза тереть, только хуже делаешь.
– И долго терпеть?
– Несколько часов. Может, до утра.
– Со всеми этими мертвецами?
– Это не мертвецы, это спящие.
– И думать забудьте! Бросить меня тут хотите? А если он разозлится, когда очнется? А если вы кого-нибудь пропустили? Или кто-нибудь захочет отнять у меня машину? Я гражданин, и у меня есть права.
Слышен разговор множества голосов, и кто-то говорит:
– Партнер наш тут развонялся и хочет, чтобы его отвезли домой. Можем кого-нибудь прислать, чтобы порулил его машиной?
Я начинаю дудеть в клаксон.
– Погодите.
– Не собираетесь меня забирать? Чтоб вас! – говорю я и снова давлю гудок. – Суки! Суки! Суки!
При каждом слове давлю на клаксон.
– У тебя микрофон установлен рядом с сигналом. Если не перестанешь гудеть, я тебя, блин, отключу. Через две минуты пришлем к тебе человека. Не вздумай снова гудеть.
Я слышу, как снижается вертолет. Глаза жжет, все расплывается, но я вижу, как спускается человек в полной экипировке. В руке у него зажата бутылка газированной воды, и сцена напоминает безумный рекламный ролик насчет утоления жажды на войне. Он приземляется, отстегивает шнур, на котором спускался, и дергает его. Веревку выбирают наверх.
Солдат подходит к месту водителя, похожий на огромное светящееся насекомое, открывает дверь, скручивает с бутылки крышку и брызжет водой прямо мне в лицо.
– Так лучше?
Я вылезаю, мокрый насквозь, обхожу машину и сажусь на пассажирское сиденье.
– У вас всего полгаллона бензина? – спрашивает он, запуская двигатель.
– Я вроде не проезжал по пути заправочных станций.
Он включает передачу, и мы трясемся вдоль по дороге.
– Вы правильно едете? – спрашиваю я. – Почему не свернули?
Протираю глаза рубашкой – не помогает. На ней та же дрянь, что в глазах.
– Слышь, безмозглый, а ведь поц-то прав, – говорит из спикера голос Уолтера Пенни. – Ты не туда поехал.
– Виноват, – отвечает солдат. – У меня малость дислексия.
Он разворачивает машину, давит на газ, и раздается громкое «бум». Это даже не звук, а мощное ощущение, будто во что-то стукнули.
– Что там у вас? – спрашивает Пенни.
– Похоже, какое-то животное сбили, – отвечает солдат.
– Будем надеяться, что животное, – говорит Пенни.
– Кажется, можем ехать дальше, – сообщает солдат.
Побитая машина хромает к финишной прямой. На дороге нас встречают две машины без маркировки и отвозят вновь на исходные позиции.
Я вылезаю. Мне дают бутылку с жидкостью для промывания глаз. Первым делом вижу побитый капот, покореженный радиатор, трещину в ветровом стекле и кровь.
Подходит Уолтер Пенни, смотрит на машину и вытаскивает из конверта белый бланк претензии.
– Всегда ношу с собой несколько штук. Правительственный бланк претензии, одинаковый на случай автоаварии или если тебя убили дружественным огнем. У правительства самостраховка – одна форма на все случаи. Но фишка тут вот в чем, – говорит он, помахивая бланком. – Действует только в том случае, когда ты был за рулем. Ты сам оттуда выехал?
Я в недоумении оглядываюсь. Солдат исчез.
– Ты сам приехал из леса? – повторяет вопрос Уолтер.
– По-видимому, – отвечаю я.
– Один?
– Похоже на то, – говорю я, выдергивая бланк у него из пальцев.
– Тогда можешь его использовать для претензий по машине и по собственной персоне.
– Вы в меня стреляли, – говорю я, не обращаясь ни к кому конкретно.
– И себя и машину – в одной и той же претензии, – напоминает Уолтер Пенни.
– Едва царапнуло, – говорит один из тех, что непонятно откуда. – Я запись смотрел.
– Вы очень похожи на своего брата, – говорит один солдат так, будто это все объясняет.
Я даже не спрашиваю, где израильтянин, но замечаю, что один из фургонов без маркировки уехал.
– Мы закончили? Я могу ехать?
– Да, – отвечает Уолтер. – Заправиться не забудь.
Меня провожают до дороги – она жутковата при полном отсутствии других машин. Жму домой со скоростью восемьдесят миль в час. Жал бы и больше, но при повышении скорости что-то начинает неприятно дребезжать.
Меня трясет, включаю отопление – ноль реакции. Лезу рукой вниз – сиденье автомобиля мокрое. Щелкаю подсветкой карты – сиденье потемнело от крови.
Небо за стеклами начинает светлеть. Сколько времени, я не знаю – часы в машине застыли на три сорок три. Незадолго до своего поворота я отклоняюсь от пути, заезжаю в местную больницу. С парковки посылаю эсэмэску тетке Рикардо, что задержусь дольше, чем собирался, и вижу шесть непринятых вызовов – сообщения от Эшли и Рикардо. Они пишут «привет», делятся анекдотами и спрашивают, когда я вернусь.
К окошку подходит охранник.
– Тут стоять нельзя, – говорит он. – Парковка только для пациентов.
– У меня задница в крови, – объявляю я, вылезая из машины. Он ведет меня к сестре приемного отделения.
– Что случилось? – спрашивает она.
– В меня стреляли, – говорю я и теряю сознание, падая на пол. Прихожу в себя на каталке, лицом вниз, голой задницей кверху, и кто-то ее фотографирует. Слышу, что уже сделали рентген и, к счастью, дробин не нашли.
– Надо почистить, – говорит врач. – Тут зашивать нечего.
– Мне новый фотоаппарат подарили на Рождество, могу сюда принести старый, – говорит чей-то голос.
– Какое у него разрешение? – спрашивает другой.
– Понятия не имею, но уж точно получше, чем у этого дерьма.
Они еще обсуждают технические вопросы, а я лежу с голой задницей. Один из них наклоняется и обращается ко мне:
– Мы сделаем вам анестезию на седалище и почистим, – говорит он. – Рана была глубокая.
– Как это случилось? – спрашивает другой, наклоняясь ко мне.
– Сам не очень понимаю. Как если бы «Избавление» скрестили с «Сиянием».
– Хотите сообщить в полицию?
– Нет, хотел бы не предавать огласке.
Тут же вижу, как они решают, что это был незапланированный поворот какой-то любовной игры.
– Пару вопросов мы должны вам задать, – говорит один из врачей, наклоняясь ко мне и глядя прямо в глаза. – Вам ничего не угрожает в собственном доме? Вас никто не бьет, не обижает? Отвечайте прямо, здесь стыдиться нечего…
– А похоже, что я стыжусь? Мне действительно нечего сказать. Не знаю, кто это был.
Мне дают карточку с телефоном «горячей линии» для мужчин, подвергающихся домашнему насилию, и всаживают хорошую порцию антибиотиков и противостолбнячной сыворотки. У меня, как у чертова Джорджа, сразу раздувается рука. Выходя из больницы, чувствую, как под кожей наливается горячий шар.
Заезжаю на автомойку и спрашиваю, не могут ли они что-нибудь сделать с сиденьем – может, паровая чистка?
– На оленя налетел, – говорю я, покачивая головой.
– Ага, похоже, – отвечает мойщик и оглядывает меня этаким интересным взглядом, замечая залитые кровью штаны. – Он в салоне сидел?
– Просто огромный был, – отвечаю я.
Добравшись до дома, я вижу на входной двери написанный веселыми разноцветными буквами плакат: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». Видно, что Эшли, Рикардо и Кристина почти всю ночь не спали и смотрят на меня с тревогой.
– Попали в аварию? – спрашивает тетка.
– Ты ездил к папе? Это он тебя так отлупил? – спрашивает Эшли.
– Ну и вид у тебя, – говорит Рикардо.
– Ну, в общем, были у меня приключения, – говорю я и ухожу в душ, потом принимаю тайленол, съедаю огромный завтрак и засыпаю как убитый.
– Я взяла отпуск по болезни, – говорит Кристина днем, зайдя меня проведать. – Не могу бросить вас с детьми в таком виде.
Я киваю и снова засыпаю, лицом вниз. Задницу жжет, в руке пульсирующая боль.
Не могу сказать, что визит человека из дорожной полиции штата был совершенно неожиданным. Он заехал спросить о наезде, который случился в сорока милях отсюда – водитель скрылся. Он объясняет:
– Мой шурин работает на мойке, и он фанат детективных шоу…
– Понял, – отвечаю я и даю ему карточку Уолтера Пенни.
Полицейский звонит Уолтеру, и тот, несмотря на поздний час, говорит, что да, была спецоперация, и был причинен ущерб и человеку, и автомобилю, но в целом все прошло хорошо, а других комментариев не будет.
– Так вы вроде оперативника, – говорит полицейский, вешая трубку. – Здорово. Теперь самое трудное будет об этом обо всем шурину не рассказать.
– На самом деле я лишь отставной преподаватель, которому иногда случается вляпаться.
– Ты на свадьбу придешь? – спрашивает мама, когда мой визит подходит к концу.
– Когда вы женитесь?
– Скоро. И чего ты все время стоишь? Уже больше часа ты здесь и все стоишь и стоишь с таким мрачным лицом?
– У меня ранение, – отвечаю я. – Сидеть мне сейчас трудно.
– Геморрой? – уточняет мама.
– Нет. А со свадьбой – дело решенное?
– Как понимать твой вопрос?
– Ты действительно собираешься за него замуж?
– Разве не потому я тебя и спрашиваю?
– Ну, да. Но что у вас общего?
– Мы старые. Мы оба любим движение. Мы любим играть, кидать и ловить мяч – нам дают для этого мячи «Нерф», из пены. Мы ими кидаемся. И самое главное, – говорит она, – я ему помогаю в карты играть. Он уже не так хорошо видит – потерял глаз при игре в гольф давным-давно, – и у него в голове звенит уже много лет.
– И это тебе в нем нравится?
– Мы хотим съехаться, – говорит она.
– У меня никаких возражений. И, как ты знаешь, вы со своим другом всегда можете приехать и жить дома.
– С тобой? – спрашивает она. – Ты же неряха. Я так рада была, когда ты выехал из моего дома. С чего это мне бросать его теперь и ехать убирать и готовить? Мне и тут хорошо.
– Брак – это вещь, к которой надо относиться серьезно.
– Да ерунда это, – отмахивается она. – Я бывала замужем. Ну, – говорит она, – я так понимаю, что ты не против?
Я прощаюсь и бегу по коридору, надеясь поймать кого-нибудь из администрации, пока они еще все не ушли.
– Простите, с кем мне тут поговорить о правилах вступления в брак ваших пациентов?
Меня долго перекидывают от одного к другому, хмыкают, жмутся, мнутся, и наконец находится некто, сообщающий мне:
– Мы не любим, когда вместе живут неженатые пары.
– Вот это меня меньше всего волнует, – отвечаю я, думая, в здравом ли уме моя мать и ее будущий муж. – Есть имущественные вопросы, которые следует учесть. Должен ли быть заключен добрачный контракт? В их возрасте не следует ли такое решение приниматься родственниками?
– Вы ее опекун? – спрашивает меня кто-то из сотрудников дома. – Вы готовы объявить ее недееспособной?
– Послушайте, я этого человека видел только дважды, и он уже называет меня сынок. Поэтому не знаю, к чему я готов.
– Иногда, – звенит колокольчиком голос социальной работницы, – мы проводим церемонии соединения, с настоящими цветами, костюмами, платьями и ведущим, выполняющим церемонии. Это вроде бы вполне всех устраивает. Мы сообщаем паре, что ведущее церемонию лицо штатом не уполномочено, но это дешевле официальной свадьбы. Я даю парам и их родственникам подписать документ, подтверждающий, что церемония не имеет юридической силы, и в случае развода или смерти одного из участников пары никаких имущественных и правовых последствий не наступает. Помощник юриста, который оформляет бумаги на отказ от реанимации, поможет вам его составить.
– Звучит разумно, – говорю я. – И тогда вы им разрешаете поселиться в одной комнате?
– Насколько они захотят и смогут, – отвечает она. – А пока что смотрите: ваша мать встает и ходит. Она танцует. Может, это не та женщина, которую вы знали, но кем бы она ни была сейчас, живется ей отлично.
По дороге домой я подъезжаю к окну выдачи «Чик-инн» и беру целую птицу навынос. Женщина на выдаче просовывает огромную горячую жареную птицу в окно, предназначенное, как мне раньше казалось, лишь для кофе и пончиков. Следом выдается пакет с сухарями и картошкой.
Идя к двери, я слышу с автоответчика голос Уолтера Пенни:
– Я получил вашу претензию: три тысячи восемьсот долларов за повреждение машины. Она должна быть рассмотрена в ближайшее время.
Я ставлю пакеты и слушаю пока, как он разливается.
– Не забывайте, у вас еще халва в багажнике. Похоже, она послужила балластом, когда этот кретин вас вывозил. О ее возвращении беспокоиться не нужно: раз мы ее выпустили из рук, обратно принять не сможем. Я хотел вам напомнить: оставлять ее в багажнике не следует, там, вероятно, слишком жарко. Да, кстати, вы печенье забыли в лагере – отличные штучки. В чем секрет?
Я больше не выдерживаю, беру трубку и отвечаю:
– Ложка теплой воды.
– Всего одна ложка? – удивляется Пенни.
Я обрываю пустой разговор:
– Где Джордж?
– Джордж жаловался на ранение, и мы его забрали, когда вы уехали, – непохоже было, чтобы его можно было там оставить после случившегося. Как только ему станет лучше, его переведут в более традиционное учреждение.
– А как же соглашение?
– Какое соглашение?
– Которое мы подписали в кабинете директора в «Лодже». Где говорилось, что Джордж не будет направлен в обычную тюрьму?
– У вас случайно нет его экземпляра? У меня, похоже, нет.
Не очень понимаю, какую игру ведет со мной Уолтер, но под каким-то предлогом заканчиваю разговор и тут же звоню адвокату Джорджа.
– У нас его и не было, экземпляра.
Днем я перезваниваю Уолтеру.
– Так если ни у кого нет экземпляра, значит, и соглашения нет? – спрашивает он.
– Долго ему придется сидеть?
– От пяти до пятнадцати. Сошлись на этом.
– Без суда?
– Поверьте мне, так лучше.
– Когда он выйдет, самое раннее?
– Года через три. Мы у него все-таки в долгу: этот израильтянин был хорошим уловом.
Поздно ночью я подъезжаю к синагоге и выгружаю халву на заднем крыльце. Оставляю записку: «Халва хорошая. Оставляю ее здесь, поскольку одному не справиться».
Пока я разгружаюсь, возникает раввин, незаметно вышедший из боковой двери. Он смотрит на меня с явным испугом, будто я – религиозный террорист, выгружающий взрывчатку у дверей синагоги.
– Да это же халва! – говорю я ему.
– Чего?
Знакомый раздраженный тон старого глухого еврея.
– Халва! – ору я как можно четче.
Он подходит ближе, я представляюсь братом Джорджа и вру:
– Недавно я тут делал одну работу, и мне часть платы выдали халвой. Я подумал, может, при синагоге есть раздача провизии.
– У нас есть школа для детей и летний лагерь для пожилых.
Вот сейчас как раз нужный момент. Мне удалось привлечь внимание раввина, и эту вот встречу я несколько месяцев назад и пытался организовать. Шанс получить хороший совет.
– Так как вы думаете, – спрашиваю я, – был Никсон на самом деле антисемитом или нет?
И сам себе удивляюсь.
– Никсон? – переспрашивает раввин.
Я киваю.
– Вы спрашиваете про Никсона?
– Да.
– Сукин сын он был, ненавидел всех, кроме себя. Но злит меня не он, а Киссинджер, никогда не умевший за себя постоять. Сдал он нас со всеми потрохами.
На стоянку заруливает полицейская машина.
– Падре, тут у вас все в порядке?
– Да, спасибо, – отвечает раввин.
Коп смотрит на меня с таким выражением лица, будто где-то меня уже видел.
– Ехали бы вы домой, мистер, – говорит он. – Дайте падре ночью поспать.
Он маячит рядом, пока я не прощаюсь с раввином, а потом едет за мной почти до самого дома.
Выполняя квест на звание приемного родителя, я записываюсь на прием к доктору Таттлу, психиатру. Это может показаться странным, но я никогда у психиатра не был, и потому к офису на первом этаже маленького стрип-молла приближаюсь с некоторым трепетом. Справа от его «номера» находится «Смузи кинг», слева – химчистка, а за ним – магазинчик сотовых телефонов. Окна кабинета закрыты широкими вертикальными металлическими шторами производства этак года семьдесят седьмого, в приемной темно, потолок обит звукопоглощающими панелями, пол покрыт сплошным ковром цвета овсяной муки. Шесть кресел с проседающими плетеными сиденьями стоят по два, как парочки. Стеклянный столик с грозящей рассыпаться стопкой журналов, мусорная корзина такая маленькая, что будто говорит: не бросайте в меня ничего. Усаживаясь, я замечаю в углу одинокое колечко «Чириос», а потом еще – целую кучку их, приткнутых к плинтусу, будто отодвинутых туда пылесосом. Много плакатиков с надписями вручную на бумаге и кое-как заламинированных скоч-лентой.
Если нужно в туалет, обратитесь в «Смузи кинг» и спросите ключ.
Если нужно заплатить за парковку, спрашивайте. 1 час бесплатно.
Психиатр открывает дверь и приглашает меня зайти.
– Таттл, – говорит он, пожимая мне руку.
Рука влажная, пахнет духами и спиртовым лосьоном. Я сразу замечаю у него на столе жидкость для мытья рук – образец от компании, производящей лекарства. Таттл невысок и тощ, преждевременно сгорбленный, макушка сверкает, лишенная волос, но окружена по всему периметру кольцом соломенной бахромы, более длинной, чем сейчас носят. На переносице роговые очки. Они все время сползают, и Таттл возвращает их на место, морща нос. В кабинете те же металлические жалюзи, что и в приемной, и было бы темно, если бы не дневное солнце, отражающееся от припаркованных на улице машин.
– Присаживайтесь, – говорит Таттл, показывая рукой на потертый диван.
Я смотрю ему за спину. На краю стола ровным рядом расставлены прозрачные чашки из «Смузи кинг», каждая наполнена меньше чем на четверть, одна желтая, одна розовая, одна фиолетовая. Манго, клубника и ассорти выстроились, как реактивы в лабораторном опыте. Стоит старый полупустой пятицентовый автомат с жвачкой, там есть что-то вроде грязноватого арахиса и стопок исписанной бумаги. Громко гудит кондиционер.
– Прежде всего немного информации: имя, адрес, телефон?
Я отвечаю.
– Кто ваш работодатель?
– Я сам.
– Страховка? Я не принимаю страховок, но за каждый прием буду давать вам счет, который вы можете предъявить для оплаты. Первый прием – пятьсот, продолжается час, последующие – сорок пять минут и стоят двести пятьдесят. Я – психиатр, но не соцработник и не психолог. – Он внимательно на меня смотрит. Очки, похоже, увеличивают – глаза у него огромные. – Какие лекарства принимаете сейчас? Лежали в стационаре?
Я сообщаю об инсульте.
– Есть у вас диагнозы, с которыми вы знакомы? Как вам описывали ваше состояние? Каким ведомством направлены?
– Мне назвала вас одна девушка из социальной службы, – отвечаю я, думая, что здесь как-то не совсем так, как должно быть.
– Вам нужно свидетельство для анализа на наркотики? То есть я должен смотреть, как вы мочитесь?
– Нет.
– Это хорошо. Когда я смотрю, как кто-то мочится, у меня возникает чувство, что мне тоже надо. На самом деле я в таких случаях вызываю одного из работников «Смузи кинг», чтобы он смотрел. Неприятно видеть на человеке его водопровод, если потом приходится расспрашивать, как у него с женой. Кроме того, я случайно знаю, что туалеты держат под наблюдением, так что у пациента мало шансов что-нибудь учудить. Но я ушел в сторону – речь не обо мне и не о «Смузи». Чем могу быть вам полезен? – Он опускает блокнот, кладет ногу на ногу и снова смотрит на меня. Морщит нос, чтобы поднять очки к переносице. – Я бы начал с вопроса: с какого рода людьми вам обычно приходится работать?
– Широкий спектр, от судебной экспертизы по ребятам, которые попали в неприятности, до вопросов сдерживания гнева у женатых мужчин. Попадаются пожилые дамы, которые хотели бы прожить жизнь иначе, и приличное число подростков женского пола, желающих умереть. А что привело сюда вас?
– Я подал заявление, чтобы меня утвердили приемным родителем, и мне нужно заключение психиатра. – Я протягиваю ему бланк. – Вы среди тех, кого рекомендует департамент социальной службы.
Он берет бланк и смотрит так, будто впервые видит.
– Это будет прямое направление недавно осиротевшего мальчика, имеющего некоторые проблемы в обучении.
– Вы были когда-нибудь под арестом?
– Нет.
– Любите ли смотреть порнографию?
– Не особенно, – отвечаю я. – Но есть один момент, – говорю я и для начала рассказываю ему о Джордже. Он внимательно слушает, как будто действительно слышит впервые. Либо он не читает газет, либо очень хорошо умеет скрывать то, что знает.
– Пусть тот и бросит первый камень, – говорит доктор, когда я проясняю свою роль в домашней катастрофе. – Итак, до всего этого, до последнего Дня благодарения, вы вели обычную жизнь. Ни интрижек, ни отношений вне брака?
– Самую что ни на есть обычную.
– А дети?
Я ему объясняю, как познакомился с детьми, как они оказались куда интереснее, чем я ожидал, и я их полюбил. Рассказываю в подробностях о путешествии в Вильямсберг.
– Сейчас состоите в каких-либо сексуальных отношениях?
– Да, с местной девушкой из очень хорошей семьи.
Говорю, будто хвастаюсь.
Он пожимает плечами, будто хочет сказать: «Откуда вы знаете?»
– Итак, этот мальчик, Рикардо, которого вы хотите взять на воспитание…
– Он выжил в той аварии, и дети брата хотят ему помочь, а тетка, на попечении которой он остался, выбивается из сил…
– Так почему вы думаете, что годитесь для этого?
– Хороший вопрос, – говорю я.
Он кивает.
– Мне этот мальчик небезразличен. Я много лет работал преподавателем. У меня есть время и силы, чтобы сосредоточиться и понять, что ему нужно и как это для него добыть. Я очень сожалею о том, что произошло, и очень хочу ему помочь преодолеть последствия.
– Вы будете посылать его в школу?
– Каждый день.
– А если ему нужна будет специальная школа?
– Я найду лучшую и буду бороться, чтобы расходы взяла на себя образовательная система штата, которая по закону обязана обучать всех детей, независимо от ограничений. В зависимости от исхода этой борьбы посмотрю, что смогу сделать.
– Будете ли вы при всем при этом иметь в виду усыновление?
– Дети хотели бы, чтобы я его усыновил. Не уверен, что того же хотят его родственники. Но, в общем, я буду иметь это в виду в дальней перспективе. Не такой это шаг, к которому я могу отнестись легкомысленно.
– А в чем заключается ваша работа как лица свободной профессии?
«Свободной профессии» он произносит медленно, будто это какое-то сомнительное понятие.
– Я много лет преподавал историю – в основном период правления Никсона. Как специалист по Никсону, работаю над книгой о нем и еще работаю с родственниками Никсона в некотором особом проекте.
– Интересно. А что вас привлекло к Никсону?
– Никсон – человек из другого времени. Старомодный почти до отсталости, невероятно неприятный (знал он об этом или нет), желчный самоненавистник, сверхрефлексирующий и при этом невероятно самоуверенный.
Психиатр кивает:
– Не так уж необычно – мотивированность и противоречивость одновременно.
– Меня это захватило – его тяжелый труд, его паранойя, его эмоциональная неустойчивость. И даже будучи президентом Соединенных Штатов, он не вписывался в рамки.
– У вас есть название для этой книги?
– «Пока мы спали: американская мечта, обернувшаяся кошмаром. Ричард Никсон, Вьетнам и Уотергейт: психогенная точка плавления».
– Довольно подробное название.
– Я очень много думал о наркоте, которая называется «Американская мечта как американское оправдание», – наркоте, открывшей дорогу американскому падению. Не убили бы Кеннеди – не стал бы президентом Джонсон, вымостивший путь Никсону. Семена Никсонова «успеха» были посеяны в момент провала – горячего и потного провала в телевизионных дебатах и проигрыша выборов тысяча девятьсот шестидесятого года. Посмотрите на идущих подряд президентов, и становится понятно: от одного к другому психология президента меняется, и все, все эти изменения связаны с невысказанными нуждами, желаниями и противоречиями американского народа. Я пишу о Никсоне как контейнере всего того, чем была в тот момент Америка, и почему мы его выбрали и на какие его действия надеялись…
Я увлекаюсь, почти нападаю уже, прыгаю по всему кабинету, жестами подчеркивая ударные слова.
– Вы очень эмоционально, вижу, относитесь к этой теме, – говорит Таттл. – Но какова ваша мечта, чего хотите вы сами?
– Ничего.
– Правда?
– Правда, ничего такого не могу придумать.
– Это самонаказание такое – не хотеть ничего в обществе, которое только и делает, что чего-то хочет? – спрашивает Таттл.
– Вы так думаете?
– У вас совсем нет желаний? – интересуется он.
– Весьма ограниченные.
– Депрессия?
Я пожимаю плечами:
– Не думаю.
– Что же тогда?
– Удовлетворенность? Отсутствие потребностей?
– А такое бывает? – спрашивает доктор Таттл.
– Это вы мне скажите. Удовлетворенность – это смерть? Надо ли что-то хотеть, чтобы быть живым? Может ли человек стремиться к нематериальному?
– Мудрее было бы, мне кажется, стремиться к объектам более реальным и менее переменчивым, чем ощущение состояния, на которое нельзя рассчитывать наверняка, – возражает Таттл. – Сейчас вы себя хорошо чувствуете, но что-то случится, скажем, и ощущение будет уже не такое хорошее. В вашей модели нет запасного рубежа. Вы не сможете сказать: «Ладно, чувствую я себя полным дерьмом, зато у меня хотя бы есть отличная машина и вот такой телевизор».
– А почему не сказать: «Сейчас мне плохо, но раньше бывало хорошо, и есть шансы, что снова будет»?
– Ну, это от большинства людей потребовало бы очень, очень многого, – говорит он, откидываясь в кресле и ритмично постукивая пальцами друг о друга.
Смотрит на часы – одна из первых цифровых моделей, где крошечные пластинки с цифрами падают вперед каждую минуту.
– На сегодня у нас время заканчивается, – говорит он. – Будем назначать следующий сеанс?
– Я надеюсь, вы сможете заполнить для меня эту форму, – говорю я, кивая на мятно-зеленую бумагу, которую отдал ему. – Это заключение психиатра для департамента социальной службы в ответ на запрос, гожусь ли я в родители.
– Оставьте ее у меня, – говорит он. – К концу нашего следующего сеанса я ее смогу заполнить.
– То есть за заполнение формы я должен заплатить семьсот пятьдесят долларов?
– Это для вас проблема? – спрашивает Таттл.
– Нет, я просто хочу быть уверен, что правильно вас понял.
Таттл кивает:
– В это же время на будущей неделе?
Где-то в течение дня, когда я ничем не занят с детьми, не навещаю мать, не работаю над рассказами Никсона в офисе на Манхэттене и не сижу у Джорджа за столом, отделывая свою книгу, я вижусь с Амандой.
Мы встречаемся на парковках в перерывах между делами. Аманда мне рассказывает, что нового в продуктовом магазине – расширили пролет «этнических» продуктов, больше стало полуфабрикатов, которые только разогревать, одна кассирша обвешивает покупателей. Аманда для меня – ребус. Я говорю, что хотел бы узнать ее лучше.
Она в ответ молчит.
Я начинаю ей рассказывать о грядущей свадьбе моей матери – она меня обрывает:
– Как личность ты меня не интересуешь.
Звучит оскорбительно, но я не оскорбляюсь. Мне кажется, она говорит неправду.
Вечером, перекрашивая туалет наверху, я разговариваю с Нейтом по громкой связи.
– Надумал что-нибудь насчет бар-мицвы?
– Да, – отвечает он. – Давай отменим.
– Отменим бар-мицву? – уточняю я.
– Ага. Не могу я войти в эту синагогу.
– А если провести ее в другом месте?
Я обмакиваю кисть в полуглянцевую краску и провожу ею по стене.
– Где, например?
– Дома? – предлагаю я. – Я тут навожу марафет как раз.
– Дома ее и убили, – отвечает он без интонаций.
– В загородном клубе? В отеле?
Я снова обмакиваю кисть.
– Более чем неловко получается, – возражает Нейт. – К тому же наш ребе – пустое место.
– Да, надо придумать что-нибудь особенное. Может, поехать куда-нибудь?
– Например, в Диснейленд? – говорит Нейт, и я вспоминаю, что разговариваю с мальчиком двенадцати лет.
– Я думал про что-то более существенное. В корне иное.
– Ну, не знаю, – говорит он. – Есть одно место, куда бы я хотел съездить… обратно в Нейтвиль. Но не знаю, попаду ли туда когда-нибудь.
– Тебе двенадцать лет, и ты беспокоишься, что никогда туда не вернешься?
– А ты не дразнись.
– Так что – хотел бы ты в Южную Африку?
– Наверное.
– Только в Нейтвиль, или еще куда-нибудь, на сафари, скажем?
– Сафари – это было бы здорово. Эшли берем?
– Конечно.
– А Рикардо?
– Если хочешь.
– Класс, – говорит Нейт, явно искренне довольный.
– Хорошо, – отвечаю я и отступаю, глядя на уже сделанное. – Посмотрю, что смогу найти.
Кто-то звонит мне, слышны гудки. Я прощаюсь с Нейтом и отвечаю на вызов.
– Твоя мать звонила моей, – заявляет Джейсон.
– А где «здравствуй»? – спрашиваю я, спускаясь со стремянки.
– Все было очень мило, пока она не пригласила мою мать на свадьбу и не расстроилась, услышав ответ: «Я на твоей свадьбе уже была, ты забыла, что ли?» И твоя мать говорит: «Помню, конечно, но я про сейчас, я опять замуж выхожу». В общем, если коротко, моя мать теперь думает, что твоя из ума выжила.
Кисть выпадает у меня из руки, отскакивает от стенки, от умывальника и плюхается в унитаз.
– На самом деле она в отличном состоянии; она познакомилась там с одним человеком, – объясняю я Джейсону, выуживая кисть из унитаза и отряхивая ее.
– И ты ей позволишь выйти замуж?
– Не уверен, что этот вопрос полностью в моей компетенции. – Я останавливаюсь: до меня доходит, что Лилиан может знать жениха. – Послушай, а ты спросишь у своей мамы, знает ли она Боба Голдмана? Они же все из одной школы, так что имя может оказаться знакомым.
– Ты про Бобби Голдмана, маленького братика Йоты Голдман?
– Возможно.
– Так это тот, который был в детстве так несносен. Он в синагоге спустил в унитаз придворный коврик.
– Я думаю, он был тогда спортсменом, – отвечаю я, как будто спустить коврик в унитаз почему-то можно считать спортивным поступком.
– Голдман играл в профессиональной лиге пару сезонов, а потом был ведущим на радио под именем Боб Голд, чтобы никто не догадался, что он еврей.
– Откуда ты все это знаешь?
– Потому что когда наши родители сидели и разговаривали, я внимательно слушал. А вы с твоим братцем были слишком заняты попытками убить друг друга.
Я останавливаюсь, будто налетел на стену.
– Мы пытались убить друг друга?
– Вы вечно дрались.
– Правда? Я такого не помню.
Рикардо приезжает на неделю, возвращается домой на пару дней и снова приезжает с приличной сумкой, набитой вещами. В моей новой жизни появляется нерушимое расписание: в шесть утра проснуться, в шесть пятнадцать – разбудить Эшли, в шесть тридцать разбудить Рикардо, накормить и выгулять животных и детей, в семь сорок пять высадить Рикардо возле школы, в восемь сорок пять отвезти Эшли в кукольный театр, где она работает над грядущим выпуском спектакля «Ромео и Джульетта». Потом – если я в этот день не работаю в городе, – обратно домой, уборка, магазин, работа, потом приготовиться к возвращению Рикардо в половине пятого. Тесси быстро выучила расписание и предсказывает появление желтого школьного автобуса секунд за сорок пять. Она лает – известить меня, что настало время. Автобус останавливается, отъезжает узкая дверь, Рикардо спрыгивает и шагает прямо по газону. Огромный рюкзак создает впечатление, что следом за ним идет еще один человек. Мы быстро перекусываем, и чуть позже подъезжает машина, и оттуда выходит Эшли, неожиданно похожая на молодую взрослую женщину. Она идет к дому, по дороге набирая сообщения. В те дни, когда я в городе, Рикардо остается в школе позже или же его забирает Кристина или ее подруга. Тогда мы заезжаем за ним к половине седьмого и идем есть пиццу.
Кухня увешана расписаниями домашних заданий интенсивной программы, которую мы начали для обоих детей. Рикардо теперь еще в команде пловцов и в футбольном клубе. Я купил на дворовой распродаже подержанный стол для пинг-понга, установил в гостиной, и мы играем навылет и двое против одного. Быстрота и необходимость координации руки и глаза хорошо влияют на остроту ума.
В адвокатской конторе эти печально известные коробки держат в хранилище. Поскольку материалы не имеют официального статуса и никак нигде не зарегистрированы публично, хранители очень следят, чтобы не выпустить их из-под замка. Каждый день, когда мы с ними работаем, огромное хранилище открывают, его служитель снимает коробки с полки – ставит их и наш рабочий компьютер вместе с распечатками на металлическую тележку, и я ее везу в свой офис вместе с запертым ящиком для папок.
Чинь Лан сидит у меня в офисе и читает вслух черновики, я тем временем их размечаю. Произношение у нее неправильное, это заставляет меня внимательно слушать и тщательно редактировать. Она записывает мои поправки, распечатывает страницы, и мы повторяем тот же цикл. Мне нравится звук ее голоса: приходится потрудиться, чтобы понять смысл. Чинь Лан занимается на курсах редакторов, и ей это очень нравится.
– Эти пометки – почти китайское письмо. Почти.
У нас тринадцать рассказов и двадцать восемь фрагментов разной длины – от трехсот пятидесяти слов до бессвязицы в восемнадцать тысяч слов, которая мне кажется блестящим бредом, порождением если не психоза, то явно каких-то веществ. Темы варьируются от пасторали (как нюхать попку дыни, чтобы определить ее спелость, и почти любовная страсть в описании грозы, несущейся по полям в летнюю ночь) до тщательного исследования ценности человеческой жизни, если у человека есть своя жизнь, отдельная от той, которую он ведет со своей семьей, частная жизнь, о которой никто больше не знает, «где он может быть собой, не опасаясь ничьего разочарования или отвращения».
Чинь Лан каждый день обедает с родными в магазине. С самого утра ее ждут, чтобы она пришла и заложила товар на полки, куда они не достают – она у них вместо стремянки. Не желая мешать, я перестаю ходить в магазин и начинаю обедать в одном заведении за два квартала, но потом чувствую себя предателем и возвращаюсь в магазин.
– У нас хорошее чистое место, у нас литер «А» от департамента здоровья, – говорит мать Чинь Лан. – Другое место кушаешь – паразит в кишках будет.
– Я не хотел мешать вашему семейному общению.
– Ты есть член нашей семьи, – говорит она, усаживая меня за стойку, где вся семья уже сидит на бочках из-под огурцов и ест еду, принесенную из дома в ярких пластиковых контейнерах. – Свинья лета?
Она палочками для еды поднимает небольшой мясной шарик.
– У меня сестра работает в столовой, приносит домой излишки, – объясняет Чинь Лан.
Я съедаю «свинью лета» и лишь тогда понимаю, что это была свиная котлета.
– Хороший мальчик. Ты черепаха кушаешь?
– Нет, – отвечаю я.
– Ты не пробовал, – говорит женщина. – Очень хорошо, как крепкий курица. Конджи?
– Никогда не пробовал.
– Ты будешь полюбить. Рис, как сливки из пшеница.
Я киваю.
– Креветка?
– Да, конечно.
– Бок чой?
– Всегда, – отвечаю я для поддержания разговора.
– У моей сестры ресторан в Лос-Анджелес, у двоюродной сестры – в округ Уэстчестер. Мы у вас называемся пищевики.
Она подкладывает мне риса на тарелку.
После обеда мать сует мне еще один батончик «Херши» – эта традиция выработалась у нас почти сразу.
– Шоколад поднимает настроение, – говорит она.
Возвращаясь в контору, я захожу в суперстор за офисными принадлежностями. Хожу по рядам, любуясь изобилием. Нахожу флуоресцентные наклейки, которыми можно будет обозначать, как используются у Никсона различные языковые средства и интонации. Отметки должны быть содержательными, но не слишком часто повторяющимися.
Сжимая в руке пакет с приобретениями, как большой леденец для взрослых, я вхожу в лифт и нажимаю «16».
– Заработались? – спрашивает человек сзади. Он стоит у меня за левым плечом; чтобы его увидеть, мне бы пришлось развернуться.
– А то, – отвечаю я, пытаясь повернуться к нему. Вижу только край бейсбольной кепочки, синюю ветровку, темные штаны и туфли. Я бы сказал, неопределенного вида мужчина лет от пятидесяти до семидесяти, белый, ничем не примечательный.
– Я буду краток, – говорит он, не меняя тона. Остальные пассажиры лифта то ли не слышат его, то ли не слушают. – Ты совсем ничего не понимаешь – как мальчишка, офонаревший от любви. Все это гораздо глубже, чем ты можешь себе представить. Во-первых, Хотинер держал все под контролем. Во-вторых, пусть даже до дела и не дошло, но между Диком и Ребозо любовь была очень горячая. В-третьих, все давно знают, что утром в день убийства Никсон был в Далласе, и с ним Говард Хант и Фрэнк Стерджис. Слишком какое-то удобное совпадение, что они же были взломщиками в Уотергейте – посмотри на этих жлобов, или агентов секретной службы, на травяном холме. А этот проклятый читательский билет Ферри оказался в бумажнике Освальда! – Он смеется, и одна пассажирка лифта оборачивается. – Они мотались на Кубу туда-обратно, играя за обе стороны – и за мафию. Проверь, кто там был – и бинго! – это была тройная игра. – Пауза. – А ты знаешь, что Джек Руби работал в сорок седьмом на Никсона под именем Джек Рубинштейн? Короче, мальчик мой: ни хрена у тебя нет, голый кукиш.
Я не могу удержаться от звука – чего-то среднего между возгласом и хмыканьем.
– Не над чем тут смеяться. Позволь мне высказаться совершенно ясно! – говорит он, и что-то знакомое слышится в его формулировках. – Это не кто-то конкретный, а группа этих «кого-то». Ни у кого руки чистыми не остались. Пешки, все мы пешки. Нет человека, которого нельзя было бы купить, и нет человека, которого нельзя было бы свалить. Это как ярмарка уродов. – Он на миг замолкает. – Дядя Бебе купил твоей маленькой Джулии дом в подарок на свадьбу. Как ты думаешь, она регистрировалась для этого у «Тиффани»? Я за такими вещами слежу, я фанат истории. В правительстве полно таких, как я, парней, которые думают, будто что-то знают, они умные, да только недостаточно умные, сукины сыны. Уотергейт – такой был внутренний инцидент, «эксцентрическая комедия ошибок», как назвал его Никсон, который раздули непропорционально – если посмотреть на все остальное. Как говорил сам Никсон: «Отковырнешь корку – а там чертова уйма всякого, и мы просто чувствуем, что дальше лезть просто не надо ни за что. Тут же и кубинцы эти, и Хант, и куча надувательства, к которому мы сами никакого отношения не имеем». – Незнакомец мой замолкает на секунду, потом начинает снова, и на этот раз передо мной совершенно необъяснимая имитация Ричарда Никсона: – Видишь ли, проблема в том, что это начисто, полностью вскрыло историю залива Свиней, и у президента такое чувство… в общих чертах, такое: не надо слишком сильно врать и говорить, будто совсем никак не причастен; скажи просто, что это была комедия ошибок, не вдавайся в детали, скажи: президент считает, что вся история залива Свиней вскроется снова.
Он останавливает, прокашливается.
– Так как тебе рассказы?
– Нравятся, – говорю я, забывая на миг, что никто об этих рассказах не знает.
– И тот, который с руганью?
Я киваю.
– Это про меня, – подмигивает он. Лифт открывается, мужчина выходит. – Делай как следует свое домашнее задание, и удачи тебе.
Я доезжаю до самого верха, спускаюсь снова в вестибюль и прошу охранника у входа показать мне запись видеонаблюдения из лифта. Этот человек стоит там, где камера не в фокусе, будто знает, куда именно встать. Виден только край его бейсбольной кепочки – даже нельзя сказать, что он обращается ко мне, только у меня лицо все более и более взволнованное, и я оглядываюсь, будто проверяю, слышит ли кто-нибудь то, что слышу я, и что это для них для всех значит.
Это какая-то проверка? Не хочу никого нервировать, но, с другой стороны, эту проверку мог затеять лишь тот, кто в курсе, и разумно будет о ней сообщить. Я спрашиваю Ванду, не может ли она зайти ко мне в кабинет. Она приходит и останавливается в дверях. Я ей рассказываю про этого человека, про его бейсболку и так далее.
– Он стоял за вами, – говорит она. – Он будто точно знал, кто вы, и говорил то, чего вы раньше не слышали.
– Да, – отвечаю я, взволнованный, что вот сейчас мы что-то определим.
– На записях видеонаблюдения ничего?
– Размытое пятно, – говорю я.
Ванда кивает.
– Он здесь уже много лет – то появляется, то исчезает, – говорит она, не очень впечатлившись всей историей.
– Да кто же он? Какой-то полоумный навязчивый гость?
– Вроде того, – отвечает она. – Были и другие, но их осталось маловато – поколение уходит.
Я все еще озабочен.
– Людей в мире полно, – говорит Ванда.
Жду продолжения, но она ничего больше не добавляет.
Сколько других? Сколько еще всякого, чего я не знаю? У меня такое чувство, будто стоит начать копать, и поток информации окажется не только бесконечным, но передаваемым под столом от одной администрации к другой, будто где-то есть куда более всеобъемлющий сценарий, доступ к которому имеют только президент и его люди. И понятно, что стоит тебе взглянуть на этот сценарий, не только ты навеки станешь другим, но выяснится: выверты и повороты партийных политических течений так переплетают шнур информации и деяний, что истинная перемена становится невозможной.
Кто написал этот сценарий? И когда? Есть ли кто-то ответственный за него? Все это как огромная узловатая сеть, в которой человек может разглядеть разве что одно сплетение.
– Все нормально? – спрашивает Чинь Лан, когда я возвращаюсь к столу. – Вы обесцвечены.
– Простите?
– Стерты, – говорит она. – Очень белый, как бумага.
Я киваю. Человек в лифте насыпал много бисера насчет того, чего я не хотел слышать. Тот человек, о котором он говорил, – это не мой Никсон, не тот Никсон, которым я хотел его видеть. Он не был моложавым РМН, кандидатом в вице-президенты, обвиненным в расходовании средств избирательного фонда на личные нужды, выходящим на национальный экран и умевшим сделать так, что люди верили в его скромные средства.
Мы с Пэт счастливы сознанием, что каждый полученный нами цент честно нами заработан и на самом деле наш. Я должен об этом здесь сказать: да, у Пэт нет норкового манто. Но у нее есть манто из приличной республиканской ткани. И я всегда ей говорю, что она в любой одежде красива.
Никсон этого человека был более темным, более зловещим, чем я позволял себе воображать. Расстроенный собственной наивностью, я задумываюсь: могу я себе позволить, зная то, что теперь мне известно, все еще любить Никсона так глубоко, как я его люблю? Могу я смириться с тем, что он был так порочен, так непонятен, с такими огромными расколами и противоречиями в собственной личности, в верованиях, в морали? Есть ли такой политик, который не продал бы десять раз душу еще до того, как стать президентом? Загадочный человек в лифте сказал мне то, чего я не хотел слышать, и я на каком-то уровне чувствовал, что это может оказаться правдой. Абстрактно это могло ощущаться как поворот, уводящий от цели, но конкретно я чувствовал, что РМН становится более близким мне, куда более человечным. Он явно не был ни первым, ни последним, кто нечетко видит границу между исполнительной властью и воображаемой сверхвластью – просто он оказался той редкой птицей, что документирует себя подробнее других.
Я прошу Чинь Лан достать рассказ «Ах, чтоб тебя!», чтобы еще раз посмотреть.
Цитата оттуда:
«Если бы люди имели понятие о том, что происходит, они были бы потрясены, более чем потрясены – они бы захотели, чтобы случилось что-нибудь – потому что никто ну ни капли не хочет, чтобы правда вышла наружу, она была бы губительна для всех нас».
– Чтоб тебя, это погубило бы страну!
«Все, что вы знаете или думаете, что знаете, или что кто-нибудь, кого вы знаете, думает, что знает, – так вот, сделайте так, чтобы все это забыли. Есть способ так сделать, и нужно так сделать, чтобы все затихло на время – на то время, которое будет нужно».
– Зашибись, кем он себя считает? Чарлтоном Хестоном в «Десяти заповедях»? Ах, чтоб тебя!..
Я поднимаю глаза и вижу, что в коридоре Ванда болтает с Марселем, который ходит с хромированной почтовой тележкой, развозя почту. Потом я спрашиваю у Марселя, что он знает о Ванде.
– Не слишком много, – говорит он. – Только что она внучка Нельсона Манделы, или Десмонда Туту, или еще кого-то в этом роде… – Он обрывает фразу. – Родилась в Южной Африке, училась в Англии, приехала сюда, продала свои мемуары за три четверти миллиона долларов, – добавляет он, будто взвесил и решил сказать.
– Зачем она здесь работает?
– Поступает в школу права осенью, – говорит он. – А весь аванс отдала на благотворительность.
– Правда?
– Правда, – отвечает Марсель мне в тон и толкает тележку с почтой дальше по ковру коридора.
Подключившись к ресурсу под названием «Сестры-это-делают-сами-для-себя», Черил договорилась, что организатор торжеств и турагент приедут ко мне домой для обсуждения проекта «БМ – Южная Африка». Каждый раз, когда мы об этом говорим, Черил вслух произносит БМ – и я тут же слышу, как мама произносит «БД»: «Ты уже сделал БД?» Или: «Сейчас не могу говорить, мне нужно сделать БД». Или: «У тебя БД регулярно?»
– Нельзя назвать вещи своими именами? – спрашиваю я. – Просто бар-мицва.
– Слишком длинно, – говорит она.
– Тогда пусть будет просто «бар». «Организуем бар», скажем.
– Так ведь это будет сбивать людей с толку?
– Не более, чем сейчас.
Организатор торжеств София приезжает с коробкой принадлежностей под этикеткой «Бар-мицва» и со стуком водружает ее на стол в столовой.
– У меня заготовлены комплекты на все случаи жизни: причастие, бар– или бар-мицва, шестнадцатилетие, помолвка, детские смотрины, праздник усыновления, корпоратив, – для любых событий любой реквизит, от ермолок до летных курток и волшебных ручек с фотографией жениха или невесты: наклонишь ее – и с них спадает одежда. Нарасхват такие ручки. Будем смотреть правде в глаза – людям нравится халява. Настолько далеко зашло, что приезжаешь к кому-нибудь домой на ужин и гадаешь, уходя: «Куда же моя сумка с причиндалами подевалась?»
– Как вы стали организатором торжеств? – спрашиваю я.
– Случайно, – говорит она. – У меня мать была чудесной хозяйкой: цветы на столе, салфетку складывали десятью вариантами. Вы бы ахнули, узнав, сколько людей понятия не имеет, что вилку надо класть слева, и уж тем более, что есть вилки для салата и вилки для десерта… Ладно, – обрывает она себя, зная за собой привычку уклоняться в сторону. – Какие у нас временные рамки?
– Дата в синагоге – третье июля; фактический день рождения Нейта – пятое.
Она потрясена.
– Что такое? – спрашиваю я.
– Мы безбожно опаздываем. Сверхурочные – как при внезапной смерти. – Она делает глубокий вдох. – Ну, что есть, то есть – берем быка за рога и ведем. Первым делом – приглашения.
– Вот тут хорошая новость: приглашений не надо. Мы хотим, чтобы все было как можно скромнее, и Нейт уже высказал пожелание: без подарков. Мы хотим преподнести деревне дар, чтобы улучшить работу школы.
София смотрит на меня как на идиота:
– У вас бар-мицва в июле в Южной Африке, так что никто и не подумает приходить. А значит, приглашать надо всех. И тем более надо, раз вы хотите собрать деньги для школы. Приглашайте весь класс и учителей. У вас есть список тех, кто был на похоронах? Список родственников, кому к праздникам рассылаются поздравления? Родные жены, которые вас, может быть, ненавидят, но мальчика любят? Пригласите всех, кого можете вспомнить: дело на другой стороне земли и в июле; все будут страшно рады отказаться и прислать подарок. Представим себе, что вы пригласили двести пятьдесят человек, каждый из них потратил от пятидесяти до ста баксов – отличнейший сбор. Стоимость приглашения будет высоковатой – хочется, чтобы это был красивый хороший конверт, с открыткой на ответ, с проштампованным конвертом. Примерно три пятьдесят за штуку плюс доплата за срочность. Назовем это ценой стартапа или шанса. Мы же хотим, чтобы люди вскрыли конверт, прочитали программу и растрогались настолько, чтобы послать денег. В том же заказе напечатаем благодарственные открытки. И всякий, кто это увидит, будет знать, что мальчику посчастливилось иметь такого дядю, как вот вы.
Впервые я в своей новой роли получаю комплимент и сам удивляюсь, до чего же мне это приятно.
– Отлично! – говорит она, не давая мне насладиться этой минуткой. – Давайте получше распорядимся имеющимся временем. Для приглашений вполне подойдет термография. В данном случае при этой семейной истории идти на гравировку по полной программе было бы лишним. И я настоятельно рекомендую никого не приглашать по электронной почте. Когда мы присылаем красивое приглашение, люди чувствуют себя обязанными.
– По просьбе Нейта все подарки будут переданы в фонд строительства школы в деревне…
– Пусть жертвуют через пэйпал – я выясню, как это сделать. А тем временем – не могли бы вы привести цитату из рассказа Нейта о его поездке туда и почему этот город для него важен?
– Конечно.
– Запишите это, – говорит она, кладя передо мной пачку бланков. – Это будет ваш список дел.
– «Прошу Вас вместе с мистером Гарольдом Сильвером и…» – как зовут сестру?
– Эшли.
– «…Эшли Сильвер принять участие в праздновании бар-мицвы Натаниэла…» – второе имя какое?
– Гм… Аллен?
– «Натаниэла Аллена Сильвера июля… – ну, скажем, – девятого числа, в… – как называется город?»
– Нейтвиль.
– «В Нейтвиле, – как это мило, – Южная Африка. Бар-мицва состоится в полдень, после – банкет и танцы». Где именно в Южной Африке находится Нейтвиль, вы знаете?
Я мотаю головой.
– Какой там самый большой город?
– Дурбан, – отвечаю я, подумав.
– Нам нужна будет кейтеринговая фирма, раввин, оркестр и, быть может, грузовик-рефрижератор, чтобы доставить все на место. Еще, быть может, тент и кондиционер. Какая там температура в июле?
– По-моему, у них это зима.
– Я выясню. – Она черкает себе птичку. – Что вы думаете насчет еды? Пункт раздачи ростбифов? Омлеты на заказ? А оркестр? Еврейская клезмер-рок-группа, привезенная из большого города – топ-хиты плюс традиционные еврейские песни под танцевальные ритмы? И надо еще обсудить смету. Я так могу целый день мечтать, но я же не знаю, что думаете вы.
– Надо чуть побольше, чем совсем минимум, и максимально использовать все, что сможем найти на месте.
– Сельский праздник? – предлагает она.
– Что бы там ни было, но держаться нужно в пределах традиций южноафриканской деревни и не слишком шиковать.
– А есть в этой деревне что-то вроде отеля или пансиона с завтраком?
– Не знаю.
– Понимаете, – говорит она, – мы с вами действуем в невыгодном положении.
– Почему это?
– Мы оба понятия не имеем, о чем говорим. Вы бывали в Южной Африке?
– Нет.
– И я нет. Но у меня есть пара зацепок. Каждый раз, когда передо мной встает головоломная задача, я себя спрашиваю: как бы поступила Линн Тилман?
– Кто это – Линн Тилман?
Она смотрит на меня, будто говорит: как, вы не знаете?
– Вы знаете, как Опра работает с Колином Кови?
И снова я понятия не имею, о чем это она.
– Колин – тот самый поразительный организатор торжеств, который устраивает мероприятия для Опры по всему свету, но Колин так хорошо это умеет, потому что учился у Линн Тилман.
– Она тоже организатор торжеств?
– Нет, она писательница, но полна озарений на тему о том, почему люди поступают так, а не иначе. И Колин ко всему, что делает, применяет эстетику Линн Тилман, и потому-то у него работа так хорошо и выходит. Я думала, не получится ли у меня выйти на Колина и узнать, что он предложит. Или, может быть, я смогу позвонить Линн Тилман. Ее мнение было бы очень нам полезно.
Я киваю, все еще не совсем понимая, о чем это она говорит.
– Так, теперь перейдем к вопросу о сувенирах гостям. Когда-то я бы предложила именные ермолки, может быть, именной айпод – но это дорого, да и почти у всех детей сейчас есть. Мы делаем снежные шары, бейсболки, футболки… но в данном случае, я думаю, лучше всего было бы футбольные мячи с надписью «Нейт-13».
– Блестяще! – отвечаю я, впервые за весь разговор заинтересовавшись.
Она подхватывает мой энтузиазм и расширяет его.
– И свитера, голубые с белым, и в них утюгом вплавлены термонаклейки с именами гостей. Там электричество есть? Алфавит тот же самый?
– А сколько стоят такие футбольные мячи на заказ?
– Мы их закупим оптом. Вы хотите только футболки? Или футболки, шорты, носки? Хорошо было бы все сразу. Кроссовки разных размеров? И пара судейских свистков? Свитера двух цветов, половинка на половинку? И тогда можно будет сделать две команды?
– Лучше все это сразу, – говорю я.
– И для девочек тоже?
– Конечно. Полное равенство.
Она мне вручает еще один список дел – домашнее задание к следующей нашей встрече: 1) адресная книга, желательно в электронном формате; 2) мысли относительно содержания церемонии; 3) надо ей искать раввина или нет? 4) размер бюджета?
Входит Черил с подносом кофе и печенья. Мы быстро перекусываем, и как раз в это время появляется Сесили, турагент. София собирает свою коробку, оставив мне перо и бумагу, проштампованную ее контактной информацией и логотипом: «Сва-Рей, София».
Сесили приготовила в «Пауэрпойнте» презентацию, содержающую три сценария – от самого дешевого до самого дорогого.
– Я тут немножко побегала и выяснила. Речь идет примерно о девяти тысячах на человека на авиабилеты.
– А не надо бизнес-классом, можно туристическим.
– Это туристический. Может, удастся сбросить до шести с половиной, если есть какая-то свобода с датами и временем вылета.
– Полно.
– Не забывайте, – напоминает София, уходя, – дата уже фиксирована – полдень, девятого июля.
– Понятно, – говорит турагент. – Так сколько дней в деревне?
– Два? Или, скажем, три?
– Давайте сделаем две ночи и три дня. А что потом – сафари на пятерку крупной дичи? Ну, знаете – лев, слон, буйвол, леопард и носорог. После сафари – полет на воздушном шаре, прыжки банджи, спуск с водопада?
– Давайте будем держаться природы и истории – никаких банджи, никаких воздушных шаров, и спуска с водопада пусть тоже не будет, – говорю я. – А вы всегда хотели стать турагентом?
– Я была стюардессой, – говорит она. – С мужем познакомилась в самолете – он часто летал. Был женат. Мне девчонки говорили: «Они никогда от жен не уходят». Но он ушел. Вернулся и сказал: «А теперь ты должна вернуть мне честное имя». – Она замолкает. – Так самый важный вопрос: насколько шикарно все это должно быть?
– Я хочу, чтобы было комфортно, но без излишеств. Меня более интересует безопасность, нежели шик.
– Вы не хотите произвести впечатление?
– Не хочу выглядеть дураком. Явиться в далекую бедную деревню на пару дней, потом сказать им: «Аста ла виста, бэби», – и махнуть на шикарное сафари. Это противоречило бы главной идее – отметить превращение мальчика в мужчину.
Черил сияет, довольная собой и своими возможностями.
– Как они думают, кто я тебе?
Она смеется:
– Они все про тебя знают. Называют тебя «мой другой муж». Я думаю, это каждой женщине нужно – даже мой муж так думает. Мы – такая отсталая культура, слишком уж буквально заняты выживанием.
– А что с тьюторами для Эшли и Рикардо? Ты знаешь кого-нибудь?
– Конечно, – говорит она. – У нас есть свой аннотированный список, кто для каких детей и по какому предмету.
– Электрик?
Она смотрит на меня:
– Я тебе пришлю список по мейлу.
В воскресенье моя мать выходит за Боба Голда. Как только двери дома открываются с засасывающим хлопком и проламывается воздушная завеса, Эшли начинает снимать видео. Уводит камеру направо. На доске объявлений у входной двери написано: «Сильвер выходит замуж за Голда в полдень». Кондиционер дышит на ладан, и весь дом воняет старыми подгузниками. Мать у себя в комнате, вокруг нее суетятся подружки невесты. Две крупные дамы перекрывают дверь.
– Мальчикам нельзя, – говорят они, пропуская между собой Эшли с ее видеокамерой.
Мы с Рикардо ждем в столовой, которая превращена во что-то вроде часовни, и там стоят цветы и трехъярусный свадебный торт.
– Будешь выводить свою мать? – спрашивает меня какая-то женщина, и я не очень понимаю, что она имеет в виду. – Вдоль по проходу? – уточняет она.
– Да, конечно, не вопрос.
Мужчина средних лет представляется как сын Боба Голда, Эли.
– Прошу у вас прощения за моих сестер.
– Я понимаю.
– Они с матерью все еще женаты, хотя она и лежит в коме. – Я киваю. – Сестрам трудно сознавать, что у него своя жизнь. Когда папа нам сказал, что способен любить более чем одну женщину, сестры были не готовы это услышать. – Он секунду молчит и меняет тему. – У нас есть общие знакомые, – говорит он. – Сын вашей тетки Лилиан, Джейсон. Мы с ним встречались одно время. Тесен мир.
– Невероятно тесен, – соглашаюсь я.
Столовая начинает наполняться стариками и старухами в праздничных нарядах и разной степени подвижности. Одни приходят сами по себе, другие опираются на трости или ходунки, третьих везут в креслах. Караван таких кресел, толкаемых служителем, вдвигается в зал.
– Торт перед ужином! – восклицает в восторге один из резидентов.
Рикардо приходит в блейзере Нейта; на его коренастой фигуре не очень заметно, что блейзер на размер больше.
– Отлично выглядишь, ма, – говорю я и целую ее в щеку, когда она входит в комнату.
– Ты очень загорел, – обращается она к Рикардо. – И стал пониже и потолще, чем был.
– Ба, это Рикардо, а не Нейт. Он у нас новенький, – приходит на выручку Эшли.
– А! – говорит мама. – Очень приятно.
– Он мой брат, – говорит Эшли.
– Добро пожаловать в семью, – говорит мама, отвлекшись.
– Спасибо, – отвечает Рикардо. – Поздравляю вас со свадьбой.
– А можно Рикардо будет паж с кольцами? – спрашивает Эшли. – Он тоже хочет участвовать.
Боб отдает Рикардо кольцо, а Эшли получает корзину розовых лепестков. Вступает музыка, Эшли идет по проходу, за ней Рикардо. Я беру маму под руку и веду следом. Боба Голда ведет одна из сестер.
Значит, Боб Голд – мой новый отчим. Почему-то это сейчас до меня доходит, когда они с мамой стоят напротив Синтии, «приемопередатчика энергии» и бывшей медсестры, которая согласилась провести церемонию.
Сама церемония на удивление трогательна, пусть даже не имеет законной силы. В речи, обращенной к матери и Бобу, говорится о заботе и общении, воспоминаниях и истории. У меня подступают слезы, когда мама бросает букет и его ловит – точнее, он сам плюхается ей на колени – женщина с одной ногой. И женщина улыбается.
– Как знать, – говорит она.
Мама и Боб режут пирог, и когда Боб подносит кусок ей ко рту, у него рука так трясется, что мама берется за нее и направляет себе в рот.
Я слышу разговор двух служителей:
– Он переезжает к ней в комнату?
– Видимо, – говорит другой. – Кровати они поставят бок о бок. Будем надеяться, что колеса они заблокируют, чтобы никто не провалился в щель и не сломал бедро.
Когда церемония заканчивается, пациентов уводят на дневной сон, а мы прощаемся с новобрачными.
Все мы одеты как на парад, а пойти некуда.
– Хотите куда-нибудь на ранний ужин? – спрашиваю я по дороге к машине.
– Можно, – говорит Эшли. – А можно поехать домой и устроить что-то вроде пижамной вечеринки с пиццей.
Я оборачиваюсь к Рикардо, который пристегивает ремень.
– Я бы предпочел что-нибудь новое, – говорит он.
– Как насчет поездки в город?
Оба они кивают.
– Это будет изобретательно, – заявляет Эшли.
Я везу детей в «Оук-рум» в «Плазе», и мы пьем коктейли «Ширли Темпл», закусывая клубными сандвичами. Уже сто лет я так не веселился.
– Мой двоюродный брат работает в отеле, – говорит Рикардо. – И часто приходит домой с полными карманами шоколадных медалей, которые кладут на постели на ночь. Можете себе представить, каково это – ложиться в постель, набитую шоколадом?
Я очень собой горд, когда рассказываю Нейту, что нашел нечто новое, что можно привезти в Южную Африку, – солнечные мини-зарядники для сотовых телефонов.
– Это хорошо, – говорит он. – Но на самом деле им нужна солнечная энергия для домов, солнечные нагреватели для воды и фонари для освещения деревни ночью – так что давай думать чуть шире.
– Ну ладно, – говорю я, – заметано. Кто-нибудь там есть в Нейтвиле главный, типа мэра или старосты?
– Сахиль там индуна, то есть главный. Жену его зовут Нобуле. Мцобиси, Айизи и Бхекизизиве – старшие у него в команде.
– Как с ними можно связаться?
– Проще всего по электронной почте.
– У них есть доступ?
– Теперь есть.
– А как ты посылаешь им деньги?
– Много способов. Через пейпал, или по папиной кредитной карте, или прямо на банковский счет. Еще они активно пользуются мобильным банком. И там еще есть возле Нейтвиля что-то вроде магазинчика, где обрабатывают переводы и выдают им наличные.
– Сколько ты им посылаешь?
– Пару сотен долларов в месяц.
– И где ты их берешь?
Небольшая пауза.
– Ты правда хочешь знать?
– Да.
– Продаю кое-что.
– Что именно? – произношу я медленно, надеясь, что вот так, растягивая слова, смогу не показать панического страха.
– Книжки, тетради, ручки?
Нейт произносит так, будто он сам не уверен.
– Нейт, в твоей версии дыр, как в швейцарском сыре. Давай начистоту, не виляй.
– Ладно. Ну вот смотри, когда кому-нибудь нужно чего-нибудь в школьном магазине…
– Тогда что?
– Я ему покупаю на свой счет, который привязан к папиной кредитке, а он мне платит наличными, и я их посылаю в Нейтвиль.
Фух. Полегчало.
– Никто ничего против не имеет, – говорит Нейт. – Все считают, что это на доброе дело. Они такие, «сдачу оставь себе». Я это делал осенью: как только кто-нибудь покупал футболку школьной команды, я просил, чтобы для тамошней школы тоже купили.
– Что по этому поводу думает директор твоей школы?
– Тут ему неловко было бы жаловаться. В конце концов, это они нас туда привозили.
Я набрасываю письмо главе деревни.
«Добрый вечер. Я – дядя Натаниэла Сильвера, который мне рассказал о своих связях с вашей деревней. В июле этого года мы празднуем тринадцатый день рождения Натаниэла – весьма значимое событие по иудейской религии, означающее превращение мальчика в мужчину. Натаниэл очень хотел бы провести свою бар-мицву в вашей деревне. Не могли бы вы дать мне знать, возможно ли это? И какой наилучший путь с Восточного побережья США в вашу деревню?
Искренне ваш,
Гарольд Сильвер».
Ответ приходит через несколько минут.
«Летите в Дурбан, мы пошлем машину. Ехать 1–2 часа, может быть, дольше, если шина спустит. Какого числа приедете?»
«Спасибо заранее, – пишу я. – Числа я еще не знаю. Тем временем мы хотим прислать в деревню некоторые припасы к торжеству. Как лучше всего их доставить?»
«Посылайте в Дурбан, мой брат их заберет».
«У вас есть Интернет?»
«Конечно, мы по нему разговариваем. Скайп у вас есть? Мы хвастаемся, что мы – единственная деревня, имеющая собственный спутник, – он как-то ночью рухнул с неба и приземлился в горах неподалеку – мы решили, землетрясение или вторжение инопланетян. Очень хороший прием дает – у нас на телефонах все время четыре полосочки. Сигнал очень сильный».
Он перестает писать, проходит минута или две.
«Сколько в деревне людей?» – пишу я.
«У нас школа на шестьдесят детей, есть еще человек тридцать или сорок, в том числе старики. Приезжайте к нам, наши дети любят веселиться. Можете ли вы выслать деньги на припасы?»
Как бы это повежливее спросить: а что мы получим за эти деньги?
«Мне будут нужны от вас чеки. Мой бухгалтер очень серьезно относится к делу».
«Что такое бухгалтер?»
«Человек, который следит, куда уходят деньги, – пишу я. – Сколько денег я должен послать? Пятьсот долларов? Не хочу торговаться, но не знаю, что у вас почем».
«Ради веселья на всю деревню? – пишет он в ответ. – Пусть мы бедная деревушка, но живем мы в реальности двадцать первого века. – Небольшая пауза, потом он пишет: – Можно попросить об одолжении? Привезите ибупрофен, если можете. У нас бывают жуткие боли».
«Конечно, привезу», – отвечаю я.
«Спасибо».
«Хорошо, тогда дайте мне знать, какие у вас мысли насчет того, как будет организован праздник и сколько все будет стоить. С этого и начнем».
«Ладно, – пишет он. – Я поговорю с братом и вернусь к вам».
Я отключаюсь, удивленный, что только что разговаривал с незнакомым человеком через половину мира. Мы болтали так, будто много лет знакомы. Проверяю разницу во времени: семь часов. Ой, у него же два часа ночи было!
В пятницу вечером приходит посидеть с детьми лучшая подруга тети Рикардо, а я ухожу ужинать с Черил и ее мужем.
Эд – рубаха-парень, душа нараспашку. Мы говорим обо всем, кроме того, что я сплю с его женой.
– А что у тебя за работа?
– Была преподавательская, – отвечаю я, – теперь литературная и редакторская.
– Да ну? – удивляется он. – Ну и как она? Как ты определяешь, о чем писать и что сказать, а что пропустить?
Я пожимаю плечами:
– Интуиция нужна. А ты что делаешь?
– Семейный бизнес, вулканизация.
– Не напомнишь, что это за штука?
Он произносит долгую речь, пестрящую научными терминами и жаргоном продавцов.
– Поразительно, – восхищаюсь я.
– Перестань ты ему поддакивать, – приказывает Черил.
– Так ведь и правда интересно.
– Такая вот у нас работа, – говорит он. – Так ты женат? И дети есть?
– Недавно развелся, детей нет.
– А как вы познакомились?
Я подзываю официантку:
– Счет, пожалуйста.
Методично выполняя задания из списка Софии к бар-мицве, я с трудом нахожу Райана Вейссмана – молодого ученика раввина. Телефон на карточке, которую он мне дал, чтобы звонить в рабочее время по вопросу «Евреи как изгои», больше не работает. Райан С. Вейссман, сотрудник товарищества «Гершлаг» по постиудаическим исследованиям. Что это еще за исследования постиудаические? Гуглю «Товарищество Гершлаг». Двойной щелчок.
Бинни и Стэнли Гершлаг отметили свою пронесенную через всю жизнь любовь к учению созданием товарищества «Гершлаг» в пятидесятую годовщину своей свадьбы. Они так горды своими сыновьями, Артуром и Абрахамом – «близнецы, ставшие раввинами», по словам Бинни Гершлаг.
– Кто мог бы просить большего? – говорит Стэнли Гершлаг.
– Я могла бы, – отвечает ему Бинни. – И попросила.
Текст прерывается фотографией Бинни, держащей на руках первого внука.
– Аллен Стивен Кениг Гершлаг. Я горда так, что больше и не бывает. То есть бывает, но…
Я нахожу Райана в результате методических поисков в сети и небольших постингов, – как кроличий помет вдоль тропы. Он оставил «лайк» на сайте с названием «Обняться через пропасть» (Могут ли дружить евреи и язычники?), и я его нашел.
– Вы закончили статью о евреях, ставших уголовниками? – спрашиваю я, наконец дозвонившись по телефону.
– Бросил, – говорит он.
– То есть как бросили?
– Прекратил, – отвечает он. – Ушел из школы.
– Но вы же из семьи раввинов, вам же нельзя это бросать?
– Вы себе не представляете, как мне туго пришлось.
– А что случилось?
– Мне стало так горько понимать, как лицемерны бывают люди, как лживы руководители, как прогнило насквозь все на свете. У меня случился серьезный духовный и семейный кризис, и я не мог не спросить себя: хочу ли я быть раввином?
Какой-то у него там шелестящий и хрюкающий звук все время.
– Что это там шумит?
– Свиньи, – отвечает он. – Работаю в глубинке на органической ферме, и одна из моих обязанностей – ухаживать за свиньями. Правда, смешно?
– Да, наверное.
– Очень разумные животные, – говорит он.
Я спрашиваю совета по разным аспектам бар-мицвы, что придает церемонии законную силу – есть ли правила, какие-то специальные молитвы, которые надо произнести, чтобы бар-мицва официально считалась таковой?
– Чего вам не скажут, так это что ничего не требуется, – отвечает Райан. – Когда человеку исполняется тринадцать, он становится взрослым мужчиной. А церемония – это на публику. Человек тринадцати лет обязан соблюдать заповеди Торы, его считают, когда собирают миньян, и он отвечает за свои прегрешения, может быть наказан. Обычно во время бар-мицвы мальчик читает отрывок из Торы, который полагается читать на этой неделе, или может представить статью на конкретную тему.
Я спрашиваю Райана, не хочет ли он принять участие в поездке как наш официальный духовный лидер. Ему нравится мысль принести еврейские традиции в дальнюю деревню, он одобряет то, что делает Нейт, но…
– Не могу, – говорит он. – Хочу, но не могу. Я нужен свиньям. А может, это они мне нужны.
В манхэттенском офисе я болтаю с Вандой в ожидании, пока служитель вынесет из хранилища коробки.
– Еще хочу сказать заранее, что летом меня какое-то время не будет, – говорю я. – Везу семейство в Южную Африку.
– Желаю приятно провести время.
– В крайнем случае меня всегда можно будет достать по сотовому.
Ванда кивает:
– Какого рода крайний случай? Запятая пропущена или не на месте?
– Я просто так сказал. Дам Чинь время догнать с переписыванием и сверкой.
– Хорошо, – говорит Ванда.
– Какие-нибудь советы перед поездкой? Места, которые обязательно надо посетить, знаменитые рестораны?
– Понятия не имею.
– Но разве вы не внучка…
– Старой уборщицы Никсонов в Вашингтоне? – перебивает она. – Марсель всем рассказывает, что моя мать работала у миссис Никсон.
– Странно как-то, – замечаю я, но не развиваю тему. – А сам Марсель откуда?
– То ли незаконный сын Нельсона Манделы, посланный в Гарвард за степенью доктора богословия и оттуда вышибленный, то ли парнишка из Нью-Йорка, выступающий эстрадником в «Бригаде честных граждан».
– Интересно, что же из этого правда, – говорю я, зная, что уже ее услышал.
– Вопрос открыт, – отвечает она.
Дни идут, дел все больше. Я жонглирую паспортами, билетами на самолет, справками о здоровье для лагеря, термонаклейками с именами.
Мы с Черил сидим в аптеке в молле, где закупаем припасы.
– Я думаю, с Эдом у нас все хорошо получилось, – говорит она.
– Насколько можно было ожидать.
– Ты о чем? – спрашивает она.
– Не могу представить вас вместе. О чем вы разговариваете?
– Мы не разговариваем. Именно поэтому я здесь, с тобой, покупаю жидкость для мытья рук, – отвечает Черил с досадой.
– Ты на что-то конкретное злишься?
– София на тебя запала, – говорит она. – Только и разговоров про бар-мицву, да как было бы здорово, если бы она с вами поехала, и она даже поверить не может, что это пропустит.
– Меня она не интересует, – говорю я. – Может, она просто хочет то, что есть у тебя. Женщинам это свойственно. Они когда обедать идут, всегда заказывают одно и то же.
– Она за тобой охотится, – говорит Черил. – Муж бросает ее ради новой призовой жены – физик, элементарные частицы, а еще и великолепная лыжница.
– Ничего не будет, – заверяю я Черил.
– Потому что ты уже «в отношениях» с Амандой?
– Потому что София меня не интересует.
– Ты приглашаешь в поездку Аманду?
– Еще не приглашал. Ты спрашиваешь, потому что сама хочешь поехать?
– Я не поеду, – говорит она. – Это было бы очень странно. Что скажут мои дети, если я поеду в Южную Африку на бар-мицву твоего племянника? Они ведь даже с тобой не знакомы.
– Вот об этом я и думал, но не хотел говорить. Как ты понимаешь, приглашение открыто для тебя, твоих родных, мужа, детей, кого хочешь…
– Отлично звучит, как семейка Брэди с промискуитетом.
– А еще, – говорю я тоном телеведущего, вываливающего кучу призов на стол, – я был бы очень рад как-нибудь познакомиться с твоими детьми. Как-то реальнее все стало бы.
– Каким образом познакомиться? Придешь к обеду, я тебя представлю: «Детки, вот это дядя, с которым мамочка играется, пока папа занят вулканизацией?»
– Можно представить меня как твоего друга, – предлагаю я.
– Я подумаю, – говорит она. – У замужних женщин не должно быть друзей мужчин.
– Времена меняются.
Я нагружаю корзину портативными тюбиками зубной пасты и шампуня, а Черил пытается меня уговорить «сделать» ее в новой бакалейной секции – она называется «Взял и пошел». Черил считает, что мы должны устроить какое-то сексуальное приключение в каждой лавочке этого молла. Мы прошли примерно четверть пути по этому подковообразному строению, но я не сомневаюсь, что продавцы, охранники и прочий персонал нас узнает. Возможно, потому, что мы часто здесь бываем – как старые дамы, прогуливающиеся по магазинам для моциона, – или потому, что они обмениваются видеозаписями с камер наблюдения.
Я кладу в корзину одноразовые зубные щетки, и тут у меня звонит телефон. После четырех звонков прекращает звонить, начинает снова.
– Это она, – говорит Черил. – Кто же еще звонит два раза подряд? Можешь с тем же успехом ответить.
– Алло? – говорю я.
– Я папу не могу найти, – сообщает Аманда в панике. – Он ушел куда-то.
– Где ты?
– В каком-то дурацком торговом центре, возле парковки.
– Что говорит мама?
– Я их послала в «Дейри квин», пока относила покрывало с дивана в химчистку – не хотела, чтобы они смутились, когда я стану объяснять про фекалии на покрывале. – Хотя я громкую связь не включал, но каждое слово доносится громко и отчетливо и до Черил, и до любого, кто ближе десяти футов. – Мама сказала папе, чтобы брал мороженое без орехов, они нехороши для его дивертикулов, и он психанул и выбежал. Я пытаюсь его искать, но она не может за мной угнаться.
– Посади ее в машину, пока ищешь, или посмотри, можно ли ее кому-нибудь поручить на несколько минут.
– Спроси, есть ли там рядом «Хоум депо», – шепчет Черил. – Мужчин к железкам тянет.
– «Хоум депо» там есть поблизости?
– Есть, – отвечает она.
– Посмотри там. И найди кого-нибудь в оранжевой куртке и скажи, что ищешь пропавшего.
После небольшой паузы Аманда сообщает:
– Оранжевые куртки предупреждены. Погоди – кто-то что-то в уоки-токи говорит… Его видели там, где сантехника. Он отливает в унитаз, установленный на витрине. Я туда иду. Он меня видит, идет в другую сторону, бежит. Мой отец убегает, я должна идти. Потом перезвоню.
Она вешает трубку.
Пока я говорю, Черил набирает в мою тележку предметы, которых я не замечаю до самой кассы: клизмы, тампоны, подгузники для взрослых, клейкая лента. Сейчас она сама где-то рядом с косметикой.
«Что ты об этом думаешь?» – спрашивает она эсэмэской.
Я поворачиваю голову. Черил стоит в конце прохода. Увидев, что я обернулся, поднимает рубашку и показывает голую грудь с наклеенными ресницами.
У меня сердце колотится быстрее. Кто-нибудь видел?
– Это ваше? – спрашивает человек за кассой, беря из моей корзины большой тюбик лубриканта.
– Нет! – говорю я, копаясь в своей тележке и вынимая глицериновые свечки. – Мое только «Пюрелл» и тюбики. Кто-то перепутал мою тележку со своей.
Я вытаскиваю коробку мидола и оставляю на прилавке.
«Не только мне смешно», – пишет Черил.
– Как можно перепутать тележки, если покупаешь подгузники и большой флакон магнезии? – бурчит кто-то.
– Да он просто смущается, – отвечают ему.
– Ничего я не смущаюсь, – говорю я. – Я покупаю принадлежности в дорогу, еду в отпуск с семьей.
Ко мне подходит охранник:
– В чем проблема?
– Эти люди говорят, будто меня смущает содержимое моей корзины, а я говорю, что мне кто-то туда подложил всякого, но мне никто не верит.
– Вы это хотите купить или нет?
– Нет! – Я поднимаю руки вверх, будто сдаваясь. – Забудем. Зайду в другой раз.
– Послушайте, мистер, берите что вам нужно. Не позволяйте себя запугать.
– Я не запуган, – говорю я, и карман снова вибрирует.
«Жалкий лузер», – пишет Черил.
Я оплачиваю, охранник провожает меня к двери. На рамке я начинаю сильно гудеть и останавливаюсь – знаю, что Черил откуда-то смотрит и смеется.
– Идите, – говорит охранник.
– Но я же звеню!
– Украли что-нибудь? – интересуется он.
– Нет, конечно.
– Ну так идите.
– Я эти фальшивые ресницы на сосок приклеила и понятия не имею теперь, как их снять. Не подумала, насколько на сосках кожа более чувствительна, – говорит Черил, когда я подхожу к ней.
– Попробуй жидкостью для снятия лака.
– Пробовала, в третьем пролете. Оттого и опоздала.
– Ну, придется тебе их носить, пока не отвалятся, – отвечаю я, ничуть не тронутый ее трагедией.
Она засовывает руку мне в задний карман и достает пачку металлизированных этикеток со штрихкодами.
– Ты свободен, – говорит она.
– Ты несколько переходишь границы, – говорю я.
– Признаю, – соглашается она. – Я ревную.
– Кого и к кому?
– Тебя к этой твоей как-ее-там.
– К Аманде.
– Вот именно.
* * *
В воскресенье, привезя Рикардо в дом тети, я говорю Кристине и дяде, что планирую ехать в Африку на бар-мицву Нейта. Описываю поездку, объясняя, что в процессе празднования нам придется зарезать и сварить козла, что будут танцы, будут люди в традиционных расшитых костюмах, будут старинные барабаны и перья в волосах. Видно, они это считают диким.
Кристина мотает головой:
– Не понимаю, зачем нужно ездить в прошлое, когда прямо перед вами будущее.
– Он историк, – объясняет Рикардо. – Он живет в прошлом. Весь день читает книги о том, что уже случилось.
Дядя берет машинку Рикардо с дистанционным управлением и запускает ее на полных оборотах туда-сюда по полу. Она встает на дыбы, хлопает колесами.
– У Рикардо есть паспорт? – спрашиваю я.
– Вряд ли, – отвечает тетка.
– Вы не возражаете, если я выясню, что нужно, чтобы его получить?
Она кивает.
Рикардо пускается в пляс по комнате.
– Я поеду на сафари! – кричит он. – На сафари, на сафари и поймаю там слона!
Дядя направляет машину ему в ногу – нарочно.
– Счастливого пути, – говорит он.
Приходят приглашения. Они красивые, внушительные, серьезные. Элегантный конверт с синей матерчатой подкладкой. Одно я отправляю федексом Нейту.
– Я получил приглашение, – говорит он, а по голосу – будто плачет.
– Тебе не нравится? – спрашиваю я, и сердце у меня проваливается.
– Нет. То есть да, они такие настоящие с виду.
– Они и есть настоящие.
Он шмыгает и перестает плакать.
– Я как-то даже восхищен. Все было так вкривь и вкось с мамой и с папой, и я перестал ждать нормального. Просто ничего такого уже не могло быть.
– Так ты считаешь, они ничего так?
– Они классные, – заявляет он.
– Отлично. Тогда скажи, какой ты хотел бы торт?
Я решаю, пока он на телефоне, провентилировать с ним еще пару пунктов списка.
– Шоколадный.
– А что ты будешь читать из Торы, решил уже?
– Знаешь, – отвечает он, – у меня иврит как-то не очень. Я бы хотел сам что-нибудь написать.
– На тему о чем?
– Ты бывал когда-нибудь на фестивале «Горящий человек»?
София рассылает приглашения, и адрес на каждом написан ее красивым каллиграфическим почерком. Мне она дает компьютерную таблицу для отслеживания ответов. Что приглашения дошли, становится ясно, когда кузен Джейсон начинает мне слать по электронной почте страшные статьи о Южной Африке, где в столкновениях автомобилей гибнут туристы, где их сотнями грабят в аэропортах, где растет насилие в отношении белых и распространяются болезни вроде эболы и где, если ночью остановиться на красный свет, тут же подлетят, выбьют стекла в твоей машине и заберут все, что у тебя с собой, а то и тебя самого похитят.
«Спасибо за советы, – пишу я в ответ. – Из приложенного я понял, что ты будешь с нами душою, но не лично».
Ведя массовые закупки у «Ориентал трейдинг компани» и по каталогу Лилиан Вернон, София заказала карандаши, тетрадки и ранцы для всех детей в деревне. Она набила большие пластиковые контейнеры футболками, школьными принадлежностями, музыкальными инструментами, нотами, кассетными плеерами и записями всех песен, которые мы хотим, чтобы они выучили, а также тортами «пища дьявола», шоколадной крошкой, карамельной крошкой и свечками.
Тем временем в кабинете у Джорджа стоят четыре чемодана, которые я набиваю одеждой для детей – одни и те же предметы для каждого, но разных цветов и размеров. Я веду Эшли и Рикардо к доктору Фауст на прививки и организую, чтобы Нейту сделали все нужные в школе.
И все это время волнуюсь. Я не сомневаюсь, что привязанность жителей деревни к Нейту вполне искренняя, но при отсутствии с его стороны денежной поддержки они могут проявить меньше энтузиазма. Не желая портить Нейту настроение, я ничего ему не говорю, но осознаю, что они спекулируют на нашем сочувствии, чтобы получить все, что могут получить, но так и надо: если есть какая-то популяция, которой полагается возмещение, то это она и есть.
На одном из все более редких дневных свиданий Аманда мне говорит, что есть еще кое-какие сведения об убитой девушке, Хизер Райан.
– Что, например?
– Например, что вместе с ее бумажником я нашла еще кое-что.
Глядя на нее, я повторяю вопрос:
– Что, например?
– Спортивную одежду для фитнеса, школьные тетрадки – так, всякое.
– А тебе не приходило в голову отдать это ее родным?
– Нет.
– Почему?
– У них ее вещей полно, а у меня только это.
– Но они же ее родные…
– А она – это я, – отсекает Аманда продолжение разговора.
– Но когда ты сказала, что не все еще о ней известно, что ты имела в виду?
– Ее сотовый до сих пор работает.
– Очевидно, ее родители пока его не отключили. Понятно, что это действие у них не первым значилось в списке.
– Ей приходят сообщения…
– Какие и от кого?
– Голосовая почта, от лучшей подруги.
– Правда? – удивленно спрашиваю я.
Аманда кивает и дает мне телефон.
– Первое пришло в тот день, когда она пропала. – Аманда нажимает кнопку голосовой почты и включает громкую связь.
«Ау, где ты? Позвони мне. Нет, серьезно, чего ты устраиваешь? Позвони. Мне что, волноваться? Если ближайшие пять минут ты мне не звонишь, я буду звонить Адаму… О’кей, так что Адам тоже не знает, где ты. К твоему сведению, тебя официально объявили пропавшей… Алло-о! Слушай, полиция сказала твоим родителям, что твое тело найдено в мусорном баке. Твоя мама закричала и заблевала весь пол в кухне. Твой отец сказал мне, и миссис Гурски останется с ней, а сам уехал с полицией. Миссис Гурски все убрала, я отвела твою маму в гостиную. Не знаю, что и думать. Провела ночь в твоей комнате с твоей сестренкой. Я все думала, ты вот прямо сейчас придешь домой – и покажешь всем, что вся эта история с разыскными собаками и словесными портретами была совсем зря раздута. Твой отец вернулся в пять утра. Его заставили смотреть на твое мертвое тело, чтобы убедиться, что это ты и есть. Как это может быть, что ты мертвая? Так это жуть какая-то, что я, мертвой звоню? Наверное, я просто не верю по-настоящему. Вот ты, которая всегда мне говорит, что есть и чего нет, скажи, я правда псих? А с кем же мне тогда разговаривать теперь? Я сегодня домой вернулась, меня родители спрашивали, как я. А я не очень, но не могу я, когда они на меня смотрят, как на больную собаку. Мне надо было вырваться из дому, а тут еще эти репортеры за мной гонялись, и я пошла к тебе, а твои родные вообще в полном раздрае, но их понять можно. А все остальные мы вроде как в шоке. Я Адама видела в парке, он говорит, что все это его вина, потому что не поверил тебе, когда ты ему сказала, что ничего у тебя с этим парнем нет, и все испортил…»
– Сколько там такого? – спрашиваю я у Аманды.
– Много.
А вот еще сообщения:
«Сегодня были твои похороны, тебе бы понравилось. Все там были, даже мистер Крупатскини – он так себя держал, будто он тут распоряжается, хотя на него никто и внимания не обращал, но твои родители дали ему объявить, что теперь будет стипендия твоего имени. А твоя мама позвала меня к вам и отвела в твою комнату и спросила, не хочу ли я что-нибудь на память, и я взяла браслет, который ты украла в магазине в седьмом классе. «Это был ее любимый», – сказала твоя мама. «Я знаю, – ответила я, – у меня есть такой же под пару». А моей сестре она отдала твой старый синий велик. Отец твой выглядит так, будто вот-вот свалится, он то и дело волосы убирает со лба, но это странно смотрится, потому что он лысый, и получается, будто невидимые волосы убирает раз за разом.
А пока тут выяснилось, ни за что не угадаешь, кто тебя убил. Это тот, с шишками на лице, про которого Адам думал, будто ты с ним крутишь. А знал он про тебя столько потому, что нашел твой старый дневник, и получается, будто тебя знал. Мне сейчас все мерещится, что он гоняется за мной. Я понимаю, что тут все дело в тебе, и мерещится мне, что я тут как ближайший заместитель».
«Как ты думаешь, у тебя есть шанс вернуться? Или совсем уж дурацкий вопрос?»
«А как оно там? Там все по-настоящему? А другие люди есть?»
«Я по тебе скучаю».
Аманда несколько раз нажимает на кнопку пропуска.
– Прости, что долго не звонила. Надеюсь, ты не поймешь меня неправильно, но мы с Адамом вроде как стали видеться. Ты же не сердишься?
– И все, – говорит Аманда. – Все прекращается, телефон отключен.
– Кто она тебе?
– Не знаю. Что-то вроде девушки, которой я никогда не была. Я чувствую, что мы с нею очень близки. И такое чувство, что это все так и будет продолжаться, пока я держу телефон заряженным. Или они как-то исчезают со временем?
– Понятия не имею, – отвечаю я, чувствуя какую-то неприятную вовлеченность.
Мы расстаемся в продуктовом магазине. Ей нужно делать покупки, а мне – спешить домой, чтобы встретить автобус Рикардо.
– Приезжай ужинать в пятницу, – говорю я, уходя. – Родителей привози с собой.
– Ты уверен?
– Да, – отвечаю я. – В шесть тридцать вечера. Я сделаю рыбные палочки и жареную картошку.
– Я привезу торт, – говорит она.
* * *
Вечером в пятницу дети накрывают стол. Мы достаем красивую скатерть, выставляем хорошее серебро, парадные тарелки – все, что не вынималось из шкафа со смерти Джейн. Я покупаю свежие цветы и показываю Эшли с Рикардо, как их подрезать и ставить в вазу. Эшли делает салат, Рикардо помогает мне готовить рыбные палочки и картофельные чипсы. Когда приходят Аманда и ее родители, дети их встречают, выстроившись у входной двери, как послы.
– Позвольте принять у вас пальто? – спрашивает Рикардо, хотя пальто на них нет.
– Не хотите ли выпить? – предлагает Эшли прямо в прихожей.
– Это было бы чудесно, – отвечает Мадлен, мать Аманды.
Я невероятно горд.
– Какой прием! – говорит мать Аманды, пожимая руку Рикардо.
– У вас очень мягкие руки, – замечает он. – Как бархат.
– Спасибо, – кивает Мадлен.
Заканчивая приготовления к ужину, я заглядываю в гостиную и вижу, что Мадлен на полу играет с Эшли в косточки, а Сай пытается объяснить Рикардо какие-то тонкости триктрака.
Аманда сидит на диване, руки на груди, и вид у нее надутый.
Я зову всех к столу. Рыбные палочки и картошка пользуются колоссальным успехом. Придя от еды в мечтательное настроение, Мадлен и Сай уплывают в прошлое и рассказывают о дальних путешествиях, о переходах между виноградниками во Франции, приключениях в Италии – как вдруг оказалось, что они едут автостопом по горам в окрестностях Турина.
Аманда вспоминает, как ее оставляли дома с сестрой под присмотром одной незамужней женщины.
Рикардо и Эшли делятся воспоминаниями о поездке в Вильямсберг, не пропуская самых красочных подробностей, от которых Сай ржет во все горло.
– Он всегда любил скатологический[9] юмор, – шепчет мне Мадлен.
К концу ужина родители Аманды нравятся мне больше, чем она сама.
После торта и ягод со свежими взбитыми сливками мы с Эшли, Рикардо и Амандой убираем со стола, а когда возвращаемся из кухни, родителей Аманды нет. Я вижу мелькнувшую спину отца, поднимающегося наверх.
– Господи боже мой, – говорит Аманда.
– Я поднимусь, – отвечаю я.
Родители Аманды стоят в главной спальне.
– Могу вас побеспокоить просьбой принести чаю? – обращается ко мне мать Аманды. – И я опасаюсь, что наш багаж еще не доставили.
– Вам покрепче или послабее? – спрашиваю я.
– Не слишком крепкий, – говорит она.
– Два куска сахара, – добавляет отец.
– Вам тоже принести?
– Нет, мне не надо, но она всегда жалуется, что слишком крепкий и что недостаточно сладкий. А вот виски на палец не найдется ли у вас?
– Сейчас выясню, – говорю я и спускаюсь вниз. – Они, похоже, устраиваются на ночь, – сообщаю я, включая чайник.
– Они будут у нас ночевать? – спрашивает Эшли.
– Пока не знаю.
Аманда решительно устремляется наверх и через несколько минут возвращается.
– Они сказали, что очень довольны, что я с ними поехала, и рады, что вообще снова путешествуют. Все это им напомнило, как они любят ездить в новые места. А потом сказали, что я могу быть свободной весь сегодняшний вечер и как-нибудь вскорости мы с ними увидимся.
Я делаю чай для Аманды, для ее матери, для Эшли, наливаю скотч и опять поднимаюсь наверх.
– И как? – спрашивает Аманда, когда я возвращаюсь.
– Твои родители в постели – они надели пижамы Джорджа. Твоя мать сидит, читает книгу, которую я оставил на краю кровати – читает в моих очках. «Я не нашла свою ночную рубашку, – сказала она и улыбнулась, когда я подал ей чай, – потому надела вот это». А твой отец в ванной, чистит зубы – похоже, моей щеткой.
– Скажи, чтобы одевались и спускались немедленно, пора домой! – командует Аманда довольно напряженно.
– Они очень удобно устроились, – отвечаю я.
– Пусть они останутся, – просит Эшли.
– Я не возражаю, – говорю я.
– Пока мне не надо с ней делиться, – поддерживает Рикардо.
Аманда смотрит на нас как на психов.
– Я могу им сказать, что расчетный час завтра в полдень, или ты просто можешь их здесь оставить…
– Как это – оставить? – спрашивает Аманда.
– Они говорят, что рады вернуться в свою прежнюю большую комнату вместо двух раздельных.
– Они забыли, что сами выбрали две раздельные? – спрашивает Аманда, оскорбившись, будто ее в чем-то обвинили.
– Я только хочу сказать, что мы рады приютить на ночь твоих родителей. Ты можешь воспользоваться несколькими свободными часами – сгонять по своим делам, если есть необходимость.
– Что я там успею за один вечер, – бурчит Аманда.
– А мы им приготовили завтрак, – говорит Эшли. – Блинчики и яичница.
– С беконом, – подсказывает Рикардо.
– Будем рады, если ты с нами, – говорю я Аманде. Она поспешно хватается за сумку.
– Я поехала. Целая ночь свободна! Даже понятия не имею, что буду делать.
На следующий день примерно в полдень Аманда заглядывает проверить, как ее роидтели. Я ей говорю, что все в порядке: позавтракали и сидят в гостиной, читают.
Чем больше я ей рассказываю, как мне нравятся ее старики, тем меньше она со мной разговаривает.
– Они разваливаются, – говорит она.
– Не более, чем все мы, – возражаю я. – Они очень одухотворенные.
– Ладно, – говорит она. – Раз вы так отлично все ладите, может, мне взять и махнуть куда-нибудь на уик-энд?
– Например, куда?
– Не знаю. К сестре в Филадельфию? Навестить старых друзей в Бостоне? Я соберу им лекарства и чистую одежду и закину тебе по дороге.
– Мне загрустить, что ты не хочешь рвануть со мной?
– Дело не в тебе, – говорит она с детской обидой, – а во мне. Во мне ничего почти не осталось, надо сохранить хоть эти крохи.
Вряд ли можно назвать эгоистом человека, который возится со своими престарелыми родителями.
– Ладно, – соглашаюсь я. – Развлекись.
Она уезжает на уик-энд и возвращается. Я знаю, что она приезжала, пока меня не было, потому что она оставила огромный пластиковый пакет с дополнительной одеждой и обновила лекарства, висящие на дверной ручке. На домашнем телефоне она мне оставляет сообщение, что поехала по делам – банк, химчистка. И голос ее заряжен свежим энтузиазмом.
Она уезжает и возвращается, потом оставляет мне банковскую карточку, ключи от дома, список телефонов и фамилий – доктора и так далее. То здесь, то нет, то здесь, то нет – и наконец нет.
Это Эшли мне говорит, что Аманда не вернется.
– Дорога зовет, Джек, – говорит Эшли.
– Она так сказала?
Эшли отрицательно мотает головой:
– Намного короче.
Я звоню сестре Аманды в Филадельфию.
– У меня ваши родители, я хотел вам сказать, что они живы-здоровы.
– Кто это?
– Гарольд. Я друг вашей сестры. Как вы провели уик-энд?
– В каком смысле?
– Ваш уик-энд с Амандой.
– Я ее много лет не видела. Это что, разводка такая? Вы пытаетесь что-то у меня отжать? Так я вам сразу скажу…
– Не обращайте внимания, – говорю я, вешая трубку, и до меня доходит, что Эшли почти наверняка права: Аманда уехала с концами.
Я пишу эсэмэску Черил, которая не проявляет ни капли сочувствия.
«Я тебе говорила, что добром не кончится».
«Стоит позвонить в полицию? Вдруг она ранена или убита?»
– Она уехала, – говорит Эшли, – и не пытайся ее вернуть.
Я в панике звоню Аманде на сотовый и попадаю на голосовую почту. Тут я замечаю, что она на моей оставила сообщение:
«Я сделала тебе доверенность на счета моих родителей. У тебя полномочия опекуна. Я подписала бумаги, на которых нужна еще и твоя подпись – они в папке у тебя на столе. Знаю, у тебя есть вопросы… ни за что бы так не поступила, если бы не думала, что ты справишься. Эта голосовая почта будет отключена первого числа следующего месяца. Я не могу быть той, которой ты или кто-либо другой хочет, чтобы я была. Я должна вылезти из этого бремени. P.S. Не звони моей сестре, это без толку. Если не хочешь с ними возиться, отправь их домой. Они разберутся – всю жизнь справлялись».
«Я думал, она останется, потому что я ей нравлюсь, – пишу я Черил на телефон в тот же день. – Я думал, она останется, потому что я с ее родителями хорошо обращаюсь, потому что я надежен – в общем, хороший парень».
«Потому она их с тобой и оставила», – отвечает Черил.
«Придется отменять поездку?» – спрашиваю я.
«Ни в коем случае», – отвечает она настолько твердо, что я ей верю.
«Докупать билеты на самолет уже поздно, а я не знаю, справлюсь ли с двумя взрослыми и тремя детьми. Тем более что непонятно, выдержат ли они трудности путешествия».
Черил отвечает так, будто я полный идиот.
«Никуда они не поедут, – пишет она уверенно. – Они здесь уже долго пробыли и побудут еще, пока ты не вернешься».
«Разумно».
Я договариваюсь с гулятелем собак, что он приведет свою сестру, профессиональную сиделку, и они вдвоем справятся со зверьем и со стариками.
* * *
Школьный год несется к концу. Эшли показывает мне черновик своих пространных размышлений о смерти мыльной оперы, перемежаемых мыслями о постановке «Ромео и Джульетты» в кукольном театре. В своей работе она пишет о том, как видит себя в персонажах, как вживается в их жизнь и думает о них в промежутках между эпизодами. Я удивлен умением Эшли найти общее между мыльной оперой, Шекспиром и изящным искусством кукольного театра. Мысли у нее хорошие, но во мне тут же просыпается преподаватель: кто-нибудь обсуждал с ней построение работы? Нужно ведь еще не раз редактировать и переписывать. Я высказываю свои мысли, получая в ответ злобное шипение и размахивание кулаками. В громах и молниях Эшли уносится прочь, и через какое-то время работа пересматривается, иногда ее подсовывают ко мне под дверь посреди ночи. Эшли хочет, чтобы получилось хорошо, и это благоприятный признак. Я делаю вид, что истерики меня не трогают, но замечаю, что когда и если снова увижу доктора Таттла, надо будет спросить, как обращаться с девушками-подростками.
Тем временем Рикардо часто задерживается в классе на репетициях школьной постановки, в которой играет молодого Бенджамина Франклина – делового человека, у которого всегда что-то есть в рукаве: ежегодник, разные изобретения или воззвание. Вживаясь в образ, Рикардо просит разрешения разобрать старую пишущую машинку и сделать из нее печатный станок собственной конструкции. Я охотно и с радостью даю согласие. Табель у Рикардо заполнен птичками и золотыми звездами – он зарабатывает билеты на выступления «Янки».
А Нейт – хотя учебный год заканчивается на второй неделе июня – решает остаться еще на пару недель в так называемом мини-лагере. В этом году там основной темой будет математика, точнее – микрофинансы.
Честно сказать, несмотря на все напряжение, не говоря уж о тяжелом ощущении, что в любую минуту все может разлететься к чертям, – несмотря на все это, мне очень приятно, как здорово у детей получается.
* * *
Приближается дата отлета, и мои разговоры с деревней становятся чаще, список вещей, которые нужно привезти, растет. Я вынимаю из сумки свитера и футболки, освобождая место для пудинга с вареньем, двенадцатидюймовой вок-сковородки, аккумуляторов, ацетаминофена, хирургического цемента, шоколадного печенья, флейшманновских дрожжей и шипучего витамина «С».
Агент, которого я нанял, чтобы сделать Рикардо паспорт, просит дополнительно двести пятьдесят долларов, так как эта работа требует больше объяснений, нежели обычно.
София послала Сахилю, главе южноафриканской деревни, поминутное расписание всех мероприятий на время нашего пребывания.
– Я люблю, когда все продумано, – заявляет она запальчиво в ответ на мое предложение следовать естественному ходу событий. – Понимаю, что некоторым может быть трудно оценить пользу от такого уровня детальности, и тем не менее. Я хочу, – говорит она, – чтобы все получилось хорошо, и отлично понимаю, что есть культурные различия, и дело не только в самой бар-мицве, а вообще в разном ощущении времени и событий. Поэтому я четко формулирую, чего конкретно жду и что хочу увидеть. – На экране появляется лицо Сахиля. – У вас все есть, что нужно? – спрашивает его София. – Какие-нибудь мелочи, которые я должна сунуть в чемодан в последний момент?
– Мы готовы, – отвечает Сахиль. – У меня в руке ваши инструкции.
Он поднимает планшетку с ворохом приколотых страниц.
– Мы очень рады, – говорит ему София. – Гарольд вам привезет экземпляр напечатанного приглашения.
– У вас очень мощная жена, – говорит Сахиль, когда София выходит.
– Не жена, – отвечаю я. – Организатор торжеств.
– Как Колин Кови? – спрашивает он. – Он отличное торжество устроил для Опры.
– Именно так. А вот мне любопытно, Сахиль: как Нейт приезжал в вашу деревню?
– Мы построили школу для спасения деревни, – отвечает он, – и от этого вышло много хорошего. Моим сверстникам приходилось идти искать заработок, и мало кто возвращался. Нас становилось меньше и меньше, и тут у меня возникла идея. С демократией приходят деньги – можем попросить и получить денег для нашей школы, которая поддержит деревню. Так что сперва я построил маленькую школу, а потом мы сказали, что нам нужны деньги на строительство большей, куда будут ходить дети из соседних деревень. Почти у всех пришедших детей только деды и бабки, которые не могут за ними присмотреть, и тем более важно дать им образование.
– Где вы ходили в школу?
– Только два года в миссионерскую, но есть вещи, которые я знаю. Моя семья жила здесь очень давно. Теперь остался один я.
– Благородно, – говорю я.
Он мотает головой:
– Не столько благородно, сколько практично. Не хочу, чтобы моя деревня вымерла. Не осталось ничего, ни одной причины здесь жить, кроме одной: мы всегда тут жили. Вот тогда к нам пришел Нейт. «Если вы построите, они приедут», – говорит он и смеется. – Я цитирую из «Близких контактов третьей степени», когда Ричард Дрейфус строит гору из вареной картошки…
Он произносит «картошки», выговаривая каждый слог, так что даже слушать вкусно.
– Я думал, это из «Поля мечты» – бейсбольного фильма с Кевином Костнером. А в «Близких контактах» Дрейфус говорит: «Думаю, вы заметили у папы некоторую странность».
Эту реплику я произношу автоматически – сам не знал, что ее помню. Делаю мысленно заметку: надо пересмотреть фильм. Он явно оказал на меня большое влияние.
– Счастливой дороги, – говорит Сахиль. – Улале кале!
Вечером перед отлетом все играют на улице тренировочным мячом для гольфа. Нейт и Сай обучают Рикардо, Мадлен шумно болеет. На дворе сумерки, мигают светлячки, и вечер прекрасен, если не считать комаров. Симпатия Эшли и Нейта к Рикардо непостижима: эти двое все время с ним и никогда с ним не соревнуются. Он стал им братом, он наш, и мы – его семья.
Я стою на крыльце, чуть поодаль, наблюдая, будто обладаю знанием, которое отделяет меня от них, но это не так. Они просто живут и радуются предстоящему, а я думаю, когда нам выезжать, как бы не забыть паспорта, деньги и вещи. Они же радуются, что сейчас лето, что день отличный и что на ужин будут спагетти и котлеты.
– Идем с нами играть! – зовет меня Рикардо. Я сразу не реагирую, и он уже настойчивее: – Идем!
– Где базы? – спрашиваю я.
– Первая – где азалия, вторая – где рододендрон, а третья – сирень рядом с подъездной дорожкой, – отвечает Нейт.
Я иду отбивать. Эшли сует кулак в перчатку.
– Отбей мне! – кричит она.
Я проигрываю 0:2, пытаясь прочитать дрожащую подачу Сая, и тут попадаю. Гулкий удар пластика о пластик посылает мяч по дуге вправо, он отскакивает от фонарного столба у входной двери, запрыгивает под куст самшита и скатывается вниз по склону, на дюймы опережая несущуюся за ним Эшли. Я выхожу на третью базу. Следующая – Мадлен, она делает бант, и я успеваю войти в дом. (И победительно ухожу прикладывать лед к остаткам коленей.)
На следующий день машина в аэропорт приходит рано. Рикардо еще никогда не летал, и его озадачивают процедуры досмотра – снять туфли (и носки), ремень, выгрузить все из карманов, где невероятное количество мусора. На той стороне дети идут купить себе жвачки, а голод Рикардо ко всему на свете неимоверен: он хочет комиксов, газировки, шоколада, фисташек и вообще всего. Такому горячему энтузиазму трудно противопоставить «нет».
– Выбери одно, – говорю я.
– По одному каждого? – спрашивает он.
– Нет, что-то одно.
В самолете он сидит между Нейтом и мной, Эшли от меня справа – мы заняли весь ряд в середине и держимся за руки до «запуска», как называет это Рикардо. Что забыли, то уж забыли. Ночью я просыпаюсь, потому что голова Рикардо лежит у меня на груди как кегельный шар.
Сесили организовала нам в Йоханнесбурге сопровождение – вроде как аэропортовскую няньку. Эта нянька везет нас на самоходной тележке, разрешая детям по очереди дудеть в сигнал, и мы улетаем на маленьком самолете в Дурбан.
Самолет разгружается, мы выходим, получаем багаж, смотрим на приходящих и уходящих людей. То и дело подходят и спрашивают, не нужно ли нам такси.
– Нет, – отвечаю я. – За нами приедут.
Проходит двадцать минут, и я звоню Сахилю.
– Как это никого? – удивляется он. – Вы меня не разыгрываете? Я перезвоню.
Через несколько минут звонит мой телефон.
– Машина сломалась, ищем другой план. Я вам перезвоню, сообщу.
Мы сидим на чемоданах – вызывающе белые на фоне, в котором именно этого цвета не хватает.
Через полчаса подъезжает человек:
– Я Манелизи, родич Нобуле. Прошу вас. – Манелизи ведет нас к своей «бакки» – небольшому пикапу с дополнительными сиденьями. Дети садятся у меня за спиной, я впереди с Манелизи. – Я садовник, – поясняет он. – Вот почему тут пахнет навозом: у меня сегодня было много работы.
Пикап пахнет не столько навозом, сколько землей. Мы едем с открытыми окнами, я спрашиваю детей, не слишком ли много воздуха.
– Нет, – говорят они, – нормально.
Они рады, что уже не в самолете и не в аэропорту.
– Мы только сейчас, – говорит Манелизи, – заедем кое-какие пакеты забрать.
Он смотрит на карту, и через десять минут мы останавливаемся возле заведения с названием «Кухня Эстер». Манелизи вбегает внутрь, возвращается с двумя помощниками и многочисленными ящиками, которые грузят в багажник машины. Только потом до нас доходит, что это продукты на завтрашний обед, переложенные сухим льдом. Язык, на котором говорят помощники, нам незнаком, но звучит ритмично и весело.
– Ну вот, – говорит Манелизи. – Сейчас на хорошую дорогу.
По радио исполняется какая-то современная смесь рока и хип-хопа. Меня радует, что диск-жокей говорит по-английски.
– Вы выросли в этой деревне?
Я не знаю, как она называлась, пока не стала Нейтвилем.
– Нет, – отвечает он. – Мы с ананасной фермы в Хлухлуве.
Выезжая из Дурбана, мы проезжаем мимо каких-то трущоб: лачуги с жестяными крышами, дома, построенные из обломков дерева, металла и кирпича. По обочине ходят босые мальчишки.
– Мы в каком направлении едем? – спрашиваю я.
– На север, – говорит Манелизи.
– А когда тут темнеет?
– Зимой – между пятью и шестью.
Просторы за Дурбаном кажутся бесконечными и неисследованными. Шины «бакки» гудят по хайвею. Вдали высятся башни электропередачи, как фигуры двадцать первого века. Кое-где в пейзаже попадаются строения вроде бункеров.
– Что это? – спрашивает Рикардо, тыча пальцем в какое-то животное на краю дороги.
– Бабуин, – отвечает Манелизи и переключает радио на другую станцию, где диджей говорит, как я понимаю, по-зулусски.
Сочно-зеленый пейзаж перекатывается холмами в предвечернем свете. Я опускаю щиток от солнца и смотрю в зеркальце на детей у меня за спиной. Эшли и Рикардо задремали, убаюканные дорогой и встречным ветром. Нейт не спит, но необычно для себя спокоен.
– Как ты? – спрашиваю я.
– А что, если все это фантазия? Если все не так, как я помню?
– Будет по-другому, – отвечаю я ему. – Все меняется, ты изменился, но уж как есть – так и будет.
И мы снова надолго замолкаем.
– Мы приехали! – с энтузиазмом кричит Нейт, когда мы сворачиваем на проселок. И почти сразу машина останавливается возле небольшой группы домов прямо посреди поля. Нейт выскакивает наружу.
– Нинджани! – говорит он, приветствуя всех. – Нгикухумбулие кангака! Как вы выросли, – говорит он детям.
– Нинджани, – говорю и я, вылезая из машины и помогая выбраться с заднего сиденья Рикардо и Эшли.
– Я – Сахиль, – представляется один из собравшихся тут людей, протягивая мне руку. В реале он кажется моложе. – Добро пожаловать.
– Спасибо, – отвечаю я.
– Вас сейчас проводят в вашу комнату, – говорит он, – а потом надо будет начинать, мы выбиваемся из графика.
Он взмахивает распечаткой, которую прислала ему София.
Деревня меньше, чем я представлял, не столько даже деревня, сколько скопление из пятнадцати-двадцати домиков, соединенных грунтовыми дорожками. Сахиль ведет нас к школе, остальные идут следом, неся наши сумки и глядя издали, будто гадают, кто мы и почему с нами обращаются не так, как со всеми.
– Вот наша школа, – гордо говорит Сахиль, показывая мне приземистое здание, более похожее на загородный центр отдыха. – Мы вас сюда устроили, потому что здесь туалет хороший.
– Спасибо.
– Не хотелось бы вас торопить, но мы должны начинать поскорее, иначе пропустим закат.
Я смотрю краем глаза на то, что держит Сахиль. Некоторые моменты выделены желтым, зеленым или розовым маркером.
16.30. ПРИБЫТИЕ
16.35. ПРИВЕТСТВИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ДЕРЕВНИ
16.40. ПОМЕЩЕНИЕ СЕМЬИ НА КВАРТИРУ
16.45. УМЫВАНИЕ
17.00. ПОДГОТОВКА К ЗАЖЖЕНИЮ СВЕЧЕЙ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)
17.15. СУББОТНИЕ МОЛИТВЫ
18.00. УЖИН
ПРОШУ СНАБДИТЬ СЕМЬЮ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ И НАПОМНИТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ ПИТЬ.
Я понятия не имею, насколько глубоко проработана оркестровка, но с нами обращаются как с рок-звездами или с главами государств.
Эшли вытаскивает из своей ручной клади красивое платье и быстро переодевается. Я иду в ванную и мою руки и лицо.
– А жизнь тут простая, – говорит Эшли. – Мне нравится, как в загородном лагере.
– Да, но здесь всегда так, – отвечаю я. – Основное занятие – дневные заботы. Никто здесь не раздумывает мучительно, в какой колледж пойти.
– И это ведь хорошо? – спрашивает Рикардо.
– Это другое, – отвечаю я, подгоняя детей по коридору.
На столе в одном из классов стоят серебряные подсвечники, серебряный кубок и накрытая тканью хала.
В классе собралась вся деревня, и все смотрят на Нейта.
Рикардо и Нейт занимают места впереди и запевают славящий Шаббат гимн «Лехах доди», а Эшли идет по проходу, завернувшись в белую кружевную шаль. На голове у нее кипа того же цвета, которую я раньше не видел.
Когда заканчивается песня, Натаниэл начинает речь:
– Спасибо, что пригласили меня и моих родных вместе с вами отпраздновать это особое событие. В нашей семье не очень много традиций: мы не слишком религиозны и соблюдаем лишь основные обычаи, идущие от далеких предков. Пятничная служба учит нас, что в этот день надо оглянуться, увидеть друг друга, вознести хвалу за то, что прожили еще неделю, и среди суеты нашей занятой жизни найти время для общения со своими близкими и размышлений о своем наследии. Сейчас хочу сказать вам: я рад, что я здесь. И рад представить вас моему брату Рикардо и моей сестре Эшли, которая сейчас зажжет свечи субботы.
Вперед выходит Эшли:
– В субботу мы читаем три молитвы: одну при зажигании свечей, одну над хлебом и одну над вином. Сегодня, когда моей матери с нами нет, свечи зажгу я.
Все пытаются подвинуться поближе. Все глаза устремлены на Эшли, будто она сейчас покажет фокус. Она зажигает свечи, закрывает глаза рукой и читает нараспев:
– Барух ата Адонаи, Элогейну, мелех а’олам, ашер кид’шану б’мицвотав в’цивагу л’хадик нер шел Шаббат.
– Вот благословение хлеба, – говорит Рикардо. – Славься, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который произвел хлеб от Земли.
– И благословение вина, – вступает Нейт. – Барух ата Адонаи, Элогейну, мелех а’олам борей п’ри агафен.
Дальше церемонию ведет Нейт.
– С тех пор, как я был здесь два года назад, мне очень многое пришлось испытать. В нашей традиции принято после смерти близкого родственника год соблюдать траур, и после того, как в прошлом году была убита моя мать, я каждую пятницу приходил в школьную часовню и говорил с ней. Я молился за нее, за своих родных, за всех нас. И пусть это не в традиции, но всегда я заканчивал молитвой, которая, мне кажется, должна помогать и христианам, и иудеям. «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…»
Нейт начинает двадцать второй псалом, и вся деревня подхватывает. Кто не знает текста наизусть, у тех в руках шпаргалки. У меня мурашки бегут по спине.
– В иудейской религии есть специальная молитва в память усопших, «Ав арахамим», и я прошу Эшли и Рикардо, тоже потерявшего своих родных, прочесть ее вместе со мной.
Дети торжественно читают молитву по-английски. Потом Нейт произносит:
– Мы приглашаем всех прийти, преломить хлеб и испить вина, для детей – виноградный сок.
Эшли и Рикардо делят халу, и дети деревни подходят один за другим за куском.
– Как сладкая вата, – говорит один из них. Рикардо смеется, и лед сломан. Как и дети, мы так же непосредственно переходим от мрачной торжественности к радости.
Для каждого взрослого – чашечка вина.
– Хорошая вещь, – говорит один из них, протягивая руку за второй. – Тела ивайини.
– По одной на каждого, – говорит Нейт.
– Убани иугама лакхо? – спрашивает меня этот человек. Я абсолютно ничего не понимаю.
– Он хочет знать, как тебя зовут, – переводит Нейт.
– Меня зовут Гарольд.
– Игама лами нгиунгу, Гарольд, – говорит Нейт.
– Гарри, – повторяет человек. – Спасибо за вино.
– Когда вы это все успели состряпать? – спрашиваю я у Эшли и Рикардо.
– У Софии не забалуешь, – отвечает Рикардо. – Если она тебе что-то скажет сделать, так сделаешь.
В главном зале школы поставлены столы.
– Что-то у нас от вашего мира, что-то от нашего, – говорил Сахиль, жестом приглашая меня сесть рядом.
Женщины деревни вносят тарелки супа с шариками мацы. Тарелки я узнаю: это те, которые выбрала София, меламиновые, они школе потом пригодятся. Подают рыбу в сливочном соусе и рубленую куриную печенку от ресторатора из Дурбана. Сверху кусочки крутого яйца – точь-в-точь как делала моя двоюродная бабка Лена. А для детей есть просто макароны с красным соусом и сбоку – натертый сыр. Кажется, им намного проще есть что-то знакомое. И я чувствую, что очень благодарен Софии.
Бульон теплый и соленый – эликсир веков. Шарики мацы пухлые, снаружи мягкие, внутри твердые. Если бы Джордж здесь был, он бы схохмил насчет того, как именно еврейские женщины любят готовить мужчинам шарики. И то ли мысль о Джордже, то ли внезапное осознание, что на улице совсем уже темно, заставляют меня встревожиться. Пока было светло, я знал дорогу наружу, но сейчас мы застряли тут на ночь, и деваться некуда.
– А еще есть наше национальное жаркое – иньяма йенкомо, – говорит Сахиль, привлекая мое внимание. – Моя жена готовила, вы должны попробовать.
Я пробую. Мясо жилистое, соус острый и сладкий. Сперва мне не нравится, потом впечатление меняется.
– А вот это, – говорит Сахиль, наливая мне, – домашнее пиво, цхвала.
Обед еще не закончен, когда поднимается учитель.
– Натаниэл, в прошлый раз, когда ты здесь был, два года назад, я еще тут не работал. Но мы все время говорим о твоей щедрости. Дети записали для тебя песню.
Все дети вытаскивают цветные пластиковые рекордеры. «Виии-ддии де-де-де-де диии дии диии веаамумуаваа». Мелодия взлетает и падает: «Вии – умммм муммм ауа…»
Сахиль наклоняется ко мне:
– Иим боо бе – это значит «лев». Старая южноафриканская песня. Ее предложила София – я не знал, что она так у вас популярна.
– Это же классика, – говорю я, подпевая: «…могучие джунгли, лев сегодня спит».
После ужина – танцы под музыкальный автомат, и еще стучат барабаны. Местные постепенно расходятся, Нейт хочет еще побыть с друзьями.
– Нет, – говорю я. – Завтра серьезный день, пора спать.
– Отца необходимо слушаться, – говорит Сахиль.
Не знаю, заметил ли Сахиль свою ошибку – Нейт заметил. И я тоже. Но Нейт молчит, и я этим доволен.
Перед тем как лечь спать, отдаю Сахилю то, что привез по его просьбе.
– А для кого вок? – спрашиваю я.
– Сюрприз для моей матери. Она смотрела по телевизору кулинарную передачу и только о нем и разговаривает. – Он берет вок и вертит в руках. – Как он включается?
Я не могу сдержать смех.
– Поставить на огонь или на электрическую конфорку, и он становится горячим-горячим…
Сахиль кивает.
– Так что же в нем такого особенного? – спрашивает он, недоумевая.
– Я думаю, все дело в форме.
– Спасибо. Лала кале, – говорит он. – Приятных снов.
Постель похожа на лепешку – очень тонкий матрас и куча одеял, пахнущих потом и землей. Не противный запах – мускусный, человеческий, реальный. Матрасы затянуты гостиничными простынями, одолженными (или украденными), будто кто-то сказал этим людям, что американцам без глаженых простыней и свежих махровых полотенец неуютно. Сверху на каждой постели рулон туалетной бумаги с причудливым стикером. Сколько сейчас времени, я понятия не имею – знаю только, что скоро завтра. Дети засыпают почти мгновенно.
Сразу после восхода я ощущаю запах кофе. Одеваюсь и выхожу: на улице, на открытой плите, три женщины готовят яичницу и блины – по указанию Софии. Рикардо и Эшли едят традиционно овсянку, а мне ко всему прочему дают еще бутерброд с анчоусовой пастой. Есть мармелад и чай, который Эшли объявляет самым лучшим на свете. Деревенские детишки пробуют блинчики с кленовым сиропом, который они называют «вкусное лекарство».
Вокруг деревни выставлены бело-голубые вымпелы. Примерно в одиннадцать тридцать мы возвращаемся к себе в комнату переодеться. Я уложил парадную одежду, которая теперь кажется смешной, как маскарадный костюм, но раз Рикардо и Эшли так хотят, то мы одеваемся. Нейт считает, что мы чудачимся, и одевается в джинсы и желто-зеленую футболку «Бафана-Бафана», которую дал ему Сахиль.
Мы идем к центру деревни, где находится большая круглая открытая площадь. Начинают деревенские дети с традиционной зулусской песни, которая мне кажется похожей на «Ваша мама пришла, молочка принесла». Потом Нейта окружают мужчины деревни, одетые кто во что с элементами зулусского «традиционного» убора – уж не знаю, что тут традиционно, а что придумано для туристов. Они танцуют вокруг Нейта энергетическим кругом, песня становится перекличкой между Сахилем, жителями деревни и Нейтом, набирает разгон – и неожиданно заканчивается громким возгласом.
Сахиль предоставляет трибуну мне. Я называю себя и рассказываю, что когда Нейт родился, как был горд его отец, видя в ребенке свое продолжение, и я вот тоже вижу в Нейте продолжение моего брата и на отношение к нему перенес всю сложность своего отношения к брату. Далее я говорю, что лишь после тяжелой семейной трагедии стал видеть в Нейте личность.
– Нейт подтолкнул меня к тому, чтобы я сам стал лучше, чтобы ожидал большего, чтобы сопротивлялся негативным событиям, а не бежал от них и не тонул под ними. Обстоятельства своей жизни он не выбирал, но когда я вижу его, Эшли и Рикардо, меня поражает их стойкость. За этот год я понял: дело родителя – помочь ребенку стать тем, кто он есть. Нейту я не просто дядя, я самый большой его фан, и я благодарен ему, что он привез меня к вам. – И тут, будто представляя артиста, я объявляю: – Леди и джентльмены – Натаниэл Сильвер!
– Сегодня мы празднуем мою бар-мицву, которая по иудейской религии приходится на тринадцатый день рождения и отмечает порог, за которым мальчик становится взрослым мужчиной. Я встречаю этот день без матери и отца. Мне повезло, что я сам жив остался. Побывав здесь два года назад, я часто вспоминал вас и думал о вашей деревне. Когда я размышлял о трудностях – экономических, расовых, медицинских, – то понимал, насколько обеспеченную жизнь веду сам. Когда мне бывало трудно, я думал о вас и чувствовал, что обязан пережить трудности: не только ради себя, но и ради других. Именно то, чему вы научили меня тогда, помогло мне выжить. И поэтому я приехал и говорю: я благодарен вам, вы вернули мне жизнь.
Пока Нейт говорит, Рикардо наклоняется и шепчет мне, что когда ему будет тринадцать, он тоже хочет сюда вернуться на свою бар-мицву, и что ему тоже надо «исправить» пенис.
– Я думаю, лучше оставить его как есть, – говорю я, стараясь не отвлекаться от Нейта.
– А почему у тебя и у Нейта пенис лучше?
– Рикардо, я тебя слышу и обещаю: если захочешь, мы об этом поговорим, когда вернемся домой, но это не тот вопрос, который нужно решать здесь, в Южной Африке. И не бывает пенисов лучше или хуже… ты, кстати, заметил, что у здешних мальчиков точно такой же, как у тебя? – говорю я, снова привлекая его внимание к Нейту.
– Ага. У бедняков-мальчишек плохой пенис, – бурчит он себе под нос. – А я хочу член, как у богатых.
Он смотрит себе в колени, потупившись.
Я ошарашен его точкой зрения.
Нейт заканчивает речь написанным в школе стихотворением. Все аплодируют.
* * *
На трибуну выходит Сахиль.
– Нейт и семья Нейта! Вы приехали к нам отпраздновать этот обряд перехода, когда мальчик становится мужчиной, – но и не только: еще друзья и родственники становятся семьей. Вы верите в нашу деревню, и это напоминает нам, что надо верить в себя и требовать от себя большего – и работать усерднее. Именно работа сделала нас сильнее. Мы размякли, грустили и жалели себя, и много нам выпало на долю сурового. Вы явились как свежий воздух и сказали: думайте не только о себе. Думайте о том, что рядом с вами, что впереди вас, и я сейчас так рад, и мы теперь не одиноки – у нас есть большой мир. И наша дружба показывает, что белые и черные могут ладить друг с другом и быть настоящими друзьями. Мы долгое время жили под тяжким гнетом и долго еще будем приспосабливаться к его отсутствию. Кто-то когда-то мне говорил, что есть люди, которых ты не знаешь и которым ты очень небезразличен. Я не понял, что это значит, и не понимал до этого момента. И я хотел вас благодарить. – Он переводит дыхание. – Мы с подругой твоего отца Софией долго говорили о традициях. И для этой бар-мицвы решили выбрать какой-нибудь очень американский день и выбрали – празднование независимости. И поэтому у нас на обед будет огромное барбекю – гамбургеры и хот-доги.
– Буфет от пуза! – говорит Рикардо. – И бесплатный…
Женщины деревни снуют вокруг, стараясь осуществить нашу очень американскую фантазию и боясь, как бы в чем не оплошать, и в то же время видно, как им это все нравится, насколько американская культура слилась с их мечтой. София позаботилась обо всем: кетчуп, горчица, майонез, маринованные огурчики с укропом, воздушные шарики.
Во время обеда Нейт меня спрашивает:
– Отец знает, что мы здесь?
– Не думаю, – отвечаю я. – А ты хочешь, чтобы он узнал?
Нейт пожимает плечами и берет второй хот-дог.
Обед идет к концу, и деревенские дети исчезают – я сперва подумал, что пошли играть. Но они возвращаются, переодетые в бело-голубые футболки, и вносят пирог. Поют «С днем рождения», добавляя строчку: «Похож на обезьяну и живешь в зоопарке», и им очень смешно.
Нейт разрезает пирог, наклоняется и говорит:
– Я всегда думал, что ты кретин, такой же как все, который ничего не может и которому нельзя верить. А ты совсем как нормальный человек – классно.
Все одеты в Нейтовы футболки, все играют в футбол, даже старухи. Пока идет игра, Сахиль мне говорит:
– Есть человек, с которым я хотел бы тебя познакомить сегодня. Для меня он человек особенный, Лондисизве. Он иньянга – лекарь. Он мне как брат.
– А что он делает?
– Всего понемногу. Дает мне порошок, от которого перестают чесаться ноги. У меня аллергия на пыль – можешь представить, как смешно? Жить здесь и иметь аллергию на пыль?
Сахиль смеется и задирает штанины, показывая, что у него есть носки – длинные белые спортивные носки.
Лондисизве приходит, пока идет игра в футбол. Выглядит он постарше Сахиля. Представившись, говорит:
– Хотел вас поблагодарить за привезенное. Многое из этого пойдет ко мне в лекарскую сумку. Мы достаточно углубились в двадцать первый век, чтобы люди думали, будто все на свете можно вылечить. Можно подумать, я не лекарь, а ремонтник бытовой техники.
Я смеюсь.
– Это не так смешно, как кажется, – говорит он.
Я киваю. Мы смотрим игру.
– У вас прекрасная семья.
– Спасибо.
Подбегает Эшли – ей нужно помочь убрать волосы. Я представляю ее Лондисизве, и она пожимает ему руку.
– Вам нравится ваша поездка? – спрашивает он.
– Потрясающе! – отвечает Эшли.
– Я очень рад, – говорит он, держа ее за руку. – А что больше всего?
Она думает, потом сообщает:
– Мне понравилось зажигать свечи вечером в пятницу, а потом еще когда все пели «Господь – Пастырь мой…».
– Все это хорошо, – кивает он. И выпускает ее руку. Она бежит играть снова.
– Она очень долго была грустна, – говорит лекарь.
– У нее все в порядке, – отвечаю я.
Лондисизве смотрит на меня так, будто я сознательно не хочу его услышать.
– В школе она учится хорошо?
– Сложный вопрос.
– Она боится. Ее тревожит, что с ней дальше будет. А этот тяжелый мальчик…
– Рикардо, – подсказываю я.
– Рикардо – ему нужны тренировки. Он переполняется энергией и подавляет ее, увеличивая свой вес едой. Ему нужно карате или фехтование, чтобы стать самим собой.
– Откуда вы это знаете?
– Некоторые вещи видны просто на взгляд, – отвечает он.
– Расскажите еще что-нибудь.
– Нейту нужно быть помягче. Он работает на гневе, как машина на бензине, но в какой-то момент может сломаться. Ему нужна пища помягче, чем гнев.
Я киваю, думая, что этот человек действительно что-то понимает. И тут он обращает свой взгляд ко мне. Просит меня высунуть язык, нюхает мое дыхание – наверняка пахнет хот-догом и горчицей. Он кивает, будто думая, как лучше сказать о том, что он увидел.
– Ты чуть не умер, – говорит Лондисизве. – Сейчас ты чувствуешь себя хорошо, но внутри не все хорошо. Ты держишь в себе что-то скверное, оно должно выйти, а ты боишься выпустить. Это что-то из очень давнего времени, и ты держишь это в себе, как спутника, с которым ты не так одинок, но сейчас у тебя есть семья, и чтобы ты был здоровым, это надо выбросить наружу.
Я киваю, понимая, что он прав. Способность описывать собственные переживания у меня ограничена, нюансы сформулировать не удается. Как вообще себя высказать? Ощущение такое, будто я могу только мычать и надеяться, что меня поймут по интонации. Можно было бы оправдаться инсультом, но это было бы вранье. Как я могу кому-нибудь передать, что внутри у меня всегда жило ржавое чувство омерзения, тусклая черная вода, которая, мнится мне, и есть моя душа?
– А что это такое – что нуждается в выходе наружу? – спрашиваю я.
– Это как раз и есть мой вопрос к тебе. Это что-то такое, что не дает тебе жить. Я хотел бы дать тебе что-нибудь, чтобы вычистить старое. Начнем мы с чая – он тебе даст крепкие сны и ветер, но надо будет пить его четыре дня. Перед тем как станет лучше, будет намного хуже.
Идея насчет «намного хуже» не заставляет меня прыгать от восторга и кричать: «Давай скорее!»
– А ветер – что ты имеешь в виду?
– Клубы дыма из живота, – отвечает Лондисизве. – Но как бы ты себя ни чувствовал, надо продолжать пить, пока не прекратится дым, и тогда ты почувствуешь, как полегчал твой дух. Начнем сейчас, – говорит он. – Я сделаю чай.
И он уходит.
Я смотрю футбол.
Через двадцать минут он возвращается с большой кружкой. Я выпиваю чай, на вкус земляной, тяжелый, как будто вареный торфяной мох с грибами.
– Из чего это приготовлено? – спрашиваю я. Отчасти чтобы потянуть время между глотками.
– Не могу сказать. Потому что если скажу, то должен буду тебя убить.
Он улыбается, и я вижу, что у него всего четыре зуба и зияющие дыры по обеим сторонам рта. Он смеется и говорит:
– Это была шутка.
Через сорок пять минут на меня наваливается изнеможение. Мне приходится лечь, и я не знаю, то ли дело в этом чае, то ли в том факте, что бар-мицва кончилась, но ощущается усталость, как от всей жизни, будто она вытекает из меня. Я возвращаюсь в нашу комнату и сплю несколько часов. Сны неуютные, очень живые, невероятных, перенасыщенных цветов. Они такие интенсивные, что пока их смотрю, я думаю, что никогда не забуду. А когда просыпаюсь, как с похмелья, то не помню ничего. Почти ничего. Какие-то странные фрагменты. Вот заседание с какими-то людьми, мы сидим в офисе, и они все разговаривают, а до меня доходит, что это шестидесятые годы, я в костюме, а люди эти – люди Никсона, и я работаю на Никсона, и все они поворачиваются ко мне и смотрят, будто чего-то ждут. А в другом сне мой отец в подштанниках танцует по дому, а на мне надет мамин лифчик, а мама бегает за отцом, хлещет его посудным полотенцем и приговаривает: «Да почини ты наконец кондиционер!»
Я встаю и выхожу, пошатываясь, искать детей. На меня накатывает приступ паранойи: меня опоили, чтобы забрать детей!
Все примерно там же, где я их оставил. Нейт стоит на стремянке и вместе с жителями деревни чинит водонагреватель, Рикардо играет с группой ребят, Эшли помогает готовить ужин. Идеальная идиллия, можно сказать.
– Ты вспотел, – говорит Эшли, и тут только я замечаю, что у меня за время сна одежда промокла от пота.
Я киваю и ухожу, не говоря ни слова. Возвращаюсь в школу, в наши комнаты, и принимаю душ. Там меня находит Лондисизве.
– Как? Действует мой умутхи?
Я киваю.
– Нормально себя чувствуешь?
Снова киваю.
На ужин каждому выдают целый пир, а мне – миску овсянки и еще одну чашку чая. Этот более зеленый, более травянистый. Я его выпиваю, и почти тут же меня рвет.
– Наверное, что-то такое, на что у меня аллергия, – извиняюсь я перед Лондисизве.
Он качает головой:
– От этого чая всех рвет.
Я смотрю на него, будто спрашиваю: зачем тогда давать его пить?
– Если бы я тебе сказал, что после этого чая тебя вырвет, ты бы стал его пить? Очень скоро я тебе принесу другой чай, и обещаю, что он тебя блевать не заставит.
После ужина устраивают фейерверк. Для организации этого зрелища София наняла команду пиротехников. Лица детей сияют от восторга. Даже те, кто постарше, редко видели фейерверк – если вообще видели. Лондисизве приносит мне новую чашку чая, и эта на вкус сладка и приятна, и я ее выпиваю быстро, – отчасти потому, что отвлечен и не хочу ничего пропустить в зрелище.
Взрывы заполняют небо. Красные пионы, синие кольца, золотые купола, плакучие ивы, раскаленные добела хризантемы, пауки, тяжелые золотистые мохнатые звезды, разлетающиеся, переливающиеся, вспыхивающие снежные хлопья – как драгоценности или падающие звезды. Интересно, насколько далеко они видны. И еще – хотя это несколько портит праздник – мелькает мысль: сколько это стоило?
Фейерверки гудят и посвистывают, трещат и грохают, а у меня в животе возникает рокот, накапливаются древние архетипические газы, первобытный органический бульон – сероводород, двуокись углерода, метан, аммиак. Взметаются, колышутся, взрываются кажущиеся мне разноцветными облака, синие и зеленые, как гигантские неровные радужные мыльные пузыри. Я не очень интересуюсь скатологией, но потрясен тем, что из меня выходит. И в какой-то момент взрывы идут в такт фейерверку.
Представление кончается традиционным ярко-белым залпом фейерверков низко над землей, и оглушительное эхо гремит в холмах. Уносятся прочь клубы белого дыма, и каждому ребенку выдается бенгальский огонь, чтобы размахивать им, рассыпая искры. Я бдительно слежу.
А потом подают мороженое – огромные картонные коробки, привезенные из Дурбана, – ванильное, шоколадное, клубничное, которое всю ночь держали на сухом льду. Среди детей некоторые никогда раньше не ели мороженого, и это потрясающе – видеть такую радость у детей и взрослых.
Вечером, когда мы возвращаемся к себе, дети жалуются, что рядом со мной невозможно находиться: от меня жутко воняет. Я вытаскиваю кровать в школьный коридор, думаю, не вылезти ли совсем наружу, и решаю этого не делать, потому что боюсь темноты.
На следующий день после завтрака мы раздаем ранцы, карандаши и прочее, что София выбрала в качестве подарков. Дети вежливы, благодарны и обучены приветствовать белых реверансом. Они скромны, несколько хрупки, будто их право на жизнь все еще утверждено непрочно. Один из мальчиков дарит Рикардо жестяной грузовик, сделанный из консервных банок, девочки подносят Эшли бусы и корзиночку, Сахиль вручает Нейту древний головной убор племени, сделанный из шкур и расшитый бисером, а мне – сумочку с древним кусочком носорожьего рога, наполненного магическим снадобьем, дающим воину непобедимость.
– Смешано с животным жиром, втирается в запястья. Для секса отличная штука, стоит колом.
– Спасибо, – говорю я.
Лондисизве приносит набор снадобий, которые мне нужны на ближайшие три дня. Чаи надписаны – «на завтрак», «на обед» и «на ужин». Еще он напоминает мне не есть плоти животных, пока я принимаю эти чаи, и пить много воды. Еще он дает мне несколько чаев уже для Америки.
– Вот этот выпей как-нибудь, когда вернешься домой. Он тебе поможет отпустить то, что ты все еще держишь. А этот пей раз в день три дня – а потом по мере надобности, когда почувствуешь, что становишься прежней версией самого себя. Они сделают тебя свободным.
И перед самым отъездом он мне подносит еще одну чашку чая, «на дорогу». Вкус у этого чая мерзкий – будто замочили в пиве лошадиный навоз и дали несколько дней настояться. Перебродивший, темный, противный. Выпиваю его с трудом.
– Кажется, я совершил ошибку, – говорит он, забирая у меня пустую чашку. – Положил корицы, чтобы вкус был более приятным. Надо было оставить как было.
За нами приезжают два «лендровера», за рулем – белые, которые представляются как Дирк Крюгер и Питер Гоозен. С ними двое черных помощников. Они представляются только по именам – Копано и Джозайа – и забирают наш багаж.
Мы едем. Деревня за спиной отступает и уменьшается – мы смотрим, пока еще что-то видно. Все без исключения машут нам. Дети начинают плакать – сперва Нейт, потом Эш, потом наконец Рикардо:
– Почему я плачу? – спрашивает он. – Мне так радостно и так грустно сразу.
– Это как радуга, когда идет дождь, – отвечает Эшли.
Что мне делать с этим странным чувством, что я здесь был и уехал так быстро? Как будто мы не все сделали, и надо было сделать еще что-то? Такова жизнь этой деревни – надо ли ее исправлять?
Мы часами говорим о Нейтвиле и о людях, которых там видели. Нейт захвачен приобщением к этому миру, желанием, чтобы все в нем было хорошо. Человек за рулем пытается принять участие, задавая вопросы вроде бы: «Так, значит, хорошо отдохнули?»
Мы едем часа два, пока не прибываем к водопаду – поистине зрелищному.
– Тут самые крепкие орешки раскалываются, – говорит Питер, когда мы выходим из машины. – Если хотите, можем пойти слегка полазить.
При этих словах Джозайа и Копано вынимают из другой машины ледорубы, веревки, страховочные ремни для детей.
Меня одолевают желудочные спазмы, и я, извинившись, ухожу в лес. Испытываю приступ поноса, потом переползаю на другое место, и снова, и снова. К концу процесса я держусь за сук дерева, снятые штаны болтаются у меня на шее, а сам я поливаю ближайшие заросли беглым огнем.
– Эй, как вы? – окликает меня один из проводников через пару минут. – Смотрите там, чтобы никто в задницу не вцепился.
– Нормально, – отзываюсь я слабым голосом. Не потому, что это правда, а потому что тут ничего другого не скажешь. – А вы бы шли себе пока без меня.
– Мы поведем ребятишек пройтись, а к вам вернемся где-то через час, – говорит один из них. – Машину я не запираю, вода внутри. Не забудьте попить как следует, когда там закончите.
Возвращаются они сияющие.
– Это так здорово, мы в связке шли, залезали вон на ту здоровенную скалу! – говорит Рикардо.
– Там так красиво, у водопада, мне в лицо летели брызги, – подхватывает Эшли. – И я радугу видела, правда, здорово? Я же сегодня утром в деревне еще говорила «радуга», а там было…
– Мы их страховали надежно, как кошка котят за шкирку, – говорит Дирк, которого Рикардо теперь называет Диртик.
– А еще там трос провешен, и мы летели по нему над лесом, – добавляет Нейт, будто мне необходимо было это слышать. – Тебе лучше?
– Надеюсь, – говорю я, потому что, если честно, мне трудно себе представить, как бывает хуже.
– Похоже, что-то съели, – говорит Питер. – От зулусской кухни вполне можно концы отдать.
– Правда? – спрашивает Эшли.
– Ну, не совсем, – говорит Питер, чтобы она не волновалась.
Что-то в его тоне мне не нравится. Похоже, расизм.
День клонится к вечеру, когда мы прибываем в лагерь.
– Время пить чай, – говорит Дирк.
Нам показывают нашу палатку – навороченный шатер Лоуренса Аравийского. Это не «комната», скорее «дом» под навесом – с большой круговой верандой, с гостиной, устланной восточными коврами, с диванами, удобными креслами, чурбаками в качестве подножек, с лампами, с походным столом на случай, если надо писать письма, с ванной, где стоит огромная ванна на птичьих лапах с когтями, открывающаяся прямо в буш. Вазы со змейками Гамми и маленькие мягкие игрушки для детей. Двое черных слуг приносят чай, лимонад и печенье с начинкой из лимонного крема, и еще сандвичи с вареньем и арахисовым маслом. Не знаю, то ли тут всегда так делают, то ли София попросила о некотором особом отношении.
Мы отдыхаем примерно час, потом один из проводников приходит рассказать о поездке на сафари, которая ждет нас в сумерках. Снова напоминают правила: фото– и видеокамеры разрешены, громко не разговаривать, не кричать ни за что, потому что это может вызвать панический бег животных. Из машин не выходить, не пытаться кормить зверей и не подманивать их поближе, руки из машин не высовывать ни при каких обстоятельствах.
Я пью чай и беспокоюсь, что будет, если во время наблюдения за львиным ужином мне понадобится еще раз облегчиться. Думаю отказаться, но мысль о том, чтобы отослать детей в ночь с Питером и Дирком, просто не рассматривается.
* * *
Мы отдыхаем. Я раздаю детям пакеты для сафари, приготовленные Софией, фотоаппараты, шляпы с огромным металлическим значком: «Большая БМ Нейта».
Дирк мне приносит какой-то специальный напиток.
– От этого вам должно стать лучше.
– А что это?
– Гаторейд, – говорит он. – Держим для беременных дам.
Так и не понял, шутил он или нет, но мне становится лучше.
В машине с нами оказывается пожилая пара из Нидерландов.
– Всю жизнь об этом мечтал, – говорит муж. Жена, по-английски не говорящая, кивает. – Мой дед ездил много лет назад и привез домой шкуру слона.
– Он убил слона? – спрашивает Рикардо.
Человек гордо кивает. Все остальные молчат.
– Как вам известно, сафари фотографическое, – говорит Питер. – Стрелять будут только камеры.
Человек из Амстердама мрачно кивает, будто ему действительно хочется большего.
– Мы знаем, что в этой местности живет львиный прайд, там несколько самок, пара самцов и немножко львят нескольких месяцев от роду. – Машина замедляет ход, Питер переходит на шепот: – Вон там на той стороне дороги – свежие следы лап прайда. Они где-то рядом.
Вдруг один из черных показывает в сторону, и из кустов встает лев, за ним идут львица и несколько львят. Лев будто подкрадывается к кому-то, у него подергивается хвост.
– Этого льва я знаю, – говорит Питер.
Львы подходят ближе, и мы начинаем снимать львицу и львят, а потом приближается еще одна самка, и мы прослеживаем их до полянки, где несколько львов жуют что-то, слава богу, не опознаваемое – труп какой-то.
– Что они едят? – спрашивает человек из Амстердама.
– Антилопу, – отвечает Питер.
– А животные за оградой? – спрашиваю я. – Есть шанс столкнуться с диким львом на дороге?
– Очень мало, – говорит Питер. – Почти все большие животные живут в заповедниках и национальных парках. Можно встретить мелких обезьянок, павианов, антилоп, но очень маловероятно увидеть слона, льва, носорога или буйвола…
– А на этих зверей все еще охотятся?
– Да, – говорит Питер.
– В огороженном парке – это себя не уважать, – говорит Нейт.
Потом все молчат, пока Рикардо не прерывает тишину вопросом:
– Так это вроде зоопарка под открытым небом и в загородке?
– Вроде, – отвечает Эшли.
Мы видим льва, который ссорится с другим львом, нащелкиваем снимков сотню и успеваем вернуться в лагерь на закате солнца. Небо огромное и к нашему возвращению усыпано звездами. Мы узнаем созвездия и некоторым даем новые имена – игра такая.
Нашу палатку приготовили к вечеру. Каждый из трех диванов, окружающих огромную двуспальную кровать, сам превращен в кровать с накрахмаленными простынями, пухлые подушки задрапированы москитными сетками – одновременно и по-деревенски просто, и шикарно. Нам предложен выбор: ужинать с прочими гостями или же на своей террасе.
Мы решаем на террасе. У каждой палатки свой «дворецкий». Нашего зовут Бонгани. Это гибкий юноша с очень черной кожей, излучающий доброту. Дети предлагают ему сесть с нами за стол и поужинать макаронами с сыром, но он мотает головой.
– Я уже поел, – отвечает он, – но приятно смотреть, как еда доставляет радость вам.
Бонгани приносит мне еще гаторейда, несколько тостов и горячей воды, чтобы я мог приготовить себе чай. Открыв пакет, который дал мне Лондисизве, я вижу шарики чая, и на каждом написано, в какое время дня и в какой день недели его следует пить. Сегодняшний шарик темный, лиловато-черный.
– Сливок или сахара? – спрашивает Бонгани.
– Мед, если есть.
– На сафари есть все, – отвечает Бонгани, и это действительно так, отчего несколько неуютно.
После ужина я пью чай, приятный и успокаивающий, и принимаю ванну, пока дети смотрят кино. До меня доносятся их голоса. Эшли говорит, что быть девочкой в Южной Африке очень тяжело: их никто здесь не уважает. Мальчики ей отвечают, что не заметили этого, и странно, как заметила она.
– Это очень печально, – говорит она им. – Женщины готовят, женщины моют и убирают, и никто их не уважает, и всем на них плевать.
– Думаю, когда-нибудь это исправят, – говорю я, выходя из ванной. – Может быть, борьба против расового неравенства отодвинула борьбу за права женщин на второй план.
– В принципе, – говорит она, выпрыгивая к своей кровати, – девчонок здесь за людей не считают.
Бонгани предлагает детям сделать костер, чтобы можно было жарить маршмеллоу. Лица озаряются радостью.
Маслянистые от репеллента, они выходят на улицу. Из палатки мне видно, как мелькают у них на лицах отсветы огня.
Я остаюсь внутри. Я опустошен, но чувствую себя лучше, пребывая почти в какой-то странной эйфории. Пересчитываю оставшиеся девять чайных шариков.
Рикардо засыпает у костра, Бонгани вносит его внутрь.
– Мне его переодеть в спальную одежду? – спрашивает он.
– Спасибо, я сам, – отвечаю я.
Эшли и Нейт готовы ложиться спать, Бонгани спрашивает, хотят ли они послушать сказку.
Они хотят.
И нас убаюкивает мелодическое повествование о героических слонах и львах давних времен.
Примерно через час Рикардо просыпается и приходит ко мне.
– Мне страшно, – говорит он, залезая в большую кровать.
Потом Эшли говорит:
– Не могу спать, – и залезает рядом с ним.
В два часа ночи к нам без единого слова приходит Нейт. Мы, как собачья стая, сбиваемся в клубок, тихо посапываем, конкурируем за подушки и одеяла. Самый лучший для меня ночной сон за весь этот год.
На рассвете Бонгани уже готовит завтрак. Он видит, что я проснулся, и приносит мне чай. Когда просыпаются дети, я выпиваю вторую чашку, заедая простыми тостами, и смотрю, как дети поглощают обильный завтрак. Пока мы едим, я спрашиваю у Бонгани, как поживают его родные. Он отвечает, что хорошо и что живет здесь всю жизнь.
Взяв с собой купальные костюмы и смену одежды, как нам было сказано, мы спозаранку выезжаем на поиски слонов. На этот раз нидерландская пара едет в другой машине, и мы сами по себе. В одной из других машин какой-то ребенок устраивает истерику и выбрасывает мягкую игрушку. Всем приходится остановиться. К мальчику подходит Дирк. Я боюсь, как бы он не стал читать ему нотацию за нарушение правил, но нет – Дирк дает ребенку леденец на палочке, Джозайа выскакивает подобрать мишку из травы, и мы едем дальше.
На следующей остановке, пока все щелкают фотоаппаратами, я говорю Дирку, какой чудесный у них Бонгани. Дирк мне сообщает, что отца у Бонгани убили, а мать, чтобы выжить, занялась проституцией и умерла от СПИДа.
Мы устраиваем пикник на совершенно картинном пейзаже под огромным деревом, на котором оказываются несколько качелей, сплетенных из невероятно длинных веревок. Дети летают по воздуху. Ветер восхитительно пахнет землей и травой. «Пикник» – это коктейли и большие удобные стулья, а также красивые столы с настоящими тарелками и едой, берущейся из бесконечных огромных длинных плетеных корзин. На обратном пути в лагерь мы останавливаемся у реки, где заранее поставлены палатки для переодевания и где, нам сказали, можно плавать, не опасаясь крокодилов. На страже становится «спасатель» с ружьем, и дети входят в воду. Я воздерживаюсь, боясь паразитов или чего угодно, что может возбудить мой пищеварительный тракт.
Вечером после ужина никто не притворяется, что будет спать на своем месте. Все переодеваются в пижамы, запрыгивают в большую кровать и тянут теплое какао, пока Бонгани нас убаюкивает.
«Чего вы хотите?» – спрашивал меня Таттл, кажется, уже много-много месяцев назад.
Я хочу, чтобы вот это, что бы оно ни было, никогда не кончалось.
На следующее утро, пока дети уезжают на расположенную неподалеку крокодиловую ферму, я занимаюсь укладкой всего, что мы с собой привезли, и всего, что здесь накопили, обратно в чемоданы. Неожиданно я решаю оставить почти всю одежду – кроме той, в которую заворачиваю хрупкие предметы.
Чемоданы набиты сувенирами – шляпами, футболками, так необходимыми всю эту неделю, но вряд ли их хоть раз наденут снова.
Я откладываю огромную кипу одежды, и когда возвращается Бонгани, спрашиваю, можно ли это оставить ему.
– Да, – очень серьезно отвечает Бонгани. – Я все это сохраню до вашего возвращения.
– Я хочу, чтобы вы взяли это себе, – говорю я. – Или отдали кому-нибудь, кто будет сам носить. Мне возвращать не нужно.
– Спасибо, – говорит он. – Я это буду носить с удовольствием.
Когда мы уезжаем, я даю ему денег, но он возвращает мне часть:
– Для меня нехорошо иметь слишком много денег. Если кто-нибудь решит, что я богат, меня попытаются обокрасть. Я могу взять только в меру. Мне очень приятно было работать с вами и вашей семьей.
Я думаю, не привезти ли его в Соединенные Штаты. Он мог бы ходить в школу и учиться. Я записываю свое имя, адрес, телефон и и-мейл на куске бумаги и отдаю ему:
– Если что – не стесняйся обратиться.
Мы обнимаемся на прощание.
– Счастливого пути, очень был рад нашему знакомству, – говорит он.
По дороге в Дурбан мы два раза останавливаемся на шопинг. Эшли покупает краску для своей комнаты и сережки. Решительно настроенная привезти домой Мадлен и Саю то, что им нужно, она покупает подарки для них, как когда-то для своей любимой мисс Рини. Она покупает что-нибудь одно, тут же видит еще что-то и тоже покупает. Эшли и Рикардо выхватывают взглядом универсальный магазинчик и умоляют водителя остановиться. Чувствуя серьезного покупателя, владелец не торопит Эшли, позволял ей все как следует рассмотреть, что она и делает, останавливаясь наконец на идеальном, как ей кажется, подарке: чернокожие куклы-младенцы, довольно крупные, мальчик и девочка, анатомически верные. Я ей говорю, что вполне можно одну купить для себя, но не уверен, что это такие уж хорошие подарки для родителей Аманды.
– Ошибаешься, – заявляет она без обиняков. Мне приходится выбирать между вариантом сказать, что я не только опекающий их взрослый, но и тот, кто оплачивает счета, или просто проглотить пилюлю и позволить поступать по-своему.
– Ладно, – говорю я. – Но на мой взгляд, это последний в ряду идеальных подарков.
– Я вообще-то знаю, что делаю, – отвечает она. – Я видела в одной любимой передаче, а потом посмотрела в реале – фактчекинг, как мы это называем в школе. Было проведено исследование, в котором старикам с деменцией давали кукол как предмет заботы. И старики сразу становились намного счастливее. – Она несет кукол к кассе. – У них появлялось близкое существо, которому они были нужны.
В последнюю секунду, когда владелец собирается уже прокатать мою карточку, Эшли добавляет по одеялу для каждой куклы. Я подписываю чек, не говоря ни слова. Эшли тут же вынимает кукол из упаковки, укачивает их и называет своими близнецами.
Рикардо говорит, что хочет автомат совсем как настоящий – который когда полиция видит, так стреляет в тебя на месте.
– Ни в коем случае, – отвечаю я.
– Как их зовут, твоих двойняшек? – спрашивает Нейт, когда мы выходим из магазина и владелец закрывает за нами металлические ворота.
– Поживем – узнаем, – отвечает Эшли.
Мы возвращаемся в машину и едем по окраине Дурбана, но тут начинается непонятное. Водитель нервничает: давит на газ, резко обгоняет другие машины, хотя дорога почти не загружена.
– Что-то не так? – интересуюсь я.
– Они у меня на хвосте, – говорит он.
– Кто у вас на хвосте?
– Машина какая-то, – говорит он, выруливая на встречную, чтобы обогнать медленно едущую машину. Какая-то машина едет прямо на нас, и мы не успеваем закончить обгон – водителю приходится вернуться обратно в нашу полосу. На подъезде к светофору он притормаживает, просматривает перекресток, но на красный не останавливается.
– Эй! – говорю я. – У нас дети в машине!
– Поверьте мне, – отвечает он. – Иногда лучше не останавливаться.
Я гляжу назад – та машина тоже не остановилась. В ней трое мужчин. Вскоре они догоняют нас и начинают сталкивать с дороги. Эшли пронзительно кричит. Водитель жмет вперед, вдавив педаль в пол, пыль клубится за нами. Белая машина держится рядом, спихивая нас с дороги дальше.
– Стоит, наверное, остановиться, – говорю я.
– Нет, – отвечает водитель. – Ничего хорошего не будет.
Так продолжается пару минут – а может, полминуты, потом оглушительный грохот, похожий на взрыв, и машина дергается вправо. Водитель изо всех сил удерживает руль. Мы медленно останавливаемся, и пыль начинает оседать.
– Авария? – спрашивает Рикардо.
– Шина лопнула, – говорит водитель.
Трое преследователей останавливаются сразу за нами, выходят из машины, приближаются. Подойдя, сразу же начинают колотить по машине и раскачивать ее. Страшно.
– Захват заложников, – шепчет Нейт. – Надо просто отдать им деньги.
– Детки мои, детки! – вдруг вопит Эшли. – Они не дышат, детки мои!
Я рывком распахиваю дверцу – сбивая того, кто на нее опирался. Рикардо, Эшли и Нейт вылетают наружу, держа на руках коричневых младенцев в одеялах.
Эшли на обочине завывает:
– Деточки, деточки мои! Они не дышат!
Нейт наклонился над младенцами, прикладывается ухом к их груди по очереди, делает дыхание изо рта в рот.
– Кто помнит, как реанимацию делать? – кричит он.
Мы с Рикардо на коленях склоняемся над коричневым мальчиком, Нейт сдавливает грудную клетку девочке и кричит:
– Дыши! Дыши!
– Ему плохо! – кричит Рикардо. – У кого-нибудь тут есть дефрижератор?
Водитель сидит в машине, парализованный страхом.
Выкрики Эшли переходят в пронзительный, на одной ноте, вой, – будто все страдание, всю боль и горе смерти Джейн она вложила в этот звук. Она стоит на обочине в настоящей истерике, и я не знаю, кому сперва помогать.
– Вы убили моих детей! – выкрикивает она снова и снова.
Глубоко озадаченные налетчики залезают в свою машину и уносятся прочь. Мы ждем, пока они отъедут подальше; потом мы с Нейтом подбираем младенцев и подходим к Эшли, которая никак не может успокоиться. Нейт показывает ей кукол:
– Смотри, все нормально. Вот, держи.
Он кладет кукол ей на руки. Эшли дышит часто и неглубоко, глаза у нее широко раскрыты, будто она не соображает, где находится. Я беру бумажный пакет, в котором были куклы.
– Дыши сюда, – говорю я, сворачивая отверстие пакета в трубочку, и подношу ей к губам.
– Это было здорово, – говорит Рикардо. – И здорово страшно.
Мы киваем. Когда Эшли наконец удается перевести дыхание, мы все садимся в машину.
Водитель все еще за рулем. По его лицу стекают безмолвные слезы.
– Запаска есть? – спрашиваю я.
Он кивает. Мы быстро меняем колесо и уезжаем. Нас еще бьет дрожь.
– Это часто бывает, – говорит Нейт. – Похищение, захват. Иногда им нужна машина, иногда только деньги.
– Вам очень посчастливилось, – говорит водитель. – Иногда им богатые белые тоже нужны.
– Ты как, ничего? – спрашиваю я у Эшли.
Она молчит, но кивает.
– Ты выступила совершенно потрясающе. Как ты до такого додумалась?
– Телевизор, – отвечает она. – Ты же знаешь, телевизор у нас всегда был включен.
– Да.
– Ну, вот, я всегда видела, как там женщины плачут, мамы и тети, и всегда мне было печально и страшно. Они стоят в дверях и рыдают, а репортер пытается пролезть внутрь. Или они бдят при свечах, потом падают на пол. Не знаю. Просто как-то на меня нашло.
– Ты прекрасно сыграла, – говорю я.
– Прямо на «Оскара», – подтверждает Нейт.
– Просто поверить не могу, – говорит Рикардо. – И мы сразу так раз! – и в дело, как супергерои, как в кино. – Он широко улыбается. – Тебе понравилось, когда я спросил про дефрижератор?
Я все время прокручиваю в голове эти события. И чем больше об этом думаю, тем сильнее переживаю. Смотрю на детей – им как с гуся вода. Не понимают, наверное, как могло обернуться дело. Когда я об этом думаю, то понимаю, что все бы сделал не задумываясь для их защиты. Впервые теперь понимаю, как я к ним привязался и как с ними связан.
В аэропорту у меня настроение начинает падать. Все еще переживаю попытку похищения и волнуюсь насчет возвращения домой. Как нам поддержать это ощущение надежды и открытых возможностей, ощущение полной откровенности, отсутствия задних мыслей, которым было пронизано наше путешествие? Вдруг с ужасом и удивлением я почувствовал, что снова сам по себе. Мы так хорошо жили далеко от дома – далеко от себя, все вместе – против мира, который куда больше нас. Мы сплотились, работали одной командой, и меня тревожит, что будет, когда мы вернемся домой и закончится это необычное и многообещающее время.
Полет из Дурбана в Йоханнесбург проходит нормально, мы уже готовы сесть на самолет домой, и дети, все еще заведенные, бегут покупать сувениры последней минуты: чипсы «симба» и газированный лимонад, будто никогда больше не увидят Южной Африки. Йоханнесбург – как станция пересадки для всего человечества. К счастью, София нам организовала сопровождающего, чтобы провести от самолета к самолету.
Я думаю о доме, о Джордже и Джейн. Знаю, что переутомлен, но я будто снова вижу происшедшее, чувствую или даже скорее переживаю это в первый раз. Внезапно все оживает, прямо здесь, в кровавых подробностях, осязаемо и грубо. Кажется нереальным – я не могу поверить, что это случилось. Не могу поверить, что это было меньше года назад, и сейчас мы в южноафриканском аэропорту, ждем самолета.
Вспоминаю, что мне сказал Лондисизве: отпустить то, что живет во мне. Тут я понимаю, что не выпил полуденный чай. Придется попросить горячей воды, как только окажемся в самолете. Вспоминаю Лондисизве, как я корчился от боли, а дети смеялись от вырывающегося дурного запаха. «Очень хорошо, – сказал Лондисизве наутро, когда я ответил на вопрос о своих ощущениях. – Очень хорошо, что ты ощутил себя больным – это то, что у тебя внутри, только начало выходить наружу. Но ты почувствовал! – Тут он хлопнул меня по плечу. – А это значит, что ты не мертвый».
Я снова чувствую это в аэропорту. Желчь поднимается к горлу смесью прелых листьев и конского помета. Я ее сглатываю – кислятина жжет пищевод, опускаясь обратно.
– Чей это ребенок? – спрашивает таможенник, показывая на Рикардо.
– Наш, – говорит Нейт.
– Я их брат, – добавляет Рикардо.
Я достаю письмо от тетки Рикардо и даю таможеннику. Он подзывает коллегу, они спрашивают, есть ли у меня телефон с международной связью. Я говорю «да» и даю им телефон, чтобы они позвонили тетке. Она отвечает, что Рикардо не был похищен. Успокоенный таможенник спрашивает, как Рикардо провел время в Южной Африке.
– На слоне катался?
– Нет.
– Прыгал на банджи с обрыва?
– Нет.
– А что делал?
– В футбол играл.
– Ну, молодец! – отвечает таможенник, улыбается, показывая табачные крошки между зубами, отдает нам паспорта, а детям каждому по карамельке – как раз такого размера, чтобы можно было подавиться. Я их незамедлительно конфискую.
Наше прибытие в Нью-Йорк задерживается из-за грозы. Мы кружим над аэропортом несколько часов (или так кажется), потом садимся в Бостоне на дозаправку и возвращаемся в Кеннеди. Собакогулятелю я сообщаю эсэмэской из Логана, что мы задерживаемся. Он рапортует с какой-то странной бодростью:
«Мы готовы, ждем не дождемся, рвемся приветствовать».
Что-то в его тоне мне не нравится.
«Все в порядке?» – спрашиваю я.
«Тип-топ», – отвечает он.
Ох, не надо бы.
Приземлившись в Нью-Йорке, я чувствую откровенное облегчение, что мы снова на земле «Метрополитен» и «Янки», насыщенного трафика и шероховатого народа.
Таможня Соединенных Штатов в лице своего служащего просит меня открыть чемодан.
– Где ваша одежда? – спрашивает таможенник.
– Подарил, – отвечаю я.
– Открываете торговлю? – спрашивает он, глядя на закупленные товары.
– Нет. Возил детей в поездку, и вот это они накупили. Места для одежды не было.
– Почему не приобрели другой чемодан?
– Не хотел возиться с двумя чемоданами.
– Хотите подержать моих деток? – спрашивает Эшли.
– Вы знаете, что одежду, которую мы кладем в ящики для пожертвований на церковных парковках, в Южной Африке продают? – спрашивает Нейт. – Вы думаете, что отдаете одежду нуждающимся своей страны, а ее продают беднякам ради выгоды.
– Похоже, поездка была образовательная, – говорит таможенник, закрывая мой чемодан и пододвигая его мне, чтобы я застегнул «молнию».
– Исследовательская экспедиция, – говорит Эшли.
– А меня чуть не обрезали, – сообщает Рикардо. – Я все равно хочу, а он говорит – нет.
И показывает на меня, как на главного злодея.
– Избыточная информация, – говорит таможенник, штампуя наши паспорта и показывая нам, чтобы проходили.
– А что значит «избыточная информация»? – спрашивает Рикардо.
– Это значит, что о некоторых вещах не надо орать на весь свет, – отвечает ему Нейт.
Мы выходим из здания, на нас обрушивается жара. Переход от бескислородной прохлады самолета к сковородке тротуара слишком резок, мы сразу же становимся липкими, нам жарко.
– Опаздываете, – говорит нам какой-то мятый тип, держащий плакат, где гелевой ручкой накорябано «Сильвер».
– Из-за погоды. И еще надо было сесть заправиться, – отвечаю я.
Ватная поездка на большой черной машине создает у меня неприятное ощущение, будто мы плывем, отделенные от реальности. Мне не хватает ухабистой езды старого «лендровера» с самодельными детскими ограничениями привязных ремней, похожего на собранный на заднем дворе ракетоносец.
Мы подъезжаем к дому. Розовые кусты перед входной дверью в полном цвету – густо-красном, кровавом. Перед домом раскинулась ползучая роза «Белый рассвет», обернувшаяся вокруг окон. Эшли срывает розовый цветок и подносит мне к носу.
– «Абрахам Дерби», – говорит она. – Из них духи делают.
Я глубоко вдыхаю аромат, он заполняет легкие, я еще раз вдыхаю, уже не так сильно.
– Приятно.
Рикардо настаивает, чтобы мы подошли к двери и позвонили в звонок. Тесси заходится лаем.
Дверь открывает Черил. Она улыбается.
Трудно описать, но все, чего я опасался, тут же осыпается, как шелуха. Кажется, у меня никогда еще не было такого ощущения. Так исчезает пелена тьмы, так выходит из-за туч солнце – так же естественно и так же неуловимо.
Внутри воздушные шары, яркие вымпелы и огромный шоколадный торт с бело-голубой надписью: «Поздравляем с БМ!»
Торжественной линейкой выстроились Черил, София, Сесили, собакогулятель с сестрой, Мадлен и Сай, Тесси и кошки и еще несколько человек, которых я впервые вижу.
– Дом совсем по-другому выглядит, – говорю я в приятном удивлении.
– Еще бы, – отвечает Черил. – Мы тут тебе ремонт сделали – покрасили кухню, гостиную и столовую, переставили мебель, прикупили кресел, удобных для Мадлен и Сая.
Я иду за Черил по дому, в изумлении прикрывая рот рукой, и только повторяю:
– Поверить не могу. Просто поверить не могу.
– Физиономия твоя сейчас миллион стоит, – говорит Черил.
Вчера, в Дурбане, я с ужасом думал о возвращении домой, в ту же самую борозду, но это – это невероятно, это возвращение в дом родной. Впервые за все время я – часть какой-то общности. Я стою, слезы подступают, и я беру большой стакан оранжевой газировки.
– Сердце мое переполнено.
Пицца, газировка, торт – сладкий до судороги в зубах и густо-американский, я никак не могу от него оторваться. Отрезаю и съедаю ломоть за ломтем, пока не наступает сахарная эйфория. Ее я обрываю чашкой кофе, и начинается дрожь и головокружение.
– А нас захватывали в заложники! – рассказывает всем Рикардо. – Какой-то сумасшедший нас столкнул с дороги.
– Эшли и Рикардо нас спасли. Они притворились, что куклы – это дети и их ранили, – говорит Нейт.
– Как ты до этого додумалась? – спрашивает Черил.
– В школе нас учили, – отвечает Эшли.
– Чему учили? – не понимаю я.
– На занятиях в спортзале был курс самообороны. Нас учили бить в глаза или между ног, а если подойдет кто-нибудь, кто хочет посадить тебя в машину или как-то еще обидеть, надо строить из себя сумасшедшего. Или закатиться под стоящую машину. Нас учили, что преступник не захочет становиться на колени и тебя из-под машины вытаскивать. А от сумасшедших преступники нервничают. Я когда была меньше, всегда придумывала, что бы я сделала.
– Блестяще! – говорит Мадлен.
Ужасно, вторит ей моя мысль.
Завариваю чай, который дал мне с собой Лондисизве. Он на вкус – как земля Южной Африки, ее почва, ее воздух. Болтаю пакетом в чашке и готов поклясться, что вижу синее, зеленое и фиолетовое, будто в ней плавает эрзац-радуга.
Позже я случайно слышу разговор Черил с Нейтом.
– То, что случилось с твоей мамой, с каждым могло случиться, – говорит она.
– Сомневаюсь, – отвечает он недоверчиво.
– Можешь мне поверить, – говорит она. – Я дольше тебя на свете живу.
– Ты серьезно думаешь, что с каждым? – спрашиваю я у Черил, когда все уходят и мы с ней сидим в кухне, пытаясь сообразить, что теперь в каком ящике.
– Серьезно.
– Не очень представляю, как мне это понимать…
– А тут не в тебе дело – в человеческом поведении. Знаешь, как бывает по телевизору: сюжет о том, что какая-нибудь женщина убила себя и своих детей и как все потрясены бывают по этому поводу?
– Бывает, – киваю я.
– А потрясать должно другое, – продолжает Черил. – Что такое не происходит чаще. Что каждая говорит, как полюбила своего ребенка сразу, как он родился, и никто не скажет честно, как это тяжело и трудно. Так что удивляет ли меня, что какая-то дама утопила своих детей и застрелилась сама? Нет. Да, это печально. Жаль, что люди не заметили ее страданий и борьбы, жаль, что она не могла попросить помощи. Потрясает меня здесь, насколько мы одиноки. – Она замолкает и внимательно смотрит на меня: – Ты с виду изменился.
У меня отрыжка пиццей, тортом, оранжадом и чаем Лондисизве. Странно, что при этом сине-зеленый дым не валит изо рта.
– Я по тебе скучала, – говорит Черил. – Понимаешь, мы очень о многом просто не говорим, все секс да секс, но я смотрю на тебя и вижу: ты прошел большой путь.
– Какой?
– Ты теперь человек.
– А раньше кто я был?
– Бревно, – отвечает она.
Я отдаю ей подарок, который для нее привез: старый деревянный фаллос.
– Дилдо? – удивляется она.
– В Африке это важный символ.
– Он мне должен напоминать о тебе?
– Не обязательно.
– Дети видели, как ты его покупал?
– Не-а.
Я лежу на диване, Тесси у ног, положив мне морду на бедро, одна кошка у меня за спиной, другая на шее. Проваливаясь в сон, я думаю, как просыпается и спешит к завтраку вся деревня…
Несколько дней мы еще держимся в зоне «ни здесь, ни там», в декомпрессии, в адаптации. Дети едят, пьют и смотрят телевизор.
Для меня это период реорганизации, осознания, что необязательно все должно быть как до сих пор. Мне не хочется терять той открытости, ощущения широких возможностей, которое возникло у меня в поездке. Для Эшли, Нейта и Рикардо мир уже никогда не будет таким, как был, и то же во многом верно для Мадлен и Сая. Я впервые понимаю, что если желаешь перемен, то надо идти на риск, на свободное падение, на неудачу, а еще – что надо покончить с прошлым. Для меня это значит дописать свою книгу. А что потом? Снова в школу, изучать религию, зулусскую культуру, литературу? Стать пригородным риелтором? Вопрос не куда время девать, а как распорядиться жизнью. Жизнь как валюта – где ее тратить? Каков наилучший курс? Я ограничен лишь тем, что могу намечтать и чем разрешу себе рисковать, и самим фактом существования детей определяется, что не могу я в поисках себя спрыгнуть с глобуса. Бессмысленным кажется просто жить, чтобы жить, если нет какой-то большей идеи, какого-то ощущения, что улучшаешь жизнь других.
Нейт и Рикардо при каждой возможности пересказывают, как нас захватывали, и каждый раз развивают тему: что происходило, что они подумали и что они стали бы делать, если бы эти бандиты «что-нибудь попытались». Рикардо стал бы подбирать камни и в них кидать. Нейт бы их «отключил», пользуясь боевыми искусствами, которым его научили. Когда меня спрашивают, я говорю, что попробовал бы договориться – уговорить их оставить это дело, – и меня бы ограничивала лишь неспособность говорить на их языке. При каждом пересказе у ребят появляются новые подробности. Так для них раскрывается событие, приходит осознание, что это, черт побери, было по-настоящему страшно, что нас могли убить, похитить, угрожать увечьем, а мы очень мало что могли бы сделать. Пересказ истории проясняет, насколько мы на самом-то деле были бессильны. А еще меня беспокоит, что, когда они пересказывают, Эшли молчит. Она в каком-то смысле была уязвимее нас всех: она – девочка, она – ребенок, приз и героиня. Мальчики ничего не говорят об этой стороне дела, но я о ней думаю и много думаю. Наверное, Эшли тоже – потому она и стала вопить на обочине. Потому-то и включилось усвоенное на уроках выживания.
Африка одновременно и очень далеко, и постоянно здесь, как экран театра теней, за которым я двигаюсь.
Постоянно пью чай Лондисизве, и он, кажется, помогает.
Я готовлю, мою, убираю и собираю огромные сумки с месячными запасами простыней, наволочек, спрея от насекомых, марок и бумаги, рубашек, шортов и купальных костюмов, испытывая при этом кризис личности – для которого я слишком стар – на фоне волны жара и троих детей, которые в этот уик-энд уезжают в лагерь. Мы с Эшли обсуждаем вопросы «отношений» вдали от дома и подтверждаем, что не должно быть никаких обменов физическими приятностями между детьми и взрослыми – и ей не следует иметь физических контактов ни с кем, кто старше трех лет, и все ее действия должны быть ограничены «мягкими искусствами» – термин, созданный мной для данного случая. С Рикардо мы пересмотрели план, который я составил с коллегой доктора Таттла, чтобы постепенно снять Рикардо с медикаментов, и много пунктов добавили. С Нейтом прошлись по его летнему чтению и дополнительным проектам.
За ужином Сай вздымает стебель брокколи, как дерево, и спрашивает:
– Это что? Вечнозеленое дерево? Клен? Не могу определить, а потому и есть не могу.
– Брокколи, – подсказывает Эшли. – Не дерево, овощ такой.
– А, ну-ну, – отвечает Сай.
– Рискни попробуй, – подначивает Рикардо, и Сай пробует.
– А, ну-ну, – говорит он. – Забыл, я же знаю: это брокколи. Его Мадлен делала с таким отличным соусом!
Я спрашиваю Мадлен, не против ли она, что я отклонился от ее рецепта.
– Вот ни капельки, – отвечает она. – Никогда в рот не могла взять этого дерьма, я для ребенка готовила.
В третью субботу июля Эшли уезжает в лагерь на месяц. В воскресенье мы все везем мальчиков к автобусу, стоящему на церковной парковке – той самой, где Аманда нашла в мусорном баке бумажник Хизер Райан. Я вижу этот бак в углу, но ничего не говорю – тут некому говорить. Тетка Рикардо Кристина тоже приезжает проводить – она приготовила ему с собой в автобус гигантский завтрак.
– Ты его используй, чтобы подружиться с ребятами. Делись, – шепчу я, отсылая Рикардо.
По дороге домой мы заезжаем в питомник и набиваем багажник растениями – несколько новых роз, петунии, герань, помидоры-черри, кабачки и редиска, потому что Сай говорит, что всегда хотел быть фермером. Остаток дня мы проводим во дворе.
– Скучаешь по Аманде? – спрашиваю я у Мадлен.
– С детьми сложно, – отвечает она. – У тебя свои идеи, а у них свои. Очень многого мы друг о друге не знаем.
Мы сажаем розовый куст от имени Аманды, и впоследствии я замечаю, что Мадлен часто с ним разговаривает.
Как-то днем, когда Сай дремлет, она мне рассказывает, что была у нее подруга, «очень красивая соседка, у которой муж тоже допоздна работал в городе. Она была изобретательна во многих смыслах, которые Саю и в голову…»
Мадлен обрывает речь, и я задумываюсь, были они любовницами или все-таки просто подругами.
Перед ужином мы слегка выпиваем. На ужин жаренный на гриле сыр и летний гаспаччо, о котором Сай говорит, что этот суп хочет стать «Кровавой Мэри», когда созреет.
В доме невероятно тихо, странно-гулко.
– Тишина уши рвет, – говорит Сай.
И мы с ним согласны. Слишком тихо.
Ночью я натыкаюсь на Мадлен. Она сидит в кресле-качалке, задрав рубашку и вывалив морщинистую грудь, а у этой груди – один из младенцев Эшли. Она так спокойна, в таком мире с собой, что я ничего не делаю, только накрываю ее одеялом с дивана.
– Она еще не разучилась, – говорит Сай.
– Долго их не будет? – спрашивает Мадлен, поглаживая младенца.
– Месяц, – отвечаю я.
В понедельник утром сестра собакогулятеля приходит посидеть днем с Саем и Мадлен, а я возвращаюсь в город на работу.
На летнее время в дресс-коде юридической фирмы сделаны послабления: джинсы, сирсакеровые костюмы – и люди в рубашках с короткими рукавами больше похожи на бухгалтеров с футлярами для авторучек, чем на цвет юридической мысли.
Рассказы в приличном виде. Чинь Лан работала усердно: все затранскрибированы, отредактированы и вычитаны. Я еще раз их просматриваю, вношу несколько мелких изменений и до перерыва возвращаю Чинь Лан для окончательной отделки. Помня свой последний разговор с Джулией Никсон Эйзенхауэр, я звоню ей и снова предлагаю представить рассказы в печать. В тот же день принимается решение послать их от имени фирмы в пять или шесть мест одновременно. Учитывая медлительность, с которой вообще все происходит, и сперва горячий, потом холодный ответ на предложение представить в печать, я удивлен, как быстро идея набирает ход.
Один из партнеров составил черновик письма, сообщающего о совершенно неожиданном повороте в сфере никсоноведения: о литературных рассказах, написанных РМН, которые собрал и обработал известный никсоновед Гарольд Сильвер. Миссис Эйзенхауэр утверждает проект письма и в тот же день уезжает с курьером.
Позднее, вечером, у меня звонит телефон.
– С вами говорит Дэвид Ремник из «Нью-Йоркера».
Я молчу, ожидая какого-то продолжения. Вроде записанного объявления: «Мы звоним вам, чтобы предложить невероятно выгодные условия подписки…»
– Надеюсь, я не помешал? – спрашивает он.
Я уношу телефон в другую комнату, оставляя Мадлен и Сая перед телевизором.
– Я знал вашего брата, – говорит Ремник. – Не слишком близко, но знакомы были.
– Не подумал об этом, – отвечаю я.
– Ну так слушайте. Мы очень заинтересованы в этом рассказе, но, прежде чем продолжить, я должен быть уверен, что он подлинный.
– Насколько мне известно, так и есть.
Я объясняю, как возник контакт с родственниками Никсона и откуда взялись коробки.
– Сколько рассказов написал Никсон? – спрашивает Ремник.
– Примерно тринадцать, – отвечаю я и вдруг начинаю сомневаться: не нарушил ли я соглашение о конфиденциальности?
– Вы меня слышите?
– Да, – говорю я. – Но мне, пожалуй, пора.
– Как бы вы охарактеризовали другие рассказы? – спрашивает Ремник. – Личное, политическое, похожее по тону на то, что мы получили? И это действительно вымысел?
Я отвечаю как можно более сдержанно. Когда разговор заканчивается, чувствую себя выпотрошенным, но восхищаюсь техникой Ремника. Звоню миссис Эйзенхауэр домой. Представляю, как она сидит на диване в старомодной строгой гостиной – полинявший памятник иной эпохи.
– Она сейчас не может подойти. Что-нибудь ей передать?
– Да. Я хотел ей сообщить, что мне звонили из газеты.
Через двадцать минут миссис Эйзенхауэр перезванивает.
– Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием, – говорит она. – Мы решили отозвать рассказ. Реакция была слишком бурной, нам хотелось бы отступить и тщательнее продумать то, что мы делаем.
– Это как-то связано с качеством моей работы?
Я не мог не задать этого вопроса.
– Нет, – отвечает она. – Сначала я удивилась объему вашей правки, но потом присмотрелась и сравнила вашу версию с исходной, более длинной. Ваша работа выше всяческих похвал. Тут дело семейное. Мы не уверены, что роль автора художественных произведений совместима с брэндом «Никсон». – Долгая пауза. – Как вы сами можете понять, раньше я не думала о концепции нашего брэнда. Речь шла о демократах и республиканцах, красных и синих. В связи с этой переменой мы хотим взять время на обдумывание, и если вернемся снова к этому вопросу, вы будете первым, кто об этом узнает. Спасибо за ваш энтузиазм – я знаю ваше неравнодушие к моему отцу.
Я чуть нажимаю, думая, что это может быть мой последний шанс узнать хоть что-то еще:
– Как вы знаете, я над книгой о вашем отце работаю много лет. Мне очень интересно: вы чувствовали в нем изменения со временем? Случалось вам открывать в нем что-то, от чего становилось неуютно?
– Мой отец был сложной личностью. Он делал то, что искренне считал лучшим для своей семьи и для своей страны. Ни вы, ни я никогда не постигнем всю глубину задач и трудностей, которые стояли перед ним. Спасибо вам, – говорит она, – и доброй ночи.
Я пишу Чинь Лан и прошу ее встретиться со мной в офисе завтра в девять.
В семь утра по Си-эн-эн показывают какого-то старика, который держит в руках блокнот Никсона. Он говорит, будто его дед выиграл эту тетрадь, когда бывший президент был еще лейтенант-коммандером на флоте и играл в покер. Он читает выдержку оттуда, и я тут же узнаю фрагмент из рассказа «Добрый американский народ».
Выходя из дому, я испытываю чувство, будто за мной следят. На подъездной дорожке напротив носом к улице стоит незнакомая машина. Водитель мне кивает так, что жутко становится, и я готов поклясться, что слышу щелчок фотоаппарата – если они еще щелкают.
Лифт в городском здании, где расположена фирма, останавливается на каждом этаже, выпуская людской груз, снаряженный чашками из «Старбакса», накрытых маффинами. Я знаю, что у меня за спиной кто-то стоит.
– Слишком глубоко копнул, – говорит он мне через плечо. Я хочу обернуться – гаснет свет, лифт дергается и останавливается.
– Атака террористов! – вопит какая-то женщина.
– Это вряд ли, – бурчит в ответ мужчина.
– Всегда где-то обо что-то споткнешься, – спокойно говорит знакомый голос у меня из-за плеча. – Найдется кто-то покруче тебя, он-то и будет командовать парадом.
– Еще что-нибудь скажите, – прошу я.
– Что тебе еще сказать? Я разочарован. Мои пятнадцать минут быстро закончатся.
Лифт дергается вверх, свет мигает, двери открываются. Пассажиры гурьбой вырываются наружу, спешат, как бы еще чего не случилось.
– Скачок напряжения, – говорит старик, оставшийся в кабине. – В семидесятых они то и дело случались. Мы говорили тогда «опять Джон Линдсей балуется».
Впереди, направляясь к пожарной лестнице, идет человек в синей ветровке, коричневых джинсах и с бейсболкой на голове.
Когда я сообщаю Чинь Лан, что проект свернут, она начинает плакать.
– Я так старалась никем не быть, когда пришла. Я чистая бумага, чтобы вы писали на ней книгу.
– Не беспокойтесь, – говорю я. – Я вам напишу самые лучшие рекомендации.
Она всхлипывает.
– И найму вас вычитывать мою книгу.
– Я не потому плачу, – отвечает она. – С карьерой у меня все в порядке: мне предложили профессиональную работу на полный день в волейбольной команде, но я ответила, что сперва должна здесь закончить. А плачу я потому, что вижу: вы очень любите президента Никсона, даже когда он плохо себя ведет. Вы так усердно работаете, вы такой смелый. Из-за вас я изучаю теперь Китай. Я так узнала много о своей стране, как не знала никогда. И о себе я много узнала из-за вас.
– Спасибо.
– Как вы думаете, что случилось? – спрашивает Чинь Лан.
– Страх.
– Может быть, они потом еще попробуют, – говорит она, – и им не будет так страшно?
– А вам случалось это делать? Пугать себя чем-нибудь.
– Нет, – отвечает она. – Я не такая страховая. Но мой отец, он не любит мышей. Мышь его очень сильно пугает. Он прыгает на бочку, как девочка. Мама должна мышь гонять, как большая кошка. Я могу спросить у вас вопрос?
– Да, конечно.
– Что вам так нравится в Китае?
– Никто до сих пор не спрашивал. Может быть, странно прозвучит, но мне нравится, какой он большой, – в нем все есть, от Эвереста и до Южно-Китайского моря, и там живет столько миллионов людей, и они такие предприимчивые, и нравится глубина его истории. Нравится, какой он древний, красивый, загадочный и другой.
– Вы там были когда-нибудь?
– Нет, а вы?
Она мотает головой.
– Родители говорят, что возвращаться не хотят никогда, что там все, что есть, очень из давнего времени и жизнь очень тяжелая. Им жалко тех родственников, которые там живут, и они печалятся о них сильно, но здесь им нравится намного больше.
Чего я не говорю Чинь Лан, так это что еще и боюсь Китая: представляю себе темную сторону, где не ценят жизнь человека так, как ценю ее я. Я боюсь, что если со мной что-нибудь случится – заболею, аппендикс порвется, – то окажусь, согнувшись пополам, в какой-нибудь китайской больнице, не имея возможности о себе позаботиться. Представляю себе, как погибаю от гангренозного аппендицита или от заражения после операции в недостаточно стерильных условиях. Я не рассказываю Чинь Лан, что мне мерещатся кошмары, когда китайцы в окровавленных белых халатах говорят мне на ломаном английском, что теперь моя очередь. И не озвучиваю еще одну важную мысль, пока еще не сформулированную. Не рассказываю, что не могу иногда не задуматься: не в том ли причина нынешнего мирового экономического кризиса, что Никсон открыл отношения с Китаем?
Закончив свои дела, мы с Чинь Лан прощаемся с Вандой и Марселем и отдаем бейджики. Прощай, офис, фирма, мужской туалет, лифт.
Мы идем обедать в магазинчик. Я не голоден, но мать Чинь Лан настаивает:
– За счет заведения.
Я привез из Южной Африки брелоки, которые сейчас расходятся как сувениры. Чинь и ее матери я дарю шарфы, купленные в аэропорту, а отцу – кожаный кошелечек. Мать Чинь дает мне на дорогу батончик «Херши».
– Не будь чужим, – окликает она меня, когда я ухожу. – Возвращайся скоро.
Два часа дня. Я уже десять минут как дома, переоделся и вышел полить цветы. Подъезжает София.
– Проезжала мимо, решила заглянуть, – говорит она, направляясь ко мне по подъездной дорожке.
Наверняка циркулировала вокруг квартала, ждала, пока я вернусь.
– Я все думаю о вас и вашей БМ.
Она упирает руки в бока, театрально вздыхает.
– Прошло лучше, чем я ожидал. Я вам очень обязан – спасибо.
– Не за что, это было удовольствие. Я так много узнала о вас, о Нейте, о Южной Африке! Да, забыла спросить: как торт?
– Идеальный.
– Очень рада. Не знала, получится или нет, – другая вода, высота над уровнем моря, печи! Не знаю, говорил вам Сахиль или нет, но я послала еще четыре запасные коробки смеси для торта, чтобы они попрактиковались заранее.
– Вы действительно все предусмотрели. И все традиционные еврейские элементы – я понятия не имел, что будет происходить.
Она улыбается, гордясь собой.
– Так эти бар– и бат– моя работа. Футболки отлично смотрелись, правда ведь?
– Фантастически, – отвечаю я. – И все представление, вместе с «Лев сегодня спит» – просто поразительно.
София краснеет, потом протягивает руку, кладет ее на мою – сжатую в кулак вокруг поливального шланга. Я разжимаю пальцы, шланг вылетает и хлещет струей вокруг, резко затихает, упав на землю.
– Знаешь, – говорит она, не замечая фокусы шланга, – а ведь наши отношения куда глубже, чем обычные «клиент – партнер».
Я не отвечаю.
– Я очень в тебе заинтересована, – говорит она.
– Не могу.
– Я тебе не нравлюсь?
– Я не свободен, – говорю я, отступая на шаг в буквальном смысле.
– А я думала, она тебя бросила.
Молчу.
– Ты считаешь несвободой интрижку с замужней женщиной? – спрашивает она.
– Так получается.
Она на секунду задумывается.
– А если сделать треугольник?
Я мотаю головой.
– Даже попробовать нет искушения?
– Не могу.
Мы во дворе танцуем непонятный танец: она делает шаг вперед, я два назад, она влево, я вправо.
– Не верю я тебе, – говорит она и вдруг бросается на меня в порыве, толкая на садовый стул.
Из кухонного окна высовывается Мадлен.
– Сай! – вопит она так, что в ушах звенит. – Наших бьют!
Как нападающий студенческой команды, которым он был когда-то, Сай выскакивает из дверей, вниз по ступеням, к Софии, и налетает на нее, как строительный шар, которым стены ломают. Софию отбрасывает в сторону.
Проходят секунды. София встает, отряхивается, смотрит на Сая.
– Спасибо, – говорит она. – Наверное, я о корень споткнулась. – Потом поворачивается ко мне со словами: – Ну, не пропадай.
И уезжает.
Я пишу эсэмэску Черил, что она была права насчет Софии. Она в ответ спрашивает, не предложила ли София треугольник.
«Да, а откуда ты знаешь?»
«Она сперва меня спросила, – пишет Черил. – Я сказала, что решать тебе, но она должна была спросить. – Пауза. – Ты меня знаешь, – пишет она дальше. – Мне все такие варианты интересны…»
Черил приглашает нас с Мадлен и Саем приехать к обеду в этот уик-энд – перед ее отъездом на месяц в Мэн.
«Дворбекю, – пишет она. – Барбекю во дворе, с Эдом и мальчиками».
Сай и Мадлен оживляются.
– Сколько лет уже нас никто не звал к обеду, – говорит Мадлен, а потом громко шепчет, что после грехопадения Сая они сильно упали в глазах всех, кого тогда знали.
– Никуда я не грехопадал, – бурчит Сай. – Украл себе немножко денег, и все. Это куда чаще бывает, чем ты думаешь.
Мы с Мадлен готовим желе в формочках: кусочки ананасов – в зеленом, дольки мандаринок – в желтом, зеленые виноградины – в красном. Никогда раньше не делал желе – это волшебная штука.
Мы приезжаем к Черил. Во дворе густой дым и такой же густой аромат горячего мяса.
Трое мальчишек, Тэд, Брэд и Лэд, помогают отцу, который возится возле сооружения, напоминающего земляной очаг или древний нужник.
– Мы тут свою коптильню построили, – говорит Эд, приветствуя нас.
– Это не запрещено? – спрашиваю я.
– Вполне разрешено, домовладельцы имеют право, – отвечает он.
– Надеюсь, что соседи ваши не вегетарианцы, – говорю я.
– Я вырос, коптя мясо, – рассказывает Эд. – Мы с отцом охотились и свежевали сами все, что добудем – птицу, оленину и так далее. – Эд хлопает меня по спине. – Недостает мне товарища на охоте, – говорит он. – Мои мальчишки на это не подсели. Может, с вами получится?
– Может быть, – отвечаю я, уверенный, что охотиться с мужем моей партнерши по сексу – не самая удачная мысль.
Мы садимся обедать. Я оказываюсь между Мадлен и Саем. Тэд, Брэд и Лэд – по другую сторону стола для пикников, и их выпирающие из рам фигуры сильно нарушают равновесие. Мальчики раздают картофельный и капустный салаты и кукурузные лепешки, а Эд тем временем открывает коптильню, и мы все едва не задыхаемся.
– Все это сделали вы?
Эд и Черил кивают:
– Мы любим все делать сами.
Все невероятно вкусно, за гранью восхитительного – райское блаженство почти.
– Не представляю, как это у вас получается, – говорю я Эду, когда Черил отходит унести посуду со стола.
– Мне очень повезло, Хар, – говорит он, на ходу награждая меня новым прозвищем. – Мы с Черил принимаем друг друга – в хорошем и в плохом. Жизнь долгая – что толку придираться друг к другу? У меня каких-то жестких суровых правил нет – будь доволен, радуйся жизни.
Я не могу понять, то ли Эд гений, то ли дебил.
Черил возвращается, неся наше желе, выложенное на блюдо. Оно трясется, как жирная тетка. Мальчики приносят контейнер домашнего мятного мороженого.
Мы приступаем, и все идет хорошо, но после третьей порции Сай вдруг вспоминает, что совершенно не переносит лактозы, и несется со всех ног в дом.
Несмотря на девяностоградусную жару[10], Мадлен и Сай все время мерзнут, ходят в кардиганах в доме и на улице. Я вытаскиваю из подвала старые москитные сетки, ставлю их на окна и отключаю кондиционеры. Лето становится таким, как в давние годы: днем нарастает жара. Тесси лежит на кафельных плитках в прихожей и тяжело дышит. Во второй половине дня приходят грозы, а ночью в сетки меланхолично бьются ночные бабочки.
Июль идет к концу, все растягивается, лениво и медленно от жары. Мадлен и Сай уходят в мир давно прошедшего. Что-то есть очень красивое в их призрачных, медленно испаряющихся повествованиях, несущих на себе следы редактирования, вычеркивания и запертых дверей – давным-давно убранных из жизни событий.
Я их вывожу на концерты в парк, где в раковине на эстраде играют исполнители, смотрю, как они танцуют по траве, словно вернулись на тридцать лет назад.
– В чем секрет вашего долгого брака? – спрашиваю я как-то утром у Мадлен.
– Не грузим друг друга своими чувствами, – отвечает она. – Одна моя подруга называет это «оставаться в танце».
– В танце?
– Танец ухаживания. В этот период человек старается показаться лучшей своей стороной, а потом, слишком часто, обращается противоположной. Но зачем это надо – чтобы человек, с которым ты живешь, видел, просыпаясь, твои худшие черты? И каждый день?
Как-то раз Сай, раздраженный одним из южноафриканских младенцев, выгоняет его. Велит ему «заткнуться и убираться», – таковы его точные слова. – «Ничего ты тут не добьешься, сидя сложа ручки и думая, что все само к тебе придет. Так не бывает, пацан. Проваливай, и чтобы больше я тебя тут не видел».
– Это не твой ребенок! – Мадлен выхватывает младенца у него из рук. – Этот как раз мой.
– Нет, мой! – возражает Сай, вдруг охваченный чувством собственника, и вырывает у нее куклу.
Я собираюсь вмешаться, но они тут же мирятся.
– Ладно, – говорит недовольный Сай и смотрит младенцу прямо в глаза. – Я тебе дам еще один шанс, не проворонь его.
С этой минуты Сай таскает ребенка с собой на локте, чуть сбоку – как нападающий с мячом. Носит его с собой практически повсюду, называя его своим коричневым братом и иногда – женой.
Я ухожу в работу, чтобы закончить книгу до приезда детей. На старом карточном столе на чердаке оборудую себе рабочее место – обставляюсь вентиляторами, создающими ветряной белый шум. Бумаги прижимаю камнями из сада. Жара, оказывается, вдохновляет на работу, как тренажерный зал для бокса. Раздевшись до спортивных трусов, я печатаю текст, а струйки пота стекают по лицу, и собственный зреющий мясной запах подстегивает к работе. Готов или не готов, а закончить ее надо.
Сдирая острым ножом старую краску, я очищаю маленькое слуховое окно. Стекло в нем волнистое, и в радужных переливах пейзаж кажется куда лучше, чем есть на самом деле. Двигаюсь я осторожно, стараясь не задевать головой за балки. Тут много всякого барахла прошлых времен: мундир времен Второй мировой, старые плюшевые медведи, древняя колыбель, с которой я сдуваю пыль и отношу вниз Мадлен – та тут же устраивает рядом с собой детскую для младенцев.
Фраза «Пока ты спал» приобретает новое значение, когда я прокапываюсь сквозь страницы последних пятнадцати лет и вижу, что все так вежливо-благожелательно-адвокатски, подшито и подметано, с обоснованиями, извинениями, отступлениями. Пора срывать тормоза к такой-то матери. Дик Никсон был американцем того времени, живущим в обидном предположении, что для всех остальных все гораздо легче. Он был бурлящей смесью настоящего, прошлого и будущего, целостности и двуличия, морального превосходства и надменности, той наркоты, что звалась и зовется Американской мечтой, желающим всего, что у ближнего его, желающим всего на свете.
Я делаю вывод, что суд общественного мнения семидесятых был бюргерским и непрощающим по натуре своей. Как только судьба политика была решена и его место в глобально-исторической иерархии определилось, свободы передвижения оставалось очень мало. Интересно, как это сейчас. Если бы Никсон честно сознался (ой, вряд ли) и приписал бы свое поведение, свое падение какому-то травмирующему событию – тому, что рос в семье Никсонов – был бы он опозорен? Навсегда ли зафиксированы правила игры для возвышения и падения популярности или исторической значимости?
Приближаясь к концу, ловлю себя на мыслях о Клер. Вот если бы она сейчас меня увидела… произвело бы это на нее впечатление? Если подумать об этом беспристрастно, то вряд ли какие-либо мои действия что-то для нее могли бы значить.
Праздная мысль переходит к Бену Шварцу, бывшему моему декану, – к Бену, который говорил, что я никогда не допишу свою книгу, – что он теперь скажет, Бен?
Отрыжка, сильная. И вкус ее сшибает с ног – чай Лондисизве! С остатками страдания выходит наружу противный запах. Мысли родились на путях прежнего разума, и следует покинуть их и не возвращаться.
Я звоню Таттлу. Дело происходит августовским днем, и Таттл берет трубку.
– Почему вы здесь? – спрашиваю я. – Я-то думал, все мозгодавы в августе гуляют.
– Я из тех, кто все делает вопреки, – отвечает он, – и отпуск беру в июле. В августе заставляю мозг работать сверхурочно, прикрывая своих коллег, которые в это время отдыхают в Уэлфлите.
Мы назначаем время. В кабинете у Таттла жуткий холод. На краю стола, где в прошлый раз стояла коллекция чашек «Смузи кинг», выстроился ряд кофейных чашек «Данкин донатс».
– Они сделали окно выдачи в автомобиль, – объясняет он.
– Я почти закончил книгу, – говорю я. – Но похоже, будто я жду какого-то события. Какого-то облегчения или чувства облегчения.
– Вы довольны своей работой?
– Мне хочется, чтобы ее прочел один человек.
– И кто вам мыслится этим читателем? Кто был вашей музой?
– Ричард Милхаус Никсон.
– И что бы вы хотели от него услышать?
– «Спасибо? – предлагаю я с горечью. – Миру нужны такие люди, как вы, Сильвер. Вы правильный человек».
– Вы видите в Никсоне фигуру отца?
– Не исключаю такого, – говорю я после долгой паузы.
– Почему просто не сказать «да»? – спрашивает Таттл. – Что бы это для вас значило?
Я сижу, уставившись в пол, меня прошибает холодный пот. Не могу смотреть Таттлу в глаза.
– Что это для вас значит? – повторяет Таттл.
– Я его люблю, но считаю, что он творил зло.
– Вы так и пишете в книге?
– Не совсем.
– Почему?
– Потому что Джордж – хулиган и параноик, не понимающий собственного блага и смотрящий на меня как на врага, что бы я ни делал, – выпаливаю я, и наступает очень долгая пауза.
– А Никсон? – спрашивает Таттл.
– Не думаю, будто Никсон физически мог признать, будто делает что-то неправильное. Ему отчаянно нужно было видеть себя достойным человеком.
– Вы считаете свою книгу хорошей?
– Иногда мне кажется, что она блестящая, что вдохнет жизнь в дискуссию не только о Никсоне, но и о его эпохе. А порой я думаю, уж не волосяной ли это шар, который мне удалось отрыгнуть после столь многолетних трудов.
– Среди живущих – чье мнение для вас важно?
– Ремник? – неуверенно спрашиваю я.
Не знаю почему, но после его звонка мои мысли то и дело к нему возвращаются.
– Вы действительно ее уже закончили?
– Почти. Просто жду, чтобы что-то случилось.
– Ждете, чтобы что-то случилось? Что, например?
У меня нет ответа.
– А не от вас ли зависит, – предлагает Таттл, – сделать так, чтобы что-то случилось?
Весь остаток сеанса мы сидим молча. Когда я ухожу, Таттл мне протягивает листок мятно-зеленой бумаги. Я смотрю, не понимая.
– Заключение психиатра для Нью-Йоркского департамента социальных служб, – говорит он.
– Спасибо.
– Я готов с вами работать и дальше. Когда у вас возникнет такое желание, дайте мне знать.
От Таттла я еду навестить мать. На парковке возле дома поставили большой наземный бассейн с широким кедровым настилом, зонтики, кресла и большую эстакаду с шезлонгами от двери заведения до края бассейна. На нее можно положить обитателя интерната и он – фьюить! – скользит вниз.
– Еще! – кричит кто-то. – Еще хочу! Это как на Кони-Айленде!
Маму я вижу под зонтиком, она в центре внимания поклонников – в купальнике в черно-белый крупный горошек, в стильных солнечных очках «Джекки-О», потягивает холодный чай из пластиковой чашки.
– Ма, ты лет на десять моложе выглядишь, – говорю я.
– Мне всегда нравилось на пляже, – отвечает она.
– А где твой муж?
Я осматриваюсь и вижу, что все вокруг в таких же купальных костюмах – вариант для мужчин и вариант для женщин. Все вместе они похожи на артистов гериатрического цирка.
– Большая распродажа, – говорит мне служитель. – Купи один за полную цену и получи сколько хочешь за полцены. Мы скупили все.
– Джеронимо! – кричит один мужчина, прыгая в воду.
– Не забудь! – напоминает ему спасатель. – Не толкаться, не брызгаться, в воду не какать.
– Так как ты поживаешь? – спрашиваю я у мамы.
– Отлично. Мы ездили на вылазку туда, где лобстеров продают, и нам дали скидку для ранних покупателей – съешь сколько можешь. Я не очень много ем, а Боб сказал, что оно того стоило. А ты где был?
– В Южной Африке, – отвечаю я. Она смотрит на меня странным взглядом. – Нейт там был в школьной поездке и хотел приехать еще раз, так что мы решили провести там его бар-мицву.
– И ты не пригласил собственную мать?
– Пригласил. Ты прислала приложенную открытку и написала на ней что-то насчет «шварцев».
– Я имею право на собственное мнение.
– Можешь называть это мнением. Мы это называем иначе.
– И как же?
– Может быть, расизмом?
– Тссс! – говорит она. – Не так громко, еще услышит кто-нибудь. – Мы некоторое время молчим. – Не понимаю, – говорит она.
– Чего?
– Отчего ты такой задиристый? Почему тебе необходимо всех переплюнуть? На свадьбе у «Пьера» (это был Джордж, а не я), на вечеринке во «Временах года» (опять же Джордж). Зачем это надо? Почему бы просто не устроить нормальную бар-мицву с ленчем от женской общины, как мы тебе устроили?
– На самом деле, – отвечаю я, даже не напоминая про Джорджа, – у меня была бар-мицва, общая с Соломоном Бернштейном.
– Это было на пользу бизнесу твоего отца – он приобрел несколько новых клиентов.
– И несколько человек отравились.
– Никто не умер, – возражает она.
Мы несколько минут молчим. В бассейне плавает Боб в надувных рукавах, разговаривая с другой женщиной.
– Ну, – говорю я, кивая в сторону Боба, – кончился медовый месяц?
– Только начинается, – отвечает мама.
Звонит София, приглашает встретиться с ней за кофе.
– Поговорить надо, – говорит она.
– Обязательно лично? – спрашиваю я, нервничая. Прошлая встреча еще чуть-чуть – и добром бы не кончилась.
– Я не буду на тебя давить, – говорит она. – Нужно вместе посмотреть ход мероприятия, издержки, дать тебе новую информацию о полученных средствах. Кстати, мой гонорар мы тоже еще не обсуждали.
– Ладно.
Мы решаем встретиться в местной забегаловке.
– Ты только не сердись, – говорит она. – Я сделала веб-страницу про тебя, про детей, про вашу поездку. Настроила так, что те, кто прочтет про тебя и Нейта, могут вносить пожертвования. Сахиль мне как-то сказал, что есть чужие люди, которых мы не знаем, а они о нас думают и хотят помочь. Мне это показалось интересным.
Я киваю.
– И это поразительно. Больше ста человек прислали пожертвования, от десяти до пятисот долларов. Люди, которые ничего взамен не хотят.
– И сколько там, на счету БМ?
– По состоянию на вчера всего двадцать семь тысяч триста восемьдесят девять долларов восемьдесят шесть центов. Я думаю, Нейту надо будет заплатить налоги. Понятия не имела, что столько будет денег – иначе бы настроила как-то как некоммерческое. Будешь вычитать эти расходы из общей суммы? – спрашивает она.
– Нет, – отвечаю я. – За бар-мицву я плачу отдельно, а любые поступающие дарения должны быть свободны от накладных расходов.
– Это огромная сумма. Я думаю, должны ли мы отдать ее всю и сразу. И мне интересно, что дальше будет?
– Я спрошу у Нейта, когда он вернется.
– О’кей, – говорит она. – Теперь о моем гонораре…
Я жду удара. Вот как, значит, она решила до меня добраться. Я не капитулирую, и она ужалит. Настораживаюсь.
– Обычно я беру от трех с половиной до пяти тысяч, но в этом случае сама хочу пожертвовать часть своего гонорара. Полторы тысячи будет вполне достаточно, если у тебя нет возражений.
Я розовею от неожиданности.
– Это так мило с твоей стороны… попросту щедро, – говорю я, смущаясь своих недавних мыслей.
– Я не шутила, что мне было в радость с тобой работать. Это много для меня значило.
– Спасибо, – говорю я.
И тут она на меня смотрит.
– Ну, не надо, пожалуйста, – прошу я. – Ты же обещала.
– Но попробовать-то можно было, – улыбается она.
Вечером по пятницам я вывожу Мадлен и Сая в китайский ресторан. Мистер и миссис Гао, владельцы, спрашивают меня, не знаю ли я случайно: может, продается какое-нибудь жилье поблизости? Слишком трудно мотаться туда-сюда из Бруклина.
Мне приходит в голову, что можно сдать дом Сая и Мадлен – это хотя бы окупит текущие расходы на его содержание. В субботу утром мы с мистером и миссис Гао едем его осматривать.
– Дом Американской мечты, – говорит миссис Гао. – «Предоставьте это Биливеру», – говорит она.
Я вижу, что ее поразило то же самое, что и меня. Она увидела тут музей Американской мечты.
– Мы не можем себе позволить снимать этот дом, – говорит жене мистер Гао.
– Можете, – отвечаю я. – Сделаем так, чтобы можно было.
Я спрашиваю, сколько они платят сейчас и входят ли в цену коммунальные услуги. Предлагаю им этот дом за сумму меньше ста долларов ежемесячно, включая коммуналку.
– Вы предлагаете невыгодную сделку, – начинает мистер Гао, но жена шлепает его ладонью:
– Чего ты всегда так жмешься? – Она грозит ему пальцем. – Ты мне малину не порти. И оборачивается ко мне. – Спасибо, – говорит она. – Мы очень вам благодарны.
– Надеюсь, вы останетесь довольны.
Августовские дни жаркие, как в духовке, дышать нечем, каждый день истыкан точками гроз, начинающихся между половиной шестого и шестью вечера, при этом часто вырубается свет. Я закупаю дополнительные фонарики, батарейки и свечи и слежу, чтобы обед был сварен к пяти – на всякий случай.
– Отчего умерла Аманда? – спрашивает как-то Мадлен, когда быстро сгущаются тучи и доносится первый раскат грома.
– Аманда? – повторяю я, захваченный врасплох.
Мадлен кивает.
– Ну, да. Отчего она умерла? Дети остались без матери – мы должны хорошо о них заботиться.
Я понимаю, что у нее Аманда и Джейн слились в одну отсутствующую личность.
– Скоропостижно, – отвечаю я. – Какие-то нарушения в голове.
– У нее всегда голова болела, – сообщает Мадлен.
– Это невозможно было предусмотреть.
– У нас был еще один ребенок, – говорит она. – Девочка, умерла, когда ей еще года не исполнилось. Аманда с сестрой ее не помнят – они были еще маленькие, когда она родилась.
– Я думаю, они знали, – говорю я тихо, вспоминая, как прицепилась Аманда к Хизер Райан.
– Может быть, – отвечает она. – Они точно знали, что что-то не так. Аманда мне постоянно делала карточки «Все будет хорошо».
Внимания в СМИ, порожденного отзывом рассказа Никсона, оказалось достаточно, чтобы дать мне выход на агентов. Я завязываю переписку с Франклином Фернессом, человеком из старой политической семьи, который держит средней величины литературное агентство с различными интересами в американской истории и политике.
«Мы любим представлять людей с окраин – меня пугает как раз центр, – пишет мне Франклин Фернесс. – Из середины ничего хорошего не исходит, все действие происходит именно на рубежах».
Фернесс соглашается представлять книгу и начнет ее подавать, как только я вышлю ему окончательный вариант.
В пять тридцать семь утра, в четверг, в августе (время запомнилось лишь потому, что эти конкретные часы навсегда остановились), в стоящий рядом с домом клен ударяет молния, расколов дерево с грохотом такого взрыва, который только небеса могли устроить. У расщепленного ствола одна половина остается стоять, как стояла последние полвека, а вторая рушится на дом, и одна толстая ветка протыкает стену, где находится кабинет Джорджа, делая его похожим на дендрарий.
Сотрясающий стены удар и тут же запах гари срывают меня с узкой кровати в комнате служанки, рядом с кухней. Я хватаю из-под раковины огнетушитель и лихорадочно осматриваю дом. Обнаружив дерево в кабинете Джорджа, я взлетаю наверх и вижу, что Мадлен обнимает Сая, а тот сидит на постели и вопит:
– Папа стрелял! Из «дерринджера» стрелял!
– Это сон, плохой сон, – говорит Мадлен, поглаживая его по спине. Я спешу обратно в холл и стаскиваю с чердака лестницу.
Пахнет озоном, пригоревшей яичницей, порохом, молекулами, разорванными на части и слепленными вновь. Запах на весь чердак.
Мой лэптоп стоит на карточном столе. На заснувшем экране больше не идет слайд-шоу нашей поездки в Южную Африку. Он мигает, заикается, ищет сам себя – пустой.
Стена возле розетки, куда была воткнута вилка, почернела. Огненные следы протянулись по полу на добрый фут, пометив половицы черными отпечатками сажи с электрических пальцев.
Огня нет.
Тесси у подножия лестницы на чердак, скулит. Там же Мадлен и Сай в ночной одежде, смотрят вверх.
– Кавалерию вызывать? – спрашивает Сай.
* * *
Вот этого я ждал?
Книга готова. Сделана. Не нужно больше ее совершенствовать, она просто закончена. Или, более конкретно, прикончена электронным взрывом.
Не то чтобы книга в компьютере была моим единственным экземпляром. Есть другие, различные версии, переработки, три штуки на флешках, включая еще и ту, что похоронена во дворе в капсуле времени – огнеупорном контейнере, купленном в скобяной лавке, – и еще один экземпляр, отосланный Франклину Фернессу.
В другую минуту я бы впал в истерику из-за потери всех последних изменений, или был бы оглушен, парализован мигающим глазком черного экрана. А я, как ни странно, испытываю облегчение. Как будто тяжесть, которую я столько времени нес, вдруг испарилась, словно рассеялась огромная туча. Мне ничего не надо делать – остается только принять, что все закончилось. Все. Я свободен. И в каком-то странном, приподнятом настроении.
И тут до меня доходит: а не была ли книга той самой гадостью, за которую я, по словам Лондисизве, держался, которая была близка мне, как спутник жизни? Вот это жило внутри, и надо было выпустить его наружу? Это была книга?
Перед самым возвращением детей из лагеря приходит письмо, перенаправленное из больницы, где умерла Джейн. К нему прилеплена на клею записка: «Письмо прибыло недели две назад, так что простите за задержку – я был в отпуске. Не считайте себя обязанным реагировать, если приложенное письмо не представляет для Вас интереса. Но если Вы захотите ответить – я с удовольствием выполню роль конфиденциального курьера. Надеюсь, лето у Вас проходит удачно. С наилучшими».
Подпись врача, который вел Джейн.
Здравствуйте!
Меня зовут Эйвери, и я Вам пишу, чтобы сказать спасибо за подаренную жизнь. Я живу в Огайо, долго числилась в списке ожидания на пересадку сердца и легких, пока не получила Ваш дар. Тогда я не знала, проживу ли достаточно долго, чтобы представилась вот эта возможность Вам написать. Ваша трагическая утрата дала мне неоценимое – второй шанс в жизни, и я очень хочу поблагодарить Вас и Вашу семью. Хочется думать, что Вам в утешение будет знать, как помогли сердце и легкие, отданные мне Вашей любимой. Я теперь могу свободно дышать, ходить и даже подняться на целый лестничный марш. Я смогла вернуться к учебе и получить диплом бакалавра – очень надеюсь завершить образование и стать социальным работником, а может быть, поэтом. А самое главное – я помолвлена. Много лет я любила чудесного человека, но не считала себя вправе принять его предложение, пока думала, что у нас нет шанса построить долгую совместную жизнь. Совсем недавно я уже смогла ездить, и мы с ним поехали в Калифорнию. Это было чудесно. И отчасти я пишу это письмо, чтобы сказать: если Вам эта мысль кажется приемлемой, я была бы очень рада увидеться с Вами и поблагодарить лично. Я знаю, что это трудно, – но надеюсь, что увидеть, какие возможности и какие радости подарили мне Вы, будет для Вас утешением в Вашей невосполнимой потере. Очень надеюсь на Ваш ответ.
Эйвери
Читаю письмо и не могу удержаться от слез. Плачу от сочувствия к Эйвери, к Джейн, к Эшли, Нейту и Рикардо.
А потом слезы иссякают. Потому что Сай и Мадлен ждут, чтобы я их куда-нибудь повез, Тесси хочет завтракать, а дети через несколько дней вернутся из лагеря домой, и надо что-то сделать.
Убираю письмо.
Дети возвращаются, сильнее и увереннее, чем были до поездки в лагерь. У Рикардо на груди медали за плавание, стрельбу из лука, греблю. Он золотисто-смуглый, похудел, подрос, отработал удар в гольфе и подачу в теннисе, не принимает лекарств, сменив их на активный образ жизни плюс аминокислоты и какой-то рыбий жир, напоминающий, по его словам, растаявшее мороженое. Я его пробую, меня чуть не выворачивает. У Эшли появились груди, которых точно не было еще четыре недели назад. Такое смешное сочетание девочки с женщиной, и до боли застенчивая. У Нейта на верхней губе характерная темная полоска, голос стал ниже. Все они брызжут рассказами о друзьях, приключениях, тайных языках. Душевный подъем от поездки в Южную Африку еще усилился и расширился в лагере, и я вижу, что они не только выросли, но и мыслить стали по-иному. Верят в свои силы.
Рикардо подносит мне бумажник, который для меня сделал, – куски кожи, сшитые внахлест, и мои инициалы, выдавленные спереди. Эшли смастерила застекленную коробочку, похожую на телевизор, с маленьким портретом матери на экране. Нейт привез останки животных, найденные им в лесу возле лагеря, – череп белки, кожу змеи и кучу совиных погадок, которые он раскалывает, показывая нам, как определить съеденных совой животных.
До школы остается всего два уик-энда. Я собираю детей и рассказываю им про Эйвери.
– Хотели бы вы ее увидеть?
– Да, – отвечают они без колебаний.
– Так что, – говорит Эшли, желающая дальнейших разъяснений, – она вроде новой мамы?
– Нет, – отвечаю я.
– Мачехи? – допытывается она.
– Не похоже.
– Пересаженная мать?
– Просто леди из Огайо, – отвечает Нейт. – Нам не родственница.
– Но у нее мамины сердце и легкие – тебе не кажется, что это меняет дело? В смысле, она похожа на маму больше всех – кроме нас.
Нейт пожимает плечами:
– Знаешь что, Эшли? Пусть она тебе будет кем ты хочешь.
– Спасибо, – говорит Эшли.
Объяснив все это детям, я пытаюсь объяснить то же самое Саю и Мадлен, но они не совсем улавливают. В конце концов у них в голове откладывается, что этой самой Эйвери было завещано что-то очень драгоценное, принадлежавшее Джейн.
Сай начинает нервничать:
– Я просто продавал страховки, – повторяет он. – Я в технические подробности не вникал. Умершие обычно не возвращаются. Это имущество надо было в доверительное управление сдавать.
– Она приезжает просто сказать спасибо, – говорю я.
– А почему моя мама не отдала свои органы? – спрашивает меня Рикардо в тот же вечер потихоньку. – Это только богатым можно?
– Нет, – отвечаю я. – Это может каждый, но нужно заранее спланировать и умереть таким образом, чтобы органы оставались жизнеспособными.
– Жизнеспособными – это как?
– Твоя мама умерла на месте в автоаварии. Джейн умерла в больнице, где ее тело продолжали снабжать кислородом, чтобы органы оставались здоровыми, и изъяли их со всей возможной быстротой.
– А чтобы отдать органы, нужно быть мертвым?
– Обычно да. Но есть определенные органы, которых у человек пара, например, почки. Их можно отдать при жизни.
– Я хочу отдать орган, – говорит он.
Я киваю:
– Дело хорошее. Но любые органы можно отдавать лишь тогда, когда станешь взрослым.
– Отлично, – говорит он. – Но как только вырасту, все их тут же поотдаю.
В субботу, в полдень, в пабе с гамбургерами мы встречаемся с Эйвери и ее женихом. Сюда любил захаживать Джордж, потому что здесь его знали и сажали так, чтобы ему были видны сразу два телевизора. Я этот паб терпеть не могу; мне кажется, что сюда сбегают из дому несчастные мужья, пусть хоть на час – погрузиться с кружкой пива в атмосферу комфорта в обществе других таких же бедолаг.
Эйвери и ее жених Марк уже здесь. Когда мы входим, я вижу, как они нервно перебирают тянучки на кассе.
Эйвери маленького роста, с короткой стрижкой.
– Вы, наверное, Эйвери, – говорю я, подходя.
– Ух ты! – отвечает она. – Надо же, как вас много!
– Я Эшли, – говорит Эшли, протягивая руку.
– Нейт, – говорит Нейт, держась позади, только кивая.
– Рикардо.
Он пожимает руки Эйвери и Марку.
Я представляю Сая и Мадлен и предлагаю занять столик.
– Здесь хорошо, – говорит Эйвери. – Какое-то знакомое ощущение. Будто я уже здесь бывала.
– Обычная гамбургерная, – говорит Марк. – Они все на одно лицо.
– Эта мне нравится, – отвечает Эйвери.
Когда официантка принимает заказ, Эйвери просит сильно прожаренный, и Эшли замечает, что мама тоже их любила. Эйвери улыбается.
– Так как получилось, что вам понадобилась пересадка? Ничего, что спрашиваю? – интересуется Нейт. – В смысле, не надо отвечать. Если это слишком личное.
– Да ничего, – говорит Эйвери. – Это был врожденный синдром. Потом, когда я стала подростком, он усилился. Я не могла выходить летом, потому что нельзя было потеть, не могла заниматься спортом, все без соли, много диуретиков, лазикс, дигоксин, железо, витамины. Все время надо мной висела угроза внезапной смерти. Я уходила утром и не знала, вернусь ли домой. Тогда я и начала писать стихи, – рассказывает она. – Писала, чтобы справиться со стрессом. Даже написала про то, как сегодня сюда поеду.
Приносят заказанные напитки. Рикардо ломает лед, сдувая упаковку с соломинки в Марка.
– А когда делают пересадку, – спрашивает Нейт, – есть выбор, у кого можно взять? В смысле, то ли от этой женщины, то ли вон от того мужчины, то ли еще от кого?
Эйвери мотает головой.
– На органы есть очень длинный список ожидания. Ждешь, ждешь, ждешь, а потом доктора должны решить, подходит или не подходит. И забавно, что у женщин не очень хорошие результаты с мужскими сердцами.
– Где вы познакомились? – спрашивает Эшли, глядя на Марка.
– В приемной у кардиолога, – отвечает Марк. – Я туда бабушку привозил.
– Напомните мне, кем вы нам приходитесь? – интересуется Мадлен.
– Они нам не родня, – твердо отвечает Нейт.
– Так как оно там, в Огайо? – тороплюсь я исправить неловкость и думая, один ли я ее заметил.
– Хорошо, – говорит Эйвери. – Очень хорошо. Только сейчас поняла: я же впервые выехала за пределы штата с новым сердцем.
– Вам что-нибудь о ней рассказали? – спрашивает Нейт.
– Нет, – говорит она. – Все очень конфиденциально и всерьез. Есть люди, которые просто не хотят знать. Вы не хотели бы мне что-нибудь сказать?
Приносят гамбургеры.
– Моя мать была бы за вас рада. Она любила помогать людям. Была очень благородным человеком.
У Нейта голос чуть проседает от эмоций.
Когда Эйвери нужно выйти в туалет, Эшли уходит с ней. Потом она мне рассказывает, что Эйвери показала ей шрам – точно посередине тела, как застежка-молния.
Оставшись один, Марк нам рассказывает, как Эйвери должна быть благодарна нам за эту встречу.
– Ей трудно было после пересадки. Она в чем-то изменилась, стала другой, хотя не могу сказать, в чем именно. Были тяжелые сны, черные мысли.
– Большая хирургия, – замечаю я.
– Смерть хуже, – говорит он, и больше тут сказать нечего.
– Я правда хочу вас поблагодарить, – говорит Эйвери, вернувшись из туалета.
Она не садится снова за стол. Бывают такие трапезы, которые заканчиваются раньше, чем кто-нибудь успеет нормально поесть.
Сай заворачивает свой бургер и сует в карман куртки. Рикардо смотрит и следует его примеру, добавляя еще картошки фри. Когда мы выходим, Эшли спрашивает, не хотят ли Эйвери и Марк подъехать глянуть на дом. Нейт поражен.
– Конечно, – говорит Эйвери. – Просто на минутку.
Я еду впереди, Марк за мной, вверх по склону к дому. В зеркале заднего вида – глаза Нейта.
– Ты как, Нейт? – спрашиваю я.
– Никак, – отвечает он ровным голосом. – Совсем никак.
Я заезжаю на дорожку, останавливаюсь. Нейт выходит первым и устремляется в дом. Входная дверь остается распахнутой, как дыра, как рана.
Марк и Эйвери паркуются у тротуара, тем временем рвущаяся наружу Тесси останавливается у края травы и лает.
– Она не любит людей? – спрашивает Эйвери.
– Она очень дружелюбна, но черту переступить не может, – поясняет Мадлен.
– Черту? – спрашивает Марк, обходя машину к дверце Эйвери.
– Невидимая изгородь, – говорю я.
Эйвери выходит из машины. Она стоит, глядя на дом, но вдруг теряет равновесие, пошатывается, неуверенно опускается на переднее сиденье.
– Ой! Ой!
– Что такое? – спрашивает Марк.
– Тесси, – догадываюсь я. – Перестань лаять!
– Голова… – стонет Эйвери.
– Ударились головой? – спрашиваю я.
– Нет. Просто вдруг заболела.
– Часто у вас голова болит?
– Нет. – Ее как будто раздражают мои вопросы. – Это не как мигрень. Как будто меня что-то бьет по голове, сильно. Ой, нехорошо мне. Совсем нехорошо.
– Секунду, – просит Эшли и убегает за чем-то в дом.
– Это тот дом? – спрашивает Эйвери.
– Это дом, где они живут, – отвечает Марк.
– Тот, – говорю я, прекрасно понимая, о чем она спросила.
– Наверное, голова болит потому, что это здесь и случилось, – говорит Эйвери.
– Некоторая натяжка, – возражает Марк.
Я чувствую, как он отталкивает от себя мысль, что его невеста – не та, кем была прежде.
– Это вполне реально, – говорю я, стараясь приободрить их обоих. – Сердце Джейн знает…
Я им рассказываю о памяти клеток и повторяю историю одной девушки, которой пересадили сердце от десятилетней жертвы убийцы.
– Реципиентка пересаженного органа стала видеть ужасные кошмары, и в конце концов призвали полицию. Кошмары оказались точными и дали нити к раскрытию убийства.
– Думаю, нам пора, – говорит Марк.
Выбегает Эшли с подарком, завернутым для Эйвери.
– Я это сделала для мамы, хочу, чтобы досталось вам.
– Спасибо, – говорит Эйвери. Головная боль явно усиливается.
Марк запускает мотор, включает передачу. Машина дергается вперед, мы остаемся.
– Мне пора, лапонька, – говорит Эйвери, обращаясь к Эшли. – Будем держать связь…
– Не очень поняла, что она хотела, – говорит Мадлен, глядя вслед уезжающей машине.
– Никогда больше не хочу ее видеть, – говорит Нейт, когда мы входим в дом. – Жуть какая-то, как в этих фильмах М. Найта Шьямалана.
Ночью Нейт не спит. Я слышу шаги и перехватываю его в гостиной.
– Что случилось? – спрашиваю я. Он не отвечает. – Ходишь во сне?
Он мотает головой – нет, – и садится на диван в гостиной.
– Зачем она приезжала? Неужели хотела, чтобы мы ей сказали: ничего, что мамино сердце у тебя, все в порядке? Чтобы от этого ей стало лучше? А если это не ничего, а чего? Если все это совсем не ничего? А если никто ни секунды не подумал обо мне или об Эшли, когда это все происходило?
Он говорит и говорит, я не перебиваю. Я слушаю и глажу его по спине. Он качается взад-вперед, выплескивая, выгружая все из себя, опустошаясь. Все чувства, которые ему довелось испытать, рвутся наружу. Он иногда плачет, иногда выкатывает глаза и орет. На верхней площадке лестницы появляются Эшли и Рикардо и спрашивают, в чем дело.
– Ничего, – отвечаю я. – Нейт очень расстроен, но все будет хорошо.
На самом деле я не так уж в этом уверен. Он взорвался, и все, что он пытался удержать в себе, вываливается наружу.
Тесси с нами в гостиной, тоже помогает. В какой-то момент мы начинаем говорить о Южной Африке – кажется, Нейта успокаивает возвращение к нашим приключениям. Я ему рассказываю, что София сделала веб-страницу по нашей поездке, разместила фотографии и рассказы, которые я ей посылал, и что незнакомые люди заходят на этот сайт и делают пожертвования. Я сообщаю, что на счету собралось уже почти тридцать тысяч долларов.
– Это ты просто меня успокаиваешь, да?
– Нейт, сейчас полвторого ночи. С чего бы я стал врать?
Я веду его к компьютеру Джорджа, показываю страницу и комментарии людей, пишущих, как они поражены, что столь молодой человек так предан осуществлению социальных перемен.
– Это что, настоящие деньги? Они и правда у нас есть?
– Да, это банковский счет на твое имя.
– Можно я завтра позвоню Софии и скажу спасибо? Я не знал, что она приняла такое участие. В смысле, поразительно, что человек, который ничего с этого не получает, оказывает такую сильную поддержку.
– Да, – отвечаю я. – Это необычно.
– И надо найти время обсудить с Сахилем, на что лучше направить эти деньги, – говорит Нейт. – Можем сейчас ему написать?
– Конечно, – отвечаю я, и мы пишем. – Как ты насчет малость поспать? – предлагаю я. Он кивает. – Послушай, действительно неловко вышло сегодня. Я бы никогда этого не предложил, если бы знал, что это будет так тяжело.
– Я не предполагал, что так будет, – говорит Нейт.
Я его провожаю наверх и по коридору к его комнате.
– Ты мне не почитаешь? – спрашивает он.
– Давай.
Он выбирает с полки книгу времен своего детства и ложится в постель. Я ему читаю, как маленькому, и пока я читаю, снова просыпается Рикардо и тоже слушает, а я, закончив чтение, целую Нейта в лоб на прощание и Рикардо тоже.
– Я должен о ней волноваться? – спрашивает меня Нейт.
– Нет, – отвечаю я.
Утром на компьютере несколько писем от Сахиля. Он интересуется, когда можно будет поговорить – его любое время устраивает. Его интересует, сколько к ним направлено денег и когда их можно будет получить.
Мы назначаем собрание деревни по скайпу, и я оставляю Нейту право сообщить о веб-странице и пожертвованиях.
– Сколько? – возбужденно спрашивает по скайпу Сахиль.
Нейт ловко уходит от прямого ответа.
– Прилично, – говорит он. – Достаточно, чтобы считалось.
И разговор быстро переходит на потребности. Из Южной Африки мы слышим предложение, что деревня должна завести у себя машину или автобус, чтобы ездить в большие города и обратно.
– Автобус – это направление наружу, – отвечает Нейт. – Давайте направим мысль внутрь – подумаем о том, что может улучшить жизнь в деревне.
– Кабельное телевидение и по-настоящему большой телевизор? – предлагает один из жителей.
– Я думал скорее о том, чтобы колодец выкопать, – говорит Нейт, и голос его становится все напряженнее и печальнее.
– Но это же очень дорого, – говорит Сахиль.
– Именно, – соглашается Нейт. – Возможность, которая представляется раз в жизни.
Разговор продолжается, южноафриканцы говорят о разных вещах, которые можно было бы купить, от электрогитар до скутеров «Веспа» и холодильников.
– Хватит, – говорит Нейт. – Вы становитесь совсем как мы: не думаете ни о своей деревне, ни о родителях, ни о детях, ни о будущем. Думаете только о навороченной машине и огромном телевизоре.
Мы все молчим.
– Дитя указывает путь, – говорит Лондисизве.
– Сегодня мы этот вопрос не решим, – говорю я. – Давайте еще подумаем немного, а потом поговорим снова.
– Жуткое чувство, – говорит Нейт, когда мы уходим от компьютера. – Я сотворил монстра.
– Не ты его сотворил.
– Ну, значит, вскормил, – отвечает Нейт, испытывая к себе отвращение.
– Иммунитета нет ни у кого. В человеческой натуре – желать, и каждое поколение хочет все больше и больше. Люди путают приобретение с достижением, с другими видами прогресса. Для них оно – мера успеха.
– Побеждает тот, у кого игрушек больше? – спрашивает Рикардо.
– Ты не обязан отдавать им деньги, – высказываю я мысль.
– Это их деньги, – возражает Нейт. – Их мне дали для этих людей. То, что будет на них сделано, должно быть сделано для деревни. Для ее будущего – продовольствие, жилье, улучшение питьевой воды.
– Меня поразило, что ты не бросил все это.
– Не могу, – говорит Нейт. – Я же это все затеял.
– И винить их тоже нельзя. Они из другой страны, но живут в том же мире, что и мы.
Уик-энд на День труда проходит в хлопотах по закупке и упаковке школьных принадлежностей.
В следующий вторник мы все вместе с Нейтом совершаем паломничество в академию. Нейту приятно устроить экскурсию для Сая и Рикардо, и Рикардо спрашивает, сможет ли он когда-нибудь тоже поступить в такую школу.
– Да, – отвечаю я. – Если захочешь.
Мы провожаем Нейта до его комнаты, Сай дает ему двадцать баксов «на мелочи», и мы едем домой. На следующий день начинаются занятия у Рикардо и Эшли в общественной школе по соседству, а к концу недели Мадлен и Сай записываются на три дня в неделю на учебную программу для пожилых.
Даже мать влилась в осенний поток и сообщила мне, что они с мужем снова пошли учиться – записались в ОЛЛИ – организацию, занимающуюся «обучением в течение всей жизни», и слушают курсы по политологии и радиотеатру.
И никто вроде бы не замечает, что только я в школу не вернулся. Я теперь официально безработный, и чувство это раздражающее. Я борюсь со стрессом, организуя всех остальных.
Дом наполнен жизнью. Все время в нем какие-то люди. Рикардо завел себе лягушку и черепаху и берет уроки игры на барабане. Эшли возобновила уроки игры на пианино. По выходным все занимаются какой-нибудь работой вроде сгребания листьев. Сай и Рикардо любят нагрести огромную кучу и либо прыгнуть сверху, либо прямо пройти ее насквозь, и повторяют снова и снова. Мы одалживаем у семьи Гао минивэн и ездим на групповые экскурсии любоваться осенней листвой или собирать яблоки и тыквы. Все очень приятно и без осложнений – если не считать тех двадцати минут, когда Сай заблудился в лабиринте кукурузы.
Мы встречаемся с Хайрэмом П. Муди – обсудить денежные дела. Он никаких проблем не видит.
– Семьи, – говорит он, – они как маленькие страны. Каждая из них – экосистема, со своими приливами и отливами. С деньгами, приходящими от сдачи дома Сая и Мадлен, с их чеками социального страхования и доходами от инвестиций у них двоих все отлично. Что до Эшли и Рикардо, то тут вы функционируете как человек – печатный станок, но при выплатах по страховке Джейн, полном отделении Джорджа, доходах от их прошлых инвестиций и выплатах по соглашению от школы Эшли вы более чем обеспечены.
Я стараюсь жить, не выходя за пределы собственных средств. Они ограничены, но в моем распоряжении гардероб Джорджа, а когда у меня заканчивается страховка, я покупаю полис для фрилансера. Остальные мои желания и потребности весьма немногочисленны.
Я отмечаю движение денег в отдельных блокнотах – по одному на каждого из детей, один для Сая и Мадлен, и еще один для дома и для себя самого. Тщательно записываю каждый расход и источник, из которого он был сделан. Это не только дает мне занятие, но и спасает от грызущего страха, как бы меня не обвинили в злоупотреблениях.
* * *
Сай постепенно сохнет, становится все более забывчив, у него возникают трудности с «удержанием». Все это служит поводом посетить доктора, который говорит, по сути, следующее:
– Что есть, то есть, и нет смысла хотеть большего. Никто из нас не вечен.
Я прошу доктора выйти из кабинета для разговора наедине. Мы оставляем Сая на столе. Бледные безволосые посиневшие ноги исчерчены венами, как ощипанная курица.
– Что значит – «никто из нас не вечен»? – спрашиваю я сразу за дверью. Врач пожимает плечами. – Вам сколько лет?
– Тридцать семь, – отвечает он.
– Ну и наглец же вы, – говорю я.
– Чего вы хотите? – спрашивает он. – Обезболивающие, валиум? Скажите только, – начинает он скороговоркой.
– Чего я хочу? Какого-то сочувствия, понимания, каково это – сидеть там в этой рубахе – предшественнице савана, и волноваться, что все это значит.
– Ладно, – говорит он.
Мы возвращаемся в кабинет, и молодой доктор прыжком садится на смотровой стол рядом с Саем.
– Вы меня слышите?
– Не надо орать, – отвечает Сай. – Я, может, и старый, но не слепой. Вижу, как у вас губы двигаются.
– У вас все отлично, – говорит доктор. – Чем больше вы будете выходить и давать себе физическую нагрузку, гулять, тем лучше. Не засиживайтесь, двигайтесь себе на радость.
Он спрыгивает со стола, дает мне рецепты: статин для стабилизации холестерина, фломакс для предстательной железы, валиум – на случай приступов тревоги. Подмигивает мне и выходит.
Эшли, продолжая свое погружение в иудаику, просит меня, если не трудно, достать билеты на большие праздники. Получив отказ в возобновлении членства в той синагоге, к которой принадлежали Джордж и Джейн, я по необходимости покупаю билеты онлайн у «реализатора». Идея «покупать» билеты на ежегодные религиозные церемонии кажется мне неправильной. Да, я знаю, что для многих евреев большие праздники – это дата ежегодного посещения синагоги, и сами синагоги таким образом собирают себе средства на целый год – но все равно это ощущается как непорядок.
Встречаюсь на перекрестке с каким-то человеком и плачу шестьсот долларов наличными за два «членских» билета на службу в йом-кипур в консервативной синагоге в Скарсдейле.
Эшли волнуется и настаивает, чтобы мы пришли пораньше ради хороших мест. Мы высиживаем долгие часы, и когда наконец доходит до молитвы «Видуй», общего покаяния в грехах, я оказываюсь вместе со всеми, бью себя в грудь и повторяю: «За все грехи, что совершил я перед Тобою». Этих грехов не меньше двадцати четырех: грех предательства, грех злосердечия, грех введения других в соблазн, грех вкушения запретной пищи, грех произнесения лживых слов, грех насмешки, грех презрения, грех обиды ближних своих, грех дерзости, грех отпадения от Бога… Я вместе с остальными бью себя в грудь и повторяю вслед за раввином литанию наших прегрешений. Виновен. Виновен во многом, в чем даже не подозревал возможности быть виновным.
– Мы плохие, – шепчет мне Эшли. – Ты только послушай, что мы совершили, сколько наделали горя и бед.
У меня на миг проясняется мысль:
– Эшли, мы люди. Мы каемся, потому что вопреки нашим лучшим намерениям всегда приносим вред себе и другим. Вот почему каждый год мы просим прощения у тех, кого обидели, и каждый год предстаем перед Богом и просим, чтобы Он даровал нам прощение.
Она начинает плакать.
– Это так ужасно!
– Что именно? – спрашиваю я.
– Быть человеком.
Как гром с ясного неба раздается звонок из департамента социальных служб с предложением запланировать посещение на дому в связи с неотвеченным заявлением о приеме в семью ребенка на патронирование.
– У нас отмена, и социальный работник может вас посетить завтра. Или же я могу записать вас на двадцать третье декабря.
– Завтра вполне, – говорю я. – В какое время?
– В любое с девяти утра до пяти вечера.
– Можно ли как-то точнее? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает женщина.
– Хорошо, договорились.
Социальный работник подъезжает в невзрачной машине около двух часов дня. Тесси лает.
– Не люблю собак, – говорит женщина.
– Хотите, чтобы я ее запер в другой комнате?
– Да, если можно.
Я беру Тесси на поводок и прошу Мадлен ее подержать. Эскортирую в дом социальную работницу и ее толстую папку.
– Так мальчик уже живет здесь? – спрашивает она.
– С весны, – отвечаю я. – По просьбе его тетки.
– Где он спит? – хочет знать женщина.
Я ее веду в комнату Нейта и показываю двухэтажную койку – Рикардо на нижней с мягкими игрушками-зверушками.
– Он любит животных, – говорю я, показывая ей лягушку и черепаху.
– Как он добирается до школы?
– Он и Эшли, моя племянница, вместе ходят туда пешком.
– Вы прошли курсы для приемных родителей по обучению детей?
– Еще нет. Я записался на те, что начинаются примерно через месяц – на раньше не было мест.
– Вы подумали о том, какое влияние окажет приемный ребенок на вашу семью?
– Да, – отвечаю я. – Семья в полном восторге. Это изначально была идея детей.
– Ваш подход к дисциплине?
– Твердый, но гибкий.
– Я вижу, ваши родители живут с вами.
Я киваю, но ничего больше не говорю.
– А что это за строение во дворе?
– Временное, – отвечаю я. – Праздновали приход осени.
– Мальчику там спать нельзя, – говорит она твердо.
– Естественно, нельзя, – соглашаюсь я и киваю.
– В вашем заявлении говорилось об одной кошке? – спрашивает женщина, когда мимо пробегают две.
– У нее родились котята, – отвечаю я, ведя ее дальше для осмотра дома.
– Сколько детей живут в доме?
– Трое.
– Ты не забывай наших коричневых деток! – кричит Мадлен. – Всего пятеро.
При упоминании «коричневых деток» социальный работник заметно ощетинивается.
– Это двойняшки! – кричит Сай, перекрывая комментатора турнира по гольфу.
– Эти детки – куклы из Южной Африки, – объясняю я. – Куклы для пожилых людей полезны. Они их считают настоящими детьми.
Социальный работник кивает без всякого интереса.
– Если вас утвердят, вам будут платить за предоставление жилья и за уход, вы получите пособие на одежду. Можно запрашивать деньги на специальные цели, например, на программы послешкольного обучения, дополнительные занятия, зимнюю куртку и одежду для посещения религиозных мероприятий. Но при существующих ограничениях бюджета просить не имеет смысла. Чтобы не было даже видимости эксплуатации детского труда, прошу вас не поручать ребенку готовку, уборку и вообще что бы то ни было, что может быть сочтено работой по найму.
Она дает мне подписать какие-то бумаги и уезжает.
– Надеюсь, ты не наймешь эту женщину здесь работать, – говорит Мадлен. – Нам с Тесси показалось, что она строит из себя.
Звонок Аманды застает меня в «Эй-энд-пи». Я оглядываюсь, думая, не здесь ли она, наблюдает за мной из-за караваев хлеба или выглядывает из-за горки навелинов. Я часто здесь бываю, потому что продуктов нам теперь нужно больше, чем раньше, и аппетиты хороши и у молодых, и у старых.
– Где ты?
Она не хочет отвечать.
– Как ты?
– Нормально. А ты?
От неожиданности ее звонка я чувствую, что меня застали врасплох, столкнули нос к носу.
– Хорошо, – отвечаю я. – Смешно, но я сейчас как раз в «Эй-энд-пи». Тут поменяли интерьер, сделали новый проход, как извилистая сельская дорога. Чтобы шопинг был отдыхом, более естественным действием.
Долгая пауза.
– А еще что? – спрашивает она.
– Я закончил книгу. – Немного о себе, умалчивая об ударе молнии. – Твои родители в отличной форме, дети в школе. А ты что делаешь?
– Трудно сказать.
Я чувствую, как во мне растет раздражение. Ее непроницаемость, которая меня к ней тянула, вот эта невозможность узнать, что она на самом деле думает, теперь злит.
– Можно задать тебе вопрос? – спрашиваю я и делаю паузу. – Когда «случится», хочешь ли ты об этом знать?
– Нет, – отвечает она уверенно. – Совсем не хочу. Мне нравится не знать, просто воображать. А знание может что-то изменить, и мне придется делать что-нибудь другое. Не хочу быть обремененной.
– Хорошо, – говорю. – Тогда сделай мне одолжение…
– Какое?
– Не звони больше по этому телефону. – Я перевожу дыхание. – Это все как-то не про тебя, Аманда. Не похоже на тебя оставить родителей с совершенно чужим человеком, как сдают пальто в гардероб, а потом только проверять, словно хочешь удостоверяться, что все там, где ты оставила.
Я слышу шелест бумаги.
– Еще пара моментов, – говорит она, полностью игнорируя все мной сказанное. – Мои родители каждый год ездят в Вест-Пойнт на игру команд армии и флота. У них сезонные билеты. Они тебе говорили?
– Нет, даже не заикнулись.
– И у них двадцать пятого сентября будет годовщина. Сорок пять лет.
Пока она говорит, я перехожу в молочный отдел и нагружаю тележку: нежирное молоко для Рикардо, молоко без лактозы для Сая, соевое для Эшли и растворимый «Максвелл-хаус мокка» с перечной мятой и молоком для Мадлен – она этот напиток называет своим наркотиком. Я хожу вдоль проходов, набирая хлеб, крекеры, бумажные полотенца, а тем временем Аманда продолжает сообщать мне подробности насчет того, что нужно прочистить трубу в доме и проверить, чтобы были подняты штормовые окна. Она выгружает информацию, и каждый бит кружится как осенний лист, в нисходящем потоке опускаясь на землю. Еще через несколько минут я говорю:
– Аманда, перестань. Тебе больше не нужно обо всем этом волноваться. Это не важно – да все это вообще не важно, обыденность.
– Из этой обыденности жизнь состоит, – отвечает она. – Я все это записала и смогу передать.
– Есть инструкции, так что ничего передавать не нужно. Мне пора ехать, – говорю я, готовясь повесить трубку. – Ну, береги себя.
В машине по дороге домой меня наполняет неодолимый ужас – а не перегнул ли я палку? Не захочет ли она отомстить? Я представляю себе, как Аманда прокрадывается среди ночи в дом и уводит родителей вниз по лестнице, забирает их снова себе. Представляю, как стараюсь опередить ее – всех собираю и ухожу в подполье, как в какой-нибудь программе защиты свидетелей. Сай и Мадлен теперь мои, они нужны мне, они нужны детям. Я не могу себе позволить их потерять.
Сай говорит, что ему нужна моя помощь.
– Надо съездить тут недалеко – в старый дом. Я там кое-что оставил.
– Не вопрос. Скажем мистеру Гао, и он нам привезет.
– Нет, надо поехать нам с тобой, вдвоем, сегодня. И лопату взять.
– Правда? – спрашиваю я.
– Правда.
Я звоню мистеру и миссис Гао и сообщаю им, что мы нанесем неожиданный визит, и прошу их делать вид, будто они нас не видят. Как только темнеет, мы едем туда с двумя лопатами и двумя налобными фонарями, которые я купил в том же магазине.
Сай отсчитывает десять шагов от двери в подвал, потом три шага влево и начинает копать.
– Глубина примерно восемнадцать дюймов, – сообщает он.
– Дай-ка лучше я, у меня спина покрепче.
Он пару минут смотрит на меня, потом начинает копать другую яму примерно на фут дальше.
– Там не один предмет? – спрашиваю я.
– Семь или восемь.
Я продолжаю копать, пока не раздается стук лопаты по металлу.
– Бинго! – кричит Сай.
Мы становимся на четвереньки, и я стряхиваю пыль с крышки чего-то очень похожего на военного образца контейнер с патронами пятидесятого калибра. Меня охватывает ужас.
– Ты закопал во дворе патроны? Взрывчатку? Это же опасно, можем подорваться!
– Там не взрывчатка – деньги. Я их положил в патронные контейнеры, потому что они водонепроницаемые. Почему, по-твоему, я никогда не думал насчет внутрипочвенного орошения? Оно бы мой пенсионный план сгубило.
Он издает кашляющий смешок.
– Сай, ты хочешь сказать, что у тебя тут закопано семь или восемь ящиков денег?
Он кивает с ликующим лицом.
– Да. Рынкам я не доверяю, так что засовывал все в чулок, то тут, то там, много лет.
– А это не те деньги, которые ты украл?
– Нет-нет! – Он мотает головой. – Те я вернул, это мои.
– Сай, ты уверен?
– На все сто. Копай давай.
Я копаю. Копаю который час подряд, и нашли мы шесть ящиков.
– Странно, – говорит Сай. – Вот чем хочешь мог бы поклясться, что их было больше.
Я пожимаю плечами. У меня сводит мышцы, в голове шумит пульс, кажется, что в любую минуту меня опять инсульт хватит.
– Достаточно, Сай. Сколько бы там ни было, достаточно.
Он кивает:
– Там по десять тысяч в каждом ящике.
– Шестьдесят тысяч долларов?
– Сынок, я продавал страховки и чертовски хорошо это делал. Тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых, страховки были хитом. А я был очень аккуратен: каждый бонус, каждую лишнюю монетку тут же убирал в беличью кладовую. Ты послушай, – говорит он мне, пока мы заканчиваем. – Я знаю, что пасти нас с Мадлен тебе в хорошую копеечку влетает. А скоро Рождество. И я хочу что-нибудь сделать для детей – может, купить им сберегательные облигации Соединенных Штатов. И вот еще, если правду: всегда мне хотелось игрушечный поезд «Лайонел». Каждое Рождество, несмотря на возраст, я все еще спускаюсь вниз в надежде, что он там будет. И знаешь что? В этом году он и правда там будет, потому что я сам себе его куплю. А ты со мной поедешь, – говорит он. – Поедем в Нью-Йорк и там выберем. – Он замолкает. – Слушай, а тут хватит на поезд?
– Да, Сай. Я думаю, тут наберется.
Мы вместе закапываем ямы и обсуждаем, что надо будет приехать и устранить нанесенный газону ущерб.
– Пока они не заметили, – говорит Сай, что, конечно, невозможно, потому что уже несколько часов Гао на нас таращатся из задних окон дома и ломают себе голову, какого черта мы тут выкапываем тяжелые зеленые металлические ящики.
– Надо было сказать до того, как мы начали, – говорит Сай, – но я полагаю, что ты сохранишь все это между нами.
– Никому ни слова, – обещаю я.
Прибывает письмо – без штампа, без обратного адреса. Оно аккуратно напечатано на тонкой голубой бумаге:
Франклин Фернесс показал мне Вашу рукопись – хотел услышать мое мнение как неофициального фактчекера. Я сложил два и два, и мне захотелось написать Вам пару слов, поздравительную записку. Я был приятно удивлен, увидев, что Ваша вера в мечту выжила вместе с надеждой, что сердца людей не столь черны, как иногда внушает нам их поведение. Смог истории никогда не рассеивается окончательно, и колоссального объема информации мы не узнаем никогда, но достаточно сказать, что это давно уже не «правление волею народа». Это компания, многонациональная – страна свободных и родина смелых, как было сказано вам Китайской Народной Республикой. Исторические силы недооцениваются – например, физики называют гравитацию «слабым взаимодействием» – и форму истории на удивление легко переделать. И вот мы с Вами, Вы и я, снова впереди в центре Zeitgeist’а, ароматного и мерзкого, мешаем факты с вымыслом (вы надеетесь, что с вымыслом), кипящим и булькающим, как древняя смоляная яма. И пока мы позволяем себе упиваться точностью нашего конспирологического мышления – да-да, мы все время были абсолютно правы, – наши моложавые двойники снова за свое. Вы отдаете себе отчет, что сейчас допуск к высшей степени секретности имеют более восьмисот пятидесяти тысяч служащих? Никто не знает, кто что делает, и даже те, кто уполномочен знать, за всем уследить не могут. Можно разработать и тайными ходами провести в жизнь план или десять планов, так провести, что он будет разворачиваться несколько лет и не будет ни единого человека, который бы отвечал за руководство. Это новый вид терроризма – кнопки нажимают люди, которые заняты каждый своим делом и понятия не имеют о причинах и следствиях, о том, как их действия соотносятся друг с другом. Дроны, или трутни – вы посмотрите определение: самец пчелы, лишенный жала, – то есть бессильные мужчины самого опасного сорта. Непонятное гудение возле уха – это уже не шмель, а искусственное насекомое, которое можно занести к тебе в дом, посадить на обеденный стол или одной клавишей компьютера направить тебе прямо в ухо, взорвать тебя и весь твой дом к чертовой матери, и ты даже не сообразишь, что случилось. Они между нами, и мы ни черта не знаем, кто они такие и что вообще происходит. Масштабы больше, чем кто-либо из нас мог себе в жизни представить. Сорок девять лет прошло с большого события – схлопывания американской политики, начала наших темных времен, и вот куда они нас привели. Как сами понимаете, я тоже работаю над своей книгой – похоже, все-таки еще остается несколько человек, думающих так же, как мы: надо выносить багаж, спасать сундуки, пока не поздно. В общем, одно могу сказать: поздравляю. Хорошая работа. Миру нужны такие люди, как Вы, Сильвер.
Я перечитываю письмо несколько раз. Не могу не испытывать при этом удовольствия. Вот это я и хотел услышать: это подтверждает мои чувства, мои подозрения, мою надежду, что не все напрасно. Наверное, это тот мой «друг» из юридической фирмы, человек из лифта – но кто он? Кто-то, кого я должен знать, – знакомое имя?
Прячу письмо в карман, решив покопаться потом – может, что-то в нем наведет на мысль. Какая-то фраза, манера изложения.
Звонит Уолтер Пенни – сказать, что Джорджа опять перевели.
– У него что-то с животом случилось, так мы его послали туда, где медобслуживание лучше. Могу вам дать адрес и информацию о посещениях – а то вы уже давненько его не видели.
– Тот инцидент у меня в памяти еще свеж, – отвечаю я.
– Чек вы получили? – спрашивает Пенни таким тоном, будто это решило все вопросы.
– Получил, спасибо.
Уолтер сообщает мне информацию о посещениях и адрес.
– Это примерно час езды оттуда, где вы сейчас. С видом на Гудзон.
Я приезжаю на следующий день. Снаружи вид буколический, тюрьма встроена в пейзаж, как старый замок или крепость. На парковке отдельное место «Лучший работник месяца» и фамилия этого работника красным маркером на белом прямоугольнике. Подъезжая, я случайно бросаю взгляд на старый дом справа и вижу, как явление призрака: выходит из него какой-то щеголь в старой коричневой вельветовой куртке и направляется к древнему автомобилю-универсалу. У меня мелькает мысль, что это дух писателя Джона Чивера выходит покататься.
Да, снаружи вид буколический, а внутри – как в печи. Потно, липко, пованивает тухлятиной. Я прохожу через металлодетектор в зону ожидания. Охранники приводят Джорджа в зону посещений в наручниках, мы разговариваем через отверстия в толстом плексигласе. Отверстия забиты слюной родственников и преступников, что общались здесь до нас.
– Как ты тут?
– А как я могу быть?
– Это вышло случайно, – говорю я.
– Я твоего мнения не спрашивал, – отвечает Джордж.
– У тебя ужасный вид. Уолтер говорил, ты лежал в больнице?
– Проктит и гонорея.
– Так как тебе на этом новом месте?
– Приходится приспосабливаться, – говорит он, мотнув головой. – Хреново здесь. Зубы у меня гниют. Я их раньше отбеливал четыре раза в год, а сейчас весь день от них дерьмом разит. Ты меня продал, отдал с потрохами, а за что? За рецепт шоколадного печенья Лилиан?
– Что ты несешь?
– Ты воспользовался, что я сластена, ты этим печеньем меня заманил и сдал!
– Они тебя тогда уже взяли, Джордж, – отвечаю я. – Мной они только воспользовались, как живым щитом. Я отдал себя в их руки, чтобы тебя защитить. Возможности отказаться у меня не было. Они меня взяли за яйца.
– Да нет у тебя яиц, – бросает Джордж.
– Джордж, будь повежливее.
Заключенный в соседней кабине падает на пол и бьется в припадке.
– Как мои розы? – успевает спросить Джордж, пока охранники вбегают очистить комнату, чтобы заняться больным.
– Черные пятнышки появились. Сегодня снова их опрыскаю, если дождя не будет, – отвечаю я и выхожу в двери.
* * *
Во вторник перед Днем благодарения Нейт возвращается из школы и привозит друга по имени Джош. На следующий день мы одалживаем у семьи Гао минивэн и едем в Нью-Йорк. Мы с Саем, Нейтом, Рикардо и Джошем идем в магазин «Лайонел», а Эшли и Мадлен собираются пойти уложить волосы, а потом на ленч. Народу в городе – не протолкнуться, я чувствую себя туристом: на все натыкаюсь.
В магазине «Лайонел» продавец далеко не сразу соображает, для кого поезд, но когда до него доходит, он берется за дело с энтузиазмом, и мы покупаем за семьсот долларов поезд и кучу аксессуаров, и когда уходим, все мальчишки тащат по тяжелой сумке. Я веду ребят есть мороженое, и оказывается, что Нейт никогда не пробовал банановый сплит. Я заказываю на стол два, и тогда Сай смотрит на меня сурово:
– Сегодня у меня большой праздник, – говорит он. – И пусть будет по одному на каждого.
Так мы и делаем.
Закончив, мы идем встречаться с Эшли и Мадлен, которые не только у парикмахера побывали, но еще и маникюр с педикюром сделали.
– Еще в одно место заедем, – говорит Сай, и мы снова забиваемся в минивэн. Он меня направляет на Восемьдесят первую, к Музею естественной истории.
– Не знаю, насколько близко удастся подъехать, – улицы перед парадом перекрывают.
– Насколько сможешь, настолько и подъезжай, – говорит он.
Я паркуюсь на стоянке за два квартала от музея, и мы гуськом, как утята, следуем за Саем, налетая по дороге на людей, хором отзываясь: «Извините, извините, извините». Возле заграждения на перекрестке Восемьдесят первой и Сентрал-Парк-Уэст Сай что-то шепчет копу и вытаскивает из кармана старое водительское удостоверение. Я гляжу на Мадлен – кажется, она вполне понимает, что делает Сай. И улыбается.
– Разумеется, – говорит коп, открывая заграждение и пропуская нас всех.
Сай улыбается, очень собой довольный. Мы оказываемся среди немногих избранных прохожих в квартале, где выложены надувные игрушки для традиционного парада, организуемого универмагом «Мейси», и их как раз сейчас надувают.
– Вот этот шланг идет к заднице Бетти Буп, – показывает Сай.
– Бетти Буп! – восклицает Рикардо.
– Как мы сюда попали? – спрашивает Нейт.
– У меня есть еще пара тузов в рукаве, – отвечает Сай.
– Мы тут жили, прямо в этом квартале, – говорит Мадлен. – Много-много лет. Наши девочки выросли, играя в Центральном парке в хорошую погоду или среди диорам Музея естественной истории, когда было холодно или дождь.
– Класс, – говорит Нейт.
– Этот парад – он из моего детства, – говорит Сай. – Я видел, когда впервые полетел Микки-Маус и когда пела Этель Мерман.
– Подумать только, – отвечаю я, и мы шагаем дальше.
Дети таращатся, разинув рот, на гигантские игрушки, на Бетти Буп, Лягушонка Кермита, Шрека, Супермена, а те раздуваются и оживают. Под яркими, почти как в прозекторской, прожекторами, направляемыми рабочими в тайвековых костюмах, огромные воздушные шары удерживают сетки, мешки с песком и веревки. Я не могу не заметить, что по ту сторону музея тоже надувные игрушки – невероятно длинная линия, тянущаяся на кварталы.
– Ух ты, самое крутое место в мире! – говорит Рикардо. – Спасибо.
Это волшебно, почти фантастично и грустно в хорошем смысле – очень приятно и печально почему-то. Мы гуляем, пока не наступает темнота и холод начинает пробирать до костей.
По дороге домой все засыпают в машине. Один я не сплю. Проезжая по Генри-Гудзон-парквей к Со-Милл, я вижу светящиеся глаза енота, глядящие на меня с обочины дороги. Начинается снегопад – сперва маленькие белые снежинки, потом покрупнее, размером с салфетки под лампой тети Лилиан. Я открываю окно. Снег залетает в машину, словно посыпая всех волшебным порошком.
День благодарения. Прошел год – почти целая жизнь. Накрыт стол. Эшли и Мадлен сделали рог изобилия, который рассыпает по свежевыглаженной скатерти осенние щедроты: тыквы – большие, маленькие, средние, а если присмотреться, то и ботинки переселенца, которые мы с Эшли купили в Вильямсберге, с серебряными пряжками, наполненные красными и зелеными гроздьями крупного винограда.
В День благодарения я встаю рано и раскладываю по жестянкам тесто для пирога с корочкой. Выглянув в окно кухни – поверх пня от клена, который был спилен, измельчен, растерт в мульчу и рассыпан повсюду в саду, как прах на траурной церемонии, – я вижу четырех оленей, бесшумно идущих через двор: отец, за которым следуют два олененка и их мать. Они подергивают хвостами, наклоняясь, чтобы попробовать сад. Я невольно улыбаюсь. Единственный олень, которого я видел до этого, – окровавленный труп на обочине.
Входит, шаркая, Мадлен, видит, что я что-то рассматриваю, и подходит взглянуть. Наклонившись над раковиной, сильно стучит по стеклу.
– Тут вам не магазин! – кричит она.
Отец-олень прядает ушами, задирает хвост, и семья снимается с места, поняв, что им здесь не рады.
Мадлен спрашивает, обратил ли я внимание, что Сай сидит на полу в гостиной, в пижаме, собирая поезд.
– У него счастливый вид, – говорю я.
– И он счастлив, – соглашается Мадлен. Она рада, что муж получил поезд сейчас, – думает, что до Рождества он может и не дотянуть.
– Доктор сказал, он в хорошем состоянии.
– Он уходит, – говорит она. – Потихонечку рассыпается. Но он не страдает. Всем бы нам так везло.
Дети в пижамах смотрят по телевизору парад и помогают Саю собирать поезд. У Джоша, друга Нейта, дислексия, и Нейта он называет «Йент». Нейт объясняет, что в каждой эсэмэске Джош пишет «Йент» вместо «Нейт», и это прозвище закрепилось. Мое подозрение, что они не просто друзья, аннулируется, когда Нейт приходит завтракать и сообщает мне, что Джош – не обычный студент академии: на следующий год, когда Джош станет Дженни, он переведется в женское ее отделение, чтобы академии не пришлось заниматься гендерными вопросами.
– А как вы подружились?
– Мы оба вяжем, – говорит Нейт. Потом он помогает мне засунуть двадцативосьмифунтовую ощипанную фаршированную птицу в духовку. – Я написал отцу, – говорит он. – То есть я начал письмо, но оно получилось очень длинное – восемьдесят страниц. Я дал его своему консультанту, и он сказал, что это не письмо, а мемуары, и чтобы я продолжал писать. Я не слишком молод, чтобы писать мемуары? – спрашивает он.
Правильного ответа на этот вопрос нет.
В процессе приготовления «праздничного пунша» и в поисках достаточно большого блюда для птицы я обмениваюсь эсэмэсками с Черил: я пригласил ее с семьей, но для Эда и его окружения День благодарения очень много значит. Его сестра готовит, а Черил с Эдом на той неделе удвоили запасы антикоагулянта «плавикс» и понижателя холестерина «липитор».
«И не забудь в птицу лимон сунуть перед тем, как поставишь в духовку», – пишет Черил.
«Поздно».
«Никогда не поздно, – пишет она. – И перед тем, как начнет подрумяниваться, накрой тентом из фольги и подержи последние тридцать минут. Способствует образованию корочки».
«Кто-нибудь сейчас делает тыквенный пирог из настоящей тыквы?» – спрашиваю я.
«Нет», – пишет она.
Приезжают мистер и миссис Гао и несут горячий турдакен, который зажарили у себя в ресторане и привезли прямо к нам.
– Я понятия не имею, что такое турдакен, но мне нравится, как он пахнет, – говорит Мадлен, приглашая их в дом.
– Мы тоже не знаем, – отвечает ей мистер Гао. – Увидели по телевизору, и там сказали, что это очень американское. Мы его заказали через Интернет.
Приезжают тетя и дядя Рикардо с огромной запеканкой из сладкого картофеля и маршмеллоу и с гигантской стеклянной чашей амброзии. Рикардо в качестве приветствия выдает долгую демонстрацию, чему он научился в игре на ударных.
Чинь Лан и ее родители приезжают поездом из Нью-Йорка с большими букетами цветов и «счастливыми косточками желания» для детей.
– У индейки, вы знаете, только одна, – говорит мать. – А теперь у вас будет сколько хотите и много счастья. Мы их продаем в магазине всю неделю – очень популярны.
С каждым новым гостем происходит новый тур представлений. В разгар процесса спускается Эшли, одетая в платье из «Колониального Вильямсберга» и шаль, а головной убор на ней тот, что дала София для бар-мицвы. Она все глубже проникается религией, недавно определив себя как «ортодокса». Я это воспринимаю как стадию развития, как эмоциональную тягу подростка к идентификации, дающей душевный комфорт. Надеюсь, это движение к здоровому самоощущению.
– Я хочу зажечь четверговые свечи и помолиться, – говорит она.
– Четверговых свечей не надо, – отвечаю я.
– Но тетя Лилиан и Джейсон никогда не видели, как я читаю молитвы.
– Я тебя понимаю. Но сегодня – День благодарения, этот день принадлежит нашим христианским братьям. Ты хочешь произнести застольное благословение?
– Пусть его произнесут Сай или Рикардо. Но я хочу сказать несколько слов.
– О чем?
– Я кое-что приготовила, – говорит она, возвращаясь наверх.
– Ладно.
Джейсон и Лилиан привозят с собой знаменитую жестянку с печеньем, нагруженную именно этим продуктом.
– Я научила Джейсона его печь, – гордо сообщает Лилиан.
– Вчера мы его вместе пекли, – добавляет Джейсон. – Теперь у нас сколько угодно печенья и когда захотим.
– Ты хочешь сказать, что я тебе больше не нужна? Что была нужна только ради печенья?
– Мам, я хочу сказать другое: я рад, что ты мне доверила секрет своего рецепта.
Лилиан осматривается:
– Где твоя мать? Я думала, она будет. Ждала, что мы помиримся.
– Они с Бобом празднуют где-то с друзьями.
– Не правда ли, это странно? Ты устраиваешь праздничный ужин, а твоей матери на нем нет?
Я не говорю о своей озабоченности насчет того, что могло бы быть или как я стал бы представлять Мадлен и Сая матери и Бобу. Кем бы они друг другу были? И вдруг бы началась война за территорию?
– Видишь ли, дети Боба пригласили на праздник его, но без мамы, и их чувства оказались задеты, – поясняю я. – Я, конечно, пригласил их обоих, но как сказала моя мама: «Не хочу обременять Боба сложностью нашей семьи, он и без того достаточно страдал. Минивэн увезет нас отсюда, и мы хорошо проведем время».
Перед тем как сесть за ужин, мы делаем множество снимков – групповые фотографии в гостиной. Почти у каждого фотоаппарат или телефон, поэтому снимаем по очереди, то друзей, то родственников.
– Это будет наша рождественская открытка? – спрашивает Мадлен у Сая.
– А что это за китайцы все? – слышу я, спрашивает Лилиан у Джейсона. – Я думала, он развелся? – Она садится за стол. – Или он содержит пансион? Прямо как шоу фриков – какое-то случайное собрание людей.
Я сижу во главе стола и произношу Символ веры. И думаю о Сахиле и о письме, которое он сегодня прислал: «Когда дорога сужается, тот, кто едет сзади тебя, имеет право преимущественного проезда».
Вспоминаю Джорджа с его проктитом в тюрьме и думаю, что же досталось ему на ужин в День благодарения в часе пути отсюда к северу. Думаю о Черил и ее семье. Думаю об Аманде, гадаю, в этой ли стране она сейчас, в этом ли мире. Думаю о родителях Хизер Райан, впервые проводящих этот праздник без нее, об Уолтере Пенни, вышедшем, наверное, на долгую пробежку перед ужином.
Будь здесь, говорю я себе, переводя дыхание. Будь здесь, будь здесь и сейчас.
И я снова делаю вдох – глубокий. Думаю о Лондисизве с его чаем, и хотя прошел не один месяц, меня тут же пробирает отрыжка и вспоминается вкус.
Я вижу, как беседуют за столом молодые и старые, передают тарелки с индейкой и начинкой, сладкими и вкусными, добавляют приправ. Рикардо передает мне клюквенный соус.
– Это мы с Эшли сделали, – говорит он гордо. – Лимоны выжжжжжали.
– Подливки много не бывает, – замечает Сай вслед циркулирующему судку с подливой.
Я смотрю на Нейта и Эшли и вспоминаю прошлый День благодарения, когда они сидели, свернувшись на стульях, как бескостные кучки, в руке у каждого электронный приборчик, глаза не отрываются от экрана, единственное, что двигалось, – большие пальцы рук. Вспоминаю, как смотрел на них с некоторым презрением, а они сидели неподвижно, не замечая, что мать их – рабыня в кухне, а отец разглагольствует перед гостями. А сейчас Нейт поворачивается к гостям и спрашивает:
– У всех все есть?
И Эшли спрашивает Лилиан:
– Еще что-нибудь?
В гостиной включен телевизор – идет фильм «Могучий Джо Янг», я прошу Нейта его выключить, и Нейт выключает. Я оцениваю ситуацию, мне нравится, что я могу действительно испытывать от этого удовольствие. На самом деле я даже ничего другого сейчас не могу испытывать, кроме благодушия – свободное парение доброй воли.
Это – День благодарения, и я не боюсь, что прилетит второй сапог. Я даже вообще без сапог сейчас. Заметно отчетливое отсутствие напряжения, беспокойства, которое иногда взрывается, выхлестывает или еще как-нибудь находит выход. Отмечаю отсутствие беспокойства и ощущение, что в прошлом отсутствие тревоги вызвало бы у меня панику, а сейчас я это просто замечаю и отпускаю – живу дальше.
Я смотрю на стол, думая обо всех, кого я знал в течение жизни, все «здравствуйте» и «до свидания» проходят сейчас через меня осенним ветерком. Я – пористый, несплошной.
– Молитву? – предлагает Сай.
Мы склоняем головы.
– Итадакимасу, – говорит Нейт по-японски. – Я смиренно принимаю.
– Отче наш, за день этот и за пищу эту благодарим мы Тебя, – подхватывает тетка Рикардо.
– Моя очередь! – восклицает Эшли еще до того, как тетка договаривает. – В общем, это как-то с бухты-барахты, – говорит она. – Но я этим летом прочла одну книгу и хочу ею с вами поделиться.
И она читает с распечатанной страницы:
Я думаю не о горе, а о том чудесном, что существует помимо него. Иди в поле, на волю, на солнце, иди на волю, пытайся найти счастье в себе, в Боге. Думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя, и будь счастлив.
– Очень мило, – говорит Сай. – Это был Уитмен? Лонгфелло?
– Анна Франк, – отвечает Эшли.
Сай ждет секунду, потом поднимает стакан.
– Ну, я хочу сказать вам спасибо. Всем вам. Это был отличный год и для меня, и для Мадлен, потому что мы вернулись в свой прежний дом. Понятия не имею, почему мы вообще отсюда уезжали. Урра!
Мадлен наклоняется и шепчет Саю громко:
– День благодарения – праздник американский, а не еврейский.
Лилиан перегибается и, показывая на Мадлен и Сая, спрашивает Джейсона:
– Это чьи?
– Не знаю, – пожимает плечами Джейсон.
– Я не знала, что родители у Клер – белые, – говорит Лилиан.
– Может, Клер у них приемная дочь, – высказывает предположение Джейсон.
– А где, кстати, Клер? – спрашивает Лилиан. – Я думала, что убили Джейн. Так и Клер что, тоже?
Мы едим, празднуем, набиваем животы, жадно поглощаем пищу. Тарелки передаются за второй и третьей порцией. Амброзия тети Кристины вызывает желание есть ее еще и еще, и после третьей порции Кристина мне говорит, что тайный ингредиент – жирный майонез. Я пропускаю четвертую порцию и накладываю себе индейку. Мы едим, пока не насыщаемся, и потом еще едим, пока не становится больно, пока из ушей не лезет, потому что такова американская традиция.
– Я сладкий картофель вообще не люблю, а две порции съела, – говорит Эшли, с трудом выталкиваясь из-за стола.
– Птица была идеальная, – хвалит Мадлен.
Мы делаем перерыв перед десертом. Дети дружно, командой убирают со стола.
Миссис Гао, Чинь Лан и ее мать настоятельно просят разрешения помочь. Миссис Гао приносит контейнеры для продуктов.
– Это мой вам подарок, – говорит она. – Мне они нравятся: они будто рыгают, когда их закрываешь.
Я так набил брюхо, что буквально не могу дойти дальше дивана в гостиной. Там я лежу, думая о Джордже, который ест сейчас прессованную грудку индейки, клюквенный мармелад, хранящий кольцеобразные следы от банки, комковатую подливку и глютеновый белый хлеб, и гадаю: есть ли в тюрьме тыквенный пирог? Если есть, то имеет ли он какой-нибудь вкус?
Дети вышли на улицу, играют в футбол на газоне с дядей Рикардо и Саем. Оттуда доносятся радостные крики, когда мяч переходит из рук в руки.
Слышен разговор о раннем снеге и ледяном дожде.
Прошло триста шестьдесят пять дней после предупреждения, триста шестьдесят пять дней после того, как Джейн прижалась ко мне в кухне, мои пальцы глубоко внутри птицы, и наш влажный, жирный поцелуй.
Целый год прошел, но все равно меня наполняет жаром мысль о Джейн. Чувствую, как у меня поднимается из-за этого.
Да будем мы прощены – это молитва, это заклинание.
Да будем мы прощены.
Примечания
1
Перевод А. Розентретер.
(обратно)2
«Помимо мира» – имеется в виду мир как антоним войны. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)3
Неудачник (ивр.).
(обратно)4
По Фаренгейту, примерно 1 °C.
(обратно)5
Понимаете? (ит.)
(обратно)6
«Автобан», «Катапульта», «Ураган» (нем.).
(обратно)7
«Детская карусель», «Красный барон» (нем.).
(обратно)8
Уильям Фрэнк Бакли (1925–2008) – американский писатель и политический обозреватель.
(обратно)9
Вероятно, имеется в виду «эсхатологический» – то есть связанный с представлениями о конце света.
(обратно)10
По Фаренгейту, примерно 32 С.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






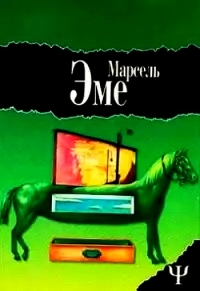
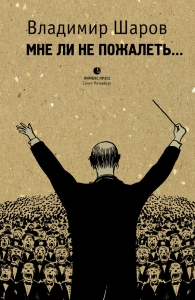


Комментарии к книге «Да будем мы прощены», Э. М. Хоумс
Всего 0 комментариев