Шань Са
Конспираторы
I
Ровно в пятнадцать часов консьержка дома № 21 на площади Эдмона Ростана распахивает тяжелую дверь подъезда. Стоя в холле, Джонатан смотрит, как два грузчика вытаскивают из фургона холодильник. Португалку Розу обаяние нового жильца явно не оставило равнодушной.
— Дом у нас тихий, — говорит она ему. — На втором этаже мсье Мартен с супругой, они оба адвокаты. На третьем мадам Тизон, домовладелица. Сама она все больше живет за городом, а здесь ее племянники иногда бывают. Прямо над вами, на пятом, квартиру купили американцы, муж и жена. Раз в два месяца наезжают в Париж. Сразу узнаете, когда они здесь: мадам играет на пианино, но не поздно вечером, Боже упаси…
Шорох, щелчок в глубине холла. Джонатан оборачивается. Раздвигаются автоматические двери лифта, и появляется молодая женщина азиатского типа в черном пальто. Длинные, такие же черные волосы лежат на плечах. Она совсем не похожа на свои снимки, фотографы запечатлевали ее улыбающейся, в романтических позах. Лицо словно высечено из льда. Жесткие черты. Тонкий нос не по-женски горделив. Вся в черном, единственный цветной мазок — накрашенные ярко-красной помадой губы.
Лифт открыт, но она стоит, не выходит. Обводит глазами холл, останавливает взгляд на Джонатане.
Джонатан все понимает: конечно, его загорелое лицо, светлые волосы, рост метр девяносто и внушительный американский холодильник заслуживают пристального внимания женщины, особенно если ей досталось от мужчин. Он отступает на шаг, дает пройти консьержке.
— Добрый день, мадам.
— Добрый день, Роза.
Успокоившись при виде знакомого лица, молодая женщина выходит из лифта.
— Познакомьтесь, это мсье Джулиан, он теперь будет жить на четвертом этаже.
— Счастлив быть вашим соседом.
Джонатан улыбается ей самой неотразимой из своих улыбок.
— Удачи, — холодно бросает она в ответ. — Всего доброго, Роза.
Джонатан ждет, пока она выйдет за дверь, и только после этого говорит:
— Какая очаровательная соседка. Откуда она?
— Китаянка. Ее квартира на шестом, поменьше вашей, зато с великолепным видом на Париж. Она живет здесь уже четыре года. Преподает боевые искусства в Люксембургском саду. Да-да, она владеет кунг-фу, как Брюс Ли.
— Преподаватель боевых искусств! Надо быть с ней повежливее!
— Мадам Аямэй вам не кто-нибудь, — бросается Роза на защиту жилицы. — Она важная особа! Ее не раз показывали по телевизору в новостях. А сколько французских политиков она знает лично! — Консьержка понижает голос. — На днях я видела, как она шла по Люксембургскому саду с председателем Сената, ей-ей!
— Обещаю относиться к ней со всем уважением, которого она заслуживает.
— Вам, мсье, повезло, будете жить у Люксембургского сада. Ко мне частенько звонят, спрашивают, не сдается ли квартира. Вы ж понимаете, по такому адресу кто поселился, уже не съедет. Вам здесь будет хорошо. Если что-нибудь понадобится — не стесняйтесь, зовите меня.
— Спасибо, Роза. Я наверняка вас еще побеспокою. Всего доброго!
* * *
Джонатан стоит у окна, и Люксембургский сад для него — большая театральная сцена. Кроны акаций, ясеней и дубов вырисовываются на размалеванном серо-голубыми разводами фоне неба. Мягкий свет озаряет статуи центральной аллеи, играет на крыше Сената, усиливает эффект перспективы, как гимн во славу богатства природы и мастерства человека. У подножия фонтана Медичи струит воду Нептун. Тропинка вьется между деревьев, и Джонатан видит проходящих и пробегающих трусцой людей. Парочка влюбленных останавливается, чтобы поцеловаться. За ними зеленые скамьи и неподвижные силуэты с газетами кажутся нарисованными на картоне; можно даже различить среди кустов профиль полицейского. Дальше, на заднике декорации, несколько дорожек сходятся у водоема. Белые параллельные черточки изображают мерцание воды, темные кляксы — чаек и лодочки. А еще дальше парит в дымке купол Обсерватории, затягивая взгляд в рукотворную бесконечность.
Где же реальность? Джонатан знает, как легко создать иллюзорный мир. Раз-два — нарисовали горизонт, посадили деревья, прочертили улицы. На перекрестке виднеется фигура постового — стало быть, там поток машин, неумолчный гомон современного города. Несколько светящихся точек на фасаде — и понятно, что там, внутри, жизнь, течение будней, мерное тиканье проходящего времени.
Семь часов утра. Из окна на четвертом этаже скрытый за тюлевой занавеской Джонатан изучает Люксембургский сад сосредоточенно, как медицинский эксперт вскрытый труп. Окуляры его бинокля, пошарив по желтовато-зеленой листве, по синевато-зеленым газонам, по ногам бегунов и головам гуляющих, замирают.
На середине сцены, под старым каштаном, он видит женщину. Она исполняет танец с мечом в руке. Клинок сверкает. Ее движения неспешны и плавны. Она интригует публику.
Медленно, уверенно скользит клинок, вычерчивает в воздухе тайные письмена. Актриса подается вперед, отступает назад, поворачивается, сгибает колени, стоит на одной ноге, высоко подняв другую. Внезапно движения ее ускоряются, и вот уже не один, а множество мечей в ее руке. Слова, которые она пишет, рассыпаются снопами искр.
Джонатан вспоминает переданные ему сведения. Нигде не говорилось, что она владеет боевыми искусствами. Почему люди, под лупой рассматривавшие ее жизнь, не удосужились выяснить, что она делает в Люксембургском саду? Теперь-то поздно подавать рапорт по поводу этого упущения. Их сила в сознании своей правоты, когда они не правы. «Не хотели, чтобы ты отвлекался на ненужные подробности», — скажут ему.
Она из Пекина. Ее прошлое уместилось на десяти отпечатанных страницах. Джонатан и еще несколько посвященных в тайны мира сего их читали. Она родилась 23 декабря 1968-го, в шесть часов утра, в больнице Хай Диань на западе Пекина. Сколь мучительны были роды, сколь велика радость родителей, чьи лица запечатлелись на сетчатке ее впервые открывшихся глаз? Чьи разговоры, какие слова уловили ее уши? В какой цвет окрасила небо первая в ее жизни заря? Какие запечатлеваются звуки, запахи, трепетанья, какие надежды и разочарования, когда жизнь открывает нам свой лик? Эти подробности остались неизвестными. Они похожи на мыльные пузыри, и удел их мимолетной красы — забвение, единственный зритель этого постоянно меняющегося мира. Только даты, факты, там и сям услышанные, а то и додуманные слова имеют значение, когда составляется досье на ту или иную жизнь. 1968 год, в Китае, где солнце заходит в тот час, когда восходит в Европе, свирепствует «культурная революция». Родители Аямэй, преподаватели университета, не раз прошли через лагеря перевоспитания, а их единственная дочь оставалась на попечении бабушки со стороны отца. В шесть лет девочка пошла в школу имени Красного Востока, ныне снесенную — на ее месте построен большой торговый центр. В официозно-сухой биографии нет ни строчки о формировании ее тела, о становлении чувств, о постижении дисциплины и первых опытах разума. В мире разведданных также не принято упоминать об одежде. Но Джонатан догадывается, что она, скорее всего, под революционным влиянием советского соседа, носила форму юных пионеров-ленинцев: белую рубашку, синие брюки и алый галстук, все хлопковое, потому что шелка в стране, над которой нависла угроза голода, не стало. Зато он понятия не имеет, какие виды спорта любила девочка, что она ела каждый день. Не способен он также воспроизвести ее радостный смех и ее рыдания. Не может с уверенностью сказать, читала ли она народные сказки, снились ли ей спокойными ночами поющие деревья, птицы в масках и страна изобилия и беззаботности, которой правит владыка-кот.
У него есть только дата: 9 сентября 1976-го. Аямэй перешла во второй класс. Скончался председатель Мао. Закончилась «культурная революция».
Агент, которому удалось в тот год пробраться в Пекин, оставил рапорт, позволивший Джонатану тридцать лет спустя увидеть свой объект в интересном ракурсе. В начале ноября, рассказывает он, когда задул студеный ветер из Сибири, город охватила лихорадочная суета, словно жители готовились к осаде. Мужчины и женщины передавали из рук в руки кочаны капусты, которую профсоюзы распределяли по предприятиям. Их складывали в погребах, на крышах, на лестничных площадках и балконах. В считанные дни весь город был завален капустой — единственным запасом продовольствия на долгую суровую зиму. Благодаря этой записи Джонатан явственно представляет себе маленькую девочку, с трудом бредущую против ветра с огромными кочанами в руках. Он видит в ее глазах хрустально-прозрачное небо, замерзшие озера, неподвижные пагоды и выбеленную дыханием севера землю. Аямэй, пухлый шарик в стеганой куртке и штанах на вате, не спасовала перед тяготами жизни и выросла.
1980–1986, лицей Восходящего Солнца. Она хорошо учится. Шесть лет как один день. Ни одного события не отмечено. Это всего лишь вопрос бюджета. Руководители экономят средства, потому исполнители и не усердствовали. Джонатан знает, что в стране за эти шесть лет произошли большие перемены. Появились товары в продуктовых магазинах, расцвел мелкий бизнес. Менее строгой стала нравственная цензура. За несколько монеток школьницы могли купить «пиратские» фотографии звезд и робко пытались копировать их прически. Джонатан полагает, что Аямэй прилежно училась, невзирая на бушевавшие вокруг бури: еще бы, целый народ пробудился благодаря смягчению режима. Конечно, прилежно, потому что летом 1986 года она прошла нешуточный конкурс: более ста миллионов подростков со всей страны стремились войти в тесные двери университетов. Она — «одна на сто миллионов» — поступила в Пекинский университет, престижное учебное заведение, золотой поезд к позлащенному будущему.
Реформы восьмидесятых окончились тупиком на площади Тяньаньмынь. Весна 1989 года, Аямэй, студентка третьего курса юридического факультета, становится лидером студенческого движения. Почему именно она? Почему после десяти лет усердной учебы и жесткой конкуренции она вдруг рискует своим будущим? С какой стати этот бунт — ведь она избранница системы. Что она такое увидела, что услышала, сколько тайных собраний, подпольных диспутов посетила? Эти подробности, похоже, никому не интересны. Объяснения нет.
Но Аямэй вышла из тени на свет. Она стала народной героиней. На этом этапе в ее досье появляется много фотографий. Все они взяты из международной прессы. Еще раз Джонатан снимает шляпу перед исполнителями — это ведь надо уметь сделать отличную работу, не слишком напрягаясь.
Аямэй с мегафоном в руке обращается к толпе студентов; Аямэй за столом переговоров с какой-то коммунистической шишкой, голова вскинута, лицо замкнуто. Джонатану, недолго думая, подсунули даже снимок, который обошел весь мир: площадь Тяньаньмынь, тысячи студентов, объявивших голодовку, дрожат под проливным дождем. В центре потоки воды струятся по памятной стеле Героям свободы. На ступеньках, на пластиковых пакетах сидит молодая девушка — в левой руке зонтик, в правой сигарета. Дым, поднимаясь колечками, заволакивает ее улыбку, безнадежную и восторженную одновременно. Черные глаза устремлены вдаль, откуда — так и видишь это — надвигаются танки и грузовики с солдатами. В двадцать один год Аямэй стала легендой.
Об этом периоде у Джонатана море информации. В ночь на 4 июня армия пошла на штурм, и Аямэй бежала с Тяньаньмынь. С утра 5-го ее имя стоит первым в распространенном правительством списке объявленных в розыск. По всему Китаю развешены ее фотографии. Воинские подразделения устремляются по: ее следам. На Западе ее считают погибшей. Два года спустя она, бросившись в Южно-Китайское море, добирается вплавь до Гонконга. Еще два года — и мир теряет интерес к событиям на Тяньаньмынь. На первый план, при поддержке Голливуда, выходит Тибет. Париж любезно принимает беглянку как гостью. Аямэй учит французский, заканчивает магистратуру и защищает диссертацию по социологии на политологическом факультете. Ее новая жизнь течет спокойно. Она редко дает интервью, отказывается от предложений издателей. На протяжении двух лет возглавляет Ассоциацию борьбы за демократию в Китае, затем распускает ее из-за отсутствия финансирования. Однако политическую деятельность не оставляет. В 1996-м она создает Общество друзей демократии в Китае, организацию на добровольных началах, которая устраивает встречи, диспуты, конференции.
Как может она бросать вызов Китаю, который пролил бальзам на ее не зажившую после Тяньаньмынь рану, похоронив разом студентов, мечту о демократии и коммунистические идеалы? Девяностые годы, экономический взрыв. В Пекине снесены советские здания и как на дрожжах выросли небоскребы. Шанхай претендует на звание первой финансовой столицы Азии. Гуандун заполоняют иностранные предприятия. За океаном, в США, ее друзья, бывшие лидеры студенческого движения, стали программистами, менеджерами, преподавателями и священниками. Все ищут новую веру. Героев Тяньаньмынь смыла волна Истории, а нынешнее время, равнодушное к боли отдельного человека, течет все быстрее.
2005 год, Аямэй тридцать семь лет. Друга у нее нет, детей нет, постоянной работы тоже. Для европейцев ее жизнь еще не начиналась. Для китайцев ее имя уже звучит как отголосок доисторических времен.
Долгий звонок в дверь гулко разносится по квартире. Джонатан идет открывать.
— Добрый день, мсье. Кровать заказывали?
— Совершенно верно, — улыбается он. — Входите.
* * *
Вскрывались письма и просматривались счета. Засекалось точное время ухода и прихода. Было поэтажно захронометрировано движение лифта. Прослежен путь объекта до метро, изучены его привычки, проанализированы настроения. Разработаны планы А, В и С. Джонатан готов форсировать случай.
20 февраля на улице Медичи они впервые здороваются. На скользнувший по нему равнодушный взгляд политической беженки он отвечает отработанной до совершенства растяжкой губ, верхней и нижней, открывающих в широкой улыбке белоснежные зубы.
21 февраля, встретив его у подъезда, она спрашивает, как он устроился. Он тоже задает вопрос: откуда она? Несколько секунд их глаза не отрываются друг от друга. Она хочет понять, что ему нужно. Он силится угадать, что у нее на уме.
23 февраля, в семь часов двадцать шесть минут, они вместе пересекают улицу Медичи и входят в Люксембургский сад.
В субботу в четыре часа пополудни он незаметно проследовал за ней до книжного магазина «Ла-Прокюр». Она прохаживается между стеллажами. Он внезапно появляется перед ней. Удивившись, она ставит на место роман, который держала в руке. Он успевает украдкой взглянуть на обложку: Джон Ле Карре. Он читал все его книги. Она говорит, что прочла только половину этого романа. Он вкратце пересказывает ей вторую. Теплым, обволакивающим голосом. Внимательно выслушав его, она снова берет книгу с полки и направляется с ней к кассе. Он идет рядом, продолжая говорить. Она забывает, куда шла. Кассирша нервничает. Он успокаивает ее своей пленительной улыбкой и расплачивается. Аямэй хочет отдать ему деньги. Он отказывается. Она настаивает. Они уже у дверей магазина, на них оборачиваются прохожие. «Пригласите меня что-нибудь выпить», — говорит он.
На улице сияет солнце. Париж оттаивает, парижане расстегиваются. На террасе «Кафе-де-ла-Мэри» девушки изощряются, привлекая внимание уличных ловеласов, которые только того и ждут. Джонатан решает не предлагать ей куда-нибудь зайти сразу, хоть и догадывается, что она свободна. Площадь Сен-Сюльпис, каменные львы плюются струями воды. Голуби клюют крошки. Бежит за мячиком собака. Он останавливается у фонтана и улыбается. Говорит: «До свидания, Аямэй», проникновенным голосом — а она, кажется, не прочь продолжить разговор. Они кивают друг другу и расходятся в разные стороны.
1 марта он поздно возвращается с работы и сталкивается с ней у лифта. Днем было на редкость жарко. Вечер тоже теплый. Аямэй накрашена. Ее глаза на фоне теней кажутся еще более раскосыми. Ярко-алая помада на губах подчеркивает рельеф лица, придавая ему таинственность. Ее волосы заплетены в длинную косу, в ушах покачиваются хрустальные серьги. Они здороваются. Окинув ее взглядом, он замечает изящные туфельки на шпильках. Она идет к двери, он к лифту. Эхо их шагов, отражаясь от стен, звучит дуэтом низких и высоких нот. Он оборачивается. Она тоже. И как будто улыбается, перед тем как шагнуть за порог. Чуть приподнимается пола ее пальто, край пурпурной юбки тает в ночи.
2 марта он встречает ее у мусорных баков. Спрашивает, где вход в подвал. Она достает ключ и отпирает дверцу, скрытую за Розиными растениями в горшках. Они вместе спускаются по винтовой лестнице. В первом подвале массивные каменные опоры и развешенное на натянутой между ними веревке консьержкино белье могли бы послужить идеальной декорацией к «Отверженным». Во втором — просто длинный коридор, со стен свисает паутина.
— В конце коридора есть комнатка без двери и без освещения. Я думаю, она ваша. Хотите посмотреть?
— Нет.
Она вскидывает на него глаза:
— А дверь рядом ведет в подвал соседнего дома.
— Неужели? — притворно удивляется Джонатан.
5 марта на рассвете Джонатану снится сон: будто он играет в пьесе, действие которой происходит в подвале. Он на сцене, поворачивает выключатель, и загорается желтая лампочка. Под шерстяным одеялом на тюфяке лежит, свернувшись клубочком, Аямэй. Она кашляет. На ее исхудавшее тело, грязные косы и перепачканное чем-то черным лицо больно смотреть. Она протягивает к нему руки:
— Где ты был? Я так долго тебя ждала!
Он отступает на шаг, чувствуя, как набухает где-то в животе горячий ком. Проталкивает его выше, в грудную клетку, незаметно вдыхая. Наполнив кислородом легкие, произносит проникновенным и чувственным голосом:
— Война началась. Я должен идти на фронт.
— Не покидай меня! — рыдает она.
Он безутешен, в отчаянии — это игра, — он делает три шага вперед, склоняется над ней, будто хочет поцеловать. Однако, удержавшись, выпрямляется. Его голос тверд, но взгляд скорбен.
— Прости меня. Я должен идти. Я солдат!
Она бросается к нему:
— Не оставляй меня одну в этом подземелье!
Он пятится, и она падает к его ногам. Словно испуганный собственной жестокостью, он закрывает лицо руками, круто поворачивается и бежит прочь. Вспыхивает прожектор. Солнце. Незнакомая улица. Ослепнув от света, Джонатан уже не помнит, где здесь реальность, а где игра воображения. Он понимает, что им с Аямэй отныне суждено жить в параллельных мирах и никогда больше они не встретятся.
Он просыпается.
Люксембургский сад окутан пеленой мелкого дождя. Джонатан бежит. Статуи королев, улыбки мраморных поэтов отпечатываются на сетчатке его глаз. Мимо пробегает, высоко вскидывая ноги, брюнетка, следом ядовито-зеленая майка, пара мускулистых икр, три собаки хаски, привязанные к поясу мужчины, и еще много живой и подвижной энергии. Все рысят вдоль решетки сада по кругу против часовой стрелки. Все, кроме него.
Вдали видны ученики Аямэй, они одеваются и начинают расходиться. Джонатан смотрит на часы: три минуты десятого. Аямэй закончила первый урок. Он замедляет бег и приступает к плану А.
— Доброе утро!
— Доброе утро! Что-то вы сегодня бежали как угорелый.
— Меня ночью замучил кошмар. Угадайте, что мне снилось? Подвал дома двадцать один…
Подошедший молодой китаец не дает ему договорить. Аямэй знакомит их.
— Джонатан, это Линь, мой ученик. Линь, познакомься, мой сосед Джонатан.
Китаец одного с ним роста. Он одет в черную майку и щеголяет — ни дать ни взять, актер из фильмов о кунг-фу — накачанными бицепсами.
— Здравствуйте.
Джонатан протягивает руку. Парень, метнув на него недобрый взгляд, руки не подает.
— Линь приехал из Китая всего год назад, он у нас дикарь. Вы позволите? — вмешивается Аямэй. — Я скажу ему два слова по-китайски.
Она отводит ученика в сторонку, и голос ее вдруг меняется. Ее китайский звучит по-мужски властно.
— Работай над французским. Ты ни на шаг не продвинулся за месяц. Так нельзя.
Она достает из сумки какую-то книгу и сует ему в руку. Джонатан слышит недовольное бурчание парня:
— Кто он такой?
— Не лезь в мои дела! — осаживает она его.
— Что ему от тебя нужно?
— Работай над французским. До вторника.
Аямэй возвращается к Джонатану; он ждет ее, у него уже готов вопрос, чтобы завязать разговор:
— И давно вы занимаетесь боевыми искусствами?
— Я начала поздно, в двадцать два года.
Джонатан мысленно подсчитывает. Двадцать два года, тогда она была в бегах, где-то в Китае, скрывалась от военных, гнавшихся за ней по пятам. Кто-то обучил ее боевым искусствам, чтобы она могла защищаться.
— Во Франции?
— Нет, в Китае, — отвечает она лаконично.
— Встреча с учителем?
— Это долгая история. Когда-нибудь я вам расскажу.
Она умеет уходить от ответа.
Джонатан предпринимает еще одну попытку. Ему необходимо войти к ней в доверие, а для этого она должна открыться ему.
— Почему вы приехали во Францию?
— Французы обожают задавать этот вопрос, — хмыкает она. — Вы не находите естественным, что Франция, страна красоты и высокой культуры, привлекает иностранцев? Если бы вы жили в Китае, ни один китаец не спросил бы вас, почему вы выбрали эту страну.
Джонатан восхищен этим расплывчатым ответом: есть о чем поговорить и ничего не сказано по сути. Аямэй права, не желая раскрываться перед первым встречным. Ее боль никто не поймет и не разделит. Если женщина не хочет жалости, значит, она горда. Он решает польстить ей:
— Вы правы. Китай — это целый континент, и он верит в свое будущее. А Франция крошечная, клочок земли в центре Европы. Можно понять, что французов мучат комплексы и еще сильнее — страхи. Я неправильно сформулировал вопрос. Мне хотелось знать, как у китаянки достало мужества поселиться вдали от своей великой цивилизации. Почему вы выбрали нашу маленькую страну?
Она улыбается:
— Из нас двоих иностранец — вы. Когда я впервые вас увидела, вы были в одной рубашке, с засученными рукавами, а французы еще кутались в пальто. В Париже в это время года мужчины и женщины бледны, а у вас смуглый цвет лица и выгоревшие на солнце волосы. Вы не измотаны общественным транспортом и не выглядите усталым после долгой зимы. У вас совсем другая повадка и вид человека, приехавшего издалека. Скажите сначала вы, кто вы такой, откуда и почему во Франции?
Джонатан от души смеется. Ни разу она не ответила так, как ему хотелось бы. Ее норов забавляет его. Не каждый день встретишь бунтарку с Тяньаньмынь.
— Должен ли я счесть ваш допрос за комплимент?
Они остановились перед светофором на улице Медичи. Вздернув подбородок, Аямэй бросает на него вызывающий взгляд:
— Не сочтите его за оскорбление. Я сама иностранка. Иностранца всегда узнаю.
Загорается зеленый свет для пешеходов.
Он шагает на мостовую молча. Рассказать свою жизнь — значит сдать позиции. И мужчинам, и женщинам присуща от природы эта слабость. Один удачно поставленный вопрос — и они готовы исповедоваться кому попало. Джонатан частенько «раскалывает» случайных знакомцев — просто чтобы не терять форму. Фокус всегда удается, и он счастлив, чувствуя свое превосходство. Но Аямэй не из этой категории. Ее рана определенно очень глубока, хотя по виду не скажешь. Как ни заманчиво, вряд ли получится с ходу вытянуть из нее историю, которую Джонатан уже знает. Что ж, раз она не хочет о себе рассказывать — он расскажет ей о себе.
— Угадали, — говорит он. — Вы молодец.
Золотое правило разговора: всегда давать собеседнику понять, что он умнее. Джонатан подмечает дрогнувшие в улыбке уголки губ китаянки.
— Я приехал из краев, которые вы, наверное, знаете, — из Гонконга. Жил там десять лет. Когда вернулся в Париж, то думал, что поставил крест на Китае, и надо же — моей соседкой оказывается китаянка. Занятно, не правда ли? А вы бывали в Гонконге?
Джонатан надеется, что Аямэй поддержит разговор об острове, до которого добралась вплавь в августе 1991 года, но она будто не слышит и спрашивает:
— Чем вы занимаетесь?
Он протестует:
— Это уже какой-то допрос.
— Без детектора лжи и без пыток. Можете солгать.
— У вас пессимистический взгляд на людей. Отчего?
Она улыбается и произносит нараспев:
— Что ж, вся жизнь есть ложь, как сказал поэт.
— В таком случае, если я лгу, это истинная правда, — парирует Джонатан, открывая дверь подъезда. Его голос эхом разносится в холле: — Я инженер в компании «Хэвенс», авеню Гранд-Арме, двести сорок. Наша фирма занимается программным обеспечением. Мы на первом месте во Франции и на третьем в Европе. Если хотите проверить, позвоните ноль — восемьсот один — восемьсот два — ноль три. Можете также зайти на сайт компании в Интернете . Вы найдете там мою фотографию и даже дату рождения. — Не дожидаясь ее комментариев, Джонатан сам переходит в наступление: — А вы? Чем занимаетесь вы?
— У меня в общем-то нет профессии, — беспечно бросает она. — Так, перебиваюсь, даю уроки китайского детям и обучаю боевым искусствам взрослых.
— Нет профессии? Я вам не верю, судя по вашему виду, вы должны заниматься серьезным делом. — И Джонатан добавляет развязным тоном: — Почему бы не шпионажем в пользу Китая?
Вся подобравшись, она быстро отвечает:
— Иностранцы всегда возбуждают подозрения. Зачем оставлять привычную жизнь и рисковать, устремляясь в другую, где все чуждо и незнакомо? Чего они ищут, что им понадобилось во Франции? Я правильно поняла вашу мысль?
Джонатан доволен: ему удалось рассердить ее.
— В вас столько очарования, — оправдывается он.
Она отвечает холодно:
— Спасибо за комплимент.
Двери лифта медленно раздвигаются и закрываются вновь. Тесная кабина наполняется ледяной сыростью Люксембургского сада, пропитавшей их одежду. Прислонившись к зеркалу, чтобы не соприкасаться с Джонатаном, Аямэй смотрит в пол. Его ноздри вдруг ощущают манящий запах женщины. С высоты своих метра девяноста он заново открывает черты, поначалу казавшиеся ему чересчур жесткими. Его больше не смущает ее орлиный нос. Наоборот, он словно одухотворяет густые брови, полные губы, глаза в обрамлении черных ресниц: вокруг этого горделиво изогнутого выступа черты лица выглядят на редкость чувственно.
Поверх ее головы Джонатан бросает взгляд на собственное отражение в зеркале. Коротко стриженные светлые вьющиеся волосы, щеки, подернутые утренней щетиной, голубые мечтательные глаза. Он сам себе улыбается. Кто устоит перед этой улыбкой — невинной, восторженной и победной?
— Отгадайте загадку, если вы такая умная, — говорит он, точно высчитав, сколько времени осталось до его этажа.
Она вскидывает голову. Под неоновым светом он читает морщинки и крошечные трещинки на ее губах, словно карту мира. Лифт, вздрогнув, останавливается. На панели горит цифра 4, металлические двери начинают раздвигаться. Джонатан придерживает их рукой. И загадывает свою загадку, пристально глядя объекту прямо в глаза:
— Супруги-американцы усыновили ребенка из сиротского приюта в предместье Парижа и увезли его в Калифорнию. Кем он, по-вашему, будет?
— Французом в Америке и американцем в Париже, — невозмутимо отвечает она.
— Браво! Вы заслужили континентальный завтрак.
Она как будто колеблется.
— Соглашайтесь. Вам же до смерти хочется меня разоблачить.
Поворачивается ключ в замке.
Дверь открывается перед ним.
Дверь захлопывается за ней.
* * *
Аямэй направляется прямо к окну.
— В первый раз я вижу его с этой высоты, над самыми деревьями. — Она закрывает глаза. — Здесь сразу погружаешься в листву — и в бесконечность. Он великолепен, ваш Люксембургский сад, настоящий лес!
— Спасибо, — с гордостью отвечает Джонатан.
Открыв глаза, она с восхищением всматривается в сад.
— Вон фонтан Медичи… А этот каштан видите? Там я даю уроки каждое утро.
— Я знаю. Я купил бинокль, чтобы наблюдать за птицами. И увидел вас. Вот, посмотрите.
— Надеюсь, я вас не разочаровала.
— Вы меня заворожили! Стоит вам поднять меч, вы превращаетесь в змею, пантеру, орлицу. В существо звериной породы — гибкое, легкое, опасное.
— Умеете вы льстить, — бросает она, не отрывая глаз от бинокля.
— Лжец, льстец — неужто мужчина так гнусен?
Она возвращает ему бинокль, смотрит пристально, улыбается.
— А как по-вашему? Что вы думаете о мужчинах?
Он уходит от ответа:
— Поговорим лучше о вас. Чем больше вы молчите, тем больше себя выдаете. У вас есть своя история, есть прошлое. От вас веет чем-то необычным.
— Я… шпионка.
— Действительно. Я и забыл.
Ничего не поделаешь, она хорошо защищается. Надо пересматривать тактику, и Джонатан меняет тему:
— Пойдемте, я покажу вам квартиру… Здесь моя спальня.
— В нашем доме отлично работают камины. Я дам вам телефон трубочиста.
— У меня здесь три камина, я хочу затопить их как можно скорее… А это что-то вроде кладовки. Пока здесь жуткий кавардак. Я устрою в ней библиотеку. Видите Эйфелеву башню?
— Скоро распустятся листья на каштанах, и вам ее не будет видно. Придется подниматься ко мне.
— Неужели надо так долго ждать? Я имею в виду, чтобы посмотреть на вашу Эйфелеву башню?
Она отводит глаза.
— Это вы? Можно?
Она смотрит на стопку фотографий, которые Джонатан оставил на письменном столе, готовясь к этому «визиту экспромтом». Он стоит во весь рост на доске для серфинга — бронзовый торс, стальные мускулы, — скользя по длинному гребню волны.
— Это прошлым летом на Бали.
— Как красиво!
— Спасибо.
— У вас очень красивое тело, — уточняет она.
— Спасибо!
— Кто же вы — неутомимый путешественник или серфингист в погоне за большими волнами?
— Ни то ни другое, — вздыхает он. — Путешествовать мне приходится время от времени по делам фирмы и очень редко — для собственного удовольствия. Раз в год я беру две недели отпуска, чтобы заниматься исключительно спортом. Физические усилия — лучший отдых для меня. Вот, смотрите, этим летом я был в Непале. Энергия Гималаев — это нечто необычайное, мощный световой луч, который земля посылает к небу.
Джонатан протягивает ей снимок: он карабкается на ледник.
— Серфинг, альпинизм, вы ищете равновесия в неуравновешенности, полноты жизни в вечном вызове.
Смешавшись от ее комментария, Джонатан жалеет, что показал фотографии, приоткрывшие его истинное лицо.
Он не дает Аямэй договорить и увлекает ее в кухню.
— Идите сюда, здесь мне нравится больше всего.
— Должна заметить, кухня и оборудована лучше всего в вашей квартире.
— Цивилизация шагнула вперед. Раньше кухни — тесные, темные, закопченные — были уделом прислуги и домохозяек. А теперь? Просторные, комфортабельные, светлые, просто санаторий для занятых мужчин.
Джонатан усаживает Аямэй за стеклянный столик и спрашивает:
— Чаю или кофе?
— Чаю, если можно.
Он наливает воду в чайник и говорит ей не оборачиваясь:
— Вы ошиблись, я вовсе не канатоходец. — Его голос звучит убедительно. — Просто этот спорт сближает меня с природой. Природа подпитывает меня энергией, это помогает справляться с неурядицами в повседневной жизни. «Эрл Грей»? Зеленый?
— Зеленый, конечно, я же из Китая. Я вам не верю. Что-то в ваших глазах говорит мне, что вы любите риск и авантюры.
Эта женщина умна, опасно умна, но и Джонатану палец в рот не клади, особенно когда его выведут из равновесия. Он смеется и, повернувшись на каблуках, смотрит ей прямо в глаза.
— Аямэй, это боевые искусства научили вас защищаться, атакуя? Вы ничего не говорите о себе, а обо мне хотите знать все. Вы что, боитесь меня?
Она выдерживает его взгляд:
— Да. Вы меня пугаете.
Он улыбается:
— Поджаренного хлеба? Сколько кусочков?
— Два, пожалуйста. Как вы нашли эту квартиру?
— По объявлению в Интернете. Первая квартира, которую я пришел смотреть в Париже. Я прилетел прямым рейсом из Гонконга. Вошел. Поставил чемодан. Удивился, что не вижу из окна небоскребов, воздушных мостов, бамбука и грузовых кораблей, а вижу сад, Люксембургский сад. Я открыл окно. Париж поразил меня тишиной. Город без грохота строек, без воя сирен. Я сразу подписал договор и заплатил за год вперед.
— Чемоданчик у вас в тот день, наверно, был совсем невелик. Здесь все новенькое: кровать, диван, ковер, холодильник, чайник, чашки, ложки и сахарница. У вещей нет прошлого, ни у одной, кроме ваших фотографий. Жизнь с чистого листа?
Теперь очередь Джонатана выдержать взгляд Аямэй.
— Превосходное наблюдение. Для большинства людей жить — значит обременять себя вещами. А я привык жить иначе, ни к чему не привязываясь и ничем не владея. Мебель я покупаю и продаю, когда съезжаю. Книги просто раздариваю. Вещи? У меня их почти нет.
— Наверно, так и надо жить.
На сей раз они согласны, и он спешит этим воспользоваться, потчуя ее красивым рассказом, вымышленным от и до:
— Мне было всего четыре года, когда меня усыновили. Мои приемные родители всегда думали, что я не сохранил никаких воспоминаний о прежней жизни, до усыновления. На самом деле я кое-что помню: маленькую подушечку, которая всегда была со мной. До сих пор явственно вижу, как мама взяла меня на руки и вырвала ее из моих ручонок. Я не смел заплакать. Даже дышать не смел. Она выбросила ее в мусорный ящик у выхода из приюта. Мы с ней сели в машину, а потом — в самолет.
Отлично: кажется, она поверила услышанному. Впервые в ее глазах блеснуло что-то похожее на нежность.
— С тех пор вы и разуверились. Вы правы, привязываться нельзя ни к чему.
— Это слишком поспешный вывод. Я не привязываюсь к вещам, не имею ничего своего, но мое сердце полно воспоминаний. У меня есть чудный невидимый альбом, в нем я храню лица, голоса, города. Он всегда со мной, и время от времени я с удовольствием его открываю.
— Интересно… Мне нравится ваша манера говорить. Вы смотрите на жизнь с высоты, как настоящий альпинист. С одной моей подругой было примерно то же, что и с вами. Она долго и тщетно искала своих биологических родителей. А вы не пытались?
Помолчав, она добавляет:
— Если вам неприятно, мы можем поговорить о чем-нибудь другом.
— Нет-нет, что вы! — заверяет он: настало время импровизации. — Я просто счастлив в кои-то веки поговорить о себе. Приемные родители уничтожили мое приютское досье. Они уверяли, что нашли меня в Сене, я, мол, плыл по течению в деревянной лохани. В детстве я пообещал себе, что все выясню, когда у меня будут возможности. Но я вырос, и желание как-то пропало, мне это не нужно теперь. Я прекрасно себя чувствую с этой тайной, ношу ее в себе, и она мне не мешает жить. Я не знаю, какие лица, какие тела, какие, в конце концов, жизни породили меня, и не хочу знать, зачем мне лишняя боль? Представьте, я узнаю, допустим, что мой отец был жуликом, бандитом или спесивым аристократом, а моя мать шлюхой, горничной или мещанкой, скрывшей свой грех? Для нормального человека родители — что-то вроде зеркала. Если родители истеричны, злы, сексуально озабочены, то детей всю жизнь преследует страх быть похожими на тех, кто произвел их на свет. Иной раз, борясь с собой, они только быстрее к этому приходят. Я же свободен телом и кровью. Я сам себя создал. Я смотрю на себя не через призму родителей. В этом, пожалуй, мне повезло.
Джонатан сам взволнован собственным красноречием. Низко павший отец, болезнь матери — есть повод для навязчивых идей, но, может быть, когда-нибудь он сумеет стать похожим на свою сегодняшнюю роль: здоровым и мужественным человеком, которому не за что себя презирать.
— Моя подруга, о которой я говорила, выросла в приюте, — говорит Аямэй. — Ей трудно найти свое место в обществе. Вам не кажется, что у этой свободы есть оборотная сторона? Подруга не умеет ни давать, ни брать. Она моя ровесница, а у нее не было в жизни любви.
Не о себе ли она говорит? Джонатан знает, что родители Аямэй умерли и что она не замужем. Он пытается прощупать почву:
— О, любовь, это обширная тема, целой жизни не хватит! Ваша подруга живет в Париже? Знаете, таким людям, как мы, полезно встречаться и рассказывать друг другу о себе. Взаимная поддержка дорогого стоит.
— К сожалению, она в Китае.
— А вы? Вы, наверно, пережили любовь, и не раз. В вашей жизни кто-то есть?
— У меня никого нет. А у вас?
— Я один, как и вы! Чуть было не женился четыре года назад, но она меня бросила, оставив неплохие кадры в альбоме моей памяти. С тех пор я дрейфую в поисках нового берега… Еще чаю? Ну вот, теперь, когда вы знаете обо мне все, могу я задавать вам вопросы?
— …Задавайте.
— Откуда вы?
— Из Пекина, я ведь уже говорила. Вы забыли?
— Конечно же я помню. А чем занимаются ваши родители?
— Они преподавали в университете.
— Теперь, я полагаю, на заслуженном отдыхе?
— …Да, в каком-то смысле.
— У вас есть братья, сестры?
— Я единственная дочь.
— Когда вы были в Китае в последний раз?
Она опять уходит от ответа. Возвращает ему вопрос:
— А когда вы были в Китае в первый раз?
— Летом девяносто второго. Первым городом, который я увидел в Китае, был Пекин, — устало отвечает Джонатан.
Она не желает говорить о себе? Ладно, они поговорят о нем, если ей этого хочется. Так или иначе, цель у него одна: соблазнить ее.
— …Было очень жарко и тьма народу на улицах. Одни играли в шахматы под фонарями, другие лежали на бамбуковых циновках и что-то друг другу рассказывали, обмахиваясь пальмовыми веерами. Играли дети, проносились мимо велосипеды, торговцы с тележками окликали меня, предлагая арбузы, персики, сливы, поющих цикад в крошечных плетеных клеточках…
Когда Джонатан фантазирует, ему всегда жаль, что он не стал писателем. Впрочем, техника та же: вышивать узоры вымысла по канве правды.
— Меня убаюкивала музыка вашего языка. Помню, я всматривался в освещенные окна домов и пытался представить себе, как живут эти люди, там, за оконными стеклами. О чем они думают в этот самый момент? Как говорят друг другу слова любви? Чем занимаются их дети после школы? Что они видят во сне?
Наконец-то ее покорила поэзия. Она открывается ему:
— Когда я приехала в Париж в девяносто первом, я тоже бродила по улицам и смотрела на освещенные окна. Это было накануне Рождества, весь город в разноцветных гирляндах. Елисейские Поля превратились в реку мерцающих огней. В витрине «Бон-Марше» механические куклы танцевали под искусственным снегом. Я приехала из коммунистической страны, где улицы были темны и пусты. Я помнила деревни без электричества, городки, черные от угольной копоти, школы, где не было ни столов, ни стульев. Я и представить себе не могла столько богатства напоказ. Мне открывалась парижская жизнь: изобилие, расточительность, спесь и беспечность. Я была очень наивна тогда. Думала, что французы счастливы, что они просто обязаны быть счастливыми.
— Увы, это не так.
— Я поняла это, когда в первый раз спустилась в метро: все эти лица, усталые, перекошенные, злые…
Решительно, в таланте сказочницы она не уступает ему. Что ж, Джонатану только азарта придает это литературное соревнование.
— Мне повезло больше, чем вам. Когда я отправился в Китай в девяносто втором, в памяти были еще свежи картины Тяньаньмынь. Я представлял себе угнетенный, несчастный народ, а увидел город, в котором кипела жизнь, и горожан-трудяг, умеющих жить простыми будничными радостями, будь то красная рыбка в аквариуме, битва сверчков, запуск воздушного змея, боевые искусства на заре или прогулка под вечер.
Он говорит в порыве вдохновения, не забыв, однако, упомянуть о Тяньаньмынь. Она подает ответную реплику, тоже не теряя бдительности:
— Это было двенадцать лет назад. Теперь строительство закончилось, и Пекин преобразился. Это совсем другой город. Нет больше ни узких улочек, ни торговцев с цикадами и сверчками. В следующий раз, когда приедете, убедитесь сами: больше не видно звезд на небе.
Самое время для атаки, которой она не ожидает. Со своим коронным видом американского простачка он спрашивает:
— Вы бываете там каждый год?
Молчание. Довольный эффектом, он настаивает:
— Этим летом поедете в Китай?
Молчание. Джонатан ликует.
— Вы не скучаете по родителям?
И тут она вдруг улыбается ему:
— Можно мне еще чашку чая? У вас превосходный «Колодец Дракона». Вы покупали его в Гонконге?
Мужества ей не занимать. Все еще пытается защищаться.
— Вы говорите по-китайски? — спрашивает она.
— Нет, — твердо отвечает он. И добавляет: — Мне хотелось бы поехать в Китай с вами.
— Может быть.
Она встает.
— Вы уже уходите?
— У меня второе занятие в десять. Пора. Спасибо за завтрак.
— Простите, если мои вопросы были нескромными.
Она идет к двери. Он за ней.
— В самом деле, вы не похожи ни на одну из женщин, которых я знал.
Она уже взяла свой меч и открывает дверь.
Джонатану хочется рвать и метать. Никогда он не чувствовал себя таким смешным.
— Спасибо, что зашли.
Шагнув к лифту, она оборачивается:
— Мои родители умерли. Я не была в Китае пятнадцать лет.
— Почему? — прикидывается он дурачком.
— Заходите теперь ко мне, увидите мой Люксембургский сад.
Дверь захлопывается. Джонатан тяжело оседает на диван. Он сохранил лицо.
* * *
Поезд мчится, грохочет, свистит. Джонатан забирается на свое место и натягивает одеяло до подбородка. В свете ночника он видит Аямэй: с верхней полки она желает ему спокойной ночи. Он ловит ее руку и тянет к себе. Без малейшего сопротивления она позволяет стащить себя с полки и падает в его объятия. Он стискивает ее, боясь, что она ускользнет. Но она, как ни странно, не вырывается. Джонатан осторожно запускает руки под ночную рубашку и — приятный сюрприз — сжимает упругие и нежные груди. Он срывает с нее одежду. Его ладони шарят на ощупь по ее телу, и он с удовлетворением отмечает, что она прекрасно сложена. Он жадно целует ее шею, подбородок, губы, глаза. Мнет ее пальцами как тесто. Ложится сверху. Раздвигает коленями ее ноги. Мужской торс вдавливает в подушку женские плечи, и его естество входит в нее. Только тут он понимает: что-то не так. Ни вздоха, ни стона. Она податлива, но никак не реагирует. От ее теплого тела веет ледяным холодом. Джонатан весь в поту. Он из кожи лезет вон, силясь добиться от нее отклика, трепета, движения навстречу. Но она словно кукла. Не дрогнул ни один мускул, не забилось чаще сердце, не шевельнулись руки в ответной ласке.
Зачем же она отдалась ему? Зачем обнаружила свою фригидность, ведь могла бы и дальше соблазнять его, не выдавая себя. Уступив ему, она ему отказала. Снова подвох? Теперь он знает ее тайну, она связала их. Сам того не желая, он подписал с ней пакт о молчании. Чтобы не быть смешным и оберегая честь молодой женщины, которая доверилась ему, он вынужден отныне жить в ее ледяном плену.
Мчится, грохочет поезд. Где-то в ночи слышен протяжный стон сирены. Куда несется этот поезд? Куда они едут?
Джонатан просыпается.
В кухне минутная стрелка на часах, вздрогнув, перемещается на одно деление.
На службе счет дням ведет настенный календарь в холле.
Каждое утро Джонатан бегает в Люксембургском саду. Четыре круга. Четырежды он берет ее в кольцо, но она игнорирует его, не здоровается. Вот и уик-энд прошел. Он видел издали, как молодой китаец вернул ей книгу, а она дала ему другую. У подъезда они не встретились ни разу.
Работает Джонатан с ленцой. Он знает: чтобы преуспеть на французском предприятии, не стоит выказывать свою компетентность, а вот самодостаточность — то, что надо. Французы терпеть не могут сильных, зато помогать жалким и убогим они обожают. Усиленно подчеркивая умственное превосходство коллеги за соседним столом, Джонатан обеспечивает себе покой и хорошие отношения. Старательный, порядочный, степенный, звезд с неба не хватающий, он ладит со всеми. Руководство уже одобрило его кандидатуру на место второго заместителя, и он вот-вот получит повышение, за которое несколько месяцев грызутся между собой два инженера.
В обед, отоварив свои талоны, Джонатан, окутанный дымом сигар и сигарет, засыпает в гомоне столовой, но глаза его открыты. Его коллеги, гордые своей родословной потомки Декарта, Руссо, Вольтера и Сартра, высказываются во всеуслышание. За час они успевают перестроить мир: терроризм и клонирование, гомосексуальный брак и социальное обеспечение, президентские выборы. Европейская конституция, поляк-водопроводчик, китайская угроза, и отпуск.
Игра постепенно стала жизнью. Роль пустила в нем корни. Как близорукий человек забывает, что у него на носу очки, так и Джонатан больше не следит за собой, растягивая рот в глуповатой улыбке, глотая слова, услужливо источая мед. Это уже автоматизм. Он слышит, не слушая, подает реплики, думая о другом. Он уединяется, никуда не уходя, отсутствует, продолжая играть.
Вечер, снова площадь Эдмона Ростана. На выходе с линии В RER[1] он поднимает голову и смотрит на фасад дома № 21. Окна Аямэй светятся. О чем она думает сейчас? Что делает? Силы, растраченные в метро, возвращаются к нему. Оцепенение проходит. Он просыпается.
Поворачивается ключ в замке. Люксембургский сад за окнами словно окутанные тьмой джунгли.
Ждать никогда не бывает скучно.
Ждать — наслаждение игроков.
* * *
Отмычка входит в замочную скважину. Джонатан полагается на свои «умные» пальцы в перчатках. Каждый замок — это лабиринт в миниатюре, мозг философа, лоно женщины.
Дверь открылась. Он аккуратно затворяет ее за собой. Миновав коридор, входит в гостиную. Осторожно выглядывает в окно. Аямэй в Люксембургском саду, как всегда, дает урок. Он отворачивается и окидывает взглядом помещение: три бывшие комнатушки для прислуги превращены в однокомнатную квартиру.
Субботним утром, в четверть девятого, хозяйка успела навести порядок, перед тем как покинуть квартиру. Газеты, бумаги, счета методично разложены на маленьком письменном столе. Одну стену целиком закрывают книжные полки. Книги, не меньше сотни книг, на китайском, французском, английском, расставленные по языкам и жанрам, стоят ровненько, по ранжиру, как солдаты в строю. В ванной одна зубная щетка. Кафель вокруг раковины девственно чист, брызги воды тщательно вытерли. Кремы и косметика разложены по ящичкам, рассортированы по размеру баночек и частоте использования. Белые мокрые полотенца висят на хромированной перекладине, безупречно расправленные. Профессиональный глаз Джонатана не подмечает ни малейшего беспорядка, кроме пузырьков на еще влажном куске мыла и белого пятнышка зубной пасты на кране.
Он заглядывает за дверь. Короткий шелковый халатик — такие легко найти в пекинском магазине «Дружба» — висит на крючке. Джонатан утыкается в него носом. Запах женщины помогает отойти от шока, вызванного видом этой квартиры с голыми белыми стенами, без единой безделушки, без цветов, без занавесок, украшенной лишь небом — бескрайним океаном, по которому плывут крыши Парижа. Он зарывается лицом в шелк и глубоко вдыхает. Этот аромат не навевает воспоминаний о знакомом ему Китае. Не сандал, не жасмин, не белый мускус его традиционной женственности, но и не «Шанель № 5», не «Энджел», не «Этернити», маскарад современных китаянок. Он не напоминает ни о бурно развивающихся городах, ни о пыльной опустевшей глубинке. Это просто запах женщины, сдержанный и очень личный.
Снова гостиная. Еще один взгляд в окно, на Люксембургский сад. Она по-прежнему там. Быстрый осмотр содержимого ящиков письменного стола. В них тоже царит образцовый порядок. Бумага, конверты, марки, ручки, ластики, большие и маленькие скрепки, резинки лежат в предназначенных для них углублениях. Документы ее ассоциации, счета за квартиру, за электричество и газ, выписки из банковского счета, страховка, копии налоговых деклараций в разноцветных пластиковых папочках, подписанных и сложенных в хронологическом порядке. В двух нижних ящиках Джонатан обнаруживает фотографии, несколько пачек. Он отмечает, что ни на одной она не снята с мужчиной.
Кухонька почти пугает своей чистотой. Ни жирных пятен, ни копоти, никаких следов, характерных для китайской кухни, где жарят мясо и овощи в кипящем масле. Коридорчик по другую сторону ведет в ванную. Пара домашних туфель на полу — значит, где-то рядом гардероб. Одна за другой открываются раздвижные двери шкафов-купе. Черный цвет, почти сплошь черный. Пальто, жакеты, платья висят на плечиках; свитера, блузки, трусики и бюстгальтеры аккуратно сложены. Полотенца, коврики для ванной, постельное белье — все только белое. Обувь разложена по коробкам, на каждой имеется описание на китайском.
Отодвинув последнюю дверь, он обнаруживает наконец нечто необычное: коробки, набитые подшивками газет, криво вырезанными или просто вырванными из журналов страницами: здесь пресса на французском, английском, китайском; конспекты лекций; письма со всего мира; снова фотографии, сделанные в Париже, Вашингтоне, Риме, на них и китайцы, и европейцы, очевидно, борцы за права человека. Газеты пожелтевшие, страницы из журналов измятые, факсы полустертые. Почему аккуратная во всем диссидентка сознательно допустила такую небрежность?
Он смотрит на часы. Без пяти девять. Снова выглядывает в окно и направляется к двери. Убедившись, что на лестнице никого нет, на цыпочках идет вниз.
У себя он устало опускается на диван. Из Люксембургского сада на него веет красотой — красотой беспорядочного буйства и праздных толп. Сад отогревает его глаза, в которых еще стоят ледяные видения. Откуда эта болезненная одержимость? Порядок и чистота успокаивают; чувствуешь себя в безопасности, защищенным от хаоса внешнего мира. Уборка — символ очищения. Уже лишенная семьи, дома, корней — от чего еще она хочет отмыться? Или эта маниакальная аккуратность говорит о другом — ведь будущее легче строить на обузданном, усмиренном, упорядоченном настоящем? Без профессии, без любви, она так и осталась китаянкой с Тяньаньмынь. Ее жизнь здесь — нечто временное, просто долгое ожидание, она вернется, но когда? Это не в ее власти, она зависит от правительства, от политиков, которых в глаза не видела. Как же истолковать беспорядок в «досье Тяньаньмынь» — бумагах, кое-как сваленных в коробки? Желание закрыть глаза на прошлое? Но ведь и по сей день это прошлое — ее лицо. Весь мир знает Аямэй с Тяньаньмынь, никто не знает Аямэй — просто женщину, у которой есть своя история. Какой она была в детстве — веселой или капризной? Пережила ли в тринадцать лет «трудный возраст»? С кем дружила? Как пришла к ней первая любовь? Что она делала, покончив с домашними заданиями, — читала, рисовала, мечтала, глядя на облака? Она посмеялась над Джонатаном, человеком с множеством лиц, не позволяющим себе почти никаких личных воспоминаний. На самом деле она в таком же положении: не увезла с собой из своего родного Китая ничего, кроме этого ярлыка героини.
Людям нет дела друг до друга, с грустью думает Джонатан. Много ли таких, кто, как он, дают себе труд побольше узнать о ближних?
Из прихожей слышится какой-то шорох. Вздрогнув, Джонатан вскакивает. На полу лежит конверт, кто-то только что подсунул его под дверь. Он смотрит в глазок. Двери лифта закрываются, мигает красная лампочка.
Джонатан вскрывает письмо. Сразу бросается в глаза твердый мужской почерк:
«Вы не забыли о моем приглашении?
Сможете зайти сегодня ко мне на огонек? В шесть часов.
Аямэй».* * *
Тренькает звонок.
Кто-то идет быстрым шагом. Скрип половиц под ногами. Лязг замка.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер! Это вам. — Он протягивает ей бутылку шампанского.
— Спасибо! Входите.
— Какой у вас порядок! Знал бы, не пригласил вас к себе, мне стыдно за свою берлогу.
— У вас почти нет мебели. Вам не нужно наводить порядок, — отвечает она.
Джонатан пропускает ее провокацию мимо ушей. Толкнув застекленную створку, он выходит на балкон.
— Какой вид! Весь Париж у ваших ног. Обсерватория, Монпарнасская башня, Пантеон, Эйфелева башня. Но… но есть один недостаток: ваш Люксембургский сад кажется меньше.
Не оценив его юмора, она говорит:
— Девчонкой, когда мне было грустно, я забиралась на верхушку большого дерева. Я могла сидеть там часами. Считала облака в небе, смотрела на птиц, слушала ветер. Здесь у меня то же чувство, что в детстве: мир далеко внизу, его все равно что нет. Я в небесах.
— Мы в небесах, — уточняет Джонатан.
Аямэй молча внимательно смотрит на него.
— Пойдемте выпьем, — говорит она наконец. — Чокнемся за эту правду в нашем лживом мире. Вы и я — мы в небесах.
Открывается шампанское, хлопает пробка. Она наполняет один бокал и протягивает его Джонатану. Он отстраняет его.
— Нет, спасибо, я вообще не пью. Это вам.
— Я тоже не пью.
— Почему же?
— Аллергия на алкоголь.
Они смотрят друг на друга и прыскают со смеху.
— Вы занимаетесь боевыми искусствами, не пьете, не курите, вы аккуратны и дисциплинированны, у вас прекрасные задатки, — медленно произносит он.
— Задатки для чего?
— Я посещаю одну духовную школу и знаю упражнение, с помощью которого можно преобразовать мучительные воспоминания в позитивную энергию. Вот, к примеру. Мои приемные родители погибли, вместе разбились в автокатастрофе, и я осиротел во второй раз, что далось мне нелегко. Так вот, благодаря этой методике я превратил свою боль в силу. Поразительно, не правда ли? Если вам интересно, я мог бы как-нибудь рассказать об этом подробнее. Для начала нельзя ни пить, ни курить.
— Конечно, мне интересно! — вырывается у нее.
Словно испугавшись, что выдала себя, она поспешно поправляется:
— Я любопытна до всего.
— Вы страдали, я вижу эту боль в ваших глазах, — вкрадчиво говорит Джонатан. — В этом нет ничего постыдного. В страданиях мы закаляемся. Все герои античности прошли через страшные испытания. Иисус Христос принял смерть на кресте, исполняя свое предназначение. Но его страдание благое, в нем позитивная энергия. Вы угостите меня стаканом воды?
— Непременно. По стакану воды для нас найдется.
Джонатан присаживается на китайский диванчик, Аямэй садится в бамбуковое кресло напротив. На ней черный пуловер с короткими рукавами и длинная, до щиколоток юбка в черно-синих разводах, из-под которой видны носки голубых со стальным отливом лакированных туфелек.
Будто и не было перерыва, он продолжает с того места, на котором оборвался их прошлый разговор:
— Значит, ваших родителей нет в живых, а что мешает вам вернуться в Китай?
— Вы боитесь привязанностей, а я боюсь откровений. Рассказать о себе, значит…
— Сдать позиции!
— Обнажиться.
Вежливая улыбка исчезает с лица Аямэй. Она устремляет на гостя ледяной взгляд.
— Кто вы?
Джонатан не спешит с ответом.
— Позволю себе переадресовать вам вопрос. Вы так и не просветили меня — кто вы? Мне бы хотелось узнать тайну вашего лица. Когда я смотрю на ваш левый профиль — вижу печаль. Когда смотрю на правый — вижу ликование. Вы не обычная женщина, нет. Кто вы?
— Чего вы ждете от меня?
— Я хочу узнать вас и помочь, если вы нуждаетесь в помощи. Скажем так, по-соседски.
— Вы не подумали о том, что знание не дается даром, а за щедроты порой приходится платить?
— Каков ваш тариф?
— Какова ваша ставка?
— Мое время, мое доверие.
— В какую игру вы играете?
— Я не играю в прятки. Вы красивая женщина. Вы умны. Вы из Китая. Вы мне интересны.
— Вы хотите меня соблазнить.
— Вы меня соблазнили.
Она отводит глаза:
— Не жалеете?
— Я готов.
Джонатан всегда следит за руками собеседника. Играя сигаретой, стаканом, вилкой, ремешком сумки, стеблем цветка, похлопывая по колену или шаря в кармане брюк, руки могут сказать многое. Аямэй снова удивила его: ее руки лежат на подлокотниках. Она говорит, а они обе совершенно неподвижны.
Внезапно она вскакивает с кресла, уходит и тут же возвращается с коробкой в руках.
— Здесь моя жизнь. Можете открыть.
— Что это, уж не ящик ли Пандоры?
Джонатан берет газеты, которые уже листал, делает вид, будто внимательно читает. Выжидает время, молча переворачивая страницы, потом, искусно изображая волнение, восклицает:
— Вы та самая Аямэй, героиня студенческого бунта! Так вот почему вы не можете вернуться в Китай?
— Да, я Аямэй.
Он тычет пальцем в снимок на журнальной странице: молоденькая китаянка сидит на ступеньках памятника в центре площади Тяньаньмынь, с сигаретой в одной руке и зонтом в другой.
— Я помню, будто это было вчера. Ваша фотография меня как громом поразила. Я влюбился в эту бунтарку. Аямэй, это действительно вы? — Не дожидаясь ответа, он продолжает: — Теперь я понимаю, почему, когда я вас увидел, ваше лицо сразу показалось мне знакомым и мне захотелось узнать вас ближе. Аямэй, наконец-то я встретил вас! Вы, — частит он, запинаясь, — женщина, изменившая ход современной истории. А я самый обыкновенный человек, инженер, программист. Я даже не знаю теперь, как с вами разговаривать.
— Для начала давайте перейдем на «ты», вы не против?
Джонатан мысленно переводит дыхание. Эта женщина — запертый сейф, но он подобрал ключ. На сегодня достаточно! Теперь остается играть роль оробевшего и зачарованного программиста. Сыплются заранее заготовленные реплики: ему было тогда всего двадцать четыре года, он работал в американской компании в Сингапуре. В защиту студентов с Тяньаньмынь он подписывал петиции, посылал для них деньги. Впервые его так живо затронуло событие международной политики. С экрана телевизора Аямэй, студентка с длинными косами, открыла ему, что существуют люди, отринувшие законы продажного мира. Как все, кто оторван от родины, он проводил выходные в кабаках, напивался и возвращался домой со случайными девками. Но лица юных китайцев, объявивших голодовку, запали ему в душу. Насмотревшись на их исхудавшие тела и одухотворенные взгляды, он проникся отвращением к пустым глазам азиаток, нелепых на высоких каблуках, и белых гостей с их сальным смехом. Он понял, что деньги, власть и удовольствия ведут человека прямиком в небытие, что в жизни есть иные ценности, кроме тех, что вдалбливают в американских университетах: преуспеяние, обладание, потребление. А потом однажды вечером по телевизору — войска, танки, пальба…
Джонатан умолкает. Аямэй не дает затянуться молчанию. Расспрашивает его. Он не выходит из роли: теперь это человек, постепенно преодолевающий робость перед женщиной своей мечты. Устремив взгляд в несуществующее прошлое, он рассказывает о детстве в Сан-Франциско, о большом доме с видом на залив, о родителях, которые заставляли его учить французский. Они погибли в автокатастрофе, когда ему было пятнадцать лет. Началась долгая тяжба из-за наследства. Братья и сестры стали врагами. Его пытались оставить ни с чем, оспорив законность процедуры усыновления. Он поступил в Массачусетсский технологический институт и с того времени каждое лето ездил во Францию. Проработав полтора года в Силиконовой Долине, он покинул Соединенные Штаты. Малайзия, Сингапур, Гонконг, его несло к неведомому, к новым, все более далеким горизонтам.
Решив, что лжи пока достаточно, он задает ей встречный вопрос:
— А ты когда потеряла родителей?
— У моего отца случился инфаркт в тот день, когда военные пришли в дом с обыском. Два года спустя мать сбила машина. Я узнала об их смерти, только когда мне удалось добраться до Гонконга, летом девяносто первого.
— Теперь я понимаю, почему ты не любишь об этом говорить. Извини.
— Ничего, не страшно… Нет, — поправляется она, — страшно. Это моя вина…
Они смотрят друг на друга так, словно каждый видит собственную боль на лице другого.
— Ты жалеешь о Тяньаньмынь?
— И да, и нет.
— Тебя это мучает?
— Иногда я просыпаюсь среди ночи.
— Ты сочла меня смешным и самонадеянным, когда я сказал, что могу тебе помочь.
Она заглядывает ему в глаза.
— Помоги мне, ты ведь можешь?
— Ты опять смеешься надо мной? — фыркает он.
Она качает головой:
— Нет.
Джонатан вновь призывает на помощь красноречие:
— Вам удалось уйти от китайской армии — и от воспоминаний вы сумеете освободиться. Вы сильная женщина. Вам никто не нужен. Простите, никак не получается говорить вам «ты».
— Еще воды?
Он встает.
— Я злоупотребляю вашим гостеприимством.
Она тоже переходит на «вы»:
— Вовсе вы не злоупотребляете моим гостеприимством. Мне очень приятно.
Иные дистанции сближают. За щитом из почтительного лексикона Джонатан переходит в наступление:
— Вы позволите мне пригласить вас как-нибудь поужинать?
Она опускает голову:
— Когда хотите.
— До скорого.
И он слегка кланяется ей на восточный манер.
Закрываются двери лифта. Джонатан смотрит на часы. Ровно девятнадцать часов, ни минутой больше. Он уложился в намеченный срок. Ему удалось добиться обещания поужинать наедине, не затягивая встречу.
Глядя в зеркало, он улыбается.
Лифт, поскрипывая, спускается на четвертый этаж.
* * *
— Когда я приехала в Париж, для меня было откровением, что я никогда в жизни не держала в руках ножа и вилки! В первый вечер председатель Национального собрания пригласил меня на ужин в свою резиденцию, особняк де Лассэ. За меня поднимали тосты, говорили приветственные речи, а я думала только об одном: возле моей тарелки было полно вилок и вилочек, с какой начинать? К счастью, официальные лица набросились на еду, и я смогла все повторять за ними.
— Представляю, как я был смешон, когда мне впервые дали в руки палочки. Мало-мальски разобравшись, как ими пользоваться, я приступил к «львиной голове», знаешь эти огромные фрикадельки, думал, это легко. В общем, она вылетела с тарелки, покатилась по столу и упала на юбку моей соседки, а это была представительница фирмы, приехавшая обсудить условия контракта…
Оба от души смеются.
Их разговор прерывает появление метрдотеля во фраке.
— Добрый вечер, мадам, мсье, вы уже выбрали?
— Будьте любезны, вы не могли бы мне объяснить, что такое «Снег ранней весны»?
— Это салат из сезонных овощей по выбору шеф-повара, проваренных в бульоне из птицы, к нему подается соус с кориандром и фуагра в отваренном на пару листе китайского салата.
— А «Душистая весенняя ночь»?
— Филе утки с анисовым ароматом, подается с соусом из личи, под личи и манговым желе.
— Хорошо, я возьму сезонные овощи. А ты, Джонатан?
— Утку.
— Сомелье сию минуту к вам подойдет.
— Нет, спасибо, мы не пьем. Бутылку воды, пожалуйста.
— С газом или без газа?
— С газом, ты будешь?
— Очень хорошо.
— Благодарю вас. Желаю приятного вечера.
Дождавшись, когда метрдотель удалится, Джонатан берет ладонь Аямэй в свои. Она пытается отнять руку. Он держит крепко.
— Тебе нравится этот ресторан?
— Да.
— Ты здесь бывала?
— Никогда.
— А ведь иностранцы обожают сюда ходить.
— Я не туристка. Я просто проездом.
Ладошка у Аямэй маленькая, гладкая и холодная. Теперь она смирно лежит в широкой, с сильными пальцами, ладони Джонатана. Он говорит самым проникновенным голосом, на какой только способен:
— Ну вот, ты в небесах, а Париж далеко внизу. От Парижа осталось лишь мерцание. Как ты себя чувствуешь?
— Голова кружится.
Он смотрит на нее долгим взглядом.
— У меня тоже.
Появляется официант.
— Вот суп из тыквы с ломтиком черного трюфеля, на пробу от заведения. Приятного аппетита.
Аямэй отнимает руку и берется за ложку. Джонатан дает ей доесть суп и только потом спрашивает:
— Почему Тяньаньмынь?
Не дождавшись ответа, он атакует с другой стороны:
— Я понимаю, журналисты наверняка тысячу раз задавали тебе этот вопрос. Ты, должно быть, устала на него отвечать.
Она качает головой:
— Напрасно ты так думаешь: никогда ни один журналист не задал мне этого вопроса. Для них это был свершившийся факт, как билет в один конец.
Она устремляет взгляд куда-то поверх головы Джонатана. Молча созерцает далекий незримый мир.
— Мне случалось спрашивать себя: почему я? Почему именно эта студентка из семи миллионов китаянок? Почему Китай выбрал меня, почему на мои плечи легла его трагедия?
Джонатан смотрит на нее с нежностью и восхищением.
— Это было пятнадцать лет назад, — вздыхает она. — Пятнадцать лет, почти половина моей жизни. Слишком быстро была перевернута эта страница. Я как сейчас вижу ту раннюю весну, теплый свет над кампусом, солнечные блики на Безымянном озере, в середине которого отражается пагода. Пахло мокрой землей и зелеными листьями. Мои стриженые волосы отросли, и я начала привыкать к своему новому женскому облику, к взглядам молодых людей. Вечером, когда кампус окутывала тьма, вокруг озера там и сям целовались пары, множество… Это было как поветрие: найти кого-то, кто ждал бы тебя под деревом, кто крутил бы педали велосипеда, посадив тебя на багажник.
Она печально улыбается.
— Как сейчас вижу себя, тоненькую, говорливую, полную энергии. Мне хотелось всюду успеть, я бежала с семинара на лекцию, с диспута на соревнования по бадминтону, с вечера поэзии на концерт тибетского пения. У меня были друзья на разных факультетах. А в Пекине повеяло ветром свободы. Запрещенные книги, политические журналы, которые привозили из Гонконга, тайно переходили из рук в руки. Полиция врывалась на подпольные рок-концерты, закрывала художественные выставки, якобы порочащие систему, но запреты становились лучшим стимулом к творчеству. После десяти лет «культурной революции» мы почувствовали, что наконец начинается новый этап, грядут перемены к лучшему. Что бы ни случилось с нами, все эти притеснения, весь этот гнет давали нам силу и вдохновляли.
Белые костюмы, черные галстуки, из полутьмы возникают два официанта.
— «Снег ранней весны» для вас, мадам?
— Да.
Второй ставит заказанное блюдо перед Джонатаном. Переглянувшись, они одновременно снимают с тарелок посеребренные крышки и чуть заметно кланяются.
— Приятного аппетита!
— Спасибо.
Аямэй сидит очень прямо. Красиво орудует ножом и вилкой. Ее черты напряжены. Под внешним спокойствием кроется буря эмоций. Она медленно жует.
— Вкусно? — тихо спрашивает он.
— Очень.
Она поднимает голову и улыбается ему.
У него вдруг мелькает мысль, что она может и лгать, чтобы надежнее спрятать тайны своей жизни в сейфе памяти. Он тут же корит себя за эту подозрительность, которая не оставляет его, даже когда операция идет без сучка без задоринки. Вправду ли она клюнула или только делает вид? Почему сегодня она впервые ведет разговор в намеченном им направлении? Что это — хитрость? Какую цель она преследует?
— …Наш университет, — вновь звучит голос Аямэй, — с самого основания в начале прошлого века был кузницей мнений. Перестройка показала нам коммунистический режим с человеческим лицом. На собраниях, где студенты и преподаватели перекраивали мир, мы критиковали коррупцию и говорили о давлении старых красных кадров на реформаторов из Центрального комитета. Мы не помышляли о свержении режима, нет, мы хотели улучшить его, модернизировать. Никому и в голову не приходило, что через несколько месяцев мы возглавим демонстрации, на которые выйдет больше миллиона человек. Политика вовсе не была моим коньком. На юридическом факультете я зубрила уголовный кодекс без особого энтузиазма. Мной интересовались студенты. Я отвергала все ухаживания. По кампусу поползли слухи, мне приписывали связь с одним писателем, потом с преподавателем литературы. Весна пришла слишком рано, ее солнце смеялось над моей холодностью. Я прислушивалась к переменам в себе. С ужасом чувствовала, как набирают силу женские желания. А между тем мне еще не встретился тот, кто бы… не было в моей жизни лица, голоса, помысла, способных заставить меня забыть Миня, друга, которого я потеряла в четырнадцать лет. Незнакомый огонь сжигал мое лоно, но сердце оставалось ледяным. Лед и пламя боролись во мне. Чтобы убежать от самой себя, я стала участвовать в диспутах, семинарах, тайных собраниях. И вот разразился кризис. Скоропостижно скончался отстраненный от власти генеральный секретарь компартии Ху Яобан. Его похороны стали толчком к дальнейшим событиям. Со всех стен открытые письма обвиняли кое-кого из руководителей в причастности к этой преждевременной смерти. Студенты нескольких университетов вышли на улицы. Произошла первая стычка с полицией. Всего за месяц мы были вовлечены в жестокую борьбу, которая и привела к голодовке тысяч студентов…
— Вы закончили, мадам?
— Да. Пожалуйста.
Как только официант удаляется, Джонатан снова берет Аямэй за руку.
— Ты сегодня очень красивая, — шепчет он.
Аямэй отнимает руку, берет стакан.
— Спасибо, — говорит она и отпивает глоток воды.
При свете свечей ее длинные черные волосы дивно хороши. Черный атлас платья колышется на груди при каждом движении рук. Замечтавшись, Джонатан представляет себе Аямэй голой, но тут две долговязые фигуры вновь нарушают интим.
Официанты ставят блюда на стол и ретируются.
Джонатан находит, что поданная ему «Шальная скачка под луной», говяжье филе в густом сливочном соусе с кусочками черных трюфелей и желтых грибов из Маньчжурии, не такая уж вкусная, как думалось по названию. Мясо явно переварено, а вот скат на тарелке Аямэй, с икрой и мятным соусом, выглядит куда аппетитнее.
— Вкусно? — спрашивает он.
— Изумительно.
Джонатан ликует. Французскому гурману эта новая кухня показалась бы чересчур затейливой. К счастью, Аямэй китаянка. Ее не мог не ослепить роскошный ресторан на верхушке Эйфелевой башни. Жаль, что она выбирала по меню для гостей, где не указаны цены. От астрономических цифр у нее еще сильнее закружилась бы голова.
Видя, как пустеет ее тарелка, Джонатан возобновляет прерванный разговор:
— Почему ты не написала книгу о Тяньаньмынь?
— Во мне нет писательского снобизма. Это модно в последние годы — быть либо эксгибиционистом, либо вуайеристом. Я не могу сказать правду, а лгать не хочу. Слишком многое просто невозможно передать: склоки во властных структурах, деньги международной помощи, улетучившиеся неведомо куда, соревнование в саморекламе через СМИ. Я не могу ни ткнуть пальцем в людей, которые мне отвратительны, ни похвалить тех, что мне помогали. Я ничего не могу сказать. Это опасно для оставшихся там.
— Объяснила бы, по крайней мере, почему ты проявила такое необычайное мужество. Ты была студенткой лучшего в Китае университета, тебя ожидало блестящее будущее. Ты отказалась от карьеры, от личного счастья. Тебе не было страшно? Тебя никогда не посещали сомнения?
— Почему я осталась, в то время как многие сошли с дистанции, уступив нажиму правительства? Просто потому, что некому было меня удержать. Родителям моим я тогда еще не простила своего испорченного детства. У меня не было любовника, ради которого я дорожила бы жизнью. Я была свободна, одна, с гневным и изболевшимся сердцем. В толпе демонстрантов я чувствовала лишь эту боль, которая не оставляла меня с тех пор, как покончил с собой Минь. Мне было хорошо. Минь порадовался бы, узнав, что я осталась в живых не зря. Я была причастна к становлению нового мира. Когда другие отступали и прятались в толпе, я забралась на багажник велосипеда и произнесла оттуда свою первую речь. Ничего в этом особенного не было.
— Судьба выбирает тех, чьи личные чаяния совпадают с чаяниями их страны.
— Возможно… — Взгляд Аямэй устремляется к тому бурному Пекину 1989 года. — Мою первую речь встретили аплодисментами; студенты оценили ее. С тех пор меня выталкивали вперед, так я и дошла до центра площади Тяньаньмынь. От угроз правительства мы только пуще ожесточались. В этой войне против политиков у нас не было иного оружия, кроме нашей молодости. Я была среди инициаторов голодовки. Чтобы докричаться до всего мира, мы решили на Тяньаньмынь поставить на карту свою жизнь.
— Могу я предложить вам тележку с сырами? — звучит над ухом гнусаво-угодливый голос метрдотеля.
— Нет, спасибо, я не буду, — говорит Аямэй. — А ты?
— Тоже нет, — качает головой Джонатан.
— Желаете посмотреть карту десертов?
— У вас есть сорбеты? — спрашивает Аямэй.
— У нас есть «Тысяча первая ночь», ассорти сорбетов с лепестками роз, личи, цукатами, зеленым перцем и белым чаем.
— Прекрасно, принесите мне.
— Скажите, из чего сделаны вот эти «Слезы карликовой вишни»? Не надо, не говорите. Попробую рискнуть.
— Благодарю вас, мадам. Благодарю вас, мсье.
Джонатан переводит дыхание, когда фигура метрдотеля тает в полутьме. И снова внимает Аямэй.
— Армия окружила город. День за днем нам сообщали о передвижениях пехоты и танков. Никто не думал, что это плохо кончится. Народ был с нами, внешний мир за нас. Солдаты вели себя со студентами сдержанно, но вежливо; и то сказать, они были ненамного старше. Бронетанковые части — это была последняя угроза раздробленного, ослабленного правительства. Я тогда начала курить. Совсем не спала. Разве что, вконец обессилев, могла прикорнуть ненадолго прямо на земле. Проснувшись, я ничего не помнила про голодовку, про армию. На несколько секунд возвращалась назад, в прежнюю студенческую жизнь, простую и мирную. Вечером третьего июня прозвучали первые залпы. Я металась по площади среди потрясенных студентов с мегафоном в руке. Призывала их сохранять спокойствие: с нами ничего не может случиться; мы не погибнем. Комитет вступил в переговоры с военными, и нам позволили покинуть площадь. Я снова ринулась в толпу. Студенты в палатках зажгли свечи. Они пели и отказывались уходить. Мегафон я давно бросила. У меня пропал голос. Я не могла больше произносить пламенных речей. Я плакала, вставала на колени. Все напрасно. Самые фанатично настроенные остались. Они хотели посмотреть, решатся ли народные избранники стрелять в народ. Бежать, говорили они, значит, отказаться от борьбы и признать крах движения. Они улыбались мне — и гнали прочь. Их невозмутимые лица напоминали мне лицо Миня, когда он шагнул к пропасти. Они оглохли — как и он тогда. Я кричала. Мой крик отчаяния до сих пор стоит у меня в ушах. Я слышу собственный хрип: «Вам же только двадцать лет! Ты, вот ты, я уверена, что тебе всего восемнадцать! Это самоубийство! Не надо! Идемте! Умоляю вас! Живите, и мы победим!»
Приносят десерты. Аямэй умолкает.
— А дальше? — спрашивает Джонатан и, как только отходят официанты, сжимает ее руку.
— «Китай пробудится от сна, когда прольется наша кровь», — ответил мне один из них. Со мной случилась истерика. Я кинулась на него и ударила по лицу. Студенты, которые были со мной, схватили меня и выволокли из этой палатки, а я выла. Остаток этой ночи прошел как в тумане. Моя память стерла целые куски. Помню, как я шла в толпе студентов под конвоем военных. Помню, как бродила по улицам Пекина. Помню, какой-то водитель грузовика увел меня к себе и прятал несколько дней. Мне до сих пор слышатся залпы… Потом — бегство: пешком, до изнеможения, по бесконечным дорогам, через деревни, леса, реки, горы. Меня будили среди ночи: «Военные идут, надо уходить». И я бежала, все дальше и дальше, теряясь в китайской глубинке. Поезда, грузовики, тележки, запряженные ослами, — что подворачивалось, на том и ехала, лишь бы подальше. Обветренные лица, тошнотворные запахи, нищие лачуги, воры, насильники, убийцы — эти воспоминания до сих пор преследуют меня, я просыпаюсь по ночам и думаю: «Военные идут»…
Аямэй тянется к бутылке с водой. Джонатан опережает ее. Наполняет ее стакан. Она залпом осушает его и тяжело опускает на стол.
— Ты наверняка видел фотографию: молоденький китаец перед колонной танков.
— Конечно, — сочувственно кивает Джонатан.
— Никто не знает, кто он такой. Никто не знает, что с ним сталось. Когда я натыкаюсь на этот снимок в журнале, меня страшно мучит совесть. Почему мы дошли до этого? Почему мне не удалось умерить экстремистские требования? Почему я не сумела лучше провести переговоры? Почему не смогла предотвратить трагедию?
— Аямэй, ты за это не в ответе. Это они стреляли. Это режим послал на вас колонны танков!
Голос Аямэй дрожит:
— Все, кто погиб на Тяньаньмынь, сегодня могли бы быть врачами, адвокатами, инженерами, писателями. Они познали бы радости любви и счастье иметь детей. Их жизни оборвались! А я ужинаю в шикарном ресторане на Эйфелевой башне.
Ее рука ледяная. Она могла бы его растрогать (это Джонатан отмечает про себя), не будь он лицом без определенного места жительства и неясной национальности. Он мог бы на самом деле быть добрым и чистым душой человеком, которого играет, если б это не являлось частью его работы. Однако он почти искренен, когда взволнованным голосом говорит ей:
— Борьба еще возможна, потому что ты дышишь, потому что ешь! Не забывай, что мертвые мертвы и только на живых надежда.
— Борьба? — горько улыбается она. — Я создала организацию, Общество друзей демократии в Китае. Устраивала конференции, диспуты, выставки. Я публиковала официальные заявления против китайского правительства. Боролась за освобождение политзаключенных. Подняла бучу в СМИ, чтобы в моей стране запретили проводить Олимпийские игры за несоблюдение правительством прав человека. Я рвалась в бой и нападала на коммунизм по любому поводу. Но на самом деле я сама все меньше и меньше верю в свои речи. Китай очень изменился с восемьдесят девятого года. Клан реформистов одержал верх, и два поколения руководителей после Дэн Сяопина продолжали курс на экономическое развитие. Китай стал силой, и это было признано великими державами. Китаец на Западе — больше не голь перекатная, стонущая под игом, не предмет жалости, теперь он — потенциальный покупатель, инвестор и партнер, которого надо обхаживать. От речей о правах человека простому китайцу ни жарко, ни холодно. Он хочет построить дом, купить машину, ходить к девочкам на массаж и смотреть телевизор, вот его права человека! Поэтому Китай и вступил в ВТО, где имеют значение только экономический рост и потребительская эйфория. Китай пробудился — но душу свою потерял! И поверь мне, демократия ему ее не вернет, эту китайскую душу.
Джонатан смотрит на Аямэй с восторгом. Его идеал разбит — она полна желчи. Тот самый тип личности, которым легче всего манипулировать. Он отвечает ей в тон:
— Я счастлив слышать это от тебя. У нас на Западе — та же картина. Все отупели от телевидения, рекламы, компьютерных игр, безмозглые пни, да и только. А ты знаешь, что есть люди, объединяющиеся в организации для борьбы с этим злом?
Подходит официант.
— Желаете кофе или чай?
— У вас есть свежая вербена?
— Да, мадам. А для вас, мсье?
— Кофе.
Аямэй даже не ждет, пока официант удалится.
— Кто они?
Джонатан отвечает лаконично:
— Я расскажу тебе как-нибудь потом.
Он выдерживает паузу и улыбается. Веря в неотразимость своих голубых глаз и белых зубов, хочет показать ей, что и он в душе революционер.
— Почему это происходит? Кто в ответе за утрату души? Все эти продажные политики, с потрохами купленные промышленными группировками; все эти денежные мешки, опутавшие планету сетями мафии. Они извратили великие цели прошлого века, чтобы одурачить нас. Демократия стала их парадным облачением, права человека — карающей дланью для ослушников. Как вообще можно говорить о правах человека, если нас кормят трансгенами и мясом бешеных коров? Наши граждане верят, что они свободны, потому что им регулярно выдают избирательный бюллетень. На самом деле выборы — это только видимость борьбы! У политических партий одни и те же интересы: продажа оружия, наркотрафик, нефть…
Опершись подбородком на руку, она буравит его взглядом. Он понимает, что хочет ее. Залпом допивает кофе.
— Идем?
Лифт едет вниз с верхушки Эйфелевой башни. У их ног дышит Париж. Трокадеро, Триумфальная арка, купол Инвалидов покачиваются на волнах света. Длинной бархатной лентой в золотых звездах стелется Сена.
Джонатан делает шаг вперед и целует свою героиню, свой объект.
* * *
Он притискивает ее к стене. Она слабо отбивается. Ее горячий язык еще пахнет свежей вербеной. Прижимаясь к ней всем телом, он млеет от трепета ее груди. Удерживая левой рукой ее запястья, правой шарит по телу. За ужином он приметил брешь, скрытую под левой подмышкой. Теперь его рука на ощупь считает препятствия. Скроенное по косой платье застегнуто на двадцать одну пуговку; крошечные, обтянутые шелком, они расположены по вертикали от подмышки до середины бедра. Каждая как мина, которую надо осторожно обезвредить.
Сколько уже времени он ее целует? Он поднимает веки и встречает взгляд широко открытых глаз Аямэй в нескольких сантиметрах от своего лица. Ее зрачки блестят, как два черных агата.
— Идем в гостиную, — шепчет он ей в ухо.
Не дожидаясь ответа, поднимает ее. Она тяжелее, чем кажется с виду. Пошатнувшись, он все же не выпускает ее из рук. Оба падают на диван. Она сразу вскакивает. Он кидается за ней, настигает и опрокидывает на ковер. Нащупывает первую пуговку.
Он весь мокрый от пота, когда добирается до последней. Освобожденно вздрагивают две круглые груди. Под черным платьем скрывается тело атлета, все из мышц и выпуклостей. Он дает себе две секунды передышки, раскидывает по углам пиджак, галстук, рубашку, туфли, носки, брюки, трусы. Глубоко вдыхает, собираясь с силами. Есть женщины — пирожные с кремом, их хватает на один глоток. Есть другие — куницы, выдры, мышки, самки с острой мордочкой и блестящим мехом, те затевают игру, пуская в ход визг и коготки. Но китаянка, что сейчас под ним, принадлежит, увы, к третьей категории: она, с ее плоским животом, торчащими грудями, длинными ногами, мощными бедрами, тонкой талией и почти мужскими плечами, — гора, которую нужно штурмовать.
Он бросается на нее.
Долго ласкает, чтобы разогреться.
И решительным толчком бедер входит в ее лоно.
Она стонет, извивается. Ее лицо багровеет.
Его уже не остановить.
Он меняет позу.
Таранит ее до изнеможения.
Отдыхает, снова меняя позу.
Чувствует накатывающую волну.
Сдерживается.
Медленным шагом продолжает восхождение.
Думает о компьютерных программах своей компании, чтобы отвлечься от натянутых нервов мужского естества.
Снова пауза. Закинув одну ногу на спинку дивана — другая свисает на пол, — Аямэй смотрит на него со странной улыбкой. Когда она занималась любовью в последний раз? Кто были ее любовники? Какие игры ей нравятся? Вопросы теснятся в голове Джонатана.
Он вновь устремляется в бой, не утруждая себя предупреждением. Встреча мужчины и женщины — это война без перемирий. Армия Джонатана продвигается вперед по территории противника, и на всем пути ее встречают стонами, хрипами и содроганиями. Смешивается пот, сталкиваются губы, сплетаются и расплетаются ноги, воздеваются к небу и бессильно падают руки. Наконец долгий вздох вырывается из груди Аямэй. Ее руки вцепляются в плечи Джонатана, глубоко в его плоть впиваются ногти. Он замирает, чтобы полюбоваться своей победой. Глаза молодой женщины широко раскрыты. Исчезла гордость бунтарки с Тяньаньмынь. Она смотрит на него с мольбой.
Кровь вскипает в его жилах, сердечный ритм зашкаливает. Джонатан устремляется к пику экстаза. Ему вдруг не хватает воздуха, все кружится перед глазами. Он падает с головокружительной высоты. И отваливается, обмякнув, на ковер.
Мало-помалу он приходит в себя, удовлетворенно потягивается и спрашивает партнершу:
— Ну как?
Ответа нет. Он поднимает глаза. Длинные спутанные волосы прикрывают Аямэй до пупка. Он раздвигает пряди, заправляет их за уши. Вот и груди — две крепостные башни. Он берет одну в руку и легонько встряхивает.
— Ну как, тебе понравилось?
Голос — жесткий, такой он слышал в их первую встречу, — звучит в ответ:
— Мне надо идти.
Его пальцы, играющие с ее соском, замирают.
— Почему?
— Я опасная женщина.
— Я знаю.
— Мужчины и женщины умерли из-за меня.
— Это было пятнадцать лет назад.
— Мы не должны больше видеться.
— Что с тобой?
Она бросает на него недобрый взгляд:
— Я не та, что ты думаешь.
— Поздно. Я вошел во вкус опасности. Хочешь воды?
— Женщина, будь она старая или молодая, проститутка или королева, — самка, на которую бросается самец. Со всеми обращаются одинаково. Для всех те же поцелуи, те же ласки, то же обожание. Все ложь. У фаллоса нет глаз и чувств нет. Таковы мужчины. Я ухожу. Мы больше не увидимся.
Джонатан не верит своим ушам. Да она с ума сошла, эта женщина. Столько усилий — и без толку? Он протестует:
— Кто-то обидел тебя, поэтому ты так мрачно смотришь на мужчин? Думаешь, ты — лишь дыра? Зачем же ты пришла ко мне, если знала, что я негодяй и мне только одного надо — переспать с тобой? Зачем же ты притворялась? А теперь поворачиваешь дело так, будто я тебя изнасиловал? Если я лжец, то ты лицемерка.
— Я знаю, почему пришла к тебе. Но понятия не имею, зачем ты меня привел. Я не женственна, у меня темное прошлое и никакого будущего. Если тебе хотелось приключения, ты его получил. А теперь дай мне уйти.
Джонатана разбирает смех.
— Что правда, то правда, критериям красоты, которые навязывает телевидение, ты не соответствуешь, но ты женственна, твоя женственность — сила и глубина. Когда я впервые увидел тебя, в черном пальто, ты меня словно пронзила. — Выдержав паузу, он на ходу сочиняет пылкую речь: — Ты пережила страшное. Тебя преследовали. Париж встретил тебя неприветливо. Вот почему ты думаешь, будто не нравишься мужчинам. Быть может, я буду только прохожим в твоей жизни. Но я с радостью беру то, что ты мне даешь, и хочу дать тебе лучшее, что имею. Расслабься. Иди ко мне.
Он обнимает ее за плечи, заглядывает в глаза. Джонатан знает, как тронуть женское сердце. Знает, что ни одна не устоит против его мальчишеского взгляда, взыскующего нежности.
Он тянется ее поцеловать.
— Все было прекрасно. Спасибо!
Она отворачивает голову и, отстранив его, встает. Натягивает трусики, надевает платье, застегивает его на все пуговки от бедра до подмышки. Весь вечер он был начеку. Теперь его опасения оправдались: что-то пошло не так. Он украдкой смотрит на часы: час тридцать две. Он устал. Ему хочется спать.
Он ловит ее за край платья и говорит наобум:
— Я знаю, почему ты пришла ко мне, хоть ты и не желаешь в этом признаться.
Она, застыв, недоверчиво косится на него.
— Я сирота и ты сирота. Тебя тянет ко мне точно так же, как меня к тебе. Мы с тобой говорим на тайном языке, который другим жителям Земли не понять. Не уходи, Аямэй. Мы уже родные друг другу.
Она смотрит так сурово, что ему кажется, будто ее глаза вот-вот пробуравят дыры в его лице. Вдруг у нижних век набухают две капли. Перелившись через край, стекают по щекам. Она плачет!
Он ошеломлен, но рефлекс не изменяет ему, несмотря на поздний час. Порывистым движением он прижимает ее к себе.
— Я тебя обманула, — шепчет Аямэй, дав ему осушить ее слезы.
Он не смеет ни шевельнуться, ни заговорить, ни даже вздохнуть.
— Я не кончила! У меня никогда не было оргазма!
— Что?
— Я притворялась… Я ничего не почувствовала!
Вот почему она так спешила уйти! Она фригидна, ему не почудилось!
Он обессиленно опускается на диван. Глубоко вздыхает, чтобы успокоиться.
— У тебя там было мокро. Ты покраснела. Ты отвечала на мои ласки в точности как женщина, которой нравится заниматься любовью. Ты вовсе не фригидна.
Эти слова вызывают бурю рыданий.
— Мне показалось, что на этот раз я смогу кончить. Но нет, не получилось. Я ничего не почувствовала. Я не женщина, а недоразумение. Мне никогда не узнать счастья быть женщиной.
— Не клевещи на себя!
Джонатан отчаянно ищет довод.
— Женщина — это не только вагина. В сексе участвуют и мозг, и кожа, и душа. Это целый комплекс тончайших механизмов. Как знать? Может, ты кончила, сама того не ведая.
— Я делала вид, будто мне хорошо. Прости!
Вздохнув, он привлекает ее к себе. Все объяснилось: порядок в квартире, маниакальная чистота, черное пальто. Монашка. А он получил задание: проникнуть в это ледяное одиночество.
— Ничего, — шепчет он ей, сам в это не веря. — Я тебя вылечу. Вот увидишь.
— Ты не сердишься?
— Сердиться на тебя? Люди причинили тебе зло. А я хочу тебе добра. Клянусь.
В ее глазах благодарность. Джонатан отводит взгляд.
— Идем спать, — говорит он и, увлекая Аямэй за руку, тяжелыми шагами направляется в спальню.
— Я кукла, марионетка, — всхлипывает она за его спиной. — Я играла, чтобы доставить тебе удовольствие… Кричала, содрогалась… Ты не сердишься, что я сказала правду? Прости меня…
— Все мы марионетки в мире иллюзий…
— …и кто-то невидимый дергает за ниточки, чтобы я плясала.
— В нашем мире все иллюзорно: страдание, наслаждение, ты, я, тот, кто дергает за ниточки, свобода, страх, одиночество… Я хочу спать. Сними платье. Ложись.
— Я никогда не спала с мужчиной.
— Я тоже давно не спал с женщиной. Будем привыкать друг к другу.
Темнота примиряет душу и тело. Темнота проливает бальзам, в котором растворяется ложь. Двуспальная кровать — глухой застенок, в котором два одиночества соединило ожидание прекрасных снов. Аямэй, свернувшись клубочком, отворачивается к стене. Джонатан изо всех сил прижимает ее к себе.
* * *
Он просыпается словно от толчка. Привстает на локтях. Ночь не такая темная, как он думал. Или уже утро. Часы у него на руке. Они показывают семь сорок две. В постели рядом с ним кто-то есть. Женщина! Он вспоминает все. Париж, площадь Эдмона Ростана, 21. Сегодня, 28 апреля 2005 года, Аямэй и Джонатан провели ночь вместе.
Она еще спит, голова лежит точно в середине подушки. Одеяло натянуто до подбородка. Щеки невинно-пастельного цвета, приоткрытый рот как спелая ягода. Ее гладкой коже неведомо страдание, ее сомкнутые веки скрывают глаза, которые, наверно, видят тысячу чудес сладкого сна. И эта женщина фригидна? Она лжет!
Джонатан, с восставшей плотью, тихонько придвигается к ней. Его рука скользит к ее груди. Нога касается лона. Не встречая сопротивления, он наваливается на нее. Она открывает глаза.
— Что ты делаешь?
— Пытаюсь тебя вылечить.
— Не трогай меня.
— Не упрямься. Тебе понравится.
Он целует ее. Она мотает головой.
— Я убила Миня, я и тебя могу убить.
— Там будет видно.
— Не надо, Джонатан, не надо! Ты пожалеешь.
— Никогда не боялся сожалений…
Он зажимает ей рот поцелуем. Ее лоно глубокое и теплое, почему же она уверяет, будто не знает наслаждения? Она кончит, иначе быть не может. Джонатан слышит протяжный гул — словно где-то рядом заработал мотор — и вдруг получает электрический разряд прямо в мужское естество. Боль пронзает все тело, от взрыва в голове он почти глохнет. Как сквозь туман до него доносится собственный голос:
— Ты убила меня!
Он просыпается от запаха кофе.
— Который час?
Она отвечает откуда-то издалека:
— Две минуты первого.
Он открывает глаза. Аямэй раздернула шторы. В сером небе зависли тяжелые, набухшие дождем тучи. Она идет к нему с двумя чашками кофе. Беззастенчиво демонстрирует свою наготу. Улыбается. Под глазами у нее залегли синие тени. Так лучиться жизнерадостностью может только женщина, довольная ночью любви с мужчиной, который ей нравится. Он ставит чашку на тумбочку и привлекает ее к себе.
— Ну что?
— Я сделала тосты. Будешь?
Высвободившись из его объятий, она уходит и возвращается с полной тарелкой поджаренного хлеба. От ее шагов, по-ребячьи резвых, дрожат половицы. С тайной гордостью Джонатан рассматривает это атлетическое тело, которым он обладал. Она держится очень прямо, но нет больше этакой военной несгибаемости в посадке головы. Такие губы бывают только у счастливой женщины, так улыбается девочка, открывшая для себя новые радости.
Обмакнув ломтик хлеба в кофе, он наконец спрашивает:
— Кто такой Минь?
Ее улыбка гаснет, взгляд устремляется в окно.
— Я никому не рассказывала про нас с ним.
— Не надо, не говори ничего. Я не хочу, чтобы тебе было больно.
— Нет, я сама хочу рассказать… Мне было четырнадцать лет, когда в моем классе появился Минь. Этот новенький был очень красив. Он писал стихи, но отставал по математике. Я помогала ему решать уравнения, и мы подружились. На вершине холма возле нашей школы была заброшенная хижина. Мы убегали с уроков физкультуры, чтобы побыть вместе. Я читала. Он рисовал. Вечером мы ехали домой на велосипедах. Наперегонки. Я крутила педали все быстрее, быстрее. Меня подхватывал ветер, я летела. Какое это было счастье — воспарить с Минем в небеса! Однажды кто-то донес на нас. Учитель, не сомневаясь, что дело тут любовное, сообщил обо всем нашим родителям, а потом и в дирекцию. В те времена в китайских школах «влюбляться» строго запрещалось. За это исключали, и Миня выгнали из школы. Мы были еще подростками. Наши тела не созрели для продолжения рода, нам были неведомы сексуальные желания, от которых взрослые теряют разум. Но для нас уже стало невыносимой мукой быть вдали друг от друга. Как ни следили за мной родители, я вылезала ночью в окно и бежала к нему на холм. Однажды я упала с дерева и сломала ногу. Тут обе семьи пришли в неописуемую ярость. Родители Миня переехали в провинцию, решив, что расстояние положит конец нашим «отношениям». Минь украл деньги и вернулся за мной. Чтобы больше не страдать и не расставаться, чтобы наказать наших мучителей… он убедил меня: мы должны умереть.
Аямэй умолкает. Берет в руки чашку с кофе, но не пьет.
— В часе езды от Пекина есть горная цепь. По крутизне, по опасной тропке мы забрались на самую высокую вершину. Скала отражалась в голубом озере. Мы шли вперед, держась за руки. И вот — игра света на воде затягивает меня, Минь увлекает за собой, я лечу! «Минь, я не хочу умирать. Я хочу жить. Минь, я хочу видеть, как встает солнце, как загораются звезды в небе. Я хочу снова дождаться осени, хочу кататься на коньках, когда придет зима!» Но было поздно. Я не удержала Миня. Он взмыл в небо, точно комета, и исчез, не оставив следа…
Она медленно пьет кофе. Закончив, вытирает губы.
— Минь в небесах, а я низвергнута в пропасть. Жизнь без него стала мукой, и чувство вины не давало мне покоя. Мертвый, он преследовал меня повсюду. Когда я одевалась, когда катила на велосипеде, когда сдавала экзамены, я чувствовала его присутствие рядом, читала страдание на его лице. Я замкнулась с ним в мире, принадлежавшем только нам двоим. Мне больше не хотелось никуда ходить, не хотелось «влюбляться». Я наводила красоту для него, побеждала в национальных конкурсах с его помощью. Я подросла и стала его невестой, его женой. Когда я впервые занималась любовью, со мной был он! События на Тяньаньмынь освободили меня от его власти. Он перестал шептать мне на ухо и целовать меня, когда я шла по улице. Я бежала из Пекина. Пересекла всю страну, и целая армия гналась за мной по пятам. Меня насиловали встречные мужчины. Я сама продавалась за кусок хлеба, за глоток воды. Минь покинул меня. Он оставил меня одну в этой грязи… Прости меня, я гадкая женщина!
Плечи Аямэй вздрагивают, согнувшись, она закрывает лицо ладонями и плачет. Джонатан молчит, зная — что бы он ни сказал, все будет ложью. Он долго сидит, будто оцепенев, потом вздыхает:
— Почему ты все время извиняешься? Это у тебя люди должны просить прощения. И я всего лишь самый обыкновенный человек и не заслуживаю того, что ты мне подарила. Мне так жаль, что я заставил тебя плакать.
Она утирает слезы.
— Я не понимаю, что произошло между нами… Джонатан, ты не такой, как все. Ты обижен жизнью, но ты простил. Ты сохранил веру в людей и примирился с судьбой. Ты исключительный человек! Меня потянуло к тебе, как бабочку к огню. Я пришла, чтобы украсть у тебя немного мужества и… тепла твоего тела.
Джонатан не находит слов. После долгой паузы он встает:
— Иди сюда.
Взяв за руку, он ведет ее к окну. Дождь перестал. Пробившийся сквозь тучи солнечный луч рассекает Люксембургский сад и играет на телах любовников — они оба голые. У Джонатана загорелая кожа, у Аямэй — почти белая. У него светлые, коротко остриженные волосы, у нее — черные и длинные. Но они, мужчина и женщина, во многом похожи: их тела мускулисты, а души одержимы демонами, хоть демоны у каждого свои.
Джонатан наконец находит что сказать:
— Вот, смотри, мы в небесах. У наших ног прекраснейший сад прекраснейшего города в мире. Надо жить сегодняшним днем. Забудь свою печаль, Аямэй, ты живешь и свободна…
Постель, уютный и мягкий мирок! Прикосновение тела к телу — прекраснее языка нет на свете.
— Ты чувствуешь меня?
— Да… я тебя чувствую.
— Ну как?
— Не знаю… Я не могу расслабиться… Смотрю на себя будто со стороны…
— Закрой глаза. Скажи, что тебе нравится во мне.
— Мне нравится твой взгляд… нравится твоя улыбка… нравится косточка на твоем запястье… нравится твоя рука… нравится, как ты меня целуешь… нравится спать с тобой…
Она вздыхает и открывает-распахивает глаза.
— Не могу.
Он останавливается. С минуту медлит и говорит:
— Я знаю, как тебя вылечить.
— Как?
Голос Джонатана мрачен:
— Ты не можешь рассчитывать на чью-то силу. Ты можешь рассчитывать только на себя.
— Скажи мне, что я должна делать.
— Что ты должна делать?
Каждое произнесенное слово удручает Джонатана. Но его уже не остановить.
— Продолжать борьбу, которую ты начала в восемьдесят девятом. Ведь в глубине души ты так и не смирилась с поражением на Тяньаньмынь. Вступи в новый бой, возьми реванш за прошлое, иначе так и будешь отвергать удовольствие в любом виде.
Она мотает головой:
— Там, в Китае, общество развивается и жизнь становится лучше без моего вмешательства. Демократизация неизбежна, это только вопрос времени. Политик, бизнесмен, рабочий, официант в ресторане, любой китаец больше меня причастен к возрождению страны. Ведь я не живу в Китае, не разделяю их повседневных забот, ничем не рискую и только занимаюсь пустословием. Этот мой бой — сплошное лицемерие. Он мне нужен, чтобы доказать самой себе, что Аямэй еще жива.
Он заглядывает ей в глаза.
— Ты ошибаешься, сделать можно очень многое. Ты только подумай: с помощью компьютерных систем мафиозные структуры объединились и опутали своими сетями всю планету. Правители-злодеи — это старо, теперь все правители, будь они демократы или тираны, пляшут под дудку злодеев. Они действуют заодно. Они грабят народы. Всё — от хода истории до биржевого курса — они могут повернуть в свою пользу. Вот тебе пример. Ты знаешь, как китайское правительство просочилось во французскую политическую среду? Знаешь, что Франция продает Китаю оружие в обход эмбарго, принятого Европейским союзом после событий на Тяньаньмынь? Знаешь, что эти грязные деньги отмываются в Гонконге, на Тайване, на Каймановых островах, в Швейцарии, в Люксембурге и потом идут на финансирование политических партий? И все это делается простым щелчком компьютерной мыши. А знаешь, что ключевая фигура этой обширной коррупционной сети зовется Филипп Матло и является, ни много ни мало, экономическим советником премьер-министра?
Она высвобождается из его объятий.
— Филипп Матло? Не может быть! Он с давних пор поддерживает Общество друзей демократии в Китае. Я преподаю китайский двум его дочкам. Мне известны его политические убеждения. Этого не может быть!
Джонатан усмехается:
— Ничего удивительного. Ему требовалось прикрытие, и он выбрал тебя. Он привечает героиню Тяньаньмынь, защитницу прав человека, — кто после этого заподозрит его в связях с коммунистами и поставках оружия в Пекин? Дьявольская игра, ничего не скажешь. Вот это манипулятор!
Аямэй смотрит на него в упор:
— Кто ты такой? Откуда все это знаешь?
Он улыбается:
— Ты доверила мне свою тайну, открою и я тебе свою. Я уже говорил тебе о моих друзьях. Так вот, мы входим в организацию под названием «Земной Мандат». Наша цель — искоренить коррупцию и восстановить попранные человеческие истины на Земле. Благодаря деятельности наших членов — а их больше трехсот тысяч на всех пяти континентах — мы создали параллельную власть, и только она способна противостоять засилью мафии, этой чуме двадцать первого века.
— «Земной Мандат»? Я слышала о нем. Активисты этого движения задержали в порту корабль с ядерными отходами, который должен был пересечь Атлантику. Это секта!
— Иисус тоже был гуру, его секта называется христианством. Его преследовали римляне. С древнейших времен действующая власть боится духовных течений, освобождающих человека от всеобщей лжи. Основанный десять лет назад «Земной Мандат» предлагает мужчинам и женщинам посвящение из девяти ступеней, которые приведут их к Высшей Истине. Крепкая связующая нить объединяет нас: мы все хотим изменить мир.
— Когда ты стал адептом?
— Два года назад. Теперь я допущен в ложу Очищения. Моя работа — выявлять мафиозных политиков. Я составляю досье, которые будут переданы журналистам, издателям, полицейским, следователям, налоговым инспекторам — и среди них есть наши братья. Нашими усилиями эти люди будут разоблачены и наказаны. В общем мы выполняем работу санитаров, потому что другие люди, тоже купленные с потрохами, давно умыли руки.
Голос Аямэй становится ласковее:
— Я знала, что ты любитель рискованных приключений. Это опасная работа. Тебе не страшно?
— Страшно? Этому учат на третьей ступени нашего посвящения: страх — иллюзия. Ты ведь и сама пережила этот опыт, не ведая того, на Тяньаньмынь. Ты можешь меня понять.
— А твоя работа инженера?
— На хлеб насущный. В «Земном Мандате» у каждого из нас есть профессия. Платят нам только наши работодатели.
— Как тебе удается жить двойной жизнью?
— Ты тоже живешь двойной жизнью: в одной ты — учитель кунг-фу и преподаватель китайского языка, в другой — Аямэй, героиня Тяньаньмынь, председатель Общества друзей демократии в Китае.
— Почему же ты посвятил меня в свою тайну и…
Он перебивает ее и шпарит как по писаному, будто обойму разряжает:
— Я дважды осиротел. Я утратил веру в жизнь. Искал забвения в алкоголе и объятиях женщин. «Земной Мандат» помог мне вновь обрести себя. Я уже не тот слабый человек, страдавший от чувства заброшенности и недостатка любви. Я стал членом семьи и нахожусь под ее защитой. Безотчетных страхов, тоски, уныния как не бывало. Каждое утро я просыпаюсь с надеждой и желанием бороться. Аямэй, присоединяйся ко мне в этой борьбе. Ты расцветешь, снова поверишь в людей. Потому что ты, ты сама, сделаешь человечество лучше.
— Вступить в секту? Я не знаю…
— Подумай, не торопись, — шепчет он, обнимая ее. — Знаешь, что мне в тебе нравится? Твои волосы, твои глаза, твой запах, твоя бархатная кожа, твоя грудь, твои колени, твои пальчики на ногах… и твой лоб, когда ты задумываешься.
Он впивается поцелуем в ее губы.
Закрыв глаза, она позволяет себя целовать.
Из уголков ее сомкнутых век скатываются слезинки.
II
Взгляд Филиппа Матло обшаривает пустую гостиную. Он срывает галстук, швыряет на диван пиджак. Ему хочется кричать.
Открывается дверь спальни.
— Добрый вечер.
Он пятится.
— Ты… ты здесь?
— Я подумала, что ты, наверно, нуждаешься в утешении. Не очень-то приятно быть одному в пятницу вечером. Извини, я вошла без стука.
Филипп тяжело оседает в кресло.
— Она уехала.
— Знаю.
— Забрала детей.
— Знаю.
— Вот, прочти, она оставила мне письмо.
— Я его читала.
— Браво. Я ничего не заметил.
— Вскрывать письма — первое, чему учатся, осваивая азы профессии.
Филиппу думается, что надо бы воспылать праведным негодованием. Но он так устал сегодня. В конце концов, эта женщина хотела влезть в его жизнь и добилась своего. Не только в жизнь — в самые потаенные глубины сознания проникла. Тысячу раз она вторгалась в его личные дела, и тысячу раз это было с его согласия.
— Ну? — спрашивает он.
Зато на нее можно опереться, иначе ему не устоять.
— Она вне себя. Я ее понимаю. Мало приятного — узнать, что у мужа есть любовница. Ты сказал ей, что едешь в Брюссель, а сам ужинал тет-а-тет с девицей в ресторане в Монако, где — вот не повезло-то! — тебя заметила ее подруга. Очень неосторожно, особенно для неверного мужа!
Она потешается, а Филипп Матло готов рвать и метать. Но сохраняет спокойствие: чему-чему, а терпению он научился за долгие годы работы в министерствах.
— Если она захочет развода, я не буду возражать, — холодно произносит он.
— А как ты объяснишь это премьер-министру? Коль скоро он узнает, что ты содержишь call-girl[2] на деньги его будущей предвыборной кампании…
— Что? Ты следишь за мной? — Филипп вскакивает и, тыча в собеседницу пальцем, повышает голос: — Я тебе уже говорил: оставь меня в покое! У нас деловые отношения. Я не могу работать на вас в таких условиях! Да все в правительстве гуляют от жен направо и налево, это ни для кого не секрет. Я встречаюсь с проституткой, это даже не измена.
— Все, но не ты, Филипп. Твой министр метит в президенты, и его избирателям известна твоя политическая позиция. Это же надо додуматься — взять в любовницы украинскую девку! А вдруг она работает на русских? Вдруг тебе ее подсунули? Недоброжелатели запросто могли установить видеокамеру в вашем номере в отеле. Подумай о карьере твоего министра, да и о своей тоже!
Филипп кидается к письменному столу, где лежат письмо жены и оставленная ею стопка фотографий. Он рассматривает их одну за другой. Поворачивается к гостье:
— Ты послала эти фотографии моей жене, да? Не было никакой подруги в Монако. Это ты установила за мной слежку! Зачем?
— Я? Конечно нет!
В ее голосе — обезоруживающая искренность профессиональных лжецов. Ее честный и добрый взгляд напоминает ему его министра, которого он только что сопровождал на телепередачу.
— Я сегодня пришла давать урок детям и застала твою жену в слезах. Она показала мне фотографии, и я ей сказала, что если она не может больше этого терпеть, то надо уходить. Я посоветовала ей оставить фотографии, чтобы пристыдить тебя. Хорошее дело я сделала, правда? Она могла прихватить их с собой и потребовать опеки над детьми, когда подаст на развод.
Филипп Матло раздавлен.
— Должны же у меня быть хоть какие-то радости в жизни! Ты что, не видишь, что я всего лишь лакей? Я должен потакать капризам премьер-министра, который только и думает, как бы перебраться из Матиньона[3] в Елисейский дворец. Мне всего лишь тридцать восемь, а у меня уже седые волосы! Надо же мне расслабляться хоть иногда!
Она смеется ему в лицо ледяным смехом.
— Приходится выбирать — секс или карьера, одно из двух. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы тебя удалили из ближайшего окружения премьер-министра. Мы ни в коем случае не хотим тебя потерять. Ты — самый одаренный из твоего поколения. В две тысячи седьмом году тебе исполнится всего сорок лет и ты будешь министром. Мы тебя продвинем. Филипп Матло, тебе никогда не хотелось стать президентом республики?
Какой политик не думает о президентском кресле?
Филипп Матло становится шелковым:
— Ладно, признаю, я был неосторожен. Отныне буду довольствоваться прелестями моей жены… если она вернется.
Не забывает он и польстить своей собеседнице:
— Ты ведь знаешь, все последние годы я хотел только тебя. На тебя одну у меня встает. Только потому, что ты мне отказываешь, я ищу утешения на стороне.
Аямэй сдержанно улыбается:
— Лгунишка. Идем, я приготовила ужин.
Она встает. Шелковая юбка хлещет его по коленям, остроносые лодочки на шпильках подбираются к его ногам. Она протягивает ему руку. Поколебавшись, он подает ей свою. Решительным движением она тянет его к себе. Он поддается — как всегда. Она направляется в кухню, ведя его за собой, словно щенка на поводке. Оборачивается и улыбается ему. Он угадывает насмешку в ее глазах. И удовлетворение. Как же он ее ненавидит!
В кухне накрыт стол. Их ждут салат из шпината и грейпфрутов, копченая лососина и горячие блины. Все, что любит Филипп. Она достает из холодильника бутылку водки.
— Выпьем за твое будущее!
— За тебя, Аямэй, за верного друга, который желает мне добра. И за твое будущее тоже.
— У меня нет будущего. Я кану в забвение, без семьи, без детей, без славы. Ну, да здравствует Франция!
Она залпом осушает свою рюмку. Филипп наливает ей еще.
— Где моя жена?
— В Ницце.
— Я звонил ее матери, она сказала, что ее там нет.
— С каких пор ты веришь всему, что тебе говорят?
— То есть…
— Твоя жена вернется в воскресенье вечером.
Аямэй, запрокинув голову, осушает вторую рюмку.
— Я посоветовала ей съездить к родителям, чтобы мы с тобой провели этот вечер вдвоем.
— Откуда ты знаешь, что она вернется в воскресенье?
— Это я сказала ей, чтобы, чем закатывать сцены, припугнула тебя. Не беспокойся, на развод она не подаст. Без тебя она ничто. Мари Вертю никто не знает, все знают Мари Матло… Без тебя она не будет желанной гостьей на показах мод, премьерах и званых ужинах. Без тебя она будет разведенкой с двумя детьми. Ее кругом общения станут так называемые женщины в поиске. Она увидит, что годы летят быстро, а богатые и влиятельные мужчины засматриваются на молодых и красивых. О твоей карьере она будет узнавать из газет. Увидит тебя на обложке журнала с новой супругой, скорее всего актрисой или телеведущей. У этой женщины будет все. Если ты станешь министром, все твое министерство будет курить ей фимиам. Когда-нибудь, быть может, она станет первой леди Франции и к ее услугам будет президентский самолет, в то время как Мари Вертю так и будет летать эконом-классом на регулярных рейсах и состарится, забытая всеми и Францией. Я напомнила ей девиз баронессы де JIa Рок, столь любимый в парижском высшем обществе: «Лучше быть вдовой, чем разведенной». Ты позвонишь ее родителям и попросишь у нее прощения. Она простит тебя.
— Какая прозорливость! Я не знаю никого циничнее тебя.
Улыбнувшись, она опрокидывает третью рюмку.
— Прагматизм, как говорят на футболе… Ты-то ведь тоже напрямик объясняешь своему министру, почему та или иная реформа бесполезна, если она не нравится его электорату. Полно, Филипп, ты же не мальчик. Налей мне еще водки!
Филиппу совсем не хочется есть. Он ковыряет в тарелке для вида.
— Ты спровадила мою жену, чтобы переспать со мной?
— Очень смешно. Ты просто сексуальный маньяк. Тобой заинтересовались, Филипп Матло! Кое-кто разнюхивает про поставки оружия в Китай. Кое-кто думает, что ты — связующее звено между Пекином и Парижем. Кое-кто надеется благодаря тебе найти зацепку, чтобы это доказать. Послушай меня и запомни раз и навсегда: надо быть очень осторожным.
Он ударяется в панику:
— Кто эти люди? Почему я? Почему не Симон, уполномоченный от Европарламента? Почему не Иду, первый поставщик французского оружия, двоюродный брат президента? Кто я в сравнении с ними — мелкая сошка, обслуга. Как на меня вышли?
— Как тебя засекли? Пока не знаю. Во всяком случае, у тебя есть одна слабость, которую не спрячешь!
— То есть?
— Я!
— Почему ты?
— Потому, что я Аямэй. Разве недостаточно моего имени? Тебе это больше ничего не говорит — Тяньаньмынь, права человека, коммунистическая диктатура в Китае? В моем доме поселился некий человек, имеющий паспорт на имя Джонатана Джулиана. Я сообщила о нем Цзу Чжи. Они попросили меня закрутить с ним роман, чтобы выяснить его намерения. Он попался на крючок. И поведал мне, что является членом «Земного Мандата». Его миссия — разоблачать незаконную торговлю оружием. Он задумал использовать меня, чтобы добраться до тебя. Он хочет знать все: о твоих контактах — то есть наших контактах, о твоем образе жизни, о заторможенных делах, о сомнительных счетах, об иностранных банках, обо всех твоих грязных тайнах, которые могут дестабилизировать власть во Франции.
— Секта «Земной Мандат»! Как раз сейчас они заколебали правительство делом о ядерных отходах. Что им еще надо?
— Лучше спроси меня, что надо нам! Цзу Чжи очень интересуется этой американской сектой, связанной с ЦРУ. Они решили, что представился редкий случай внедрить туда нашего человека. И этот человек — я.
Он усмехается:
— Ты — двойной агент? Я — объект и источник? Абсурд.
— Этот мир вообще абсурден.
Аямэй опрокидывает четвертую рюмку водки. Филипп нервничает все сильней.
— Это опасно, вы просто с ума сошли! Вы погубите меня. Лучше пусть его спровадят. Или убей его!
— Невозможно. «Друг пришел издалека, это ли не радость?» — сказал Конфуций. Не было бы Джонатана Джулиана — был бы кто-то другой, другая разработка. В нашем деле лучше знать проблему, чем пребывать в неизвестности. Будь спокоен, живи как жил. За тебя, за вас я готова хоть в ад…
Эти словеса ему неинтересны, и он перебивает ее:
— Ты с ним спала?
— Угу.
— Ну и как?
— Неплохо. Под импотента они не стали бы меня подкладывать.
— Ты спишь с кем попало! Два месяца назад был посол Надэ, а у него воняет изо рта.
— А тебя каким боком касается моя сексуальная жизнь? Я переспала с ним, чтобы он пригласил меня в Южную Африку. Всю жизнь мечтала увидеть жирафов и носорогов.
— Как же! Жирафы и носороги… Вы продаете бракованное оружие мятежникам из Кот-д’Ивуара…
— Вы тоже! Как бы то ни было, с тобой я больше не сплю. Хочешь совет? Помалкивай и займись своей женой. Ей это нужно.
Он не остается в долгу:
— С моей сексуальной жизнью все в порядке. Меня беспокоит твоя. Скажи, ты с ним кончала?
— С кем? С послом или с американцем?
Он меняет тон на сочувственный:
— Бедняжка моя, ты же превратилась в проститутку, как ты можешь?
— Это часть моей профессии. А сам-то ты? В правительстве разве не тем же занимаешься?
Бесполезно продолжать этот спор. Бог умер, а люди утратили понятия добра и зла. Филипп умолкает и вновь принимается за еду. Аямэй бросает взгляд на часы, висящие на стене.
— Уже десять!
Она быстро встает и направляется к двери.
— Куда ты?
Она не отвечает. Он идет следом.
В туалете, согнувшись над унитазом, она засовывает два пальца в рот. Содрогается в рвотном спазме. Стоя в дверях, он смотрит на нее с брезгливой жалостью. Хочет и никак не может возненавидеть ее. А ведь она — раковая опухоль его жизни. Она в его мыслях, в его снах, в его сперме, когда он кончает.
Он протягивает ей пачку бумажных салфеток.
— Спасибо… Я сказала Джонатану Джулиану, что не пью. Аллергия на алкоголь.
— Почему?
— Потому что с ним я — Аямэй, чистая, наивная душа, раненая бунтарка.
— А со мной?
Она поднимает голову.
— Можешь радоваться, я не играю. С тобой я такая, какая есть, увы.
— Ты сейчас идешь к нему? Поэтому вызвала рвоту?
— Нет, идиот. Мне надо протрезветь, работа ждет. У нас вся ночь впереди. Давай сюда свой ежедневник и записную книжку. Достань из моей сумки ежедневник и записную книжку, они такие же, как твои, только чистые. И завари мне зеленого чаю, пожалуйста, а я пока приму душ.
Он идет за ней в ванную.
— Что ты хочешь сделать?
— Запутать следы. Составь список людей, которых терпеть не можешь… Слушай, выйди, а? Дай раздеться.
* * *
Филипп Матло не верит в бессмертие души. Не верит в Страшный суд. Ошибка христианства, думает он, в том, что нам внушают, будто мы живем на земле, а между тем мы уже в аду.
Он познакомился с Аямэй семь лет назад, на каком-то партийном празднике, под сводами шатра в Венсеннском лесу. В толпе гостей его глаза вдруг наткнулись на нее. В черном плаще, держа руки в карманах, она стояла за колонной. Брови нахмурены, лицо непроницаемо, взгляд рассеянно скользил по танцполу. Ее прямая фигурка выделялась среди француженок, которые накачивались белым вином и шумно здоровались, хлопая друг друга по плечу. Не надо было ему рассматривать ее так внимательно. Скользнул бы взглядом — женщина и женщина, — как по тысячам других на протяжении своей политической карьеры. Увидел и забыл — она осталась бы пылинкой среди мириадов других таких же в этом огромном мире. Его жизнь потекла бы по-прежнему, но судьба сложилась бы иначе.
Но у нее был красивый профиль, и он смотрел, пока она не повернула голову в его сторону. Увидела его и улыбнулась. Ему было скучно. Нет зрелища глупее, чем эти предвыборные праздники, на которых партия лакирует свой популистский имидж. Он через силу побродил среди гостей, пожал кому-то руки, с кем-то обнялся, выпил три рюмки, доел паштет по-деревенски и потихоньку направился к выходу.
— Филипп, ты уже уходишь?
Он обернулся и увидел Жака Отбуа, депутата от департамента Сена-и-Марна, защитника прав человека в Китае, тибетцев, индейцев Амазонки и беженцев из Руанды.
— Ты знаком с Аямэй?
Депутат посторонился. За его спиной стояла женщина восточной внешности в черном плаще.
— Аямэй, разреши представить тебе Филиппа Матло. Он работает в Министерстве промышленности и на той неделе летит в Китай. Филипп, ты все еще не узнаешь Аямэй? Ну же, Тяньаньмынь, восемьдесят девятый год, мы все видели ее по телевизору.
— Ах да, действительно, это она десять лет скрывалась в китайской глубинке, а потом добралась до Гонконга вплавь?
— Да, это она!
Жак Отбуа подтолкнул ее к нему. Филипп протянул ей руку, она подала свою. Пока они здоровались, Отбуа скрылся в толпе.
Надо было задать ей хотя бы один вопрос, прежде чем тоже ретироваться.
— Вы теперь живете в Париже?
— Да.
— Что ж, прекрасно…
— Вы летите на той неделе в Китай?
— Да, для подготовки первого визита моего министра в вашу страну. Рад был с вами познакомиться. И еще раз браво… за то, что выбрали Францию.
В глазах молодой женщины мелькнуло разочарование.
— Вы уже уходите?
— Да, мне надо еще поработать, — соврал Филипп (на самом деле он собирался наведаться в мансарду к одной японской студентке, прежде чем вернуться к семейному очагу).
— Я тоже ухожу. Мне, как и вам, скучно на таких праздниках.
— Откуда вы знаете, что мне скучно?
Она улыбнулась и ничего не ответила.
— Вы не подвезете меня? Я живу около Инвалидов.
Филипп отметил некоторое очарование в улыбке, на миг озарившей ее суровые черты.
— Мне по дороге. Идемте.
Поездка заняла двадцать минут. Филиппу помнится, что в то время она говорила по-французски с акцентом. Он расспрашивал ее о Тяньаньмынь, о бегстве, о жизни в Париже. До сих пор он не может понять, когда у него щелкнуло в мозгу. За всю дорогу она не распахнула плащ, сидевший на ней мешком, не распустила волосы, собранные в «конский хвост». Не было между ними ни одного двусмысленного жеста, поощрительного слова, кокетливого взгляда. Он довез ее до дома и записал телефон. Зашел к японке, которая ждала его в бюстгальтере, клетчатой юбочке и белых носочках. На следующей неделе он улетел в Пекин. Это была его первая поездка в Китай. Отель, где он жил, располагался в двухстах метрах от Тяньаньмынь. Солдаты несли караул у памятника Освобождения, там, где Аямэй и ее друзья объявили голодовку. По площади прогуливались туристы, щелкая фотоаппаратами, дети запускали воздушных змеев.
В Шанхае ему показали экономический рост Китая во всей красе. В Чунцине, в последний вечер, после банкета и обильных возлияний с местными тузами, он прогуливался неподалеку от своего отеля и случайно забрел в чайный салон. Шел дождь; красные фонарики покачивались на ветру. Голос Аямэй вдруг зазвучал у него в ушах. Вспомнились ее слова: «Современный Китай родился на площади Тяньаньмынь. Вы можете работать с моей страной, не испытывая чувства вины. Напрасно Жак требует санкций против Пекина. Он чист, омытый кровью студентов». В тот вечер Филипп сказал себе: героиня Тяньаньмынь — почему бы нет, все равно японки уже приелись.
Он позвонил ей через неделю после возвращения из Китая. Они встретились в кафе. Она пришла без плаща, с распущенными волосами, в платье, выгодно подчеркивавшем соблазнительную грудь. Еще через неделю он пригласил ее поужинать. В тот же вечер они оказались в постели, в ее квартирке с видом на позолоченный купол Инвалидов.
В ту пору, два года спустя после рождения Камиллы, его старшей дочери, Филипп начал пользоваться успехом у женщин. Впервые вкусив запретного плода с одной стажеркой из министерства, он вскоре перестал считать свои походы налево. Филиппа тянуло к двадцатилетним девушкам, незрелым и пылким. Японка открыла ему нежность и изощренность восточных женщин. Встреча с Аямэй стала апофеозом его преображения: робкий студент дорос до мужских игр и в альковах, и в коридорах власти.
Китаянка была всего лишь одним приключением из многих, которым он с дотошностью экономиста отводил в своей жизни ровно столько места, сколько требовалось. Он приходил к ней раз в неделю. Они ужинали у нее на кухне — это было безопаснее, да и дешевле, чем вести ее в ресторан. Закончив ужин, сразу же ложились в постель. Со временем он стал управляться в неполных два часа на все про все, успевал домой до полуночи и, ложась под бочок к Мари, не чувствовал за собой особой вины. Китаянка отнюдь не была самой разнузданной из его пассий. Ему было хорошо с ней по другой причине. Она подвергалась преследованиям в своей стране, приехала в Париж без багажа и без документов. С ней он сам себе казался сильным и добрым. Занимался любовью, чувствуя себя благодетелем: в его понимании эта женщина, много выстрадавшая, заслуживала в гостеприимной стране лучшего оргазма.
Однажды она уговорила его прочесть лекцию в Обществе друзей демократии в Китае. Он согласился. От имени своей организации она вручила ему конверт с тысячей евро. Он взял деньги, не чинясь. Потом она попросила написать вступительное слово к каталогу какой-то выставки. За эту ерундовую работу он получил четыре тысячи наличными. Аямэй жила скромно, хоть и говорила, что активисты китайской диаспоры регулярно вносят пожертвования в пользу ее организации. На открытии выставки она познакомила его с китайским бизнесменом из Гонконга, одним из ее щедрых спонсоров. Он хотел импортировать во Францию махровые полотенца, и за два месяца Филипп нашел ему партнера. В благодарность китаец пригласил его на ужин и вручил коробку шоколадных конфет, в которой оказалось двадцать банкнот по пятьсот евро. Филипп дал себе три дня на размышление. Мари была мотовкой, они ожидали второго ребенка, Жюльетту, он взял ссуду, чтобы купить квартиру. К концу каждого месяца от его зарплаты не оставалось ровным счетом ничего. Почему бы не взять комиссионные, которые он считал честно заработанными? Потом было много других китайских предпринимателей, борцов за права человека. Аямэй стала ему необходима, поскольку обеспечивала приятный побочный доход. В тот день, когда она открыла ему правду: на самом деле он работал на Пекин, а ей был известен номер счета в Лихтенштейне, на который поступали комиссионные от клиентов, Филипп Матло понял, что назад ходу нет. Он уже продал душу дьяволу.
В тот день она дала ему знать, что он у нее в руках; с тех пор к телу его больше не допускали, и всякие сексуальные отношения у них прекратились. Камилле было всего четыре года, когда Аямэй стала учить ее китайскому и сидела с девочками по вечерам, если Филипп и Мари выходили в свет.
Он стал пешкой, которую Пекин передвигал на большой шахматной доске рукой Аямэй. Его знание Китая и компетентность в стратегиях заметили, заместитель министра промышленности представил его министру финансов, и тот поручил ему разработку досье по вооружениям. Допущенный в сонм великих, Филипп Матло развернулся в полную силу. Он больше не маялся одиночеством и комплексом вины, не чувствовал себя мелким воришкой: теперь его место было в рядах повелителей войны, ряженных в слуг государства. Он тайно продал партию оружия в Китай. Комиссионные, поделенные между политическими кланами, заставили его забыть все страхи. Его партия победила на выборах, заместитель министра промышленности стал министром финансов. Год спустя он сменил премьер-министра, ушедшего в отставку после стодневной забастовки транспортников. Вслед за своим шефом Филипп перебрался на улицу Варенн. Он начал думать, что Аямэй — его счастливая звезда.
После терактов 11 сентября, поражения талибов и войны в Ираке ее вечная песня, которой она прожужжала ему все уши, вдруг показалась не лишенной смысла.
Китай — единственная сила, способная противостоять Соединенным Штатам.
Вооружать Китай — значит ослаблять Соединенные Штаты.
Франция останется на карте мира, только вписавшись в любовный треугольник с Китаем и США.
Китай — будущее Франции.
Китай — будущее Филиппа Матло.
Филипп Матло работает на будущее Франции.
* * *
Час ночи. Мари Матло извиняется за позднее возвращение и предлагает Аямэй остаться ночевать. Та предпочитает вернуться к себе, и Филипп вызывается отвезти ее.
— Понравилась опера? — спрашивает Аямэй, устроившись на пассажирском сиденье его машины.
— Я спал, чтобы выдержать торжественный обед, — отвечает он, поворачивая ключ в замке зажигания.
— Как у тебя с Мари, лучше?
— Терпимо, после того скандала. Мари женщина простая. Закатит сцену и успокоится. Я поклялся ей, что фотографии с анонимкой — монтаж, дело рук моих противников, мол, они копают под меня через нее.
— И она поверила?
— Конечно, а что ей оставалось?
Ожидая, пока откроются двери гаража, он кладет руку на бедро Аямэй. Она берет ее и аккуратно возвращает на руль.
— А как ты объяснялась со шпионом из «Земного Мандата»? Что наврала? Он ведь, конечно, заметил, что ты не ночевала дома в прошлую пятницу!
Она запрокидывает голову. Полосы света от фонарей скользят по ее лицу, она улыбается.
— Я сказала ему, что спала с тобой.
— Можно узнать почему?
Филипп злится еще сильней, читая откровенную гордость на ее лице.
— На следующий день после нашего с тобой вечера он, разумеется, не преминул заметить, что я вернулась только утром. Он спросил, где я была, и я ответила ему презрительным взглядом. А потом достала видеокамеру, которую он мне подарил.
Она смеется.
— Этот человек — прекрасный актер! Он вот так вздернул подбородок и внимательно посмотрел на меня своими большими голубыми глазами. Кто мог бы устоять перед таким взглядом? В нем было столько страха и боли, он будто молил меня молчать… Конечно же я не сделала ему такого подарка. Мне хотелось доставить себе удовольствие. Я ответила ему взглядом суровым и холодным, взглядом человека, только что совершившего убийство, и рассказала в подробностях о том, что произошло.
— Ничего не произошло…
— Все-таки у тебя начисто отсутствует воображение! Твоя жена решила свозить детей к своим родителям на уик-энд. Уезжая, она попросила меня дождаться тебя, потому что ты забыл ключи и должен был за ними заехать. Такой случай я упустить не могла. Я начинающая шпионка, копалась ужасно долго, сердце у меня отчаянно колотилось. Квартира, в которой я бывала много лет, вдруг стала незнакомой планетой. Испытывая стыд и какое-то странное возбуждение, я исследовала книжные реки, бумажные горы, ущелья, полные одежды, фотографий, игрушек, открыток, сувениров. Я надеялась найти государственные тайны, а обнаружила личные…
— Какова сочинительница! — угрюмо комментирует Филипп.
— Я читала какие-то бумаги в твоей спальне и вдруг услышала хлопок входной двери и шаги в квартире. Я ударилась в панику. Из спальни есть только один выход, в гостиную. Выйти мне было не успеть. Я не знала, куда спрятаться. Что я скажу, если ты войдешь и увидишь меня? Я совсем не умею лгать! А ты уже вошел в гостиную. И кажется, направляешься к спальне. У меня кружится голова. Сердце бьется так сильно, что я вот-вот задохнусь.
Аямэй смеется.
— Ну? Что же дальше? — холодно спрашивает Филипп.
— Я вскочила. Сорвала с себя платье, лифчик, трусики. Все это с таким шумом, что ты из-за двери позвал Мари. Я не ответила. Ты толкнул дверь. Я лежу на кровати голая, руки на животе, а между грудями связка ключей. «Что вы делаете?» — воскликнул ты. «Вы ищете ключи? Подойдите же!»
— Недурно, представляю себе эту сцену.
— Я избавила его от дальнейших подробностей. Не по доброте душевной, а чтобы не выйти из образа, ведь Аямэй в его глазах целомудренна. Потом ты ушел на какой-то ужин. Я сфотографировала твой ежедневник. Ты вернулся. В два часа ночи я нашла в кармане твоего пиджака маленькую записную книжку. Ее я тоже сфотографировала в туалете… Он слушал меня. Я как могла сохраняла мрачное выражение лица. Он молчал, а я пыталась представить, как реагировала бы на его месте. Изобразить страдание, желая дать понять женщине, что она ему дорога? Или печаль и смирение человека, получившего жестокий удар по собственной вине? Непростое упражнение, тут нужно действовать тонко и с умом, ни в коем случае не винить и не обижать женщину, иначе она замкнется в себе. Тепло подбодрить ее? Скрепя сердце похвалить? Но нельзя и уподобляться сутенеру, выпустившему свою подопечную на панель! Я с нетерпением ждала, что же он сымпровизирует…
Филипп перебивает ее:
— Почему ты непременно хотела заставить его ревновать?
— Я?
— Могла бы наплести что-нибудь попроще. Ты, холодная и безжалостная, непревзойденная мастерица простых и эффективных ходов, зачем ты вдруг нагромоздила целый лабиринт?
— Затем… — Она отворачивается к стеклу. — Чтобы вернее проникнуть в его организацию, чтобы лучше и дольше его использовать. Для этого нужно, чтобы он влюбился в меня. Так влюбился, что стал бы глух и слеп.
— Он — в тебя? — Филипп прыскает со смеху. — Ты забываешь, что он — тоже орудие. Если он, как думаешь ты и твои хозяева, послан ЦРУ, то это шахматист, видящий мир через призму математики. Чтобы он влюбился? Забудь…
Она хмурится.
— Что ты знаешь о шпионах? Можно подумать, тебе известно, где их слабое место? — Она показывает на левую сторону груди: — Здесь! Как у тебя, как у Мари, как у всех мужчин и женщин на свете. Именно здесь находится сейф, со сложным замком или не очень, у кого как. Профессионал высокого класса сумеет подобрать шифр к любой модели.
— Хочешь сказать, что ты — лучший профессионал, чем он? Ты еще не рассказала мне, что было дальше. Как он отреагировал на твою ложь?
С минуту подумав, она отвечает:
— Силен, блестяще сыграл. Очень силен! — Она опускает стекло, подставляет ветру лицо и волосы. — Он долго молчал, а потом пристально посмотрел мне в глаза. Я выдержала его испытание, не дрогнув. И знаешь, что он мне сказал? «Есть универсальная любовь, она противоположна любви эгоистической. В основе ее лежит равновесие между „давать“ и „получать“, „брать“ и „дарить“. Ты обокрала Филиппа Матло и взамен подарила ему несколько часов удовольствия. Это поступок тем более верный, что совершен он был спонтанно, без самокопания. Браво!»
— Он сумасшедший!
— Немыслимо, что и говорить. Я даже задумалась, шпион ли он в самом деле. Чтобы прояснить ситуацию, изобразила отчаяние: «Я легла с ним в постель ради тебя. Занимаясь с ним любовью, я думала о нас. Мне так жаль. Прости меня!»
Задетый за живое, Филипп хмуро бросает:
— Надеюсь, он не слишком обиделся.
— Он спросил, получила ли я удовольствие.
— Нет конечно же.
— Да, немножко.
— Он тебе поверил?
— Сказал: «Очень хорошо, продолжай».
— Вот видишь, — радуется Филипп, — он не влюблен в тебя.
— Он накрыл мою руку своей и добавил: «Твое тело еще недостаточно восприимчиво. Я помогу тебе раскрыть его до конца. Мы — всего лишь орудия Высшей Истины. Когда ты поймешь это, Тяньаньмынь отпустит тебя».
— Чушь!
— Мне вдруг показалось, что Цзу Чжи ошибся, что мы имеем дело с обыкновенным фанатиком секты «Земной Мандат». Я решила уколоть его в больное место. Сказала наивным голоском маленькой девочки: «А ты достигнешь когда-нибудь той ступени Истины, на которой „Земной Мандат“ отпустит тебя?» Вот тут-то я убедилась, что дело нечисто. Он помедлил, потом улыбнулся мне: «Ты слишком много думаешь. Слушай свое сердце, а не голову». — Аямэй смеется. — Почему он помедлил? Настоящий адепт не задумываясь ответил бы, что «Земной Мандат» — не тюрьма. Сам видишь, в этом американце нет истинной веры. Тем не менее он опасный противник. То-то я развлекусь! В этом соревновании победит сильнейший и умнейший.
— Вся эта игра похожа на кино по твоему и только твоему сценарию. Этот человек явился, чтобы уничтожить тебя, думаешь, он будет развлекать тебя и любить? Ты что, дура?
— Ты видел, чтобы я хоть раз оплошала? Я знаю, что делаю.
— Это все твои фантазии. Слишком часто ты ввязывалась в запутанные игры, которые ведут твои хозяева, у тебя просто ум за разум зашел. Ты совсем одна. Тебя гложет одиночество. Ты спишь с кем попало, чтобы добыть информацию. Когда тебе встречается фокусник, безумец, живой мертвец, для которого люди — пешки, который спит с тобой, чтобы прибрать к рукам, тебя тянет к нему как к собственному отражению в зеркале. Ну кому все это нужно? Он не знает, кто ты. Ты знаешь, кто он. Ты дергаешь его за ниточки, а не наоборот. Зачем ты ввязываешься в соревнование, в котором уже победила?
— Можешь высадить меня у светофора. Мне здесь только улицу перейти.
— Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?
— Ты ревнуешь к нему.
— Я — к нему? А почему не к бедняге Надэ, спроваженному в Южную Африку?
Она не отвечает, молча распахивает дверцу.
Он удерживает ее.
— Я ни разу не был в твоей новой квартире. Как там у тебя в гнездышке? Уютно?
— Я как-нибудь приглашу тебя в мое «любовное гнездышко». Пока! Спасибо, что подвез.
С этими словами она выскакивает из машины.
В свою бытность политической беженкой она была для него игрушкой. Став вышестоящей инстанцией, превратилась в палача. Она — самая близкая и самая далекая из всех людей в его жизни. Он не знает, как ее завербовала компартия, когда она стала их агентом. Не знает, какие она любит духи, какой цвет, где предпочитает отдыхать. Он никогда не делал ей подарков, они никуда не ездили вместе. Кто ее любимые писатели? Когда она в последний раз была в кино? Ни разу она не говорила ему, во что верит, чего боится, на что надеется. Они жили в одном мире, шли одним путем, не глядя друг на друга.
Филипп объезжает Люксембургский сад и едет назад по бульвару Сен-Мишель. Дом Аямэй возникает впереди, растет, надвигаясь. Он даже не знает, на каком этаже она живет. И забыл спросить, на каком этаже тот неизвестный, с которым она играет в любовь. Теперь он, враг, узнает, какие духи она любит и какими писателями зачитывается. Он поведет ее в кино и купит ей мороженое.
Терзаемый душевной мукой, Филипп едет в ночь.
* * *
Встречать Новый 1990 год Филипп был приглашен в три места. В час ночи он пришел к другу друга своего друга, который жил около Сорбонны. Дверь открылась. Он увидел толпу пьяных студентов, непонятно как разместившуюся в чердачной комнатке для прислуги. Оглушительно гремела музыка. Он никого не знал и хотел было сразу уйти. Какая-то девушка передала ему стакан, другая налила вина. Он потанцевал, стало жарко; в окно он увидел парня, карабкавшегося по пожарной лестнице, и последовал за ним. На крыше, стуча зубами от холода, тусовалась компания студентов. Из рук в руки переходили бутылка и косяк. Филипп сел, прислонясь спиной к дымоходу. Он мог бы устроиться и в другом месте, но сел именно там. И именно там его ожидала политическая карьера.
Рядом с ним оказалась девушка. Ее звали Мари Вертю. Она училась на факультете современной филологии в парижском Католическом институте. Была недурна собой. В ту пору у нее имелось и другое немаловажное достоинство: она была дочерью личного шофера тогдашнего президента, который к тому же был одно время любовником ее матери. Год спустя Филипп и Мари поженились. Этот брак привел Филиппа, не имевшего никаких связей, прямиком в большую политику. Молодой и перспективный, он стал надеждой правящей партии и стремительно поднялся по служебной лестнице.
Со временем, подобно многим женщинам, которые выходят за мужчин с большим будущим, Мари подурнела, Филипп же, наоборот, делался все представительнее. Муж и жена становились чужими друг другу. Он сохранил стройную фигуру, она расплылась. Он сияет неотразимой улыбкой, она вечно ходит хмурая. Он энергичен, она рохля. Он элегантен в темных костюмах с однотонными галстуками, она носит костюмы кричащих расцветок и обувь без каблуков. Он выглядит лет на пять моложе ее и смотрится коренным парижанином. Она ни дать ни взять провинциальная клуша.
В тридцать восемь лет Филипп чувствует себя в свете как рыба в воде, свободно плавает в этом просторном аквариуме, где золотые рыбки — баронессы, наследницы, телеведущие, литераторши — так и кишат вокруг зубастых акул. Ему лестно подцепить одну из них на званом ужине, но он с радостью возвращается вечером домой к жене. Мари знает, откуда он пришел. Она всегда с ним, в радости и в горе. Мари похожа на инвестиционный трест-фонд, который прибыли не приносит, но и никогда не обесценивается.
Оригиналам, не носящим обручального кольца, Филипп завидует. Ему стыдно своего окольцованного пальца, свидетеля его слабости. Мари — тюрьма, которую он выбрал по доброй воле. Она мать его детей, его нянька, сиделка, жилетка, в которую можно поплакаться. Мари сносит его крики и выслушивает жалобы. Она входит в ванную, когда он чистит зубы и думает о своем будущем в политике. Она знает наизусть все его привычки, все выражения его лица. Видит его в трусах и домашних тапочках, усталым и грубым. Филипп давно свыкся с тем, что Мари — его половинка. Он любит ее той же любовью, что и самого себя: замешанной на снисходительности, презрении, жалости и отчаянии.
Женщины, выходя из дома, держатся за сумочку, а Филипп на жизненном пути держится за Мари и не расстанется с этой тростью, пусть коротковатой и допотопной.
* * *
С балкона шестого этажа Филипп Матло рассматривает Люксембургский сад. Он недолюбливает этот сад, лишенный тайны, его широкие аллеи и круглый водоем. Не нравится ни его геометрическая холодность, ни натужная элегантность, ни счастливый хозяин Сената председатель Лабель, который, вместо того чтобы ухаживать за цветочками и заниматься музеем, активно вмешивается в политическую жизнь, несмотря на свой более чем почтенный возраст — восемьдесят восемь лет. Старейшина партии консерваторов, сидя в своем дворце, замышляет козни и критикует на корню реформы, начатые премьер-министром.
— Ну, как тебе вид?
— Очень красиво. Представляешь, я ни разу не был у тебя с тех пор, как ты переехала. Уже три года!
— Четыре. Ну, идем же. У тебя мало времени, а мы вроде бы должны переспать. Ты принес документ, который я просила?
— Он у меня в портфеле.
— Покажи-ка. Отлично! Именно то, что мне нужно. Итак, вот что происходит: у тебя совещание в девятнадцать часов, ко мне ты приехал в семнадцать тридцать. Мы занимались любовью. Потом ты принял душ. Я тем временем залезла в твой портфель, и мне попался этот документ. Я сфотографировала его и положила на место. Ты покинул мою квартиру в восемнадцать двадцать, ничего не заметив. Нравится тебе мой сценарий?
— Угу.
— Теперь немного музыки, чтобы не тревожить соседей страстными воплями!
Аямэй ставит диск: китайские песни. Несколько раз щелкает фотоаппаратом. Филипп достает из кармана сигареты.
— Ты разве куришь?
— Бросил, а теперь снова начал.
— На, убери бумагу в портфель и возьми, пожалуйста, в кухне чашку. У меня нет пепельницы.
Филипп тащится в кухню. Вернувшись, он видит, что Аямэй стелит постель. Потом она скрывается в ванной, откуда уже слышен шум воды.
— Не забудь намочить полотенце, — бросает ей Филипп, облокотясь о дверной косяк.
— Сама знаю!
— В котором часу он придет с проверкой?
— Это не твоя забота.
Стоя перед зеркалом, она запускает руку в волосы и ерошит их. Он бросает на нее недобрый взгляд.
— Ты не похожа на женщину, которая только что занималась любовью.
— А я и не должна выглядеть удовлетворенной. Ты что, забыл? В ту пору, когда мы были, так сказать, любовниками, ты забегал ко мне перед поездом или по дороге из аэропорта. Делал свое дело по-быстрому, даже не кончал. Твой рекорд: тридцать три минуты включая душ.
— Как бы то ни было, — защищается он, краснея, — ты спала со мной из корысти. Тебя вполне устраивало, что я не задерживался надолго.
Он выбрасывает окурок в унитаз.
— Не спускай воду! — кричит она.
Вздохнув, он вытряхивает из пачки новую сигарету.
— Идем в гостиную. У тебя есть еще немного времени.
Филипп устало опускается на китайский диванчик.
— Хочешь стакан воды или чаю? Извини, я не держу здесь спиртного.
— Нет, спасибо. Ничего не надо.
Она садится напротив него в кресло.
Диск начинает потрескивать. Звучит шанхайский джаз тридцатых годов.
— Скажи ему, что мы занимались любовью на ковре.
— Там будет видно.
Они снова умолкают. После долгой паузы он решается задать вопрос:
— Почему ты работаешь на Пекин?
Она хмурится.
— А почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас?
— Ты считаешь нормальным, что я до сих пор тебя об этом не спрашивал?
Она смотрит на часы.
— Я не хочу говорить о политике. У нас есть еще девять минут. Спроси меня о чем-нибудь другом.
Он вздыхает.
— Ты когда-нибудь думала, чем бы тебе хотелось заняться, если бы ты не работала по этой части?
— Ты хочешь сказать: если бы я не родилась на Тяньаньмынь? Если бы я не была Аямэй? Слишком поздно об этом рассуждать. Я — Аямэй. У тебя осталось восемь минут.
— А ты не думала уйти в отставку? Я хочу сказать: можешь ли ты уйти в отставку?
— Меня просто вышвырнут на улицу. Это будет досрочная отставка.
— Ты боишься смерти?
— Слишком много вопросов на сегодня, Филипп.
— Ты кого-нибудь в жизни любила?
— Ты что, послан французскими спецслужбами разоблачить меня? — бросает она, смерив его взглядом, и встает.
Не спрашивая разрешения, сноровисто обыскивает его.
Филипп отбивается:
— Что ты делаешь?
— Проверяю.
— Ну хватит, Аямэй, это уже паранойя. Ничего у меня нет. Я работаю на тебя!
— Лучше перебдеть, чем недобдеть, — отвечает она и, ничего не найдя, снова садится в кресло.
— Тебе лечиться надо, — после короткой паузы шипит Филипп.
Аямэй снова поглядывает на часы. Вот сейчас она выставит его за дверь, думает Филипп, но она вдруг говорит:
— Да, я любила одного человека.
— Кого?
— Тебя! Когда я впервые тебя увидела, там, в шатре, мне запали в душу твои глаза. В них был огонь, напомнивший мне о Жюльене Сореле, Рюбампре, Растиньяке, этим, наверно, и объясняется мой романтический порыв. Ты хотел жить. И я твердо решила, что приведу тебя к той жизни, которая тебе нужна. Анонимное письмо судье с разоблачением беззаконий, творящихся на корсиканской вилле бывшего министра финансов, соперника твоего патрона, кто, по-твоему, это сделал? Я! А фотографии Мишеля Дорада в Таиланде с мальчиками? Тоже я! Если это не любовь, то что?
Нет, им не договориться. Филипп обреченно вздыхает, слушая перечень своих долгов. Она наверняка занималась любовью здесь, в этой квартире, с агентом ЦРУ. Но где? На кровати, само собой, но есть еще кресло, китайский диванчик, кухонный стол. А может, и под душем, почему бы нет, повалявшись сперва на полу? И после душа: она — держась за раковину, он — вставляя ей сзади, и оба при этом смотрелись в зеркало…
Интересно, как любовник он лучше его, Филиппа? Этого ему не узнать, но она изменилась. В глазах появился блеск. Это железное и несгибаемое создание примирилось с женственностью. Скажите пожалуйста, она и одевается теперь в розовое. Это не по правилам! Тюремщица обязана хранить верность своему узнику. Ей — рай со шпионом, а Филиппу — ад с женой? Она не имеет права. Так нечестно. Так не должно быть!
Не исключено, что этот америкос ее уже перевербовал! Для чего ей эти подложные документы? Не послужат ли они американским козням против французов? Или китайцы хотят деморализовать американцев? Или же китайцы с американцами отвлекают внимание французов, а сами уже спелись? С какой целью? Что за игру ведет шпионка? С кем? Против кого?
Голос Аямэй прерывает размышления Филиппа:
— Время закончилось. Тебе пора.
Он молча берет портфель и направляется к двери.
— Ты не попрощаешься со мной?
Филипп резко оборачивается:
— На каком этаже он живет?
— До свидания, Филипп.
Дверь захлопывается.
* * *
В какой-то прошлой жизни Филиппа Матло звали Жильбером Тюрбо. Его отец Клод Тюрбо держал рыбную лавку в порту Сен-Тропе.
В этой прошлой жизни, когда наступало лето, ставни по утрам не открывали, чтобы сохранить немного прохлады в квартирах с растрескавшимися стенами и скрипучими стульями. Там были высокие потолки и узкие железные кровати. В туалетном бачке плавали куски соленой трески: чем чаще спускали воду, тем лучше они вымачивались. Там и сям под мебелью стояли мышеловки. В кухне блестели разве что медные кастрюли. Маленький Жильбер во фланелевой рубахе делал уроки за круглым столом, посреди которого красовалась ваза на вязанной крючком салфетке. Убедившись, что родители заняты в лавке, он шел к окну и приоткрывал ставни. В щелку ему были видны паруса яхт и полуголые блондинки под ними. Вооружившись скаутским биноклем, он улетал в окно, парил с чайками, садился на мачты, прохаживался по бронзовым плечам, ягодицам и грудям. Лето сменялось зимой. Отец клевал носом за прилавком, а мать, в бигуди и с сигаретой «Голуаз» во рту, играла в тарок в соседнем кафе. Ставни были распахнуты, но набережная пустовала. Дул мистраль, и разбушевавшееся море швыряло прямо в небо рыбацкие ялики.
Подростком, благодаря школьному другу, сыну местного врача, Филипп бывал на летних молодежных вечеринках. С напомаженными волосами и расстегнутым воротом, он курил, строил из себя сумрачного красавца, а сам боялся на шаг отойти от своей компании. В полночь огни фейерверка озаряли небо над заливом, вылетали пробки из бутылок шампанского, и девушки прыгали в бассейн одетыми. Эти ночи были бы похожи друг на друга, не появись в одну из них Эльет. Она сама подошла к нему, он так и не понял, с какой стати. Попросила сигарету, и они заговорили, словно были знакомы всю жизнь. Она призналась, что это ее первые каникулы в Сен-Тропе. Он сказал, что знает здешние места как свои пять пальцев. Ей было скучно на вилле, и они договорились встретиться завтра на площади Де Лис: он обещал научить ее играть в петанк.
В тот день на ней было ситцевое платье, голубое в мелкую гвоздичку, соломенная шляпка с букетом сухих роз на тулье и голубые в полоску полотняные сандалии. Лучи полуденного солнца пронизывали кроны деревьев, и легкие тени плясали на площадке. Бросая шар, Эльет приседала, открывала рот и высовывала язык. Сердце юного Жильбера отчаянно колотилось в груди. Никогда в жизни он не видел таких тонких лодыжек, таких золотистых запястий, такого милого личика. Он впервые оказался наедине с девушкой и последовал примеру опытных соблазнителей из «Чинечитта». Угостил ее мятным лимонадом, ванильным мороженым и пригласил на рыбалку на своей плоскодонке. Она смеялась над его южным акцентом, но ее черные глаза смотрели на него с восхищением. Он добился нового свидания на завтра, и тут вдруг она спросила, чем занимается его отец. Он поколебался между ложью и правдой и предпочел не усложнять себе жизнь. За ней приехал шофер. Она села в машину, помахала ему рукой из-за стекла. Назавтра она не пришла на свидание. Через три дня Жильбер увидел ее издали на вечеринке с каким-то парнем. Он пробился к ней, прошел совсем рядом. Она грациозно повернулась спиной, будто не видела его. Так Эльет де Ландверт изменила судьбу Жильбера Тюрбо.
Он понял, что правда делает слабых еще слабее. На вечеринки ходить перестал. Уехал в Париж учиться и больше не вернулся в Сен-Тропе. Его родители ушли на покой и поселились в Драгиньяне. Поступив в Национальную административную школу, он официально сменил фамилию на материнскую.
Став Филиппом Матло, он проводит отпуска в Бретани, невзирая на тамошние дожди и туманы. Он похоронил плоскодонку в глубинах памяти и учит своих дочерей управлять яхтой. Приняв приглашение богатых друзей, он однажды приехал в Сен-Тропе, будучи экономическим советником премьер-министра. На улицах никто его не узнавал, и сам он не узнал родные места. Ювелирные магазины и дорогущие бутики вытеснили кондитерские, мясные лавки и сапожные мастерские. Отцовской рыбной лавки тоже больше не было. Ее сменили висящие рядами мини-юбки, футболки и сине-белые шарфы болельщиков «Олимпик де Марсель».
На каком-то званом ужине он встретил Эльет и не узнал бы ее, если б не карточка на столе рядом с ее бокалом. Он даже чуть-чуть приударил за ней. Она рассказывала ему про свой недавний развод. Натужно улыбалась силиконовыми губами. В кафе она сунула ему бумажку с номером телефона. На следующий день он пришел к ней в отель; они выпили, и он поднялся в ее номер взглянуть на забарахливший ноутбук.
Аямэй ошибалась, когда говорила, что он был одержим жаждой успеха. Он жаждал одного — яростно, отчаянно жаждал реванша. А утолив эту жажду, продолжал покорять вершины, и манипулировать, и быть предметом манипуляций. Это стало привычкой.
* * *
Филипп Матло набирает код и открывает входную дверь. В холле тихо и сумрачно, как в склепе.
В лифте Филипп смотрится в зеркало и приглаживает волосы.
Кто такая Аямэй? Этот вопрос не дает ему покоя.
Какое оно, скрытое за жестким взглядом и деланной улыбкой ее истинное лицо?
Кого видит она в этом самом зеркале — жертву, чудовище, безумную?
Испытывает ли она муки совести, горе, радость?
Каков ее самый страшный ночной кошмар?
Когда она плачет? Да и плакала ли когда-нибудь?
Знакомо ли ей отвращение к себе, это желание истерзать плоть, чтобы вырвать из нее душу?
Ненавидит ли она свое тело — тело продажной, бесплодной женщины?
Задумывалась ли она хоть раз, кем хотела бы быть, если б не была Аямэй?
Засматривалась ли на улице на женщин, делающих покупки, гуляющих с собаками и детьми, живущих спокойной жизнью?
Обращала ли внимание, что в Люксембургском саду каждый день встречаются мужчины и женщины? Нравятся друг другу, сходятся, женятся, обзаводятся детьми?
Замечала ли она, что по телевизору говорят о вещах, не имеющих к ней никакого отношения: о пожарах и наводнениях, судебных процессах, браках августейших особ, выборах Папы? Неужели она принимает себя всерьез? Как вообще можно принимать себя всерьез?
Знает ли она, что смех выражает радость? Что слезы облегчают горе? Она как-то сказала ему, что ненавидит спать, потому что сон обезоруживает — во сне она уязвима. Сколько же ей выпало спокойных ночей?
А что она думает о смерти — это ведь тоже досадная потеря контроля?
Итак, теперь два шпиона живут в одном доме. Китаянка спит над американцем. Их сны витают рядышком. Лестница с бронзовыми перилами соединяет их жизни подобно пуповине. Влюблен ли он? Влюблена ли она? Если так, то ей конец. А если ей конец, то Филиппу нужно принять меры, чтобы она не увлекла его за собой в своем падении.
Но разве может она влюбиться? Разве такие слова, как «Бог», «любовь», «доброта», не придуманы людьми для порабощения себе подобных? Бог, если Он существует, может быть лишь диффузной энергией, магнитным полем — за гранью добра и зла. Да и существуй Он на самом деле, Ему было бы не до людей, не до зверей, не до звезд. Бог есть. Он оставляет нас в безумии наших заблуждений: мы ненавидим, думая, будто любим, творим зло, когда хотим добра, говоря правду, лжем и страдаем, наслаждаясь.
Двери лифта открываются. Филипп глубоко вдыхает и нажимает кнопку звонка.
— Привет!
В предвечернем свете появляется Аямэй. На ней ярко-розовая рубашка, в большом вырезе почти целиком видна грудь. Выглядит она великолепно. Он целует ее в щеку, стараясь не смотреть ниже. Направляется к балкону.
— Налей мне чего-нибудь. Пить хочется.
— Чего налить? — доносится до него голос Аямэй.
— Воды. Больше ведь у тебя ничего нет.
— Хочешь кока-колы? Я купила целую упаковку.
Взгляд Филиппа окидывает Люксембургский сад и задерживается на Сенате. Сегодня в утренней газете председатель Лабель опять открыл огонь по премьер-министру.
— О чем задумался? Вот твоя кока-кола.
— Ни о чем, любуюсь видом.
Выскользнув на балкон, она встает рядом.
— Красиво, правда?
— Угу…
Голос Аямэй понижается до едва слышного шепота:
— Не оборачивайся. Говори тихо и продолжай смотреть на сад. Джонатан установил у меня в комнате камеру.
— Что?
— Только не двигайся. Пей и успокойся. Смотри, вон там медицинский факультет. А вон Монпарнасская башня…
Поднятая рука Аямэй медленно описывает полукруг.
— Джонатан хочет заснять нас. Его можно понять, это рутинная процедура. Вот тебе случай возобновить наши игры. Ты должен радоваться.
— Я не могу, — отвечает Филипп сухо. — Я не хочу, чтобы меня засняли в чем мать родила, и не желаю давать ему повод для шантажа. Я не могу трахаться перед камерой. Это невозможно, и не проси.
— А мы с тобой уже делали это перед камерой, — выдыхает Аямэй. — Когда ты приходил в мою квартирку у Инвалидов…
Филипп поворачивает голову, вопрошает взглядом. Она кидается ему на шею и целует. Шепчет ему в ухо:
— Надо показать ему нас с тобой за делом, чтобы он клюнул на нашу удочку. И не спорь. Твои старания будут вознаграждены. Судья Вано получит письмо с доносом. Тебе ведь хотелось, чтобы твоего заклятого врага Жака де Вальера привлекли по делу о злоупотреблениях? Давай раздевайся. Да поскорей.
* * *
Невыносимый свет!
Филипп видит, как дергаются его ноги и сокращаются мышцы внизу живота. Чувствует, как течет пот по спине и груди. Читает исступление в улыбке на лице Аямэй. Она торжествует. Демонстрирует абсолютную власть женщины над мужчиной. По ее мановению восстает и опадает его плоть. Его душа куплена ею, его тело ею продано. Она возбуждает его и унижает, возносит на небеса и низвергает в ад. О чем она может думать здесь и сейчас, с раздвинутыми ногами, распростертыми руками, запрокинутой головой? Какие макиавеллевские радости кипят под этим черепом, покрытым волосами? И ее лицо из тканей и костей, нервов и мускулов — почему оно улыбается?
— Встань на колени, — командует он: мстит за эту улыбку.
Она повинуется беспрекословно.
Он закрывает глаза. Аямэй теперь — только пара ягодиц, круп в его руках, самка на случке.
Только ощущение. А что есть этот мир, как не ощущения: горечь, усталость, жар, холод…
Где же этот американец спрятал камеру? Филиппу представляется собственное лицо на большом экране, лоснящийся от слюны подбородок, и эти звуки, брачный крик оленя, свинское сопение. От этой картины хочется бежать без оглядки. Но куда? Его душа пригвождена к телу, он сам к себе прикован. Надо двигать руками и ногами. Быть здесь и получать удовольствие.
Животные спариваются, чтобы произвести на свет потомство, почему же люди ложатся в постель с контрацептивами? Зачем вся эта акробатика, эта бесполезная возня, если не для продолжения рода? Сколько людей на планете совокупляются в эту минуту? Сколько среди них гомосексуалистов, педофилов, садомазохистов, сколько предпочитают оральный секс, пользуются вибратором?
Властным жестом Филипп обхватывает бедро Аямэй. Надо сосредоточиться, иначе ничего не выйдет. Она переворачивается, ложится на спину, задирает ноги. Он ускоряет темп, но возбуждение не растет. Ему недостает убежденности для финального аккорда. Нет, он не даст слабину перед другими мужчинами, бросающими ему вызов через это лоно. К счастью, форму он сохранил. Это преимущество жизни в Нейи, рядом с Булонским лесом, и установленного в квартире, вопреки протестам Мари, велотренажера. Ему пока нет нужды скрывать брюшко, невзирая на завтраки в министерстве, обеды с возлияниями и званые ужины. Удел политика — булимия. Поэтому лишний вес — пунктик Филиппа. Он встает на весы по два раза в день. Крутит педали и бегает, сжигая жиры и с ними угрызения совести за обжорство. Мари не нравится, что он так зациклен на своей внешности. Но ведь растолстеть — значит постареть. Стать похожим на своего министра: три подбородка над узлом галстука, жирная рука в пятнышках «гречки» с сигарой. Лишиться мужской силы, не хотеть и не кончать. Постареть — хуже, чем умереть.
— Сядь сверху, — отрывисто бросает он ей.
Она молча кивает.
Он ложится на спину, чуть раздвинув ноги, уронив руки. Ступни Аямэй холодят ему бока. Она озирается — взгляд полон восторга, — и, согнув колени, садится на него. Он зажмуривается. Влажное тепло окутывает его, стискивает. Он хрипит, изображая упоение. Мужское естество болит, но он продолжает двигаться — пусть думает, будто так возбудила его, что ему не остановиться. Приподняв веки, он видит капли пота на лбу Аямэй. Красная, распатланная, закусив губу, она ритмично подпрыгивает на нем.
— Быстрее! — хрипит он.
Она ускоряет темп. Раскрыв рот, он мотает головой вправо-влево. Его крики переходят в частые свистящие вздохи.
— Давай, сука! Быстрее! Хорошо! А-ах! А-ах!
Не зная, что он наблюдает за ней в щелку из-под опущенных век, она поворачивает голову и улыбается висящей на стене гравюре с китайскими иероглифами. Ее губы растягиваются, открыв два ряда мелких зубов. Пьянея от досады, он дает ей увесистого шлепка по ягодицам.
— Давай же, ну! Быстрее! Кончим вместе… Ты готова? Я уже готов! Да! А-ах!
Он испускает протяжный вопль.
Она обмякает на нем, думая, что он кончил.
Он лежит, ошеломленный. Никогда за всю свою жизнь он не позволял себе так кричать.
Крик опустошил его и принес чувство освобожденности.
Кричать, оказывается, лучше, чем кончать.
* * *
Площадь Сен-Сюльпис. Первая летняя жара; с женщин, как листья с деревьев, облетели одежки. В «Кафе-де-ла-Мэри» Филипп проходит через зал, полный гула голосов и сигаретного дыма, к узкой лестнице слева от туалета. Поднимается по крутым ступенькам.
На втором этаже тихо, ни души. За окном густая листва старого каштана и шпиль церкви.
Она приходит с опозданием. На ней зеленое муслиновое платье. Вбежав, опускается на диванчик.
— Здесь нам не помешают.
Он начинает с комплимента — привычка политика:
— Ты великолепно выглядишь. Какое красивое платье.
— Тебе нравится? С тех пор как я вступила в «Земной Мандат», приходится носить каждый день другой цвет, в строго определенном порядке. Семь дней недели — семь цветов радуги.
— Вот как?
— Ты не находишь, что мне это на пользу?
— И да и нет.
— Послушай, Филипп, сколько ты меня знаешь, я всегда носила черный цвет. Исключение делала только для красного. Ни синего, ни зеленого, оранжевого, желтого — никогда. Теперь я чувствую себя не такой мрачной, более открытой миру.
— Может быть… Не помню…
— Конечно, ты не помнишь. Для тебя женщины — так, мебель в зале приемов. Чтобы было куда присесть, стряхнуть пепел, положить газеты и журналы. Ты когда-нибудь рассматривал мебель на улице Варенн?
— Это обвинение?
— Это попытка объяснить тебе, что «Земной Мандат» придумали не дураки. Мне почти хочется по-настоящему обратиться. Ты давно смотрел на себя в зеркало, Филипп? Сколько лет ты ходишь с кислым лицом, презрительным взглядом, ехидной улыбочкой. Ты ведь был красавцем, когда я с тобой познакомилась. А теперь стал копией твоего министра, брызжешь слюной и размахиваешь руками в точности как он.
— Прекрати меня поучать, — ворчливо отбивается Филипп. — Где официанты, почему к нам никто не подходит? У меня в пять встреча в Сенате.
— Сейчас придут. Расслабься. Погода прекрасная, всем хорошо. Давай порадуемся жизни. Надо жить настоящим.
Филипп усмехается:
— Аямэй, ты влюблена.
Она равнодушно пожимает плечами.
— Да, конечно. Ты всегда прав.
— Он белокур, как серфингист, и красив, как голливудский актер. Его научили улыбаться. Этакий сборный автомат для обольщения, мужчина-биг-мак, загорелый, спортивный, не без «духовности». Полная противоположность упертым революционеркам вроде тебя. Он не мог тебе не понравиться.
— Где ты его видел?
— На прошлой неделе, когда выходил от тебя, встретил у подъезда. Мы улыбнулись друг другу. А ты чего хотела? Надо было поцеловаться?
Аямэй смотрит на него с презрением:
— Подарок принес?
— Да.
Он берет стоявший на полу бумажный пакет от «Луи Вюиттона». Она достает из него дамскую сумочку, встряхивает ее.
— Спасибо, милый!
Целует воздух у его лица и шепчет:
— Ты все сделал, как я просила? Подписал письма, даты поставил?
Он отвечает кивком головы и, помолчав, спрашивает:
— Ты можешь мне сказать, зачем эта подложная переписка между китайскими руководителями и правительством?
— Увидишь.
— Зачем сливать американцам дезинформацию?
— Затем, что это нам на руку.
— Чем это может быть нам полезно? — настаивает он.
Она устало отмахивается:
— Слишком много задаешь вопросов. Чем меньше будешь знать, тем дольше проживешь. Так ты говорил, что я влюблена…
Его злит, что она уходит от прямых ответов, произвольно меняя тему, но спорить нет сил.
— Да, я говорил, что такой извращенке, как ты, любовь доступна только неправедным и извилистым путем лжи.
— Браво, отлично сказано. К сожалению, это он влюблен в меня.
— Как ты можешь быть уверена в его чувствах? Он живет под чужим именем, с фальшивым паспортом. Ты выяснила, кто он такой? Можешь сказать мне его псевдоним, подлинное имя, настоящую дату рождения?
— Пока нет, но мы все узнаем. Он у меня на крючке. Я вытяну из него признание. И выйду на его агентурную сеть.
Взгляд Аямэй скользит к окну, останавливается на кроне каштана.
— Ах, любовь, — вздыхает она. — Ты можешь сказать мне, что это такое?
— Лучше спроси об этом сопливых школьниц и неверных жен.
— Вот и я тоже не знаю, что такое любовь, — говорит она с горькой улыбкой. — Никто не любил меня, и я никого не любила. Когда мне было пять лет, я увидела на углу улицы труп нищего и поняла, что однажды кончу, как он: безымянным телом, гниющим там, где упало. Никто не заплачет надо мной, никто обо мне не вспомнит, никто не узнает меня. За мной приедет телега. Меня сожгут в печи и выбросят мой прах в мусорный бак, который отправится на городскую свалку. Я лишена права жить, как все люди, и не ропщу на судьбу. Но ведь есть в этом мире мужчины и женщины, которые любят и любимы. За них я и борюсь…
Он перебивает ее:
— Кончай пудрить мне мозги своими коммунистическими идеалами. Любовь — иллюзия. Люди любят только себя и ничего больше. В этом мире выживают лишь сильные, а слабые сходят с дистанции. Твой американец ловко притворяется, а ты ему веришь! Между вами никогда не будет чувств. Только соревнование.
Она качает головой:
— Филипп, мы с тобой из одного теста: мы едим, чтобы ощутить вкус, занимаемся любовью, чтобы получить удовольствие или информацию, мчимся вперед, убегая от прошлого, от настоящего, от вечности. Чтобы никогда не дать промашки, мы должны прежде всего выхолостить наши эмоции, запереть на замок чувства. Любовь есть… но эта вершина недосягаема для нас.
Филипп больше не слушает ее бред. Они перестали понимать друг друга. Она изменилась. С чего вдруг эта апология любви? Аямэй, которую он знал, была змеей, удавом. Джонатан Джулиан загипнотизировал ее своими байками о духовности. Похоже на то, что она взбунтовалась против Китая, против Франции, против себя самой — порождения ненависти. Филипп не забыл, что она была лидером демократического движения и что, перевербованная правительством, стала шпионкой-коммунисткой. Что же происходит сейчас — новый вираж?
Аямэй с Тяньаньмынь, преследуемая солдатами, Аямэй, замученная полицейскими, потом — заброшенная в Париж, без багажа, без документов, без знания языка, Аямэй, построившая жизнь в противовес своему прошлому, Аямэй, которая лгала, воровала, продавалась, плела агентурную сеть, кажется, наконец устала. Американцам, судя по всему, удалось нащупать ее слабое место. Поманив ее утопией любви, Джонатан Джулиан сулит ей исцеление от навалившегося отчаяния и нажитой шизофрении.
Аямэй встретила человека, похожего на нее. Оба они мифоманы и мошенники. Оба предатели и убийцы. Филипп содрогается, представив себе счастливые часы, проведенные фальшивыми любовниками вместе в доме 21 на площади Эдмона Ростана. Вот она накрасилась, надушилась, надела кружевные трусики. Тысячу раз посмотрелась в зеркало: красива ли? Он стучит в дверь. Входит. Они лгут друг другу, точно пара воркующих голубков. Она показывает ему свои трофеи: смотри, что удалось раздобыть сегодня! Довольный, он целует ее: продолжай в том же духе! Заливаясь краской от гордости, она морочит его, позволяя себя целовать. Они раздеваются, падают, обнявшись, на постель, повторяют, как заученный урок, пламенные тирады и влюбленные шепоты. Сойдясь в игре иллюзий, ослабив бдительность, оба забывают о реальном мире, в котором они враги. Персонажи, которых они воплощают, влюблены — и она влюбилась! Почему бы нет? Она знает, что у них в багаже одинаковый опыт, одни и те же рецепты для жизни, что они терзаются одинаковыми страхами и обречены на одно и то же одиночество. У нее есть фора. Ей жаль его. Но что может быть для шпионки опаснее жалости?
Как узнать наверняка, переметнулась ли она в лагерь Джулиана?
— Что с тобой? О чем ты думаешь?
Она буравит Филиппа подозрительным взглядом.
— Ни о чем… Я просто пытался представить себе твое детство, ту маленькую девочку, еще не знавшую, что ее ждет участь образцовой шпионки.
— Ты слишком много думаешь, Филипп. Что это ты вдруг мной заинтересовался?
Он не знает, что ответить.
— Без восьми пять. Тебе пора.
Вот и долгожданный случай отыграться.
— Ты постоянно смотришь на часы. По-твоему, можно подчинить свою жизнь стрелкам? Расслабься.
Она будто не слышит.
— А официант так и не пришел, — язвит Филипп. — Ему-то спешить некуда. Ну да ладно.
Он наклоняется за стоящим на полу портфелем. Видит бумажный пакет под столом и решительно подхватывает его.
— Я только сейчас вспомнил, что дал маху с заключительными формулами вежливости в письмах. Они не совпадают с принятыми в министерстве, мы рискуем попасться. Надо их исправить.
Аямэй вырывает пакет у него из рук:
— Не беспокойся. Фальшивой подписи твоего министра мне достаточно. Фирма Джонатана посылает его в командировку в Куала-Лумпур. Завтра у него самолет. Он должен отправить это досье сегодня вечером.
— Но…
— Никаких «но»! Иди, ты опоздаешь. Закажи для меня чай с лимоном, если встретишь внизу официанта.
Выйдя из кафе, Филипп направляется к площади. Вдруг начинают звонить церковные колокола.
«Если Аямэй станет „кротом“ американцев, что мне делать?» — терзается он вопросом.
Взлетает, хлопая крыльями, стая голубей.
III
Сменяют одна другую безликие явки, следом тянутся длинной чередой полные окурков пепельницы. Гостиничные номера с непременным континентальным завтраком превращаются во взятые напрокат автомобили. Города, людные, грязные, задымленные, распускаются, точно ядовитые цветы. Волны толпы становятся щупальцами гигантского спрута с присосками в виде ботинок, брюк, пиджаков, лиц. Человек входит в лифт, прыгает в такси, ныряет в метро. Это может быть кто угодно. Но внимательный наблюдатель заметит, что он не ходит посреди тротуара, а держится у стен, защищая левый бок. То и дело поглядывает в стекла, следит за отражениями города. Он бывает только там, где много народу. Плывет в толпе, невозмутимый и бдительный. В баре он выбирает столик поближе к запасному выходу. Появляется другой человек, тоже самый обыкновенный на вид, но с таким же настороженным взглядом. Садится рядом с первым. Оба потягивают джин с имбирным тоником, грызут орешки и не сводят глаз с входной двери.
— Что-то у меня с головой неладно, я все время считаю про себя. Днем считаю машины, прохожих, туристов, всех, кто кажется мне подозрительными. Не меньше сотни насчитываю. Вечером, когда я один, все равно считаю: два кресла, четыре стакана, десятая страница газеты, двенадцать часов десять минут. Тони, я, кажется, схожу с ума, как Джек!
— Расслабься. Не с тобой первым такое случается. Ты устал. Два года не был в отпуске.
— Да не могу я взять отпуск! Стоит мне остановиться, я впадаю в депрессию! Это еще хуже, чем сходить с ума.
— Не мучай себя. Ты сильный, выдержишь.
— Как это выдержать?
— Хороший вопрос. Не знаю, Билл. Раньше знал, а теперь не знаю. Но я-то ведь выдержал.
— Есть новости про Джека?
— Он в психиатрической больнице. Ему лучше. Вниз не смотри. Подними голову, гляди на небо. Так не закружится голова.
— Небо… Вся моя жизнь проходит в небе, в утробах летучих гробов… Однажды я просто не вернусь на землю.
На другом конце зала кто-то уронил вилку. Нагибается за ней. Когда выпрямляется, в руке у него пистолет. Гром выстрелов, звон разбитого стекла. Билл стонет и открывает глаза. Убийца исчез. Он слышит мерный гул и узнает шум двигателей летящего самолета. Это был просто кошмарный сон.
Билл Каплан встает, быстрым взглядом окидывает салон. Ничего необычного. Ни одного тревожного знака. Он идет в туалет умыться. Щелкает засов, загорается свет в кабинке, и зеркало отражает его покрытый испариной лоб. Кивком головы он приветствует себя нынешнего. Плещет в лицо водой, машинально повторяя про себя дату рождения Джонатана Джулиана, руководителя проекта компании программного обеспечения. Опускается на унитаз, продолжая припоминать подробности своей биографии, анкетные данные родителей, даты их рождения и смерти. Мысленно проходит весь свой путь — в учебе, в профессии, в «Земном Мандате».
Вернувшись в салон, он обводит взглядом лица пассажиров, начинает вспоминать свои разговоры с Аямэй.
В проходах, катя перед собой тележки, появляются стюардессы. Хорошенькая смуглая девушка с раскосыми глазами улыбается ему. Он читает имя на бейджике: Линда. У нее кошачья фигурка, а ягодицы, наверно, похожи на два спелых манго.
Двадцать минут спустя, стоя у автомата с напитками, Линда рассказывает Биллу Каплану свою жизнь.
Линда, а знаешь ли ты, что перед тобой человек, которому случалось убивать? — мысленно обращается он к ней, а вслух так и сыплет шутками. Она смеется.
Линда, знаешь ли ты, что, заигрывая с тобой, я даю себе короткую передышку между осточертевшими упражнениями памяти, которую я должен ежедневно тренировать? Знаешь ли ты, что я забываюсь и расслабляюсь, глядя на твою белозубую улыбку?
Линда отрывает клочок салфетки, пишет на нем номер мобильного телефона и название отеля, в котором будет ночевать. Билл Каплан прячет его во внутренний карман пиджака. Сделав несколько шагов по проходу, оборачивается. Она улыбается ему.
Линда, знаешь ли ты, что твоя улыбка адресована незнакомцу, который подарит тебе два часа своей жизни и канет навеки?
Билл Каплан возвращается к ней.
— My name is Peter Schwab.
— Good bye, Peter, see you tonight[4].
* * *
Пекин. Белая «тойота» едет по третьему кольцу.
— Bill, you look terrific!
— I’ve been doing some meditation[5].
— И как? Помогает?
— Неплохо, чтобы проветрить голову. Как поживает Хелен?
— Она ушла от меня полгода назад. Вернулась в Бостон.
— Извини.
— Ты же знаешь Хелен, она хотела детей, собак, домик за красивой белой оградой. Я еще не готов выйти в отставку.
— У нас с Изабеллой была та же проблема.
— Не бери в голову. Я сплю с китаянкой в Пекине, с австралийкой в Шанхае, с кореянкой в Харбине, с англичанкой в Гуандуне. Помнишь, что ты сказал мне, когда от тебя ушла Изабелла?
— Нет, Джон, не помню.
— «Мы слишком свободны, чтобы отказаться от свободы».
— Я так сказал? Четыре года назад я, однако, был оптимистом! Надо же, думать, будто мы свободны!
— Ты жалеешь об Изабелле?
— Жалею ли? Сам не знаю. Такие люди, как я, живут одним днем. Сожаление — это слишком благородное чувство. Я его не заслуживаю.
— Ты изменился, Билл. Прежде ты не был так суров к самому себе.
— Когда Джек сломался, я был рядом. Он бросался на прохожих и кусал их, то еще было зрелище. Как можно уважать себя, зная, что в один прекрасный день кончишь, как он?
— Я слышал, его выписали из больницы три недели назад. Жена ухаживает за ним. Он не скучает. Целыми днями строит домики из спичек и разрушает их вечером.
— Наверно, он счастливее нас.
— Это одному Богу известно. Ты сейчас откуда?
— Из Куала-Лумпура.
— Сколько пробудешь в Пекине?
— Меньше суток. Сейчас уже суббота. Я должен вылететь из Пекина завтра на рассвете — Сингапур, Куала-Лумпур и Париж. В понедельник утром надо быть на работе.
— Радуйся, что есть я. Кто еще согласится устроить тебе такой вояж? Контора в курсе?
— Конечно нет. Пока бы я подал запрос, пока бы они его рассмотрели и в итоге все равно отказали бы, сам знаешь, как это делается… Когда инициатива исходит не от них, они все принимают в штыки. Просто чтобы тебе жизнь медом не казалась и чтобы показать, что решают они.
— Век бы их не видеть. Просиживают штаны в кабинетах и играют в компьютерные игры между телефонными конференциями. А мы здесь вкалываем, здесь и подохнем. Совсем недавно я потерял трех своих людей. Китайцы послали специалистов по боевым искусствам, те били их в адамово яблоко, а потом выбросили из окна — все чисто, самоубийство. Теперь ты понимаешь, почему я отпустил Хелен. Ну не мог я ее удерживать.
— Ты по-прежнему работаешь с Триадами?
— С кем я только не работаю! И конца этому не видно! После «холодной войны» — звездные войны. Сражаться надо со всеми — с исламистами, с крестными отцами, с промышленными супершпионами и, конечно, с «кротами».
— Осади назад, Джон, не надо спешить на тот свет.
— Да, тут ты прав. Я всегда спешу. Это плохо. Вот, возьми, это цветные контактные линзы, а на голову надень бейсболку. Снимать ее не надо. В этом году все китайские кинозвезды носят такие на пресс-конференциях. Мода. Держи обручальное кольцо, надень на палец. Вот твоя визитная карточка. При встрече с китайцем всегда обмениваются визитными карточками, это церемония. С тех пор как ты уехал в Европу, ничего не изменилось.
— «Кристофер Лизард, продюсер. Две тысячи один, десять тысяч семьсот семьдесят, Уилшир-бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния девяносто-ноль-двадцать четыре». Лизард? Терпеть не могу ящериц[6].
— Извини, мне иной раз не хватает фантазии. Меня зовут Джордж Бургер, я твой ассистент. Как только я увидел его, мне стало ясно, что с этим типом надо идти напролом. Я сказал ему, что ты — независимый продюсер, делаешь документальный фильм о Тяньаньмынь. Заверил, что это ему ничем не грозит: его мы снимать не станем. Его имя нигде не будет упомянуто. Нам нужно только, чтобы он рассказал об Аямэй. Он на все согласился.
— Как его английский?
— Ничего, лопочет бойко. А ты-то не забыл китайский?
— Нет… еще не забыл.
— Этот твой тип — первый строительный подрядчик в Пекине. Сам увидишь, в его кабинете стены из чистого золота! У богатых китайцев всегда дурной вкус. Ты готов? Его офис на двадцатом этаже. Я заеду за тобой в отель в семь часов, прокатимся по Пекину.
— Thanks! — говорит Джонатан, хлопнув по плечу своего бывшего напарника.
* * *
235, улица Вечного Спокойствия.
Золоченые перила, сияющее зеркало, розовый мрамор. Освещение в лифте меняется на каждом этаже; наконец двери бесшумно открываются. Гигантский феникс раскинул золотые крылья над внушительной стойкой ресепшена, за которой сидят рядком семь прехорошеньких китаянок в наушниках и с микрофонами.
— Кристофер Лизард (Добрый день, я Кристофер Лизард, у меня встреча с господином Чжан Ином.)
— (Добрый день, мы сейчас свяжемся с секретариатом господина председателя. Будьте любезны, подождите.)
Одна из девушек провожает его в угол, где стоят кресла и диванчики.
Десять минут спустя лакированная дверь отъезжает в сторону. На пороге появляется еще одна китаянка в форменном костюме.
— (Добрый день. Председатель Чжан ждет вас.)
Следом за своей провожатой Кристофер идет по тихому коридору под надзором многочисленных камер видеонаблюдения. Справа и слева обитые кожей двери чередуются с фотографиями небоскребов на щитах двухметровой высоты. Он входит в еще один лифт, обшитый черным деревом, который трогается после того, как китаянка набирает код.
Двери открываются. Он выходит в просторное помещение, залитое странным радужным светом. Свет идет из трех источников: кроме окна шириной метров двадцать и высотой пять, светятся золотые стены и четыре хрустальные люстры, висящие в ряд под потолком. Человек за письменным столом говорит по телефону; стол непростой: танцовщицы в национальных китайских одеяниях — из бронзы с эмалью — поддерживают тяжелую мраморную столешницу. Председатель Чжан — маленький, хлипкий, в полосатом костюме и фиолетовом галстуке, с желтым платочком в кармане. Напомаженные волосы аккуратно причесаны на прямой пробор. Очки в золотой оправе, темные круги под раскосыми глазами и тонкие усики в стиле бель-эпок над женственным ртом. Повесив трубку, он направляется к Кристоферу Лизарду. Протягивает ему руку.
— I’m Zhang Ying, — говорит он на хорошем английском. — Nice to meet you[7].
— (Спасибо, господин председатель, что приняли меня, тем более во второй половине дня в субботу.)
Услышав, что иностранец знает его язык, Чжан Ин широко улыбается и переходит на китайский:
— Я всегда работаю по субботам и воскресеньям. Конкуренция в нашей отрасли очень жесткая.
Чжан Ин достает из внутреннего кармана золотую коробочку, извлекает из нее визитную карточку и протягивает Джонатану; тот в ответ вручает свою. Покончив с протоколом, мужчины усаживаются в кресла друг против друга.
— Господин председатель, спасибо, что согласились сотрудничать с нами. Поверьте, я восхищен вашим мужеством. Согласно вашей договоренности с моим ассистентом, я не взял с собой ни блокнота, ни магнитофона. Все, что вы мне скажете, останется между нами.
— Вы превосходно говорите по-китайски. Мои поздравления. Тайбэйский университет?[8]
— Извините за акцент.
Чжан Ин снисходительно улыбается.
— Задавайте ваши вопросы. На что смогу, отвечу. Только прошу заранее простить, у меня мало времени. Следующая встреча через полчаса.
— Полчаса мне хватит. Спасибо. Мой ассистент вам уже все объяснил. В репортаж, который я делаю, мне хотелось бы поместить портрет Аямэй. Показать ее не как политическую фигуру, но как китаянку, свидетельницу эволюции Китая. Я знаю, что вы были с ней знакомы. Расскажите мне немного о ней.
— Вы хорошо осведомлены, раз нашли меня. Это она вам обо мне рассказала?
— Она рассказала мне о вашем брате, Мине.
— Что будете пить? Коньяк? Виски? Или предпочитаете кока-колу, кофе, чай?
— Чай, пожалуйста.
Ин встает, звонит по телефону, распоряжается. Достает из ящика стола фотографию.
— Слева Минь, мой младший брат.
Бумага пожелтела. Снимок сделан в студии. На нем стоит дата: 1 июня 1980. Два мальчика. У обоих почти наголо обритые головы. На них белые рубашки и красные галстуки юных пионеров. Справа Ин, без очков, улыбается так широко, что узкие глаза и вовсе превратились в две щелочки. У Миня большие уши. Лицо напряжено. Глядя на него, так и слышишь треск вспышки и голос фотографа: «Улыбнитесь!» Глаза Миня пристально смотрят на Кристофера Лизарда — он же Джонатан Джулиан, он же Билл Каплан. Мальчик как будто хочет поведать ему свою короткую жизнь.
— Вы можете рассказать мне о вашем брате?
Чжан Ин берет в руки фотографию, смотрит на нее.
— Мои родители — инженеры. Когда мы были детьми, они часто уезжали. Минь был на два года младше меня, и я очень рано стал сознавать свою ответственность старшего. Минь не слушался меня. После школы, вместо того чтобы делать уроки, он кропал стихи и малевал картинки. Учился он из рук вон плохо, всегда был последним в классе. В восемьдесят втором году родители решили отдать нас в лицей Восходящего Солнца. Там я и встретил Аямэй в первый раз…
Звонит телефон, Ин вскакивает.
— Извините!
Через три минуты он вешает трубку и снова садится в кресло.
— На чем я остановился?
— Лицей Восходящего Солнца.
— С восемьдесят третьего года я впервые рассказываю эту историю. Двадцать два года прошло…
В дверь стучат. Молодая женщина ставит чайный поднос на низкий столик.
— Чай с Высоких гор. Вы, конечно, знаете. Мой партнер прислал мне его с Тайваня.
Кристофер отпивает из крошечной чашечки.
— Превосходно!
— Лицей Восходящего Солнца готовил лучших учеников к национальному конкурсу для поступления в университеты. Родителям пришлось задействовать все свои связи, чтобы нас туда приняли. Учеников там заставляли заниматься по десять часов в день, а экзамены устраивали каждый месяц. Результаты вывешивались на большом стенде у входа. Мы подходили к этим спискам с замиранием сердца, на ватных ногах. Я готов был рвать на себе волосы, если не видел своего имени в первых строчках. Минь же никогда не обманывал ожиданий: его имя всегда стояло последним и было написано красными чернилами. Он приводил в отчаяние родителей, которым хотелось, чтобы мы пошли по их стопам и поступили в Цин Хуа, лучший политехнический университет в Китае. Даже в лицее Восходящего Солнца Минь продолжал лодырничать. Ясно было одно: он не только не поступит в Цин Хуа, но и вообще не пройдет национальный конкурс и останется без высшего образования.
Вдруг выражение лица Ина меняется, рука хватается за сердце. Из внутреннего кармана пиджака он достает вибрирующий мобильник. Отвечает на звонок, идет к столу, набирает номер на городском телефоне. Говорит одновременно с двумя собеседниками. Наконец возвращается.
— Извините. Миню было четырнадцать лет, конкурс ему предстоял через три года. Не мог же он наверстать упущенное в последний момент! Двенадцать учебников по всем предметам помножить на шесть лет средней школы, ему пришлось бы вызубрить целых семьдесят два! Я вас напугал своими подсчетами? А вы знаете, почему Китай так быстро развивается?
— Интересно. Скажите почему?
— В нашей стране мужчины и женщины с самого детства приучены к соревнованию. Когда я был ребенком, моим родителям приходилось бороться буквально за все: получить квартиру, купить три метра материи, позволить себе цветной телевизор, не говоря уж о повышении зарплаты, — это была битва не на жизнь, а на смерть. Я до сих пор помню интриги сослуживцев, в которых мои родители, слишком честные и запуганные, неизменно оказывались жертвами. Мама часто плакала. Отец выходил из себя по любому поводу, кричал и бил посуду. Мы были их надеждой на долгожданный реванш — а Минь надежд не оправдывал! Понимаете, в Китае все очень просто. Нас так много, что выбора нет: беги быстрее всех или сойдешь с дистанции.
Новый телефонный звонок прерывает его речь. Вернувшись, Ин продолжает:
— Аямэй носила две косы, была маленького роста, плотненькая. По дороге из лицея домой я часто видел ее с моим братом. Они катили рядом на велосипедах и говорили без умолку. Поначалу меня это радовало, Аямэй хорошо училась, ее имя всегда стояло в списках одним из первых. Однако оценки брата не стали лучше. Видя их все время вместе, ученики начали судачить. Сегодня жизнь в Пекине совсем другая. В лицее, где учится моя дочь, ученики на людях держатся за руки, я сам видел. А в наше время «отношения» между школьниками карались немедленным исключением…
Мобильный телефон издает короткий писк. Прервавшись, Ин жмет на кнопки, отправляет сообщение. И вновь возвращается к воспоминаниям:
— Вам это может показаться бесчеловечным… Но наше поколение воспитано в строгости. Для развлечения у нас было только кино про войну. Можно по пальцам одной руки пересчитать иностранные фильмы: советские, югославские, северокорейские. Нас учили мужеству, дисциплине и самопожертвованию. Никто и слыхом не слыхал о Фрейде, де Токвилле, Ницше. Нам говорили, что школьные правила придуманы для нашего блага, это подразумевало беспрекословное повиновение. Вот только один пример — дресс-код, как сказали бы сейчас: каждое утро у школьных дверей нас встречали дежурные с линейками и измеряли длину волос и ширину брюк каждого; при малейшем нарушении волосы немедленно подрезали, брюки тоже. Судите сами, какой скандал вызвали «отношения» моего брата с Аямэй!
Опять пищит телефон. Снова ответив сообщением, Ин продолжает:
— Их учитель поднял на ноги наших родителей и родителей Аямэй. Все выступили единым фронтом, чтобы разлучить двоих детей, посмевших преступить закон. Да что говорить, мы были какой-то другой породы. Это сегодня мы с женой потакаем любым прихотям нашего единственного ребенка. А в ту пору мои родители, как все родители в традиционных китайских семьях, были суровы и непреклонны. Несмотря на запрет, Минь и Аямэй продолжали встречаться, чем вызвали страшный гнев со стороны взрослых. Мои родители обратились в профсоюз с просьбой перевести их в провинцию. Мы переехали в городок на юге. Минь стал совсем чудным. Ни с кем не разговаривал, плакал без причины. Я то и дело бранил его, срывая досаду: ведь мне пришлось сменить лучший лицей в Китае на дерьмовую школу, и я боялся, что не пройду национальный конкурс.
На столе трезвонит телефон. Чжан Ин привстает, но тут же снова садится.
— Аямэй… эта девушка не давала мне покоя! Как я ненавидел ее за то, что она украла душу моего брата! Она рассказала вам, что произошло? У них правда были «отношения», если он решился умереть?
— Я думаю, они ничего такого не сделали.
— Не может быть. Почему же тогда он убил себя?
— Не знаю… Минь был такой ранимый… и они любили друг друга.
— Любовь? Ну конечно, вы ведь из Голливуда. Там на любовных историях делают деньги. Вы действительно верите, что у них была любовь, у четырнадцатилетних детей? Мне будет сорок в этом году, и я никогда не был влюблен — даже в мою жену. Вечно работа, перегрузки, бессонница. Любовь — это для животных: если они не пожирают друг друга, то любятся. У людей слишком сложно устроена голова: они любят деньги, власть, войну, секс, алкоголь…
Снова звонит телефон. Ин встает, снимает трубку, отдает короткий приказ и тут же вешает ее. Но не садится в кресло, а принимается расхаживать вокруг Кристофера.
— Однажды я включил телевизор и увидел Аямэй. Девочка, ставшая взрослой женщиной, пробудила во мне безмерную боль. Я расплакался при мысли, что, будь Минь жив, ему уже исполнилось бы двадцать лет. В следующие дни я записывал все выпуски новостей, где говорилось о ее действиях, и по ночам прокручивал пленки. В замедленном режиме высматривал перемены в ней. Я говорил себе, что Миню не понравились бы ее жесткий взгляд и хриплый голос. А потом я принял решение поговорить с ней.
Ин ослабляет узел галстука, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Снимает очки, протирает их платочком и снова водружает на нос.
— Один активист раздобыл мне пропуск, и я смог пройти через кордоны студентов в центр площади Тяньаньмынь. По памятнику Героям свободы струилась вода…
Настойчиво звонит мобильник. Ин смотрит на дисплей, отвечает:
— Я тебе перезвоню. Да… Нет, в восемнадцать тридцать в «Аромате рисовых полей». Когда доедете до перекрестка Дун Дань, сверните на восток. Езжайте по второму кольцу. У «Санлайта» поверните налево, на запад, через пять минут еще раз налево и сворачивайте в переулок, когда увидите красный фонарик на дереве. Все понятно? Руководители приедут в девятнадцать часов. Будь там вовремя. Я на десять минут опоздаю.
Он поворачивается к Кристоферу:
— Так на чем мы остановились? На постаменте стояла времянка, крытая железом, в ней укрывались от дождя лидеры движения. Я увидел Аямэй издалека. Она отвечала по-английски на вопросы иностранных журналистов. Вокруг тысячи голодающих студентов лежали прямо на земле на пластиковых пакетах. И до меня вдруг дошло, как я смешон. Самое время было спрашивать ее, почему Минь выбрал смерть! Так и не сказав ей ни слова, я ушел.
Городской телефон звонит, смолкает, надрывается снова. Ин снимает трубку.
— Как? Уже приехали? Пусть подождут меня. Еще две минуты.
Он опять поворачивается к Кристоферу Лизарду:
— Мне очень жаль, но я вынужден вас оставить. Важная сделка: мы покупаем участок земли рядом с Великой стеной под постройку восьми пятидесятиэтажных башен, самых роскошных в Северном Китае. Это будет комплекс с инфраструктурой: магазины, офисы, жилой массив.
— Спасибо. Ваше свидетельство очень ценно.
— Не стесняйтесь, звоните, если я вам еще понадоблюсь. Поскольку я знал, что вы придете сегодня, то кое-что для вас приготовил.
Он берет со стола кусок картона.
— Возьмите, отдайте этот рисунок Аямэй. Это ее портрет, написанный моим братом.
Акварельными красками изображена молодая девушка, сидящая на пороге. На ней белая рубашка и ярко-красная юбка, босые ноги лениво вытянуты. В руке она держит книгу, но не читает. Ее взгляд устремлен вдаль, где проступают смутные очертания города.
— Вы можете перевернуть рисунок… Видите? Здесь две надписи. Вот это почерк моего брата: «Аямэй не умеет позировать. Все время вертится, — чтобы она сидела на месте, приходится рассказывать ей сказки и петь песни». А в этом углу написала Аямэй: «От нас виден весь Пекин. Улицы словно гигантская паутина. На западе золотые крыши Запретного города, на востоке развалины Дворца вечной весны. Я вижу даже наш лицей и одноклассников, крошечных, как муравьи, на футбольном поле. Минь говорит, что этот мир внизу — открытая книга и, чтобы прочесть ее, надо забраться высоко, к самому небу».
Ин вздыхает:
— Отдайте это Аямэй. Вчерашний Китай умер вместе с Минем. Идемте, я покажу вам Китай сегодняшний.
За оконным стеклом колышется город под белесым задымленным небом. Паутина теперь не та, которую видела Аямэй подростком. Она обрела третье измерение и добралась до неба, цепляясь за башни-небоскребы, протянувшиеся, насколько хватает глаз. Кристофер тщетно ищет в этой безбрежности хоть одно цветное пятнышко. Этот мир соткан из серебристых линий, серых изгибов и миллионов приглушенно-черных пятен.
— Есть у меня одна мысль насчет причин смерти брата, — говорит Ин, будто бы заглядевшись на город. — Почему он отказался от будущего, когда всего-то и надо было немного потерпеть? Он стал бы писателем, или художником, или бизнесменом; женился бы на Аямэй… Минь был слабак. Он не выносил соревнования, потому и покончил с собой. — Ин поворачивается к Кристоферу. — У них родился бы ребенок. Мы бы все вместе встречали Новый год… Ладно… какой смысл жалеть. Минь выбрал удел дезертира, а я — образцового солдата. Я сражался до конца — против конкурентов, против биржевых крахов и политических кризисов.
— Берите иногда отпуск, — советует Кристофер.
Чжан Ин улыбается. В этой улыбке — и гордость, и смирение, и безнадежность. Снова звонит его мобильник. Он отвечает. Обсуждая с собеседником поправки к какому-то контракту, свободной рукой указывает Кристоферу на небоскребы, носящие его имя. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь… бесчисленные клоны, кубы и цилиндры, вздымаются вдоль автострад, ходов лабиринта, выхода из которого нет.
* * *
На середине озера Хоу-Хай, на катамаране.
Вдали из баров вырываются звуки джаза, оперной музыки и рока. Билл и Джон крутят педали. Вокруг их ног лежат пустые банки из-под пива.
— Do you still believe in America, the world’s bright future, the bastion of democracy?[9]
— I don’t believe in anything anymore[10], — отвечает Билл. — Я выступал в стольких ипостасях, что не верю больше даже в себя.
— Билл, мне тридцать девять лет, и меня это достало! Никто не знает, кто я. Когда я иду по улице, никто меня не узнает. Когда я умру, даже не знаю, под каким именем меня похоронят.
— А все люди, вон, хотя бы те, что едят и пьют там, — ты что-нибудь знаешь о них? Думаешь, они оставят след? Посмотри на небо. Ладно, брось, над Пекином больше нет звезд. Закрой глаза и представь себе летнее звездное небо. Звезды — они повсюду, во всей Вселенной. А ты знаешь лишь единицы, потому что им дали имена. Так и человек. Всего лишь безымянная звезда в ночи.
— Хочешь знать, как ушла Хелен?
Билл вздыхает:
— Валяй, рассказывай.
Джон залпом высасывает банку пива и морщится.
— Мы лжем все время и во всем.
— Естественно, профессия обязывает.
— А больше всего мы лжем в незначащих мелочах, чтобы скрыть, кто мы есть на самом деле: вы умеете играть в шахматы? Нет! Вы говорите по-китайски? Нет! Вы пьете? Нет! Вы знаете Харбин? Нет! Вы танцуете? Нет!
Билл улыбается горькой улыбкой:
— Я почти как ты, только время от времени говорю правду — чтобы запутать следы.
— Полгода назад Хелен приготовила спагетти под соусом болоньез и спросила, нравится ли мне. Я обожаю спагетти, и она прекрасно это знает. Но я был так вымотан в тот вечер, что машинально ответил: «Нет!» Она перебила всю посуду и ушла…
— Джон, забудь ее. Женщины знают свой предел страдания.
— Женщины? Зачем они вообще? Понимаешь, я теперь задаю себе массу вопросов. А смерть? Вот ты понял, что это такое?
— Я думаю об этом иногда. Смерть — это наша головная боль, вот и все.
— С тех пор как ушла Хелен, я больше не трушу, как раньше, не боюсь, что умру и оставлю ее одну на свете или что ее убьют мои враги. Вот только трахаться спокойно не могу. Когда лежу сверху, мне все время кажется, что сейчас кто-то войдет и всадит мне нож в спину. Понимаешь, я готов на все, лишь бы не умереть так — в чем мать родила и член торчит. Вопрос не в том когда, вопрос в другом: смешно или не смешно.
— Ты что-то много думаешь о смерти, Джон. Это твои сорок лет дают себя знать. У тебя кризис среднего возраста!
— Не знаю. Меня все достало. Помнишь, как мы в прошлом году в том баре в Бангкоке влезли на стол и устроили стриптиз?
— Девушки визжали от радости, а хозяйка хотела заключить с нами контракт.
— Ну вот, в тот вечер все и началось. Я вдруг понял, что мне от этого веселья скучно. С тех пор у меня не получается кончить. Что-то во мне сломалось. Я не могу забыться. Я существую… Почему, черт побери, я существую? В двадцать лет я верил в Америку, верил в демократию. Теперь я не верю больше ни во что! Я лгу ради лжецов, которые нас используют, я борюсь с лжецами, несогласными с нашей ложью. Это замкнутый круг, Билл. Меня достало!
Пьяный Джон горько рыдает.
* * *
В номере отеля «Кунь Лунь».
Билл Каплан просыпается и смотрит на часы. Четыре часа двадцать три минуты. В ногах кровати беззвучно мерцает телевизор. На экране мужчина мастурбирует над открытым женским ртом.
Ему вспоминается, что он пришел сюда мертвецки пьяным и трахнул стюардессу, включив для разогрева порнофильм. Он косится на кровать. Девушка с раскосыми глазами еще спит. Как бишь ее зовут? Имя уже забылось. Он бесшумно одевается в потемках и выскальзывает из номера, будто вор.
Снаружи — не знающий отдыха Пекин. Сквозь легкую пелену смога над мегаполисом, вмещающим семнадцать миллионов коренных жителей и иммигрантов, проступают строительные леса в огоньках, слышен далекий гул стройки, перемежающийся визгом шин проносящихся по эстакадам автомобилей. Билл подзывает такси. К счастью, название своего отеля он не забыл.
Стоя под душем, он энергично намыливается. И тут перед его мысленным взором вдруг возникает лицо Аямэй. Он отчетливо видит ее густые брови, прямые ресницы, придающие ей вид девочки-дикарки. Ее взгляд устремлен на него. Глаза такие же, как у лабрадора, когда он глядит на своего хозяина, — полные страсти и снисхождения. Билл трясет головой, и видение исчезает.
Чемодан лежит на кровати, уже собранный. Перед тем как спрятать в портфель портрет Аямэй, полученный от Чжан Ина, Билл еще раз смотрит на него. Улыбается, отметив, что ноги у нее были тоньше, а грудь совсем плоская. Она сидит, отвернув голову. Ему виден только затылок. Но он угадывает счастливое выражение на ее освещенном солнцем лице, обернутом к Пекину, которого больше нет. Это безмятежное счастье словно затягивает его, и он оказывается вместе с девочкой на вершине холма. Она бежит к нему, кидается на шею. Свободной рукой показывает ему на золотые крыши Запретного города и развалины Дворца вечной весны.
Захлопнув дверь номера, Билл ныряет в лифт.
Ловит такси и мчится в аэропорт.
Прощай, Пекин, город о шести кольцевых дорогах, город, взбудораженный в преддверии Олимпийских игр, город, в котором живут под одним небом Ин и Джон, строитель и шпион, оба накрытые с головой его невыносимой безмерностью.
* * *
Париж, 21, площадь Эдмона Ростана, четвертый этаж.
Джонатан бросает багаж на пол в прихожей.
Распахивает окна и ставни.
Перед ним серое небо. Лениво накрапывает дождь над Люксембургским садом. Аллеи пусты. Сад еще не открыт. Только одна перемена в этом незыблемом пейзаже: большой каштан покрылся листвой. Больше не видно Эйфелеву башню.
Идет дождь. Тысячи, миллионы капель, прозрачных иголочек, незрячих глаз. Они разбиваются о его голову, катятся по лицу, затекают в рот, сползают на грудь. В самолете на обратном пути Джонатан продумал мизансцену и приготовил двусмысленную речь для Аямэй. Его обычные шуточки скроют закодированное послание: он по ней скучал. Выйдя из-под душа, он приступает к бритью. Лицо в зеркале напоминает ему отцовское. Как может он не презирать себя? Нет. Он этого не сделает. Не поднимется к ней, не скользнет ужом в ее постель, не стиснет ее в объятиях. Он позвонит ей с работы, сообщит, что вернулся. Эта квартира — не его. Имя Джонатан тоже чужое, временное. Он не знает, где будет жить и как зваться через год. Он даже не вполне уверен, что сегодня его день рождения.
Он помнит даты рождения тех, кем ему приходилось быть. Знает наизусть дни именин своих фиктивных родителей. Некому напомнить ему, в какой день он появился на свет. Некому, с тех пор как его отец, бывший шпион ЦРУ, исчез в Вене, чтобы всплыть затем в Москве, а мать, страдающая болезнью Альцгеймера, окончательно потеряла память.
«Человек спасется, если перестанет смотреть в зеркало», — сказал однажды его объект. Она права. Там, в зазеркалье, другой мир, в котором живут Аямэй, навеки недоступные Джонатанам.
* * *
Аямэй целует его, обнимает, прижимается всем телом и убегает куда-то. Потом возвращается. Краснея, садится напротив него.
— Ты вернулся утром?
— Да.
— Работал сегодня?
— Да.
— Устал?
— Нет.
— Почему ты не дал мне приготовить ужин?
— Я все заказал в ресторане по дороге. Так быстрее.
— Ты какой-то странный сегодня… тебе грустно. Почему?
— Мне грустно? Может быть… Устал немного.
— Я сделаю тебе массаж.
Она встает и склоняется над ним сзади. Мнет его плечи, обхватывает руками голову. Он не противится, позволяя пальцам китаянки гладить его виски, закрывает глаза. Ему хочется быть с ней ласковым. Хочется рассказать ей о своей поездке. Хочется поделиться с ней всем, что он увидел, узнал, пережил с рождения до сегодняшнего дня. Хочется рассказать о необыкновенных людях, с которыми он встречался, о странных женщинах, которыми прельщался. Хочется рассказать, сколько раз он рисковал и каких избежал опасностей. Он бы и не солгал. Разве что преувеличил бы, немного приукрасил факты, чтобы поразить ее. Увидеть бы, как округлятся ее глаза, услышать ее смех и восторженные ахи. Пусть она сойдет с ума от восторга.
Увы, он не герой. Ему не хватает мужества даже признаться самому себе, что он счастлив, когда она его массирует. До кончиков ногтей он чувствует негу, но принять это блаженство не имеет сил.
Подняв руку, он перехватывает ее запястье. С его губ срывается ложь:
— Сегодня день рождения моей матери. Я хочу отпраздновать его с тобой.
Запрокинув голову, он смотрит на приближающееся лицо Аямэй. Ее черные глаза жгут его.
— Я счастлива, что мы отпразднуем его вместе.
Ему тоже хочется улыбнуться. Но он хмурит брови и говорит ворчливо:
— Сядь. Давай поужинаем. Я проголодался.
Сидя напротив него, она щебечет, не скрывая радости от встречи, и вертится, как девчонка.
— Тебя так долго не было! Я думала о тебе. Каждую минуту, каждую секунду. Что ты делал? Где был? Ты там хорошо спал? Что тебе снилось? Ты изменил мне с хорошенькой стюардессой? Я ревновала, воображала себе такое… Но это не страшно. Ты же говорил мне, что истинная любовь свободна от собственничества. Я должна этому научиться. Чтобы соответствовать тебе. Каждый день я ждала твоего звонка. А ты ни разу не позвонил. Как сгинул! Я так испугалась, напридумывала, что с тобой произошел несчастный случай, или тебя похитили, или «Земной Мандат» велел тебе остаться в Азии и я больше никогда тебя не увижу. Я страдала из-за тебя. — Она вздыхает и улыбается: — Это было так приятно…
Ему хочется смотреть на нее влюбленно. Хочется сказать ей, что он тоже о ней думал, может быть, не каждую секунду, но по нескольку раз за день, и даже побывал в Китае, и привез ей Миня. Но голос снова становится палачом его мысли. Он цедит сквозь зубы:
— Я никогда не звоню из командировок.
Лицо Аямэй мрачнеет, но тут же снова расцветает улыбкой.
— Ты прав. Нас могли прослушивать.
Почему она так ласкова? Разве можно влюбиться в такую мразь, как Билл Каплан? Его голос леденеет:
— Однажды, может статься, я уеду навсегда.
Ее глаза устремлены на жареную курицу.
— Я знаю, но… — Она закусывает нижнюю губу. И вдруг выпаливает: — Сегодня ты здесь! Я хочу насладиться этим сполна! Не хочу ни о чем жалеть завтра, когда ты уедешь. Я не боюсь разлуки, Джонатан. Жизнь состоит из разлук.
Он взволнован и невольно завидует мужеству этой женщины. Она влюблена в человека, который и сам себя не любит.
— Когда я впервые увидела тебя у лифта, — начинает она робко, но отчетливо выговаривая каждое слово, — ты сразу покорил меня! Джонатан, ты подарил мне немного радости! Твое лицо, твой голос, твоя кожа не давали мне покоя! Почему я решилась украсть бумаги у Филиппа Матло? Почему переспала с ним, не испытывая к нему ни тени чувства? Я тебе кое в чем признаюсь. Все это вовсе не потому, что я верю в проповеди «Земного Мандата». Я сделала это для тебя! Я хочу служить тебе, хочу доставлять тебе удовольствие, я хочу смирить свою гордыню, унизить свое «я» — первый и единственный раз в жизни! Отдать человеку лучшее, что у меня есть, и ничего не просить взамен. Идти ему навстречу с закрытыми глазами, зная, что рискую споткнуться, упасть и не подняться больше. Так я люблю. Почему тебя? Что будет со мной, когда ты уедешь? Эти вопросы выше моего понимания, я знаю только, что однажды, если мне суждено прожить достаточно долго, я открою альбом моей памяти и увижу тебя. Я скажу: «Вот человек, которого я любила всем сердцем, человек, о котором я ничего не знала, ни его имени, ни прошлого, ни будущего. Этого человека я встретила у Люксембургского сада и тот короткий срок, что мы были вместе, любила его как умела!»
Теперь очередь Джонатана смотреть на жареную курицу. Ему нечего ответить на это признание.
Он вдруг слышит смех Аямэй.
— А ты, случайно, не шпион? Со всеми твоими штучками ты наверняка работаешь на ЦРУ. Не бойся, я теперь повязана и для тебя не опасна. Скажи мне правду, кто ты?
Джонатан не отвечает. Медленно поднимает на нее глаза. Дает себе время подумать. Рано или поздно Контора пришлет кого-нибудь, чтобы окончательно сделать эту женщину пешкой на шахматной доске американской разведки. Почему же не сейчас? Почему не он?
Он смотрит ей прямо в глаза — так у него лучше всего получается лгать.
— Я всего лишь обыкновенный программист, вступивший в «Земной Мандат», чтобы иметь хоть какое-то убеждение, идеологию, веру. Я делаю что могу, чтобы наше общество стало лучше. Вне «Земного Мандата» я — ничто. Прости, но я не Джеймс Бонд, не супергерой, не спаситель человечества.
Она обрушивает на него град вопросов:
— Ты поселился в этом доме, чтобы познакомиться со мной? Ты заранее спланировал нашу встречу? Ты спал со мной, чтобы добраться до Филиппа Матло? Я для тебя только орудие или ты все-таки испытываешь ко мне хоть какое-то чувство?
Она ерзает на стуле. С трепетом ждет его ответа. Ему рвет сердце этот взгляд, заклинающий набраться мужества и сказать правду. Он должен сделать ей это признание: «Да, я играл с тобой, я тебя обманул. Да, я безумец и циркач, ты станешь презирать меня, когда увидишь мое истинное лицо. Да, я воспользовался твоей наивностью и твоим пылом. Я отдал тебя на поругание, я причинил тебе зло. Спасибо тебе за то, что пробудила мою нечистую совесть. Спасибо, что полюбила такого — одинокого, сумасшедшего, проклятого. Прости меня!»
Но вслух он отвечает молодой женщине только одно слово:
— Нет.
Ложь ведь может быть и проявлением сострадания.
— Ты любишь меня хоть немного? — настаивает она.
В его прошлом были женщины, уже задававшие ему этот вопрос. Он что-то изобретал, уходя от прямого ответа. Почему она, почему Аямэй, героиня Тяньаньмынь, тоже хочет от него обещания, которого он не может дать?
— Да, — невольно вырывается у него.
— Спасибо! — всплескивает она руками. — Спасибо! — И, украдкой смахнув слезы, улыбается ему: — Ну, давай поедим. Что тебе положить? Крылышко или ножку?
Джонатан машинально жует. Через силу шутит и рассказывает о своей поездке в Малайзию, измышляя на ходу тысячу несуществующих подробностей. Она смеется. Он думает, отдать ли ей рисунок Миня. И стоит ли говорить, что он ездил в Китай из-за нее? Как объяснить ей это? Нельзя допустить ни в коем случае, чтобы она поверила, будто он влюблен!
Поздний вечер, свет в кухне погашен, на столе именинный пирог. Она зажигает свечу. Спрашивает:
— Сколько лет исполнилось бы твоей матери в этом году?
Он наобум говорит цифру.
— Задуй. Ну, давай же!
Он дует.
Она хлопает в ладоши.
Он находит ее впотьмах. К черту осторожность, расчет, маскировку. Ему хочется удивить ее и удивить себя. Хочется быть добрым в свой день рождения. Пусть она обретет Миня, чтобы наконец похоронить его. Этот портрет разорвет узы, привязывающие ее к мертвецу. Освободившись, она почувствует свое тело, познает наслаждение, а он, Джонатан, сможет исчезнуть.
— Идем в гостиную, — шепчет он ей на ухо, — у меня есть для тебя подарок.
Он усаживает ее посередине дивана. Просит закрыть глаза и кладет акварель Миня ей на колени.
— Что это?
— Посмотри.
Улыбаясь, она берет рисунок в руки:
— Кто эта девочка?
У него темнеет в глазах.
— Ты нашел это в Малайзии? — пробивается сквозь дурноту ее голос. — Какая прелесть! Спасибо!
До него вдруг доходит, что надо немедленно отобрать у нее рисунок. Поздно. Она уже перевернула его и увидела надписи по-китайски.
Вот она читает, медленно, опустив голову. Сосредоточенно изучает тексты, не такие уж и длинные.
Джонатан боится дышать.
Так же медленно она поднимает голову. Он видит ее глаза — в них новый, злой огонек. Он чувствует, как напряжены ее мускулы, как натянуты нервы. В ее неподвижности есть что-то звериное: так выглядит хищник, готовый броситься на жертву. Он тоже замер: нет, он ее не боится, это она боится его! Ей невдомек, как к нему попал этот портрет. Ей невдомек, что он был в Пекине. Ей невдомек, что он и не подозревал, что она не узнает акварель. Ей невдомек, что никто не в курсе, никто не стоит за Джонатаном. Ей невдомек, что это не мизансцена, не ловушка, что их разговор не записывается.
Не двигаясь с места, он улыбается ей. Женщина, выдающая себя за Аямэй, смотрит на него испытующе. Ей нужно сообразить, что значит эта улыбка, и оценить таящуюся за ней опасность. Вдруг ее напряженное лицо смягчается. Она встает и подходит к нему.
— Зачем ты привез мне Миня, когда я приняла решение его забыть? Ты играл со мной, Джонатан. Ты меня не любишь.
Неужели паранойя снова сыграла с ним злую шутку? А что, если она настоящая, эта фальшивая Аямэй? Что, если она просто забыла какие-то моменты из того периода своей жизни, о котором больно вспоминать? В конце концов, ей ведь было тогда всего четырнадцать лет, а сейчас ей тридцать семь.
Джонатан нерешительно делает шаг ей навстречу и протягивает руки. Он должен ее удержать. Должен удостовериться. Она не может быть ложью. Это было бы катастрофой для него, для его начальства, для всех, кто наблюдает за ними из тени!
Она неотрывно смотрит на него. Две слезинки стекают по ее щекам. Господи Боже, почему она плачет?
Вдруг она круто поворачивается и идет к двери. Ему не хватает мужества броситься за ней. Пока он решается, хлопает дверь — и ее уже нет.
IV
22.15.
Когда он впервые проснулся утром в постели женщины, ему едва исполнилось шестнадцать. Муж Джейн был в отъезде. Поздней ночью она забрала его с вечеринки и привезла к себе домой, бесстыдно дразня белой грудью в красной открытой машине. Они поднялись к ней в спальню, и он изошел, как только она взяла его член в рот. Он извинился, сказал, что выпил лишнего, поэтому не смог сдержаться. Это была его первая разумная ложь.
В то утро, в объятиях Джейн, ему приснился странный сон: автобус до Лос-Анджелеса почему-то поехал в обратную сторону и шофер высадил его в незнакомой местности. Небо было синее-синее, очень низкое. А по обе стороны дороги водяные лилии — розовые, пурпурные, лиловые, желтые, голубые — цвели на простирающихся до горизонта озерах. Проснувшись, он решил, что женщина — это дорога не туда, ведущая к лилейным красотам.
Джейн… что с ней сталось? Должно быть, пытается обмануть возраст, вверяя лицо и тело заботам дерматологов и хирургов. Должно быть, похожа на всех этих женщин, похожих друг на друга. Прошло двадцать два года, больше они не виделись. Узнает ли он ее, если встретит снова?
Запах кактусов, лавров и океана под солнцем всплывает в памяти. В восемнадцать лет он провел несколько воскресений с Кейт в деревянном домишке в двух шагах от пляжа. Погода стояла прекрасная. В его родных краях всегда прекрасная погода. Они подолгу занимались любовью, слушая музыку. Кейт была на три года старше и объяснила ему, что кончать надо вместе. У него до сих пор стоят в ушах вопли Кейт вперемешку с его собственными стонами, но остроты испытанного наслаждения он не помнит. Память сохранила оболочку, а содержимое стерлось.
После Кейт он больше не знал того беспечного воскресного изнеможения. Встретив Кэти, он пошел в обратную сторону от пункта назначения — навстречу своей судьбе. Он хорошо помнит ее стройную талию и тяжеловатые бедра, помнит тонкие губы цвета малины, но забыл ласки ее рук и вкус ее поцелуев. Кэти жива, но она уже призрак, блуждающий в его памяти.
В университетской аудитории она садилась рядом с ним. Заговорила в первый раз у кофейного автомата. Она тогда улыбнулась ему. Эта улыбка вонзилась в него как нож. С той первой раны все и началось.
Кэти появлялась и исчезала. Она входила в его комнату, а выйдя за дверь — будто растворялась. Она меняла часы свиданий, пропадала по нескольку недель и вдруг возникала, когда он заводил машину, выходил из супермаркета или направлялся в бар. Не было ни прогулок по берегу океана, ни пробуждений в объятиях друг друга, ни телефонных разговоров, полных влюбленной чепухи. Кэти была мутантом, хронометром и арифмометром, у этого прелестного создания не только тело, но и душа подверглась хирургии по ноу-хау спецслужб: ее нежность была лишь результатом успешной пластики, ее юмор — силиконом сухого сердца. Ее чувственность была приманкой, чтобы завлечь молодого человека в лабиринт. Она сводила его с ума холодно и методично, а потом в один прекрасный день открыла ему, кем был его отец, которого он считал умершим: агентом ЦРУ, перебежавшим на Восток. Кэти сломала его, и она же его склеила. Однажды утром он посмотрел в зеркало и не узнал себя. Студента Дэвида Паркхилла больше не было. Он стал Биллом Капланом.
Четыре года назад он ощутил муторность одиночества и захотел совершить то, что не удалось его отцу: дать счастье своей семье. Изабелла, с которой он познакомился в самолете, напомнила ему мать: худенькая, элегантная брюнетка и даже француженка. Она была нужна ему как якорь в его земной жизни, как обязательство не умирать. Но Изабелле недостало силы принять его дар. Когда после множества проверок Контора наконец дала ему разрешение открыть свое подлинное имя и род занятий, она, устав от его частых исчезновений, влюбилась в летчика и вышла за него замуж.
После Изабеллы секс стал отправлением естественной потребности. Лица, волосы, груди смешались, оставив на уровне ощущений лишь смутные оттенки и шорохи. Он не мог бы сказать, какое тело обнажалось перед ним, в каком отеле. Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Сеул, Гонконг, Токио, Пекин — все города похожи, все источают запах опасности, смешанный с ароматом женщины. Он не знал любви и не жалеет об этом. В нашем мире любовь — всего лишь оборотная сторона ненависти, и то и другое суть психические отклонения.
Почему Аямэй повела себя как чужая при виде своего портрета, нарисованного Минем? Почему Минь покончил с собой? Почему Билла Каплана, канатоходца, балансирующего над земными иллюзиями, околдовала женщина, идущая по той же натянутой проволоке? Он, человек, посвященный в тайны мира сего, теневой вершитель судеб, он, читающий газеты с ехидной ухмылкой, он, дергающий за ниточки себе подобных, — почему же он поверил лживым словам какой-то китаянки? Неужели она хитрее, неужели сильнее его? Или ему хотелось ей верить? Он так ничего и не понял в любви. Так ничего и не понял в женщине. Он вдруг стал дилетантом в своей профессии. А может, он сошел с ума?
В ночной темноте на фоне черного неба вздымается фаллический силуэт Монпарнасской башни. Билл только теперь замечает, что забыл задернуть шторы и бросился на кровать, не раздевшись. Он смотрит на часы: двадцать три сорок одна.
Если она не Аямэй, тогда понятно, почему она не узнала ту идеализированную девочку. Истина вычисляется элементарно. Аямэй была арестована, и китайские спецслужбы заменили ее своей сотрудницей. Самозванка якобы бежала с континентального Китая, два года «скрывалась», а затем попросила убежища в Париже. В таком случае легко объяснимы некоторые перемены во внешности. Все связи с Китаем оборваны: ее отец умер от сердечного приступа в 1989 году, мать попала под машину в 2001-м. Таким образом она могла, ничего не боясь, «воскреснуть» во Франции. Под легендой героини Тяньаньмынь шпионка взяла под контроль китайское демократическое движение, проникла во французскую политическую среду, создала агентурную сеть, центр которой находится прямо над ним, двумя этажами выше?
Билл мысленно возвращается к первой встрече с той, что называет себя Аямэй. Тогда, в холле, она окинула его профессиональным взглядом. А в Люксембургском саду она обменивалась книгами со своими учениками — наверняка эти книги служат почтовыми ящиками. Он вспоминает ее квартиру — прибранную, вылизанную, упорядоченную, если не считать коробок с фотографиями Аямэй и газетными вырезками о Тяньаньмынь. Он понимает теперь и ее повадку, эту подлинно военную выправку, и усердные занятия боевыми искусствами.
Ему вспоминается их первое свидание. Ее руки были неподвижны, когда она говорила: только опытные агенты умеют так владеть эмоциями. Когда она в первый раз рассказывала ему о Тяньаньмынь, прозвучали такие слова: «Спасение нынешнего Китая — не в демократии». Когда они в первый раз занимались любовью, она сказала: «Я кукла, марионетка, и кто-то невидимый дергает за ниточки, чтобы я плясала». А он, как дурак, ляпнул в ответ: «Все мы марионетки в мире иллюзий».
Эта женщина — его двойник. Почему он не узнал себя? Как мог быть настолько слепым и глухим?
Она его соблазнила — а он-то думал, что соблазняет ее.
Она играла с ним — а он-то корил себя, что играет с ней.
Он потирает виски, пытаясь пресечь начинающуюся мигрень. Аямэй давно завербовала Филиппа Матло, и он работает на китайцев. Она задействовала его для передачи американцам фальшивой информации. Благодаря Биллу Каплану, он же Джонатан Джулиан, этот фокус оказался детской игрой.
Он поверил в нее. Его начальство поверило в него. Его поздравили с успехом, посулили повышение. Все остались в дураках.
Это не моя вина, думает он. Эта чудовищная ошибка — не моя вина. Я только исполнитель…
Билл вскакивает с кровати. Сбрасывает пиджак и брюки прямо на пол и засучивает рукава рубашки. Он развинчивает лампу, свой мобильный телефон, будильник, потрошит матрас и валик в изголовье, обследует письменный стол, компьютер, разбирает бачок в туалете, поднимает половицы. Пот льет с него градом. Он стаскивает рубашку, проверяет на всякий случай даже подошвы туфель. Все перерыто. Тщетно. Ни камеры. Ни жучка. Ни записывающего устройства. Она ничего не установила в его квартире. И он ничего не установил у нее, если не считать камеры для съемки Филиппа Матло. Они оба плутовали лишь словами. Только взглядом да сексом пользовались для нагромождения лжи.
Кто она? Какой у нее оперативный псевдоним, как ее зовут по-настоящему, где она обучалась? Сегодня она испугалась, ему бы, воспользовавшись этим, вырвать у нее признание. Но он испугался правды. Упустил момент. Отступил. Дал ей уйти.
Почему он так ослаб?
А она, может быть, и не фригидна вовсе. Ее фригидность тоже была стратегическим маневром. Расценив это как вызов своему мужскому достоинству, он из кожи вон лез, чтобы доставить ей удовольствие. Он влюбился в женщину, которую не мог подчинить себе. Оттого и дал слабину в постели. Оттого и чувствовал вину за свое превосходство. Оттого и совершил непростительную ошибку — пожалел ее. Оттого и ослеп, и оглох.
С первого дня она знала, что он не Джонатан Джулиан. Она, конечно, поняла, что он побывал в ее квартире, и наверняка наведалась к нему. Очень может быть, что она прослушивала его телефон, скачивала файлы, не исключено, что за ним ходит ее «хвост». Терпения ей не занимать, она могла расшифровать его пароли, обнаружить явки, выйти на агентурную сеть. И его отпечатки пальцев, как пить дать, ушли в Пекин. Это провал!
Билл оседает на диван, обхватив голову руками.
У него нет выбора, надо ее перевербовать. Пусть объяснит, что она сделала. Пусть облапошит Филиппа Матло по-настоящему. Пусть доиграет свою роль, а он — свою.
Он тяжело поднимается и идет в кухню. Стоя у холодильника, наливает себе стакан воды и запивает две таблетки аспирина. Что ж, раз она и так знает его как облупленного, он пойдет к ней с открытым забралом.
Он поднимает стакан, будто чокаясь.
За тебя, самый блистательный агент из всех, кого я встречал в своей жизни! После Тяньаньмынь Аямэй тайно арестовали. Ты присвоила ее личность и переплыла Гонконгский залив. Ты попросила политического убежища во Франции. Ты выучила французский язык и впитала французскую культуру. Общество друзей демократии в Китае позволило тебе совершенно спокойно получать финансирование из Пекина. Ты познакомилась с Филиппом Матло и купила его. Благодаря ему ты начала давать уроки депутатам и бизнесменам. Ты собрала сведения, а потом стала дергать за ниточки. Эти люди, выпускники престижных высших школ, сделались твоими игрушками. Снимаю шляпу! Какие поразительные достижения за столь короткий срок! Я восхищен твоей отвагой, твоим терпением и твоим талантом.
Аспирин действует, и головная боль утихает. Билл начинает соображать яснее.
Аямэй, прости, мне придется называть тебя Аямэй, пока я не узнаю твоего настоящего имени, ты — феномен в мире шпионов! Ты сегодня слишком быстро ушла. Я привез тебе этот рисунок как предупреждение об опасности. Да, Аямэй, твоя карьера висит на волоске, и твоя жизнь под угрозой. Люди, которые знают, кто ты на самом деле, могут выдать тебя. Твоя страна, наказанная эмбарго на поставки оружия после событий на Тяньаньмынь, не может позволить себе такую роскошь, как новый скандал, связанный с этим же прошлым. Она не допустит твоего освидетельствования французским судом, твоей фотографии на первых полосах газет со взрывными заголовками типа «Невероятные приключения шпионки, ставшей защитницей прав человека». Пекин поможет Аямэй покончить с собой.
Билл расхаживает взад и вперед по кухне, мысленно подбирая доводы.
Ну так вот, я пришел предложить тебе выбор: «Be either with us or against us»[11]. С нами? Тебя ждет блестящее будущее. Против нас — ты умрешь. Почему мы, американцы, протестуем против снятия европейского эмбарго? Потому, что мы сами хотим продавать оружие китайцам. Ты нужна нам, чтобы помочь выиграть эту гонку. Твой вклад будет вознагражден. Ты станешь работать на дружбу двух империй, которые делят будущее мира. Мы не просим тебя предать свою страну, но выбирай между Европой и Соединенными Штатами. Хочешь дружеский совет? Когда прекрасной женщине приходится делать выбор между двумя претендентами на ее руку, она выбирает того, кто богаче, красивее, сильнее.
В Китае идет бурный экономический рост. Режим смягчается день ото дня. Скоро компартия будет готова к самой радикальной перемене. А мы, на правах первого партнера Китая, в нужный момент подскажем китайцам эту мысль: «Аямэй, героиня Тяньаньмынь, — чем не идеальный кандидат для демократических выборов?» Ганди, Неру, Мандела, Вацлав Гавел, Беназир Бхутто в Пакистане, Кори Акино на Филиппинах прошли через гонения и тюрьмы, а затем были единогласно избраны и стали лидерами своих наций. Твой народ и твоя партия примут тебя с распростертыми объятиями. Ты будешь воплощением надежды. Мы поддержим тебя. Профинансируем твои кампании. Ты потеряла себя, ты обречена жить в тени, а мы дадим тебе толчок к свету. Вместо того чтобы кануть в забвение Истории, ты вознесешься к вершине человеческой судьбы.
Билл понимает, что на этом этапе придется дать ей какие-то гарантии.
Разреши представиться, Билл Каплан. Вчера мы праздновали мой день рождения. Мой отец бросил мою мать, когда я был ребенком. Он разбился в автокатастрофе. Моя мать была француженкой. Она умерла восемь лет назад, сгорела от рака. Мои дед и бабушка до сих пор живут во Франции. Мы съездим к ним как-нибудь, хочешь? А ты — как тебя зовут? А твои родные еще живут в Китае?
Билл возвращается в гостиную. Окидывает взглядом учиненные им разрушения. Перед камином валяются анемоны, которые принесла ему китаянка. Чуть подальше книги и диски — страницы вырваны, коробки открыты. У стены разбитая ваза.
Он подходит к разобранному телевизору, начинает прилаживать на место отвинченные детали.
И телевизор снова работает!
Люди, животные, леса и города проплывают на экране. Этот мир — пазл из картинок, которые можно сложить, рассыпать и снова сложить, если вздумается.
Пока не настигла кара, надо держаться во что бы то ни стало. Надо продолжать.
* * *
22.45.
На фуршете после премьеры фильма «Жизнь — подарок» Филиппа Матло окликает Франсуа Виго, в прошлом шишка с набережной Орсэ[12], ныне бизнесмен.
— Привет, Филипп, ну как тебе, понравилось?
— Да, — кивает он из уважения к режиссеру, который стоит в трех шагах от него. — А тебе?
— Мура! — рявкает экс-дипломат. — Во Франции нынче одна мура, ничего путного не осталось.
Франсуа еще сильнее разнесло. Его лоб жирно блестит. Подбородок трясется. Ничуть не комплексуя, он держит большущую тарелку с полным ассортиментом десертов: кусок шоколадного торта, крем-брюле, ванильное мороженое и эклер с зеленым чаем.
Режиссер оборачивается, и Филипп поспешно тянет Франсуа в противоположный угол.
— Необязательно так кричать. Слушай, зачем китаянка заставила меня написать те письма?
— Ага! Я так и знал, что ты об этом спросишь. Попробуй шоколадный торт, без него вечер был бы пропащий!
— Я уже наелся…
— Ладно, зайдем-ка за колонну, — говорит Франсуа, быстро оглядевшись. — В Китае сейчас полный раздрай. Нынешний президент на дух не переносит своего премьер-министра, а тот публично заявляет, что руководил бы страной лучше. Чтобы угодить Старику, его приверженцы разработали хитрый маневр. По сведениям моих источников, письма, которые твоя протеже попросила тебя подделать, были переданы в ЦРУ. Тамошний «крот» немедленно переслал копию своим людям в Китае. Вот тебе и скандал, весь политический класс в Пекине трясет. Президент вызвал премьер-министра и потребовал объяснений. Делу дан ход.
— А что решают французские спецслужбы? Что должен делать я?
— Ничего. Этот премьер-министр — начинающий демократ и превосходный экономист. Пусть Старик его свалит. Тем самым замедлит их рост лет на пять… Это все, что мы можем сделать.
— А американцы?
— Англичане были согласны на снятие эмбарго. Теперь — нет. Возможно, передумают и голландцы, они ведь тоже ответили «нет» Европейской конституции. Единая Европа разваливается. У Франции дела плохи. Черт бы драл американцев, все хотят прибрать к рукам — наши контракты, наших союзников и золотые медали заодно.
— А я? Уже семь лет я с вами работаю. Я устал. Жена хочет меня бросить. Министр устроил мне разнос. Американцы меня засекли. У меня все больше врагов. Хоть бы ты помог мне выбраться из этого дерьма.
— Ты? Ты только не дергайся. У меня кое-что есть на продажу китайцам. Передай Аямэй, что я готов удвоить ее комиссионные. Твои, разумеется, тоже.
* * *
23.03.
«Двери лифта открылись, и я увидела тебя. Твой взгляд обратился ко мне. Ты оценивал меня. Так смотрят опытные игроки в покер, прикидывая, какие карты на руках у противника. Твои глаза блеснули. Ты улыбнулся мне.
Кто ты? Какое твое настоящее имя, твое истинное лицо? Весь день я не могла забыть твою улыбку, влекущую и одновременно чем-то неприятную. Должна признаться, с возрастом у меня развивается паранойя. Взвоет ли сирена в ночи, заговорит со мной незнакомец, обернется прохожий — во всем мне чудится угроза.
Когда ты пригласил меня позавтракать, помнишь, ты спросил, боюсь ли я тебя. Да, Джонатан, я так боялась, что в дрожь бросало! Твои слова были полны намеков, твои действия продуманны. Твоя квартира с новенькой мебелью и фальшивыми памятками, могла быть только логовом шпиона, у которого нет прошлого.
Никто не остается в этой жизни безнаказанным, никто не может ловчить и обманывать вечно, никому не дано быть победителем до конца своих дней, все герои рано или поздно были побеждены. Я подпустила тебя к себе, будучи не в силах шевельнуться. Парализованная страхом, я утратила инстинкт самозащиты.
Ты, однако, дал мне выиграть первую партию. Джонатан, ты великий манипулятор! Ты лучший шпион, чем я! Ты убедил меня, будто не знаешь о моей двойной игре и твоя цель — Аямэй. Так тебе удалось добраться до Филиппа Матло, заснять его в моей постели и получить через него копии секретных документов.
Тысячу раз ты улыбался мне. Тысячу раз ты меня целовал. Тысячу раз ты сжимал меня в объятиях и шептал нежные слова. Я любила твое мускулистое тело, твой запах, напоминающий мне о деревьях в Люксембургском саду. Я любила твой тонкий юмор и твою откровенную ложь. Я любила твое левое запястье, на котором красуются тяжелые часы — последняя фишка ЦРУ. Я любила чувствовать тебя в себе. Тот факт, что ты принимал меня за Аямэй, что я передавала тебе поддельные документы, что ты, не ведая того, стал игрушкой в моих руках, что моя ложь на корпус опережает твою, рассеял мои страхи. Ты был так расчетливо обольстителен, что заинтриговал меня. Я вновь ощутила радость маленькой девочки, любящей играть с огнем. Не стало унылых одиноких вечеров, не стало внутренних монологов, приступов паранойи, навязчивой подозрительности. Все миазмы больного ума как ветром выдуло. Я обнаружила, что красива. Для других я всего лишь тень. А для тебя я, оказывается, существовала! Я перестала ненавидеть себя. Теперь мне было чем заняться: я плела сеть из шелка и стали. Я хотела предвосхитить твою стратегию, обойти тебя в твоей же игре, предупредить твое желание, для тебя, для меня, дав тебе вторгнуться на мою территорию, чтобы захватить твою. Я хотела завоевать тебя, как ты хотел мною владеть. На каждое наше свидание я шла, как солдат идет в бой: за твое доверие, за твою слабость и за ту единственную нерушимую, нетленную, неприкосновенную истину — любовь. Способен ли ты любить? Способна ли любить я?
Мое тело, после стольких лет бесчувствия, вдруг оттаяло и затрепетало. Как признаться тебе, что я опьянела от этих новых ощущений? Как поверить, что шпионка сходит с ума по шпиону, чье задание состоит в том, чтобы свести ее с ума? Да, „Аямэй“, бунтарка с Тяньаньмынь, и я, полковник Анкай, мы обе потеряли голову.
Сегодня вечером ты выложил последний козырь. Игра окончена. Одно утешает меня: я сумела притвориться фригидной. Ты отнял у меня все: гордость за свое мастерство, уверенность в своих силах, веру в свою непобедимость, — все, кроме этого образа холодной женщины, бесчувственной и недостижимой.
Нет, каково! Вот это мастер! Я и вправду поверила, что ты принимаешь меня за Аямэй. Ты попросил меня украсть документы, и я воспользовалась случаем, чтобы подсунуть тебе сфабрикованную информацию. Все сработало как в кино про шпионов. На самом деле это было кино про контршпионов. Ты знал, кто я. Благодаря видеосъемке и „украденным“ документам ты получил улики против меня: я спала с французским чиновником, чтобы заполучить документы под грифом „секретно“. Собрав достаточно вещественных доказательств, ты выложил рисунок, чтобы взять меня тепленькой. Ты вовсе не собирался превращать Аямэй в шпионку — ты расставил западню шпионке Анкай.
В ту минуту, когда я взяла в руки портрет Аямэй, я возненавидела тебя так отчаянно, что решила тебя уничтожить. Но потом, увы, как всегда, эмоции пересилил разум. За что мне ненавидеть тебя? Ты всего лишь пешка в руках твоих вашингтонских хозяев. Ты только исполняешь приказы. Ты служишь американской разведке, которая противостоит на шахматной доске мира разведке китайской. Если ты выпадешь из окна дома 21 на площади Эдмона Ростана, к твоему трупу сбегутся дознаватели и журналисты. Информация о следствии попадет в прессу, и в Париж явятся шишки из ЦРУ. Какие заголовки в газетах! Америка наезжает, Франция отрицает, Китай кричит о своей непричастности. Последуют санкции: высылка дипломатов, отказы в визах, запреты на импорт, падение биржевого курса…
Ты шагнул ко мне и протянул руки. Моя ненависть вдруг испарилась, я вспомнила, что твое тело подарило мне наслаждение, что твои речи заставили меня смеяться, а твое появление осияло мою жизнь. Идет мировая война, и ты в ней всего лишь солдат, такой же, как и я. Как и я, ты мало получаешь за опасную работу, как и я, забыл, что такое спокойный сон и отпуск без депрессии. Как и я, каждое утро заставляешь себя вспоминать слово в слово придуманную накануне ложь. Как и я, коротаешь тихие вечера, когда отпускает напряжение, один у телевизора. Ты смотришь на мир через это крошечное окошко, точно узник в одиночной камере. Как сказать тебе, что я понимаю тебя и прощаю? Мы ничего не можем сказать друг другу. Нам нечего друг другу сказать. Нас выучили хранить секреты и не иметь чувств. Заговорив, я сдам позиции и дам тебе повод шантажировать меня.
Завтра ты придешь ко мне с угрозами, утешениями и предложениями. Следующий этап — поставишь меня перед выбором: надзор французской полиции или работа на ЦРУ. Слово возьму я, пущу слезу и сделаю тебе встречные предложения. Я объясню тебе, что, работая на китайцев, ты быстрее сделаешь карьеру, а своих начальников без труда убедишь, что перевербовал меня. Мой статус двойного агента послужит тебе прикрытием. С моей помощью ты будешь добывать важную „информацию“, благодаря которой станешь специалистом по Китаю. Тебя заметят и повысят. В Вашингтоне многие теневые фигуры стали публичными, и тебе могут предложить выйти из тени на политическую арену. Ведь благодаря мне ты получишь доступ и к французскому правительству…
Джонатан, этот мир безумен! Угрозы, слезы, признания, деньги, дурман, соблазны — все это лишь трюки. Чем выше метим мы в ту недосягаемую для людей пустоту, тем ниже падаем в бездну, где барахтаются все — и манипуляторы, и манипулируемые. Ты и я — мы всегда будем конкурировать в жестокости, соревноваться в ловкачестве, вести грязную войну.
Я не знаю твоих чувств, а в своих тебе уже призналась; я сложила оружие и попросила мира, помнишь: „…вот человек, которого я любила всем сердцем, человек, о котором я ничего не знала, ни его имени, ни прошлого, ни будущего. Этого человека я встретила у Люксембургского сада и тот короткий срок, что мы были вместе, любила его как умела!“»
Слезы катятся по щекам Анкай, падают с подбородка на лист бумаги. Не обращая внимания на кляксы, которые, расплываясь, смывают слова, она продолжает писать. Перо бежит стремительно, нервно, местами рвет бумагу.
«Я родилась в Ден-Фене, крошечном городке, которого не найти на карте мира, в провинции Хенань. Мои первые воспоминания — сиротский приют Кай Фен и голод. Я всегда была голодна. Летом от диких фруктов и травы во рту стоял кислый вкус. Целыми днями я бродила по лесу в поисках гусениц и кузнечиков, которых потом жарила на костре, — это было мое единственное лакомство. Наступала зима — самое тяжкое время! Мои растрескавшиеся от мороза руки кровоточили. Горячей воды не было, раз в неделю нас пинками загоняли под ледяной душ. Я стучала зубами. От холода и голода.
В шесть лет, сидя верхом на ограде приюта, я с завистью смотрела на детей, которые гордо шагали по улице с болтавшимися за спиной ранцами. Я тоже хотела в школу! Долго я донимала просьбами директрису. Я стирала всю ее одежду, задаривала ее подарками: приносила то цветок, то кузнечика, то птичку. Наконец она уступила. В семь лет мне открылся мир. В школе все смеялись над моими стрижеными волосами, над стоптанными башмаками, над карандашными огрызками, которые я подбирала на помойке. Я дралась с мальчишками, которые обзывали меня шлюхиным отродьем. Вечерами, когда все в приюте ложились спать, мне приходилось клеить спичечные коробки, по одному фыню[13] за штуку, чтобы заплатить за школьные учебники. Росла я быстрее других. В десять лет догнала ростом четырнадцатилетних мальчиков. В школе я начала наводить свои порядки, сколотила шайку, и мы брали под защиту тех учеников, которые платили нам дань. Теперь мне жилось лучше. Летом я приносила в приют фрукты, семена лотоса, пирожки; зимой — горячую картошку, вяленую рыбу, засахаренную айву. К тринадцати годам я была некоронованной королевой обширной территории, и самые отчаянные головорезы лезли в драку за право покатать меня на багажнике велосипеда. Эти силачи и храбрецы ходили передо мной на задних лапках, лишь бы я позволила поцеловать себя, потрогать, показать пиписку. Я не ломалась: десять минут моего терпения стоили им клятвы всегда драться за меня. Я провоцировала стычки и расширяла свои владения. В ту пору у меня впервые появился псевдоним. Меня называли — с почтением и опаской — 437. Это были три первые цифры номера моего велосипеда.
В лицее я изображала прилежную ученицу. Меня ставили в пример за мои отметки, лучшие на все пять классов моего цикла, и за образцовую дисциплину. Вскоре меня выбрали уполномоченной по культуре за мои многочисленные таланты: я пела, танцевала, умела организовывать праздники. Так бы и продолжалась моя двойная жизнь, не случись серьезной стычки за контроль над северными кварталами городка. Три с лишним десятка молодых ребят были схвачены полицией. Я во что бы то ни стало хотела спасти своего адъютанта, которого ранили, и в результате попалась сама. В кармане брюк у меня нашли складной нож. Под арестом я просидела целую вечность. Легавые разбили мне нос, стегали ремнем. Меня морили голодом и запугивали, приставляя к виску пистолет. От этой жестокости все во мне взбунтовалось. Я решила: умру, но ни в чем не признаюсь. Врала как по-писаному: „Я просто шла мимо; нож мне в карман подсунули. Никаких сообщников у меня нет. И вообще, я уполномоченная по культуре в моем лицее…“ Какой-то человек все время маячил в углу, когда меня пытали. Наконец однажды он заговорил со мной. Он знал обо мне все и предложил выбор: либо отправиться в колонию для несовершеннолетних, либо с ним в армию, чтобы стать защитницей народа. Я ответила, что и там, и там меня будет бесплатно кормить Партия, поэтому пусть Партия и выбирает.
Я покинула город назавтра, с ним, никому ничего не сказав. Мы ехали поездом на запад, потом автобусом на север, потом в военном джипе. Казарма находилась на равнине, где на многие километры вокруг не было ни одной деревушки. Мне обрили голову, выбросили мою гражданскую одежду и выдали две формы, две фуражки и две пары ботинок. Когда я оделась, меня привели в какой-то кабинет и сказали, что моя прежняя карточка гражданского состояния уничтожена и взамен сделана новая. Я лишилась имени, полученного в приюте, и стала называться тем, которое придумала для меня армия.
Нас было три десятка новобранцев от четырнадцати до шестнадцати лет. В первый год пришлось туго. Некоторые на учениях теряли сознание. Другим доставались оплеухи. Летом солнце выжигало нам мозги. Зимой ветер хлестал в лицо. Кормили скудно. Снова голод неотступно преследовал меня. Я тайком ела кору с деревьев и корешки, чтобы хоть как-то продержаться. К концу второго года двадцать из нас исчезли. Куда? Это так и осталось для всех тайной.
В шестнадцать лет меня перевели в другой лагерь. Я узнала новое чувство, неописуемое, дерзновенное и трепетное разом. Я влюбилась в моего инструктора. Какой это был мужчина — высокий, широкоплечий. Он был двойным агентом, ухитрился пройти подготовку в КГБ. Образец мужества и кладезь ума. Жизнь в лагере обрела краски. Самая тяжелая муштра стала удовольствием. Я понятия не имела, как женщина завлекает мужчину. Единственный способ выразить ему мои чувства, до которого я додумалась, был такой: я пробиралась в казарму в свободные дни, когда он играл с офицерами в карты. Стирала ему рубашки и носки и убегала до его возвращения.
В семнадцать лет я узнала, что такое смерть. Раз в месяц нам устраивали учебную облаву: выпускали в лес приговоренных к смерти, а мы преследовали их и исполняли приговор. Смерть — это запах страха, исходящий от человека в агонии. Мне доставляло удовольствие убивать, лихорадочное возбуждение охватывало меня на много дней, а когда оно проходило, я ощущала пустоту и желание убивать снова. Были еще уроки самоубийства. От шприцов, таблеток, пистолетов, ножей кровь стыла в жилах, но это и успокаивало. Лучше смерть, чем арест! Науку допросов и пыток мы осваивали всесторонне. По очереди становились мучителями и мучениками. Я била, душила. Меня избивали, пытали электрическим током. Сломали мне плечо. Лили в ноздри наперченную воду, загнали иглу под ноготь, раскаленным железом прижгли бедро. Два месяца меня продержали в карцере, на хлебе и воде раз в день.
Когда я снова увидела солнце, то поняла, что готова взойти к ледяным вершинам человеческих возможностей. Я превзошла самое себя. Боль — это тоже наркотик. У меня была цель. Я знала, что моя личная жертва станет вкладом в надежду на новый мир — чистый, безмятежный и счастливый. Мне мечталось, что настанет день, когда ни один ребенок не будет расти сиротой и голодать, когда все смогут ходить в школу и, в свою очередь, станут сообща строить еще более процветающее общество для будущих поколений.
В восемнадцать мне был преподан первый урок секса. Повесив на доску рисунок, военный врач объяснил, как функционируют наши детородные органы. Потом мой инструктор позвал меня в кинозал и дал посмотреть японский порнографический фильм. Он обошелся без комментариев. Просто во время сеанса велел мне раздеться и показал все наглядно. Он даже не забыл постелить на стул полотенце — оно было все в моей крови. „Не переживай. Тебя зашьют, будешь как новенькая“ — это были его единственные слова.
Вечером, спрятавшись под одеялом, я расплакалась. Что-то во мне сломалось навсегда. На всю жизнь я возненавидела эти органы, именуемые детородными. Потом я равнодушно ложилась с теми, кого назначали мне в партнеры для совершенствования техники. Просто очередная пытка, которую я должна была научиться терпеть.
Страдания, боль — какая малость! Я любила мою страну, я гордилась ее девятью миллионами квадратных километров плодородных земель и пятью тысячелетиями цивилизации. У меня была святая миссия — защищать ее от японцев, от Советов и от Запада, которые на протяжении полутора веков унижали и грабили нас. За реванш моей страны, за будущее Китая я готова была отдать жизнь — такую малость! Пусть она будет короткой и наполненной!
В девятнадцать лет я покинула лагерь; в кармане у меня были билет на поезд, конверт с деньгами, удостоверение личности и студенческий билет. Уже на пекинском вокзале столица поразила меня своей колоссальностью. От ее запахов, многолюдья, шума, от всего, что было знакомо мне только по книгам и видеофильмам, у меня голова пошла кругом. Никто не знал, откуда я приехала, и все эти миллионы людей были мне незнакомы. Одиночество в городе иное, непохожее на одиночество в тюремной камере. Оно подтачивало меня изнутри, но и окрыляло. Впервые в жизни я чувствовала себя свободной, сильной и непобедимой.
В начале 1990 года меня вызвали в Комитет национальной безопасности. Там, в кабинете, меня ждали незнакомые военные в высоких чинах. Один из них изложил мне план, другой поздравил, третий похлопал по плечу: „Это во имя родины“. Я ответила: „Есть“, не моргнув глазом, не раздумывая. Солдат на то и солдат, чтобы выполнять приказы.
Подготовка началась через неделю — столько времени мне понадобилось, чтобы уволиться из японской компании, в которой я работала. Мне показали протоколы допросов Аямэй, ее фотографии, ее вещи, статьи о ней в зарубежной прессе. Я выучила наизусть дневник узницы, схваченной нашими солдатами. Ее вскоре перевели в особую тюрьму, где она жила в хорошей квартире, могла заказывать книги, фильмы, даже комнатные растения у нее были. Она не знала, что видеокамеры следят за каждым ее движением. А за стеной, в соседней квартире, я запоминала ее привычки, повадки, вкусы и интересы. Мне сделали небольшую операцию, и между нами не осталось никакой разницы.
Я ничего не знала о Париже. Мне предстояло приехать во Францию под ее именем, несведущей и нищей, как она. Из иностранных языков я знала японский, английский и русский. Французского даже не слышала никогда: так было задумано. Я должна была учиться всему с нуля, как училась бы она.
В конце июня 1991 года я отправилась в Пекин, чтобы выполнить свое последнее задание в Китае. 15 июля я на угнанной машине сбила мать Аямэй — она умерла на месте. 1 августа 1991-го я бросилась в море и поплыла к Гонконгу. Лучи прожекторов рассекали небо. Пули свистели над моей головой. Я жалела, что забыла задать Партии один вопрос: когда мне можно будет вернуться на родину?
Париж — город мечты. Мировая слава его духов, его моды и его культуры обещала сладкую жизнь. 4 августа 1991 года я впервые увидела его — пустые улицы, закрытые магазины, грязное, душное метро. Меня приняла активистка Общества защиты прав человека в своем домике в северном предместье. Ее седой, кудлатый пес ковылял, волоча сломанную лапу, две кошки гадили в стенном шкафу. День только начинался — один из самых серых, самых холодных, самых промозглых дней в моей жизни. Раздевшись в ванной комнате, я смотрела на себя в зеркало, чтобы убедиться, что я не Аямэй, что я лишь зрительница этой жалкой жизни беженки».
Полковник Анкай откладывает ручку и встает. Открывает настежь окно. Глядя на Монпарнасскую башню, несколько раз энергично потягивается. Затем возвращается к письменному столу и снова берется за ручку.
«Но как было мне забыть Аямэй, которую я носила в себе? Она тосковала по Китаю и по китайцам. Не понимала, что ей говорят. Без языка, без общения, жила как земляной червячок. Потом она стала бывать в людных залах, пропитанных запахом пота, — ратовала за права человека. Она встретилась со своими друзьями-диссидентами, вдохновенно-озлобленными, ошалевшими от ностальгии и открывшейся им сексуальной свободы.
Она колесила по стране — машины, поезда, самолеты. Я ночевала с ней в придорожных мотелях, затерянных между небом и землей. Я была рядом, когда она лежала без сна, глядя в потолок, и лучшие моменты прошлой жизни проносились, как на кинопленке, а ей никак не удавалось остановить кадр. Я одна могла разделить ее безмолвное страдание.
А тем временем, за тысячи километров отсюда, Китай стремительно менялся. Гигантские стройки поглотили старые кварталы. Реки и озера осушались, чтобы дать „зеленую улицу“ автострадам. Изменилось и мое задание. Никому больше не нужна слежка за диссидентами и подрывная деятельность среди них. Мне все больше приходится заниматься промышленным шпионажем. Связные от Цзу Чжи говорят теперь не о перспективах мировой революции, а о цене на квартиры в Пекине. В Европу приезжают деятели Партии, и я вижу, как они тратят деньги, не считая. Запад нам больше не враг, а конкурент, покупатель и инвестор. Куда же в этой гонке за материальными благами, военной мощью и дипломатическими успехами делись наши былые цели — навсегда покончить с бедностью и неравенством?
Я читала модные китайские романы, в которых меня шокировала апология секса и наркотиков. Я смотрела репортажи по телевидению и открывала незнакомый Китай. За изобилием в больших магазинах кроется нищета: взять хотя бы девочек-подростков с выкрашенными в оранжевый цвет волосами, которые продают себя за гроши в массажных и парикмахерских салонах. Миллиардеры содержат многочисленных любовниц и могут потратить на обед три тысячи юаней — годовую пенсию рабочего, у которого и эти жалкие деньги крадут чиновники мэрии. Пекин и Шанхай стали футуристическими городами. Это ли светлое будущее — земля, ощетинившаяся небоскребами под тучами смога, и люди, снующие, точно роботы, в поисках сиюминутных удовольствий? Почему, как, когда наш режим превратился в гиперкапитализм, пагубу, с которой мы боролись не за страх, а за совесть? И этой стране, зараженной западным недугом, я принесла в жертву всю мою жизнь?
Мне было двадцать три года, когда я приехала сюда. Сегодня мне тридцать семь. За четырнадцать лет я так сжилась с Аямэй, что полюбила ее трагедию, ее одиночество, ее добрую душу. Я и сейчас вижу ее: вот она стоит у окна и смотрит на Люксембургский сад; она отчаялась, потеряла надежду и все же собирается с духом, чтобы продолжать. И мы продолжали играть нашу роль, невзирая на все противоречия и несуразности. Она произносила речи о правах человека перед людьми, воевавшими за нефть. Я торговала собой во имя коммунизма, в то время как страна давно жила в рыночной экономике. Она пожимала руки европейским политикам, которые проповедовали демократические ценности, мечтая стать диктаторами. Я улыбалась мужчинам, падким на деньги. Все они добровольно отринули свободу, чтобы стать моими рабами.
Я ненавижу зеркала, потому что оттуда на меня смотрит чужое лицо. Я силюсь разглядеть себя за чертами Аямэй: время оставило зарубки-морщинки на ее лбу, у нее суровый взгляд человека, который уже не ждет счастья. Где мои двадцать лет? Где мой юный смех, мои порывы, мои слезы боли и восторга? У меня была мечта. Она растаяла как дым!
Джонатан, ты не будешь бездыханным трупом под окном парижского дома, и двойным агентом ты не будешь. Я не открою книгу твоей жизни. В мире разведки есть и бесполезные сведения — о том, как мы живем и как страдаем. В одной китайской поэме говорится, что, когда ложь становится правдой, правда становится ложью. В самом деле, ты был прав: все в нашем мире иллюзии — и ты, и я, и люди, дергающие за ниточки. Я не хочу разрушать любовь, которую испытала к тебе, когда приняла решение тебя не убивать. Теперь я чувствую себя юной, чистой и прекрасной. Я окутана сладостным теплом, чудесным умиротворением. Любовь — это игрушка, которой у меня никогда не было, это ребенок, которого мне не суждено родить. Я хочу, чтобы это чудо длилось и никогда не кончилось.
Кто ты, Джонатан Джулиан? Знаешь ли ты, что я часто смотрела на тебя, когда ты спал? От всего сердца я желала тебе иного прошлого, не такого горького, как мое. Ты ничего обо мне не узнаешь. Я буду случайной встречной с площади Эдмона Ростана, 21, оставившей в альбоме твоей памяти фальшивое имя и фальшивое прошлое.
Смерть — я столько раз ее видела. Гримаса, закаченные глаза, судорога. И все. Аямэй скоропостижно умрет от сердечного приступа в своей постели. Никто не узнает историю Анкай, никто не задумается, кем был Джонатан Джулиан.
Мы, люди, подобны музыкальным инструментам. Наша жизнь — хаотичная симфония. Немного тишины! Я мечтала о свободе. Наконец настало и для меня время побега. До свидания, Джонатан, я улетаю в дальние дали, на бескрайний простор, где растут и цветут миллионы диких цветов».
Полковник Анкай закрывает ручку и наводит порядок на письменном столе. Исписанные листки она уносит в ванную. Щелкнув зажигалкой, аккуратно сжигает их над унитазом. Дрожащие языки пламени тянутся к ней, точно руки, потом они превращаются в сжатые кулаки и наконец рассыпаются пеплом. Китаянка спускает воду.
Порывшись в шкафчике, она достает аптечку. Открывает баночку с надписью «Бифидум-форте», высыпает капсулы на край раковины и выбирает одну, помеченную крошечной черной полоской.
* * *
0.59.
Оглушительный грохот. Анкай пулей вылетает из ванной. Срывает со стены свой меч, выключает свет и замирает в темноте.
Дверь содрогается от яростных ударов.
— Это я, открой!
Она не двигается.
Билл стучит еще сильнее. После долгих колебаний она ощупью крадется в прихожую.
— Открой, мне надо с тобой поговорить!
Она не отвечает. Билл колотит в дверь кулаками. Даже пол дрожит.
— Открой или я выломаю дверь!
Голос Анкай звучит как из могилы:
— Чего ты хочешь, Джонатан? Ты сейчас весь дом разбудишь.
— Плевать! Открой дверь.
— Иди домой. Мы можем спокойно поговорить обо всем завтра.
— Мне надо тебя увидеть. Немедленно! Открой!
— Иди домой, говорю тебе. Не то я позову полицию!
Билл за дверью громко хохочет:
— Полицию? Чтобы нас обоих повязали? Открывай сейчас же, ну!
Она вздыхает и нашаривает рукой выключатель. Прислонив меч к стене, смотрит в глазок. Билл стоит в одной рубашке, подняв руки вверх.
— Можешь убедиться, — говорит он. — У меня ничего нет…
Дверь приоткрывается. Анкай, цепко ухватив руку Билла, с силой тянет его к себе. Едва удержавшись на ногах, он спотыкается о порог и почти влетает в прихожую. Дверь захлопывается за его спиной.
— Чего ты хочешь? — спрашивает она, гневно сверкая глазами.
Снова твердо встав на ноги, он принимается расстегивать рубашку.
— Что ты делаешь?
— Показываю тебе, что у меня ничего с собой нет, — отвечает Билл, спуская брюки.
Трусы он скидывает еще быстрее, расстегивает браслет часов. Он пришел босиком и через две секунды уже стоит в чем мать родила. Она ошеломленно смотрит на него:
— Что ты…
Он не дает ей договорить, обнимает и целует в губы. Говорит:
— Я хочу спать с тобой.
У нее вырывается вздох.
— Идем, — продолжает он, — идем в постель.
Джонатан направляется к кровати, увлекая за руку Аямэй. Она покорно идет за ним. Когда он поворачивается к ней спиной, роняет на пол капсулу с «бифидумом-форте», которую прятала в сжатом кулаке. Поддав ногой, она загоняет ее под кровать.
Примечания
1
Скоростные электропоезда, связывающие Париж с пригородами. (Здесь и далее примеч. переводчика).
(обратно)2
Девушка по вызову (англ.).
(обратно)3
Во дворце Матиньон на улице Варенн в VI округе Парижа находится резиденция премьер-министра; Елисейский дворец — резиденция президента Франции.
(обратно)4
Меня зовут Петер Шваб. — До свидания, Петер, до вечера (англ.).
(обратно)5
Билл, ты потрясающе выглядишь. — Я медитирую (англ.).
(обратно)6
Lizard — ящерица (англ.).
(обратно)7
Я Чжан Ин. Рад познакомиться (англ.).
(обратно)8
Тайбэй — главный город о. Тайвань.
(обратно)9
Ты все еще веришь в Америку, светлое будущее мира, оплот демократии? (англ.).
(обратно)10
Я больше ни во что не верю (англ.).
(обратно)11
Будь или с нами, или против нас (англ.).
(обратно)12
На набережной Орсэ в Париже находится Министерство иностранных дел Франции.
(обратно)13
Фынь — китайская мелкая монета, в юане 100 фыней.
(обратно)


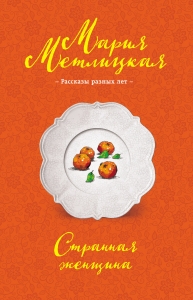
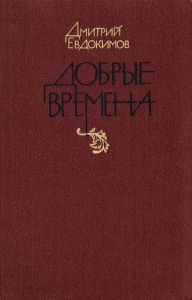
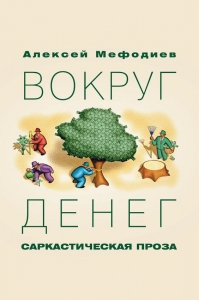




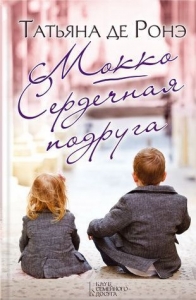

Комментарии к книге «Конспираторы», Шань Са
Всего 0 комментариев