Пасынки отца народов. Квадрология Книга четвертая. Сиртаки давно не танец Валида Будакиду
© Валида Будакиду, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава 1
Греция, то есть Европа оказалась маленькой аграрной страной с узкими кривыми улочками. И, оказывается, у всех жителей этих кривых улочек были машины. У некоторых даже две. Типа, как у Адель было две пары зимних сапог: одни – для работы, вторые, с незастёгивающейся «змейкой» – для двора. В Греции никто для этого не складывал деньги в кубышечку, и про него никто, провожая взглядом в спину, шёпотом не докладывал:
– Они всей семьёй на машину копят! Вот этот, с лысиной что пошёл!
В Греции все покупали машины когда хотели. Хоть новую, хоть «метахиризмено» – бывшую в употреблении. Земля тут была только частная, государственной совсем немножко, и поэтому ценилась на весь золота. Какие уж там гаражи?! Самим жить негде. Вся Греция превратилась в один громадный гараж. Греки ставят машины вдоль улиц, как счётные палочки в пенал. Иногда даже в два ряда. Если надо выехать, а машину закрыли, тот, которого закрыли, начинает очень громко орать и сигналить, пока не приезжает полиция или пока не появится провинившийся водитель второй машины. Иногда он извинялся, иногда тоже начинал орать. Так они орали, орали до посинения, но никогда не дрались. Наоравшись вдоволь, машины разъезжались и движение восстанавливалось. Машины были и у рабочих, и у «колхозников». Последние, в отличие от городских жителей, обычно ездили друг к другу в гости на тракторах. И жениться тоже ездили на тракторах. И трактора у них были такими крохотными, жёлтенькими, издалека похожими на цыплят. Маленькие квадраты крестьянских угодий на фоне тех, что Адель видела из самолёта, когда летала поступать в институт, будили в душе тоску и ощущение мизера. Тракторишка настырно, с силой утюжил эти наделы, пробуксовывал, вгрызался в пригорки, потом снова съезжал вниз. А за трактором шла дородная баба и что-то проверяла на ощупь.
В Греции всё было какое-то маленькое. Маленькие, состоящие из одного коридора в два метра и прилавка с сонной продавщицей, магазинчики. Они были гораздо меньше даже самого маленького пустого гастронома в Городе. Маленькие, низкие деревья. Маленькие лавочки в маленьких парках, закаканных маленькими собачками. И играли в маленьких песочницах маленькие дети, родителей которых совершенно не стесняло, что буквально две минуты назад в этой самой песочнице бегали жизнерадостные собачки.
Собак в Греции вообще очень любили, так что Адель не смогла сразу понять: откуда на тротуаре каждые два шага лежат огромные красно-коричневые горы и их то внимательно, то невнимательно обходили неторопливые прохожие. Здесь всё текло медленнее, словно разленившись от жгучего греческого солнца. Люди ходили медленно, говорили медленно, днём долго спали, медленно и с аппетитом ели, никуда не спешили и всё время опаздывали. Что интересно – практически с самого переезда в Грецию, несмотря на тяжёлую работу, которую Аделаиде пришлось выполнять, у неё возникло и закрепилось ощущение постоянного, нескончаемого праздника. Даже не потому, что грекам совсем не надо было ждать праздника, чтоб послушать музыку и сходить в таверну, они прямо с самого утра сидели кто в кафетериях вдоль улицы, кто просто на лавочках, включал свою «греческую» музыку и с беспечно-счастливым выражением лица озирался вокруг, ловя неторопливых прохожих, чтоб поболтать. У кого были маленькие магазинчики – просто выносил столик и два маленьких стульчика, садился, раскрывал газетку со спортивными новостями, варил себе ароматный кофе. К нему подсаживался любой, и знакомый и незнакомый, и гостеприимный хозяин мог запросто бесплатно угостить ароматным напитком. Так, покуривая, и гость и хозяин запросто могли протянуть до полудня, потом начинался «месимери». «Месимери» – законный полуденный сон. Греки закрывали ставни, надевали ночные пижамы и спали сном людей с чистой совестью, крепче, чем в младшей группе детского сада… И ещё они около дверей своих магазинов не только подметали два раза в день высокими красивыми мётлами, но и мыли какими-то шампунями мраморные плиты у входа. Тут не нужны пальто. Зимой в жакете и брюках, летом – в просторной майке и шортах, обнажающих коренастые волосатые ноги. Г реки завязывают беседу, как будто уже сто лет знают друг друга. У них обязательно находятся общие знакомые, друзья, а в конце обнаруживается, что они вообще близкие родственники. Долго прощаясь с радушным хозяином, отдохнувший прохожий обнимал его и обещал почаще заходить. Женщина тоже могла присесть, отдохнуть. Ей бы принесли холодной водички, поухаживали. Конечно, чем младше была женщина, тем больше бы ухаживал хозяин магазина, но молодые гречанки обычно энергично пролетали мимо сидящих, взмахнув подолом мини-юбочки.
В Греции, в отличии от Города, к пожилым и немощным относились с пониманием, жалели их, но такого культа, как в Городе, не было. В Городе даже молодухи повязывали лоб платком. Это значило, что у них болит голова. А чего она болит? Забот много, вся принадлежит семье, вот и болит… В Городе любили ходить по врачам. Причём одну женщину обычно сопровождали ещё две-три. Сидели в приёмной, ждали все вместе. Больная стонала, плакала. Её успокаивали. Греки тоже любили ходить к врачу, но они ходили для профилактики, два раза в год «сдавали все анализы просто так». Чтоб быть уверенными в своём крепком здоровье.
Здесь никто не желал болеть. Замужние дамы, которым за шестьдесят, носили распущенные волосы, красились и безбожно курили прямо на улице. И бабки и деды очень молодились, вешали на себя множественные цепочки, браслеты. Не от высокого артериального давления, а плетённые верёвочные, похожие на африканские амулеты. Дамы в уши на каждый день вдевали пластмассовую бижутерию под цвет кофточки. И бабки и деды ещё красили волосы и носили одежду «унисекс». Все хотели выглядеть помоложе и поздоровее. Гречанки очень громко разговаривали, ржали по любому поводу как арабские жеребцы и сами заговаривали с незнакомыми мужчинами. Даже невозможно было себе представить, что бы произошло, если б хоть одну такую бабушку в шортах и декольтированной майке выпустили в Городе! Да-а-а, пожалуй, милиции бы набежало гораздо больше, чем при приезде сына Луиса Корвалана!
Парнишки были очень разными. Они не запихивали рубашки и спортивные майки в штаны и не подпоясывались ремнём под животом или под грудью. Почти все ходили в спортивной одежде и очень красивых, дорогих ботосах. У всех аккуратные стрижки и ёжики, закреплённые желе. Никто на улице не оборачивался на молодого человека с желе на волосах и пахнущего одеколоном! «Всё-таки не все мужчины в бусами и желе – гомосексуалисты! – думала Адель. – Ведь не может же быть такого количества гомосексуалистов в одном городе!» А де-е-евушки… Вот с девушками творилось вообще что-то невероятное! Они, конечно, были не такими стройными, с высокими талиями, как в том русском городе, в котором Адель столько раз пыталась поступить в институт. Они были и меньше ростом, и каких-то несуразных пропорций, укороченные, что ли, но!.. Но у каждой была своя изюминка! И они, видимо, были хорошо осведомлены о местоположении своих «изюминок», поэтому выставляли их напоказ. Большая, хорошей формы грудь – девушка в таком невообразимом декольте, что дух захватывало даже у Адель. Если считалось, что у неё красивые ноги, то девушка просто забывала надеть юбку. Так и дефилировала по улице в яркой кофточке и лёгкой набедренной повязке. А если у девушки не было ничего примечательного, то она показывала… всё! И укороченные, кривоватые ножки, и неразвитое, плоское местечко, то, на котором должна была расти грудь, и коротенькая маечка обнажала толстый животик, и шорты с заниженной талией демонстрировали прессованный жирок. И вся эта прелесть состояла из истошных оттенков самых немыслимых цветов: ярко-зелёный с сиреневым, оранжевый с чёрным, лимонный с бирюзовым! И всё это в блестящих стразах, верёвках, цепочках, висюльках. Казалось, если кому-то из этих гречанок хотя бы предложить надеть юбку до пят и серо-чёрно-коричневую ветошь, то они по меньшей мере обидятся или подумают, что это карнавал… Эти яркие девицы рассекали по улицам, выставив вперёд самую удачную часть своего тела. Если проезжающие машины притормаживали и водители что-то у них спрашивали, полуголые девушки не шарахались в сторону, не делали вид, что не слышат, они мило улыбались, подбегали к машине и, показывали дорогу, махали на прощанье водителю рукой.
Аделаида сперва думала, что попала в громадный публичный дом под открытым небом. Ведь не может же замужняя женщина с двумя детьми идти по улице в яркой мини-юбке и курить в кафетерии?! А её супружник на всё это спокойно взирать, не сгорев от стыда, и даже не дав ей по морде?! И мама его, в смысле бабушка, тоже может с ними сидеть и при всех курить. Потом она перестала смотреть на этих женщин, потому что ей было очень неудобно за сидящего за столиком человека, считающего себя мужчиной. Скорее всего, водители машин вовсе не дорогу спрашивали, а к девочкам приставали! Хотя, с другой стороны, найти что-то в Греции действительно было целым приключением! Даже вовсе не целую дорогу, а просто улицу, или что-то на этой улице. Типа, идёшь, идёшь, и чувствуешь, что уже пришла, только надо для верности кого-то спросить, дескать, как пройти к…? О! С каким удовольствием греки тебе будут рассказывать, как пройти! И показывать, и объяснять, и говорить, и рассказывать, что буквально недавно посетили именно эти места и всё хорошо здесь знают! Эти рассказы будут продолжаться до тех пор, пока шумом беседы не привлечётся внимание другого прохожего. Он по инерции проскочит несколько шагов вперёд, но услышав, что кто-то интересуется знакомыми ему названиями, скинет скорость. Секунда на размышление и этот прохожий уже спешит на помощь… Исключительно чтоб войти в курс беседы, не споря, второй внимательнейшим образом слушает первого, даже вначале делает вид, что согласен с ним во многом. Но его греческого терпения хватает ненадолго:
– Не-ет! – В какой-то момент укоризненно говорит он. – Не около второго светофора налево, а около третьего направо! И потом не рядом с кофейней, а через дорогу с кафетерием!
– Да вы что, не здешние, что ли?! – Это уже третий прохожий присоединяется к беседе. – Это же мой район! Я же там ещё во времена хунты школу заканчивал! Я всё хорошо помню! Это вообще в другую сторону! Да, второй светофор направо, но не вверх в гору, а вниз – к морю!
Такое обычно продолжается до тех пор, пока ищущий не опухает от советчиков, не ловит такси и не едет на нём искать свои и чужие светофоры. Однако и такси ещё не гарантия. А спорящие так и оставались стоять на месте и теперь уж выяснять, кто с кем в каком родстве состоит. Проезжая обратно, вполне можно было встретить всё ту же компанию объясняющей друг другу – почему именно он, а не кто-либо другой лучше знает местонахождение того объекта, который прохожий искал.
– Я знаю лучше, потому что именно там живёт крёстный моего внука! У него аптека, а мой сын – врач! И жена его тоже – врач!
– Датам живёт мой родной племянник! Значит, я знаю лучше! Он в ту субботу обручился с девочкой из очень хорошей семьи и у её отца магазин нижнего белья!
Адель от этих разговоров сперва терялась, старалась вообще ничего не искать и ни о чём ни у кого не спрашивать. Но потом, со временем как-то пообтёрлась. Ей даже стало нравиться останавливаться на улице с незнакомыми людьми, с ними беседовать, спорить.
Она считала, что ей очень повезло в том, что она никогда не заморачивалась глобальными умными мыслями, не терзалась сомнениями. В ней, несмотря ни на что, всегда жила уверенность, что всё будет хорошо. Она не то, чтобы любила рисковать, да не любила она ничего! Просто никогда не могла реально оценить ситуацию, и всё делала с какой-то завидной бесшабашностью, принимая мир, как сказку, в которой «добро всегда побеждает зло».
Греки добрые, очень добрые и очень внимательные. Хорошие они…
Пока они с Лёшей ехали в поезде Москва-Скопье-Афины, её совершенно не беспокоили вопросы – где и как искать работу? Что делать в капиталистической Европе с двумястами долларов в кармане на двоих? На каком языке общаться с аборигенами? Где жить или хотя бы ночевать и купаться? Вопрос о том, что можно заболеть, а Городская поликлиника осталась ну о-о-о-очень далеко, вообще не стоял! С Лёшей вместе какие проблемы? Какие болезни? Их же двое, они любят друг друга, а любовь это Сила!
Лёша оказался не таким жизнерадостным. Пока Адель не могла себя заставить отлипнуть от вагонного окна и всё восторгалась разбросанными вдоль железнодорожного полотна «шикарными», но порванными пакетами, которые у них перепродавали друг другу «с рук» по десять или пятнадцать рублей за штуку, Лёша сидел молча, и изредка выходил курить в тамбур,
А ей нравилось всё! И разноцветные привокзальные киоски, где на витрине лежали в до невозможности красивых упаковках всякие печенья, пластмассовые бутылочки с крутейшей надписью «Кока-кола», и ещё совсем маленькие коробочки, наверное, с фруктовыми «жувачками». От розовых, салатовых, нежно-голубых трубочек с надписью по-английски «Фа» – дезодорантов от пота для подмышек вообще захватывало дух и сердце щемило от предвкушения чего-то необычного, замечательного! Урра-а-а-! Да здравствует новая жизнь!!! Уррра-а-а-а! Помоюсь вон тем нежно-лиловым, наверное, шампунем, который возле зубной щётки стоит, вся обрызгаюсь вон тем дезодорантом, пойду по улице и буду забрасывать себе в рот что-то воо-о-он из того пакетика, с нарисованным на нём пацаном в кепке. Я не знаю, что это такое, но должно быть страшно вкусно! В сто, нет, в миллион раз вкуснее дурацкой курицы с орехами! ГЪри она синим пламенем, эта курица! Эти орехи! Эти, похожие на детские ползунки, синие спортивные рейтузы на мужиках, строгие пиджаки, туфли и кепки «аэропорт»! Гори, гори и уродливые драповые бабские юбки до земли! Зачем им в Городе нужны были дворники?! Томные горожанки весь мусор собирали себе в подол! К чёрту шепелявое заискивание и прикрывание ладошкой рта при смехе, к чёрту «сдержанность»! К чёрту «что люди скажут?!» Какой Лёшечка умница, что настоял на своём и уболтал её ехать в Грецию! Сразу видно – настоящий мужчина! Разве ж она бы когда-нибудь решила сама переехать хотя бы в другой город?! Никогда! Это она только петушиться и выделываться умеет, а на самом дела – страшная трусиха и дура! Зато вот теперь всё начнётся! Они, как и задумывали, сперва поступят в университет. Да, говорят, в Салониках есть большой, шикарный университет. Нет! Сперва снимут квартиру, небольшую такую, но уютную, поближе к университету. Потом сразу пойдут работать, чтоб за эту квартиру платить, и кушать же тоже надо! Потом пойдут, узнают про вступительные экзамены, про то, про сё… Короче, дел – завались! Это очень хорошо, потому что всякие дурацкие мысли и воспоминания отойдут на задний план. И сколько себя можно мучить из-за всякого там?! Ну, было, было! Что ж теперь – убиться?! Зато теперь всё пойдёт хорошо! Всё самое страшное закончилось!
Лёша снова ушёл в тамбур. Адель прилегла на свою нижнюю полку, положив согнутую в локте руку под голову. Она всегда так ложилась, когда думала о чём-то. Она всё ещё очень быстро уставала, ноги в поезде отекли и стали как булочки. Ей было уже больше чем семнадцать лет. И намного больше, чем девятнадцать. Зря она так ждала, ни в семнадцать лет, ни позже чуда не произошло! «Танцующей королевой» она не стала! И, видимо, уже не станет. Вес прибавился пропорционально годам. Только теперь она казалась меньше ростом, потому что в высоту больше не росла, зато ширина… И плевать! Она же решила, что всё оставлось позади, в греции, на новом месте она начнёт всё с начала! Новая жизнь, и они с Лёсиком будут купаться в её бирюзовых волнах!
Вагон большой люлькой раскачивался то вправо, то влево. Как только они пересекли границу, состав перевели на другие, узкие колёса. Оказывается, вся Европа живёт на узкоколейках. Теперь казалось, что вагончик болтается больше. Или это от трёх дней, проведённых в поезде, голова уже сама начала привычно болтаться на шее вправо-влево и ноги разъезжаются. А вдруг это теперь на всю жизнь?! Говорят, у моряков вообще такие походки, от того, что они по палубе ходят вразвалочку и широко расставляют ноги.
Перестук колёс то успокаивал, то снова будил неприятные, так надоевшие ей тяжёлый мысли. Нет, конечно, они совершенно не были связанны с переездом. Переезд – это как раз спасение и избавление от всех бед. Только вот Лёша…
Они и не собирались назло всем «узаконивать» свои прекрасные отношения, им и так было хорошо, только перед тем, как подать заявление на выезд на «историческую родину» – [Грецию, они расписались в ЗАГСе. Как же было не расписаться, если Адель – гречанка и выезжает на постоянное место жительства. А Лёша ей кто? Без бумажки никто! Поэтому обязательно надо было привести в порядок «незаконные» отношения, превратив их в «законые». Как только они объявили родителям о своих намерениях, что тут началось! Лёшины родственники и мама прямо и откровенно сказали, что «никогда не могли себе представить такого!». Не могли себе представить, что он может жениться на такой «испорченной», которую «каждая собака в Городе знает», которая «опозорила отца и мать», и которая при своём внешнем виде совершенно не стесняется и ещё позволяет себе вызывающе расхаживать по Городу в брюках! Пустить такую ненормальную в «семью» означало полную катастрофу!
– Ах, ты шалава! Женить на себе пацана задумала?! Я тебе женю! – Убитые позором родственники звонили ей домой в любое время суток.
– Да какого «пацана»?! – Адель старалась не конфликтовать.
Аделька сама себя готовила к свадьбе. Она купила три метра белого парашютного шёлка и села за ручную швейную машинку «Подольск» на зингеровских деталях – шить «свадебный костюмчик» – юбку-клёш с кофтой, чтоб после свадьбы не выбрасывать, а ещё надевать куда-нибудь, на День рождения, например. Кофта должна была быть на пуговичках и с чёрным бантиком под горлом. Мама видела, что Адель что-то шьёт, и равнодушно ходила мимо белых деталей одежды, как если б Адель шила чехол для барабана. Папа вообще не видел, что она шьёт. Папа думал, что Аделаида раскатывает тесто для пельменей. Ни слова, ни полслова родители не проронили из поджатых губ.
В день, назначенный ЗАГСом для бракосочетания, Адель надела на себя белую обновку, завязала под шеей чёрный бантик. Получился свадебный наряд.
Мама и папа на кухне делали закрутки на зиму. Мама запихивала в банки резанные баклажаны, а папа ставил эти банки в огромную эмалированную кастрюлю с водой.
– Я пошла! – Аделька стояла перед ними в белом костюме собственного производства и в чёрном бантике под горлом…
– Ну, иди! – мама пожала плечами, с силой надавливая на баклажаны, чтоб в банку влезло больше, потому что они потом уваривались и банки получались полупустыми. А это неэкономно!
Папа тряпкой удерживал горлышко банки, обжигаясь, вытаскивал уже готовые, прикрывал их крышками и закатывал специальной каталкой.
– Пока!
– Ну, пока!
Они поселились на квартире. Квартира оказалась через дом с Лёшкиным братом. Лёшка уже давно уволился из ПТУ и теперь работал с братом на такси. Встречались они каждый день, и каждый день, каждую секунду Адель боялась, что Лёша не выдержит прессинга, который ему устроила внезапно неизвестно откуда появившаяся, любящая и переживающая за него родня. То в доме, кроме матери, никто не появлялся, то вдруг оказалось, что чуть ли не полгорода переживают за судьбу Адвоката! Обсуждают, спорят, доказывают друг другу: правильно ли он поступает, или неправильно. Пытались разгадать, чем это «жирное чучело» его приворожило? К какой гадалке ходило и чем «обкармливало»? Женская половина представителей рода сама кинулась к гадалкам. Они ходили парами, тройками, как будто Адель стала единственным смыслом всей их жизни, их проблемой, их головной болью. Ничего их больше не интересовало. «Сейчас ты у нас на повестке дня!» – так говорила мама, когда она готовилась поступать в институт. Женщины-родственницы и их подруги потянулись непрерывной цепочкой к «хорошим женщинам» за советом. Так шли и ходоки к Ленину. Они собиралась у «хорошей женщины» на кухне. Кто-то приносил чёрный кофе в зёрнах. Потом этот кофе долго прокаливали на сковородке. В такие минуты пожилые курильщицы, уважаемые дамы потому что давно были замужем, дамы раскрепощались и могли спокойно покурить, потому что запах жаренного кофе перебивает запах сигаретного дыма. Высыпав кофе на старую газету, его немного остужали, потом всыпали в похожую на трубу кофемолку. Её крутили все по очереди, она нагревалась, её передавали в соседние руки, она скользила от количества прикоснувшихся к ней ладоней. Кофе мололся очень медленно. За час можно было намолоть на четыре-пять маленьких чашечек. Именно поэтому тот кофе был настолько сладок и ароматен, что рождался из скрипа колёсиков кофемолки и неторопливых, задушевных бесед о женитьбе Алексея. Потом кофейные чашечки чудесным образом переворачивались, ставились на стол и опирались на блюдце. Из чашек вытекала густая кофейная гуща и капала на стол.
– Сматри, это твой горэ уходит! Все, все уходит… А это што? – вдруг внимательно вглядевшись в край чашки, таинственно произносила «хорошая женщина». – А-а-а… плакат будеш! Минога, минога плакат будэш…
– У вас балшой горэ эст! Кто-то – маладой мущина – уходит! Кто-та умираэт!
– Есть… есть… есть… – леди готовы были разрыдаться. Качали головами и теребили в руках носовые платки, – умирает, умирает… умирает… женится…
– Да, да, да! Женится. Но такой плахой, такой плахой, как лучэ умирает!
– Да! Там всё видно, да?
– На! Сам пасматри! Вот, пасматри, нэ видиш эта черни дэрево? Вот-вот… очен-очен плоха! – «хорошая женщина» всем по очереди пихала в нос очередную чашку и тыкала вилкой в какое-то чёрное пятно. – Он савсэм балной! – продолжала вещать гадалка. – Что эта?.. Что эта?.. Канэшна! Я знала! Она на нэво сдэлала «джадо» – калдавала! Она эму что-то дала кушат и всоо-о-о! Он пакушал вкусна и всо-о-о-о! Тэпэр без нэво не может! Патаму балээт! На, сама посмотри!
Посмотри: видишь это чёрное дерево? Вот это очень плохо. Он совсем больной. Что это?! Конечно, я так и знала! Она на него сделала «джадо» – колдовство. Она его чем-то обкормила и всё! Теперь он не может от неё отойти! Потому и как больной.)
– Аа-а… а вы можете чем-нибудь помочь?
– Ну-у-у… магу…
– Что нам надо сделать?
– Нэ… ви ничаво нэ можетэ делат… Джадо нада снимат! Это токо я могу дэлат!
– Так давайте будем снимать «джадо»!
– Если так проста бил бы свэ бы снимал! Нада эво намазат медведя жир, и нада что-то дат випит… э-э-э, что я гавару? Какда хочитэ снимат, придиош, дэнги прнисош и бедэм тагда дэлат. Эсли нэт – тада после свадба вобщэ умираэт! (Если б это было так просто, все бы тогда могли снимать колдовство. Его надо намазать медвежьим жиром, дать ему кое-что выпить… эх, что я даром разговариваю? Когда решите снимать колдовство, придёте, принесёте деньги и начнём действовать. Если ничего не предпримете – он женится и после свадьбы умрёт!)
Однако ни медвежий жир, ни павлиний помёт ни капли не помогли! Леший – Адвокат как решил жениться, так и женился.
Видя, какие круги ада проходит её Лёсик, Адель сходила с ума от жалости к нему и даже думать перестала, что когда-то не верила в искренность его чувств и искала в них какую-то подоплёку! Человек не может противостоять такому натиску со стороны родственников, просто не может! О какой меркантильности могла думать Адель?! Как стыдно, Боже, как стыдно! Лёсик её любит на самом деле, и очень сильно, иначе бы он давно всё бросил, поддавшись уговорам вдруг появившихся тётушек, дядюшек, двоюродных, четвероюродных братьев, сестёр, их мужей! Ни за что и никогда он бы просто так не женился! Какая цель могда оправдать такие жертвы?! Никакая! Как он, бедненький, должно быть, страдал, когда брат его припёр к стенке и орал на весь район, что Лёсик «променял всех их на одну жирную потаскуху!». Но Лёша действительно никого не слушал! У него была своя цель. Он очень похудел и стал менее разговорчивым. Адель стала панически бояться его потерять. Каждое мгновенье с ним ей казалось прекрасным, потому что оно могло прерваться в любую секунду…
Она жила в постоянном страхе, в стрессе. Всё проходило мимо. Она снова сидела в кинотеатре, но на этот раз пока с Лёсиком, а на экране шёл незамысловатый сюжет. В любую секунду Лёсик мог выйти из зала. Тогда бы она осталась в полнейшей темноте неотапливаемой комнаты с сырыми, скользкими стенами. Она каждый раз, закрывая за ним дверь, боялась, что он в неё больше не позвонит. Она старалсь постоянно чувствовать натяжение его мышц, чтоб понять – спокоен ли он, или готов к рывку, чтоб встать и уйти навсгде. И всё равно она была счастлива! Счастлива, потому, что теперь могла сколько угодно запирать за собой дверь в туалете, мыть руки на кухне, если захочет, никто ей не говорил, чтоб она не сутулилась, убрала волосы со лба и встала в шесть утра заниматься химией. Теперь она делала, что хотела! Даже сама попробовала сварить борщ, пока он был на работе, только у неё вечером не оказалось так необходимой для борща петрушки. Часов в двенадцать ночи пришёл Лёша.
Она вообще не могла понять: как она чувствовала его приближение?! Каждый раз, каждую ночь она просыпалась и начинала прислушиваться к шорохам за окном, потому, что знала – сейчас послышится вдалеке звук приближающейся машины на пустынной улице. Больше двух минут она не ждала ни разу. Сейчас заработает лифт… Она вскакивала с постели, распахивала входную дверь настежь и ждала… Как это всегда происходило? Ведь Лёша же всегда приезжал в разное время! Это ж такси! То в двенадцать ночи, то в четыре утра…
Тогда ночью бедный Лёша поел первый Аделькин борщ без зелени. Ой, стыдно… Зато утром, когда он ещё спал, Адель, надев сапоги на босые ноги, спустилась к самодельному базарчику перед гастрономом. Бабушки бойко торговали кто малосольными огурчиками, кто яйцами из-под несушки. Купив пучок зелени, она примчалась домой, нарезала в борщ и снова поставила его кипятить. Потом нырнула на одноместный диван, на котором они с Лёшей спали. Диван был таким узким, что они лежали друг на друге. Спали на нём, потому что больше было не на чем.
Лёша её отсутствия не заметил! И значит наивкуснейший борщ, теперь уже с зеленью, станет ему настоящим сюрпризом!
К полудню, когда Адвокат проснулся и сел обедать, увидев плавающую в тарелке зелень, в восторг вовсе не пришёл, а страшно разозлился.
– Ты всё испортила! Зачем ты это туда насыпала?! Вчера был нормальный борщ? Я его ел? Ел! Чего надо было, я тебя спрашиваю?! Что тебе от меня надо?!
Она хлопала глазами, не зная, как объяснить: зачем действительно испортила борщ? И что ей от него надо? Что может быть ей надо? Через два дня Лёша, как глава семьи, летит в Москву, в греческое посольство за разрешением на выезд из страны!
Она дождалась, пока Лёша замолчал, и стала мыть тарелки.
Лёша быстро простил её и вечером у него опять было обычное настроение.
Она проводила его в аэропорт. Регистрация прошла без опозданий.
Лёша сказал, что вечером из Москвы позвонит. Он действительно позвонил, сообщил, в какой гостинице остановился, в каком номере.
– Отлично! – она была безумно рада, потому что мечта Лёши, да и её мечта с каждым днём приближалась. – Знаешь, давай, я тебе буду звонить каждое нечётное число месяца в одно и то же время? Так будет удобно – и ты будешь знать, что я звоню именно в это время, и будешь в номере, и я свои дела распланирую нормально. Только мне надо будет ехать в Большой Город. Отсюда дозвониться невозможно. Ну, всё! Запомни: каждое нечётное число часов в семь вечера.
Он поселился в гостинице «Космос». Рассказывал, что ужасно холодно! Ну, просто ужасно! Что под дверью посольства приходится выстаивать часы напролёт, что на руках пишут номера и каждый час делается перекличка, если тебе нет, значит, тебя и не было! Тогда надо записываться снова. Вот он стоит, стоит и потом уходит в кафе греться.
Ой, как Аделаида его жалела! Она прокляла всё на свете, что не взяла отпуск без содержания и не поехала вместе с ним. Конечно, сделать так, чтоб очередь шла быстрее, она бы не смогла, но хоть постояла бы с ним на улице, помёрзла. Ну, и ладно! Зато то об одном бы поболтали, то о другом. С тех пор, как Лёша стал работать на такси, они редко разговаривали. Всё потому, что он очень уставал. Бензин стал страшно дорогим, они с братом переделали машину на газ. Так было экономичней. В салоне машины воняло жутко, стало невыносимо вонять и от самого Лёши, и от его одежды, и даже изо рта. Она вообще перестала лезть к нему целоваться, её от запаха газа выворачивало наизнанку. А чего её, собственно, должно выворачивать? И вообще не ясно, отчего теперь многие запахи действуют ей на нервы? Даже запах его одеколона раздражает. Раньше нравился. Может, она, как его… того?.. Ну, того… Как это говорится – «залетела»? Было бы очень интересно! Да не может этого быть! Вон прошлый раз за эту самую лягушку семь рублей пятьдесят копеек на ветер выбросила! И даже не в лягушке дело, а переволновалась как! Хорошо, что тогда пронесло и тревога оказалась ложной. Тётя Анна – мамина подруга-гинеколог сказала, мол, когда Аделаида выйдет замуж, всё само собой наладится? Ничего не наладилось. И Владимир Иванович говорил, что у неё с этим будут проблемы. Он вообще всегда знает, что говорит! Проблемы, значит, проблемы! Значит, она не могла залететь! Только почему-то ей всё время хочется съесть сладкого, и всё время тянет низ живота. Ну, правильно, что тянет! Она и ждёт уже эти «траляля» три с половиной месяца! Это всегда перед менсом распухаешь и живот тянет. Так чего ж всё воняет-то, а?! Воняет улица, подъезд, молоко. Даже чужой старый шкаф в съёмной квартире воняет то ли тухлым деревом, то ли нафталином… А Лёша, бедненький, в этой промёрзшей Москве ждёт очереди! Стоит на морозе один и ждёт своей очереди, птичка моя! Какое сегодня число?! Ведь надо же ехать в Большой Город ему звонить! Ведь мы же договаривались, и он уже, наверное, ждёт моего звонка! Она соскочила с дивана и понеслась умываться в туалет. Ну и рожа! Опухшие и красные, как у туберкулёзного кролика, глаза. Огромный блестящий нос на всё лицо. Усы над верхней губой… бакенбарды… всё как было! И какого чёрта было к зеркалу подходить?!
Междугородний автобус делал конечную остановку прямо около почты с переговорным пунктом и междугородними телефонами-автоматами. Закидываешь по пятнадцать копеек и говори сколько хочешь! Только когда набираешь код, надо это делать осторожно, а то нафиг дойдёшь до последней цифры, всё срывается и надо снова всё сначала набирать. Лучше заказать переговоры с Москвой. Как звучит! О! Объявят на весь зал: «Москва! Третья кабинка!» И все будут смотреть на меня с завистью!
Когда была маленькая, и в Сочи был дождь, и море «не работало», мы с бабулей ходили на переговорный пункт, там все кричали в звуконепроницаемых кабинках: «Да! Да! Как дела, я спрашиваю!», – и я думала, что они в трубки докрикивают до своего города! И стёкла в кабинках были запотевшими изнутри, и если там были маленькие дети, то они пальцами что-то рисовали на этих стёклах.
Длинные гудки в трубке. Сердце сейчас выскочит! Лёшечка, Лёшечка… ну где ты там?!
– Гостиница «Космос» слушает!
– Здрасте, девушка! Девушка, а можно вас попросить соединить меня с номером? – Адель знала, что ко всем всегда и везде в России надо обращаться «девушка». Сейчас, вот сейчас она услышит голос любимого Лёсика…
– Ваш номер не отвечает! – «девушка» в трубке, казалось, даже злорадствовала.
– Как это «не отвечает»?! Такого не может быть!
– Раз не отвечает – значит, может!
– Девушка! Там должны ждать моего звонка!
– Должны, но, видимо, не ждут! – стало понятно, что девушка на рецепшене улыбается. В трубке запели короткие гудки.
«Может, попытаться набрать ещё раз? – Адель растерялась. – Но если она не соединила сейчас, значит, не соединит и потом! Значит – надо ждать другой смены и говорить с другим человеком! Может, другая девушка соединит! Может, эта дура и вредная? Погуляю-ка я пока по Большому Городу, и потом, через несколько часов позвоню ещё раз. А, может, он и был в номере, но сидел в туалете и не услышал звонка. Может, он так замёрз, что пришёл с мороза, набрал ванну и залёг туда?! Ну, конечно! Так оно и было! Да и девушка здесь вовсе ни при чём! Нормальная девушка, и вовсе она не улыбалась. Всё, позвоню попозже. Но куда теперь идти? И не погуляешь нормально – какая-то слякоть везде. Противно… И живот тянет больше обычного… Точно, эти „дела“ пришли. Так ведь и вату в аптеке не купишь… Чего теперь делать?!»
Она проходила по любимым с детства магазинам, с паркетными полами, пахнущими соляркой и опилками, часа два. Их специально в Большом Городе посыпали опилками в плохую погоду, чтоб покупатели не царапали дорогой паркет. На большее её не хватило. Ноги у неё отекли в сапогах, голова раскалывалась. Вернувшись на переговорный, она дождалась своей очереди к Московскому автомату.
Гостиничный номер молчал. Молчал, как если б его утопили. Лёши в номере, видимо, не было. «Как же так?! Он же должен был меня ждать!»
– Ладно тебе! – это опять прорезался её внутренний голос. Он давно уже не приходил, потому что она была очень занята, и он об этом знал. Её Леша с ней. Она беззаботна и счастлива, несмотря на все козни людей и судьбы. Внутренний голос, она заметила, последнее время как-то потеснился, сжался, уступая место её законному супругу. Да, он усох, но на самом деле никогда не покидал Аделаиду, если она действительно нуждалась в его помощи и совете. Он приходил сам, а потом так же незаметно надолго уходил, стараясь не беспокоить, и признавал первенство за Лёсиком. – Ну, нет его в номере, что ж поделаешь?! – верный товарищ хотел её успокоить. – Не пришёл ещё, наверное, со своих перекличек! Ничего, послезавтра приедешь снова и позвонишь! Пора домой, сама знаешь – дни короткие, уже совсем темно. Пока доедешь, пройдёшь по своему криминальному микрорайону! Давай, давай, пошли отсюда!
Адель приехала и послезавтра. И ещё несколько раз. Номер так и не отвечал. Как будто бы в нём никто и не жил. «Но, если он оттуда переселился, то должен же был мне сообщить? – она терялась в догадках. – Наш-то Город не столица и не областной центр! Это же просто Город! Его переселили, а он просто не может мне прозвонится! Так что ж делать?! Как я теперь узнаю, когда он приедет?! Мне ж надо будет его встречать! И дома подготовиться! Ведь он приедет уставший и замученный».
Под дверью съёмной квартиры её ждала телеграмма: «Прилетаю десятого тчк все дела сделал тчк».
«Вот шляпа! – рассмеялась она. – Зачем ещё шесть копеек выбросил с этими двумя „тчк“. Можно подумать, кто-то проверяет его правописание!»
Десятое апреля было через четыре дня.
Глава 2
В Салониках её сперва по очень большой протекции устроили «икиякос войсос», помощницей по дому. Уборщицей. Потом появился Такие, и тоже по очень большой протекции. Такие был зубным техником, но соорудил себе стоматологический кабинет вместе с зуботехнической лабораторией и ковырялся в зубах клиентов с таким азартом, как иной бездомный в мусорных ящиках. В Греции всё делалось по протекции. Даже хлеб никто бы не стал покупать просто так. Нового клиента приводили в магазин знакомые, представляли хозяину, поручались за него, говорили, что всю жизнь покупают тут и им очень нравится. В беседу вступал сам хозяин «фурно» – пекарни, старался новому клиенту понравиться, чтоб он хлеб покупал только у него.
Такие платил очень мало. Ей даже стыдно было говорить, сколько. Когда договаривались об обязанностях, Такие говорил одно, на самом же деле оказалось совсем другое. Оказывается, в Греции всегда так: работы на самом деле всплывает гораздо больше, чем очерчивает работодатель. Рабочих часов, конечно, тоже больше, а вот деньги могут за что-то удержать, или «забыть» заплатить, потому что «все свои» и ничего в этом плохого нет, если кто-то кому-то бесплатно поможет. За переработку в выходной вообще никто не собирается добавлять, это входило в «хорошие отношения». Такие страшно удивился, когда Аделька попыталась ему напомнить о «воскресном субботнике» или «субботнем воскреснике». Он тут же ей выставил счёт, в котором значились «обед в таверне во вторник» и «сэндвич с колбасой в четверг», это когда он ел сам и купил ей. Можно подумать, кто-то был голодным! Адель сперва смертельно обиделась, но Олька, которая тоже переехала в грецию и жила по соседству, рассказала ей, что «здесь так живут». Вот она, к примеру, работала в пошивочной мастерской. Хозяйка её попросила дошивать вещи в субботу и в воскресенье. Этой тётке надо было успеть выполнить срочный заказ. Олька заказ приготовила в лучшем виде, ещё и обрадовалась, что получит сверхурочные, потому что за выходные вообще должны платить вдвойне. Потом она себе купила отрез и попросилась в мастерской у хозяйки пошить на её швейной машинке юбку. Хозяйка, естественно, разрешила, но предупредила, что Олька может шить себе юбки только в нерабочее время. Олька шила ночью. А в пятницу вечером был расчёт за неделю. Хозяйка отсчитала, что платила обычно, как будто Олька два выходных на неё не горбатилась.
– Спасибо! – сказала Олька. – Но ведь я же переработала два выходных! Вы мне должны ещё за четыре.
Хозяйка была страшно удивлена:
– То, что тебя по-дружески попросили помочь, чтоб я не потеряла клиента – ты это посчитала «работой» и хорошо помнишь. А то, что пользовалась моей швейной машинкой, шила себе что-то, стирала иголку, она знаешь, какая дорогая! Жгла свет – это ты забыла?!. Да… в наше время пропали человеколюбие и милосердие!
Все истинные ценности подменены ложными! Только деньги, деньги, деньги… Вот так! Я тебя на улице подобрала, дала тебе работу, плачу тебе, а ты просто помочь не захотела! Подумаешь – пришла на выходные, прогулялась по улице! Что тебе дома было делать? Можно подумать, ты так занята! Вот она какая молодёжь выросла. Выродился мир, выродился!
Хозяйка очень обиделась, что Олька оказалась такой неблагодарной, не понявшей и не оценившей хорошее к ней отношение. Хозяйка так обиделась, что в тот же день дала Ольке расчёт, удержав несколько дней за «нарушение» Олькой контракта. Хозяйка с ней договаривалась на месяц, а Ольку уволили через две недели! Где теперь она, спрашивается, срочно найдёт себе новую швею? Вот, пожалуйста, будет простой…
– Она так расстроилась, – говорила Олька, – так переживала, что её в очередной раз «обманули», а она, «как ребёнок повелась». Она так страдала, как будто это не она меня выставила на улицу с двумя детьми, а я её! Представляешь?!
Поэтому, когда ко всем уборкам хозяйской территории ненавязчиво присовокупилось хождение для Такиса по магазинам, банкам, на почту, оплаты его домашних счетов, стояние в очереди в налоговой, помощь жене донести что-то, присмотреть за ребёнком, и всё это после работы, и ещё много чего, о чём Адель не подозревала, что такое бывает, она уже была готова к таким поворотам судьбы, как внезапный расчёт и «адио!», как говорили греки. Такие входил в роль «афендико» – работодателя всё больше. Он стал посылать Аделаиду к свой маме в клинику, в которую поселил её после какой-то операции, и как выяснилось, уже до конца дней. Такие не хотел «брать сиделок, которые непонятно как к маме будут относиться», он хотел, чтоб Адель ночами с его мамой сидела. Бесплатно, разумеется.
– А что с тобой случится?! – удивлялся Такис. – То ты посидишь, то жена. Одну ночь ты, одну Вера.
Аделька быстро поняла, что грекам нельзя перечить. Чтобы в новой стране выживать, надо было «ассимилироваться» быстро.
– С удовольствием! – Адель почти плакала, стараясь показать Такису, что переживает за его больную мать больше него самого. – Я бы и сама это сделала, даже не ожидая твой просьбы. Мы ведь должны помогать друг другу!
За эту фразу в Греции многое прощали!
– …но, знаешь, – проникновенно, понизив голос продолжала она, – дело в том, что мой муж, – а ты же видел эту здоровую лошадь? – меня к тебе страшно ревнует! Как только я произношу твоё имя, он аж зубами скрипит. Он мне не верит, что твоя мама болеет! Он думает, что я с тобой… это, ну… ну ты ж понимаешь, почему женщина может домой не приходить ночевать! Ты такой красавец, что к тебе вообще невозможно не ревновать! У тебя и с сиделкой будет проблема, если только она замужем… тяжело тебе, такому импозантному мужчине…
Коротконогий, похожий на каракатицу Такие кивал и соболезновал Адельке, что у неё в мужьях «такая лошадь». Не понимал он только одного – как можно к нему приревновать именно Аделаиду?! Ладно бы Аделаида была на тридцать килограммов меньше, а бюст?! От пятого номера-то никуда не денешься, у Такиса напрочь портилось настроение только при упоминании об этом месте женского тела. Именно бюст он считал самым большим недостатком в женщинах. Вообще ему было категорически непонятно, как Лёша мог жениться на этой «корове», как называл он в глаза и за глаза Аделаиду?! По греческим понятиям, это ж какое приданое должны были давать, чтоб Адель взяли замуж?!
Именно приданое выручало пол-Греции в замужестве!
Очень, очень гуманный закон, прописанный в Конституции страны, обязывал отца невесты давать за ней внушительную сумму, земли побольше и, главное, дом, или на худой конец квартиру, чтоб «молодая семья» имела базис для своей надстройки. На этом – на наличии базиса – обязанности невесты после свадьбы и заканчивались. Жена имела полнейшее право никогда в жизни больше не работать, и никто не смел упрекать её в тунеядстве. Самая же интересная в этом законе часть звучала так: если молодой зять не согласен с размером выделенной за его женой суммы, то есть он считает, что у отца невесты есть возможность «помочь» больше, зять имеет коституционное право подать на своего тестя в суд, и закон полностью на его стороне.
Такие взял Верку в жёны из очень бедной семьи и всю жизнь при первой же возможности напоминал ей об этом.
Такие вообще любил напоминать. Когда он согласился вставить своей матери зубы, то каждый раз при её приходе говорил:
– О! Гемисе топос ме пелатес! (О! От клиентов не протолкнёшься!) «Заработаем» сейчас! Будут ходить такие – и всё! К лисами то магази! (Наш магазин закроется!)
Греки почему-то все заведенья называют «магази». «Магази» и бар, и дискотека, и зуботехническая лаборатория. Настоящий же «магазин» в свою очередь – это «супермаркет» или «магазин с одеждой».
Месяца два он скулил, что его «магазин» закроется. Всё время, пока вставлял зубы в мамашу. Мамашу он, оказывается, вообще любил, потому что его отец, оказывается, с «войны домой не вернулся и по четырём сыновьям не скучал». Он остался в Италии, родил там ещё троих дочерей и был счастлив. Так вот, мать их, четверых братьев, оказывается, одна воспитывала. Такие её очень любил.
Через два месяца Такие внезапно перестал оплакивать «разорившийся магазин».
– Видишь, Коста, – однажды за утренним кофе расфилософствовалась Аделаида с младшим братом Такиса, – твой брат больше не жалуется на финансовый крах из-за маминых зубов!
– Да, конечно! – Коста шумно выдохнул и затушил «бычок» в пепельнице с водой. – Взял с неё три пенсии, вот и замолчал!
Всё это было бы смешно, если б не в таких количествах и не каждый день, но ещё раз сменить работу было почти невозможно.
Адель до переезда никогда не могла бы себе даже представить, что счастье человека так сильно зависит от его внешности, а в Греции вообще всё зависит от внешности! Конечно, и здесь надо хоть немного уметь мычать. Всё оказывалось вовсе не так, как учила мама. Если ты старательная, умная и, как там у нас говорилось, «начитанная», но у тебя лицо в прыщах, или большой зад, с тобой и разговаривать не будут! И абсолютно никому не интересно, что ты «абитуриентка мединститута»! Да ты его хоть пять раз уже закончи, мединститут свой, если ты не соответствуешь определённым нормам, никто тебя на работу не возьмёт. Больше всего, оказывается, в Греции ценились хорошенькие дурочки, костлявые девочки с маленькой головой: с аккуратненько ухоженными волосиками и умеющие кокетничать. Только такое поведение в этой стране ни в коей мере не расценивалось как «кокетство». Это называлась «глика», – то есть – «сладенькая». И именно эти и правили Грецией в любом заведение и даже на уровне правительства. Если у тебя конфликт с «гликой», конечно же выставят тебя, хоть ты работай над диссертацией для своего же работодателя. Чрезмерная прыть и сообразительность причислялись больше к недостаткам девушки, чем к её достоинствам. Адель несколько раз пыталась подыскать себе что-то другое, без Такиса и без его немыслимых поручений. Но как только она приходила по объявлению, её очень выразительно осматривали и потом обещали «позвонить». И никогда не звонили. Или сразу говорили, что «место уже занято». Она не была «гликой». Наверное, вид уборщицы, но объёму занимающей почти весь крохотный туалет в каком-нибудь крохотном магазюшке, ввергал хозяина в бездну уныния. Он вспоминал, что мечтал «расшириться», да вот финансы пока «не позволяют». Всё оказалось с точностью наоборот. Переехавшие из СССР, а в особенности те, которые были из тех же мест, что и Адель, очень сильно отличались от местных своим внешним видом. Когда пошла первая волна переселенцев, греки на них оборачивались на улице из здорового интереса и очень пристально их рассматривали. Потом попривыкли, рассматривали меньше и старательно обходили стороной. Особенно их волновали жутко длинные, до земли юбки – мусорозаборники. Местные «кирии» принципиально не могли понять, почему понтийки в таких ходят?
«Понтийцами» или «россопондиями» здесь называли выходцев с Понта Эвксинского. В основном это были репатрианты с побережья Чёрного моря; они, сами привыкшие к туристам и моде курортной зоны, довольно быстро начали перестраиваться и не так сильно выделялись из прохожих. Те же, которые спустились с гор, ни за что не хотели менять свои привычки и образ жизни. Наоборот, казалось, они выставляют напоказ свои обычаи, законы и относятся в местным с презрительным пренебрежением, каждый раз удивляясь тому, как такие бескультурные люди могут населять землю вечной Греции!
В пятиэтажном доме, в котором Адель с Лёшей сняли двухкомнатную квартиру, «россопондиев» не было. Когда они приехали, такого слова не было. Их называли просто по именам: Алексей стал «Алекси», или «Алекос». «Аделаида» для греков было тяжелее, чем Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей. Греция очень долго находилась под влиянием турков, поэтому и «Сулейман» и «Бендер-бей» им ближе и понятней, чем длинное название Австралийского города. Хотя те, кто ездил к родственникам в Австралию, были в восторге. Но таких, имеющих в Австралии родственников, был только один. Поэтому все остальные новые знакомые решили называть её просто «Мария», как здесь звали в честь Богоматери добрую половину прекрасного пола. Аделаиде совсем не было обидно. Очень даже наоборот! Потому что те, кто не мог запомнить «Аделаида», называли её «русская», а это было неправдой. Приятно, конечно, но неправда. «Русские» в её понятии – стройные, высокие, с узкими талиями и распущенными светлыми волосами.
Квартирка была на первом этаже, как считалось у них в Городе. В греции, в частности, в Салониках, «первым» считался жилой этаж. А так как на уровне земли были только «магази», то все вторые этажи считались первыми. «Алекси с Марией» сняли самое дешёвое «исогио» – квартира на уровне земли. Да, ну и нормально! Открываешь дверь и выходишь во двор без всяких лестниц ни вниз, ни вверх. Нормальная квартира. Две маленькие комнаты, кухня и туалет.
Кто знал, что здесь квартиры сдаются совершенно пустыми?! Без несчастных стульев и занавесок! Без плиты на кухне и кухонного стола! И на всё это – на съём, на договор и всякое разное ушло больше половины долларов, которые им выдали в Городском банке на обменные рубли. И доллары, оказывается, были «долларами» там, в Советском Союзе, а здесь они были малоплатёжеспособными бумажками, которые тоже надо было обменять на драхмы! Доллары никто не брал. Г реки даже не понимали, что за зелёные бумажки им показывают. Драхмы были огромными и мягкими, как портянки. И всё измерялось в сотнях и тысячах. Тысяча драхм! С отрезанной от тела головой статуи античного героя без зрачков. Вот «тысяча рублей» это было круто! Тысяча рублей это было… было целое состояние! Одна Аделаидина знакомая прибавила к тысяче рублей ещё полторы и купила себе однокомнатную квартиру! Ещё на тысячу рублей можно было купить четыре пары джинсов. Любых! Тысячу рублей Адель никогда не видела. Она получала восемьдесят на руки после всех удержек и платы за какую-то сумашедшую «бездетность». А тысяча драхм… На тысячу драхм можно было купить килограмм свинины и двухлитровую банку «Кока-колы». Или десять пар колготок. Или двенадцать хлебов… На двенадцать хлебов тратить тыщу драхм было безумно жалко! Лучше купить какие-нибудь тапочки, потому что крем для рук стоил тоже почти тыщу…
На пятитысячной купюре был изображён мужик в тюбетейке и с усами. Аделаида свято верила, что это греческий Богдан Хмельницкий.
Килограмм мяса и бутылка «Коки»… А Лёша хотел есть каждый день!
Квартирку им помогли обустроить добрые соседи. Они без стука входили, толкнув входную дверь плечом, вносили какие-то вещи, то, что им не было нужно. Переговаривались друг с другом, спорили, доказывали что-то. На Адельку не обращали особого внимания. С ней только приветливо здоровались, проходили мимо, так, словно они тут хозяева, пришли обустроить квартиру на свой вкус, в которую поселят диковатых, но всё же любимых родственников из дикой России… Они в первый же день принесли стулья, стол. Кто-то сам повесил занавески на окна. С дырочками, прожжённые в нескольких местах сигаретами, но это были настоящие, знаменитые «греческие занавески»!.. Кто-то приволок матрас и положил его в спальне на пол. А одна добрая душа даже принесла кастрюлю с горячим супом!
Жить уже можно было, только деньги улетали с какой-то космической скоростью! Какие «колготки»?! Какие «джинсы»?! Всё уходило на еду и проезд в автобусе. Когда пришёл первый счёт за свет, Аделаида подумала, что у неё галлюцинации!
Они работали оба. Лёша на стройке, Аделаида, кроме Такиса, убирала квартиры. Каждый день, приходя на работу, она думала, что её выставят с позором именно сегодня. Она выяснила, что не знает языка ровно в ту минуту, когда спрыгнула с подножки поезда на вокзале в Салониках, и не понимала ни слова из того, что ей внушающим тоном говорили хозяйки. Она согласно кивала, потому что знала – хозяйка считает, будто Адель «плохо» говорит по-гречески, но то, что ей вся речь кажется непрерывным, катастрофическим потоком, хозяйка не знает! Хозяйки каждое утро начинают с длительных бесед по телефону. Они кричат в трубку:
– Акривос! Акривос!.. (Точно! Точно!)
Адельке казалось, что хозяйка рассказывает своей подруге, какая у неё бестолковая домработница, а та ей советует:
– Да, выгони ты её! Нафиг тебе это нужно!
И хозяйка, обрадовано соглашается:
– Акривос! Акривос!
Совершенно не стесняясь, они обсуждали, как именно выгнать Аделаиду, до часу пополудни. Именно до «часу» и именно «пополудни», потому что греки всегда думали, что «час» – это дня. То, что это «тринадцать», в сутках же – двадцать четыре, они даже не подозревали. У них было – час до «месимери» – середины дня, и час после «месимери». Никаких тринадцати, четырнадцати, пятнадцати и так далее часов не бывает! Впрочем, как и римских цифр. Оказывается, цифры только греческие!
Лёша приходил со стройки усталый и голодный. Адель старалась прийти раньше и приготовить ему на обед что-нибудь новое, греческое, «вкусненькое». Он принимал душ, ел и ложился отдыхать. Разобравшись с обедом, она начинала готовить ужин, потому что холодильника не было и вторую порцию еды положить было некуда. Лёша ужинал и выходил на улицу попить с соседями пива. Когда оставалось время, прибирала эти две комнаты с кухней и туалетом, стирала вручную, ведь стиральной машины тоже не было. Телевизора не было. Лёша приходил с улицы и ложился спать. Ну-у-у… не так, чтобы совсем спать… так, ложился на подаренный матрас и листал подаренные журналы. И вот тогда он был её! В полном её распоряжении! Она быстренько принимала душ, чтоб не вонять жареной картошкой, и подкладывалась к нему под бочок.
Какое это было блаженство – лежать на матрасе без простыней и одной подушкой на двоих, положив голову Лёсику на такое шелковистое, такое красивое плечо и заглядывать в его журнал, где все буквы расплывались, потому что Адель почти касалась страниц носом! Как от Лёсика пахло и какой он был красивый! Он отрастил волосы и теперь делал сзади шикарный хвост. Глаза поменяли цвет и стали золотисто-медового цвета. Да плевать ей было и на простынь, и на то, что на работе хозяйка заставляет её вручную стирать свои трусы, её Лёсик, её бесподобный, её совершенно замечательный Лёсик был с ней! С ней рядом, на одном матрасе. Она теперь могла ему готовить сколько угодно! Трогать его, ласкать, целовать! Покупать ему что хочет. Правда, ему не всегда нравилось, ну и что?! В греческих магазинах можно поменять, что хочешь! И никто, больше никто, не сможет отобрать у неё её лапочку, её пушистика, её Звёздного мальчика! Никто больше не будет звонить к ней домой среди ночи и выяснять отношения. Никто не скажет:
– Заберите своего бегемота! Они накувыркались в кровати сколько хотели, вашей дочке пора домой! Вы же не думаете, что Алексей на ней правда женится!
Больше не будет ежедневного, ежеминутного, ежесекундного страха, что милый, золотой, вкусненький Лёсик не выдержит всего этого натиска и уйдёт от неё! А без него ей не жить! Как можно жить без него?! Он – это самое замечательное, самое доброе и красивое создание не свете! Самое душевное, самое понятливое, самое… самое… Пушистик…
Раньше было страшно… Было очень страшно. Стало очень страшно именно после свадьбы. Казалось, никто до последнего не верил, что Леший – Адвокат действительно женится на Аделаиде! Все вокруг считали, что это шутка, ну ходит он с ней по Городу, и что? Что, она хуже «командировочной»?! Должен же он с кем-то спать! Он же мужчина! Понятное дело, жениться на хорошей девочке он пока не может, поступает на юридический. Ему надо много читать, готовиться, и потом, как он будет женатый учиться?! Действительно, чем какая-то заразная «командировочная», лучше «эта», всегда можно найти.
В общем-то да, именно после этой, так называемой, «свадьбы» всё и началось…
Глава 3
Здесь в Греции хорошо. Трудно, очень трудно, но очень хорошо! Только… почему, когда Лёши нету дома, почему, когда она остаётся одна и кладёт голову на подушку она снова и внова видит Город? Новые впечатления и картины не стирают из её памяти Город. Он не хочет её отпустить.
В Городской поликлинике Адель стала замечать, что от неё что-то скрывают. Если она случайно входила в регистратуру, беседы резко прекращались, и в воздухе повисала странная напряжённая тишина. Сперва Адель думала, что все вокруг обсуждают её замужество. Промывают, так сказать, и кости и желудок. Потом она заметила, что к ней потеряли интерес… Даже перестали задавать один и тот же вопрос, который она впервые услышала на следующий же день после свадьбы.
«Поликлинические», как обычно, в конце рабочего дня оккупировали холл и бойко обсуждали день прошедший, день сегодняшний и день грядущий одновременно. При виде Адель все одновременно обернулись в её сторону, как если б в элитных войсках прозвучала команда:
– Рррывняйсь!
Взгляд их быстро-быстро перебегал с её груди на лицо, низ живота и снова на грудь. Они досконально изучали в свете электронного микроскопа каждое клеточное включение, каждое ядрышко и каждую митохондрию её клетки. В глазах болезненное любопытство самок, никогда не чувствовавших оргазма. По их лбам летела бегущая строка:
– Вот эти губы вчера целовал мужчина… На этой груди не было ночной рубашки… их тоже видел и трогал мужчина…
Сотрудницы начали понимающе улыбаться…
– Ты-ы-ы-ы?
Одна из них мелко-мелко моргала.
– Какое «ы-ы»? – Аделаида, конечно, догадывалась, что именно так волнует поликлиническую аристократию.
– Ну, ы-ы-ы-!
– Да, что «ы»?!
Аристократия умиленно улыбалась…
– Ы! – лупоглазая вдруг обрисовала круг, сомкнув перед животом кисти рук, как если б она несла арбуз. – Пэремени, ну!
– Беременная, что ли?
– Нэт! Ишо нэт! Паму што я купил гандон! гандон знаэш? Такой резинка имеют мущыны пахожа на шарик которий Первая мая, ы?
Общество по команде «Змии-ирна!» дёрнулось, но Адель, плюнув в кадку в фикусом, ушла. Теперь про «Ы» у неё будут спрашивать по нескольку раз в день!
Как-то выскочив из-за угла особенно быстро, она услышала обрывок разговора. Средний и младший медперсонал в сильном возбуждении жужжали, как растревоженное осиное гнездо, не слыша друг друга, но и не перебивая. Сейчас самое главное было высказать самой вслух своё мнение, пофилософствовать, а уж потом всё остальное. Говорили они на родном языке, поэтому в ячейке было полнейшее взаимопонимание и праздник чувств:
– Вот именно! Мы совсем не обязаны знать русский язык и мы не хотим его знать!..
– …Прибалтика же отсоединилась…
– …голодающие лежат около дома правительства… Мне рассказывала одна моя соседка, её сестра в Большом Городе прямо в гастрономе на Площади продавщицей работает. Прибежал туда, к ним, один парень и говорит: «Тётя! Дайте мне три пачки печенья! Мы лежим на площади и голодаем! Требуем выхода нашей республики из состава СССР! Мы уже два дня ничего не едим!..» Продавщица пожалела его и говорит: «На тебе, сынок, печенье! Может, ещё сметанки возьмёшь, там покушаете?» Он говорит: «Нет! Сметанку не могу! Мы – голодаем!» И не взял, представляете?! Так и ушёл…
– Ничего… уже скоро… всё перейдёт на наш язык…
– Да! Мы очень древняя нация со своей древнейшей культурой! Вот греки взяли у нас нашу культуру и стали древними греками и весь мир о них узнал. И от греков вся наша культура пошла на весь мир!..
– Скоро, уже скоро, сюда к нам придут американцы… – эта фраза была произнесена в успокоительном тоне, с особой надеждой.
«Надо ж быть такими тупыми! – Адель даже не вомутилась, ей было смешно. – Какие „американцы“?! Куда они им войдут?! В принципе – пусть ждут хоть Второго Пришествия! Мы с Лёшей скоро уедем в Грецию, и все дела! Эх! Такие большие пробелы в социалистическом воспитании! Свободу Луису Корвалану! Хотят – пусть лежат перед Домом Правительства, хотят – бегают перед ним же наперегонки». Адель недавно по телевизору случайно наткнулась на национальную программу, где вёлся прямой репортаж с площади Ленина, с «Детским Миром» на углу, в витрине которого уже давно не было ни бегемотика с гигантским градусником подмышкой, ни страуса с перевязанным горлом. Вся территория вокруг Дома Правительства была заполнена чёрно-серо-коричневыми толпами, а прямо у подножия ступенек стояли палатки. К ним подходили, заискивающе заговаривали. Люди из спальных мешков что-то резко отвечали и курили одну папиросу за другой. Говорили, что всех людей вообще просили разойтись, но никто не уходил и вообще говорили, что будут стоять «до конца». Площадь Ленина, скорее всего, была перекрыта, потому что по ней машины не ездили, а все ходили пешком, и что-то громко выкрикивали давно не бритые молодые люди. «Мы требуем выхода из СССР, – кричали они корреспондентам с микрофонами. – Требуем независимости и свободы!» Ну дети, самые настоящие дети! А некоторые рассказывают, что они всё могут, эти молодые люди. Могут разбить витрину и им за это ничего не будет! Могут забрать машину, потому что она им «нужна». Могут снять с тебя туфли на улице. Всё-таки у нас такого нет! Разговоры ка эту тему идут давно, а собираются там на площади уже неделю, если не больше, но именно в последние несколько дней людей стало особенно много… «Скоро произойдёт!» Что «произойдёт»? Как «произойдёт»? Я не хочу ни «правильного» политического воспитания, ни пробуждения «национального самосознания», ни «американцев». И «дэвушка, падари мне свая имя!» тоже не хочу! И юбок до земли, и кулака во рту, когда смеёшься! Я хочу жить спокойно у себя дома без «нашей великой нации», подарившей часть своей культуры древним грекам, и без соседок, натирающих кастрюли курьим помётом подальше отсюда вообще! Вот послезавтра приедет Лёшечка из Москвы с визами, и можно собирать вещички! Мы уедем жить на мою… «историческую родину», поступим в университет, будем учиться! Там можно пойти и к врачу, полечиться нормально без этих любопытных рож в Женской консультации.
Что-то сегодня живот тянет. Надо с ведром побегать, чтоб поскорее начались «тра-ля-ли». А вдруг всё-таки это… то самое?.. Что тогда делать? Как себя вести – непонятно? У кого вообще спросить, что делать? Если хоть у кого-то спросить, ну ведь за две минуты весь город узнает! Так как узнать обо всём этом? Может опять купить себе лягушку в больнице и написать им в банку для анализа?
При одном только воспоминании о тётке в клеёнчатом фартуке – заведующей террариумом Адель стало плохо.
Как люди себя чувствуют при «этом»? Говорят, тошнит. Но её совершенно не тошнит! Наоборот, хороший аппетит. Особенно сладкого хочется. Самое главное, чтоб ничего не заподозрила мама. Если только она что-то пронюхает, даже те редкие минуты, когда Адель заскакивает домой на несколько минут и хватает как бешеная свои вещи, станут для неё окончательной пыткой. Мама будет делать лицо, как будто свершилось что-то вселенского масштаба, типа Адель больна неизлечимой, смертельной болезнью, лепрой, например. Будет говорить «толстым» весомым голосом: «Тебе нельзя носить такие юбки! Беременные в таких не ходят! Тебе надо это съесть. Это необходимо ребёнку в твоём животе! Ты больше не должна думать о себе, ты больше себе не принадлежишь. Твоя жизнь теперь – это твой ребёнок. Беременная женщина должна смотреть только на красивые вещи! Не рычи на меня! Беременные женщины так себя не ведут!» И Адель возненавидит весь мир, мир, в котором живёт, не оглядываясь, возненавидит свой вздувшийся живот, делающий её ещё больше похожей на забрюхатевшую самку гиппопотама; возненавидит этого самого эмбриона, который превратил её жизнь в животное существование, из-за которого она должна отказаться от всего самого простого и обычного. Чтоб что-то родить, она должна превратится в свиноматку, или маточную пчелу, которая лежит, как вздувшийся пузырь, и ничего не делает, только рожает, рожает, рожает…
«Да ну его всё к чёрту!.. – Адель готова растерзать всех на части. – Наверное, об этом брюхатом состоянии мне и говорил Владимир Иванович, вспоминая Аристотеля, что женщина – „прах, у которой раз в месяц появляется кровь – неочищенная жидкость, нечистая, необработанная, инертная“! Вот и у меня появился шанс стать трёхлитровой банкой для солёных огурцов. Тарой, так сказать. Тарой, предоставляющей свою плоть, свою оболочку для маленького, никчёмного существа, которое милостиво будет мною пользоваться и во мне расти. И всё моё поведение, все привычки, все деяния, все помыслы, потуги теперь должны быть направлены исключительно на достижение его цели, его благополучия! А я, как дурацкий пустой кокон, из которого потом вылезет гусеница, стану никому не интересна. Стану ещё жирнее. За девять месяцев-то разнесёт так, что не пролезешь ни в какие двери. Лёша любить меня больше не сможет. Такой ужас я и сама любить не смогу. И что? И всё… Ты своё „предназначение“ выполнила. Аристотель бы остался доволен! – Адель автоматически перебирала макароны из бумажной коробки. – Надо же, как другим бабам не противно?! Или, может, противно, но боятся вид показать? Интересно: как бы отреагировал Лёсик, если б всё это оказалось правдой? Уж как-нибудь бы точно отреагировал! Ну, когда уже он приедет?! Скорей бы завтрашний день!..»
И он, этот самый «завтрашний» день пришёл.
Телевизор играл что-то классическое. Все бежали за новостями в очередь или на перекрёстки улиц. В очереди было лучше, там и купить можно было и пообщаться. О любви к американцам уже говорили громко, резко жестикулируя, отбегая от группы, снова возвращаясь. Выкрикивались особенно громко очень странные фразы, похожие на лозунги… И никто не боялся, что приедет милиция и их заберёт. Все спорили, кричали. Заговаривали друг с другом даже совсем незнакомые люди. Просто так: останавливались на улице, тянули за рукав, что-то спрашивали, делали большие глаза и ещё спрашивали… Многие магазины были закрыты, хотя был не «выходной» и не «санитарный день». Все стали возбуждённо-сосредоточенными.
Адель шла на работу с трёх часов дня – во вторую смену. Ей казалось, что в Городе все сроднились, только она какая-то чужая, никому не нужная и на неё смотрят с презрительным подозрением, с ещё большим, чем когда она целовалась с Адвокатом.
В холле поликлиники никого не было. По лестнице со второго этажа спустился терапевт из шестого кабинета. Адель его знала, но почему-то не любила с ним здороваться, старалась сделать «не вижу». Она никогда бы не смогла себе представить, что так обрадуется появлению пожилого врача в жёванном халате:
– Здравствуйте! – Адель кинулась ему на встречу.
– Привет! Ты не знаешь, куда все пропали? – терапевт из шестого кабинета, казалось, сам несказанно рад встрече.
– Не-еэт… – разочарованно потянула она, – я сама хотела у вас спро…
– Скорее всего, они в регистратуре! – догадался доктор и пальцами толкнул маленькую деревянную ставню окошечка. – Да вот же они все! Лия! – обратился он к сидящей в самом углу большой белой туче. – Я тебя по всей поликлинике ищу! Ты не видела анкеты вчерашних последних трёх больных? Я не успел их заполнить и оставил на сегодня.
– Слюши! – толстая медсестра упёрла руки в необъёмные бока. – Ти кто такая?! Иди свая жена так гавари! Или иди свая Расия так гавари! Здэс – мая дом!
Я здэс живу! Ти здэс пришёл и каманда мне будэш делаит?! Я зачэм знаю, где твая анкет?! Сваи вещи сам убирай! – окошко регистратуры с силой захлопнулось. Адель показалось, что внутри кому-то, как в театре, аплодировали…
День тянулся невообразимо долго. Хорошо, что она при выходе из дому просто так сунула себе в сумку журнал «Новый мир», который ещё вчера одолжила почитать. Так время пролетело незаметно, да и работы особо не было. Больные все исчезли.
Во дворе людей тоже почти не было.
Это всё было так странно видеть… такое жуткое затишье… как перед глобальной катастрофой. Сам воздух был наэлектризован и тяжёл.
Аделаида зашла в раздевалку и сняла с затёкших ног туфли.
И всё-таки ноги к концу дня опухают ужасно! И это при том, что сегодня она почти весь день сидела. И лицо какое-то отёчное. Противное такое, щёки круглые… На блин похожа! Что в ней Лёша мог найти?! Нет, ну ведь разглядел же что-то! Иначе как можно объяснить его решение ехать с ней в Грецию. Бросить тут всё: и друзей, и родственников, и ехать с ней на другую планету. И ещё и сам полетел в Москву, торчал там в очереди в посольство, по такой погоде промёрз весь!
Она вытащила его фотографию и села с ней к окну. Света опять не было, как не было уже давно. Нет, свет, конечно, давали, но дозировано, как и воду – на несколько часов в сутки. А воду уже не включали почти совсем. Адель наполняла огромную ванну, в съёмной квартире ванна была такая старая и страшная, что иногда казалось – зачерпни из неё воду, и она больше испачкает руки, чем отмоет.
Вот он на фотографии – любимый, самый прекрасный на свете Лёшечка! Особенно было смешно ходить с ним по улице, потому что все, все абсолютно женщины вокруг хотели бы идти рядом с её Лесиком, но с ним идёт она, Аделаида! Значит, место занято! Поэтому эти тётки идут с другими мужчинами, чтоб просто с кем-то ходить!
В носу стало мокро. Адель чувствовала, что вот-вот расплачется. И это было ужасно! Последнее время она вообще стала какой-то странной, плаксивой такой, аж противно. Как будто её подменили. Стоит заслышать какую-нибудь песню про «вечную любовь», тут же слёзы сами по себе бегут по щекам. Или музыку хорошую, душевную – тоже плакать хочется… Надо брать себя в руки! Навряд ли это Лёше понравится. Он любит, когда у неё хорошее настроение, когда они шутят, бесятся, борются. Ну, вот… теперь ещё от сдерживаемых слёз затошнило… затошнило… воды попить, что ли? Или чего её пить, и так вся отёчная. Особенно перед месячными так ноги болят! Кошмар! И где эти несчастные месячные?! Уже надоело, живот болит и тянет, а их всё нет и нет! Ой, хоть бы не завтра, а то Лёшка приедет, а я как дура буду! Он там, бедный, две недели без меня. Наверное, о-о-очень сильно соскучился! Рыбочка моя, сладкая! Только жалко, что не даёт мне тот угорь за ухом выдавливать. Орёт: «Бо-о-о-льно!»
Аделька со всей нежностью поцеловала фотографию, и сунула её в нагрудный карман.
Скоро уже они переедут в Грецию. Поступят в университет. Вместе утром будут ходить на занятия, а вечером работать. Скорее всего, тоже вместе. Кушать-то что-то надо? Ой, какая всё это ерунда! И учиться будем, и работать будем! Она обязательно найдёт хорошего врача, который её вылечит. Она, конечно же, похудеет, станет
красавицей, наденет белые джинсы… Ах, какая жизнь впереди! И совершенно, ну ни капельки не жаль ей отсюда уезжать! Наоборот, хочется, чтоб всё это поскорее закончилось! И всё это, похожее на блеяние овец: «Ты же дее-е-евочка…!»; и страшные, волосатые, низкорослые уголовники в спортивных трико и кепках на лысых головах; и мама со своими извечными предсказаниями: «Останешься за бортом! Ты у меня на повестке дня! Тебя надо спасать!»; и Сёмик со своей дармоедкой Аллочкой, похожей на старый лифт, и гигантской псиной, поселившейся в её, Аделаидиной, комнате. Аллочка потребовала разменять квартиру, потому что Маркиза с мамой не уживается и «собака постоянно в состоянии стресса», а на квартирах она жить больше не хочет. Они собираются с Сёмой найти для себя двухкомнатную, а мама с папой переедут в одну. Да пусть, что хотят, то и делают! Главное, что ей от них ничего не надо. Она когда будет уезжать вещи свои заберёт, которые носит, и всё. Аллочка, говорят, выгуливает Маркизу вся в золотых цепочках, серьгах. Это, скорее всего, те, что мама хранила на ан тресолях и так любила разглядывать:
– Вот, Аделаида, – обещала она, когда была в хорошем настроении, – вот это кольцо я отдам тебе в приданное… вот эти серьги – Сёмкиной жене…
Адель вспомнила, как в день её свадьбы мама с папой аккуратно закатывали баклажановую икру в банки, и весело рассмеялась. Да сто лет не нужны ей никакие золотые серёжки! И цепочки с кулоном тоже не нужны! Пусть Алка носит всё! Хоть золотые передние зубы пусть себе вставит! Хоть себе, хоть своей овчарке! У неё есть Лёшечка, ради которого можно пожертвовать всем золотом мира, земли, галактики! У Лёшечки нежная, как чистейший шёлк, кожа; длинные волосы, цвета спелой ржи, зачёсанные назад. Эх! Как в том анекдоте: «И это всё моё?!» Солнышко!.. Ни за какие бриллианты ни за что и никогда! Завтра конец разлуки, он уже приедет! Когда наступит это самое «завтра»?! Аа-ах!..
Аделаида от удовольствия и предвкушения скорой встречи взвизгнула и захихикала. Эхо гулко прокатилось по пустому коридору.
Завтра наступило, как ни странно, довольно быстро. С вечера её ужасно клонило ко сну. Свет, как повелось, так и не дали. Адель завалились на одноместный диван в полном обмундировании, только без пальто, потому что именно сегодня её знобило особенно сильно. И знобило, и опять очень сильно тянул низ живота. Да будь оно всё трижды неладно, все эти женские заморочки и всякая ерунда! Холодно… Очень холодно…
Она знала: главное – заснуть, постель согреется сама, и потом, когда проснёшься ночью в туалет, можно будет надеть и ночную пижаму, тогда не будет холодно. Одной страшно, ужасно плохо! Вот приедет Лёша, она вместе с ним залезет под одеяло, прижмётся к нему, а он всегда горячий и гладенький, и тут же станет жарко! Нет, вовсе не в предвкушении «супружеских обязанностей», смысл которых ей так и не открылся. То странное ощущение, которое затмило ей свет солнца тогда, в автобусе, с Владимиром Ивановичем, больше не повторилось ни разу. Это когда выспышкой взрыва рассыпались перед глазами красно-оранжевые кристаллы. Действительно, что это было? Может, мгновенное помутнение рассудка? Точно! Это она тогда потеряла сознание! Короче, в автобусе было душно и температура у неё была! А с Лёсиком так хорошо! Можно ласкаться и целоваться сколько хочешь! Гладить его по личику, нюхать, заплетать в тоненькие маленькие косички его светлые волосы. Когда она, отвлекая его внимание, пытается выдавить ему угорь на лбу, прямо над переносицей, он никогда не даётся и орёт как резанный, что ему больно! Вот зануда! Неужели правда так больно, что нельзя потерпеть?!
Утро выдалось ясное. Ей опять надо на работу с трёх. До трёх она прибрала и без того прибранную квартиру. Адель открыла холодильник. Там лежали яичный порошок целый килограмм в целлофановом пакете, кусок жёлтого сыра, который почему-то назывался «Голландским», хотя навряд ли из Голландии могли возить такую гадость, немного сливочного масла и мясистые, толстые макароны в бумажной коробке. «Как раз такие, – Аделаида обрадовалась, словно встретилась со старым другом, – из которых раньше варили клейстер для афиш и обоев!» Ладно, обои обоями, кстати, а куда они пропали? Да и как-то незаметно! Были, были, и вот теперь нет. Как это я раньше не заметила? Ведь я всё время, пока на остановке жду автобус, разглядываю витрину скобяного магазина, как его называет мама. На витрине теперь лежат просто сваленные в кучу бумажные коробки. Пустые, кажется… Всё это так странно, возможно, хорошего качества товаров и не было, импортных или российских, но местного производства были всегда! Ломающиеся на сгибе обои были, и масляная засохшая краска была, но, правда, никогда не было олифы, чтоб её развести. Что такое эта самая загадочная «олифа», как она выглядит – Адель узнать так и не удалось. Она только знала, что папа постоянно её хотел «достать» и не «доставал», ну а сейчас, наверное, и подавно… Бог с ней, с этой самой олифой, надо же что-то приготовить к приезду Лёшечки! Можно отварить макароны до полуготовности, чтоб не развалились, потом взбить яичный порошок с водой и сделать как бы яичницу с макаронами. Только, если сделать сейчас, до приезда Лёшки это всё станет несъедобным, а если вечером – то вдруг он приедет до того, как она вернётся с работы? А что если отпроситься и вообще не ходить – Джамал Васильевич, наверное, разрешит ей не приходить сегодня на работу, – а поехать в аэропорт? Он на многое закрывает глаза, только вовсе не потому, что её в поликлинику устраивала уборщицей по большому блату тётя Анна, а просто так…
Можно спуститься вниз, дойти до ближайшего магазина и попроситься позвонить. Автомат искать бесполезно, потому что в Городе нет ни одного работающего телефона-автомата. Их повсеместно истребляют в день установки.
Адель пешком спустилась с пятого этажа и пошла в сторону проспекта.
До чего всё-таки замечательно быть замужем! Ну, прямо что-то потрясающее! Когда хочешь – надеваешь туфли и выходишь из дому. Никто с тобой не говорит мерзким голосом из другой комнаты:
– Аделаида! Куда пошла? Когда придёшь? Смотри, не опаздывай, ты знаешь, что будет! Не опаздывай, слышишь?!
– Слышу!
– Причешись!
– Ты же меня не видишь!
– Не гавкнешь – сдохнешь! Я слово – она мне десять! Я слово – она мне десять! Ты заткнёшься когда-нибудь или нет?! И волосы свои мерзкие со лба убери!
И идти уже никуда не хотелось. Но не идти было гораздо хуже! Надо было идти и по дороге приводить себя в хорошее расположение духа.
Да, всё-таки у замужества огромные привилегии. Особенно у замужества с Лёшей, который работает на такси и совершенно к ней не пристаёт ни с проверками, ни с советами. Только иногда его прорывает на менторский тон, ну, да ладно!
Так откуда ж позвонить? Что-то и людей на улице почти нет… Вон овощной ларёк… Он что, закрыт, что ли? Точно! Закрыт! Амбарный замок на дверях. А чего это он закрыт? Вроде до перерыва далеко, и не воскресенье сегодня. Ой, да в этом микрорайоне, где мы живём, на отшибе, они всю дорогу делают, что хотят! Хотят – работают, не хотят – запер и ушёл домой, как если б у себя во дворе своей же картошкой торговали! Всю жизнь так было! Придётся идти до самого проспекта. Там больше магазинов. Кто-нибудь же обязательно даст позвонить! И куда все запропастились? И что это за сигналы? Свадьба, что ли? Какие-то вопли, машины пиликают… ну, ведь точно и не суббота, и не воскресенье! Что за свадьбы?! Несколько одновременно, что ли? Или одна, но очень большая?
Наконец, стали попадаться странного вида люди. Было такое чувство, что кто-то с кем-то подрался, объёмом драки «стенка на стенку». Движения их были резкими, верхняя одежда почти у всех чёрная или серая, или милитари.
В Городе вообще-то всегда ходили в очень тёмной, почти чёрной расстёгнутой верхней одежде и мужчины, и женщины. Мужчины не застёгивали пиджаки. Женщины, которые молодые, не застёгивали пальто. А жакеты, и всякого рода утепляющие вещи не надевались на тело, а накидывались на плечи. Женщина могла идти через весь город в магазин, к родственникам, держа детей за руки. При этом жакет у неё периодически сползал, и она его снова подтягивала на плечико. Женщины постарше на улицу выходили в вельветовых халатах. Они ими пользовались и как пальто, и как одеялом, и заворачивали еду дома и клали под подушки, чтоб не остыла, и как халатом – одеждой непосредственно. Адель, глядя на них, всегда с тоской вспоминала Большой город, как они с бабулей встречали деду с работы, спускались по улице мимо Дома Правительства к автобусной остановке. Потом, освещённые оранжевым неоновым светом огромных фонарей, покупали газету «Вечорку», пирожное «корзиночка» с бубликом вместо ручки и вместе шли домой. Навстречу им попадались знакомые: дамы в настоящих драповых пальто и дохлой лисой с лапками на плечах; мужчины с палочкой и зачёсанными назад волосами.
Всё это так, только у мечущихся в поле её зрения людей одежда была расстёгнута как-то особенно вызывающе.
Пройдя ещё несколько перекрёстков, Адель вынырнула на проспект.
Всё было таким же как вчера, и в то же время совершенно незнакомым, как будто чужим. Ну, вот же он – большой гастроном, где она покупала этот самый яичный порошок в большом целлофановом пакете для фруктов. Гастроном открыт, но внутри никого нет, а три толстые продавщицы стоят вплотную к витринам, и с любопытством глядя на улицу, о чём-то оживлённо беседуют. Перед каждым подъездом тоже стоят люди, тоже все в чёрном, как если б это была панихида. Но ведь не мог же кто-то умереть одновременно во всех подъездах?!
Она вошла в гастроном и попросилась позвонить.
– Я рюски нэ панимай! – продавщицы смотрели на неё насмешливым взглядом. Так, если б у Адель с лица рос хобот. Адель очень удивилась, потому как два дня назад именно эта продавщица не дала ей сдачу и, сделав непробиваемое лицо, заявила:
– Мелач ниэту.
Так если она знала слово «мелочь», то слово «телефон» уж явно могла бы понять!
Адель повторила всё то же самое на национальном языке. Тётка вытащила из-под прилавка аппарат и брезгливо повернула к Адель.
Долгие-долгие звонки. В поликлинике трубку никто не поднимал. Это было уму непостижимо! Всё вокруг выглядело точь в точь как в рассказах про Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Закрыли магазины, в поликлинике никого нет, все делают что хотят, чувство полнейшей безнаказанности прямо витает в воздухе. Да, действительно, это было не высоким чувством свободы, воспеваемом поэтами и художниками, это было именно пьянящее, звериное чувство безнаказанности и вседозволенности.
На улице снова раздался шум приближающихся, изо всей силы сигналящих авто. Казалось, это целый кортеж мотается по небольшому Городу туда и обратно, воет и рычит, чтоб привлечь к себе как можно больше внимания. Адель подошла к кромке тротуара и выглянула из-за спин, как если б стояла на параде и с нетерпением ждала приближения колонны. Она всё хотела спросить – что бы это значило? Но никак не могла себя заставить открыть рот.
Машины приближались на бешеной скорости. Их с тротуаров приветствовали дикими криками. Вот машины одна за одной стали пролетать мимо. Из раскрытых до предела окон торчали непонятные и незнакомые флаги, некоторые из которых были порваны. Однако Адель почему-то показалось, что именно эти порванные особенно возбуждают толпу, ввергая её в экстаз. Сидящие внутри пассажиры периодически до пояса высовывались из окон, и их вопль на национальном языке: «Да здравствует свободная республика!» – тонул в море аплодисментов. Окружающие тут же подхватывали этот крик, и тогда толпа скандировала в один голос, топала на месте и рвала на себе одежду.
«Какая „свободная республика“? – опять стало казаться, что всё это кино. – Вот сейчас приедет милиция и устроит всем „свободную республику“!». Но, как ни странно, милиция всё не ехала. Что больше всего поразило её, так это то, что на крыше машины сидела разбитная деваха. Она размахивала самым большим флагом и орала, перекрикивая сигналы. И никто ей не свистел! Нет, свистели, конечно, но вовсе не для того, чтоб сказать, что девица «испорченная», а наоборот – ею восторгались! «Сексуальная революция?! – чувствуя, как в душе поднимается волна восторга, наконец догадалась Адель. – Неужто они решили снять с себя эти дурацкие одеяния и начать новую, нормальную жизнь?!»
– Ура-а-а-а-! – закричала она вместе со всеми. Стоящие рядом обернулись в её сторону и одобрительно улыбнулись. – Да здравствует независимость!!
– Ураа-а-а-а! – закатывалась толпа. – Русские! Убирайтесь вон из нашей Республики! Убирайтесь все! Наша республика для нас! Да здравствует президент!!
«У них что, крышу снесло?! – Адель перестала орать. – Какой „президент“? Америки, что ли?! Откуда у нас „президент“?! Так может, это вовсе не Сексуальная революция?!»
– Скажите пожалуйста, – обратилась она на национальном языке к пожилому мужчине, который улыбался особенно радостно, – о каком президенте идёт речь?
Счастье в глазах деда не померкло, он был рад лишний раз повторить то, о чём кричали на каждом углу, говорили в автобусах и шептались в регистратуре поликлиники.
– Всё! – Крикнул дед. – Теперь власть наша! Они, – дед странно потянул курью шею вправо, чтоб показать, кто именно, – вчера разогнали мирную демонстрацию около Дома Правительства, ну… которые голодали два месяца и жгли костры на Площади. Они наехали на людей танками, рубили их сапёрными лопаткам. Одну старую пожилую женщину, ну вот как я, – дед поднял вверх плечи, – солдат зарубил насмерть сапёрной лопаткой! Старое правительство вызвало спецназ, чтоб поубивать наших же людей… как можно, я не понимаю…
«Какие танки?! Какой спецназ?!» – Адель терялась в своих мыслях, не в силах понять, о чём разговор вообще. Про костры и голодающих она знала давно. Это было именно то, что в поликлинической регистратуре обсуждалось шёпотом за закрытой дверью. Они ждали «американцев», которые должны «скоро прийти» и «спасти их» от гнёта Русской империи. Неужели это действительно начало чего-то страшного? Если ещё вспомнить, как у нас тут любят пить! Стаканами, рогами, копытами… по пьяни вообще можно было такое устроить!
– …Эти знамёна, – дед сглотнул подступившие слёзы, – эти знамёна с площади, где лежали наши голодающие! И там ещё была беременная девушка. Они её тоже убили!
«Господи! Да что беременная-то делала ночью около Дома Правительства?! То бабушка, то беременная… Что-то дед про мужиков ничего не рассказывает. Они что, своими бабами прикрывались? Может, они их выставили перед спецназом, в полной уверенности, что бабы будут делать что хотят, – кричать на солдат, оскорблять их, плевать им в лицо, снимать туфлю и размахивать им перед носом, а они «не посмеют оскорбить женщину гор»? Если она правда там была – беременная… Неужели у неё не было никакого страха за своего ребёнка? Или она решила таким образом весело провести время? Но эти беременные даже в консультацию ходили со свекровями и золовками. Кто ж её туда с собой взял? И главное – для чего?..
– Ложись! – Вдруг дед с силой толкнул её, и, схватив за полу жакета, повлёк за собой на асфальт.
«Чё, совсем дурак, что ли?!» – хотела было крикнуть Адель, но в ту же секунду увидела, что стоящие вдоль тротуаров люди повалились на землю, закрывая головы руками и пряча лицо в грязь. Почти одновременно она услышала и какой-то странный звук, похожий на если б кто-то очень методично и быстро бил орехи молотком, и они раскалывались. Аделаида никогда в жизни не слышала таких звуков! Вообще всё окружающее выглядело и смешно, и интересно, и загадочно. Как в кино! Хорошо, что она пошла звонить в поликлинику.
– Первая батарея – огонь!!! Пиу – пиу… – это пули просвистели. Вторая батарея – огонь! Е-е-есть! Уничтожена огневая точки противника! Урра-а-а-а!!!
Ой, я не могу! В войнушку играют! В детстве не наигрались ещё? Бабушки убегают, а за ними спецназ с лопатками гоняется! Ужасно, что я из-за этого старого козла вся вымазалась! Да не хочу я играть в их игры!
Адель приподняла голову, чтоб получше рассмотреть: как на очередном автомобиле девица с крыши не падает? Она бросила взгляд поверх голов и почувствовала, как зрачки её расширяются.
На уровне крыши страшно замызганного оранжевого «Жигулёнка» была не задница отважной девицы с флагом в руках, а торчала чья-то волосатая рука с приспущенным рукавом чёрной куртки. Эта рука держала автомат Калашникова, поднятый дулом вверх. Точь в точь такой, какой они разбирали и собирали на время на занятиях по военной подготовке в школе. Толстый короткий палец судорожно нажимал и отпускал курок, и именно когда он нажимал, раздавался этот мерзкий звук, так похожий на битьё орехов.
«Не, ну вообще обалдели! То русским советуют убираться, пока не выдворили насильно, то американцев ждут, то на крышах ездят, то стреляют для острастки! Ненормальные! Слава богу, что я скоро отсюда уеду! Всё-таки Лёсик очень здорово придумал!» – При воспоминании о Лёше стало совсем противно наблюдать этот фарс с преследованиями, победителями и побеждёнными. Захотелось встать, обтереть лицо и пойти домой. Пусть без меня доигрывают!
– Куда?! – Завизжал дед на национальном языке, резко ударил Адель по спине и лёг сверху. Над головой дико взвизгнуло и хлопнулось в ствол дерева прямо за спиной.
Эта машина с весёлым автоматчиком была последней. Он от счастья стрелял в небо, но чуть раньше опустил руку, чем убрал непривычный к оружию палец с курка… И не собирался никого убивать! Так… палил, чтоб возвестить пришествие Новой Эры!
Глава 4
У «кирии», дамы-аристократки, которая, когда взбивала себе кофе, ухитрялась обрызгать даже стены ванной комнаты, она работала до трёх. К Такису она попала по знакомству, но случайно, после двух-трёх неудачных попыток устроиться хоть куда-нибудь «младшим медицинским персоналом».
Помогла соседка. Простая соседка сверху. Она почему-то решила взять Аделаиду под своё попечительство. Скорее всего, ей Лёша нравился. Соседку звали Эфи, от слова «Эфтихия», что означает «счастье». Сколько ей было лет, никто не знал. Но другая, довольно пожилая соседка Меня сказала, что когда она была маленькой и ходила в школу, Эфи уже заканчивала парикмахерские курсы. Эфи, несмотря на возраст, вообще была очень энергичной и с самого дня вселения «русских» организовала шефство над ними. Проверяла, правильно ли оплачены счета за свет, не обманывают ли её в плате за уборку подъезда. Эфи приходила со второго этажа раз пятнадцать на дню. Она приносила поесть, приносила мелкую мебель в виде табуреток, какие-нибудь безделушки, которые Адель, чтоб не обидеть, ставила на самое видное место и каждый день стирала с них пыль, Эфи была парикмахером. Стригла она прямо у себя в квартире, в специально под это дело оборудованной комнате. Адельке она обещала сделать на голове нечто «поли кало», что значило – «очень хорошее», затащила к себе и соорудила дикую «химку». «Химка» торчала во все стороны и её невозможно было прочесать. Когда Эфи закончила, она спустилась вместе с Адель вниз, чтоб посмотреть на восторги Алексея, ну, или просто на Алексея. У Лёши оба глаза съехали к переносице. Он никак не мог взять в толк, что это «не отмоется водой и мылом», что это на «шесть месяцев», или пока волосы на отрастут. Он думал, что Эфи плохо объясняет на пальцах.
– Секси, э? Алексии, секси, э? – Эфи скалилась и подталкивала Адвоката плечом.
– Слушай, ты! – у Лёши нижняя челюсть выехала вперёд. – Объясни ей по-быстрому, что мне не нравится, когда мою жену называют «секси»!
Адельке было обидно! Очень обидно! Что такого сделала, а уж тем более сказала эта Эфи, чтоб нужно было так выкобениваться! Подумаешь, сделали «перманент»! Что ж теперь, нельзя проводить с собой никаких экспериментов? Ни постричься, ни накрутиться?! Так, простите, в Европе живём! Здесь вообще кто как хочет, так и ходит! Хоть тебе кривоногие в «мини», хоть толстые в брюках! Наоборот, все толстые ходят в брюках, чтоб у них ляжки не тёрлись! А это очень больно!
Вообще Лёша стал каким-то странным. Он когда увидел на Адель старые джинсы, которые тоже ей притащила Эфи, закатил грандиозный скандал. Джинсы!!! Джинсы!!!! Настоящие, кем-то надёванные, и потому очень потёртые джинсы, именно такие, какие были в их Городе самыми крутыми – «штатскими». Адель вся светилась от счастья. Видели бы её сейчас сослуживицы из Города! Лопнули бы и от злости и от зависти! И, оказывается, вовсе нет необходимости быть «Танцующей королевой», чтоб иметь право носить джинсы – символ свободы и вольномыслия! Джинсы можно носить в Греции всем!
Лёша выбросил джинсы на помойку.
– Перестань реветь! Они же были чужими! Ты же не будешь ходить в обносках? Я тебе новые куплю! – пообещал он, когда понял, что изревевшаяся и опухшая от слёз Адель с кровати просто так не встанет. – У тебя столько красивых платьев и юбок! Почему ты не хочешь их носить?
– Так. ик. ик.. – Адель не могла спокойно говорить. Голова её вздрагивала сама по себе и беспорядочно засасывала в себя воздух. От этого получалось, что как будто она икала и всхлипывала одновременно, – так они же длинные! Эти юбки и платья длинные! Они здесь все ходят или только в брюках, или в «мини»! Я буду одна ходить в одежде до земли?! Я на самом деле такой урод?! Европа же! Носят то, в чём им удобно! Я не хочу, как старая бабушка!
Лёша удивлённо смотрел на неё.
– При чём тут «Европа»? – он вытащил сигарету. – Надо смотреть, что тебе подходит, что не подходит! Ты разве не видишь, что твой выбор одежды очень ограничен? Может, ты ещё короткую юбку на себя нацепишь?
– Ну… носят же короткое ещё толще, чем я! Все носят! Они надевают чёрные толстые колготки и носят! И я хочу! Я не хочу как бабушка…
– И на кого они в этом похожи?! Тебе самой нравится?
– Да!
– Не ври! Человек должен носить то, что скрывает недостатки его фигуры!
– Я не хочу скрывать свои недостатки! У всех есть свои недостатки, почему я должна скрывать и больше никто не должен?! Пусть все видят, мне не жалко! Я не хочу длинные юбки! Я не хочу коричневые свитеры! Я хочу белый!
– Послушай! – муж начинал терять терпение. – Если ты не понимаешь, о чём идёт речь, я тебе объясню по-другому. Ты своим видом позоришь меня! Ты культуру им свою покажи. Пусть они делают что хотят, а ты будь умнее!
– Я не хочу быть умнее! Я жить хочу, понимаешь?! Неужели ты думаешь, что нашим соседям есть дело до того, что на мне надето?!
– При чём здесь соседи?! Здесь наших полно! Что они скажут?! «Не успела приехать, уже „испортилась“?!» «Куда только её муж смотрит!»
– Да ничего я не хочу! – Адель опешила так, что перестала и плакать и всхлипывать. Неужели то, что сейчас говорит Лёша, это серьёзно? Или просто так, в «воспитательных целях» сказал? Какие «наши»?! Бред какой-то… Если серьёзно, Лёша сильно изменился после переезда в Салоники.
Чтоб лишний раз не нарываться на воспитательную беседу, Адель, когда вышла с Эфи из дому, не надела «новые вещи», которые ей снова принесла Эфи. Но и юбку до земли тоже не надела. Эфи одолжила ей свою «красивую» одежду, которую дополнял очень серьёзный, но женственный аксессуар – шляпка с птичьим гнездом на борту. Адель не знала, куда они идут, потому что кроме слова «дулья» ничего не поняла в Эфиных объяснениях. Но этого было достаточно. Она поняла, что соседка хочет устроить её на работу. Они вместе шли по улице, и это было душераздирающее зрелище! Эфи ростом метр восемьдесят пять сантиметров, плюс тридцать – укладка на голове, плюс тринадцать – каблук на шпильке, плюс в вытянутой руке раскрытый над головой зонт. Всего под три метра – предельно допустимая высота, чтоб не мешать заходящим на посадку самолётам. И рядом Аделька в Эфиной «красивой» одежде.
На них смотрели. Их провожали взглядом. «Значит, правда красиво! – восторгалась Адель, и в душе у ней росли розы. – Всё будет замечательно!»
В офисе, в который в итоге они пришли, седой хлипкий мужик в обмен только на Эфин телефончик тут же пообещал не только устроить Адель на «приличную работу», но саму Маргарет Тэтчер пристроить к ней на посылки! Всё вышло быстро и красиво, само собой. Эфи даже своим декольте не воспользовалась!
Дядька Эфи звонил каждый день и говорил всё как в детской игре:
– Пока нет, пока нет. Пока маленький билет!
«Наврал…» – тихо страдала Адель, расстраиваясь с каждым днём всё больше и больше.
Но однажды в её дверь постучали, и это была Эфи.
– Пошли, – сказала она, – нас ждут! Тебе нашли несколько кабинетов. Выбери, какой больше понравится!..
Первый стоматологический кабинет находился в глубине огромного тёмного коридора, страшно напоминавшего бомбоубежище. Дверь была бронированной, с внешней металлической решёткой, с красными лампочками вокруг – то ли сигнализацией, то ли просто фонарями.
Звонить пришлось довольно долго, как если б внутри прятались от спецназа.
Увидев симпатичного, высокого доктора, Адель оживились. Приятно всё-таки работать не с древними стариками. Молодые на жизнь смотрят иначе. Стройный доктор с гусарскими усами очень вежливо и обаятельно улыбнулся:
– Присядьте, пожалуйста, – бархатным голосом пропел он и сделал руками жест, напоминающий «алон деже», – не желаете ли угоститься? – он потянулся к холодильнику и вытащил оттуда коробку шоколадных конфет. Аделька и Эфи только «угостились» по одной маленькой конфеточке, как коробка с излишней поспешностью захлопнулась, чуть не придавив им пальцы.
– Так на чём мы остановились? – картинно сказал доктор, лёгким движением забросив коробку обратно в холодильник, и сел к нему спиной, почти вплотную придвинув стул к белой двери. Адель показалось, что он как бы грудью, то есть спиной, пытается закрыть амбразуру со своими стратегическими запасами.
Предложенный к конфетам кофе был вроде как фильтрованный, французский. Адель не знала, как пьют этот кофе французы, но она почувствовала во рту привкус переваренных кофейных семян. Как если б этот кофе уже кто-то неоднократно пил. Однако самое главное оказалось спереди.
– Вот смотри, здесь у меня операционная, – доктор вышагивал своими длинными ногами по кабинету, Эфи следовала за ним с очень заинтересованным лицом, не решаясь что-нибудь слямзить и засунуть себе в карман. Она прямо не за жизнь, а за смерть схватилась со своей клептофилией, – а вот это… – он торжественно умолк, вытащив с ловкостью фокусника козырного туза – два трёхлитровых баллона с замоченными тыквенными семечками. Он ласково погладил баллон. – Это моё самое большое достижение, моя гордость и профессиональное удовлетворение!
Эфи уронила зонт.
Адель от неожиданности чуть не уронила себя всю.
Это было так внезапно! Когда она маленькой подглядывала в морг и ходила в гости в Владимиру Ивановичу в прозектуру, там много чего было, в сто раз побольше, чем тут. Но то были органы мёртвых людей, которых вскрывали не для развлечения, а чтоб установить причину смерти. Но чтоб вот так… просто ради интереса… в трёхлитровых банках из-под абрикосового компота!..
Доктор в задумчивости пожевал усами:
– Знаешь, сколько этой коллекции лет? Я собираю удалённые мною зубы и храню их в формалине ещё с институтской скамьи! Смотрите, сколько я уже насобирал!
Адельку замутило. Она вдруг представила, как окулист собирает глаза, гинеколог – эмбрионы, а уролог – стыдно сказать, что.
– Ну, как? Тебе нравится?
– Безумно!
– Так когда ты можешь начать работу?
– Да, вот как только дома с мужем посоветуюсь, так тут же и начну! – она стала носком туфли ковырять невидимые дефекты плитки на полу.
Совершенно ненужное напоминание о муже, казалось, несколько разочаровало эффектного доктора. Он было недоумённо поднял брови, но вид удалённых человеческих зубов в банках снова притянул его взгляд, и он забыл о посетительницах, залюбовавшись игрой их цвета.
– Пошли-и-и! – Эфи прижимала ко рту носовой платок, абсолютно недвусмысленно давая ей понять: ещё минута и я выложу вам содержимое моего желудка.
Следующий доктор, обещавший дать работу «профессиональной санитарке с большим жизненным стажем», снимал замечательное помещение в самом центре города. Эфи наотрез отказалась идти с Адель даже до автобусной остановки, боясь, что та её обманом заволочёт ещё к какому-нибудь не совсем адекватному специалисту. Вот и зря! В уютном белом кабинете звучала тихая, светлая музыка и пахло лавандой. «Слава Богу! – подумала Аделаида. – Ну не может же маньяк слушать Баха?»
– Добрый день! – красивый мужской голос заставил её обернуться. – Меня зовут Анастасиос! Но для тебя, голубка, я буду просто Тасо!
Перед Адель стоял премиленький старичок, только чрезмерно худенький, немного жёлтенький и маленький. «О! Тут ещё и дедок есть!.. – обрадовалась она. – А где ж тот, который со мной здоровался приятным тенором? А-а-а! Это, по всей видимости – ихний папа! Откуда ж сам Тасо со мной разговаривал? Ой, не могу! Прямо как в „Волшебнике Изумрудного города“! Голос есть, а чей – не видно!» – она попыталась заглянуть за спину старичка, чтоб наконец увидеть воочию обладателя такого приятного голоса, которому нужны уборщицы в кабинет. Старичок тоже удивлённо обернулся и посмотрел себе за спину.
– Ты чего? – удивился он бархатным сопрано. – Да! Там ещё есть комната! – по-своему истолковав взгляд Аделаиды, сказал он. – Комната отдыха… Типа спальни, что ли… ну, ты садись, садись! – воскликнул он, плавным жестом указывая на внушительный кожаный диван.
Адель всем ливером внезапно догадалась, что это не папа! Что она здесь совершенно одна, а обладатель этого красивого тембра – вот он! Весь! Этот самый седой сморчок, мелко примостившийся рядом с ней на пушистую накидку дивана. Он, поёрзывая от нетерпения, придвинулся почти вплотную. Доктор, видно, был уверен, что если кто-то пришёл к нему в поисках работы, и этот «кто-то» приезжий, посему особенно нуждается в деньгах, то шансы на успех его, как самца, безумно велики! Ведь зачем приезжают в Грецию? Чтоб заработать деньги! Они так и говорят: «лефта!». Стало быть, какая бабе разница – как она её заработает?
Что бы ни произошло, хотя ничего не могло произойти, Адель и дедушка были в совершенно разных весовых категориях, но она бы ни за что на свете не смогла бы рассказать об этом Лёше!
– А зачем ты туда пошла?! – кричал бы он. Он бы ни за что не смог простить и забыть то, что произошло, он бы её бросил.
«Почти как в своё время мама с папой… – с тоской думала Аделаида, – и они бы меня из дому выгнали за то, что я опозорила их «семью», – она вдруг совершенно некстати вспомнила, как впервые поцеловалась с Лёшкой и потом страдала весь инкубационный период, что заболела сифилисом, и что скоро это «ожерелье Венеры» на шее станет заметно невооружённым глазом, и она уйдёт из дому навсегда, оставив маме с папой записку. И будет спать, как бродячая кошка, на крышке канализационного люка, мама умрёт от «душевных мучений», а папа, как говорит мама – через неделю женится на другой! Стало очень грустно.
С замужеством, оказывается, ничего не меняется. Это очень похоже на закон сохранения вещества, открытый в своё время великим Ломоносовым: «Количество вещества, вступающего в химическую реакцию, неизменно. Если где в одном месте вещества убавится, то в другом непременно присовокупится». Вот и мамы с папой «поубавилось», зато Алексея «присовокупилось». А результат один – никто не «простит», никто не «поймёт», не пожалеет, не защитит, не выручит, не спасёт, не поможет пережить. Не… не… не… везде одни «не»… Замужество, как оказалось, не отменяет никаких законов и не создаёт новых. Всё осталось на своих метах. И наоборот – там, в Городе, казалось, что Лёша совсем не такой как все. Одно только то, что он её провожал, потом по дороге поцеловал, потом этот Новый год на «спасалке» с милицией, а он как порядочный человек на ней женился! Он ведь не бросил её, не сказал, что она – «испорченная и гулящая». Женился при том, что этого никто из его родственников не хотел! У него до сих пор проблемы с братом.
Успокаивало, что Адель намного выше и толще деда. Она даже испугалась – не придавить бы его во время бурных объяснений… Он сел ещё ближе и нежно взял в ладони её руку, всем своим видом демонстрируя, что вообще не собирается её отпускать.
– А сколько тебе лет, пышечка моя? – Сморчок как бы в шутку попытался пощекотать Адельке то место, где обычно бывают рёбра. Он явно воспылал страстными чувствами с первого взгляда и, видимо, надеялся возбудить в ней ответные.
– Чаровница моя! – Взвизгнул он с придыханьем. – Тебя мне послал Бог! Послал и освятил твою дорогу!
«Красиво говорит, зараза! – её стало занимать странное приключение. – У нас ни в Городе, ни в Большом Городе никто так не говорит! Только по телевизору…»
– …не говори мне «нет!» Ведь этим ты убьёшь меня!
«Нифига себе! Это он так легко убивается? День назад он вообще не подозревал о моём существовании».
– …ты не знаешь, что теряешь!
«Вот это самонадеянность! Это что ж тогда он в молодости выделывал, если сейчас Цицерон около него отдыхает?!»
– …мы будем с тобой вместе! Всегда вместе! И в горе и в радости! И на работе и после! И отдыхать поедем…
Он почти уселся к ней на колени. Адель пыталась вылезти из-под него, но и обижать не хотелось, и легко можно было травмировать.
Ему явно мешал съёмный нижний протез. От избытка чувств он гулял по всему рту, то и дело стукаясь об верхние, тоже протезные зубы. Он взахлёб расписывал все прелести совместной работы и быта. Быт, к слову говоря, тоже располагался на работе, ибо дома у него был «другой быт» в лице старушки жены и четырёх внуков, которых им постоянно подсовывали. Когда он раздул ноздри, зажмурив глаза, в экстазе со свистом взвыл: «Кардула му-у-у-у-у!» (сердечко моё!) – Адель не выдержала. Это впечатляло гораздо больше, чем два баллона из-под абрикосового варенья, под завязку наполненные зубами в формалине.
– Эфи! Эфи! – Оглушительно заорала она, задрыгав ногами и показывая пальцем в окно.
Дед отскочил так, как если б ему было не сто лет, а десять. Он пожелтел ещё больше, и Адель страшно испугалась, что на самом деле убила его. Он, плотно прилепив нос к стеклу, стал пристально вглядываться в прохожих на улице.
Аделька, чуть не заржав, проворно встала, поправила кофту на груди.
– Почему «Эфи»?! – доктор в полнейшем недоумении выпятил вперёд тощую нижнюю губку: – Мою супругу зовут Мария!
– Вот и передайте ей пламенный привет от героев-челюскинцев!
Это совсем неопасное приключение её очень развеселило. Не, всё-таки дед очень умело гладил ей ручку… Мда-а-а… И говорить умеет складно… Только при чём здесь разговоры?! Её Лёшечка самый красивый, самый вкусный на свете Пушистик!
От мысли о Лёше ей стало ужасно стыдно и щекотно. «Ой, да и ладно! – решила она. – Просто интересно, и всё! Я ж ничего плохого не делала? И не собираюсь!»
Алексея дома не оказалось. На столе лежала записка: «Я пошёл по делам. Мне надо с одним человеком серьёзно поговорить. Приду поздно». И всё. Ни «здрасте!» тебе, ни «до свиданья»! «Вот трудно было написать: „Целую тебя, моя Крыся!“ – досада неприятной волной захлестнула горло. – Ничего ж не стоит? А дедок, небось, своей Марии с четырьмя внуками до сих пор так пишет!».
Глава 5
В Салониках утро начиналось с солнца. Оно было везде, лезло во все окна, щели и просто лезло в дом жить. Солнце было даже в тени. Солнце отражалось от белых зданий и поэтому появлялось в небе задолго до своего восхода. Всё вокруг было праздничным, каждый прохожий на улице, с удовольствием идущий по своим делам, каждая маленькая лавка, хозяин которой громко распахивал двери, дескать:
– Утро пришло! Я готов вас обслужить!
В лавках «записывались» в большую потрёпанную тетрадь соседи, которые брали в долг.
Весёлые цыгане разъезжали по кривеньким улочкам на маленьком грузовичке, под завязку набитым белыми пластмассовыми стульями. У цыган из окон торчали гортензии и две-три детские головки, немытые, лохматые, и с большими бубликами в белых зубах.
– Тесерис кареклес пенте хилиарес! – цыгане пели в микрофон с такой душой, словно не предлагали за пять тысяч драхм преобрести пять пласмассовых стульев, а как минимум приглашали всех вокруг в увлекательное путешествие. Цыгане водили по улицам медведей, били в бубны, и медведи танцевали.
Как хорошо, что Адель гречанка и приехала в эту горячую страну с голубыми деревянными ставнями и живыми изгородями. А если б она была норвежкой? Ой… там сильно холодно, наверное…
Солнце, запах свежесваренного кофе прямо на улице, привкус моря на губах. Счастье вот оно! Такое простое и такое бесценное!
Но Город не хотел отпускать Аделаиду, держал её в своих крепких объятиях. Адель совсем не хотела, но когда было много свободного времени, в голове мысли сами возвращались в прошлое, например, когда она готовила дома обед, или убирала квартиру. Да и на работе было много свободного времени. Моешь себе пол молча, и мой!
В Городе продолжали происходить очень странные вещи. Как если б кто-то невидимый колдовал. Всё это напоминало, прочитанные в детстве, рассказы про маёвки, про смелых революционеров, про городовых, про «царскую охранку», про полицаев, про подпольные типографии, про выступления «товарищей», про «красные полотна», на которых «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Казалось, в самом воздухе Города распылили странный аэрозоль, и сам Город стал пахнуть по-другому.
Так и не дозвонившись в поликлинику, чтоб отпроситься с работы, Адель вся грязная пошла домой. Единственное, чего ей сейчас хотелось, это чтоб Лёша был рядом. С заграничными паспортами, без паспортов – это уже роли не играло. Если б ей предложили ещё хоть один день побыть без него, но утрясти все дела и с визами, и с обменом денег и в целом привести в порядок всё, что касалось переезда, она бы ни за что не согласилась! Терпелка сломалась. Адель до судорог, до тошноты хотелось его увидеть. Поговорить с ним, услышать, что всё будет нормально; что это происшествие на улице – чей-то дурацкий розыгрыш; что мамины «тра-ля-ли» у неё вот-вот начнутся; и в целом – всё происходящее на глазах не имеет никакого значения, потому что это было и уже прошло, и тем более они вот-вот уедут навсегда.
А если «тра-ля-лей» не будет?! Вдруг, несмотря ни на что, она в залёте?! Что тогда делать?! Ехать в Грецию беременной и рожать там? Это сперва по ухабам до автобусной остановки, откуда идёт автобус Большой Город-Салоники-Афины? Потом трое суток в тесном автобусе на узком сиденье несчастного красного «Икаруса», где не открываются окна, а вентиляция не работала никогда, где нет туалета, где невозможно ни прилечь, ни привстать? Приехать в чужой город, снять квартиру, а потом? Что будет с учёбой? Как потом с ребёнком поступать в университет? Ведь должен же за ним кто-то смотреть! Надо работать, платить за квартиру, коммунальные услуги… жить надо… Никогда в жизни я не позволю больше маме канифолить мне мозги, тем более, доказывать мне, что она – великий педиатр, а я – дура! Вон, у неё есть папа, Сёма, Аллочка с овчаркой Маркизой. Живут они пока все вместе, пока Сёма квартиру не разменял на неравноценную жилплощадь, пусть она хоть Аллочку клизмит, хоть Маркизу, хоть обеих. А если остаться здесь? Это ещё страшнее! Свет уже давно стали давать только на несколько часов в сутки. Воду только по утрам. И как это будет выглядеть: гора нестиранных пелёнок в углу, укаканный ребёнок?.. А если у меня возникнут осложнения во время беременности, или меня придётся оперировать? Мне дадут общий наркоз, разрежут – и тут отключат электричество?! Я выйду из наркоза, и из живота торчат мои кишки?! Ещё ужасней, если ребёнок родится недоношенным, его поместят в инкубатор, и вот тогда отключат свет! И он будет медленно задыхаться и синеть, синеть… сперва будет беспорядочно дёргать ручками и ножками… потом движения станут медленными… потом прекратятся вообще… И он станет таким, как был тот другой много лет назад, в лесополосе, где его бросила мать, и никто со двора не хотел закапывать. Его не будет – этого ребёнка! Не будет никогда, потому что в Большом Городе люди добиваются любви каких-то заморских «американцев», советуют русскоязычным «убираться восвояси, хотят отмены всего русского, хотят «до основания всё разрушить, а затем»!.. Но ведь они знают, что означают слова «до основания»! Было уже это «до основания»! «До основания» означает до руин, до раздробленных черепов, которые бессмысленно даже везти в больницу, потому что нет ни перевязочных материалов, ни воды, ни электричества! Как та беременная могла пойти среди ночи на ту площадь, где, как говорили на улице, жгли костры, голодали… Хотя, если верить другим, ночью этим голодающим подвозили горячие шашлыки и ещё много разных вещей. Впереди всех и шли и сидели в основном старые девы, отряд «Чёрные колготки», прижимающие к груди и поминутно лобызающие портрет «вождя», претендующего на «престол».
До вечера было очень далеко. Адель, поставив перед собой на табуретку будильник, прямо в туфлях легла на диван. Она старалась больше ни о чём не думать, ничего не вспоминать. Дурацкие мысли и так её занесли, куда не надо. Зачем что-то делать? Вот через несколько часов она поедет в аэропорт встречать Лёсика. Она прижмётся к нему, пригреется и, возможно, многое ему расскажет, и как скучала по нём, расскажет, и про сегодняшних «шизаков».
…Она проснулась от того, что затекла рука. Оказывается, она лежала на боку, придавив руку своим весом, по ней побежали мурашки, а во сне снилось, что ошпарилась кипятком!
На часах было около семи. В принципе, уже можно собираться.
Адель страшно обрадовалась, что заснула, и поэтому время пробежало незаметно. Хотя странно всё это. Раньше она такой сонливости за собой не замечала. А тут и проснулась поздно, и снова спать завалились. «Наверное, весенний авитаминоз! – подумала она. – Хоть бы уж скорей фрукточки начались, овощи… Уже есть огурцы, но так дорого!». При мысли о длинных, как колбаса, парниковых огурцах у неё слюна чуть не вытекла из угла рта. «Да, чёрт возьми! – разозлилась Аделька. – Все мысли только о еде! Когда же это закончится?! Что за аппетит такой бешеный?!» Закинув в сумочку деньги и ключи от квартиры, она, не запирая, просто захлопнула за собой дверь.
Около домов стояли пожилые небрежно причёсанные женщины с маленькими детьми. Мужчины сидели в скверике вдоль дороги на лавочках, поставленными в виде буквы «П». Они спорили, между собой, что-то доказывали, но как-то устало, без утреннего энтузиазма, как если б только что вернулись с ночной смены.
Автобусная остановка была пуста. Адель очень удивились. Ну, вообще-то мало ли – может автобус только что прошёл и все уехали. Однако, с другой стороны – не могли же все ждать один и тот же автобус! Всё это было очень странно. Лёгкая тревога закралась в сердце. Умом-то она понимала, что всё это ей только кажется, что это только последствия утреннего дурацкого приключения, только всё равно настроение портилось. Тревога медленно вползала в душу. Она облокотилась об стойку навеса, потому что сесть всё равно было невозможно. От лавочки в первый же день, как её поставили, остался только металлический скелет. Ждать пришлось долго. К остановке никто так и не подошёл. «Но так же можно и на аэропортовский автобус опоздать! – забеспокоилась Аделаида. – Что за смысл потом ехать? Может, взять такси?». Она огляделась в поисках зелёного огонька свободной машины, и только тут поняла, что на улице нет не только автобусов, но и вообще мимо не проехала ни одна машина! А она-то ломала голову – почему у неё мысли о параде, о Первом мая? Всего лишь потому, что именно на Первое мая, когда готовили проспект к проходу колонн, его перекрывали, и ни одна машина не могла проехать через милицейский заслон!
– Эй! Девушка! – Адель оглянулась. Женщины со двора, откуда видна была остановка, видно, всё-таки её зажалев, решили отослать к ней гонца с ребёнком на руках. Тётка шла в её сторону, меся незаасфальтированную часть дороги мужниными туфлями. Ребёнок в её руках извивался, требуя опустить его на землю. Женщина всё время его подхватывала подмышки, а то бы он так и просочился сквозь её руки вниз. – Афтобус ниэт! – Женщина недвусмысленно качала головой в подтверждение своих слов.
– Ти здэс не живиот? (Ты не здешняя?) – она, наконец, поставила на землю то ли девочку, то ли мальчика в серой куртке.
– Нет! – решила соврать Аделаида и изобразить приезжую.
– Севодня автобус ниэт! Завтра тожи ниэт! Полезавтра тоже… Вчера бил ваина в Балшой Город. Многа люди убили русские. Автобус ниэт, такси ниэт, свая машини тоже ниэт! Горэ, панимаэш, горэ! Никто нэ работаэт, бели цвет не адэваэт. Тока чёрни. Иди дамой. Иди дамой и лежи! Камендацкий час знаиш? Ночу двенацит часов на улица нельзя – милиция заберёт, или ваени камендатура заберёт!
– Какая «военная комендатура»?
– Нови камендатура! Всех автамат ест, аружие! (Новая комендатура. У всех есть оружие, автоматы.)
Напоминание об автомате произвело очень отрезвляющее впечатление. За долю секунды Адель вспомнила, как утром пахла земля под её носом, и как со ствола дерева посыпалась сбитая кора… Значит – всё именно так, как она себе «насочиняла», перед тем как заснуть! Но тогда ведь это катастрофа!.. Вдруг тогда вообще закроют границы, и они с Лёшей не смогут выехать никуда вообще?! Если объявлено военное положение, то… Можно подумать, что я имею хоть какое-то понятие о военном положении! И что будет с Лёшей?! Ему что, поселиться теперь в аэропорту?! Тогда я во что бы то ни стало должна попасть в аэропорт, и если даже нас оттуда не выпустят, по крайней мере быть с ним! Картина – Лёшечка, её Лёшечка сидит на заплёванном полу переполненного людьми аэропорта – чуть не лишила её рассудка. Адель готова была идти пешком по трассе все тридцать километров, лишь бы он не остался один! И она с ним сядет на пол, и она с ним будет с голоду умирать прямо там, в аэропорту.
Она заметила удаляющуюся спину женщины с ребёнком на руках, когда та уже почти подошла вплотную к товаркам. «Ну, что ж! – решила Адель. – Идти, так идти! Может хоть аэропортовский автобус работает?»
Отъезжающему аэропортовскому автобусу она кинулась наперерез. Водитель открыл дверь, чтоб обложить её матом. Она тут же в неё и заскочила, глупо улыбаясь и внимая мату, как Шестой симфонии Шостаковича.
Аэропорт казался ещё темнее и меньше, чем обычно. Людей в нём почти не было. Казалось, не успевает самолёт приземлиться, как они с бешеной скоростью, кто пеший, кто на чём разбегаются из аэропорта, лишь бы их не застал придуманный местными дебилами для развлечения «комендантский час».
Адель успела. Успела потому, что самолёт из Москвы пока не прилетел.
– Скока задэржица – нэ знаю! – Девушка с затянутыми в узел волосами была неумолима. – Пасадили на Минводи па техническим причинам!
У самолёта, в котором летит Лёша, техническая неисправность?!
Неужели сегодняшний день никогда не закончится? Закончится… в двенадцать ночи… комендантским часом…
Адель поднялась на второй этаж. Отсюда хорошо была видна ярко освещённая взлётно-посадочная полоса. И каждую минуту в небе появлялся новый, заходящий на посадку борт. Его не объявляли. Справочная молчала. Самолёты с рёвом садились один за другим, а из проходной почему-то никто не выходил, и людей в терминале всё не прибавлялось. Казалось, все самолёты что-то везут в Большой Город, сгружают и сгружают. И это «что-то» накапливается где-то совсем рядом. С освещённых мёртвым лунным светом гор текла густая, жирная, всё нарастающая тревога. Здание аэропорта стало похоже на небольшую цитадель, вокруг которой вот-вот должно начаться что-то страшное.
Она чувствовала, что её трясёт. И эта скрючивающая пальцы дрожь шла изнутри, из сердца, из лёгких. Она сжимала горло и делала ватными ноги. Кончики пальцев стало покалывать. Воздух больше не желал попадать в бронхи. Он входил в раздувающиеся ноздри, но тут же, не отдав кислорода, выходил обратно. Она знала: сейчас начнётся приступ. Сейчас в горле останется малюсенькая щель, через которую с хрипом попытаются прорваться молекулы живительного газа! Ещё несколько секунд… ещё несколько секунд – и перед глазами начнёт всё расплываться…
– В аэропорт прибыл рейс 445 Москва – Большой Город!
Всё как в добрые старые времена! Как будто ничего и не было! Прибыли!
Адель заметалась по терминалу. Какой выход искать? Где ждать? Никто не отвечал на вопросы…
На стоянке такси под битыми фонарями она краешком глаза заметила несколько припаркованных автомобилей. «Значит, ещё не всё потеряно! – радость обдала её кипятком. – Значит – если мы успеем выйти чуть раньше двенадцати, то вполне сможем попасть домой?! Хоть бы скорей! Хоть бы скорей он получил свой багаж!» Адель была уверена, что презентабельный стройняшка Лёша-Адвокат не захочет портить свой внешний вид саквояжем и сдаст его в багаж. «Лёсик! Лёсик, миленький, только не начинай курить по выходу из автобуса! Потом покуришь! Хватай свои вещи и на выход!» Ей казалось, что таким образом она сможет передать ему мысли на расстоянии, потому что он же ей передавал свои, когда заезжал ночью во двор. Такая духовная связь может быть только между очень любящими людьми. Она чувствует его. Значит, он чувствует её. Только бы побыстрее… только бы побыстрее он вышел! Ах, вот он – тонкий ручеёк странно молчаливых приезжих. Встречающие как-то суетливо обнимаются, выхватывают у них вещи и быстрым шагом направляются к выходу. Лёсик, Лёсик… ну где же ты?! Уже полсамолёта вышло!
Лёшу она увидела внезапно. Просто она его не сразу узнала в длинном белом плаще. В нём он казался ещё выше и стройнее. «Принц Гамлет! – Адель от восхищения на секунду замерла. – А это что за мужик с ним рядом?!» Она не сразу узнала его брата. Брат, казалось, постарел лет на двадцать и как-то усох. Адель даже стало жалко его. Во всяком случае – это был совсем не тот человек, которого она когда-то видела. Тот был статным и с уверенными движениями, этот – сутулым и судорожным. Он держал в руке Лёшкин саквояж, что-то нервно говорил ему, поминутно оглядывался на него и жестикулировал свободной рукой. Лицо Лёши было серьёзно и сосредоточенно. Они направлялись к выходу. «Это всё-таки брат! – решила Адель. – Странно: как он сюда попал? Его смена на такси, что ли? Нет, тогда бы он не входил в зал ожидания, а стоял бы с другими водителями на стоянке. Значит – Лёшка и его предупредил? Брат, естественно, не посчитал нужным сообщать ей, что тоже поедет в аэропорт. Это понятно! Они ведь до сих пор считают, что Лёша неженатый. Бог с ними со всеми! Но, когда объявили «комендантский час», «настоящую революцию» и «смену власти», неужели нельзя было просто по-человечески с ней поговорить?! Ведь даже в «Маугли» Киплинга, когда «шла большая засуха», звери объявляли «перемирие»!
«Сейчас они уедут, и ты останешься в ужасном аэропорту вместе со своим перемирием!» – внутренний голос, так давно её не посещавший, вернулся и щёлкнул Аделаиду по лбу. Брат уже сел за руль, Лёша подбирал полу длинного плаща.
«Зачем ему такой плащ в нашем Городе без асфальта, где от заводских смогов даже на лавочку присесть невозможно! Он же станет чёрным в две секунды!..»
– Лёша! – Адель подскочила прямо к двери, за которой мелькнул белый плащ, и вцепилась в ручку двери.
– Ты что тут делаешь? – Лёша был очень удивлён и почти разочарован.
– Как «что»?! Тебя встречаю! – она растерялась.
Что ему сказать? Как считала минуты до его приезда?! Как мечтала повиснуть на нём, обнять… Как хотелось зарыться к нему в грудь и больше ничего не слышать и не видеть, ни о чём не думать, только чувствовать успокаивающее тепло его сильного тела…
– Это с твоей стороны очень глупо! – Алексей отчитывал её как дебильную истеричку. – Разве ты не знаешь, что в Республике происходит, а ты шастаешь по улицам! Сидела бы дома! Меня вот брат бы встретил и довёз!
«Брат»! Всегда и везде этот брат… Всё, что Лёша делает, он примеряет на слово «брат». Чтоб «брат не подумал», что он «малолитражка», то есть не умеет пить тазиками вино и приходит с семейных праздников такой, что Адель потом его алкогольные отравления неделями лечит настоями трав и примочками. «Брат сказал, что из-за тебя он мне больше никогда племянников не покажет». Тогда Адель засмеялась и сказала, что уже своих пора заводить. А Лёша ответил, что «никогда никого он не сможет полюбить так, как детей брата, потому что больше той любви не бывает». Адель удивилась. Вот и сейчас, если б не брат, Лёшик бы и обнял её и поцеловал, и очень обрадовался, что она его встречает. Пожурил бы для близиру, что «опасно», «не стоило этого делать», а сам бы очень обрадовался. И даже, если б они не смогли уехать из аэропорта, то ждали бы утра вместе, обнявшись на лавочке, или прямо на каменном полу. Им вдвоём было бы очень тепло. Зато теперь «брат»! Лёша даже не потрудился выйти из машины, чтоб поцеловать меня! Обидно… до слёз обидно… больно…
Адель уже страшно жалела, что приехал брат и они успеют выехать из аэропорта до начала комендантского часа. Ей было так больно, что даже возможность попасть домой без приключений совершенно не обрадовала её.
– Лёш! – отпустивший было спазм опять предательски начал сжимать трахею.
– Слушай! – грубый окрик испугал даже спазм. – Ты или садис, или атпусти двер! Ещо двеннадцат минут и останешся в аэропорту!
Секундное промедление – и Адель оказалась на заднем сиденье жёлтой «Таз-24» с шашечками на дверях.
Братья всю дорогу говорили между собой, как если б её в машине вообще не было. Лёша не спросил ни как у неё дела, ничего вообще. Брат… а что брат?.. Он и раньше не спрашивал… Он и так делает одолжение, везу тебя и радуйся.
Она представляла, как бы было чудесно, если б Лёсик сидел бы с ней на заднем сиденье! Так можно было б ехать обратно до Москвы и ещё раз обратно!
За окнами темень тьмущая. Вдоль трассы не горит ни одни фонарь. Лучше закрыть глаза и расслабиться. Сделать вид, что сидишь в купе поезда. Ох, как она любит ехать в поезде куда-нибудь! Как она, когда была маленькой, прислушивалась к лязгу вагонов на перегоне. Это было так уютно! Мама её и Сёмку клала спать в девять вечера, когда у других детей какая-нибудь крутая игра была в самом разгаре, и они визжали и прыгали под самыми их окнами. Тогда Адель, чтоб не умереть от зависти, старалась не обращать на них внимание. Она прислушивалась к далёким-далёким звукам и представляла, что это она сама едет в поезде. Вагончик раскачивается. Сперва смотришь в окно, потом окно на тебя, потому что становится темно и окно отражает, как зеркало. Потом глаза закрываются… Поезд – это всегда перемена, новое место, новые люди, новые знакомства. Интересно… Перемена – это всегда к лучшему, к худшему не может быть никогда!..
Визг тормозов она услышала потом. Сперва больно ударилась о переднее сиденье, а звук как-то застрял в ушах и дошёл до сознания не сразу.
Адель, несмотря на то, что видела его только на картинке, узнала сразу. На самом деле он оказался ещё страшнее, чем в фильмах про войну. Чёрная, как смола, пустынная степь вдоль трассы. И в свете тоскливой, мрачной луны очертания чего-то огромного с дулом, похожее на стоящий на обочине танк. Эта неуклюжая громадина всем телом дёрнулась, качнулась назад, и медленно, вдавливая гусеницы в асфальт, поползла вперёд.
– Газу! Братуха, газу! – Адель никогда не слышала, чтоб Лёша так орал! – Они сейчас перекроют трассу и мы не сможем проехать!
Лёша схватился левой рукой за руль и ударил брата по колену, пытаясь достать до педалей. Послышался треск разрываемой ткани. Это он запутался в плаще и рванул его с себя.
– Ещё, ещё! – Лёша что есть силы ударил в крышу кулаком.
Жёлтая «Волга» с чёрными шашечками рванула вперёд, наперерез танку.
Адель как в детстве закусила кожу на костяшках пальцев, вся сжалась и закрыла глаза. Она почти сползла с сиденья на пол. Это было так отвратительно!
– Проскочили! Проскочили! – Леша уже включил маленькую лампочку между водителем и передним пассажиром и рассматривал испорченный плащ. – Вот видишь, – обернулся он к Адель, – ты бы ещё немного побеседовала в аэропорту, точно бы не успели!
Она обернулась.
Танк, дойдя до середины дороги, остановился, перекрывая движение в аэропорт и обратно.
Новенькие паспорта в полиэтиленовой обложке оказались такими хорошенькими! На них стоял крест и было написано «Элленики димократия». Как всё таки интересно ощущать себя гражданином другой страны! Вот все вы тут, а мы уже там! И она вместе с Лёшиком будут ехать в одном купе поезда, и вместе смотреть в окно, и болтать, и смеяться, и строить планы. Дорога долгая, наболтаться можно на год вперёд. Пересадка в Скопье тоже интересно!
Неужели сегодняшний день, наконец, закончился, и с ним ушли все ужасы и страхи? Жалко только, что с Лёшей поговорить так нормально и не удалось. То он оставил вещи и пошёл к брату, а она сидела и тряслась – не поймает ли его на улице патруль? Потом пришёл, выпил чаю и, сказав, что «замотался», пошёл спать. Он был расстроен, очень расстроен, и выглядел очень уставшим. Скорее всего, братова семья опять проводила культурно-воспитательные мероприятия. Зачем они это делают?! Зная, что у него заграничные паспорта в кармане, зачем они это делают?! Неужели они не понимают, что ставя ему такие ультиматумы «или все мы, или одна она» и «больше детей не увидишь!» они делают ему больно?! Он же за рулём! Он же может в расстроенных чувствах задуматься, совершить аварию, сбить кого-нибудь. Что будет потом?! Или они решили всеми правдами и неправдами его вернуть обратно и считают, что даже в тюрьме ему будет лучше чем с ней, с Аделаидой?! И что она им такого сделала, если даже страшнее тюрьмы?!
Адель думала, что именно сегодня от всех этих стрессов не успеет добрести до подушки и завалится спать где-нибудь по дороге. До дивана она тем не менее добрела, и под бочок спящему Алексею подлегла. Взяла его тяжеленную руку и положила на себя. Как если б они спали «спинка к грудке» и он бы её обнял. Но, вопреки ожидаемому, спать не хотелось. Точнее, очень хотелось, тело практически спало. Движения были ватными и небрежными. Зато мозг никак не желал отключаться. Один его участок. Он работал на полные обороты, и это было страшно мучительно.
Лёшка спал сном младенца, честно получившего пятёрку по чистописанию. Жалко, что не получилось сегодня пообниматься от души! Адель так соскучилась! Он, скорее всего, тоже, но когда такие нервы… Мужчины – они же вообще больше подвержены стрессам. Они более восприимчивые, более чувствительные, более уязвимы, чем женщины. Любопытно, когда они переедут жить в Салоники, они смогут найти Владимира Ивановича? Просто, надо же человеку спасибо сказать. Всё-таки приглашение прислал, старался… Ну, и вообще поговорить за жизнь. Лёшу с ним познакомить. Он, может, посоветует что-нибудь. Всё-таки у них никого нет в Греции, ни родственников, ни знакомых. Папа и мама так и говорили всегда:
– У нас никого нет! И у тебя никого нет! Только Сёма. Мы умрём, останетесь вы вдвоём на всём белом свете!
Ну, почему «никого нет»?! Вот у Семёна есть Аллочка и её Маркиза. Для него самые главные на свете – это они. У Адель есть Алёшка – Леший – Адвокат. Значит, она тоже совсем не одна. Вот приедут они в грецию, познакомятся с новыми людьми. Они, наверное, мало будут похожи на жителей Города. Всё-таки Греция, как ей объясняли – колыбель демократии. В глянцевом журнале у Манолиса, Лёшкиного соседа, который уже побывал в Греции, какие девицы были! И голые, и одетые, какие хочешь. Как амазонки! И волосы у них шикарные! Прямо гривы, как у лошадей. И кремы всякие для похудания рекламировали. Вот была такая большая попа, и вот она стала маленькая. Чудо! Я тоже обмажусь именно таким и стану как амазонка. Отпущу себе волосы, покрашусь в блондинку…
Представляя себя блондинкой, Адель чуть не рассмеялась в голос. Она взяла со стола паспорт, открыла на своей фотографии и снова представила – блондинка! Умора! Лёшка точно в обморок упадёт. Сразу ревновать начнёт. Он ни за что не согласится, он вообще не любит, когда Адель на себе что-то меняет. Даже когда просто стрижку меняет, или вещь новую надевает. Он говорит, что не любит, когда человек меняется, тем более, его жена. «Я – консерватор! – шутит он. – Не надо со мной экспериментировать! Я сержусь…»
Ну, вот! Спать теперь совсем расхотелось.
Её опять начало знобить, даже Лёшкина горячая рука на боку уже не помогала. Вот если выпить чаю, стало бы намного теплее. Так это ж надо сперва встать! Вставать ещё холоднее! Потом пойти на кухню. Света явно опять нет. Надо идти в темноте. Лёшка раскидал по квартире вещи, саквояж где-то болтается… не наступить бы… У Лёшки, скорее всего, в кармане куртки есть зажигалка. Где она, эта куртка? Не, эта тёплая, которую он с собой возил, с меховым воротником. Ах, да… он же его прямо на спинку стула около кровати и повесил, чтоб отвиселась. Приехал-то он в плаще!
Тут она увидела полоску света, выбивающуюся из-под двери в ванную комнату. Это Лёшка опять по привычке щёлкал выключателем, когда света не было. Значит – всё равно надо вставать, чтоб выключить свет. И зажигалка всё-таки нужна, потому что спички, оказывается, кончились. Надо приоткрыть дверь из туалета, чтоб Лёшку не разбудить и… Вот куртка… вот карман… так, тут нет, тут… а что это тут? Какие-то пакетики… одноразовый чай, что ли? Внутри что-то скользкое и бегает… Ничего себе! Что бы это могло быть? Купил и не показал. Вот вреднюга! Похоже на продолговатую жвачку… только толще… Так… что это? Тут ещё и написано: «Презерватив в смазке. Проверенно электроникой». А, вот и зажигалка.
Глава 6
Аделаида в тот день чуть не потерялась в Салониках. Заехала куда-то не туда, свернула не на ту улицу. Так и не мудрено! Здесь все улицы похожи друг на друга. Все витрины одинаковые. Когда она уже выбилась из сил от жутких поисков, обернулась и увидела, что стоит спиной к своему дому.
Ночью долго не могла заснуть. И по чёрно-белому телевизору, подаренному щедрой соседской рукой, ничего не было, и переволновалась от баллонов с удалёнными зубами у того стоматолога, и от жёлтого деда, хватавшегося за руки и лезшего целоваться. Чисто как в «Двенадцати стульях» пьяный Киса Воробьянинов мацал клешнями красивую Лизу в исполнении Натальи Варлей! Адель крутилась на своём матрасе, лежащем прямо на полу. И ей впервые на нём было так жёстко. Лёшки всё не было и не было.
Он пришёл под утро, в очень хорошем настроении и явно под градусом.
– Ты чего не спишь? – он щёлкнул её по носу. – У меня хорошие новости! Мне предложили шикарную работу! В нашей жизни всё может измениться! Всё пойдёт по-новому!
– Да, ладно! – Адель и не думала обижаться, что Лёша опоздал. Записку-то ведь оставил! Что за такую хорошую новость он принёс, а?
Она села, прислонив к стене подушку.
– Я есть хочу – умираю! Целую ночь в баре сидели, договаривались. В этих барах ничего нет, кроме чипсов и дурацких орешков на блюдечке…
– …с золотой каёмочкой?!
– Нет! С бордовой салфеточкой! – Алексей беззаботно рассмеялся, как раньше, и обнял её. – Что есть пожевать?
– Всё! – Адель с гордостью сползла с матраса, потому что действительно наготовила «всё». Так вышло, очень удачно – ехала из центра, а там большой базар, где всё оказалось в три раза дешевле, чем в супермаркете. Вот она на радостях и накупила, и наготовила! Она суетилась на кухне, теряясь между котлетами с пюрешкой и мусакой.
– Один мой друг открыл туристическое агентство, – Лёшка сидел, закинув ногу на ногу, вальяжно развалившись на деревянной табуретке, с лицом человека, принявшего главное решение в своей жизни, – и приглашает меня поработать сопровождающим!
– Лёё-ё-ши-и-и-к! – Адель аж завизжала от радости и тут же обожглась об горячую сковороду. – Как здорово! Мне каждый твой поход на работу на эту стройку – как вилы! Когда ты домой приходишь усталый такой, бледный. Ой, Лёшка… это прямо невозможно на тебя смотреть! Мне всё время плакать хотелось! Неужели нам так повезло?! Ты знаешь, я сегодня тоже ходила устраиваться на другую… – начала было она, но вовремя осеклась. Зачём Лёше рассказывать про деда? Ему будет неприятно.
Лёшка с удовольствием жевал котлетки с подливой и рассказывал о новом турагентстве.
– Как ты там будешь работать? – Адель даже не заметила, что на пальце надувается пузырь. Она никак не могла оправиться от счастья, свалившегося на них в одночасье. – Ты ж по-гречески так себе…
– Так мне и не надо! Вот в чём большое везенье – мне греческого не надо! Я ж русских туристов должен сопровождать! Точнее, русскоязычных, из СССР. Понимаешь?!
– А-а-а-а!!! – Аделька с визгом кинулась Алексею на шею. – Класс! Класс! Ничего, немного поработаешь, время протянем, а тут уже и наши документы сделаются, чтоб можно было подавать заявление в университет!
– Ты знаешь… – Лёша осторожно, но настойчиво отстранил её, – постой! Видишь же – я кушаю! – Он ручкой вилки почесал себе затылок. – Если работа пойдёт нормально, люди будут приезжать, ну, и так далее, зачем мне этот университет вообще? Главное что? Найти свою нишу в жизни, хорошо зарабатывать и жить нормально. Это у нас все были помешаны на высшем образовании, а здесь оно никому не нужно!
– Как это «зачем»? – чайник начал свистеть, но Адель его не слышала. – Ты же сам хотел стать юристом. Работать адвокатом.
– Ты ещё скажи, что меня в Городе ждут бывшие друзья, Мужик там, ещё кто. Что я обманул их надежды и так далее. Плевать я на них хотел, я никогда преступников защищать не собирался. Всё это давно прошло, понимаешь? Здесь новая жизнь, жизнь с нуля!
– А как же я?
– В смысле, что «ты»?
– Я ведь хочу поступить на медицинский факультет! Я только и думаю о том, как стану студенткой! Жить и знать, что твой удел навсегда – это уборщица – невозможно!
«За бортом»! «За бортом»! Как мама мне говорила? «За бортом»! Неужели мама знала всё наперёд? Или она сглазила сама?!
– Адель! При чём здесь ты?! Конечно же, ты будешь поступать, даже обязана поступать! Ты умница! Поступишь, окончишь, будешь работать врачом. При чём тут мой факультет?!
– Лёшик, миленький! Ты забыл, как мы с тобой собирались вместе учиться, вместе ездить в университет, вместе заниматься?! Ты сам говорил, как только с бумажками разберёмся, так заявление и подадим! Ругался, что Греческое государство так задерживает всё. Теперь передумал?
Лёша отодвинул от себя тарелку с недоеденными котлетами:
– Послушай, – тихо начал он, – я тебе русским языком говорю: поступай, учись где хочешь! Я буду только рад! Но как я могу учиться, если с мая по октябрь буду работать в туризме, а это значит, что в Салониках бывать практически не смогу!
– Ты будешь жить в другом городе?!
– Я буду жить везде! То там, то тут! То в одной гостинице, то в другой! По всей греции. Куда туристов повезу, там и останусь. Разве это не понятно?! Я ж не могу их отвезти в Касторью, оставить и вернуться?! Как ты думаешь?
– Аа-а… а когда у тебя выходные? – Адель чувствовала, как радость предательски покидает её.
– Какие «выходные»?! Ты что, не понимаешь, что в туризме не бывает выходных? Это называется «сезон». Туристы приезжают и в субботы, и в воскресенья, и ночью, и на рассвете! Когда у них загорится, тогда и приезжают! Когда самолёт приземляется. Работникам туризма, то есть мне, отдыхать придётся зимой, с середины октября до конца апреля. Такой график у всех!
– И ты согласился на эту работу?!
– Что ты хочешь сказать, что я, напротив, должен был отказаться и пчёлкой летать по стройкам с ведрами раствора в руках всю жизнь?! Что меня на стройке ожидает?! Прибавка к жалованию? Ты хоть раз вспомнила, что у меня больной позвоночник и я не могу физически работать? Может, мне операцию надо на нём делать?
– Да, но… операция – это последнее дело. Если с позвоночником проблемы, то надо сперва накачать спину, чтоб мышцы его держали…
– Я вижу – сильно умная стала, – Лёша злился уже на полном серьёзе, – вместо того, чтоб обрадоваться за меня, чтоб поздравить, поддержать меня, ты начинаешь нудеть. При чём тут позвоночник? У меня и желудок болит, мне нельзя давать физические нагрузки, и видеть я стал хуже. Ты всего этого не знаешь, я тебе не жалуюсь, не рассказываю, так ты меня и не понимаешь. Что ты после этого за жена, если и не понимаешь и не поддерживаешь своего мужа?
Аделаида смотрела на Лёшу в упор и не могла поверить, что всё это ей говорит её Лёсик. Как это может быть? Значит, он всё это время терпел её непонимание, прощал ей отчуждение от его проблем и никогда этим не попрекал? Он страдал и мучался, но не хотел ей ничего говорить? Почему? Ах, какая я эгоистичная дура. Да потому что очень любил и не хотел расстраивать, потому что щадил и берёг наши отношения. Правильно говорила мама, ты только о себе думаешь и привыкла жить на всём готовом. Точно. Вот может и позвоночник у Лёсика стал болеть именно из-за этих строек, где он для них же зарабатывал деньги как простой чернорабочий, и в дождь, и на жаре.
– …знакомства разные. Сюда же миллионы людей приезжают на отдых. Может, когда-нибудь своё турагентство открою. Да ты слышишь меня, или нет?
Адель от неожиданности вздрогнула.
– Слышу, конечно, – она снова готова была кинуться Лёше на шею от радости, и орать как ненормальная, что не хочет оставаться одной в пустой квартире на полгода, и залезть под стол, плакать там не переставая, и закрыть лицо от стыда, чтоб никто не догадался, какая она нецелеустремлённая хамка и «потребитель», вообразившая себя пупом Земли.
– Ааа… звонить же ты будешь? – она наконец решилась поднять голову. – Будешь мне звонить, когда будешь скучать?
Алексей снова подвинул к себе котлетки:
– Буду, конечно, – он обильно полил остывшие коричневые комочки подливкой, – когда смогу, конечно буду.
Было бы непорядочно не дать человеку шанс осуществить свои мечты о лучшей жизни. Он прав, невозможно жить, понимая, что вся твоя доля, все твои высокие цели – два ведра раствора в руках и пятидесятиградусное солнце, нещадно бьющее тебе в маковку. Конечно, Лёша достоин гораздо большего. Да, мы мечтали о другом, мы мечтали об университете, о том, как ранним утром, ёжась от свежести, будем вместе бежать на занятия, в перерывах есть взятые из дому бутерброды и пить холодный кофе. Получилось же всё совсем по-другому. Но ведь это тоже шанс. Мы же не подписывали договоров, не составляли конрактов наличную жизнь. Может, Алексей прав? Может, именно это его призвание в жизни? Да, он вполне может поработать в туризме, окончить какие-то курсы, стать «профи» и открыть своё турагентство. Туризм – это вообще вечный праздник, вечный подъём, встречи, проводы и снова встречи. Я не должна в него впиваться, как поселковый клещ. Жизнь принадлежит каждому из нас и она не сдаётся в аренду. Он будет делать карьеру в туризме, я, как и собиралась, поступлю на медицинский факультет и буду… ходить на занятия одна? И приходить в пустой дом и снова буду одна? И пить кофе одна?.. Конечно, я заведу себе друзей, они будут новыми, интересными, замечательными, только их нельзя будет ни обнять, ни прижаться всем телом, ни почувствовать, как тебе переливается такое мягкое, живительное тепло, от которого закрываешь глаза и кажется, что весь мир, вся вселенная – это весенний сад с ароматами фруктовых деревьев, в котором бесконечно играет небесная музыка. Её и не слышно, она поёт в каждой твоей клеточке.
Как жить по полгода в ожидании звонка или встречи? Как верить, бесконечно верить, что Лёсик, твой единственный и ненаглядный не видит ни загорелых, жизнерадостных туристок, высыпающихся из автобуса прямо ему в руки, ни хорошеньких официанток в барах, забывших надеть юбки, не видит никого, кто бы мог заменить ему Аделаиду? Как думать только о хорошем, если даже не знаешь, сколько это всё протянется, не видишь ни конца, ни края? Как заснуть, если ты, честно отмыв все туалеты, закрываешь глаза и видишь своего Лёсика, своего пушистка с бархатной кожей и сладким дыханием в объятиях какой-то… И эта тварь к нему прикасается, и он её целует своими мягкими губами? Нет, это невозможно. Это немыслимо, нереально, невозможно, так не бывает. Мой Лёшенька не такой. Что делать? Что делать, так заснуть невозможно! Ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Так жить невозможно. Что может болеть внутри? Это так болит душа? Она так болит, что разрываются все внутренности на кусочки? Она мечется, она стонет, она хочет вырываться наружу. Она сходит с ума. В тёмной квартире без света нависшая свинцовая духота, тишина, режущая уши, как пилорама. А в курортной зоне залитые огнями отели, смех, музыка и звёзды, как бриллиантовая россыпь, опустившаяся над морем. Моря не видно, только слышно его дыхание. На берегу светло, потому что лунная дорожка вовсе не заканчивается у кромки, она выбежала на прохладный песок и устремилась дальше, к отелю. На высоких валунах видны два силуэта. Мужской – высокий и широкоплечий, и женский – как статуэтка с длинными, плывущими по ветру волосами. Он прижимает её к себе крепко и очень осторожно. Им хорошо вдвоём, эта ночь, весь мир лежит у их ног…
А ты им не нужна. Да, моя дорогая, ты им не нужна.
Аделаида чувствует, как по спине снова ползёт предательская капля, лицо заливает жаром. Она вскакивает с кровати. Ингалятор… ингалятор… где? В какой сумке?.. Да вот же он. Успокоилась… успокоилась, я сказала…
Два «пшика» – и можно прилечь на ставшую влажной простыню…
Надо что-то делать… так тут лежать невозможно. Невозможно лежать и думать про «это». Надо ехать на полуостров. Да, машины нет, последний автобус ушёл три часа назад. Но ведь есть попутки, такси. Конечно, это стоит почти месячной Аделаидиной зарплаты, а что делать? Пускай, деньги это бумажки. Это же просто бумажки, за которые мы имеем возможность позволить себе что-то. Она хочет себе позволить увидеть сейчас, сию минуту Лёшечку, своего любимого и замечательного. Пусть он рассердится, что она среди ночи «прискакала» к нему, скажет, что она ненормальная, что это опасно, что если она не думает о себе, хоть о нём бы подумала. Всё это ерунда. Главное, она сможет до него дотронуться, обнять его, прижаться губами.
Одинокую фигуру на трассе, периодически выскакивающую из темноты, водители объезжали, пересекая двойную сплошную. Кто пристально всматривался в неё, силясь понять, не знакомый ли кинулся под колёса, кто крутил пальцем у виска, дескать – ненормальная и лечить тебя некому, по морде бы дать не помешало в качестве профилактики. Такси… такси… такси… такси несётся по пустынной трассе, слава Богу, на крыше светится лампа с надписью «Радио». Ура, это радиотакси, вызванное кем-то в курортную зону. Адель почти кидается под колёса. Всего сорок минут разделяют её с любимым. Каких-то сорок несчастных минут и месячная зарплата. Какая глупость, какая ерунда. Вот уже и яркие огни пятизвёздочного отеля, в котором Лёшка сегодня должен ночевать. Он сегодня звонил и жаловался, как ему плохо, потому что он «ненавидит этот отель», «бунгало на горе» и он «ноги уже сломал бегать вверх-вниз». У них в каждом отеле есть номер для турагентов, в котором девчонки и ребята, дико уставшие от беготни по жаре, ночуют вперемешку. Два часа ночи. Ресепшен не спит, он бодрствует.
– Алекси? – девушка за перегородкой удивлённо рассматривает Адель. – А вы ему кто?
– Я? – Адель старается смотреть влево, как если б безбожно врала. – Я его жена…
– Да?.. – на лице девушки появляется замешанный на брезгливости интерес.
Адель и сама понимает, что здесь и сейчас, в своих чёрных джинсах и тёмно-синей
майке выглядит как случайно забредшее на праздник жизни экзотическое создание из стран третьего мира, то ли без уха, то ли без носа, и на фоне до зеркального блеска отполированного белого мрамора смотрится очень вызывающе. Так вызывающе, что хочется вызвать охрану. Она молча копается в заднем кармане штанов и извлекает оттуда внутренний паспорт, где в графе «семейное положение» действительно указано, что Лёша – её супруг.
Девушка, всё ещё недоверчиво рассматривая «тавтотиту», высокомерно произносит:
– Алекси сегодня был в гостинице, но недавно уехал со своей напарницей Яной. Она живёт недалеко, в соседнем отеле. Пешком по трассе минут пятнадцать, – девушка вдруг разулыбалась совсем по-приятельски. – Там около центрального корпуса справа есть бунгало. Вот там они и живут, эти студентки из России, которых турагенгсва берут на сезонную работу. Сходи, сходи, – девушка уже улыбалась во всю ширь, – они были здесь на дискотеке.
– Девочки из России? Знала бы, вообще бы пораньше приехала и на дискотеку бы попала!
– Поняла? От центрального корпуса справа. Ну, там ещё спросишь.
«У кого спрашивать? Ведь почти три часа ночи, – Адель шла по совершенно тёмной трассе. Луна так и не захотела бросить свою дорожку на чёрную Землю. – Вот тебе и бунгало справа, вот тебе и „спросишь“. У кого спрашивать? Ни одного освещённого окна. Вот в полуподвале просто спущена ставня, да и голоса какие-то слышны. Точно! Там весело болтают два голоса – мужской и женский. Ой, как стыдно и нехорошо подсматривать в чужие окна. Так я и не подсматриваю. Просто они болтают на русском так классно, так беззаботно, что просто завидно. Скорее всего – это муж и жена, потому что это интонации людей, давно знающих и любящих друг друга. Это не то, что мы с Лёшкой – гав-гав. Отрывистые фразы, глупые споры. Тут же прямо реченька. И голоса такие приятные – у него бархатный, нежный, у неё – шкодный, заигрывающий. Что она столько хихикает? Он её щекотит, что ли? Не хочется их беспокоить, но надо же спросить, где живут девчонки из России? Чмок – чмок. Что за ласковый муж?»
– …ладно. Яночка, тебе завтра рано вставать. У тебя Афины, и вы выезжаете в четыре утра.
«Яночка»? Так, надо постучать, пока она правда спать не легла. Ой, ну до чего неудобно…
Адель согнула пальцы в кулак, чтоб постучать в окошко, и замерла. Они болтали громко, очень громко, но она не разбирала слов. Они говорили по-русски, они говорили за тоненькой стенкой. Их голоса сливались в единый поток звуков. Сердце почему-то заняло всю грудь. Может, Адель не разбирала слов именно потому, что оно так громко бухало, как заводские меха, подающие воздух. Как маленькое сердце может заглушать все звуки вокруг? Как язык может не проворачиваться во рту, рука замереть на полпути?
Он успел натянуть на себя штаны, когда хлипкая дверь распахнулась под ударом её ноги. Она когда-то видела, что именно так в вагоне проводник открывал примёрзшие двери, и почему именно этот заледенелый вагон пришёл ей на память. Всё плыло в липком тумане – одноместная кровать, раскинувшиеся по белой подушке длинные каштановые волосы и женское бледное лицо, ночной столик рядом с кроватью. На нём недопитая бутылка красного вина, два мобильных телефона – Яночкин и Лёшин, сваленные на соседнюю пустую кровать вещи – белая мужская рубашка, цветное короткое платье, бюстгальтер…
Адель схватила недопитую бутылку со стола и с силой опустила её на ночной столик. Багровая жидкость брызнула на простыни, на каштановый волосы, беспорядочно разметавшиеся по подушке, на белёные стены…
– Молодец! – голос Лёши всё ещё доносился очень издалека. – Браво!
Адель снова не узнала этот голос, до того он казался спокойным. Всё-таки из
Алексея вышел бы неплохой адвокат:
– Молодец! – повторил он. – О чём с тобой говорить?! О чём с тобой говорить, если ты вести себя не научилась? Ты хотела это увидеть? Увидела? Успокоилась?
«Он сошёл с ума! Если это действительно говорит Лёша, а не начались галлюцинации!»
– Что ты себе позволяешь? Что ты вообразила? – Лёша совсем оправился, сел на пластмассовый стул, такой, как продавали цыгане, и вытащил сигарету из початой пачки. – Хотела посмотреть, до чего ты меня довела? Смотри, любуйся. Это твоя вина. Это ты меня никогда не понимала, всегда была чужой.
– Лёша… – теперь и её голос был не её. Она слышала его со стороны и сама удивлялась. И вообще, всё было со стороны. Как в кино, всё это происходило вовсе не с ней и не с её милым и любимым Лёсиком, всё было рядом, в параллельном мире, а она просто присутствовала. Чтоб убедиться, что всё это не взаправду, не всерьёз, Адель вытянула руку вперёд, потому что была уверена – сейчас из рукава вылезет вовсе не её рука. С ней такое произойти не может. Но из рукава вылезла ужасно знакомая кисть с едва различимыми шрамами на костяшках – следами зубов, когда она прокусывала их, чтоб не плакать. Значит, это всё-таки она? А это в кровати лежит настоящая живая курва и сука, которая прикасалась к её Лёшечке, которую он целовал?
Невидимая пружина подкинула Адель. Она вдруг вспомнила, что тут они вовсе не вдвоём. Одним прыжком она оказалась на кровати, залитой красным вином, где всего несколько минут назад Лёшечка обнимал эту тварь, и их тела впивались друг в друга, извиваясь от страсти. Она вцепилась в горло ненавистной «студентке» обеими руками и большие пальцы с нечеловеческой силой сомкнулись на её гортани. «Студентка», судя по очертаниям голого тела под тонкой простынёй, была выше Адель и, по всей видимости, сильнее, но от растерянности и неги от бурных объятий самца, сопротивлялась очень вяло. Адель кончиками пальцев ощущала как вибрируют хрящи трахеи. Ещё – секунда и разлучница начала хрипеть.
– Ах ты дрянь! – Адвокат с силой толкнул жену в плечо. – Нет, ты совсем ненормальная! Ты же задушишь её!
– Так ты боишься за эту шалаву? Тебе её жалко?! Ты переживаешь о ней, а не обо мне?
– А чего тебя жалеть?! Ты за что боролась, на то и напоролась. Ты – взрослая женщина, а она – младше тебя. Ты перебесишься и забудешь, а ты подумала, как она должна с этим жить?!
– Да чтоб ты сдох! – Адель захлестнула такая ненависть к этому Лёше, что она пожалела, что начала душить эту большеротую обезьяну, а не его. – Я больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать! Хочу, чтоб ты убрался из моей жизни навсегда!
– С преогромным удовольствием! Ты вообще на себя в зеркало не смотришь? Неужели ты думаешь, что я бы с тобой прожил хоть один день своей жизни, если б мне не нужно было получить европейский паспорт! Ты ведь даже ребёнка родить не можешь, корова недорезанная!
«Не могу родить?! Как это не могу?! Так, может быть, он захочет вспомнить, по чьей вине я не стала мамой? „Залететь“ по огромной любви, несмотря ни на что, несмотря ни на какие свои болезни, и потерять его? Маленького, маленького, который мне потом снился! Он мне снится каждую ночь! Он такой… такой… не как рисуют умерших в детстве младенчиков – пухленьких, розовощёких ангелов, а снился слабенькой стрекозочкой, с тоненьким тельцем и большими прозрачными крылышками. Такими хрупкими, такими беззащитными. Любое неловкое прикосновение могло эти крылышки поломать. Мой ребёнок так и остался навсегда маленькой, невесомой стрекозочкой… А он забыл… Прошло не так много времени, а он уже забыл? Или просто не хотел ничего помнить?..»
Город… проклятый Город преследует её повсюду своими видениями…
Глава 7
Она совершенно ясно помнила, как в ту ночь подошла к окну. Всё! День закончился. У кого-то во всю жизнь не вмещается столько, сколько произошло за сегодня… бесконечный, бескрайний день…
Что сегодня ещё может с ней произойти?
Страшный, нереально страшный день закончился…
Любимый Город спал, как на ладони. Что было хорошо в съёмной квартире, которую Алексею помог найти Манолис с глянцевыми журналами из Греции, что она была высоко на этаже. Кто ж знал, насколько приятно подойти днём к окну и смотреть вниз. Если ехать прямо-прямо по проспекту, то можно выехать из Города.
Если ехать так и дальше, то доедешь до Красного моста, где Манштейны ловили рыбу. Кстати, где они сейчас, Манштейны эти? Что с ними? Пока Игорь был жив, так и не получилось у Адель познакомиться с его родителями. Теперь они вдвоём где-то далеко-далеко… И Город их забыл, как если б их никогда и не было…
Город вообще умеет забывать всех и всё. Любая новость разносится со скоростью света, бурно обсуждается, но тут же забывается, сперва потеснённая, а потом и вовсе похороненная свежей новостью. Город – он как мясорубка – всё перемалывает, превращая в безликий фарш. Всё исчезает в гигантской воронке. Пропадают вещи, пропадают люди. Вместо уехавших, невесть откуда появляются новые.
Переезд в Грецию, на котором настоял Алексей, казался ей в то время весёлым, несерьёзным приключением. Собрались да и поехали! Мало ли кто куда ездит! Теперь, оказывается, уезжали многие – евреи в Израиль, русские – в Россию, греки – в Грецию. У кого получалось сделать обмен квартирами – те были счастливчиками. В основном квартиры запирали и просто уходили. Соседи, те, кто считал, что должен «расшириться», просто выламывали входную дверь. И вот уже по чужому паласу в гостиной ездит маленький трёхколёсный велосипедик счастливого карапуза – обладателя «новой» жилплощади! И никакая милиция их оттуда никогда уже не выселит, потому что женщины будут голосить, хватать приставов за руки, рвать на себе волосы. Сбегутся соседи. Начнётся дикий вой и столпотворение. И кому это надо? Покинувших насиженные места с каждым днём всё больше. И вселившихся по личной инициативе тоже. Всех не перевыселяешь! Да, милиции это и не нужно! Вся страна на пороге глобальных перемен. При чём тут какая-то несчастная «квартира»?! Тут главное, чтоб соседи в битве за жилплощадь друг друга не порезали.
Сейчас Город с высоты особенно красив!
Действительно, на что можно смотреть бесконечно – это на рассвет в горах и спящий город. А когда ночью много огней видно с самолёта, то они похожи на россыпь дорогущих бриллиантов на чёрном бархате гор. Адель помнит, как она летела домой утром, очень рано. Это когда её очередная попытка поступить в Медицинский институт снова провалилась. Она взяла билет на самый-самый первый рейс. Вот тогда и увидела эти тёмно-синие, покрытые вечными снегами вершины так близко. Казалось – ещё немного, и самолёт их заденет крылом! И глубоко в ущельях, в кромешной мгле – разбросанные безумной цены ожерелья чистой воды. Они переливались влажным светом и манили к себе, как самые необыкновенные звёзды. Потом вышло солнце. Горное, яркое, смелое солнце…
Ночью из кухонного окна Город не менее красив. Он похож на чистого младенца, раскинувшего во сне руки и разметавшего кудри по подушке. Он беспомощен и светел. Он улыбается во сне. Все дома, парки, улицы кажутся сказочно добрыми, залитые магическим светом неоновых фонарей. И вот одно за одним начинают просыпаться окна. Они зажигаются как светляки в июльскую ночь, то там, то на противоположной стороне улицы. Значит, скоро в Город придёт рассвет.
«Презерватив в смазке. Проверенно электроникой»… Что теперь делать? Будить Лёшу и спрашивать, зачем ему в Москве презервативы? Но глупее вопроса не бывает! У презерватива всего одно предназначение…
Почему я? Почему всё это происходит со мной? Неужели я большего не заслужила? Но за что?! Что я такого сделала в жизни ужасного и страшного?! Господи, ну дай мне припомнить, может, я тогда смогу искупить свою вину! Если я не знаю, за что мне все эти испытания, я же не смогу ничего в себе исправить! «Останешься за бортом! Останешься за бортом!» – так говорила мама. Если смотреть вниз, эго в свободном падении, летишь между высокими домами, раскинув руки, как крылья. И нет никакого земного притяжения. Можно заглядывать в окна. Лететь на желтоватый, тёплый свет и заглядывать в чужие окна. Почему всем уютно и тепло? Почему всем, кроме меня? Был Лёша – единственный верный друг после Кощейки. Лёша, который никогда не обижал, всегда придумывал что-то хорошее. И что теперь? Лёши больше нет? Как это может быть? Белая, нежная как шёлк кожа, большие, ласковые руки, низкий, настоящий мужской голос… Всё, что дарило надежду, радость, счастье – всё это больше не моё? Или может вообще никогда не было моим? Все эти встречи, свидания… Это была иллюзия? Всё это мне приснилось? Не было с его стороны никаких чувств? Но зачем ему это всё?! Мне – понятно зачем… Хотя, конечно, мама с папой мне объяснили, что я «гермафродит». Я знала, что никто меня не полюбит, не женится, я была готова к другой, бесполой жизни. Жила сама по себе и жила! Вдруг в моей жизни появился Лёша и оказалось, что я всё-таки принадлежу к ненавистному женскому полу. Мне, как последней дуре, тоже захотелось женского счастья. А ему? Что было нужно ему? Зачем ему я?! Конечно, надо было заранее знать, что всё так произойдёт. Надо было что-то делать с собой. Надо было приводить себя в порядок, когда видела удивлённые взгляды, переводимые с меня на Лёшу:
– Ничего себе? Интересно, чем такой бегемот держит этого красавца? Богатая сильно, что ли? Или что-то ему наобещала? Жить с такой жирной – слишком дорогая цена за всё. Это ж она ходит по квартире каждый день, спит у тебя в кровати! Охота смотреть на её усы и кучерявые бакенбарды? Её же надо обнимать, исполнять супружеский долг! Интересно, он хоть не задёшево продался? Оно того стоило?
Адель приложила лоб к холодному стеклу. Она забыла про чай. Она забыла, что очень холодно. Действительно – было холодно, но лоб пылал. Может, поднялась температура? Ну, и Бог с ней… Бог с ней, с температурой, когда в груди поселился страшный зверь. Он острыми, как бритва клыками рвёт сердце, он когтями разрывает внутренности, и хочется выть в голос от невыносимой боли. Хочется ногтями царапать стены. Хочется рассечь себе голову и раздробить мозг, чтоб не думать, не думать, ни в коем случае не думать о том, что произошло! От этой боли можно умереть, и тогда, конечно, станет гораздо легче. Нет! Легче не станет! Потому что болит не тело, а так мучительно может умирать только бессмертная душа.
Значит, та девушка по телефону в гостинице «Космос» не врала. Телефон в его номере работал исправно. Это Лёши там не было. А где он был? Прямо у неё дома? И они всё это время жили как муж и жена? Купались в ванной, спали вместе, смотрели телевизор… Наверное, она высокая, с узкой талией и рассыпанными по плечам светлыми волосами. С чистой кожей и на высоких, тонких каблучках. Она его трогала, целовала, лежала с ним в кровати. Они обнимались и были такими красивыми, как в кино. Ходили в кафе, пили горячий шоколад, и когда их колени соприкасались под столом, обоих захлёстывала волна жгучего, сладкого желания. Москва, Москва… Золотые купола и кружащиеся в воздухе снежинки….
Ночью он прилетел домой. Где его дом? В съёмной холодной квартире, где шахта лифта забита мусором до девятого этажа?
Наверное, у неё высокая температура, потому что очень тошнит. И снова болит низ живота.
Так что делать? Будить и спрашивать – зачем ему эти «проверенные электроникой»? И тогда он скажет, зачем. И что будет? Мы не поедем в грецию, потому что все документы у нас общие. Мы должны будем делать всё сначала, надо будет минимум несколько месяцев пробыть в Городе. Это уже невозможно. Невозможно после всего, что было. После автоматной очереди в воздух, после страшного, чёрного аэропорта и танка на пустынной трассе.
Голова как-то вдруг устала думать. Просто все мысли и подозрения стали уходить. Она приложила к животу полуостывший чайник. Это было приятно.
А, собственно – что произошло? Чего я сама себя накручиваю? Я что, в постели Лёшку ловила, что ли?! Может, подарили, всё ведь бывает!
– Причём сразу два и разные! – восхитился внутренний голос.
– Да! Ну и что?! Может, их кто-то оставил в гостиничном номере! Там, в ящике стола… или на столе… Просто так, для следующего жильца!
– Несомненно! И телефон в номере не отвечал, потому что…
– Аделька! Ты чего босая на кухне? Хочешь простудиться?
Аделаида даже не вздрогнула, просто обернулась. Сзади стоял Лёша и удивлённо её рассматривал.
– Что-нибудь случилось?
Она медленно приблизилась к Лёше и, обняв его за талию, положила голову на грудь. Слёзы её душили.
Что делать?! Что делать?! Сказать, что он – обманщик, сволочь и дерьмо? Дать ему пощёчину, разругаться навсегда и уйти? А куда идти? К маме, Маркизе, папе, Сёме, Аллочке? Так у них своя жизнь! Она там не нужна. В её комнате давно живёт семья брата, они больше не хотят «скитаться по чужим квартирам». Так сказала Аллочка. Мама с папой, как только Адель ушла из дому, быстренько сделали вид, что очень «разочарованы выбором» дочери, даже не пришли ни в Дом Бракосочетания, ни на маленькое застолье, которое молодожёны устроили для друзей. Не появились они и после свадьбы, то есть, у них всё вышло до безобразия удачно: нас не устраивает выбор дочери. Она ослушалась родительского приказа и посему для нас более не существует! Никаких тебе расходов с приданым, никакой тебе возни со свадьбой.
Когда кто-то замуж «убегал» или её «воровали», родители невесты могли смыть с себя «позор». Они надевали траур, вешали огромный портрет непослушной девицы в чёрной рамке и с чёрной лентой в углу. Они совершенно реально плакали, устраивали поминки. Могли даже над входной дверью повесить большой плакат, чтоб было видно всем и даже издалека: «Мы оплакиваем любимую Маико!».
У Маико с годами вполне могло быть и трое детей, но родители предпочитали её «так и не простить», и в часы печали и горести громко кричать на радость соседям:
– Когда я умру, к гробу её не пускайте! На похороны вообще не пускайте! Чтоб она была проклята!
Адель не знала – повесили ли её портрет в чёрной рамке с чёрным траурным бантиком, но то, что её обратно никто не ждал – это факт. И если прийти с повинной, то что начнётся потом – даже представить себе страшно! Мама будет по любому поводу напоминать о её истинном «положении» в этом доме, Сёма делать вид, что ничего не замечает, Аллочка наденет лицо святой великомученицы, с достоинством несущей свой крест в виде присутствия нелицеприятной, разведённой золовки, а папа… а папа, может, до сих пор не заметил её отсутствия.
Как без Лёши было пусто в доме и как стало хорошо сейчас! От него даже с дороги хорошо пахнет! Только вернулся, а уже вся квартира снова пропахла запахом рижского одеколона «Миф» и дорогих сигарет. И ещё пахнет чем-то… чем-то таким своим, таким родным…
Как это страшно вот так, вдыхая запахи любимого Лёшки, думать о том, что сию же секунду можно всё потерять навсегда. Всё прекратить в одну секунду. Она останется в пустой съёмной квартире, со страницей, аккуратно вырезанной ею из журнала, прилепленной пластилиновым шариком к стене, где изображена самая лучшая на свете группа «АББА». Если за Лёшей закроется входная дверь, она останется одна уже навсегда.
Как получилось, что подруг она себе не нажила? Действительно, странно как-то… Не могли же все быть плохими или глупыми?
Она почти всегда была одна. Дети не хотели с ней играть. Каждый новый приход на детскую площадку всегда был мучительным. Новые дети забывали о своих игрушках, вставали с корточек и в упор её разглядывали, открыв от удивления рот. Потом, словно онемев от зрелища, молча сцепляли перед своим животом кисти вытянутых рук и надували щёки, показывая, дескать – это ты такая! Потом, насмотревшись вдоволь, снова садились, время от времени злобно поглядывая на Адель. Конечно, не все дети приходили впервые, были и те, кто её уже видел. Они страшно радовались её появлению, как если б кто-то выгуливал на поводке знакомого кенгуру.
– О! Жирная! – весело кричали они. – Чур ты не играешь с нами!
Да ей и не нужно было. Она родилась такой, она всегда так жила и вообще себе не представляла, что может быть по-другому. Что можно просто разговаривать, играть, не прижимаясь к стенке и не боясь встать со скамейки, потому что когда сидишь, не так всё видно. Когда она была маленькой, деда с ней всегда гулял. Ей с ним было совсем нескучно. Чёрное пальто… белый шарф на шее… Но лицо его Адель никак не может вспомнить. Лицо накрыто какой-то дурацкой марлей, от которой трудно дышать. Белый любимый шарф был у Фрукта. Фрукт уехал, и его больше нет. Кто-то ещё носил белый шарф… Кто? Никак не вспомнить…
«Почему шарф? При чём здесь шарф? Вот привязалось! – Казалось, шарф – это ключ к пониманию чего-то очень большого и важного, без которого нельзя жить на свете. – Люди носят и другого цвета шарфы, почему я помню только тех, кто носит белый? Ещё белый шарф мне давал Владимир Иванович…»
Настенные часы на крошечной кухне тикают оглушительно громко, отсчитывая секунды, минуты, часы. Они будут так тикать вечно. Ни они, так другие будут.
Всегда найдутся часы, которые будут отсчитывать твоё время. «Как только Лёша при таком грохоте вообще засыпает? – думала она. – Это ж надо быть глухим, чтоб спокойно заснуть!»
В её детстве была подруга Кощейка. Но Кощейка давно умерла. Потом Лора. Пока не было Мужика, они с ней дружили, и Лора рассказывала ей много своих тайн. Потом Лора решила выйти замуж и все её помыслы были обращены только к Мужику. Лора круглые сутки не снимала осаду. Ухаживала. Теперь у них двое детей. Они живут у Лоры, но он официально с ней так и не расписался. Адель заходила к ним пару раз, но поговорить было невозможно, потому что дети постоянно что-то делили, дрались и ругались, а Лора их воспитывала. Вот и все подруги. Больше никого не было. В поликлинике тоже не задалось. Вроде как сидели они все вместе, разговаривали. Но Аделаида знала, что как только кто-то покидает круг, все беседы переводятся на ушедшего. А про неё лично можно было о-о-очень много рассуждать. Причём делали это совершенно всерьёз, с большим знанием дела, как если б были врачами-диетологами с учёной степенью. Доказывали друг другу – похудеет она, не похудеет? Долго ли проживёт, мало ли? Поправится ещё, или уже навряд ли? В кого она такая ужасная? Нет, конечно же, и в лицо ей многое говорили. Но когда в лицо, оно понятно. Сказал, и закончилось. Гораздо неприятней, когда тебя муссируют часами, уходя от темы и возвращаясь вновь. Переживают по поводу – не противно ли Лёше с ней целоваться? Как он на неё «взбирается», что потом они делают? Особенно подробности и мелкие детали, ну уж очень интересовали женщин. Адель даже сама не раз слышала, как санитарки, сидевшие в холле, фантазировали, с какой стороны должен Лёша лечь, чтоб ему не мешал её живот. Ну и как после этого дружить? Конечно, если она спросит, кто из коллег где живёт и сходит в гости, то её непременно примут, даже обрадуются. От всей души, за чаем с вареньем вызовут на откровенную беседу, будут рассказывать о себе, ласково приглашая открыть свои секреты. Все всё будут знать буквально в тот же вечер, не успеет она ещё допить чай всё в тех же гостях. Так было, и не однажды.
Подруг нет. Друзей тоже. Одноклассники, те, кто учился более-менее хорошо, все куда-то уехали. То ли их кто-то предупредил, то ли они сами догадались, что из Города надо исчезнуть. Вон Ирка только последний выпускной сдала, как родители её тут же на Украину и упрятали, чтоб чего не произошло! Ещё бы! С такими ногами в Городе не проживёшь! Ни с такими, как у Аделаиды, ни с такими, как у Ирки. Хорошо было в школе!
И вдруг ей страшно захотелось домой. Домой – к маме и папе, к Сёмке, к Аллочке с Маркизой. Ну, и пусть они её не поздравили и не пришли. Они уже очень об этом жалеют, просто им самим пока неудобно делать первый шаг. А она к ним пойдёт. Она скажет, что всё отлично, всё нормально. Лёша с Сёмкой подружатся. Она с Аллочкой тоже. Не такая уж она и вредная, просто привыкнуть надо. И будут они всегда вместе вчетвером ходить. И Аделаиде будет так приятно, что около неё двое сильных и красивых мужчин. Вот это – её брат, а вот это – её муж! Завтра, завтра она обязательно к ним пойдёт…
– Ты чего? Влюбилась в кого-нибудь? – Лёша, видно, не замечая ничего, продолжал балагурить. Она вздрогнула всем телом, и живот заболел ещё сильней.
– Испугалась? – он засунул два пальца ей за ворот пижамы. Он всегда так делал, когда хотел пошутить, потому что пальцы у Лёши были прохладными, и Аделаида громко пищала от его холодного прикосновения.
– Лёша… – она решила ничего не говорить, – Лёша, что это? – она разжала ладонь.
– Как «что»? – Алексей ни на секунду не замешкался. – Разве ты не видишь, вот тут написано «Проверенно электроникой»! Это – презерватив!
Она чувствовала, что ещё секунда и начнёт задыхаться. На горло наступили кованным фашистским сапогом.
Адель бросилась в коридор, судорожно шаря по своим карманам в поисках ингалятора.
– Да что с тобой, не пойму никак! – он пытался поймать её за руку. – Тебе плохо, что ли?
– Эти… эти… – она уже хрипела.
– Презервативы? Так я же их тебе в подарок привёз! Кто ж знал, что ты по моим карманам лазить будешь?! Думал, утром покажу – вместе посмеёмся!
– Я… я не шарила… Спички кончились… – спасительный ингалятор нашёлся и был уже в руках. Она плотно сомкнула губы и сделала глубокий вдох, одновременно с силой нажав на кнопку снизу. Живительная жидкость как бальзам поползла по бронхам.
– Вот ты глупая! – Лёша снова держал её в объятиях. – Слушай! – он внезапно отодвинул её лицо от себя. – Ты случайно какую-нибудь глупость не подумала? А? А ну-ка признавайся! Постой, постой, может ты из-за этих резинок на кухне сидела?! Сама себя накручивала и переживала, вместо того, чтоб разбудить меня и спросить о том, что тебя волнует? Вот глупый! Вот ты глупый! Как ты могла такое даже подумать обо мне?! Я тебе их привёз, потому что они такие смешные и с запахом клубники!
– Лё-ша… я не люблю клубнику… – она снова уткнулась ему в грудь и по щекам её покатились слёзы.
– А я думал – ты обрадуешься! – он был сама нежность.
Как ей стыдно! Какая она дура! Просто бессовестная дура! Лёшик, бедный, милый усталый Лёшик мотался по этой Москве, промёрз, проголодался, привёз ей готовые паспорта! Сама себе напридумывала невесть что, сама туману напустила. Ой, стыдоба какая…
– Лёшечка! Миленький! Прости меня! – она уже плакала в голос. – Просто я очень по тебе соскучилась, мне без тебя было так плохо! Прости меня, солнышко! Я больше никогда так не буду! Ну я осталась совсем одна, вот мне глупые мысли в голову и полезли. Ты больше никогда не оставляй меня одну. Лучше я с тобой буду всегда ездить! Всегда и везде я с тобой хочу ездить! Лёшечка! Миленький!
– Ну, успокойся, успокойся… – он гладил её по голове.
Постепенно плач перешёл в неясное бормотание. Адель стала успокаиваться, но всё ещё нервно всхлипывала.
– Пошли, пошли в кровать! – сказал Лёша. – А то холодно! Да и спать сильно хочется! – он зевнул и щёлкнул зубами.
Утром, наконец, начались эти самые долгожданные «тра-ля-ли». Это ж надо было маме придумать такое название! Живот болел нестерпимо. Хорошо, что Лёши уже дома нет, так противно, когда тебе плохо, и кто-то рядом. Это стыдно и… и просто стыдно. Болеть надо одной. Особенно противно, когда тебе плохо, у тебя же что-то пытаются спросить, что-то советуют, или трогают лоб. Не надо ко мне прикасаться! Сама справлюсь… не впервой… Надо просто выпить «анальгин» и всё пройдёт. Потом попросить Лёшу, чтоб отвёз домой к маме. Он если не хочет вместе с ней сразу заходить, то может не заходить. Сперва она сама сходит, посмотрит, что да как. Посидит с мамой на кухне, чаю попьёт. С Лёшкой в следующий раз они вместе придут. Сладкого надо будет взять тогда…
Время шло. Боль не уходила. Она стала немного глуше. Тогда Адель разозлилась. А как же! Она вообще не любит болеть! Она крепкая и сильная. «Богатырь!» – так говорила мама. Как закончила школу, смысл болеть, чтоб пропустить уроки, вообще пропал. Не хватало, чтоб из-за каких-то месячных она не выходила из дому! Можно два «анальгина» выпить. Поди, тоже не впервой. От двух боль точно пройдёт!
Она подождала ещё полчаса. «Какой-то анальгин странный. Почти не действует. Просроченный, что ли?»
Месячные были очень странными. Простыла, наверное. Вон ночью как знобило. Опять мама права! Она же говорила – простудишь ноги, и будет у тебя воспаление придатков. Скорее всего, теперь оно и начинается.
Она, как обычно, сперва подложила вату с бинтом. Буквально через минуту поняла, что этого мало. Адель, согнувшись и поддерживая нестерпимо болевший живот левой рукой, правой с трудом вытащила из ящика комода чистое полотенце. Она никогда не думала, что из комнаты до туалета столько шагов! Сейчас она разорвёт полотенце… Внезапно что-то скользкое булькнуло между ног. Она почувствовала под рукой какое-то влажное тепло. Оно полилось по низу живота, прямо по ногам. Вверх по кофте росло и расплывалось багровое пятно. Боль стала совершенно нестерпимой. Накатила волна нестерпимой тошноты. Понимая, что если будет рвота, кровавое пятно подниматеся до самой груди, Аделаида старалась вырвать, не напрягая живота. Но страшная судорога внезапно прошла через всё её тело, одновременно почти без усилий вытолкнув из него выпитый утром чай и что-то противное, похожее на кусок мяса.
Глава 8
Жалела ли она о том, что всё узнала про Лёшу? Какая теперь разница? Может, да, может, и нет. Ей сказали, что Лёшина пассия вышла замуж за хозяина турагентства, в котором они вместе работали. Оказывается, она очень хотела остаться в Греции на постоянное место жительства и именно поэтому совмещала необходимое с приятным – спала с хозяином, лелея надежду на своё скорое с ним семейное счастье, со стареньким подагриком, толстеньким и богатым. С Лёшей она возмещала самой себе моральный ущерб, нанесённый потным, рыхлым хозяйским телом. Лёша всё воспринял всерьёз, решив, что она женщина его жизни. Развода он Аделаиде не давал, надеясь протянуть время и успеть получить заветный европейский мандат. Нет, Адель не жалела ни о чём. Если б всё можно было изменить, она бы всё равно поступила так же.
Теперь она жила одна. Время тянулось непрерывным потоком: ночь, день – всё смешалось, стёрлись границы… Кто сказал, что спать надо ночью? Спят тогда, когда могут заснуть, в какое время суток это будет – не всё ли равно? Она перенесла телевизор из большой комнаты к себе в спальню, снесла вместо него все Лёшины вещи, заперла дверь и больше туда не входила. Она продолжала работать, радовалась, когда дел было особенно много, и не огрочалась, если за дополнительный часы не доплачивали. Ей было всё равно. Хотелось одного – чего-нибудь захотеть. Казалось, если только чего-то захочется, она мгновенно проснётся и бросится это желание исполнять. Значит, оно станет началом новой жизни. Но ей ничего не хотелось. Как смешно всё происходит! Ведь когда она была маленькой, то свято верила, что обязательно превратится из Гадкого Утёнка в Прекрасного Лебедя, но чуда так и не произошло. Как была Гадким Утёнком, так и превратились в Гадкую Утку. Почему в Городе, где она жила, где провела детство, ей внушали, что быть симпатичной и красивой – это огромный недостаток! Девушку и женщину больше всего украшают её скромность, кроткий нрав, и как это называлось? Ах, да – «целомудрие», высокие духовные качества, но никак не чистая кожа и модная одежда. Конечно, Адель не совсем была с этим согласна. Но в тоже время, в глубине души очень надеялась, что Лёша оценил и полюбил её именно за её духовные качества, за преданность ему, за её терпение и доброту. Оказалось, он и не собирался ничего оценивать, и любить не собирался тоже. У него просто появился единственный шанс унести ноги из Города. Лёша по кличке «Адвокат» хотел свободы. Он хотел свободы ничуть не меньше, чем она сама. Может, даже больше, потому что так и не смог разделить с ней свою жизнь. Она часто вспоминала тот первый с Лёшей поцелуй, вспоминала, как была с ним счастлива. Был ли счастлив он? В такие минуты Адель становилось его очень жалко. Бедный, бедный Лёсик! Ради свободы, ради бордовой корочки с греческим тиснёным крестом терпеть самое страшные муки на Земле – испытание любовью. Терпеть косые взгляды на улицах от знакомых и не знакомых, терпеть Аделаидины объятия в постели, её поцелуи, её домогательства, её желание чувствовать его своим. Нет, это гораздо страшнее, чем знать, что тебя никогда не любили! Тут ты по крайней мере не теряешь ни чести своей, ни достоинства. Такова жизнь. Насильно мил не будешь. Заставлять себя делать делать то, что не хочешь – вот преступление перед самим собой.
Конечно, Лёше было гораздо хуже! Вот он и сорвался.
Что же теперь делать мне?
Значит, как это называется, «надо взять себя в руки», «надо бороться», надо жить ради… Действительно – ради чего? Ради мамы с папой? Так они даже ничего не узнали про ребёнка. Когда Адель лежала в больнице, мама ни разу и не пришла её навестить. Мама потом сказала, что боялась заразиться, потому что думала, будто у Аделаиды ветрянка. Жить ради Сёмы с Аллочкой и ими же усыплённой Маркизы? Маркизу усыпили, потому что овчарка состарилась и заболела. Аллочка сама её отвела к ветеринару. Говорят, у Сёмы окружающий мир замкнулся на дикой, патологической ревности к Аллочке и все цели жизни свелись исключительно к её завоеванию. Это было невыносимо видеть, как Семён разрывает в клочья Аллочкины юбки, разбивает телефоны, потом кается, плачет, стоя перед ней на коленях, и умоляет его простить. Мама, папа, Сёма и Аллочка с Мурзилкой. Больше у Адель действительно никого не было. Ради кого из них жить? Ради светлой памяти Маркизы?
В своё время она так и не решилась рассказать маме о беременности. О совершенно немыслимой, нереальной беременности, которая всё же к ней пришла, но Адель не суждено было стать мамой. Не рассказала и о том, как потеряла этого ребёнка, как плакала по ночам о своей маленькой стрекозочке с хрупкими, прозрачными крыльями.
Если бы мама случайно узнала от кого-нибудь, что с Аделаидой произошло, она припоминала бы ей это всю жизнь. И Лёша стал бы «врагом народа» и был бы проклят на веки вечные. Мама бы тут же вошла в роль несчастной, разочарованной и «больной женщины», которую «обманули» и лишили ребёнка. И теперь она выбирает – быстро утопиться в Реке, или просто «долго умирать» от «горя и бедствий», поразивших её! Адель «своими руками убила её внука»! Она бы чувствовала себя «великомученицей», скорее всего вырядилась бы в траур, чтоб у неё все спрашивали: «Что с вами случилось?». Тогда мама бы с превеликим наслаждением каждый раз втыкала один за другим лезвия ножей в Аделаидину грудь и медленно ворочала ими в окровавленных ранах. Однако Город давно уже давно занимали гораздо более важные проблемы. Городу уже было не до Адельки. Он перемалывал «фронтовые сводки» из Большого Города и ожидал высадки прямо на площади Ленина американского десанта.
Тогда ради кого жить? Ради друзей? А где они? В Греции новые так и не появились. Видно, слишком разные понятия вкладывали в слово «дружба» Адель и те, кто жил рядом с ней. Она старалась подружиться на работе. Но они считали всех, прибывших с пространств бывшего СССР, недоразвитыми, по доброте душевной старались своими греческим обычаями их облагородить и притереть к цивилизованному миру. Г реки были внимательными, очень хорошими, но Адель приучали к скромности, а они бесконечно врали и бесконечно хвалили сами себя: свою стряпню, своих детей, и вообще всё, что касалось их, совершенно не принимая никаких других мнений, потому что мнений может быть только два – их и неправильное. Так дружить невозможно, потому что у Аделаиды тоже иногда бывают свои мысли.
«Кощейка, Кощейка, милая Кощейка! Как давно тебя нет и как мне тебя не хватает! Ты одна принимала меня такой, какая я есть – толстой и несимпатичной, ты одна действительно любила и ценила меня! А вот и нет! Меня ещё очень любил деда! Мой красивый и добрый, в чёрном пальто с белым шарфом на шее. Со мной дружил Фрукт. Да, он очень со мной дружил! Но… Как могло так выйти, что все, кто меня любил, ушли?!» – Вот опять четыре утра, а заснуть Адель так и не удалось. И горло болит. Надо поискать в вещах какой-нибудь шарф. Раньше делались компрессы, но в доме нет водки. Дурацкие косынки… марля для выглаживания Лёшкиных стрелок на брюках. Чего я её тут оставила, надо снести в большую комнату, пусть ему теперь новая подруга – невеста хозяина турагенства гладит… Боже, что это за дырявая зимняя шапка? Чего я её не выбросила до сих пор? Да ещё с бубоном!.. Так, надо быстрее, а то молоко на плите убежит… А что это в целлофановом пакете?
Больше не было холодно… больше не было ничего… была только ночь, тусклый свет китайского светильника в коридоре и свалявшийся от времени вязанный шарф в заклеенном клейкой лентой целлофановом пакете. Белый, пушистый, чуть пахнущий сигаретами… С ума сойти – этот шарф до сих пор хранит запах?!. Он уже однажды спасал её от простуды, очень давно, во влажном лесу на комсомольском слёте. Как давно это было! Было ли? Был ли в её жизни мудрый и добрый Владимир Иванович? Были ли их бесконечные беседы, их прогулки в парке в ожидании приёма в ОВИР? Неужели Аделаида сама себе напридумывала такие бесконечно счастливые минуты жизни?! Минуты потрясающей, безмерной свободы, когда хочется, подняв взор к небу, раскинуть как птица руки, потому что кажется, что весь мир создан исключительно для тебя, потому что рядом с тобой человек, мужчина, которому с тобой хорошо и он не торопится домой. Она шла рядом с ним, срывая с кустов нераскрывшиеся почки, шла и мечтала, чтоб он её просто, ну просто обнял. И вот оно доказательство – старый, связанный вручную шарф. Длинный и лёгкий, как у Маленького Принца. Она тогда честно хотела вернуть его хозяину, но вышло, что шарф остался с ней. И теперь он снова ей понадобился. Кто понадобился – шарф или хозяин?..
Но это же безумие! С той минуты, как на конечной междугородней остановке там, в их Городе, автобус вытряс из себя пассажиров с курами, связанными по три штуки бечёвками за лапы, они с Владимиром Ивановичем очень корректно распрощались и даже приглашение в Грецию, о котором так мечтал Лёсик, Аделаиде передала сто лет назад его жена. Некрасиво, некрасиво, до жути отвратительно не поблагодарить человека за оказанную услугу! Очень некрасиво! Адель всё это знала, понимала, но не могла себя заставить к ним пойти! На то были свои причины. Раньше пойти без Алексея было верхом неприличия. По этикету надо рассказать о себе, познакомить с «супругом». О себе рассказывать особенно нечего, а про Лёшу… Вот оно и оно… Она просто боялась идти с ним в гости к Владимиру Ивановичу, боялась, потому что знала – старый хирург, опытный прозектор, вскрытия и препарирование – его профессия. Навряд ли воспитанный и причёсанный Лёшечка смог бы скрыть от него свою ну… как сказать… сущность, что ли… И ещё Адель не хотела идти, потому что там были его рыжая жена и рыжие дети. Адель почему-то не думала, что прошло много лет и дети давно выросли в рыжих взрослых. Лёши-то уже нет и скорее всего уже никогда не будет! Значит, можно сходить сейчас! Значит, уже не о чем врать! «Развелась» – это не так страшно, как «живу с жиголо»!
«Шарфик, шарфик, мой любимый, милый шарфик! Ты снова со мной, и всё будет хорошо! Завтра же… завтра же я узнаю у кого-нибудь его номер телефона! Я ему позвоню, куплю конфет и пойду в гости! Ну и что, что дома будет его жена, может, она меня вовсе и не узнает, может, у них в отделе кадров все похожие на меня работали в своё время! И приходила вовсе не я! Да, там в Городе все дамы были на одно лицо. Прошло столько лет! Зато я увижу снова Владимира Ивановича. Может, они меня угостят чаем, а я вытащу свои конфеты и мы будем говорить, говорить и вспоминать. Будем вспоминать Город, больницу, в которой он работал, вспомним тот комсомольский слёт. А я расскажу ему всё, всё, что со мной произошло. Может, даже зареву, но это от счастья, потому что роднее и ближе него у меня точно никого нет!»
Она, намотав шарф на шею, подскочила к платяному шкафу и стала одно за одним выкидывать из него свои нехитрые пожитки, прикидывая к себе то один, то другой наряд, в бескрайней радости выбирая, что же она завтра наденет? Она наденет вот эти чёрные штаны и белую кофту! Нет, эту нельзя, она слишком обтягивает спину, а на спине такие складки… Или чёрные штаны и жёлтую кофту. Тогда получается как футбольный клуб… тоже не хотелось бы…
Адель так давно никуда не ходила, что совсем забыла, когда в последний раз себе покупала вещи. Ей нечего надеть! Нет, есть, конечно, кое-что, но у всех вещей страшные недостатки! Одни жмут, другие не жмут, но такие старушечьи, что просто хочется выть в голос, третьи – вообще не модные, неудобные и вообще позорные. Туфли!!! Мама дорогая! Обувь должна быть ну хоть с небольшим каблучком, и в то же время, чтоб в ней можно было доковылять до остановки, посидеть в гостях, чтоб ноги не отекли, и опять дойти до остановки.
Наконец, она остановила выбор на широких джинсах и ещё более широкой футболке и таких как бы специальных сабо на огромной платформе, как ей сказали при покупке – для мытья балконов и хождению по песку. Их можно было и как бы с ноги под столом скинуть, и вроде высоко и… и вообще, надо полагать, удобно для выхода в свет.
Она достала телефон Владимира Ивановича. Соотечественники за рубежом любят лечиться у своих бывших врачей, любого можно найти за пять минут, даже патологоанатома.
Они жили не так уж и далеко. Только надо было сделать на автобусе пересадку.
Ноги дрожат… руки немеют… хорошо что аэрозоль от астмы всегда в косметичке рядом с мелочью и автобусными билетами. Адель деньги не носит с собой очень давно, потому что несколько раз у неё в автобусе крали кошелёк. Да вот и ингалятор, наверное, лучше носить просто в кармашке сумки, а то стырят вместе с мелочью. Мелочи мало, зато лекарство дорогое. Обидно будет!
Она стояла перед стеклянной дверью, не глядя на домофон и тщательно перекладывала ингалятор из одного кармашка сумки в другой, как будто он мог пожаловаться, что ему неуютно. Утром женский голос в трубке её пригласил на шесть. Сейчас было без десяти шесть. Можно жать на кнопку со знакомой фамилией. А потом? Что будет там? Надо сигануть на шею, или скромно поздороваться?.. На шею! Очень хочется на шею!.. Но так можно всё испортить. Испугать людей можно.
Указательный палец уже давил на продолговатую кнопку с ярко пропечатанной фамилией.
Она медленно поднялась на первый этаж по деревянной леснице. Лестница гостеприимно скрипела и амортизировала каждый шаг. На ступеньках краска осталась только у самых краёв. И серединка ниже, чем бока. Мягкое дерево стёрлось, встречая и провожая множество ног. Сколько лет этому дому с высоченными потолками? Сейчас такие не строят. Сейчас они бетонные и выхолощенные.
Он стоял в проёме двери. Непослушный чубчик опять упал на лоб. Какие глаза… или это изнутри сама душа светится чайным цветом. Высокий разлёт бровей. Как был, так и остался. Совсем седой. Белый. Улыбка… уголки губ вверх, ямочки на щеках…
– Привет! Ну проходи, проходи, гостьей будешь!
Вот именно, я могу быть только гостьей! Я всегда и везде только гостья, желанная и нежеланная, но всегда и везде только гостья. «Это мой дом!.. – говорила мама. – Что хочу, то и делаю! А здесь ты никто и зовут тебя никак! Когда у тебя будет твой дом, тогда живи как хочешь. А в моём я хозяйка!». Лёша говорил, что он «хозяин» в доме, а она всего лишь «за мужем». В Городе русскоязычным тоже популярно объяснили, что они тут «гости», и я уехала. Люди меня впускают в свою жизнь, но только ненадолго, потом, как и положено гостям, указывают на дверь.
Кто придумал эту «мораль», тем самым сделав несчастными миллионы людей?! Почему, ну почему все люди на свете не могут жить так, как они хотят и с теми, кого они любят?! Почему они должны скрываться и прятаться, делать равнодушный вид и проходить мимо?! Или приезжать и приходить в «гости»? Ненадолго. Попить чаю и снова уйти. Почему нельзя жизнь, такую короткую и хрупкую, прожить рядом с тем, кто дышит с тобой в унисон?!. Почему нельзя, не скрываясь и не прячась, всей душой заботиться о нём?
А вот кто это выходит из-за двери?.. Нет. Это не его жена…
– Познакомься! Это моя жена Ирина! Мы вместе уже три года. А это, – Владимир Иванович обнял Ирину за плечи, – а это моя старая подруга Адель! В смысле, мы много лет дружим!.. – и он засмеялся своим мягким, заразительным смехом.
Ирина перестала быть «Ириной» уже очень давно. Ей было далеко за шестьдесят. Но, видно, именно из-за доброго, почти детского пухлого лица она продолжала быть «Ириной» а не «Ириной Анатольевной». Владимир Иванович наедине наверняка называет её «Иркой».
Ирка толстая, в домашнем халате и пахнет пирожками. Что он в ней такого нашёл? Как он на неё смотрит! Ромео… Никто на свете не сможет отобрать «Володеньку» у этой Ирки! Опять я «за бортом». Почему она? Почему всегда «ирки», а не я?! Я снова гость. Сперва у той рыжей жены, теперь у «Ирки».
– Что же мы стоим в коридоре?! – Ирина развела руками. – Проходите в гостиную!
– А можно к вам на кухню? – Адель сама удивилась своему вопросу.
– Так там же маслом воняет! Я ж пирожки жарю!
– А я вам помогу защипывать!
Потом они всё же переместились в гостиную. Начали с мятного женского ликёра, зелёного такого, со льдом, который осторожно предложила Ирка, потом перешли на вино, потом на узо. Они говорили, шутили, смеялись, жарко спорили, сходились во мнениях, снова спорили, жали друг другу руки, целовались в щёчки. В тёмное окно стали заглядывать звёзды, но дома было так светло и уютно, что звёзды их видели, а они их – нет. Адель несколько раз размазала по лицу всю свою косметику, перемешанную со слезами, давно перестала думать, что надо втягивать живот, чтоб казаться худее. Вон у этой Ирины живот в два раза больше, так ведь любит же её Владимир Иванович, женился, живут они вместе. Значит – живот здесь ни при чём.
– Ты мало изменилась, Адель! – он положил ей ладонь на жидкую шевелюрку. – А у меня, знаешь, есть альбом со старыми фотографиями. Есть много с Первомайских демонстраций, я в своё время марширующие колонны фотографировал. Может, и ты где затесалась. Так ты говоришь, какую школу закончила?
– Первую!
– Слушай, ты, первая школа! Я тебе вот что предлагаю – оставайся сегодня у нас ночевать. Мы выпили, я тебя на машине отвезти уже не смогу, остановят – останусь без прав. Вот, оставайся, сейчас старые фотоальбомы принесу, может, знакомых увидишь. Посидим ещё немного. Давно мы столько не смеялись, да, Ир?
Ирка обрадованно накладывала в тарелки новые порции псита сто фурно (блюда, запечённые в духовке).
– Чего тебе спешить? – Владимир Иванович вовсе не для приличия, а на полном серьёзе не хотел, чтоб Адель уходила. – Завтра встанешь и прямо отсюда поедешь на работу. Договорились?
Ещё как договорились! Ещё как! Кто меня ждёт в съёмной квартире? Запертые Лёшкины вещи в салоне? И хер с ними! Или серая стена противоположного дома на расстоянии вытянутой руки. Это она меня ждёт?! Другое дело, если бы тогда… мой ангелочек, моя маленькая тонкая стрекозочка с прозрачными крыльями не бросил меня, не оставил одну, ему бы уже сколько лет было! Он бы спал в своей кровати как настоящий мужчина и ждал маминого возвращения. А сейчас? Меня ждёт на столе пачка бумаг, собранная для судебного разбирательства с Лёшей? И всё? Да, и всё! Конечно же, я хочу остаться здесь, с вами, с Владимиром Ивановичем, с таким шикарным, умным, добрым, от которого щекотно и в мозгах и… и в животе! Хочу остаться даже с его Иркой в домашнем халате и его тапочках! Хочу, потому что он её любит. Хочу сидеть с ними до утра, хочу насовсем… Я, конечно, толстая, но ем мало… я работаю, тоже буду что-то покупать… не выгоняйте меня… мне без вас будет плохо… мне будет очень плохо…
– И новые фотографии есть? Может, кто-то присылал? Говорят, Город сильно изменился, дома покрасили, фонтан новый построили, – Адель блаженно потягивается в предвкушении продолжения прекрасного вечера.
– Ну, как новые? Не совсем новые, хотя они сделаны уже после твоего отъезда. Ирка, где тот бордовый бархатный альбом? Не этот! Это же коричневый! Там только старые фотографии! В шкафу глянь… бархатный бордо… Вообще-то, дай ка мне этот на секунду… Адель! Хочешь посмотреть, каким я был, когда был маленьким? Вот смотри – это… откуда здесь эта фотография? Ирка, я ж её искал на права, а ты их положила в старые? Так их вообще перебрать надо! Я вижу, ты тут все напутала! Неужели нельзя всё класть на свои места?! А, ну вот… вот я пошёл в первый класс… ты только посмотри, какие у меня босоножки! Ой, не могу, надеты на носок! Ой – босоножки на носок! Ну Аделька, ты только посмотри!
Она смотрела, выхватывала у него фотографии, он снова прятал их за спину, якобы стесняясь им с Иркой показывать, внимательно рассматривала и снова клала их в альбом. Она всё думала: почему они, в принципе совершенно чужие ей люди, вот просто так пригласили к себе в гости, предложили у них переночевать, сидят теперь с ней на кухне и едят пирожки. Почему тогда, давным-давно, в прошлой жизни, папин страший брат, дядя Янис никогда у них больше одной ночи не спал, и почему мама всегда с такой нервозностью жарила ему на кухне картошку, как будто должна была получить в «личное дело» выговор «с занесением»?! Она громыхала посудой, обязательно что-то роняла, разливала, папа выскакивал на кухню, подбирал, начинал «успокаивать», напоминая, что у неё поднимется давление и ей «станет плохо»! А кто виноват, что «мами станэт блохо» (маме станет плохо)?! Так дядя Янис и виноват! Не приезжал бы, мама бы не суетилась, чтоб «хорошо его принять», не «нервничала», «руки бы не тряслись» и она бы ничего на разбила! Только «ми» (мы), только «наша семя» (наша семья)! И ведь Ирина видит её, Аделаиду, впервые, не заводит с ней никаких глубокомысленных бесед о её родителях, о причинах развода с Лёшей, не далает ей «замечаний». Она ржёт как полковая лошадь и пальцем вылавливает из своего компота фрукты. Она уже застелила Адельке постель в отдельной комнате, отнесла ей туда же два пушистых полотенца – для лица и для душа. Она не делает «измученного, интеллектуального лица» и не стоит живым укором над ней, чтоб Адель поняла, что засиделась. Почему эта самая шестидесятилетняя «Ирка» не была её мамой?! Ну, почему Адель угораздило родиться в этой «известной во всём Городе уважаемой семье учителей»?!
Если б Адель не была такой закормленной и страшной, если б не хотела поскорее уйти из этого маминого ада, разве кинулась бы она на первого встречного Лёшу как на спасательный круг, влюбилась бы в него вся – с головы до пят, пытая его своей безумной, безграничной страстью, даже не замечая, что он совсем не тот человек, который ей нужен?!
– Нет, ну ты только посмотри на его ножки в этих шортиках!.. – Адель вздрогнула и обернулась. Ирина села за её спиной и так раскачивала стул безудержными волнами зажигательного смеха, что казалось, он сейчас развалится под её весом, ну или задние ножки провалятся в пол. – Ты только посмотри – коленки как у паучка! Две тоненькие косточки с кожицей и круглые коленки! Ой, я не могу! – Ирина заливалась всё громче и всё крепче хваталась за спинку Аделькиного стула.
– Что ты смеёшься?! Это мы на высылке! – Владимир Иванович старался быть серьёзным, но круглое лицо его жены выглядело таким уморительно счастливым с трясущимся от хохота подбородком, что он, не в силах совладать с собой, тоже радовался как ребёнок.
– Да что ты ржёшь, зараза?! – Владимир Иванович пальцем ткнул Ирину в бок. – Ты свои детские фотографии посмотри! Сама похожа на глисту в корсете!
– Зато сейчас я красивая! – Ирка схватила себя за те места, где на старой фотографии была талия.
– Это ж в Казахстане, мать! – Владимир Иванович потянулся к пустой рюмке. – Это когда нас в сорок девятом отправили вглубь страны как этих… как они тогда назывались – неблагонадёжных. Адель! – он налил себе до краёв. – Ты будешь, нет?
– Всё равно домой не идти, конечно, буду! Лейте, лейте, Владимир Иванович! Не стесняйтесь!
– Ух какая ты стала языкатая!.. – он обнял Адель за плечи. – Раньше-то постеснительней была! Слова от тебя не дождёшься!
– Жизнь заставила! – она приподняла рюмку. – За нашу встречу?
– Аминь! Давай! А вот смотри, – он всё держал свою ру ку на её плечах, – это вот, в цветастом платье – моя мама.
– Красивая!
– Мама? Моя мама была самая красивая на свете!
– Вот смотрите, – Ирина, снова переходя на «вы», объясняла Адель, – Володенька маленький, тут ему года четыре. Смотрите, какой смешной. Штаны падают, лямка через плечо и пуговица огромная, как у Карлсона. Ха-ха-ха! Это вот мама в деревне. Посмотрите, видите, вон там на каменной плите что-то выбито по-гречески? Это потому, что всё побережье тогда населяли греки. Целые греческие деревни были, которые и говорить-го умели только на понтийском. Вы сами говорите на понтийском? И я нет. Это очень старый язык, похожий на древнегреческий. Сейчас в Греции говорят только на новогреческом, на димотико, а есть ещё и другой язык… Видишь, вот с одноклассницами…
– А вот это – папа! – Владимир Иванович переложил альбом к себе на колени. – Это одна из последних фотографий, за несколько месяцев до его расстрела. Как раз нас потом и депортировали в Казахстан. А вот этот рядом – его самый близкий друг. НКВДшник. Помнишь, я тебе, если не ошибаюсь, рассказывал. Про то, как отца арестовали, про его друга, который написал донос, потому что «другу» нравилась моя мама. Сообщил, «куда следует», что мой отец готовит «антиправительственный заговор», как тогда говорили. Что он – «враг народа» и собирается «покуситься» на жизнь самого товарища Сталина. Ну, помнишь, я тебе и рассказывал, когда ты с температурой ко мне в больницу приходила?! Вот держу эту старую фотографию. Хотел выбросить несколько раз, но потом оставил. Пусть, думаю, лежит. Иногда рассматриваю лицо этого… этого… – Владимир Иванович замялся, подбирая нужное слово, – ведь если б всего этого не было, если б он одним только росчерком пера не решил судьбу стольких людей – мамы, меня, и, как я потом слышал, – ещё очень многих, у моих родителей всё было бы по-другому. Мама же совсем молодая умерла. С голодухи и ножки у меня на фотографии как у паучка, да, Аделька?
Адель поняла, что земля пошатнулась. Не от выпитого, вовсе нет… фотография, приклеенная на потёртый, цвета сушённого табачного листа, картон со стёртыми от вемени уголками.
– …это двоюродный дядя… – продолжала хозяйка, – вот тётя Марико… а вот это…
«Фотограф Миджоян. Эриванская площадь угол Армянского базара № 3». Дорогая, очень дорогая бумага… В центре портрет мужчины с мягким овалом лица, умными задумчивыми глазами, а рядом… рядом человек в военной форме с волнистыми волосами, зачёсанными назад, колючим взглядом маленьких, едких глаз. Кожаная портупея, погоны.
– …это Володенькин папа, – голос доносился уже очень издалека. Аделаидины пальцы вспотели и прилипли к глянцу верхней фотографии, остальные, выскользнув, с шорохом рассыпались по полу кухни. Адель молчала.
Неловко задетая локтем рюмка, ударившись о мраморный греческий пол, с грохотом разлетелась на мельчайшие, похожие на лёд, осколки. Зачем они выставили хрустальные?.. От простых осколков было бы меньше…
– Ничего, ничего!.. – Ирина кинулась на балкон за веником. – Всё равно этих рюмок было уже не шесть! Уже не комплект. Ничего страшного! Я сейчас подмету!
«Как он сказал? „Это мой папа за несколько месяцев до смерти рядом с другом, который на него и донёс?!“ Нет! Это не его папа! Это просто мужик и рядом – мой дед! Это мой дед рядом с мужиком, которого расстреляли!»
– У меня в альб… – она осеклась. Она хотела сказать, что у неё в альбоме есть такая же, точно такая же старая, очень старая фотография, приклеенная, как и эта, к куску пожелтевшего картона, с выцветшей чернильной печатью и росписью хозяина фотоателье! И эта фотография её собственного деда, которую тётя Люся тогда привозила и отдала ей! Тётя Люся тогда ещё сказала, что он… что дед… он был не таким, как рассказывала мама. Он отправил в подвалы НКВД несколько десятков человек, и один из них – это папа Владимира Ивановича?! Как это может быть?! Это значит… это значит, она, которой сейчас напекли пирожков и застелили пахучими простынями постель, – внучка убийцы?! Он подливает мне вина и не знает, что во мне течёт кровь убийцы его родителей?! Он, наверное, любит меня, а из-за моего деда он в больнице пил спирт?! Значит, ему было очень плохо. Он и сейчас отравлен этими выселками, его волосы побелели, когда ему было слегка за тридцать.
– Аделька, да ты уже совсем спишь? Укатали Сивку-Бурку! Ирка, а у подруги уже совсем глаза закрываются! Глянь, глянь на неё – заснула на ходу.
– Ну так ты же ей поесть не давал! «Давай выпьем, давай выпьем!» Хорошо, что я ей уже постелила! Адель, хочешь спать? Пойдём, я тебя проведу! – Ирина участливо отодвинула от неё тарелку с недоеденным пирожком.
– Конечно, хочет! Надо же, как быстро пролетело время. Оказывается, уже полпервого! Сарделька, тебе когда на работу?
«О чём он спрашивает? Какая „работа“? Ах, да… работа… работа… я же работаю…»
Окно выходило на море. Как этим морякам там живётся на этих больших сухогрузах? Зажгли огни. Они, наверное, тоже сейчас смотрят на материк и думают, когда уже припаркуемся? Хочется им, наверное, на автобусе по городу покататься.
Небывалое, неведомое доселе спокойствие вдруг охватило Аделаиду. Даже не нужен ингалятор. Всё нормально. Как интересно – эта входная дверь со стеклянными вставками, эти кнопки, астма – всё это было в прошлой жизни. Сейчас всё по-другому. Иногда невесть откуда взявшаяся молния вот так разрезает жизнь на «до» и «после»! «До» было вчера, на улице, по которой сюда шла, в кондитерской, где брала «эклеры»… «После» стало от «сейчас» и навсегда. На всю жизнь, где бы она не очутилась…
– У-У-У-ишь как развезло девку! – сердобольная Ирина помогла ей пройти по коридору.
– Да нет, всё нормально… я сама… я не пьяная…
– Конечно, сама! Я только свет тебе погашу. Спокойной ночи!
– Да… спокойной… Прощайте, Владимир Иванович!
Она плотно прикрыла за собой дверь с окошечками и, не раздеваясь, прилегла на широкую деревянную кровать. Такую же широкую, как у них дома матрас на полу, на котором они с Лёшей спали.
Простыни были на удивление прохладными. Это было особенно приятно, потому что в воздухе стояла невыносимая духота.
Что ещё может произойти со мной в этой жизни? Всё уже произошло и закончилось. А вокруг тишина, вокруг ни души и у меня ничего нет. Значит, сбывается мамино пророчество «За бортом!»? Да… медленно и верно сбывается…
Аделаида вдруг с огромным удивлением поняла: вместо того, чтоб ей было плохо, ей безумно хорошо! Откуда это? Какое-то почти неземное счастье медленно разлилось по всему телу. Стало легко и спокойно. Такого умиротворения, такой томной неги она не испытывала никогда. Казалось, в сосудах кровь превратилась в нежный, живительный бальзам, омывающий своей прохладой и свежестью всё, что за столько лет накопилось в душе. Все земные проблемы, горести ушли и растворились где-то в вечности. Осталось только ощущение тихой радости, как если б она прикоснулась к чему неведомому.
Хрустящее постельное бельё источало нежный аромат фиалок. Он проникал через каждую пору в коже, и от этого лесного аромата тело таяло и становилось невесомым. В тёмное окно смотрели яркие, очень яркие звёзды. Так низко звёзды висят только в далёких степях или над уснувшим морем… Она сегодня узнала самую самую страшную тайну на свете: её дед, её родной, собственный дед был убийцей. Адель сейчас лежит на кровати в доме у сына расстрелянного им друга. Удивительно, но ей и это теперь безразлично. Всего пять минут назад был стресс. Он прошёл. Он прошёл почти мгновенно, незаметно, не затронув тонких струн души, как если б они уже давно были порваны. Немного неловко, конечно, перед Владимиром Ивановичем, но именно «неловко», и ничего более.
Всё стало простым до безобразия. Действительно: что произошло? Ну, предал, ну расстреляли… Один дед, что ли, был в НКВД? Да их по всей стране металось, как рыбы в море. В те годы даже у стен были уши и языки. Так что теперь? Деда самого потом расстреляли! Партия оценила по заслугам его деятельность.
Звёзды в окне горели всё ярче. И чего было лежать в кровати? Так ведь видно всего полнеба! А если убрать цветы с подоконника на пол и сесть на этот самый широченный подоконник, то будет видно всё небо полностью, тёмное, как смола, море, корабли на рейде и лунную дорожку в придачу.
Адель босиком на цыпочках прошла через комнату и села на широкий подоконник.
Город внизу… тысячи зажжённых огней в чужих окнах. Счастливые дома, где все друг друга ждут. В этих домах дарят подарки и ночью поправляют сползшее одеяло.
Что было всю жизнь? Борьба, борьба и борьба, но не революционная, не на благо всего человечества, не за «мир во всём мире», как учили в русской школе, а непримиримая борьба с самой собой и жителями родного Города всего лишь за право жить на этой Земле. Чего стоило только выжить под маминым прессом и не подвинуться рассудком!
А звёзды передвинулись, как будто небесный хозяин высыпал новую горсть во вселенную! Как здорово, оказывается, сидеть вот так на окне, обняв колени, никуда не спешить, не бояться, что вдруг в проёме двери покажутся мама или Лёша. До чего они похожи! Как я этого раньше не замечала?! Потому и не понравились друг другу с первой секунды, что не смогли поделить, кто из них в моей жизни займёт главное место. Вот бы им чёрную форму со свастикой на красной повязке! Автомат в руки, ноги расставлены на ширину плеч, чёрный плащ полощется на ветру.
Как в этом доме тепло. Можно сидеть на подоконнике хоть до самого утра и смотреть на звёзды. И мама не скажет, что мне нравится смотреть на небо, потому что я – «дура»! Ха-ха! Никто ничего не скажет! А вот там планеты… сколько их, это ж с ума сойти!.. ГЪворят, разных галактик несколько миллионов. Думать страшно… всё такое бездонное, бесконечное… Самое обидное – никто на свете не знает, и не узнает уже никогда, что это мои звёзды! Они мои собственные, потому что деда мне их тогда подарил. Вон она – Большая Медведица, а точнее – Большой Медведь. Это мой самый прекрасный деда на свете! Самый добрый, самый красивый, самый-самый… И конечно же, там, высоко-высоко, и находится планета Маленького Принца. И конечно же, он прилетает иногда на землю, чтоб посмотреть, как мы живём. Ко многим, которым очень одиноко, как в пустыне, вот к тому французскому лётчику, например, с именем, похожим на созвездие, он прилетел, чтоб помочь. Маленький Принц видит их со своей Планеты, видит, как им плохо, и действительно приходит, а люди его не узнают! Только я его узнавала несколько раз. Я чувствовала его приближение по дуновению ветерка, узнавала по улыбке, по глазам, светящимся любовью и добротой! На самом деле его не так просто различить в толпе, потому что он всегда разный. Только белый развевающийся шарф и движение сердца подскажут, что это Он, который «в ответе за тех, кого приручил». Все наши близкие, все друзья – это Маленькие Принцы. У них на Земле нет ни возраста, ни пола. Они отогревают замёрзших путников, и минуты, проведённые с ними, похожи на звёздный букет, собранный из миллионов галактик.
Мой милый деда… Он же тоже был Маленьким Принцем! Он часто приглашал меня и мы летали с ним во сне и наяву. «Здравствуй, мой маленький друг! Я сейчас расскажу тебе сказку»… Может, никакая ручная «Спидола» и не работала вовсе, а сказки, сотканные чёрным бархатным голосом, рассказывал сам деда?! У Фрукта был голос, похожий на скрип ворота колодца, из которого Маленький Принц и Лётчик пили воду. Этот скрип мне казался дивной музыкой, потому что он родился из многих километров долгого пути под звёздами. Ржавый, надтреснутый голос Фрукта – подарок моему сердцу… Он знал, что обязательно станет бардом, потому что певец поёт не голосом, а душой – смелой, гордой, сильной, и в то же время израненной и нежной. Высоцкий… Маленький Принц… Тогда на концерте он подарил мне розу. Зачем он выступал во «Дворце спорта»? Ангелы должны петь только в храме!.. Кощейка… Принцесса, конечно… кроткая, ласковая, безответная… Ну и что, что силы в ней не больше чем в бабочке. Ей можно, она же девочка… Мои друзья ушли. Все четверо – три мальчика и одна девочка – с длинными, почти до пояса, непослушными волосами. Они вернулись на свои Планеты, к своим недействующим вулканам и розе с шипами. Деда сказал, что он будет всегда жить у «Большой Медведицы». Нет! Он сказал, что сам станет «Большим Медведем», а она – Аделаида станет «Маленьким Медвежонком» и всегда будет рядом с ним. Но бабуля тогда всё испортила! Она подвела её к окну и велела заглянуть сквозь железные решётки вовнутрь… На лампочке под потолком не висел больше её любимый пластмассовый Буратино, а маленькая комната была полна чужих людей в чёрном…
«Владимир Иванович, последний Маленький Принц, посетивший меня в тяжёлую минуту. Белый шарф, которым он меня замотал, чтоб я не простудилась, лежит дома в шкафу, в прозрачном целлофановом пакете. Его можно накрутить себе на шею, можно положить под щёку вместо подушки и спать на нём. Шарф до сих пор пахнет сигаретами, значит всё, что произошло на Красном Мосту, – правда. Теперь из Маленьких Принцев он остался один. Завтра, как только наступит завтра, я должна уйти из его жизни, Маленькие Принцы не выдерживают предательства. Они от предательства тают в воздухе и даже не могут вернуться домой, на свою Планету. А у Кощейки не было шарфа… Ничего! Принцессам не обязательно его носить!»
Аделаида прислонилась лбом к холодному стеклу.
«Девочкам вообще многое не обязательно. Им только обязательно помнить о своём месте. Я хотела быть счастливой и красивой. Хотя красота и счастье совсем не одно и то же. Как меня дразнили, когда я была маленькой – «Далида»? Была она счастлива? Далида, у которой свободный и гордый нрав, которая желает быть независимой, презирает средневековые устои и традиции. Она так и не смогла отдалиться от последствий своей вечной борьбы. Она была прекрасна, а ей всё казалось, что над ней смеялись. Одиночество и безысходность есть удел тех, кто не смог принять ложь искусственного переплетения Запада с Востоком…
…Скоро, наверное, рассвет. Небо изменилось в цвете. Звёзды поднялись выше. Теперь их почти не видно! Большая Медведица укатилась за крышу соседнего дома…»
– Да распахни ты окно! Почувствуй хоть раз в жизни пьянящий запах свободы! – о ля-ля! Кто к нам пришёл?! Привет, привет, милый, хороший внутренний голос! Давненько ты к нам не хаживал! – Открывай, открывай! – не унимался старый друг. – Дыши, глупая! Дыши! Зачем тебе это всё?! Зачем нужен Город, если над ним нет звёздного неба?! Не бойся! Совсем не бойся!
От резкого рывка посыпались и звякнули о тротуар выбитые стёкла. В грудь больно ударил порыв свежего ветра. Она ещё никогда не была так счастлива! Вот сейчас, сейчас у неё за спиной растут огромные белые крылья, как у того Прекрасного Лебедя! Мгновенье… и они понесут её высоко, высоко, прямо к тем миллионам сине-серебряных галактик.
Аделаида задохнулась от потока холодного воздуха. Он рвал трахею и жёг глаза. «Я – Прекрасный Лебедь из старой сказки! Я – Далида! Всё закончилось! Я красивая, умная и смелая! – Безумная радость, как хмельные брызги шампанского, обуяла всё её существо. – Мама! Мама же говорила „за бортом“! За бортом! За бортом самолёта человек свободен и счастлив! Я хочу жить за бортом! Как здорово, как здорово, что мамочка меня тогда не покрестила – значит, это не грех и мне за это ничего не будет! Я хочу парить под звёздным небом, я хочу, чтоб вся Земля была на моей ладони, потому что отныне я – повелительница ветров!»
– Ну, так лети им навстречу, глупая!
Кто это сказал? Да какая теперь разница?!
Шаг… шаг… один только шаг вперёд – это много или мало?
Каждый день всходило новое солнце. Но теперь оно всходило без неё.




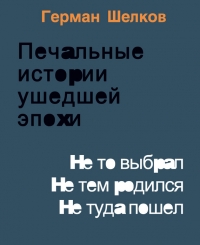

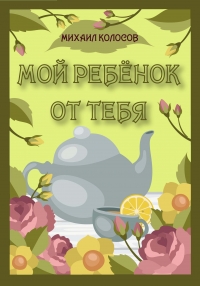
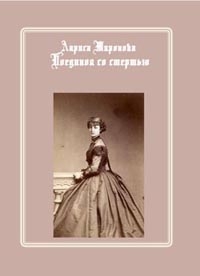

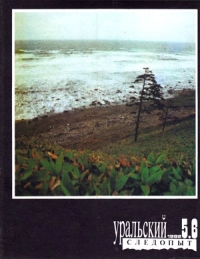
Комментарии к книге «Пасынки отца народов. Квадрология. Книга четвертая. Сиртаки давно не танец», Валида Анастасовна Будакиду
Всего 0 комментариев