Эм Вельк РАССКАЗЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эму Вельку (1884–1966) принадлежит заметное место в немецкой литературе XX века; книги Велька пользовались при его жизни и пользуются поныне большой популярностью. Он работал в литературе свыше шести десятилетий, был журналистом, поэтом, драматургом, прозаиком. Широким признанием, которое получили его книги, он обязан, прежде всего своему яркому таланту рассказчика, злободневности тем и, конечно, духу гуманизма и свободолюбия, которым пронизаны его книги. Выходец из народных низов, представитель, как он говорил, древнего крестьянского рода (предки Велька жили в Нидерлаузице, экономически отсталой области Германии, населенной не только немцами, но и сорбами (представителями славянского национального меньшинства), он навсегда сохранил естественный демократизм м в жизни, и в поведении, и в творчестве.
Как и у других немецких писателей XX века, в творчестве Э. Велька ясно заметны три рубежа — первая мировая война и Ноябрьская революция 1918 года, приход Гитлера к власти в 1933 году, освобождение страны от гитлеризма в 1945 году. Но биография Эма Велька существенна для понимания его книг и в более конкретном смысле, ибо насыщала их темами, сюжетами, конфликтами, героями.
В заметке «Кое-что о себе», опубликованной в сборнике, который вышел в свет в 1964 году, к восьмидесятилетию Велька, он писал: «Отцы, мелкие крестьяне, заводили сыновей, которые, в свою очередь, становились мелкими крестьянами и тоже заводили сыновей более 400 лет подряд в одной и той же деревне в Нидерлаузице. В этом длинном ряду мой отец Готфрид Вельк (имя сорбское и означает волк) был первым, кто покинул деревню. Оставив хозяйство младшему брату, он уехал в Померанию, женился на дочери крестьянина и осел в Укермарке, на границе Померании. Я родился в деревне Бизенброу в округе Ангермюнде 29 августа 1884 года, третьим сыном из пятерых детей. Я ходил в деревенскую школу и много лет брал частные уроки у школьного учителя и у пастора. Ибо моя мать хотела, чтобы я стал пастором; но этого не хотели мы с отцом Мой отец хотел, чтобы я стал учителем; но этого не хотели мы с матерью. Я же хотел стать художником или моряком; но этого не хотели отец с матерью. Поскольку мы не могли прийти к согласию, я оставался дома и удовлетворял свою страсть к чтению и учению по придуманной мной системе»[1].
Биографы отмечают незаурядные способности, которые проявились у Э. Велька очень рано, еще в школе. Журналистская деятельность его началась в 1904 году — будущему писателю было девятнадцать лет — в одной из газет города Штеттин, откуда, правда, он скоро был изгнан, поскольку осмелился напечатать без ведома главного редактора заметку в поддержку бастующих моряков. Привело это к тому, что Вельк сам ушел в морс, решив испытать на себе матросскую жизнь.
В дальнейшем ему пришлось переменить немало профессий и мест жительства. Скитания эти были частью добровольными, частью вынужденными. Но где бы он ни жил и чем бы ни занимался, его всегда тянуло к литературе. Его способности в журналистике были настолько заметны, что уже в те годы, несмотря на молодость, он несколько раз занимал посты главного редактора в различных газетах и журналах. Он был, как пишет немецкая критика, самым молодым главным редактором в тогдашней Германии.
Первая мировая война не обошла стороной Эма Велька, как и большинство немецких писателей его поколения. Из-за слабого здоровья он был призван сравнительно поздно, в конце 1915 года, и служил в санитарной роте собаководом (животные всегда были страстью Э. Велька), но уже в 1917 году был уволен из армии по болезни. Но в становлении Велька-писателя война сыграла решающую роль. Издав свою первую самостоятельную книгу еще в 1913 году, он в военные годы стал писать стихи и рассказы, проникнутые явно антивоенными идеями. Один из рассказов, созданный в широко распространенной тогда экспрессионистской манере, Вельк послал в столичную газету, где он не только не был напечатан, но и переслан командованию части, в которой служил Вельк, как свидетельство его пораженческих настроений.
Э. Вельк приветствовал Ноябрьскую революцию, хотя больше сердцем, чем разумом. В годы Веймарской республики он принадлежал к той части немецкой интеллигенции леворадикального образа мыслей, которая честно стремилась определить свое место в острых классовых боях того времени, стараясь при этом оставаться вне партий. В поисках новых художественных средств он приходит к драматургии, которая давала возможность со сценических подмостков непосредственно обращаться к аудитории.
В 1927 году Эрвин Пискатор ставит в «Фольксбюне» пьесу Э. Велька «Гроза над Готтландом», написанную на исторический сюжет, который не случайно казался и автору, и постановщику глубоко злободневным. Речь в пьесе шла о Клаусе Штёртебекере, «морском разбойнике» ставшем главой народного восстания и казненного в 1401 году, фигура этого немецкого Робина Гуда, предводителя движения «уравнителей» не раз привлекала внимание немецких писателей; у Теодора Фонтане есть наброски неоконченного романа о нем; уже в ГДР Клаусу Штёртебекеру посвятил роман В. Бредель, а поэт Куба — грандиозную «драматическую балладу». Пьеса Велька принадлежала к тем произведениям, которые, в противовес официальной буржуазной историографии, рисовали Клауса Штёртебекера не как преступника, а как вождя угнетенных, борца за справедливость.
Работать над этой темой, которая, по собственным словам Э. Велька, сыграла большую роль в его жизненном самоопределении, он начал много раньше. Переиздавая в ГДР «Грозу над Готтландом», он говорил: «Я написал свою первую пьесу о Штёртебекере в двадцатилетием возрасте, в 1905 году, когда ожесточенные бои русской революции, предательство, совершенное русским царем Николаем по отношению к петербургским рабочим, и заявление кайзера Вильгельма о том, что солдат должен стрелять по его приказу в собственного отца и собственную мать, указали путь к жизни сотням тысяч юношей буржуазного происхождения»[2].
В том же 1927 году состоялась премьера пьесы Э. Велька «Снятие с креста», состоящей из двух частей: «Толстой» и «Ленин». Действие этой пьесы, свидетельствующей о большом интересе Велька к России и к русской революции, строится вокруг Льва Толстого в последние дни его жизни; по авторскому замыслу пьеса должна была показать два пути освобождения угнетенного царизмом русского крестьянина: «Первый согласно учению великого русского писателя Льва Толстого состоял в смирении, кротости и долготерпении, второй, согласно требованию Ленина, в применении революционных средств. Этот вопрос был основным не только после первой мировой войны, для половины человечества он остается таким и сегодня»[3].
Наконец, в 1931 году была опубликована пьеса Э. Велька антифашистского содержания «Михаэль Кноббе, или Дырка в лице», но поставить ее не удалось — к власти в Германии пришли гитлеровцы.
Пьесы Э. Велька были заметным явлением в литературной и общественной жизни Германии 20-х годов, отмеченной резкой поляризацией социальных сил. Далеко не во всем удачные, они свидетельствовали тем не менее об искренности его свободолюбивых, революционных настроений и немалой творческой и гражданской смелости. Постановки «Грозы над Готтландом» и «Снятия с креста» имели шумный отклик, вызывали бурные споры, превращались в театральные скандалы, и прежде всего из-за их открытой агитационной направленности.
Свою смелость Э. Вельк вскоре доказал еще раз. Он был в то время (начиная с 1922 года) редактором воскресного еженедельника «Грюне пост» («Зеленая почта»), массового издания, занимающегося вопросами охраны природы, защиты животных и т. п. и весьма далекого от политики. Статьи в этой газете (как и другие свои журналистские выступления) Э. Вельк в течение многих лет подписывал псевдонимом Томас Тримм. 29 апреля 1934 года, то есть более чем год спустя после прихода к власти гитлеровцев, он опубликовал в этой газете передовую за своей обычной подписью под названием «Господин рейхсминистр, прошу на одно слово!», в которой выступил против проводимой гитлеровцами «унификации» печати. Эта статья, направленная лично против Геббельса, привела Э. Велька — к счастью, ненадолго— в концлагерь Ораниенбург (тот самый концлагерь Ораниенбург, где в это время умирал замученный гитлеровцами немецкий поэт и публицист Эрих Мюзам), лишила всех постов и возможности зарабатывать на жизнь литературным трудом (ему было запрещено печататься).
Запрет печататься был снят в 1937 году (с условием, что Вельк будет писать «неполитические книги»), и тогда один за другим вышло в свет несколько его романов, в том числе «Язычники из Куммерова» (1937) и «Праведники из Куммерова» (1943).
Оба эти романа автобиографичны: в них Э. Вельк, как и некоторые другие немецкие писатели, оставшиеся в стране после прихода Гитлера к власти, но не принимавшие «новый порядок» и поэтому лишенные возможности открыто выражать свои мысли и чувства, обращается ко времени своего детства. Точно так же и Ганс Фаллада написал в эти годы автобиографическую повесть «У нас дома в далекие времена», полную ностальгии по ушедшим временам, но не потерявшую от этого ни реалистической правдивости, ни поэтической прелести. Деревня Куммеров, в которой происходит действие романов Э. Велька, не выдумана, хотя ее названия и нет на карте; заменил автор и имена действующих лиц (себя он вывел под именем Мартина Грамбауэра, своего отца— Готлиба Грамбауэра и т. д.). В романах действуют бедняки и богатеи, слуги и господа, местный граф и его окружение, пастор и прихожане; это мир детства Эма Велька. Жизнь деревни увидена глазами двух мальчиков, Мартина и его друга Иоганнеса; поэзия их детской дружбы и часто недетских споров придает книге теплоту и человеческое очарование. Как и в повести Фаллады, кричащие социальные противоречия вильгельмовской Германии смягчены в этих романах юмором, многое в социальной действительности того времени сглажено, но Э. Вельку удалось поразительным образом в этих «неполитических книгах» создать ясный противовес фашистской «народной литературе», шовинистическим идеям «крови и почвы». За юмором постоянно чувствуется горечь, за шуткой дух мятежа.
Конечно, Эм Вельк, как и Ганс Фаллада, отдыхал душой, уходя в годы своего детства. Но он думал и о читателях. Позднее, уже в ГДР комментируя свой замысел, Эм Вельк писал: «Я создавал эти книги, когда позор, подлость и заботы заслонили от меня настоящее и будущее. Я оставил сложности жизни там, где они были, и отправился назад в сторону молодых сердец. И вернулся подкрепленный, улыбаясь решительнее, и не видел с тех пор наглых гостей, вторгшихся в мою личную жизнь. Или гнал их от себя. Если что-то из этой силы есть в моих книгах и воздействует на людей, значит, путь, о котором может говорить писатель, приблизился к цели и о ней он больше говорить не должен».
Антифашистско-демократические перемены после 1945 года и образование Германской Демократической Республики в 1949 году Эм Вельк принял как свое кровное дело. Он отверг все предложения уехать на Запад и был среди тех, кого в ГДР называют «активистами первого часа», много способствовал возрождению и обновлению культурной жизни, прежде всего в близкой ему области народного образования. В 1946 году Эм Вельк, отстранявшийся всегда от партийной борьбы, стал членом Коммунистической партии Германии, позднее СЕПГ. Он был отмечен многими наградами, в том числе Национальной премией, был избран в Академию искусств ГДР.[4]
Будучи видным общественным деятелем молодой республики, Э. Вельк не отошел от литературы. Наоборот, вскоре он целиком посвятил себя ей и продолжал работать до последних дней своей жизни. «Я как никогда полон радости работы, она только слегка омрачена мыслью об уходящих годах»[5],— писал он в 1949 году. На протяжении пятидесятых — шестидесятых годов выходят в свет его новые романы (один из которых, «В утреннем тумане», 1953, был посвящен событиям Ноябрьской революции), переиздаются старые романы, переиздаются также пьесы, стихи, он работает над сценариями для кинофильмов; однако наиболее заметное место в его творчестве этих лет занимают рассказы. В сущности, только в эти годы, опираясь на успех романов о Куммерове, Вельк в полной мере нашел своего истинного читателя. Его понимание высокого предназначения литературы позволяло ему, естественно, обращаться в новых условиях к самой широкой аудитории. В книге, выпущенной в 1959 году верной спутницей его жизни, писательницей Агатой Линднер-Вельк, говорилось: «Он очень критичен и не всегда приятен, этот Эм Вельк. Он и в будущем не станет приятней, потому что, по его словам, только трение порождает искру и пламя, а это пламя питается горячен любовью к людям»[6].
В 1952 году Э. Вельк выпустил большой том под названием «Моя страна, что светит вдалеке» с подзаголовком «Книга немецких рассказов, состоящая из воспоминаний и размышлений». Этот искусно построенный сборник автобиографических рассказов имел для Э. Велька принципиальное значение: этой книгой семидесятилетний писатель обращался к новому читателю, к молодому поколению Республики. Сборник открывался коротким «Предисловием», выглядевшим скорее как эпиграф. Оно состоит из реплики старца, взрослого человека и юноши. Старец утверждал, что лучшее в жизни — воспоминания. Взрослый человек говорил, что «люди хранят свои воспоминания, потому что каждое „вчера“ стремится закрыть свое „сегодня“ — как светом, так и тенью». А юноша восклицал: «Что мне в том? Каждое „сегодня“, которое не озарено светом лучшего „завтра“, это уже „вчера“.
Сборник имел большой успех, много раз переиздавался, нашел своего широкого читателя, к которому стремился Э. Вельк. По характеру рассказы сборника очень близки его автобиографическим романам: та же манера письма, те же герои, та же деревня Куммеров, где родился и жил мальчиком Мартин Грамбауэр, он же Эм Вельк. Однако горизонты изображаемого мира шире — не только детство и юность и не только история прошлых поколений, но и взрослая жизнь героя, в сущности, история Германии XX века, проведенная пунктиром вплоть до последнего времени, до ее крутого поворота в 1945 году.
Через весь сборник рассказов проходит образ сказочной страны Орплид, населенной таинственными существами, страны совершенства и мечты: так впечатлительный деревенский мальчик, любящий уединенные прогулки, окрестил болотистую низину посреди леса, которую все называли Черным озером и считали гиблым местом..
Орплид пришел в книги Э. Велька из романа „Художник Нольтен“ (1832) немецкого писателя Эдуарда Мёрике Орплидом был назван в этом романе божественный остров, помещенный писателем где-то „между Тихим океаном, Новой Зеландией и Южной Америкой“ (упоминаемая на страницах сборника Э. Велька страна Бимини взята из одного из самых печальных, элегических стихотворений позднего Генриха Гейне и имеет тот же смысл). Орплид стал в книгах Э. Велька неким синкретическим образом, включающим в себя счастливые воспоминания о прошлом и надежду на лучшее будущее, но в то же время скрывая в себе печаль и тоску, совмещая „свет“ и „тень“. Этот символ жизни и веры в грядущее противостоит в книге трагедиям и сложностям реальной немецкой истории XX века: герой книги вспоминает Орплид всякий раз, когда „жизнь погружалась во мрак или когда ей грозила страшная опасность“.
В последнем рассказе этого сборника (его правильнее было бы назвать очерком) говорится о том, как писатель едет в свою родную деревню Куммеров, туда, где расположен Орплид его детства, встречается со школьниками, находящимися в том возрасте, в каком он сам был шесть десятилетий тому назад. Он отмечает не только совсем новые условия жизни в его деревне, но и ясный, трезвый ум нового поколения — того поколения, для которого „сегодня“ освещено реальным светом лучшего будущего.
Традиции реалистического письма Эма Велька, в котором слышна романтическая нота, восходят к немецкой литературе XIX века, прежде всего к творчеству тех писателей, чьи имена легко обнаруживаются на страницах книг самого. Э. Велька, — Жан Поль, Эдуард Мёрике, Фриц Рейтер, Вильгельм Раабе и, конечно, Теодор Фонтане. Часто встречается в них и имя Генриха Гейне. Все это заставляет вспомнить о том, что Вельк писал и в веселом, даже буффонадном духе, владел и острой социальной сатирой. В юмористически гротесковом ключе написан сборник с длинным стилизованным названием: „Мутафо. Это — вещица, которая проходит сквозь ветер. Невероятные истерии двух славных христиан-мореходов Томаса Тримма и Вильгельма Штейнерта…“ (1954), а также сатирический роман „Храбрый господин Кюнеман из Путтельфингена“ (1959). Отмечая эти книги, критика обращала внимание на то, что они возрождают редкую в литературе ГДР того времени сатирическую манеру письма.
В эти годы Э. Вельк обращался в своих рассказах и к современности, к тем решающим переменам в жизни немецкого народа, которые происходили после 1945 года. У него был свой угол зрения на этот быстро меняющийся, подвижный жизненный материал: среди множества разных судеб он показывал прежде всего тех, кто, несмотря на причастность к старой Германии и сохранившиеся сомнения в благотворности перемен, смог найти свое место в жизни и принять участие в строительстве новой действительности. В одном из рассказов говорится: „Для восстановления можно использовать гораздо больше кирпичей, валяющихся на развалинах, чем думают. Но — молот хочет, чтобы им работали“. Вышедший в 1958 году сборник рассказов так и называется: „Молот хочет, чтобы им работали“. Он затрагивал важнейшую сторону общественной жизни молодой ГДР.
Эм Вельк скончался в 1966 году в возрасте 82 лет. В его наследии оказалось много неопубликованных рукописей, частично вошедших в первый посмертно изданный сборник „Большая игра“ (1971). Здесь были собраны произведения разных лет, в том числе и антивоенные рассказы, написанные в годы первой мировой войны солдатом Вельком. В том же году вышла еще одна его книга под названием „Пудель Самсон“.
Истории и анекдоты о людях и зверях». Эта книга представляет нам Эма Велька с неожиданной стороны: он был большим знатоком природы и животного мира, прекрасно знал психологию животных и умел о них писать. Его интересовали великие люди и их привязанность к животным, и он умел находить в этих сюжетах много поучительного. Для него природа была неотъемлемой частью родины и любовь к ней — неотъемлемой частью чувства патриотизма. Люди и животные в книгах Э. Велька не враги, а друзья.
Предлагаемый читателю сборник рассказов помогает нам понять гуманистические взгляды Э. Велька, природу его доброго таланта[7]. Имя Эма Велька широко признано на его родине. Он принадлежит к тем писателям ГДР первого, старшего поколения, которые представляют собой связующее звено между ее молодой литературой и великими традициями гуманистической немецкой культуры прошлого.
П. Топер
МОЯ СТРАНА, ЧТО СВЕТИТ ВДАЛЕКЕ
Моя родина
На самом верху карты, там, где земля Уккермарк глубоко вдается северной оконечностью в область Передней Померании, а с ее правого края к северу тянется топкая лощина, лежит моя родина — раскинувшаяся на несколько миль прямоугольная впадина, чьи зеленеющие посевами нивы обрамлены с длинной, восточной стороны черной каймой горного хребта, с западной — высокими лесами, а короткие стороны на севере и на юге открывают бархатную синеву волнистой дали. Дно этой чаши изукрашено серебряной инкрустацией из ручьев, прудов и озер; словно игрушки сказочного великана рассыпаны по нему деревни, работающие в поле крестьяне и пасущиеся стада.
Среди этой природы жили и действовали сказочные существа, происходили события тысячелетнего прошлого из преданий, легенд и историй, воспринимаемые мужчинами как утешительный источник плотского насыщения, женщинами — как сладостно волнующее порождение духов, детьми — во сне и наяву — как сама реальная действительность. Днем эти существа спали в старых пнях, под мостами, в развалинах замков и монастырей, в камышах прудов и болот, ночью же пробуждались от сна, пахали и мастерили, охотились и воевали, любили и ненавидели себя и нас. Ни одно из человеческих деяний нашего времени не было им чуждо, вот только молиться они не умели, а потому и были бессмертны, ибо тот, кто умеет молиться, завершал смертию свой земной путь и возносился на небо. Они же, бессмертные, не верящие в тот свет, должны были в наказание — как нам объясняли — влачить вечную жизнь на этом свете.
Я еще помню, как мальчишкой радовался, что раз я умею молиться, мне обеспечен тот свет. И как однажды я содрогнулся от ужаса и долгое время не мог прийти в себя при мысли, что на том свете мне не суждено воссоединиться с обоими родителями, поскольку отец мой не молится и даже горд тем, что он язычник, а молитв матери, хотя она и молится вместо него, на двоих не хватит. Слабое утешение для возбужденного детского ума сознавать, что в будущей жизни, куда бы я ни угодил, мне наверняка суждено встретиться с одним из родителей: либо с матерью — на небесах, либо с отцом — в аду.
Да, вот так нас вместо реальной жизни вводили тогда в мир таинственного — действие, которое совершает один человек по отношению к другому с тех самых пор, как впервые задумался над непостижимым и от которого он не захочет отказаться, единожды уразумев, до чего сподручно с помощью этого действия сохранять установления, сулящие выгоду лично ему или всему его классу. Вопрос этот и по сей день нельзя решить однозначно: вера в духов, сказочные существа и загадочные силы природы, хоть и затуманивает детский разум, пробуждает страх, нарушает восприятие жизни и затушевывает причину несправедливостей, зато она же пробуждает чувства, обогащает природу, питает надежду и озаряет своим блеском множество куда как прозаичных дел и явлений. И пусть даже молодой человек с годами поймет, что отнюдь не сказочные герои его детства — эти духи и вершители судеб творили историю его страны добром и злом, что это скорее дело рук человеческих, а человека в свою очередь создали условия жизни и труда; и однако, совершая одинокую прогулку, он с легкостью подпадает под власть представлений о фантастическом бытии вне времени и формы, которые сохранил с детства. Волшебная сила сказки, равно как и утешение религии, порождена одним и тем же мерцанием звезд. И угаснет она лишь вместе с ними.
Соприкосновение с миром рассудочного и конкретного лишь в редких случаях даже и у детей не ведет к бегству в мир фантазий: когда мне в моих странствиях по стране Орплид встречались сказочные существа, поначалу лишь в сумерках, позднее — средь бела дня, кто в дупле трухлявого дерева, кто под старым мостом, кто среди развалин, особенно — после того как мне вместе с Флоком довелось провести летнюю ночь под сводами старого замка, потому что мы сильно припозднились и я боялся в темноте угодить в болото, — я начал вопреки сложившемуся мнению воспринимать обреченность бессмертных на вечную жизнь не как наказание, а скорее как милость свыше. Но поскольку боженька едва ли станет даровать милость злым созданиям, значит, и те, кто вот уже много тысячелетий пребывает на этом свете, не могут быть злыми, хотя с другой стороны, если они добрые, почему тогда он не возьмет их к себе на небо? Я бурно возликовал, найдя для себя ответ: да потому, что бог, которому ведом и тот, и этот свет, считает, будто этот лучше. Когда я поделился своей догадкой с отцом, он, смеясь, ответил, что давно уже знает: рай для человека лежит здесь, на земле, только в нем слишком много развелось всякой нечисти и сорняков. Лишь позже я понял, как сильно ему хотелось переплести идеи, сказки и верования с нашим повседневным бытием.
Каждый желающий мог бы видеть, как благостный небесный свет укреплял мою веру в мой Орплид и в его особую миссию; всякий раз, когда солнце выплывало из-за горизонта и поднималось по небу, оно тянуло за собой предрассветные сумерки, будто многоцветный шлейф, становившийся с каждой минутой все светлей и прозрачней, оставляя по краям чаши слабое сияние, состоящее из многослойных голубых полос, скрепленных между собой золотыми нитями. Сияние это затопляло гигантскую низину, движимое светом, трепетавшим над лощиной. И хотя к полудню краски тускнели, вскоре они снова начинали густеть, становясь с каждым часом все насыщенней и глубже, и золото все более наливалось багрянцем, пока вечерние сумерки не поглощали все цвета. Тогда люди на полях и в лощине прекращали работу, но вовсе не потому, что устали, проголодались и захотели домой.
Как-то раз я сгребал сено на лугу вместе с девушками, и вдруг Мария Реттберг первой оставила свои грабли и устремила взгляд к небу. Когда остальные тоже подняли глаза, они все хором запели:
Солнца луч закатный, Сколь прекрасен ты! Свет твой благодатный Сходит с высоты.При этом у них у всех сделалось набожное и мечтательное выражение лица. Обычно же, когда они пели днем, в поле, либо вечером, на улице, все их песни были про любовь и певуньи при этом визжали и хихикали.
Я был твердо убежден, что многоцветные огни не угасают, а продолжают светить, укрывшись за ночной темнотой, только уже не для нас, а для бессмертных, которые именно сейчас просыпаются от сна и тоже должны что-то видеть. Я испугался при мысли, что они со своей стороны могут счесть нас, живущих и здравствующих, злыми духами, и решил при удобном случае спросить у них, так ли это. Ибо с ночи, проведенной среди развалин замка, я твердо усвоил: детей и животных они не трогают.
Когда речь заходит о чудесной игре света, о неподвластных ни перу, ни кисти переливах красок вечернего неба, знатоки превозносят три места как наипрекраснейшие на земле: северо-западное побережье Шотландии в виду острова Скай; горы Таормина на Сицилии с видом на вулкан Этну или над мессинской дорогой — на дальнюю Калабрию; корабль, лежащий в бухте Рио-де-Жанейро с видом на Сахарную голову и на высящиеся за ней горы. Мне довелось побывать во всех трех местах, я стоял, полный блаженного изумления, силясь как можно дольше сохранить в мыслях и чувствах звенящий отблеск красочного света, и, однако же, я должен сознаться, что откровение вечного света на этой земле избрало еще одно столь же прекрасное место — мою родину, для которой лощина служит всего лишь преддверием.
Лощина эта имеет четыре километра в ширину и представляет собой долину некогда протекавшей здесь реки, серебристый восточный склон долины зовется попросту Бранденбургский гребень, а западный склон сплошь покрывают темные леса, доходящие внизу до пустоши Шорфхайде. Мощный поток устремлялся некогда по этой долине к северу, никто не знает, откуда текли воды и почему иссякли; лишь узкая речушка указывает нынче его русло, речушка достаточно, впрочем, глубокая, чтобы мальчику, опоясанному камышовым поясом, брать в ней первые уроки плавания. Должно быть, еще в сравнительно недавние времена здесь ходили большие корабли, иначе откуда бы взяться тяжелым, съеденным ржавчиной якорям, на которые порой натыкаются люди при резке торфа. Якоря остались с той поры, когда маленький холмик, уместивший на себе мою деревню, был, надо полагать, необитаемым островком, торчащим из воды, ибо за деревней, ближе к лесу, луга лежат на том же уровне, что и лощина.
Позади деревни лощина расширяется и захватывает всю просторную равнину до лесов на западе. С ранней весны до поздней осени здесь пасутся стада: коровы, лошади, овцы и гуси. Старые пастухи, чьему попечению деревенские жители доверяли своих коров и овец, наставляли нас в истории родного края, в народной медицине и созерцании времени, чему не сумел бы выучить ни один университет, ибо все, что некогда произошло либо происходило в жизни нашего края, рассматривалось здесь с точки зрения бедного и честного люда: война, мор, голод, императоры, графы, священники, папы. И поскольку оба пастуха враждовали между собой, а мы, дети, были так же бессильны разрешить их извечный спор: кто главнее — коровий пастух или овечий, как в свое время — наши отцы, это избавляло нас от унылого единообразия их суждений о мирской несправедливости, чему, впрочем, содействовало и то обстоятельство, что Кришан, коровий пастух, ставил христианство выше социализма, тогда как Эфраим, пастух овечий, ставил социализм выше. Оба они были достойные, порядочные люди, и будь мастер Тильман Рименшнейдер лично знаком с ними, стоять бы им теперь апостолами подле какого-нибудь алтаря во Франконии и восхищать бы богатых людей своим изображением на книжных страницах.
Широкий ручей, по обеим сторонам которого росли невысокие кряжистые ветлы, торопливо пересекал луга с запада на восток, доставляя таинственные воды, что из страны Орплид текли сперва в Вельзу, потом в Одер и, наконец, в Балтийское море. Поскольку воды эти имели своим истоком чудесную землю и никто не знал, где они берут начало, поскольку текли они против солнца, им была присуща волшебная сила, которая во время купания сообщалась людям. Если верить преданиям, в этом ручье на исходе четырнадцатого века приняли святое крещение последние померанские язычники. Их привезли издалека и крестили по многу раз, только новая вера как-то не приживалась; они снова и снова обращались к старой, отступничество это приписывали недостатку силы в крестильной воде; наконец все упования были возложены на мельничный ручей городка Куммеров. И ручей не обманул ожиданий, ибо впоследствии добрые куммеровцы воздвигли во славу божию целых две церкви, которые, как говорят, превосходили высотой все остальные церкви в этом краю. И то обстоятельство, что несколько ранее у тех же куммеровцев были самые большие языческие храмы, а еще раньше — самые священные дубравы, нисколько не меняет сущности вод, проистекавших из страны Орплид, как не меняет и человеческой сущности.
Пожалуй, одни только мальчики еще задумываются над этими мнимыми несоответствиями.
На берегу ручья, на полпути между деревней и Орплидом, лежала большая овчарня, и даже летом, когда овцы паслись на лугу, из ее просторных, крытых соломой хлевов доносилось непрерывное блеянье. Над овчарней вечно сновали ласточки-песчанки, они тысячами селились в высоких отвесных склонах, которые здесь вплотную подступали к дороге. Выше по ручью, у дороги, на холме, поросшем сливовыми деревьями, стоял домик, а рядом — сарай. Яркие беленые стены были расчерчены черным деревянным каркасом, густо-синие ставни виднелись далеко окрест, заключая, как в оправу, зеленые подоконники, на которых стояли фуксии с красными цветами. В этом домике жили мои родители до того, как перебраться вниз, в деревню, здесь я увидел свет и принял зловещее крещение в Черном озере, которым впоследствии отец объяснял мою неодолимую тягу к Орплиду. Из-за упомянутого крещения отцу пришлось расстаться с этим домиком, а мать даже тридцать лет спустя отказывалась хоть одним глазком взглянуть на него.
Для меня же возле этого белого домика пролегла граница моей сказочной страны; стоило только пройти мимо, и ко мне — пусть даже я за минуту до того напевал веселую дорожную песенку — устремлялись тигриные когти раздумий и ангельские лики чувств, видно, все они меня здесь поджидали, чтобы увлечь в распахнутые врата моего рая. Но по пути туда мне надлежало пройти или обойти вполне реальное преддверие, каким являлась мельница. Когда я впервые увидел ее, это была самая обычная водяная мельница с запорошенным мукой мельником, с батраком-подсыпкой, с большим мельничным колесом, с прудом, поросшим кувшинками, и с прекрасной мельничихой. Где бы позднее мне ни доводилось услышать песню о том, что в движенье мельник жизнь ведет, либо о колесе, что стучит по холодной воде, о мельнице над шаловливым ручьем, либо о красотке мельничихе — звуки песен неизменно выполняли роль рабочих сцены, которые устанавливают декорации позади занавеса; вот только декорации всякий раз были одни и те же, и действие на их фоне разыгрывалось одно и то же, а именно — посвященное мельнице у врат Орплида. При этом я и по сей день не знаю, как на самом деле выглядела мельница и люди на ней. Прежде чем колесо навсегда остановило свой бег, кругом выросли высокие дома из клинкерного кирпича и паровые машины уже собирались размолоть романтику железными зубцами. Но до того как это произошло, романтике песен о мельнице в последний, самый последний миг все-таки удалось спастись, и спасла ее молодая мельничиха: она бросила мужа и убежала с молодым монтажником, который устанавливал паровые машины, причем сбежала именно тогда, когда ее муж позаимствовал у управляющего имением охотничье ружье, чтобы — как он выразился — подстрелить ястреба, который повадился кружить над его двором.
На верхнем конце большого, окруженного ивами и поросшего кувшинками мельничного пруда, там, где впадал в него ручей, стояли две гигантские ели, как ворота в Орплид. Здесь, собственно, и начиналась низина; раскинувшись на много километров, она простиралась меж полевых холмов до темного бора. Возле мельницы проезжая дорога обрывалась, лишь узкая тропинка вела еще какое-то время по берегу Черного озера и терялась в полях. А уж в самые джунгли не вела ни одна дорога, ни одна тропа, ибо люди туда ходить не отваживались. Только зимой, когда поля замерзали, они рубили лес на опушке, но в самую гущу и тогда мало кто забирался.
Сама волшебная земля состояла из семи различных кругов, и каждый круг заключал в себе другой; резкое различие кругов усугубляло таинственность целого. Твердый, чуть покатый край, поросший орешником, терновником и ежевикой, обрамлял всю низину; осенью ветки клонились под тяжестью плодов; но никто из взрослых не ходил собирать орехи и ягоды, только дети ими лакомились. Позади орешника широкая задвижка из ивняка преграждала доступ в Орплид еще надежнее, чем это могли бы сделать одни кусты, потому что тут уже почва становилась зыбкой и коварные болотные растения покрывали ее. Калина и черемуха перемежались ольхой, и тянулись к небу стебли болотного ириса — тысячи нежно-желтых цветов, а с ними взапуски вымахивали вверх крупные соцветия розового колокольчика-наперстянки, зачастую окруженной нежными опахалами болотного многорядника. Болотная примула, фенхель и, возможно, последние экземпляры вымирающей разновидности калл, вульгарно прозванные в народе свиным ухом, тоже цвели здесь.
Но если, бредя потаенными тропами, путник ухитрялся пересечь зыбкий пояс, перед ним сразу же начиналось настоящее болото, которое в свою очередь было тоже не более как пояс. Чужак едва ли замечал переход от одного пояса к другому, разве что обманчиво чистая и прозрачная болотная вода окончательно преграждала ему путь. Тогда он, пожалуй, мог бы заметить, что невысокий ольховник вдруг сменился могучими деревьями, которые чаше всего по отдельности стояли на высоких кочках, и болотная вода омывала сплетение корней почти метровой длины. Если пришлый человек хотел продвинуться дальше, ему приходилось прыгать с кочки на кочку, а это удавалось от силы три-четыре раза. Правда, некоторые кочки достигали размера чуть ли не до двадцати квадратных метров, однако они и отстояли друг от друга дальше. Поскольку почва здесь была посуше, чем зеленый топкий ковер болота с редкими кустами, сюда на кочки вместо болотных растений перебрались всевозможные травы из леса: многообразные мхи, кислица, петров крест, майник, лютики, золотая мята; здесь можно было найти даже белую ветреницу, а по краям кочек ложную сыть. Многие ветлы с ходом времени лишались своих кочек и стояли, будто на. ходулях, на длинных метровых корнях, которые, сплетясь в диковинный пьедестал, несли на себе столетние деревья.
За болотным поясом шло широкое кольцо воды, почти сплошь заполненное множеством — до нескольких сот — больших и малых травянистых островков. Если почва этих островков была достаточно твердой, она выдерживала высокие синевато-черные ели и мощные, раскидистые дубы. Но чаще всего на островках, будто на газоне, росла только темно-зеленая трава и ничего, кроме травы. Попадались, впрочем, другие островки, покрытые травой, желтой и высокой, как рожь. Там и сям среди этой желтизны красовались купы диких роз; когда розы цвели, издали казалось, будто там лежат крапчатые красные мячи. Мячи эти непрерывно трепетали, что происходило от струящегося блеска летней жары, поскольку воздух в низине был застойный. А вокруг красных мячей мерцали белые и пестрые звезды — то были тысячи летних бабочек.
К водяному поясу с островками примыкала полоска твердой земли. Добравшийся до нее мог вообразить себя в настоящем корабельном лесу, ибо здесь встречался высокий черный тополь и ряды старых буков вперемешку с кленами и акацией. Частенько стволы их до самого верха были оплетены побегами дикого винограда и хмеля.
Казалось, будто сама природа решила воздвигнуть последний, непреодолимый заслон на подступах к озеру, опоясанному лесом.
А уж за ним взору открывался гигантский овал самого озера — ослепительная белизна на зеленом фоне. Это сочетание красок возникало благодаря тысячам кувшинок, которые покоились на своих листьях, так тесно прижавшись друг к другу, что между ними можно было углядеть лишь крохотные осколки водного зеркала.
Впрочем, пришелец и не увидел бы озера, ибо кольцо из камышей окаймляло берег, оставляя лишь редкие просветы. А уж за камышами открывалась колдовская купель, запредельная тайна, земля на шестой день творения, мир изначальный, пугающее средоточие наших детских грез, ристалище священных традиций и греховных историй, военных, охотничьих, хмельных, любовных, сказочных: Божий остров… Алтарь для жертвоприношений, совершаемых некогда опочившими ныне смертными во славу опочивших бессмертных, водяное обиталище Ньёрда, купальня Нертус, храм Триглава, часовня Марии, пустынь цисцерзнанских монахов, учебный плац ниспровергающих изображения реформистов, укрытие для бегущих от шведов крестьян, сад развлечений для знатных выродков, алчущих вина и власти, приют для зверья и мечтателей.
Божий остров, собственно, даже не остров, а полуостров, вдавался глубоко в озеро и был досягаем лишь на лодке или с запада, с той стороны, где он, подобно поросшей колючим кустарником руке, высовывался из лесу и, словно раскрытая ладонь, требовательно и в то же время смиренно распахивался навстречу вечно обновляющемуся дню.
Здесь, если верить кантору Каннегисеру, купались древние боги и богини плодородия, последняя из них — Херта, а рабы, которым пришлось помогать ей при раздевании, получили в награду право задохнуться в глубине под зеленым ковром кувшинок. Вот почему вода сохранила и удержала для тех, кто способен хорошо наклониться, облик богини, в глубине же они видели движение навстречу восходящему солнцу водных струй, смывающих грехи с любого грешника, который доверился им на святое воскресение. Меня еще во младенчестве крестили в этом озере, но для всех нас это было страшное событие, и мальчиком я часто молился, чтобы милосердный боженька не покарал меня за это и отпустил грех также и моей матери.
У матери было тяжелое воспаление легких, уже много дней она металась в жару, но мысль о том, что я, проживший на свете целых семь месяцев, до сих пор не окрещен, неотступно терзала ее сквозь жар. И вот в полнолуние, в канун святого воскресения, воспользовавшись тем, что возле ее кровати никого нет, она встала, взяла меня, дошла по берегу Мельничного пруда до того места, где в нее впадают святые в этот день воды ручья, и прыгнула вместе со мной с берега. Отец скоро обнаружил исчезновение жены, побежал следом, а дальше уж счастливая судьба и ясный месяц позаботились о том, чтобы он увидел ее и подоспел к ручью, прежде чем вода унесла ее вместе с младенцем в Мельничный пруд. Он успел спасти нас обоих, но великое чудо заключалось, пожалуй, в том, что, несмотря на жар, матушка не расхворалась еще сильней. Зато совсем разболелся мой отец и, вконец растерявшись, кликнул на подмогу сваю мать из Шпреевальда.
Всякий раз, когда он об этом рассказывал, в нашей комнате воцарялась тишина и матушка смотрела на него умоляющим взглядом: она стыдилась своего проступка, о котором узнала лишь много недель спустя, когда окончательно выздоровела. Она ведь была очень набожная и считала самоубийство величайшим грехом. Может быть, именно это событие объясняет ее безграничную терпеливость, и наверняка объясняет оно ее тесную, вплоть до мельчайших душевных движений связь с сыном. Однако, сколь ни способствовало это событие нашей душевной связи, в одном оно нас бесповоротно разделило: матушка вынудила отца покинуть маленький домик и перебраться в деревню; за всю оставшуюся жизнь она так больше ни разу его и не видела. Меня же неодолимо тянуло к Черному озеру, сверкающую страну солнечного детства, я пронес через удушливый туман и все ужасы, которыми идолы, короли и их приспешники, вышедшие не из Орплида, пытались обставить мою жизнь и жизнь моего народа.
И Мельничный пруд, и ручей протянулись к солнцу с запада на восток, подобно всей стране Орплид, и Черному озеру в ней. Пасхальная вода, зачерпнутая девственницами в полночь, накануне воскресения, исцеляла болезни у людей и скота, а девушек наделяла красотой. К тому времени, когда я стал юношей и лишь изредка наезжал в Орплид, обычай этот умер; рассказывали, будто пасхальная вода утратила свою чудодейственную силу, потому что девушки все хуже соблюдали условие молчать по дороге к пруду и по возвращении домой вплоть до утренней зари. Парни их подкарауливали, несли всякую околесицу, задавали вопросы, ну как тут было отмолчаться, а нарушив правило, девушки разом теряли и красоту, и здоровье, и счастье. Правда, они пытались помочь горю, распевая на пасху:
Гоните, христиане, Грехи из душ своих, Как кислую опару — Чтоб уничтожить их. Вы станьте новым тестом, Очищенным и пресным, Как бог нам повелел. На пасху кислого не ешь, Злу не открой дорогу, Не то раскаянье свое Забудешь понемногу. Есть в тесте пресном чистота, И тем восславим мы Христа В день праздника святого.Говорят, раньше, когда мы еще были язычниками, девушки нагишом купались в ручье в полнолуние накануне пасхи. Впрочем, возможно, это не более как очередная выдумка кантора Каннегисера, во всяком случае, парни и по сей день жалеют, что отмер именно этот обычай.
Зато другой пасхальный обычай дожил до наших дней: это лупцовка. На пасху с утра пораньше парни врывались в девичьи светелки, сбрасывали одеяло, задирали ночную рубашку и охаживали визжащую девицу по заду березовой лозой, срезанной в ту же ночь. «Это святой обычай», — наставлял кантор мою матушку, которая не желала мириться с подобными обычаями в своем доме и втайне подозревала, что за всем этим кроется очередная языческая выдумка кантора. «Он был введен, чтобы оживить богослужение. Ленивые девушки не хотели вставать к ранней обедне, вот их и выгоняли из постели розгами по заду».
Матушка возражала, что-де в наших протестантских краях никто и слыхом не слыхал ни о каких ранних обеднях, да и вообще это сплошной обман, потому что в церковь и без того всегда ходило больше женщин, чем мужчин.
Тут кантор Каннегисер, подмигнув моему отцу, задавал такой вопрос: «Тогда чего ради стали бы парни брать на себя такие труды?»
Этот вопрос матушка оставляла без ответа, впрочем, ответа никто и не ждал, потому что мужчины уже смеялись, и я смеялся вместе с ними, зная не хуже, чем отец, что девушки на пасху нарочно залеживались в постелях, поджидая парней, а некоторые даже вставали, чтобы откинуть дверной крючок. Более того, экзекуции подвергались и те девушки, которые уже успели встать и хлопотали по хозяйству, а всего удивительней казалось то, что в это утро ни на одной девушке не было штанов. Я не уставал досадовать на бессмысленный визг, который поднимался над деревней часов с пяти до шести утра, и мог только сожалеть вместе с кантором о безвозвратной утере заключительной части этого благочестивого обычая: в былые времена девушку после порки выносили во двор и сажали в большую водопойную колоду, наполненную пасхальной водой. Я и сегодня пожелал бы нашим девушкам такой участи и даже сам бы окунул их с головой. Нет, что ни говори, а забавные обычаи были раньше у людей.
Мальчик в стране Орплид и Бимини
Крепче памяти и жарче сердца хранят ландшафты и предметы пережитое и увиденное, что когда-то доставило нам радость или причинило боль. Время, нещадно глотающее собственных детей, чтобы родить их заново более совершенными, заставляет стареть умы и сердца людей, обесцвечивает их мысли и чувства, придавая воспоминаниям в лучшем случае оттенок старых картин, что висят в музеях. Где вы, первозданные краски, когда небо было голубым, леса зелеными, а кровь алой! Куда делось ваше сиянье? Сгинули вы или только померкли, как те, с кем мы, залетные гости, жили, сражались, любили, веря в собственную долговечность, а сами разрушали ее и собирали обломки? Сверкая и маня, вы живете, будто на заре дня, в старых деревьях, в обветшалых мостах и тихих омутах, вблизи которых нам довелось провести юность. И такой сильной оказалась связь ландшафта и этих предметов с нами, что даже спустя долгое время они не просто разговаривают с вернувшимся на родину, рассказывая историю его молодости, наполненную весельем, проказами и печалями, но часто их зов летит через границы стран, через моря, проникает сквозь толстые стены тюрем. И тогда рассеивается сизый туман, черные тени отступают, превращаясь в светлые образы, а из заброшенных колодцев памяти бьют родники надежды и заставляют нас любить жизнь. Заставляют надеяться и бороться. И так всегда.
Вот сижу я и думаю: а ведь и у меня было стихотворение, нежданно-негаданно всплывавшее в памяти на протяжении целых пятидесяти лет. В этой воспетой и оплаканной жизни так случалось раз десять. Слились в нем воедино и девичий смех, и пенье птиц, и предсмертные хрипы, и звуки органа, воскрешая в памяти простой ландшафт, перед которым меркли все виденные мною картины нашей прекрасной земли и все уродливые и опасные грани жизни. Выученное в школе стихотворение, которое мечтательный мальчишка во времена счастливого детства связывал с таинственной низиной неподалеку от родной деревушки, следовало за юношей и зрелым мужем, в каком бы уголке земли он ни находился. Как ни странно, оно выплывало из небытия спустя многие годы всякий раз, когда жизнь погружалась во мрак или когда ей грозила страшная опасность. Десятилетний мальчик, выучивший его по воле чудаковатого школьного учителя к празднику в деревенской школе, тогда не знал этого и не старался связать его с именем какого-нибудь поэта, потому что для мальчика оно было таким же поздравлением, как послание на рождество, пасху и троицу: мир весям! Христос воскресе! Идите в мир и учите!
Чтобы записать это стихотворение, я вынужден раскрыть книгу, в которой оно напечатано. Время так сильно урезало его, что в памяти остались только начальные строки. Вот оно:
Земля моя Орплид! За светлой далью Туманом моря берег твой залит Божественной и солнечной печалью. Здесь океан, вздымаясь, Как юноша, качает алтари. Пред божеством склоняясь, Ждут короли — превратники твои[8].Позже в другой шкоде я узнал, кто сочинил его, а еще поздней — что это отрывок из романа. Но, прочтя «Художника Нольтена», я испугался, разочаровался и расстроился, ибо сиявшая вдали страна оказалась местом столь малопривлекательным, что я не мог себе его даже представить! Ведь бесспорно прекрасная Эллада, Индия и даже волшебная страна какого-нибудь поэта или художника не шли ни в какое сравнение с таинственной, чудесной страной моих одиноких странствий, моих грез и моих бесед со зверями, людьми и духами. И ничего, что у моей страны не было такого красивого имени, как Орплид, и называлась она просто — Черное озеро. Это было вовсе не озеро, а раскинувшаяся на много верст низменность с деревьями, растениями и животными всех видов и размеров, с прудами, болотами и островками, куда никогда или очень редко приходили или приплывали люди.
Но однажды мне разонравилось название Черное озеро, и я придумал другое, которое по звучанию и таинственности ничуть не уступало Орплиду поэта: Бимини. Три «и» в нем звенели, переливались и сверкали совсем иначе, нежели одно «и» господина Мёрике. Я постоянно повторял это имя дома и в школе. Я пел его своим обычным высоким дискантом и нарочито низким басом. И чем больше мои сестры смеялись над этой странностью, а моя мать стала опасаться за мой рассудок, тем чаще я пел свое Би-ми-ни. Поскольку я не говорил, что это означает, никто ничего не мог понять, а я довольствовался верой, что это название рая.
Единственный, кто очень хорошо знал, что такое Бимини, был наш шпиц Флок, мой спутник в одиноких странствиях. Когда я пел это слово, он не придавал этому значения, но стоило мне нагнуться и шепнуть ему в ухо «Бимини», как глаза его загорались, он вскакивал и бежал впереди меня на край деревни, откуда начиналась дорога в страну Бимини, находившуюся километрах в четырех. Он любил ее так, как любил эту страну я, которого любил он.
Но как это бывает с любовью, ей нужны наперсники, которые участвовали бы в ее чудесах, хотя бы для того, чтоб завидовать счастливому обладателю. Терзаемый счастьем и гордостью, я рассказал своим соученикам о Бимини. Когда они высмеяли меня, ибо для них Черное озеро было скорей заколдованным кащеевым царством, а не волшебной страной, я объяснил им, что раньше, когда все у нас было языческим, Черное озеро называлось Бимини: об этом я прочел в одной ученой книге.
Все связанное с нашими языческими предками пользовалось у нас, мальчишек, глубоким уважением, которое мы любили высказывать публично, зная, что это злит нашего старого пастора. И скоро Черное озеро в школе стали звать не иначе, как Бимини. Так продолжалось до тех пор, пока об этом не проведал кантор Каннегисер, который очень удивился, а узнав, что я изобрел это имя, решил выяснить, откуда я взял это слово. Ему, моему старшему другу и проводнику по стране вне осязаемого, я не стал врать и потому сказал правду: я его выдумал. Тогда он засмеялся, ловко выдернул из своего шкафа книгу, раскрыл ее и показал мне стихотворение, озаглавленное «Бимини».
Я страшно перепугался, и мой старый учитель, заметив это, тоже. Только причины нашего испуга были разные. Его огорчило мое хвастовство знаниями, которых у меня не было; меня же пронзила боль открытия, что кто-то другой нашел это звонкое слово до меня и даже напечатал его. Наверное, чтобы облегчить мне отступление, кантор наклонился и прочел:
Как-то раз лазурным утром В океане, весь цветущий, Как морское чудо, вырос Небывалый новый мир… Но и старый наш знакомец, Наш привычный Старый свет В те же дни преобразился, Расцветился чудесами[9]…Как хорошо, что он читал тихо, ведь и со мной случилось превращение, да такое чудесное, какое обычно бывало только в Бимини. Чувство стыда из-за мнимой лжи сменилось радостной уверенностью: значит, страна Бимини действительно существует. И нашел я ее без помощи этого человека, знавшего о ней до меня. Мое разгоряченное воображение жадно впитывало то, что кантор читал теперь громко, хотя как будто и про себя:
Птичка Колибри, лети, Рыбка Бридиди, плыви, Улетайте, уплывайте, Нас ведите к Бимини[10].Что мне какая-то птица или рыба —, я, я сам мог указать этот путь! Тут кантор захлопнул книгу и серьезно спросил: «Где ты читал Гейне? Может, тебе отец купил эту книгу?» От моего отца, который, будучи славянином, называл себя язычником, в деревне ждали всего, что угодно.
Мой испуг, на сей раз вызванный быстрой сменой настроения учителя, имел еще и другую причину. Я вовсе не хотел врать кантору, как соврал своим школьным товарищам, которым говорил, будто имя это найдено в одной ученой книге, и сказал правду, что я его выдумал. А оно и впрямь напечатано в книге, и моя правда превратилась в ложь. Если б я солгал кантору, как лгал своим друзьям, то это сочли бы за правду. Ведь так оно и было бы. Лишь много поздней я понял, что людская жизнь складывается из путаных отношений правды с ложью.
Но для учителя история с выяснением происхождения слова Бимини еще не кончилась. Теперь ему хотелось узнать, читал ли я Гейне и если читал, то где. Я честно признался, что никогда и нигде не читал, и спросил, кто такой этот самый Гейне. «Генрих Гейне — великий немецкий поэт, и я знаю на память „Лорелею“, которую он сочинил». — «А, так это он?» — «Да, и он написал много прекрасных стихов и песен», — добавил кантор Каннегисер. Я попросил его одолжить мне книгу, он это делал всегда. Но он не захотел: потом, сейчас мне ее все равно не понять. «А „Бимини“? Можно мне разочек прочесть его?»
— И дался тебе этот Бимини! — сердито воскликнул он. — Всю школу им взбаламутил.
— Разве в этом есть что-то неприличное? — хотелось мне знать.
Тут он весело рассмеялся и погладил длинную белую бороду.
— Ты думаешь, бесенок, что у меня есть такие книги?
Тут и я не мог удержаться от смеха. Откуда мне было знать, что существуют неприличные книжки!
Когда отец через несколько дней поехал в уездный город, я попросил его привезти мне книгу поэта Гейне.
Для верности я написал ему имя: Генрих Гейне.
Так я познакомился с Гейне.
— Там было много его книг, — сказал мой отец. — Я выбрал тебе эту. Похоже, что это псалтырь. Ты ведь теперь прислуживаешь в церкви.
Она называлась «Книга песен». Сначала эту книгу прочла моя мать; она была очень набожной и переживала, что отец не ходит в церковь. Книга ей очень понравилась. Это меня насторожило, потому что я хоть и был церковным служкой, то есть по воскресеньям зажигал в церкви свечи на алтаре и прикреплял к доске номера псалмов, но книг, в которых печатались только жития святых и церковные песнопения, я совсем не любил, хотя буквально проглатывал все написанное.
Одно стихотворение моя мать выучила даже наизусть: «Ты как цветок».
Моя старшая сестра уже причащалась. Особого пристрастия к чтению у нее не было, но видя, что я постоянно читаю, она выпросила у меня книгу. Однажды я заметил, как глаза у нее загорелись, хотя и были мокрыми.
— Здесь так хорошо написано про любовь, — сказала она. — И все больше печальное. Бедняга! Наверное, тот, кто это сочинил, в конце концов что-нибудь сделал с собой!
Тут моя мать забеспокоилась, вспомнив стихотворение о цветке. Она взяла книгу и долго смотрела на портрет Гейне.
Нет, — решила она. — Он такой грех на душу не возьмет, уж больно у него глаза кроткие.
Мне его глаза не показались кроткими. Такие глаза были и у других молодых людей. Вот у Вильгельма Креймана глаза были кроткие.
— Но ведь он наложил на себя руки, — сказала мать. — Такого не совершил бы ни один порядочный христианин.
— Он это сделал из-за любви, — попыталась смягчить суровость матери сестра и вздохнула.
— Это только усугубляет его вину, решила моя мать. — «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит!» — Что-что, а Библию мать знала хорошо.
— Послание к коринфянам, стих тринадцать, — ска зал я — Но два стиха ты пропустила. Недаром я прислуживал в церкви.
— Зато Песнь песней я тебе и ночью прочту наизусть, — сказала моя мать, — а теперь мне пора кормить свиней.
Я прочел «Книгу песен» поэта Гейне от корки до корки. Правда, там, где он совсем изнывает от любви, я читал с пятого на десятое, потому что с тех пор, как мужики в деревне объявили Вильгельма Крейманна помешанным из-за того, что тот покончил с собой, когда Гертруда Бекманн вышла замуж за другого, я считал, что глупо убиваться из-за девушки, которую не получишь. Гертруда была дочерью машиниста и денег не имела, потому старый Крейманн и запретил им жениться. Вильгельм просил ее подождать, ведь не мог же старик жить вечно. И она ему обещала. Но когда за нее посватался другой, сын богатого крестьянина, она пошла за него. Тогда Вильгельм Крейманн взял и утопился в Черном озере. За это его любили все девушки в нашей деревне и плакали, вспоминая о нем. А вспоминали они о нем всегда, стоило им собраться вместе Зато мужчины считали его придурком, потому что он только на нее одну и смотрел.
Как-то вечером я вспомнил, что в стихотворении про Лорелею тоже кто-то утонул, заглядевшись на девушку, и прочел это стихотворение вслух. Моя сестра и я спели эту песню, и нам стало жаль бедного лодочника. А мой отец смеясь сказал, что лодочник был такой же чокнутый, как Вильгельм Крейманн.
— Подумай только! Вместо того чтоб следить за лодкой, он уставился на распутную девку, которая на ночь глядя волосы чешет. Чего уж там было смотреть?
— Но ведь в стихотворении она поет, когда причесывается, — сказал я. — Поет чудесную песню.
— Вот уж не думаю. Когда твоя сестра причесывается, она это делает, конечно, утром, как и полагается порядочной девушке, — она не поет, а ругается, потому что волосы все время путаются. Попробовала бы она петь со шпильками в зубах. Все девушки держат шпильки в зубах, когда причесываются. И Лорелея, верно, тоже. Знаешь, что я думаю? Лодочник-то и не на нее вовсе глядел, когда она пела. Он, пакостник, видать, на золотой гребень позарился.
Этим замечанием он на долгие годы отравил мне впечатление от Лорелеи, а сестра, причесываясь, никогда больше не держала в зубах шпильки, а несколько раз даже пела: «Мы сидим так мило вместе и друг друга крепко любим». Я сказал ей, что никакая это не чудесная песня.
— Будь у меня золотой гребень, как у нее… — отпарировала сестра и бросила презрительный взгляд на свой гребень.
— Тебе бы его не мешало вычистить, — посоветовал я ей, — может, тогда и петь будешь лучше.
В ответ она показала мне язык и с той поры по утрам уже не пела.
Вместо опротивевшей мне «Лорелеи» я выучил два других стишка, потому что у этого самого Гейне были стихи и не про любовь. «Два гренадера» называлось одно и «Зимняя сказка» другое. По правде говоря, из «Зимней сказки» я выучил только первую часть — до «птичек в небе». Мой отец потом тоже прочел его, собственно говоря, он виноват в том, что я выучил этот отрывок наизусть; он посоветовал мне прочесть его в школе: кантор-де обрадуется. Лучше всего сделать это неожиданно, во время очередной школьной проверки в присутствии пастора и главного церковного начальника. Ожидание мне показалось слишком долгим, и потому я как-то раз прочел его в школе, но мне не дали прочесть все, что я знал наизусть. Кантор прервал меня, спросив, хочу ли я, чтоб его выгнали. Он послал меня домой за этой книгой. «Я буду хранить ее, — сказал он, — пока ты не причастишься, а с твоим отцом я еще поговорю».
Так я раздружился с Гейне и не стал называть свой рай Бимини. И меня больше не интересовало, как я нашел это слово. Может, я прочел его в газете или в журнале, и оно само по себе застряло в моей памяти. На мое счастье, это название не побудило никого из моих школьных товарищей отправиться в Бимини. Лишь иногда они доходили до края низины, когда созревали лесные орехи. Правда, имя Черное озеро мне тоже не нравилось, но поскольку я боялся опростоволоситься с названием собственного изобретения и, кроме того, во мне опять проснулось чувство правды, я нарек свою чудесную страну так, как это было у Мёрике, — Орплид.
Флок быстро выучился новому имени, а деревенским мальчишкам я так ничего и не сказал. Потому что мои открытия были такими волнующими, так много в них было сладкого волшебства, что ночами я часто вскакивал, разбуженный приключениями, и тихонько пел во сне.
История эта не новость
Звали ее Лотта Лебо, и ей минуло шестнадцать. Она была танцовщицей и проживала со своими дядюшкой и тетушкой на втором этаже низкого скособоченного домишки с фахверковым каркасом, в штеттинской квартирке, состоявшей всего лишь из гостиной, спальни и кухни — все окнами во двор. Мне же было в ту пору восемнадцать, и я снимал меблированную комнату, единственную комнату у вдовы сапожника в первом этаже, тогда как сама вдова спала на кухне, В моей комнате было всего одно окно, зато выходило оно на улицу, и стоило это удовольствие вместе с утренним кофе пятнадцать марок. Но ради того, чтобы оказаться с Лоттой под одним кровом, я согласился бы жить и в подвале.
Боже, как я любил ее! Так может любить лишь чувствительный юноша восемнадцати лет, впервые в жизни подпавший под власть той волшебной силы, описать которую ему никак не удается, хотя он согнал в свои стихи все красоты земли и неба, солнце, луну и звезды, чтобы воспеть предмет своей тайной любви. Я называл ее Лаурой, уподобясь Петрарке, к которому его возлюбленная, так же как и моя, ни разу не приклонила слух, а кроме того, буква «Л», выносимая в заглавие стихов, приобретала таким образом изысканный двойной смысл.
В один прекрасный день я помог пожилой, бедно одетой женщине, которая, чуть прихрамывая, брела по улице с большим пакетом и с полной сумкой картофеля; я взял у нее тяжелые покупки, а когда выяснилось, что она живет в моем доме, отнес их к ней на квартиру. Вне себя от признательности, она начала еще по дороге, а затем продолжила в своей квартире рассказ о том, что знавала лучшие времена, но таков удел артиста, он не собирает сокровищ при жизни, хотя и после смерти мир отказывает ему в признании. Эти грустные истины и манера говорить, присущая людям образованным, сделала из меня, и без того бредившего театром, самого внимательного слушателя; так я узнал, что почтенная дама была некогда весьма известной танцовщицей, а нынче должна зарабатывать кусок хлеба как служительница при гардеробе. Но она не жалуется, ибо главное для нее — облегчить Лотте путь к сияющим вершинам искусства, и тут уж она позаботится, чтобы Лотта всегда помнила, с какой коварной скоростью убегают годы. Правда, ей надо еще заботиться о престарелом брате, которому выпала такая же судьба, как и ей, но известная слабость, вынудившая его оборвать в самом расцвете блестящую карьеру, терзает его и поныне, а потому он почти ничем не облегчает ей бремя расходов.
Выйдя из квартиры, я прочел на двери до той поры мною не замеченные и пожелтевшие визитные карточки, которые подтверждали только что услышанное: Вальдемар Лебо, отставной солист придворной оперы; Доретта Лебо, солистка балета. Печальная судьба бедной старой женщины и ее брата день и ночь неотступно стояла у меня перед глазами, и я проклинал общество, способное жить в богатстве и удовольствиях, тогда как артисты, некогда забавлявшие его, прозябают под старость в убожестве и нищете; чтобы не уподобляться представителям этого общества, я со своих более чем скромных карманных денег купил торт, четверть фунта кофе и отнес все это к Лебо. Там, не желая смущать старую даму, я сказал, будто все это прислано моей матушкой и я был бы рад полакомиться присланным вместе с ними, а заодно послушать и еще какие-нибудь рассказы из жизни артистов.
«Ах, — вздохнула бывшая солистка балета, — если бы моя Лотхен была здесь!» И она поведала мне, что Лотхен подвизается в том же театре, покамест, правда, как балетная ученица, но она берет уроки актерского мастерства и наделена такими блестящими способностями, что всякий, кто хоть самую малость смыслит в искусстве, без труда узнает в ней вторую Элеонору Дузе[11].
Ну, уж кто-кто, а я-то предостаточно — на мой взгляд — смыслил в искусстве, недаром я видел на сцене театра «Бельвю» таких корифеев, как Иозеф Кайн, Адальберт Маковский и Сара Бернар, недаром я и сам участвовал в хоре студентов в «Старом Гейдельберге», за что получал контрамарки либо билеты по льготной цене на остальные представления. Но Лотта все не шла. Зато пришел дядюшка, отставной солист придворной оперы, человек, давно уже разменявший седьмой десяток, с типичным лицом мима, разъеденным не то оспой, не то гримом. От него мерзостно пахло дешевой водкой и плохим табаком.
А потом наконец пришла и она. Нежная, стройная, с очаровательным детским личиком, с большими черными глазами, с золотистыми локонами; прелестная фигурка в белом муслиновом платье с рюшками, на левой руке висел большой веер, правая держала букет красных роз. Думаю, мое лицо, когда она протянула мне руку и с сердечной непринужденностью сказала, что все-все про меня знает, могло соперничать по красноте с ее розами, и это целомудренное смущение не покидало меня все то время, что я находился в ее близости, другими словами, шесть месяцев.
Но какие то были месяцы! Полные бессонных ночей, страстных грез, тяжких печалей, дерзких планов, исступленной ревности, веселой болтовни и блаженных прогулок, они несли с собой все, что может первая любовь пробудить в сердце юноши. Вот уже и дядюшка виделся не спившимся старым комедиантом, который по ночам играет на рояле в портовых кабачках, распевая непристойные куплеты, а Лоэнгрином на сцене придворного дрезденского театра; тетка — не гардеробщицей из увеселительного заведения Тиволи, а обожаемой прима-балериной из Петербурга — я вознес так низко упавшую над границами ее прошлого, а она, мой яблоневый цветок с райского дерева познания, стала великой, всемирно известной артисткой, которой я посвящал восторженные рецензии. Она стала моей музой и моей любовью. Уже в первые дни нашего знакомства я, желая, чтобы в будущем ее имя затмило забытое старое, красиво разрисовал карточку, написал на ней: Лотта Лебо, драматическая актриса — и тайком прикрепил к дверям ее жилища.
Уж и не знаю, как я мог при этом учиться и находить ответы на хитроумные вопросы своих учителей. Но в безумной сумятице мыслей и чувств ученье давалось мне легче, чем когда бы то ни было, да еще оставалось время, чтобы писать стихи и набрасывать действие роковых драм с самыми выигрышными ролями для предмета моего обожания; находил я также время, чтобы восхищаться ею на уроках дикции и часами просиживать на нудных операх, лишь бы несколько мгновений видеть ее на сцене, пусть даже и одну среди многих фигуранток. Хватало у меня времени и на измышление самых отчаянных способов занять денег у родителей, родственников либо друзей, чтобы снабжать семейство бедных артистов провизией и тайком выплачивать их долги хозяину дома.
Ибо бывшая солистка балета оказалась вовсе даже не гардеробщицей в увеселительном заведении Тиволи, или, скажем так, оказалась гардеробщицей в несколько более широком толковании. Она просила меня не навещать ее там, как я однажды случайно навестил ее брата, мол, ей, бывшей артистке, стыдно предстать передо мной в таком виде. Но как-то раз, в день рождения старушки, я, прежде чем встретить Лотту после театра, все-таки пошел в Тиволи, вооружившись коробкой конфет и букетом цветов; пусть обычные гардеробщицы посмотрят, как высоко вознесена над ними их сослуживица и какие знаки внимания ей до сих пор оказывают. Я прикинул в уме текст поздравления, рассчитанный на чужие уши Но — увы! — мне не удалось его произнести. Обшарив все гардеробы в Тиволи, задав множество вопросов, я так и не смог увидеть старую Доретту, ибо, будучи мужчиной, я не имел права открывать дверь, на которой написано «Для дам». Она так и не узнала о моем посещении, а я почел за благо передать Лотте цветы и конфеты.
Впрочем, встречать свою обожаемую после спектакля я тоже мог лишь в тех случаях, когда она вполне определенно этого желала. И поскольку к ней кто-то когда-то приставал по дороге домой, я, выложив пять марок, завел себе оружие, огромный старый кольт, чтобы при надобности защитить доверенную мне драгоценность от целой армии хулиганов. Но Лотта все реже просила меня о защите, и когда я нередко встречал ее среди дня с разными мужчинами, с коллегами, по ее словам, у меня не возникало ни тени подозрения. Да я и права не имел подозревать ее: ведь если даже она и знала, как обстоят дела в моем сердце, стихи-то с вынесенной в заглавие буквой «Л» я демонстрировал ей лишь как образчик моих поэтических опытов. Мы не обменялись до сих пор ни единым словом любви, не говоря уже о ласках. Поцелуй, которым она наградила меня в день моего рождения, я не считал за ласку, хотя и воспринял его как самый лучший подарок. Мысль хотя бы раз обнять ее казалась мне кощунственной: я к каждому существу женского пола относился со сдержанной робостью, не испытывая нечистых желаний. А уж по отношению к этой невинной шестнадцатилетней девушке, к этому бутону… да я даже свои мечты о том, как распустится когда-нибудь этот бутон рядом со мной, считал непростительной дерзостью.
Но однажды вечером желание увидеть ее с такой силой нахлынуло на меня, что я поспешил к театру и остановился неподалеку от входа для артистов Я хотел последовать за ней, а перед самой нашей улицей как бы случайно на нее натолкнуться. Но когда она вышла из подъезда, некий молодой человек, дожидавшийся неподалеку от меня, поспешил к ней, ухватил ее под руку, отчего она весело засмеялась, и они удалились в сторону города. Конечно же, это был какой-нибудь коллега. Хотя зачем коллеге дожидаться на улице? И куда они идут, когда на часах скоро половина одиннадцатого? Они вошли в дорогой ресторан, и я уже хотел было войти следом, как вдруг спохватился, что у меня и денег-то таких нет. Но что-то кольнуло меня в сердце, и я остался стоять в тени живой изгороди, мучительно разрываясь между подозрением и желанием все понять и все простить. Во втором часу ресторан закрыли и оба наконец вышли. Они были в отменном расположении духа, она висла у него на руке и глядела на него сияющими глазами. А сердце в груди у меня оборвалось и рухнуло вниз. Потом дикая ревность снова подбросила его вверх, потом я высмеял себя за свои нелепые подозрения. Почему бы ей не повеселиться хоть раз и не поесть досыта? Они все дальше углублялись в город, а я следовал за ними, как тень. Но предосторожности мои были излишни: они и не оглядывались. Не оглянулись они, даже исчезая в подъезде частного особняка на Паркштрассе. Смешно, иначе не скажешь, но я подкрался к калитке в высокой чугунной ограде и прочел имя Затем я побрел домой. И начал ждать. Под утро к нашему дому подъехал наемный экипаж, входная дверь, расположенная возле моей комнаты, бесшумно распахнулась и легкие девичьи шаги заспешили вверх по лестнице.
На этом история моей первой любви должна бы по всем правилам закончиться. Но она не закончилась. Я ведь был не просто отвергнутый любовник, я был еще — в чем я себя уверял — защитник молоденькой, неопытной девушки, и я нес ответственность за ее великую артистическую карьеру в будущем Вот я и рассказал тетушке Доретте о том, чему был свидетелем, рассказал запинаясь и смягчая, чтобы избавить ее от ненужной боли и огорчений. Но старушка ничуть не удивилась, удивился, напротив, я, когда она поведала мне, что молодой человек поклонник Лотты, из богатой семьи, что он печется о Лоттином образовании и намерен впоследствии жениться на ней. Значит, меня обманул не только этот невинный ангел, но и старушка.
Три дня я еще мог это терпеть. Потом, в воскресенье, я сел на пароход и поехал в Долину любви под Шведтом, там, в лесу, откуда открывался вид на реку, я хотел с горя и стыда положить конец своей загубленной и навсегда опозоренной жизни. Однако в смятении чувств я сел не на тот пароход, но поскольку местность, куда мы приехали, показалась мне незнакомой и к тому же недостаточно романтичной, а вдобавок я почувствовал, какими тесными узами связал свою смерть с Долиной любви под Шведтом из-за ее поэтического названия и природной красоты, мне вдруг расхотелось кончать с собой. Дома я запрятал кольт под грязное белье. Очень надо из-за такой… История завершилась.
Слабое удовлетворение, которое я отмечал в себе каждый день, скоро уступило место новой сердечной горячке: сердце мое воспламенилось, поскольку девушка, которой тетка, верно, рассказала, что ее ночные похождения не остались для меня тайной, всякий раз, случайно заметив меня на улице, отворачивалась с презрительным видом. Но однажды, встретясь со мной в сенях, где кроме нас никого не было, Лотта, обворожительная и красивая как всегда, хотя и с пылающим от гнева лицом, подступила ко мне и воскликнула: «Тьфу, какой позор! От вас я этого не ожидала! Шпионить за мной! Стыдитесь!» Тут я потерял самообладание и закричал в ответ, меж тем как слезы гнева хлынули у меня из глаз: «Это вам надо стыдиться, а не мне! Вы погубили мою жизнь! Кровь моя да падет на вашу голову!» Я, правда, малость преувеличивал, но ведь несколько дней назад я всерьез хотел покончить с собой. Слова мои произвели на нее странное впечатление: она издевательски расхохоталась, смерила меня взглядом с ног до головы и сказала, вложив в свой ответ всю силу отработанного на уроках дикции презрения: «Вам сам бог велел застрелиться! Желторотый мальчишка! Не смешите меня своим кривляньем!» Тут она оставила меня и взбежала по лестнице. Веселая песенка еще, казалось, звучит в сенях, когда дверь на втором этаже уже давно захлопнулась.
Юноша может многое выдержать — все мыслимые страдания, даже неудачу в любви, но он не может стерпеть, когда его упрекают в трусости и хвастовстве. В тот же вечер, когда начало смеркаться, я взял в Парнице напрокат лодку и начал выгребать к Даммскому озеру.
Ровно в полночь я намеревался прыгнуть в воду, раздевшись до купальных трусов и оставив одежду на дне лодки, чтобы со стороны все выглядело так, будто я утонул во время купания. Достигнув озера, я лег на спину, устремил глаза к небу и отдался на волю волн. Может, моя лодка угодит под пароход, тогда это будет еще правдоподобнее.
Ночь выдалась безлунная, зато ярко сверкали звезды. Мало-помалу они становились все крупней, начали приплясывать и раскачиваться до самого озера, до дальних его берегов. Было то предостережение или призыв? В тоске душевной я простер к звездам руки и закрыл глаза. Закрытые глаза подобны ласковому прикосновению материнских рук, они навевают сон и забвение на истерзанное сердце.
И тут произошло то, что не раз повторялось в трудные годы моей дальнейшей жизни: явился Орплид. Проснувшись через несколько часов и снова воздев руки к побледневшему небу, я вдруг спохватился, ибо в детстве нам не позволяли так делать: в деревне у нас говорили, будто звезды — это глаза ангелов, и мы можем выколоть их своими пальцами. Но едва в памяти моей ожили картины детства, зазвучала в ней и стихотворная строка — «Земля моя Орплид…», а вдали из воды поднималось сияние и с каждым мгновением становилось все ярче и ярче. Пусть это было самое обычное солнце, которое там, над дальним берегом, позолотило небо, из его света явилось ко мне Черное озеро; впервые с тех пор, как я несколько лет назад покинул родину, Орплид, моя страна, возник передо мной. Потом мне почудилось, будто тысячи птичьих голосов славят восходящее солнце. И пусть это были всего лишь водоплавающие птицы, что гнездились в камышах, для меня это были некогда любимые голуби и соловьи, населяющие волшебную страну неистребимой радостью жизни.
Далекий свет на востоке разгорался все ярче, скоро золотой солнечный луч наискось пересек мое лицо, и я услышал довольно близко человеческие голоса. Из озера меня пригнало в устье Одера, и сердитые крики, без сомненья, доносились с катера и были вызваны моим нелепым поведением. Но самое прекрасное утро из всех, которые я когда-либо видел, перечеркнуло эти крики, а с ними и мои глупые, хотя еще совсем недавно столь серьезные намерения. Взявшись за весла и не сводя глаз с озера, я под торжествующее пение птиц и гудки пароходов поплыл навстречу новому дню. Большой белый пароход был первым предметом, который я увидел в своей новой жизни. «Фрейя» — стояло золотыми буквами на его обращенном к морю носу. А у поручней над именем «Фрейя» толпились веселые девушки и махали платками, множество веселых молодых девушек, и они кричали мне что-то призывное. Я помахал в ответ и улыбнулся. Пароход шел к острову Рюген.
Фрейя, нордическая богиня любви! Может быть, она обитала на Рюгене, впрочем, это было сомнительно, как и с Хертой, богиней плодородия. Но в Орплиде они, без сомнения, жили и владычествовали обе, ибо Орплид был в тысячу раз прекрасней, чем даже Рюген с его несомненными красотами и чудесами. Блаженная тоска по Орплиду пронзила меня. Я решил тотчас по возвращении в Штеттин отказаться от квартиры, продать часы и уехать на родину, к родителям, к Ульрике, в Орплид.
Я не уехал в Орплид. Часы я продал и от комнаты отказался, как и задумал, но перед самым моим отъездом ко мне пришла тетушка Доретта и, рыдая, поведала о страшной беде, постигшей Лотту. Мне она может открыть все, она чувствует, что должна это сделать: Лотта ждет ребенка от богатого друга, который считается, так сказать, ее женихом.
Тетушка Доретта сделала для вящего эффекта многозначительную паузу. Я пожал плечами: «Этого следовало ожидать». — «Верно, — подхватила тетушка Доретта, — но когда она призналась ему, он сразу от всего отрекся и сказал, что отец ребенка, без сомнения, молодой актер, который тоже был другом Лотты, ну не ужасно ли?» И тетушка Доретта еще прибавила: «Какие мерзавцы!»
Побужденный призывом тетушки, я вспомнил о своей прежней роли заступника и театральным жестом сунул руку в карман брюк, где уже не лежал револьвер, но «мерзавцы» во множественном числе несколько меня отрезвили. Впрочем, тетушка продолжала: «Увы, это все правда, один не желает платить, у другого нет ни гроша, а ведь Лотте нужно уехать».
Старушка заплакала. Потом она положила обе руки мне на плечи: «Вы ведь тоже ее любили. И она не раз говорила: „Мне по душе этот мальчик!“»
Мальчик? Желторотый мальчишка!
Но тетушка завершила так: «Вот я и хотела вас попросить: не покидайте нас, не уезжайте отсюда». Я пообещал остаться.
«И пожалуйста, пожалуйста, ссудите нас небольшой суммой, чтобы мы поскорей могли отправить бедняжку. Ведь не может она здесь произвести на свет несчастное дитя. Вы только представьте себе: ее карьера! Боже, боже, какой удар для меня, для ее бедной матери!» Стало быть, она приходилась не теткой, а матерью моему счастью и моему горю.
История эта не новость, Так было во все времена, Но сердце у вас разобьется, Коль с вами случится она.Нет, господин Гейне, последнее вовсе не обязательно. Тот, с кем эта история приключилась, на сей раз склеил свое разбитое сердце шуткой и охотно презентует ее вам для новой строки вашего стихотворения: он продал кольт, из которого намеревался прострелить свое сердце, и на вырученные деньги увеличил сумму, потребную для того, чтобы его неверная возлюбленная, та, ради кого он был готов покинуть сей мир, могла по возможности пристойным образом произвести на свет — несмотря ни на что — чужого ребенка.
Во всей этой истории я сожалел лишь об одном: что не смог уехать в Орплид, к Херте и Фрейе, что пришлось совершить эту поездку лишь в мечтах и снах и тем довольствоваться.
Navigare necesse est[12]
Для юного сердца всего мучительней не те разочарования, которые постигают его как следствие несбывшихся надежд, рухнувших начинаний и предательства отдельных высокочтимых людей, а те, в которых оно со своей тягой к преувеличениям винит все человечество.
Это началось во второй, правильнее сказать, уже в первый день моего пребывания на судне. Он был до того грязен, что я в жизни еще не встречал такого неряху, тем более среди молодых людей. Казалось, он много лет не мыл ног, много месяцев — шею и уши, по утрам он ограничивался тем, что протирал тряпкой слипшиеся глаза, опасаясь при этом случайно замочить руки. Ладони его как с внутренней, так и с тыльной стороны носили следы всех грязных работ, которые он переделал, и всех кушаний, потому что он без зазрения совести мог запустить руки в миску с гороховым супом, чтобы выудить оттуда кость, мог руками разорвать на куски селедку или порыться в помойном ведре, а потом сунуть ту же руку в рот. Запах этого человека вполне соответствовал его внешнему виду, так же пахла табуретка, на которой он сидел последние три месяца, койка, в которой он спал, не снимая, как правило, грязной одежды. А койка эта висела как раз под моей. Господи, думал я, господи, до чего же бедность может довести человека, и превозносил свое героическое решение на какое-то время разделить участь этих несчастных, чтобы впоследствии с тем большим успехом помогать им.
Звали его Хайнрих Дибелков, но все, матросы-товарищи и начальство, называли его Хайни Грязнуля, и не только потому, что он был такой грязный, но и потому, что прежде он ходил на мусорщике в Штеттинском порту. Впрочем, кличка так же мало смущала его, как и грязь. От опасения, что при таком образе жизни грязь неизбежно захлестнет человека, мое пылкое юношеское сердце еще пуще возгорелось, и я счел своей нравственной обязанностью спасти человека, гибнущего у меня на глазах.
Но из моих намерений ничего не вышло. Вечером в кубрике, когда он схватил своей омерзительной лапищей мою краюху, лежавшую на узком столе, и сдвинул ее в сторону, я осторожно срезал ножом корку с того места да которого он дотронулся. Я думал, что сделал это незаметно, потому что не хотел его обижать, но он все увидел, расхохотался и снова схватил мой хлеб, на сей раз — обеими руками. Потом он повертел его, поглядел на свет и спросил с ухмылкой, чем это пахнет мой кусок и с чего это я его обнюхиваю.
— Тобой пахнет, — ответил я, — или, вернее, твоей вонью.
Остальные загоготали, но он спрятал хлеб за спину и сделал непристойное движение, а потом под громкий рев остальных сказал:
— Вот теперь он и впрямь пахнет, — после чего снова шмякнул его на стол.
Я не притронулся к хлебу, в тот вечер я вообще не стал ужинать и ничего не отвечал, когда он качал поливать грязной бранью благородных шалопаев, которые намерены вводить здесь, на этой грязной посудине, хорошие манеры.
Я не стал отвечать, не ответил я и тогда, когда товарищи начали меня подзуживать, потому что по ожиданию, отразившемуся на их лицах, я понял, что он считается у них общепризнанным шутником и, верно, с каждым новичком обращается так же, как со мной. Тем пуще разозлило его мое молчание, выходит, грязь ему была нужна для кокетства, он выставлял ее напоказ как особую примету, которая отличает его от всех остальных; так, иные гордятся своим умением играть на гармони, боксировать либо успехами у портовых шлюх. А может, и грязь, и рваное платье служили для него ошибочно выбранной формой протеста. Но если дело обстояло так, тогда мне тем более следовало попытаться привлечь его на свою сторону, потому что глуп он не был, это уж точно. В ответ на мое упорное молчание он подошел ко мне, положил свою омерзительную лапищу на мое плечо и сказал:
— Вообще-то говоря, мы с тобой одного поля ягоды. Ты со страху наложил в штаны, а воняет от меня.
Поскольку я присоединился к общему смеху, инцидент на этом, казалось, был исчерпан.
Но я заблуждался. На другое утро Грязнуля взял мою зубную щетку и с невинным видом объяснил, что просто перепутал, хотя на самом деле у него щетки отродясь не было. У себя в койке я обнаружил его вонючую робу, свой гребень — воткнутым на женский манер в его свалявшиеся волосы; мои тапки — на его вонючих ногах; собравшись попить кофе, я увидел, что он брал мой котелок, под конец я начал выуживать селедочные головы из карманов куртки. Молчание и высокомерная усмешка в ответ на эти омерзительные выходки не помогали, оставалось либо побеседовать с ним, чтобы обратить в свою веру, либо схватиться напрямую. Товарищи, с которыми у меня были хорошие отношения, не видели в этой истории ничего необычного, они полагали, что уж один-то рейс я как-нибудь вытерплю, пока на мое место не возьмут другого.
Беседа ни к чему не привела, напротив, она только ухудшила положение, потому что я, будучи недостаточно сведущ в психологии, счел нужным рассказать ему, из каких соображений я сделался матросом. Тут уж у него и сомнений не оставалось, что я — благородный шалопай, которому нечего делать в матросском кубрике, такие типы — просто холуи у капиталистов, за борт их — и вся недолга. С этого дня он начал притеснять меня и, так сказать, физически: при встречах непременно толкал; один раз, когда я шел перед ним, он даже нарочно скатился по лестнице в кубрик, чтобы только сбить меня с ног. Один из матросов постарше, когда я пожаловался ему на свою беду, отвечал кратко: «Либо ты набьешь ему морду, либо смывайся в Гельсингфорсе. Да и что у тебя за нужда ходить на таком корыте?»
В самом деле, что за нужда? Я четыре месяца прослужил стажером в одной штеттинской газете, и меня как раз хотели сделать младшим редактором, когда редактор местной рубрики дал мне задание побывать вечером на собрании бастующих моряков: он-де уговорился пойти с одной девушкой в театр, но к одиннадцати он, как штык, будет в редакции и лично сдаст мою заметку в набор.
До того времени забастовки нисколько меня не занимали, меня больше влекло к искусству, к фельетону, а тут я очутился среди грубых людей, которые бастовали, потому что профессия у них была очень трудная, очень опасная и к тому же низкооплачиваемая. Главный оратор клеймил судовладельцев как эксплуататоров, описывал чудовищные условия труда на борту многих кораблей, и сердце мое воспламенилось огнем любви к морякам и ненависти к судовладельцам. В таком духе я и написал свой отчет, исполненный любви и ненависти, и гордо поставил внизу свои инициалы Э. В. Приди редактор вовремя, моя жизнь, может быть, пошла бы совсем другим путем. Но он не пришел, и я просто-напросто сдал свой отчет в набор, после чего я выпил в ночном кафе хорошую рюмку коньяка, а потом всю ночь не мог сомкнуть глаз в ожидании похвал, которыми меня осыплют завтра пополудни.
Но меня вызвали в редакцию с самого утра, и там меня встретил ответственный, он был бледен и взволнован и сказал, что нас обоих выгонят, меня — сегодня же, его — через установленный срок. Главный редактор накричал на меня, а издатель просто рычал. К тому же он позволил себе усомниться в психической полноценности человека, который считает возможным выступать в поддержку бастующих рабочих на страницах газеты, читаемой широкими кругами либеральной буржуазии; главный редактор в довершение заклеймил позором дьявольскую изобретательность, благодаря которой мне удалось выключить из игры ответственного редактора и осуществить свой гнусный замысел. Потом, уже сообща, они поставили меня в известность, что председатель союза судовладельцев, сам великий советник коммерции Рибель, позвонил в полном негодовании и пригрозил лишить газету всех объявлений и вообще бойкотировать. Кроме того, советник изъявил желание собственными глазами увидеть олуха, который заварил всю эту кашу.
Поскольку меня все равно выгнали, я мог бы и не ходить к председателю, но меня соблазнила возможность швырнуть в лицо главному из эксплуататоров — как я называл их всех со вчерашнего дня — мое презрение, если он позволит себе неуважительно со мной разговаривать. Но старый, седовласый господин и не думал на меня кричать, он только засмеялся, когда узнал, что перед ним стоит автор возмутительного отчета, и спросил, сколько мне лет. «Двадцать! — гордо ответил я. — А почему вас это интересует?» — «Потому что ваша молодость многое, а может, и все извиняет». И он принялся живописать бедственное положение, в котором находятся судовладельцы, и сказал, что повышение расценок вконец подорвет немецкое судоходство на Балтийском море, поскольку оно не сможет конкурировать со шведским. Я смущенно молчал, тогда он дал мне большую сигару и начал диктовать отчет в исправленном виде. Я послушно записал три предложения, потом передо мной всплыли обветренные ожесточенные лица забастовщиков, и я отказался публиковать эту писанину от своего имени. Его дружелюбие мигом испарилось.
— Правильно вас хотят выгнать из газеты, — сказал он холодно.
— Не хотят, а уже выгнали, — ответил я.
Он встал.
— Прежде чем то же самое произойдет с вами и в этом доме, позвольте вам сказать: вас не возьмет ни одна штеттинская газета.
Я положил на стол выкуренную до половины сигару и ответил:
— Тогда я сам стану моряком. Я давно уже собирался уйти в море. Это даст мне наилучшую возможность выяснить, кто прав на самом деле: жирные эксплуататоры или выжатые как лимон бедные пролетарии!
Конец фразы засел у меня в памяти после вчерашнего выступления. Я вышел с гордо поднятой головой, в твердом убеждении, что готов к борьбе за лучший общественный строй.
Через три недели забастовка кончилась победой предпринимателей, а поскольку для перевозки скопившихся в порту грузов понадобились не только исправные суда, но и поставленные на ремонт в док, я, не имевший никакой квалификации, без труда нашел место и мог сделать несколько рейсов в Скандинавию… Кроме того, меня соблазняла мысль попасть на судно из рибелевского пароходства; вот каким путем я оказался на «Торе», который с грузом машин шел в Гельсингфорс, где мы должны были принять на борт лес и бумагу.
Правильно ли я поступил? Не для того ли я уже несколько раз сидел в чужой стране без жалованья и голодал, чтобы сносить теперь вдобавок издевательства какого-то грязнули и делаться всеобщим посмешищем? Я уже видел злорадную улыбку на губах коммерции советника. Нет и нет, я не позволю человеку, грязному не только снаружи, но и внутри, отвлечь меня от моей цели.
И вот на следующий вечер, когда Хайни Грязнуля поддал мне своей табуреткой под коленки, так что у меня вылетел из рук котелок с кофе, а сам я рухнул на пол, вызвав общий смех, я наконец собрался с духом, развернулся и ударил его кулаком в лицо. Его ошеломила не столько сила удара, сколько сознание того, что какой-то новичок посмел открыто с ним схватиться. Но так как товарищи начали теперь громко смеяться над ним, он быстро опомнился, уверенный в победе, откинул голову назад и ринулся на меня со сжатыми кулаками. Примерно этого я и ожидал, и поскольку спортивная подготовка в борьбе и боксе помогала мне справиться и с более сильными противниками, я без особого труда сбил его с ног аперкотом в подбородок, вложив в этот удар всю силу своего гнева за то, что он осквернил мои чистые побуждения. Он упал. А остальные повскакали с мест, чтобы поздравить меня.
Когда в остекленевшем взгляде Грязнули снова блеснула искра сознания и товарищи втолковали ему, что вот, мол, и его наконец проучил новичок, — так переменчива благосклонность толпы, — мне стало его жалко, я протянул ему руку и предложил все забыть и помириться. В ответ он злобно ощерился и пробурчал:
— Дай срок, я тебе тоже подам руку, только по-другому.
Я счел это признанием капитуляции.
Два дня спустя мы прибыли в Гельсингфорс. Когда сдали груз, я сошел на берег, чтобы посмотреть город. Но тут же спохватился, что остальные, возможно, вообразят, будто я намерен отколоться от них, и поспешил обратно к гавани, где встретил кое-кого их своих. Грязнули с ними не было. Ближе к полуночи, когда ребята сказали, что пойдут сейчас в один веселый дом, и позвали меня с собой, я уклончиво ответил, что хочу вернуться на корабль.
Я задумчиво шел вдоль кромки воды, как вдруг кто-то набросился на меня сзади и рванул к земле. Это оказался мой враг, который пытался стиснуть своими грязными пальцами мою шею. Но это ему не удалось, потому что я несколько раз ткнул ему в лицо растопыренными пальцами, и тогда он обхватил меня поперек туловища и поднял, чтобы бросить в воду. Было темно, а парапет очень высокий, и я понял, что на сей раз мне придется бороться за свою жизнь. Без сомнения, он превосходил меня силой, но я был более ловким и, кроме того, владел приемами борьбы. Применив захват сзади, я высвободился, сгреб его в охапку и швырнул на землю с расчетом, чтобы он упал на мостовую. Я вовсе не собирался бросать его в воду и очень испугался, услышав вопль, удар, всплеск и крики о помощи.
Я помчался к лестнице, там покачивалась на волнах лодка, в которой сидел человек, поджидая кого-то. Возможно, он доставил на берег офицера. Мы налегли на весла, до того места было метров сто, не больше. В воде мы никого не увидели, но там, где, по моим предположениям, должна была произойти вся эта история, оказалась лодка, а в ней лежал Хайни Грязнуля без сознания. Он упал на лодку, потом соскользнул в воду, но сумел влезть обратно в лодку. Подоспели еще две лодки, в одной из них сидели полицейские. Мы рассказали, что какой-то пьяный свалился в воду. Судя по всему, он ничего не сломал, только ударился головой.
Когда человек, поджидавший в лодке, отгреб вместе со мной обратно, к лестнице, он напрямки мне сказал, что это я бросил пьяного в воду. Он говорил по-немецки с северным акцентом. Когда я ему признался и объяснил, как и почему все случилось, он сказал, что мои оправдания мне не помогут, для полиции это все равно попытка убийства, и он-де не хотел бы сейчас оказаться на моем месте.
— Но ведь с ним ничего не случилось! — вскричал я. Мой собеседник рассмеялся.
— Уж он позаботится, чтобы случилось.
— А что делать? Я ведь ни в чем не виноват.
— Не причитай, как баба. Если ты вернешься на судно, тебя заберут, самое позднее — завтра утром. Как только этот парень все расскажет, будь то в полицейском участке или в больнице. Тебе здешние тюрьмы знакомы? Лично мне — да.
— Как же быть? — застонал я. — На борту остались мои вещи.
— Есть о чем горевать. — Он сделал вид, будто усиленно размышляет. — Бумаги у тебя при себе? — Я кивнул. — Тогда сиди со мной в лодке, пока не придет старик. — Он помолчал. — А впрочем, можешь и один посидеть. Я схожу за ним.
Он вернулся с человеком весьма пристойного вида, и я поехал вместе с ними к небольшому пароходику, который даже в ночной темноте казался крайне запущенным и грязным. Кубрик был под стать пароходику и матросы — тоже.
— Ну, нашли? — спросили они в один голос, кто по-датски, кто по-немецки, и, судя по всему, очень обрадовались утвердительному ответу. Один из матросов принес мне водки и указал свободную койку.
— Ложись давай, а завтра утром мы, бог даст, отвалим!
Таким манером я угодил на самый забавный из когда-либо встречавшихся мне кораблей, на голландский пароход «Кнут», построенный, возможно, еще в царствование Кнута Святого, первого из датских святых, канонизированного лишь за то, что подданные пристукнули его прямо в церкви. А может, наш корабль был назван в честь другого Кнута, того, который году примерно в 1200-м покорил мою родину и насильственно обратил вендов в христианство. А может, чем черт не шутит, он был обязан своим именем Кнуту Великому, прародителю всех датских Кнутов, покорившему Англию и создавшему великое нордическое государство, незамедлительно распавшееся после смерти своего создателя, хотя тот оставил сына-престолонаследника, которого и вовсе звали Хартакнутом. Короче, какого бы Кнута здесь ни подразумевали, священное для датчан имя прикрывало теперь темные тайны жалкого суденышка, о котором мне даже и после нескольких рейсов не удалось выяснить, что оно возит, не контрабанду ли, спирт и кофе на обмен, либо — того хуже — не смертник ли он, застрахованный на крупную сумму, чтобы при первой же возможности пойти ко дну.
Яростный гнев против такой участи, завершившей до срока погубленную жизнь, уступил место тупому равнодушию; угрозы капитана перед каждой стоянкой выдать меня полиции «за историю в Гельсингфорсе» при первой же попытке бегства приглушили во мне все, чем я жил до того, как податься в матросы. Пока однажды ночью, когда я стоял на вахте, над морем не прозвучали строки стихов. Они накатили на меня, сопровождаемые печальной, никогда мною не слышанной мелодией, плавно раскачивающейся в ритме морских волн. Быть может, это просто большая птица распростерла крылья в ночной темноте. Я твердо знал, что никто это стихотворение не пропел и никто не произнес вслух, и, однако же, я слышал его так отчетливо, что невольно начал вторить, хотя и вполголоса. С этим стихотворением в мою непроглядную тьму проник свет издалека, приведя за собой Орплид, но на сей раз не как боевую веру в новое утро человечества, а скорей как вечернюю зарю, ласковую и усталую, зарю воспоминания о пылких юношеских надеждах на роль миссионера, обращающего всех в свою веру.
Зато миссионер оказался теперь у меня за спиной, привлеченный стихами об Орплиде. Он входил в команду «Кнута», как и я, только для него это был первый рейс на нашем плавучем гробу и совершал он его по доброй воле. На вид ему было лет сорок, он спокойно выполнял свои обязанности, мне же бросилось в глаза, что в отличие от других новичков он если и стремился к близкому знакомству с коллегами, то лишь изредка и по возможности наедине. И значит, настал мой черед.
Он подошел поближе и, когда я перестал мычать себе под нос, извинился. Подумать только — моряк, и просит извинить его! По его словам, ему бросилось в глаза, что днем, на людях, я молчалив и серьезен и только оставшись один, среди ночи, вполголоса читаю стихи. Кстати, как оно звучит точно? «Ну погоди же», — подумал я и прочитал это стихотворение вслух. «Да, да, — радостно воскликнул он, — это Мёрике, но мотив другой».
И тут сам он запел мое стихотворение, только гораздо красивее. То есть, текст он знал не совсем точно.
— У вас прекрасная литература и прекрасная музыка, мы, датчане, любим и ту, и другую. Год назад я слышал исполнение этой песни на большом концерте в Копенгагене. Текст показался мне чересчур романтичным, поэтому я и позабыл многое, но вот музыка… Гуго Вольф у нас очень сейчас популярен. — Вот что сказал мне датчанин, а я, немец, и не подозревал, что Гуго Вольф положил эти стихи на музыку и что их исполняют в публичных концертах, даже за границей.
Я уже успел прийти к убеждению, что моряк из меня никудышный, а тут рядом стоял человек еще более нелепый в роли моряка. И потому мы не таясь рассказали друг другу, как попали на этот корабль, а потом и подружились. Звали его Йенс Мадсен, был он датчанин, и, помимо всего сказанного, он и еще в одном отношении был самый странный из когда-либо виденных мной моряков: в своем на редкость тяжелом и огромном мешке он таскал целую кучу книг. По большей части то были политические книги, которые он, как социал-демократ и агитатор, раздавал для прочтения. Узнав о моем приключении в Гельсингфорсе и почувствовав, что я, разочаровавшись в одном скверном и злом человеке, готов из-за этого пересмотреть все свои взгляды на необходимость классовой борьбы, он, по возможности щадя меня, вскрыл наивно-сентиментальную подоплеку моего выхода в море, объяснив, что Хайни Грязнуля — такой же продукт существующей системы, как и советник коммерции Рибель и владелец корабля-смертника. Йенс Мадсен был родом из Гудхьема с острова Борнхольм, местечка, кишевшего, по его словам, христианскими сектами. Они пишут свои призывы, продолжал Йенс, крупными буквами на стенах домов и на заборах и пребывают в убеждении, что мирское зло можно одолеть, проявляя терпение в жизни и нетерпение в усилиях по обращению инакомыслящих. Сын лавочника, Йенс должен был посещать гимназию в Рённе, чтобы стать проповедником. А хотел он стать моряком. Наконец им удалось достичь компромисса: Йенс стал миссионером. Тут он нашел что искал, хотя и на религиозной основе: незнакомые страны, незнакомые люди и море. Но увидев, что делают добрые христиане, если они сильны и богаты, со своими ближними, если те не сильны и не богаты, он пошел единственно приемлемым для него путем: стал глашатаем нового евангелия. Он поспешно вернулся в Европу, видя отныне свою миссию в том, чтобы наниматься на самые никудышные суда, где почти не бывает организованных моряков, и заниматься там просвещением и агитацией в пользу социал-демократии. Он стал миссионером, который по доброй воле, побуждаемый одной лишь верой в возможность добиться для бедных лучшей, более свободной жизни на этой земле, не боялся ни тяжелой работы, ни опасностей и даже отказался от счастья иметь собственную семью.
Я с готовностью внимал словам своего нового ментора, но когда он сказал, что капитан даже и не подумает отдать меня в руки властей из-за дурацкой истории в Гельсингфорсском порту, я отнюдь не поторопился покинуть судно, а, напротив, сделал еще один рейс, поскольку Йенс покамест не завершил свои дела на пресловутом «Кнуте».
Мы и потом поддерживали связь друг с другом, покуда первая мировая война не разорвала ее. Он не вернулся из рейса к берегам Англии, но для меня он просто переселился в страну Орплид, куда вступил в ту ночь на борту «Кнута», когда стихотворение Мёрике, словно огромная птица, пролетело над морем.
Всего только полчаса
Медленно и тяжело, подобно большому, неуклюжему, плашмя лежащему мельничному колесу, двигалась по кругу вереница арестантов в колодце тюремного двора. Осью этого круговращения служила засохшая липа, точнее — толстый надзиратель, привалившийся к дереву, почти лишенному листьев. «Разговаривать строго запрещается! Соблюдать дистанцию! Марш!» — скомандовал он как всегда, а потом, как всегда, впал в какое-то забытье. И тогда, как всякий день, та часть живого колеса, которая находилась позади него, с помощью жестов и шепотом стала обмениваться новостями:
— Остерегайтесь врача! Он из СС! (Врач держался очень приветливо и расспрашивал о семейных обстоятельствах.)
— Отто сейчас в Колумбиа-хауз! (Младший полицейский Отто был мастером мучить и избивать, а Колумбиа-хауз прославился в Берлине пытками и убийствами.)
— Зеленому больше папирос не давать! Он стукач! (Зеленый был тюремным уборщиком, а папиросы — маленькими скрученными записками с новостями, которые он передавал дальше.)
Внимание, сегодня некоторых выпускают! (Кое-кого из нас действительно выпустили.)
Передо мной, согнувшись, с бессильно повисшими руками и опущенной головой шел рыжеволосый депутат рейхстага Хайльман. Ни один его жест, ни одно движение не обнаруживали, что он понял услышанное, и дальше известий ом тоже не передавал. Может, он уже так отупел, что ему ни до чего больше нет дела? Были и такие, кого эти сообщения не трогали, но в общем игра увлекала всех. Как мельничное колесо погружается в воду, так погружался в молчание круг заключенных, вступая в поле зрения надзирателя. И как вода каплет и брызжет с лопастей колеса, так каплями и брызгами срывались слова. Играли все, только депутат рейхстага безучастно тащился по кругу. То ли он боялся, что его заметят, то ли его уже успели обработать…
Наша часть колеса снова взлетела наверх и оказалась за спиной надзирателя.
— Эй, Хайльман! — шепнул я.
Ничто в нем не дрогнуло в ответ. И колесо человеческих судеб вертелось дальше, пять минут, десять, пятнадцать, и еще много новостей каплями срывалось с него.
У двери, ведущей на лестницу, показался надзиратель и что-то крикнул. «Стой!» — эхом отозвался толстый у дерева. Большое колесо стало, качнувшись, — ведь останавливаться было для нас непривычно. Человек, появившийся в дверях, подошел ближе и выкрикнул несколько фамилий. Среди них была и моя.
— Пошли!
Один из нас, не совладав с собой, спросил:
— Куда, господин вахмистр?
Вопросы задавать запрещалось, но тот все же ответил, и при всей грубости ответ прозвучал добродушно.
— Придержи язык! Можешь радоваться, вас выпускают!
Выпускают? Но ведь меня еще ни разу не допрашивали. Я взглянул на остающихся, и их чувства на мгновение затопили меня. То были удивление, радость за нас и вполне понятная зависть.
— Вам что, не нравится? По мне, так можете оставаться здесь! — крикнул из дверей надзиратель. Он даже сказал мне «вы»! Прежде чем обернуться к нему, я успел заметить, как рыжий Хайльман тоже поднял голову и посмотрел мне вслед. Это был очень грустный взгляд.
— Живей, живей! — подгонял надзиратель; он отпер дверь в мою камеру и оставил ее приоткрытой. Все еще не понимая, что произошло, я стал запихивать в картонку свои пожитки. Когда я взял в руки кожаные домашние туфли, я увидел, что в камеру кто-то вошел. Это был уборщик.
— Подари мне шлепанцы, — попросил он, — ты теперь сможешь купить себе новые.
Я отдал, но тут же спохватился: ведь это Зеленый, стукач!
Давай обратно! — крикнул я.
Зеленый повертел пальцем у виска и исчез. В дверях, раскрытых теперь настежь, стоял вахмистр.
А ну, побыстрее! Вы что думаете, я из-за вас буду работать сверхурочно?
У картонки не было веревки, и мне пришлось взять ее под мышку.
В канцелярии уже дожидались восемь человек. Среди них были и те двое, из моего давешнего арестантского круга. Стало быть, всех выпускают.
Здесь же находились двое полицейских, один из них — толстый с тюремного двора. Время от времени он подходил к окошечку и поторапливал писарей. Это было хорошо, ибо каждая минута, на которую сокращалось наше пребывание здесь, дарила нам жизнь. Сначала я пойду и побреюсь, потом возьму извозчика — нет, лучше сперва позвоню домой, а то если я неожиданно появлюсь на пороге, как бы радостное потрясение не натворило беды.
Только почему эти типы не отпускают тех, у кого бумаги уже готовы? Впрочем, теперь уж не беда, если к неделям и месяцам, проведенным здесь, прибавится еще полчаса. Наверное, это продлится дольше, чем полчаса, ведь они еще должны вернуть нам ценные вещи, деньги и часы.
— Все здесь? — спросил вахмистр в окошечко и стал перебирать бумаги из большого желтого конверта.
Из окошка ответили:
— Ты что, боишься, что мы спрячем одного из твоих воробышков?
Час тому назад меня бы не задело, что о нас говорят в таком тоне. Но теперь нас освобождали, и каждый мог требовать, чтобы с ним обходились как с гражданином, как с полноправной личностью. Ну да ладно — лишь бы выбраться отсюда. Нельзя давать этим палачам новый повод придраться к себе.
Полицейский, стоявший у двери, двинулся вперед, и мы по двое за ним. Я шел последним, а вахмистр с бумагами замыкал шествие. Теперь мы, наверно, идем в комнату, где у нас отобрали ценные вещи.
Нет, процессия сразу направилась вниз, по лестнице, ведущей во двор. Так что, пожалуй, прямо на свободу. Что если спросить у толстого, как мне получить мои часы? Деньги, уж черт с ними, я и пешком добегу от Алекса до Далема.
Во дворе стояла зеленая тюремная машина с открытой дверцей, рядом с ней — полицейский. Я почувствовал, как ноги у меня стали ватными, и оперся о стену. Нет, наверно, это ошибка, я попал не в свой транспорт.
Вот уже человек, идущий впереди меня, спросил:
— Господин вахмистр, куда вы нас отправляете? — Страх дрожал в его голосе.
Толстый даже не заорал на него, он ответил вполне добродушно:
— Мы все вместе совершим небольшую загородную прогулку, мой мальчик!
Значит, за город — если это не издевка. Первые уже садились в машину — молча, с ожесточением стиснув зубы. Тогда я обернулся к толстому:
— Но со мной и этими двоими тут что-то не так! Вы же ясно сказали: нас выпускают!
Вахмистр повернул ко мне свой живот и засмеялся:
— А разве вас не выпускают отсюда? Надеюсь, мы больше не встретимся! Кто виноват, дурачье, что вы поверили, будто таким, как вы, позволят вернуться в общество!
Он сделал вид, что очень доволен своей шуткой. Они, наверное, уже сотню раз проделывали эту подлость с несчастными, у которых отнимали надежду.
Те, в машине, сидели тихо, молча, опустив глаза. Только когда машина покатила по улицам, пробудился интерес: куда нас везут?
— На улицу принца Альбрехта, — воскликнул один, — в гестапо!
— Я уже три месяца сижу здесь, на Алексе, — сказал пожилой человек с окладистой седой бородой, — я хочу, чтобы меня наконец допросили.
Кое-кто засмеялся, но смех этот прозвучал так, словно заскребли ногтями по железному верху машины: «Подожди, тебя еще допросят!»
— Если б я только знал… — начал один, из нашего тюремного круга, но замолчал.
— Нет, не на Альбрехта, — сообщил человек, стоявший у зарешеченного дверного окошка. — Но и не в Ораниенбург, — добавил он сразу же.
Все прижались к двери, стараясь угадать, куда нас везут, будто мы спешили навстречу новым испытаниям.
— Что же ты натворил? — спросил мой сосед старого человека с окладистой бородой.
— Я? — он хотел, вероятно, ответить, но тут лицо у него помрачнело, и я прочел его мысли: «Будь начеку, может, это стукач!» Тень настороженности легла на все лица. Вот чем она стала, наша общность в преддверии ада.
— Меня пускай везут куда угодно, — сказал коренастый мужчина лет тридцати пяти. Он отодвинулся от двери и сел. — Только бы знать, на свободе ли остальные. — Глубокая тревога послышалась в его словах, но на лицах остальных был написан ответ: «Осторожно, возможно, это стукач!»
— Можно здесь курить? — спросил самый молодой с виду парень (он один среди нас казался более или менее беспечным) и стал вытаскивать папиросу.
Сосед схватил его за руку:
— Ты что, с ума сошел? «Быки» только и ждут чего-нибудь такого!
Но другие сказали, что им уже приходилось курить в «Зеленой Минне» и, как только мы выедем за город, они тоже закурят. Кто знает, что будет потом?
— Боже милосердный! — простонал человек, остававшийся у двери, и все головы стремительно повернулись к нему.
— В Ко-лум-биа-хауз…
Четверо, пятеро человек бросились к окну, они уставились в него так, словно им не терпелось увидеть это страшное место. Последняя надежда еще боролась с тупой покорностью, когда машина въехала во двор и остановилась.
Сомнений больше не было. Глухой голос отчаяния подвел черту под случившимся:
— Так и есть!
Никто не поднял глаз, никто не произнес ни слова. Я услышал, как толстый вахмистр слез со своего места рядом с шофером, поговорил с ним о чем-то и ушел в глубь двора. На сапогах у него были железные набойки, подковка на одном каблуке, видимо, разболталась и слегка позвякивала. Я удивился, что мое сознание фиксирует сейчас подобные вещи. А между тем мы сидели, тесно прижавшись один к другому, девять заключенных, знающих друг о друге лишь то, что уже совсем скоро заплечных дел мастера начнут рвать человеческое тело, пытаясь разрушить ту стойкую общность, которая именно в эти минуты превратилась из идеи в действительность и соединила незнакомых между собой людей. Последнее и величайшее товарищество придавало силы всем сидевшим в машине, угнетало их сознание, что силы эти понадобятся не для борьбы, а лишь для того, чтобы перенести страдания. Машина была большим гробом, зловещая тишина царила в ней. Странным гробом, ибо мертвецы его были живы, им предстояло умереть лишь тогда, когда они выйдут из него.
Как кратки, однако, могут быть пятнадцать минут, если они в самом прямом значении слова — отсрочка казни. Среди чужих звуков этого чужого двора снова отчетливо послышались шаги толстого вахмистра; они приближались, подковка звенела все громче и громче — сейчас он появится, откроет дверцу и насмешливо скажет: «Пожалуйста, господа, выходите, вас приглашают на милую вечернюю беседу».
Не решится ли кто-нибудь двинуть ему кулаком в морду и броситься к воротам? Если они станут стрелять, так чем это хуже того, что нас тут ожидает? Ведь еще на свободе каждый из нас знал кое-что об ужасах, творящихся здесь, в центре Берлина, в этом Колумбиа-хауз; недобрая слава всех прочих застенков, вместе взятых, не сравнится с его кошмарами.
Толстый был уже здесь, но он не отворил нашу дверцу, он подошел к шоферу и заговорил с ним. На несколько секунд блеснула надежда: быть может, мы поедем дальше. Он не сел в машину, он обошел ее кругом, один раз, другой, третий. И тут тишина, порожденная тупой покорностью, бессилием, подавленным возмущением и парализованной волей к жизни, внезапно взорвалась: это восстал дух мятежа. Безо всякого уговора дюжина кулаков забарабанила в дверцу машины, дюжина искаженных ртов исторгла дикие крики, и доски поддались. Дверь распахнулась. Снаружи, плечом к плечу, с поднятыми пистолетами стояли толстый и шофер.
Никто не выпрыгнул им навстречу. Но не пистолеты удержали людей и не бессмысленность сопротивления — Удержало недоумение в глазах обоих вооруженных. Удивление и страх за жизнь людей, из-за скандала подвергающих ее опасности. Видимо, оба относились к числу тех полицейских, которые в тридцать третьем были против «новых методов», а теперь, год спустя, демонстрировали свою преданность режиму, пока — еще только с помощью брани и кулаков. Если прикажут, они, конечно, станут и вешать, и стрелять, и избивать до полусмерти, но дома, перед женой, постараются с отвращением откреститься от этого.
Поскольку из машины никто не выпрыгнул, пистолеты опустились, и толстый, оглядевшись, сказал:
— Вы что, свихнулись? Хотите все здесь остаться, а?
Этот странный вопрос заткнул нам рты и настежь раскрыл глаза и уши. Так значит, не всех выгрузят здесь? Но скольких? И кого? Молодой парень спросил об этом.
— Двоих или троих, — ответил толстый, — о третьем они еще совещаются.
И захлопнул дверцу.
Люди в машине сидели, поглядывая друг на друга неуверенно и смущенно. С кем это произойдет? Теперь, когда судьба перестала быть общей, ожидать решения стало еще страшнее. Связка была разрублена; девять ее обрубков, пока еще узнаваемых, корчились, каждый сам по себе, изрыгая немой вопрос: с кем это случится? Инстинкт самосохранения, подавленный в каждой душе, теперь выступил наружу. Он проявился девятикратно в вопрошающем взгляде каждого; сперва подобный невзрачному червяку, он тут же превратился в скользкую змею, и наконец девять раздвоенных языков многоглавой, свившейся в клубок гидры стали ощупывать девятерых людей, сидящих в машине: кто? кто? не я! не я! И гадина начала жалить, еще с опаской, но уже ядовито. Человек с седой бородой сказал, вернее, это змея заговорила в нем: «Почему я здесь сижу? Я же ничего им не сделал!»
Последовал встречный удар, это ответил молодой парень: «Ну так выходи!»
Никто не усмехнулся, только коренастый человек лет тридцати пяти раздавил одну из голов с шевелящимся языком; он сказал: «Я печатал листовки! Идиоты — они сцапали меня и воображают, что это прекратится!»
Омерзительное животное притаилось под скамейками, и некоторое время люди сидели в машине одни.
Как медленно тянутся минуты, когда они наполнены мучительным ожиданием неведомого ужаса! Но вот воспоминания догнали и подчинили себе пугливо забегающее вперед воображение; и тогда тридцать минут стали исчисляться мгновениями. Моя страна, вдали сияющая, пришла ко мне на помощь в тюремную машину; она превратила омерзительных змей животного инстинкта в пестрых ящериц и грациозных веретениц Орплида, в беспрестанную игру детского воображения, воспринимающего единство всего живого.
Но распахнулась дверца, и надтреснутый голос проорал три фамилии; человек, печатавший листовки, молодой парень и мужчина с окладистой бородой оставались здесь.
Гадина бесстыдно высунула из-под скамьи оставшиеся шесть голов. В них уже не дрожали ядовитые языки — лишь примитивное чувство облегчения и радости тлело в поблескивающих глазах. Но стало понятно, что в нашей машине едет еще одно существо, повторенное шестикратно. И имя ему —~ обнаженный человек.
— А мы с вами — в Ораниенбург! — сказал толстый полицейский и захлопнул дверцу.
Голубая, как небо, девочка
В той части Орплида, где болотистый ольховник постепенно переходит в холмистый, высокоствольный лес, который на севере подбирается к озеру Уйкер, а на юге примыкает к Шорфхайдской степи, как-то утром в конце лета я встретил юную незнакомку. Собственно, я не встретил ее, а издали увидал светлое платье, белевшее меж стволами. И мне послышался высокий детский голос, который словами, пеньем и радостными возгласами обращал в звуки солнечные зайчики, тихонько подрагивавшие на деревьях и пушистой лесной земле. И все эти неясные шумы, слагавшиеся из шорохов, стрекота и жужжанья и улавливаемые лишь привычным к одиночеству ухом, отступили в глубь высокого леса, окружив это странное явление внемлющей тишиной. И Флок, привыкший в бесчисленных походах подчиняться мне, своему старшему другу, замер в нескольких метрах, чуть приподняв переднюю лапу и неотрывно глядя на светлое существо перед нами. Не шевелился даже кончик его левого уха, как это обычно бывало даже тогда, когда он притворялся мертвым. И лишь после того, как незнакомка чуть отдалилась, пес медленно повернул ко мне морду и два удивленных, вопросительных взгляда встретились друг с другом. Я приложил палец к губам и показал на ногу. Когда же я, скрываясь за деревьями, двинулся вслед за девочкой, собака последовала за мной с готовностью, которую обычно выказывала лишь в ожидании чего-то необычного.
Еще ни разу мне не встречались здесь путники, разве что лесник, да и тот редко. На много верст кругом не было ни деревушки. И хуторов поблизости тоже не было. Ибо здесь, на северной границе Орплида, высокий лес не пускал людей, а таинственный овраг правей ручья, обновлявшего священные воды Черного озера, путал своими бесчисленными поворотами и изгибами заставлял их. блуждать. Лишь у человека без цели и времени могло возникнуть желанье подняться оврагом вверх по ручью, карабкаясь по камням, песку, поваленным деревьям в обход топей. А таких людей в тамошней стороне не было. Как же тогда незнакомая девочка очутилась здесь?
Желая отрезать уходящей путь и встретиться с ней так, чтоб она не испугалась и, вскрикнув, не убежала прочь, Флок и я обошли несколько больших холмов, все время боясь упустить ее и быть обнаруженными, пока не оказались на небольшой просеке, которую она по моим расчетам должна была пересечь. Конечно, это было вовсе не обязательно: только горячее желание могло родить эту мысль и придать ей очертанья реальности. И, как часто бывает в жизни, так действительно и произошло.
Только мы расположились под раскидистым можжевельником, как она вышла из лесу. Была она выше и старше, чем я думал. Ей было, пожалуй, лет четырнадцать или пятнадцать. И платье на ней было не белое, а светло-голубое, так что на фоне темного леса она казалась большим цветущим кустом сирени. А когда она пересекла просеку, то из куста сирени превратилась в заросли жимолости великолепного небесно-голубого цвета, какие росли в барском саду. Такой ее делали бесчисленные оборки и складки, из которых состоял тонкий материал платья. Никогда еще я не видел такого одеянья. А кто видел, удивился бы, встретив в пустынном лесу человека в таком наряде, да еще поющего незнакомую мелодию.
Но вот существо повернуло голову, пенье смолкло и из-под золотистых локонов на темный куст глянуло покрасневшее девичье лицо. Потом тонкий голосок зазвучал снова, и вскоре фигурка на другом конце просеки исчезла среди деревьев. Мы продолжали тихо стоять в кустах, и, может, Флоку, так же как и его хозяину, все еще виделось сверкающее светло-голубое пятно.
Тогда мы поспешили за ней. То были уже не зачарованные мечтатели, а азартные охотники, скрадывающие редкую дичь. С того дня я знаю, как можно породниться со зверем. В Орплиде мы выслеживали всякую живность. И, пожалуй, чем диковинней и необычней она была, тем больше Флок старался сдержать свое нетерпенье. В нем то и дело пробуждалось желание стать самостоятельным, и все же он не давал себе воли. Вот и на этот раз он рвался вперед. Но стоило ему увидеть далеко между деревьями голубое пятно, как он останавливался и, подождав меня, бежал дальше. Без него мне не удалось бы отыскать след, потому что дорога шла холмами, оврагом, вокруг пруда, через небольшой луг, по березовой рощице и снова вверх по ручью, который бежал теперь почти прямиком меж старых ив и зарослей ольхи.
Кто эта незнакомая девочка, которая так хорошо знала здешние места? Знала их лучше меня, которому боязнь мешала до конца пройти этот овраг с привиденьями. Куда направлялась девочка, с кем она говорила и кого звала?
Мы шли и шли часа два, и я было испугался, что мы не найдем дороги домой. Может, она лесная волшебница, посланная искушать меня, одна из дриад, днем стерегущих Орплид и не осмеливающихся войти в него, потому что на их пути вставал Божий остров? Тут я засмеялся. Ведь я уже не ребенок, а четырнадцатилетний подросток, приехавший из города домой, чтобы заполнить школьные каникулы не мечтами, как раньше, а настоящими краеведческими изысканиями. Поскольку Флок не возвращался, я вынужден был последовать за ним.
Далеко мне идти не пришлось. Моему взору открылась довольно длинная долина, на дне которой у пруда притулился хутор. Наверное, мельница! И как это я раньше не знал, что здесь есть мельница! С трех сторон ее окружали поля и луга. Там, где кончался пруд, очевидно, было продолженье оврага. Высокие темные ели окаймляли выступ. Должно быть, мельница располагалась вдали от деревень, потому что окрестные холмы поросли высоким лесом.
На одном из склонов крестьянин лущил стерню. Целых две лошади тянули плуг. Стало быть, хозяйство не такое уж маленькое. Он тоже меня заметил, бросил пахать и, казалось, был удивлен не меньше моего. Я направился к нему. А Флок уже добежал до хутора и в нерешительности остановился. Наверняка незнакомая девочка прошла туда, и собака, так же как и ее хозяин, дивилась тому, что делало это существо, казавшееся феей или принцессой в сто раз красивей виконтессы Ютты с барской усадьбы, на маленьком крестьянском хуторе, где вместо того, чтоб работать, в будни разгуливало в нарядном платье.
Крестьянин оказался здоровенным мужиком с густыми свисающими вниз усами и кустистыми, почти смоляными бровями, из-под которых на меня неприязненно смотрели два колючих глаза. Поскольку он не ответил на мое приветливое «Добрый день!», я не решился спросить о незнакомой девочке — теперь я и вовсе не представлял их вместе и невразумительно бормотал что-то о том, будто заблудился, спрашивал, какая это мельница и как лучше добраться до Куммерова. Его взгляд еще раз недоверчиво скользнул по мне. Затем он повернулся к лесу и показал кнутом на небольшую поляну: «Там наверху есть тропа, она идет через лес и выходит на дорогу. Той дорогой пройдешь через горы, а после будет развилка. Мощеная дорога ведет к хутору Хайзенталь. А там ты как-нибудь доберешься до Куммерова. Если ты и впрямь оттуда!»
На что он намекал своим последним замечанием? Но поскольку он отвечал гораздо дружелюбней, чем можно было предположить по его виду, я сперва поблагодарил его и решил рискнуть.
«Простите! Здесь не проходила девочка в светло-голубом платье? Может, она живет у вас?»
Тяжело ступая, крестьянин двинулся на меня. «Здесь нет никаких девочек, а теперь проваливай!» И он снова указал мне кнутом на поляну в лесу.
Я уже прошел добрую сотню метров в этом направлении, как вспомнил о Флоке, который наверняка прошмыгнул в ворота. Он был умней меня и наверняка видел девочку. А я даже не спросил, как называлась эта проклятая мельница. Желая наверстать упущенное, я повернулся и направился к хутору. Но не прошел я и нескольких шагов, как за моей спиной раздался резкий окрик: «Эй, куда пошел?»
«Забрать собаку. Она забежала к вам во двор!»
«Стой на месте! — гаркнул крестьянин. — Чего ты здесь вынюхиваешь? А?»
Тут меня такое зло взяло, что я заорал: «Сами вы вынюхиваете! Грубиян! Я хочу забрать свою собаку и больше ничего!»
«Сейчас я тебе ее выгоню!» Крестьянин несколько раз взмахнул кнутом.
Мне стало жаль Флока. Я свистел на все знакомые ему лады, но он не возвращался, хотя крестьянин давно уже исчез в доме. Наконец я услышал во дворе щелканье кнута. Флок опрометью выскочил из подворотни и помчался вдоль ручья вниз. В воротах показался крестьянин, щелкнул еще раз кнутом и издевательски захохотал.
Флок ничего не слышал, не слышал он и моего свиста Он уже почти пересек долину, когда начал приходить в чувство. Видно, он вспомнил о своем хозяине, потому что побежал медленней и повернул голову. Тут он, должно быть, услышал мой свист, остановился и огляделся по сторонам. Зная, что зоркие глаза его были надежней острого слуха, я поднял руки и замахал ими. То был наш годами испытанный сигнал: немедленно подойди. Тут Флок совсем пришел в себя и длинными прыжками помчался вверх по холму, время от времени боязливо оглядываясь на хутор. Я был рад, что он снова рядом. Правда можно было не опасаться за него, он и один нашел бы дорогу и через овраг, и через Орплид, но мне хотелось о многом расспросить его.
Мы присели на лесной поляне, где кончалась ведущая с хутора тропинка, и глянули на долину. Окруженная стеной могучего леса, она лежала под нами: ручей, озерцо, сад, поля, луга, старый хутор, над которым кружили голуби, таинственные ели, могучие дубы над островерхой крышей, которую я только теперь заметил, коровы на выгоне, лошади, запряженные в плуг, и страшный мужик, который снова шел по борозде. И голубая, как небо, девочка, которая наверняка была оттуда. Иначе зачем крестьянину так долго оставаться в доме? Если он хотел только прогнать Флока со двора, он управился бы быстрей. Или Флок забежал в дом?
«Ты видел ее?» — спросил я и погладил его умную морду. Он поднял глаза и вильнул хвостом. Он ее видел.
«Ты говорил с ней?» Он завилял еще сильней.
«Что она говорила, Флок? Ты рассказал ей, кто мы?»
Это было уже совсем глупо. Я сообразил это, когда хвост замер, а пес положил голову на вытянутые передние лапы.
Это означало: пожалуйста, не мешай мне. Мне нужно поразмыслить!
Мы оба задумались и оба, наверняка пришли к одинаковому выводу, что грубый крестьянин не был отцом лесной принцессы. Уже совсем стемнело, когда мы, усталые и голодные, длинной и скучной дорогой выбрались через горы домой.
На следующий день я осторожно спросил у отца название мельницы, ни словом не обмолвившись о голубой, как небо, девочке.
«Неужто ты был в этом гиблом месте?» — спросил он.
«Почему гиблое? Это чудесное место, и хозяйство в полном порядке. Как называется та мельница?»
«Должно быть, мельница Марии. Но мельницы там давным-давно нет. Какой крестьянин повезет зерно в эту богом забытую дыру? Засел там какой-нибудь бедолага, жить не живет, а помирать неохота. Ты подумай: ведь дети, если они там есть, растут как скотинка…»
А я вспомнил прекрасную девочку, и мысль о ней не покидала меня. Только рассказать о ней я не мог: никто б не поверил, что я все это видел. Ведь и сам я все время сомневался, было ли это явью или мне встретилось существо из сказок, легенд и сочинений поэтов.
Как-то в полдень, когда происшедшее чудесным образом преобразилось в моем сознании, а школьные каникулы подходили к концу, я поделился тайной далекой мельницы с Ульрикой. Высокий лес, дикое ущелье, прекрасная долина и одинокая мельница не произвели на нее никакого впечатления. Зато ей хотелось услышать о незнакомой девочке и ее красивом платье. Но трезвый рассудок взял верх, и она принялась хохотать: откуда у простого крестьянина такая дочь! Она была готова завтра же двинуться в путь и все проверить. Уж ее-то, дочь куммеровского пастора, крестьянин не посмел бы прогнать! Она только боялась отправиться в дорогу одна, справедливо полагая, что не найдет ее. Оба ее брата смеясь отказывались проводить ее. И по своему обыкновению она снова нарушила торжественное обещание и все разболтала.
Когда в последний день каникул мы сидели в саду у пастора и пили кофе, Ульрика, оба ее брата, Эберхард с усадьбы и я, к нашему столу подошел пастор Брайтхаупт и, обратившись ко мне, произнес: «Ульрика рассказала мне историю о мельнице Марии и маленькой девочке в городском платье. Ты что, был на мельнице?»
Я сердито глянул на нее. Пришлось рассказать.
«А кроме крестьянина ты видел кого-нибудь еще? Человека, который носит очки и одет по-городскому?»
Его я не видел.
«Девочка — ровесница Ульрике, верно?»
Я кивнул.
«Так, одна она не могла сюда приехать. Значит, он опять здесь, этот красный смутьян и каторжник. Хорошо, что теперь я это знаю». С этими словами он ушел.
Я ничего не понял, почувствовав только, что прекрасная незнакомка действительно существовала и что пастор чем-то был опасен ей и мужчине в очках, который доводился ей отцом. Нужно во что бы то ни стало их предупредить, пусть даже крестьянин с кнутом набросится на меня! Но вернуться на мельницу не представлялось возможным: завтра утром я должен был ехать в город. Тем сильней меня пугали грозные слова пастора о смутьяне и бунтовщике. Разве могла быть у человека, если он преступник, прелестная дочь, вроде голубой, как небо, лесной феи? Что ей было нужно на заброшенной мельнице? За помощью я обратился к кантору Каннегисеру. Мой рассказ его сильно разволновал. Потом он сказал: «Когда-нибудь я тебе все объясню. А теперь спокойно поезжай в город. Завтра мне предстоит длинная прогулка».
Конь бледный
Необычный шум донесся с улицы, шум непонятного происхожденья: звон, топот, цокот, стук, будто сотни молотов, используемых в тяжелом кузнечном деле, играючи бьют по железу и наковальне. А шум все ближе и ближе, все сильней и сильней, и вот наконец, слышно радостное ржанье, тонкое и мощное, как звук трубы: кони. Много-много коней. Люди облепили окна и, выбежав на улицу, сначала глазели, ничего не понимая: поодиночке, парами, тройками и четверками на поводу у мужиков нескончаемым потоком двигались кони. Тонконогие, молодые, степенные, средних лет, усталые, старые; стройные чистокровки из кучерских дрожек, сильные полукровки из крестьянских телег и тяжелые неуклюжие битюги, на которых возят пивные бочки, дрова и грузы; рыжие, гнедые, белые, вороные, пегие. Большинство коней, взволнованных столь необычным соседством и странным нерабочим днем, еще не успокоилось. Задирая морды, они обнюхивали то правую, то левую сторону дороги, радостно ржали, и, казалось, помолодевшие глаза животных неосознанно выражают радость жизни, утраченную много столетий назад. И только лошади с худыми крупами, согнутыми спинами, со сбитыми холками и бесформенными распухшими бабками, безучастно понурив головы, усталой рысцой трусили среди других.
И морды лошадей выражали то же, что и лица большинства мужиков, которые вели животных. То были сплошь пожилые крестьяне, кучера и батраки. Они либо молчали, либо отвечали нехотя, а иногда и опасной политической шуткой на оклики знакомых в толпе зрителей, а те потом осторожно оглядывались, будто желая удостовериться, не повредит ли им сказанное. На некоторых неседланых лошадях сидели молодые ребята, вообразившие себя лихими кавалеристами и кричавшие девушкам, чтобы те приходили потанцевать с ними или взяли на постой.
На безоблачном небе полыхало солнце, листья каштанов под действием уличной пыли и времени утратили свой былой блеск, ибо стояла середина жатвы и, казалось, людям, зверью и всему растущему на земле пришло время пожинать плоды. Но вот длинная колонна прошла. Люди, глазевшие на нее, вернулись в свои жилища к своим делам, одни беззаботные и радостные, другие серьезные и задумчивые.
Задумчивых было мало, а серьезные сохраняли этот настрой, когда процессия скрылась, пожалуй, лишь из опасения, что вслед за этим конным смотром возникнут новые трудности и препоны в работе. Ведь многие из них знали это по событиям двадцатипятилетней давности, времен первой мировой войны. Но они быстро утешились верой, которую вот уже шесть лет черпали из репродукторов, газет и уст ораторов, твердо полагая, что на сей раз в великий поход собрался иной, могущественный, призванный властвовать народ. И пусть эти землепашцы и ремесленники сами не смеялись, не пели и не бахвалились; они внимали пенью, смеху и бахвальству тысяч, сотен тысяч и миллионов жителей рейха. Внимали и млели. Истекшие шесть лет гитлеровской империи представлялись им широкой дорогой побед, где одна триумфальная арка следовала за другой, и в мыслях они видели себя марширующими по этой дороге в едином строю могучих, непобедимых германцев. Из множества заштатных лавочников они превратились в чудовищную военную гусеницу, внушающую страх и состоящую из миллионов отвратительных личинок бледного комара светло-коричневого и черного цвета, которого наши предки когда-то считали предвестником войн, болезней, голода и мора. Те немногие, что видели ростки зла, перестали отчаиваться при мысли о том, мак избежать или предотвратить его. Их усилия стали бесполезными. Казалось, весь народ утратил со зреньем и слухом еще и способность чувствовать. Война! — это ужасное слово, гремевшее из всех репродукторов, вроде бы не внушало людям страха. Толстая лавочница на углу улицы, которая после провозглашения протектората Богемии и Моравии, весной требовала: «Ну, а теперь он должен быстро управиться и с польским коридором!», лишь однажды выказала слабость, вспомнив о своем военнообязанном сыне. Потом она стала образцом геройской немецкой матери, а позже в гордом трауре внимательно следила за постепенно мрачневшими лицами сограждан.
К тому времени уже исполнилось то, что предрекал старик, когда длинная процессия лошадей исчезла из виду: «И ни одна из них не увидит родной стороны!»
Было приказано согнать их со всех окрестных деревень на рыночную площадь небольшого городка, которая оказалась слишком тесной, так что пришлось отвести их на стрельбище за город. Заперев комнату на ключ, старик спросил, все ли видели последнюю, самую последнюю лошадь: огромный буланой масти конь плелся вслед за процессией, будто зная, что в любую минуту может догнать ее, и тем не менее медлил, словно желая сполна насладиться игрой. Будучи человеком, знающим Библию, старик взял в руки книгу и с торжественной серьезностью прочел стих из Апокалипсиса: «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя „Смерть“, и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».
И хотя за много лет до того я видел, что близится конец мира, который не был моим, я закрыл на несколько минут глаза, когда говорил старец, представив себе картины бед и ужасов, которые тот воскресил в памяти чтеньем других пророческих стихов. Я отрешился от людей, и душа моя наполнилась состраданьем к лошадям. Мысленно я проследил весь их путь до самых истоков и увидел их на широком лугу у края болота в родных местах. Отчаянные мальчишки подкрадывались к лежащим в траве жеребцам, прыгали им на спину, скакали на отчаянно брыкавшихся конях по лугу и, описав высокую дугу, летели в траву. Обычно быстро успокаивавшиеся животные после подходили и обнюхивали неподвижно лежавшего мальчишку, изображавшего геройскую смерть в кавалерийской атаке. Ведь и в школе и в книгах для чтения это считалось единственно достойной кончиной.
Раньше в Орплиде водились дикие кони. И, подобно душам людей, населяющим эту таинственную страну, где с давних пор между людьми и всем живым царили мир и согласье, души благородных коней, вероятно, обитают там и поныне, присоединяясь в полнолунье к пасущимся лошадям и иногда являясь людям.
Я вспомнил, как однажды мальчишкой в сумерках летнего вечера увидел призрак такого коня. Серо-белый, он стоял между елями на просеке Божьего острова, настоящий конь. Его круп скрывала темнота, на лбу у животного был рог, а на спине сидела прекрасная женщина. Быть может, это фантастическое существо родилось в возбужденном сознании мальчика на острове, освещенном лучами заходящего солнца и наполненном последней песней возвращающихся птиц, и было навеяно одной из больших картин, виденных им у учителя. Когда зверь в расплывчатых очертаньях, однако достаточно отчетливо видимый, предстал перед ним, мальчик знал: его зовут единорогом и в средневековье его считали символом чистоты, мирной силы и единенья бога со зверем.
Я отправил его вслед за процессией обреченных на смерть лошадей и услышал голос старца, читавшего: «… и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца».
Я услышал, как старик сказал: «Сорок два месяца — три с половиной года, хвала Создателю, что я не доживу до конца».
Три с половиной года — это примерно конец января тысяча девятьсот сорок третьего.
Пока старик читал, я про себя посмеивался над бессмысленностью подобных пророчеств. Доживи старик до января тысяча девятьсот сорок третьего, он бы произнес одно-единственное слово: «Сталинград!»
На площади за городом я видел потом множество лошадей, они стояли с серьезным и покорным видом, окруженные мужчинами, женщинами и детьми, которые смеялись и веселились. Люди в коричневой форме и высоких сапогах сновали между животными, отрывисто выкрикивая приказы и браня просящих и уговаривающих их крестьян. А в самой гуще коней возвышался огромного роста сказочный зверь. Но то был не единорог, посланный мною вслед за лошадьми. То был бледный конь старца.
Все лошади, ушедшие на войну, умерли или погибли. И только бледный конь вернулся. На многих выгонах в Европе и Америке он снова пристраивается к молодым, и они, кажется, считают его своим. И находятся услужливые немцы, снова твердящие, будто это романтический единорог, символ мирной мощи. А ведь самое время дать ему имя, которое он действительно заслуживает вновь появившаяся кляча пока еще невидимого гигантского катафалка.
Хлеб из чертополоха
На календаре год 1945-й, месяц май.
Один немец, подобно сотням тысяч других в те дни, бредет к родной деревне. Той же самой дорогой, по которой несколькими неделями раньше он двигался в противоположном направлении, к западу, сидя в крохотном автомобильчике, подцепленном к крестьянскому возу: рядом в той же машине сидела жена с маленькой собачкой, а позади лежало самое необходимое из постельных принадлежностей, одежды, белья и продуктов.
Не по доброй воле ушли они из своей деревни, хотя вот уже несколько недель окопы и танковые заграждения перекрывали все дороги, а по садам и огородам стояли тяжелые орудия. Ибо здесь, в самом сердце Германии, врага надлежало остановить: врага с востока и врага с запада. Тем самым деревня должна была очутиться между двумя фронтами. И все же крестьяне отказывались ее покидать. Однако валлонская дивизия СС, добежавшая из Курляндии до передней Померании с целой оравой обозных девок и уже восемь дней грабившая деревню, попеременно угрожая возмущенным жителям то автоматом, то всякими ужасами, которых следует ожидать от наступающего врага, приказала очистить дома.
И вот однажды ночью тронулись в путь подводы, груженные картофелем, мукой, вяленым мясом, живой птицей и постелями, а также людьми от дряхлого старца до пискливого грудничка. Обоз ушел, и оставшаяся позади деревня снова канула в ночь, а в этой ночи ревели коровы, лаяли собаки, кричали петухи, посылая вслед ушедшим страх одиночества.
Обоз этот, несмотря на тягостные обстоятельства, воспринимался сперва как романтическое приключение в цыганском духе: когда он выбрался на шоссе, ему лишь с превеликим трудом удалось вклиниться в бесконечный ряд таких же обозов, ибо все его попытки разбивались о защитный вал из себялюбия и страха, который плотной стеной окружал каждую подводу и который люди, сидевшие на них, — беженцы из более отдаленных деревень по другую сторону реки — со злобной бранью воздвигали снова и снова. Тут даже новички, чью деревню не брали в свою жестокую выучку черные мундиры, и те наконец поняли, каков бывает человек, когда он гол и остается среди военного лихолетья наедине с самим собой.
Человек, бредущий домой, останавливается, он устал, он болен, и картины пережитых дней преграждают ему путь.
Неподалеку отсюда в тот день гремели пушки, дорога через холмы была открыта; и люди знали, что, когда за темнотой ночи забрезжит утренний рассвет, новый день еще до своего начала может стать для них всех последним днем. Страх перед вражескими снарядами вытравил из загнанных людей последние остатки человеческой приязни и вонзил в людские сердца страшную уверенность, что их предали: мимо них на большой скорости, безжалостно расчищая себе путь, проезжали колонны грузовиков, полные драпающих солдат; легковушки, сквозь стекла которых, несмотря на темноту, можно было увидеть серебряные шнуры на коричневых мундирах, исступленно сигналили и, не зажигая фар, теснили к обочине крестьянских лошадей; пешие солдаты хаотическими группами пробегали мимо, они вспрыгивали на подводы беженцев, требуя подвезти их и накормить. В эти часы, заметно для любого глаза, доступно для любого крестьянского ума, даже самого косного, умирал человек, чей день рождения они еще несколько дней назад торжественно отмечали на собрании.
Путник горько усмехается.
В эти же часы несколько недель тому назад где-то, пусть даже на считанные минуты рождался тот немецкий революционер, который каждые тридцать лет робко пытается войти в немецкую историю. Старый крестьянин, тянувший на пару со старой коровой старую, разболтанную тележку, где рядом с жалким скарбом лежала старая женщина, вдруг остановился, повернул голову к телеге и громко крикнул:
— Эй, мать, ты тоже глядишь на коричневый сброд?
Вот из-за кого я надрываюсь. Впрочем, ты сама так хотела. — После чего он снова натянул постромки.
Но долговязый тип из СА, то ли командир взвода, то ли какой-то другой начальник, проезжая мимо на велосипеде, услышал его слова, спрыгнул, подошел поближе и, не сказав ни слова, ударил старика кулаком в лицо, отчего тот упал на оглоблю и на испуганно отпрянувшую корову. Телега, разумеется, остановилась, из-за нее остановились и те, что ехали следом, и поскольку сердитые крики не помогали делу, крестьяне с дальних подвод подошли поближе. Некоторые поняли, что здесь произошло, и грозно окружили типа из СА. Тот выхватил пистолет и завопил:
— Я вас в первой же деревне всех велю повесить, чертовы ублюдки!
И крестьяне испуганно отпрянули.
Три солдата отделились от проходившей мимо части, у одного была винтовка. Он спросил:
— Чего от вас хочет этот подонок? Повесить, что ли? Повесьте лучше его самого, благо деревьев хватает.
Тут крестьяне опять подошли поближе, и некоторые даже засучивали на ходу рукава. Но позади, в застрявшем обозе, громче стали крики и шум.
— А ну давай! — кричали сзади.
— Послушайте, товарищи! — начал вояка из СА.
— Заткнись, никакой я тебе не товарищ! — рявкнул в ответ солдат с винтовкой.
— Надо же, по крайней мере, поддерживать дисциплину, — сказал штурмовик, пряча пистолет в кобуру. — А мне приказано следить, чтоб на дороге не было заторов.
— Поехали дальше! — скомандовал один из солдат.
— Дай-ка мне твою пукалку, — потребовал солдат с винтовкой, обращаясь к штурмовику, — чтобы ты не натворил глупостей. — Он отобрал пистолет и сунул его в карман своей шинели. — А теперь следи сколько хочешь! — и он обернулся к своим товарищам.
— Пошли, ребята! — и все трое отправились дальше.
— Если вы, козлы вонючие, воображаете, будто… — сказал штурмовик, когда солдаты скрылись, и повернулся к крестьянам, но из них большинство уже разошлось по своим подводам. Старик, которого ударили в лицо, тем временем тоже оклемался, вытер тыльной стороной ладони кровь с лица и налег на постромки.
Неужели с тех пор прошло всего три недели? Путник, которому преградили путь воспоминания о бегстве, идет дальше. Его взгляд, скользнув по обочине, различает под опрокинутой телегой женскую ногу. И путник останавливается снова, ибо другая картина встает перед ним.
Та часть нескончаемого обоза, с которой шел тогда путник, едва успела миновать Пазевальк, как в небе над ними возникла эскадрилья самолетов. С криком «Самолеты!» люди побросали лошадей и подводы, схватили детей, — чтобы снять стариков, уже не осталось времени, — и залегли в канавах.
За каких-то двадцать минут весь город укрылся пламенем и дымом. Несмотря на ужас, на спешку и страх, крестьяне громко говорили друг другу:
— Еще немного — и нас бы тоже… — А потом выражали удивление: — Зачем им это понадобилось? В городе-то ничего важного нет!
Их примитивный разум никак не мог постичь, что на войне человек становится еще меньше человеком, чем обычно. Все правда: ни промышленности, ни военных объектов в этом городе не имелось, заурядный был городишко на севере Германии. Но зато имелись бомбы, которые остались неиспользованными после не совсем удачного налета на более достойную цель. Что ж было делать разочарованным летчикам? Тащить бомбы назад? Пришлось удовольствоваться разрушением такого вот городка.
Крестьянский ум подобных вещей не понимает. Не может он постичь и того, зачем крестьяне, выброшенные войной из домов и гонимые по бесконечным дорогам в печальной веренице подвод, всякий раз спрыгивают на землю и прячутся в придорожных канавах. Старик, который бранился со своей больной женой и выговаривал ей, что это из-за нее он оказался в партии, мог бы, видит бог, обойтись без этого единственного в своей жизни бунта, от которого он так разгорячился, что даже не стал ложиться в канаву. И это избавило его от необходимости снова подсаживать жену на телегу, а потом, по-братски разделив тяжесть с коровой, тянуть ее дальше по нескончаемому шоссе. Они аккуратненько легли рядышком, старый крестьянин, его больная жена, его тощая корова и старая дребезжащая телега. Они задержали обоз, снова устремившийся вперед, но, может, сказалось воспоминание о горящем маленьком городке, — никто не стал ругаться по поводу задержки; крестьяне покорно объезжали тех, кто так и лежал посреди дороги, и могли не укорять себя в нехристианском поведении; их оставляли не одних, а в компании.
Покуда наш путник идет дальше, в сторону родной деревни, мысли его бредут в противоположном направлении, сопровождая обоз, с которым он шел несколько недель тому назад.
Устав от долгого пути по проселкам и полевым тропинкам, и так — изо дня в день; устав от ночевок в лесу, канавах и хлевах, и так — из ночи в ночь; устав от нескончаемой игры в прятки при распаковке съестных припасов, и так — из полудня в полдень; устав от непостижимой жадности многих хозяев, которые, даже за минуту до того как покинуть свой дом, отказываются дать чужим беженцам мешок картошки; но не меньше устав и от исступленной щедрости других хозяев, кто в похоронном настроении делит с беженцами запасы дорогого вина, устав — устав от всего, этот человек сумел как-то утром побудить крестьян развернуть подводы и двинуться домой.
Поток беды и горя на дорогах вскипал, рос вширь и вглубь, казалось, целый народ обратился в бегство, потом начал спадать, сочился лишь по каплям и наконец совсем иссяк. Дороги были пусты и деревни тоже, лишь шныряли повсюду собаки и кошки да кричала в безумном страхе скотина на пастбищах и в хлевах. Страх проникал в людские души, вырывался потом из глаз и еще раз, последний раз превращал этих затравленных себялюбцев в братство товарищей по несчастью. От сознания того, что неизбежное уже свершилось, что через несколько часов, а то и минут вражеская военная сила как волна захлестнет эту горестную процессию, улетучивались сварливая вздорность и недоверие к ближнему. Люди словно разучились говорить, и, если кто-нибудь вполголоса произносил несколько слов, казалось, будто эти слова непроизвольно сорвались у него с губ как выражение его собственного страха.
И тут все увидели советские танки, бесконечные колонны грузовиков, на них сидели веселые солдаты, которые были вовсе не прочь встречать врага лишь в виде запуганных беженцев. Не успели крестьяне понять, что происходит, как уже оказались за линией фронта. Снова проснулось своекорыстие, и тот, у кого лошади были посильней, уже досадовал на соседа, чьи доходяги мешали скорейшему возвращению домой. Ох уж это возвращение: незнакомые маленькие городки, улицы которых вскипали белыми волнами простынь; дымящиеся городки, а над ними — немецкие летчики, решившие опробовать свою меткость; ночи, полные криков ужаса; снова и снова перепрягаемые лошади, которых становится все меньше; наконец, почти до неузнаваемости разрушенный большой город и мобилизация всех мужчин от пятнадцати до восьмидесяти на расчистку развалин.
Путник внезапно останавливается, ища опоры у тоненького придорожного деревца.
Здесь свершилось то, чего избежать было бы для него великим счастьем: разлука с женой. Она заняла каких-то несколько минут. И с того дня больная жена, у которой давно уже украли последние остатки припасов, ехала в неизвестность на крестьянской подводе, снося откровенную враждебность из-за данного ее мужем совета возвращаться и язвительные намеки на лишний рот.
Имена месяцев суть знаки, произвольно заброшенные во время и в движение природы, но звук этих имен вызывает на поверхность чувства и окрашивает ими небо, и землю, и сердце человека, который возвращается домой. Лишь когда дорога бесконечна, а тело лишено сил, угасают яркие переливы надежды и света. Тогда и в цветущем молодом мае между нежной зеленью полей и буйной порослью молодой травы все отчетливей проступают приметы страшных буден, они множатся, растут ввысь и заполняют все чувства формами распада и запахом тлена.
Все ближе подступают они к дороге: мертвые лошади, коровы, козы, собаки, кошки — и люди. Опрокинутые телеги лежат в канавах, из лопнувших мешков сыплются овес, мука и картошка; перьями вспоротых перин играет весенний ветер, унизывая нежные, влажные почки придорожных деревьев трепетной белизной. Длинные колонны чужих солдат шагают по дорогам, они хорошо одеты, они сыты, они поют — это поет радость победителей: танки, грузовики и могучие орудия обгоняют их. Тяжело пройти полтораста километров пешком, когда ноги, упрятанные в лыжные ботинки, по щиколотку покрыты запекшейся кровью, очень тяжело. Хотя прохудившийся мешок за плечами почти ничего не весит, в нем как-никак лежит краюха черствого хлеба, цветочный горшок вместо кружки и несколько картофелин из лопнувшего мешка на последней опрокинутой телеге.
Взгляд обшаривает придорожные канавы по левую и по правую руку, они ищут маленький автомобильчик либо хотя бы его обломки. А может, он ищет человека, вполне определенного человека. Но этот же взгляд успевает прочесывать и самое дорогу — не потерял ли кто нож, или ложку, или даже котелок. Ибо люди, которые еще или уже сидят у себя дома, держатся, как правило, сурово и неприветливо по отношению к усталому человеку, обросшему косматой черной бородой с проседью и часто, очень даже часто отвечают: «У нас у самих ничего нет!», после чего извиняющимся шепотом добавляют, чтобы приукрасить свою ложь: «Времена-то какие!» Изредка, правда, какая-нибудь изможденная женщина скроется в кухне, разогреет остатки обеда, припасенные, вероятно, для ужина, да еще начнет потчевать: «Ешьте, не стесняйтесь».
В такое время трудно подавать. Но брать еще трудней. Легче, пожалуй, спать, спать в лесу, в амбаре, в сарае, на кухонном стуле. И совсем хорошо, когда чья-то чужая рука кладет на пол тюфячок и протягивает одеяло. После этих искорок в непроглядной тьме действительности, среди горя, своекорыстия, низости просыпается прежняя вера в доброту человеческую и расцвечивает обломки звездного неба человеческой мечты.
Уже пять дней длится путь человека домой; сегодня, на шестой день, за дубовой рощицей должна наконец выглянуть его деревня. Здесь ему ведома каждая тропка, знакомо каждое старое дерево, еще сто метров, пятьдесят, двадцать — и должна показаться деревня. Обоз уже наверняка давно воротился домой, они прибрались и ждут его. Еще десять метров — вот и деревня лежит на маленьком холме, вот и высокие ели перед его домом. Только не видно церковной колокольни за домом. Ну а светящийся белизной фасад дома и на нем окна кабинета, через которые цветущий ландшафт неизменно привлекал к себе взоры человека, когда мыслям его случалось залететь слишком далеко, — они-то где? Три печные трубы торчат среди кустов и деревьев сада.
Деревня занята войсками, немцам туда доступа нет. Человек украдкой пробирается между живыми изгородями, и вот уже он стоит перед развалинами своего дома, превратившегося в гигантскую кучу мусора и обломков. Медленно бредет человек в дальний угол сада, туда, где он устроил себе на потребу уголок степи, и ложится в траву, головой — на разрытую и пустую могилу своих собак, которых он велел пристрелить перед уходом. Он закрывает глаза, полный одним-единственным желанием: заснуть и больше не просыпаться.
Но безумная внутренняя усмешка не дает ему уснуть, он вынужден открыть глаза и оглядеться по сторонам. Право же, у жизни есть в запасе шутки похлеще, чем у любого шутника: все дома в их деревне целым-целехоньки, дом ортсгруппенфюрера, деревенского пропагандиста, шустрого помещика и кавалера нацистских орденов, целы дома крестьян, состоявших в партии; лишь от его дома, единственного во всей деревне, осталась куча пепла. Тысячи книг, с трудом собранные архивы, рукописи и все те культурные ценности, которые человек полагает необходимым обрамлением своего бытия. А другие, совиновные, что ни говори, смогут сразу же после ухода военных частей вселиться в свои дома, устроят генеральную уборку, вывесят флаг другого цвета; одни всерьез подумают, что это господь бог их сохранил, другие, бросив беглый взгляд на развалины его дома, пожалуй, скажут: «Так ему и надо». Поистине смеху подобна роль случая в жизни.
Смех привлекает солдата, и тот знаками приказывает человеку покинуть сад. Поскольку распухшие ноги не удается снова запрятать в ботинки, он берет ботинки в руки и уходит босиком. Куда? Куда-нибудь. Пока не обретет уверенность. Последнюю уверенность.
Достигнув садовой калитки в задней стене сада, он еще раз оглядывается. Больше, чем развалины дома, который, как он некогда полагал, станет приютом его одиночества и неприступной твердыней в разбушевавшейся стихии недостойного времени, человека сейчас занимают кровавые следы, оставленные его ногами на камне. Теперь он снова и снова будет вспоминать эти красные следы, будет думать, окрашивают ли они также землю и песок, и до чего странно, что он не испытывает боли, ступая по каменной крошке и щебню. Голода и жажды он тоже не испытывает. Одну только усталость, бесконечную усталость.
После долгих поисков, блужданий, отлеживания в чужих деревнях и заброшенных домах человек в один прекрасный день снова сидит на телеге рядом со своей женой. Это не маленький автомобильчик, который тащила крестьянская подвода, автомобильчик давно исчез вместе с остатками скарба. У телеги, на которой он сидит теперь, нет ни оглобель, ни лошадей и даже колес нет — они заменены связками кирпичей. Стоит эта телега вместе с остатками других, ей подобных, на покинутом хозяевами дворе, приютившем сейчас восемьдесят пять человек. А кто не отыскал себе местечко на телегах, тот забирается на ночь в сарай, амбары, хлевы.
Неделя, другая, третья… После долгих лет неуверенности и ужаса люди заброшены в жизнь, составленную из вшей, кровавого поноса, нечистот, похабщины и голода, жизнь, единственным, зловещим утешением в которой служит мысль, что сотням тысяч живется ничуть не лучше.
И так проходит неделя за неделей, никто уже не помнит, как выглядит нормальная комната, накрытый стол и просто кровать. Можно точно рассчитать, в какой день запасы картофеля в бурте за амбаром — единственный склад продовольствия — иссякнут. С каждым днем все беззастенчивей лютует призрак «Я», он затевает бессмысленные кражи и столь же бессмысленные подозрения, он побуждает ошалевших от голода старух прятать в мокрых юбках холодные картофелины. С неприкрытой, завистью смотрят все на тех счастливцев, которым время от времени удается разжиться куском грубого, сырого и кислого солдатского хлеба. И вдвойне мучительны терзания голодных, чей желудок не принимает сырой и кислый хлеб и извергает его обратно.
Сидя подле своей жены, человек вынужден наблюдать, как она тает, словно свечка. Возможно, она уже перешагнула ту границу, до которой голод причиняет мучение и человек пребывает в том состоянии, когда полный упадок сил ощущается скорей как благо и уход из грязного и тесного приюта видится долгожданным избавлением. Только одно земное желание еще сопровождает последние дни этой женщины — желание съесть кусок белого хлеба. Но у них нет даже черного.
В одном из соседних дворов есть стог соломы, на которую никто не польстился, потому что она перемешана с чертополохом. Как-то раз человек обнаруживает, что это вовсе не солома, а пшеница. Она, должно быть, выросла на скудной земле, потому что росту в ней от силы полметра, а к тому же в снопах больше чертополоха, чем колосьев. Видно, эта причина заставила хозяина отказаться от обмолота, вот и остался стог, хотя на дворе уже июнь; пшеница такая, что хозяин не взял ее даже на подстилку для коров.
И вот человек перетаскивает один за другим много мелких снопов во двор и вырезает колосья перочинным ножом. Колосья величиной с мизинец и наполовину пустые. Остья больно колют руки. Приходится остановить работу. Вдобавок самое время перетащить во двор еще несколько снопов, поскольку, едва люди проведали, что в стогу кроме чертополоха есть и пшеница, на него сразу кинулись не только истинно нуждающиеся, но и те, у кого в тайниках еще хранятся полные мешки пшеничной муки. И вот человек снова может работать руками; за целый день работы он набил колосьями полный мешок и теперь часами пляшет на нем, чтобы хоть таким образом обмолотить зерно. Наполовину опустошенные колосья он пересыпает в узелок и много часов подряд охаживает этот узелок дубиной, после чего пересыпает содержимое узелка в сложенные лодочкой ладони и дует на них, дует и дует, чтобы отделить зерна от мякины. Дует много часов подряд. День за днем.
Жена сидит рядом без сил, глядит на его работу, и глаза у нее разгораются все ярче с каждой пригоршней добытого зерна. Кажется, будто надежда на кусок белого хлеба поддерживает в ней жизнь. И вот наступает день, когда тяжелая работа сделана и муж может провозгласить: «Фунтов примерно пятнадцать, из них можно испечь много хлебов!» Пусть зерна маленькие, поломанные, деформированные, они словно прошли через решето, — ни одна чешуйка мякины, ни одно зерно чертополоха не нарушает их чистоты.
Впрочем, поначалу шансов на взаправдашний белый хлеб вроде бы и нет, потому что нет мельницы, которая могла бы превратить зерно в муку. Человек ловит себя на том, что подыскивает плоские камни, собираясь молоть, как это делали наши пращуры, потом он все же отказывается от своего замысла и начинает по многу часов на дню вертеть маленькую кофейную мельницу, чтобы таким путем добыть хотя бы пшеничную дробленку. Если рука его, обессилев, повисает как плеть, горящие взгляды жены заставляют ее подняться и описывать новые круги. Робинзон Крузо, думается человеку, можно бы подготовить новое издание в духе времени.
Однажды ночью, когда боль в руках не дает мужчине заснуть, он вдруг слышит, как короткое отрывистое дыхание жены, лежащей подле него на подводе, становится судорожным, как она издает мучительный стон, обрывает его, как рвутся на свободу разрозненные звуки — будто крик ужаса и отчаяния пробивается сквозь кляп во рту, как эти звуки переходят в задушенный стон, и, цепенея от ужаса, мужчина наблюдает, как человек, скованный тяжелым сном, страшные подробности которого отражаются на его лице, из последних сил пытается заговорить и защититься. А еще немного спустя, раньше чем мужчина успевает разбудить напуганного, тот издает глухой вопль ужаса и обхватывает самое для себя дорогое на этой земле, чтобы во сне защитить его, хотя бы и ценой жизни: «На помощь! На помощь! Они хотят отнять мой белый хлеб!»
Судорожный страх умирающего от голода и грязи человека за кусочек даже еще и не испеченного хлеба из пшеницы пополам с чертополохом — все это отражается на искаженном лице, когда спичка, дрожащая в руках мужчины, озаряет зыбким светом неуютное прибежище под рваным брезентом и всяческие лохмотья в нем — ах, во что превратил человека человек двадцатого столетия! Спичка гаснет, гаснут искаженные страхом лица, гаснут муки живых существ и стремление их к миру, гаснут звуки, поднявшиеся вокруг телеги, и лишь с другого конца деревни какое-то время доносятся обрывки чужой песни да совсем издалека — собачий вой.
Мужчина снова закрывает глаза, но спать он не может. Еще долго пылает перед его мысленным взором давно — погасшая головка спички. Желто-красный огонек растет, ширится, становится целой поверхностью, необозримым, колышущимся морем спелых пшеничных колосьев высотой с человека. Словно в блаженные дни детства эти колосья окружают страну, которая сулила и дарила хлеб всем людям, страну, которая светит издалека, и этот свет до сих пор озаряет мирные лица работящих людей. Войны сильных мира сего многократно уничтожали пшеничные поля, оставляя на них один чертополох, но всякий раз лемеха плугов бороздили землю глубже, чем бороздят ее колеса орудий, а крестьянин оказывался сильней, чем солдат.
И тут в человеке вновь оживает надежда.
Диоскуры
Их так и называли. Не были они ни близнецами в обычном смысле слова, ни тем более сынами Зевса. Вначале их просто звали «двое», ночного сторожа Берэншпрунга и Олла Муркельманна. Но когда учившийся в гимназии и любивший похвалиться своей образованностью Бернд Брайтхаупт объяснил нам, кто такие Диоскуры и что они совершили, и назвал их имена, случилось так, что вскоре мы, неотесанные деревенские школяры, а за нами и парни с мужиками стали звать ночного сторожа Берэншпрунга Кастором, а Олла Муркельманна — Поллуксом. Поскольку речь шла о широко распространенных собачьих кличках, запомнить их не составляло труда. «Два друга», причисленные таким образом к сонму бессмертных богов, вначале протестовали, грозя исками об оскорблении. Но это только подлило масла в огонь, навеки приклеив эти клички к их обладателям.
Бернд не просто взял и присвоил им эти классические имена. Хотя «двое» были неразлучны, они отличались друг от друга так же, как и их мифологические предшественники. И если бы пришлось выбирать, то божественный наездник Кастор воскрес бы не иначе, как в обличье отставного кавалериста Берэншпрунга, не знавшего страха под Марс ла Тур, а душа кулачного бойца Поллукса переселилась бы в Олла Муркельманна, которого мы с самого детства видели не иначе, как размахивающим кулаками. И оба они подверглись той же каре, которая по воле богов-олимпийцев постигла их предшественников: они постоянно пребывали меж светом дня и тьмой ночи, и воровали они тоже сообща, как Кастор и Поллукс, пусть не коров, а прочие нужные вещи.
Соответствие сынам богов зашло так далеко, что как-то ночью они, подобно Диоскурам, спрятались в дупле. Правда, не дуба, а старой ивы. И спрятался в нем один Олл Муркельманн, а ночной сторож Берэншпрунг его охранял, что он и обязан был делать по роду занятий. Когда подбежали преследователи, ночной сторож Берэншпрунг объявил: «Тут кто-то побег, я за ним. Вот только проклятая нога… А он как сиганет, ну как сквозь землю провалился».
И все бы сошло благополучно, если б Олл Муркельманн не закашлял в старой высохшей иве. Его вытащили оттуда, но в суматохе забыли посветить в дупло. Сторож Берэншпрунг страшно ругал задержанного, а потом под эскортом преследователей доставил его в пожарную часть. Олл Муркельманн ни по дороге, ни после ничего не выдал, а только размахивал кулаком и грозил богачам страшной местью. На следующий день пришлось его отпустить, потому что у него ничего не нашли. Он объяснил, что побежал и спрятался в старой иве шутки ради, чтобы посмеяться над своим другом и заставить его побегать.
А друг сразу после доставки пленного в пожарную часть вернулся к старой иве, вытащил оттуда индюка и, спрятав его под пальто, пошел домой. Вместе с другими обитателями богадельни они съели птицу. Олл Муркельманн довольствовался одной порцией: он украл индюка из чисто спортивного интереса — или из мести богачам. Принести его к себе домой он не осмелился: жена выставила бы его вместе с птицей. Индюк был с барской усадьбы. Там их водилось много, а значит, и греха в том не было. Доносить никто б не стал: сотрапезники не любили богатых. Когда же об этом стало известно, смеялась вся деревня, а Диоскуры начисто все отрицали. В усадьбе индюка давно забыли, их там действительно водилось много.
Это не просто уморительная история, рассказанная «под мухой», чтобы посмеяться над людской глупостью. Корни ее уходят глубоко в нашу деревенскую землю, а ветви и листья широко раскинулись над ней. Но в то время всей деревне и нам она казалась именно такой веселой историей; правда, позднее кое-кто серьезно задумался над ней.
Мы знали только, что оба мужичка были бедняками, а Олл Муркельманн слыл запойным пьяницей, хотя и пил немного. Зато ночной сторож Берэншпрунг мог пить сколько влезет и, несмотря на это, почти никогда не качался. Один неделями ходил трезвый и прилежно работал на лесопилке: он жил в полуразвалившемся домишке, имел приличную жену, которую, будучи трезвым, слушался беспрекословно, детей давно уже разбросало по свету. Другой обитал в богадельне, и потому родная дочь, вернувшись из города с прижитым сыном, вела ему, что называется, хозяйство, если у нее после дойки крестьянских коров оставалось время.
Два друга стали неразлучными сразу после войны тысяча восемьсот семидесятого года. Тогда они ходили в великих героях и еще не были жалкими пенсионерами. Муркельманн вернулся домой после тяжелого ранения в голову, а у папаши Берэншпрунга одна нога была деревянной. Зато в первые годы, когда союз фронтовиков устраивал шествия, увенчанные венками из листьев дуба, они шли отдельно, позади председателя союза, старого графа, и впереди всех крупнопоместных крестьян. В зале они сидели между первым председателем и вторым, деревенским старостой, а в торжественных речах их заслуги отмечались особо. Тогда они охотно возвращались по ночам в свои убогие жилища или их приводили домой. Они безропотно терпели нищету и трудились до следующего всенародного праздника, которых, по счастью, в году было три: день рожденья императора, Седан и день рожденья графа.
Но время, время делало свое дело. И хотя оно выжгло эти три великих праздника в сердцах людей, с каждым годом стиралась память о подвигах ветеранов и кавалеров Железного креста. Старые фронтовые друзья умирали один за одним, а новые члены союза были людьми, просто где-то служившими, — героями казарм. Как например оба новых председателя. И уже никто не чествовал ни венком из дубовых листьев, ни почетным местом в день рожденья императора и графа и не воздавал хвалу двум прославленным героям, только в годовщину Седана о них снова вспоминали, да и то вместе с другими участниками войны, вернувшимися домой невредимыми. От такой забывчивости и неблагодарности помогала разве что водка, умеренное бунтарство и безмерное бахвальство.
Тут уж подвиги превращались в решающие сражения, а сами рассказчики — в деревенских дурачков, над которыми все добродушно подтрунивали.
Ночной сторож Берэншпрунг рассказывал: «Берэншпрунг, — говорит мне ротмистр, — сейчас мы им покажем». Меня он почему-то любил, хотя вообще был сукин сын. Ну, я тут как тут, а они давай пулять из своих митральёзов, ну чисто лук из лейки поливают. Вот, думаю, из лейки все выльется, а лук останется. Так оно и вышла, а потом эту проклятую батарею… Они думали, если у них там такие дуры, то все. Во какие засранцы-антилиристы. Не потеряй я тогда ногу… Это уж точно. После в полевом лазарете глаза открыл, а возле меня мой ротмистр стоит. Берэншпрунг, говорит, ведь без тебя бы мы пропали. А потом мне полковник самолично… так точно, собственной рукой Железный крест к форменке пришпилил: «Берэншпрунг, полк тобой гордится». И генерал в приказе по корпусу объявил: «В смертном бою под Массатур мы победили благодаря таким героям, как наш Берэншпрунг…» (Пауза.) Ну, а теперь? Я тебе говорю, что теперь? Теперь какой-то паршивый граф, вишь ты, не желает, чтоб я в годовщину Седана шел за ним. А длиннорясый поп мораль мне читает, что в годовщину Седана выпиваю-де на стакан больше. И я тебя спрашиваю, Муркельманн: «Где на свете справедливость? Нет, ты мне скажи…»
На это Олл Муркельманн отвечал: «Касаемо французов с ихними митральёзами, может, ты и прав, Берэншпрунг… Но антилерия, скажу я тебе, будь там не мусье в красных штанах, а прусская полевая антилерия, где б ты был со своей ногой? Я бы на ихнем месте тебя как жахнул снарядом по передку, места бы не осталось, куда полковнику приколоть крест. То ли дело наша батарея под Вёртом: только мое орудие и стреляло. Гляжу я: ну, думаю, конец пришел. Все лежат товарищи мои, какие померли, а какие кричат. Ну, думаю, пора драпать. Но все ж решил: нет, погоди, Муркельманн, лучше умри героем. Сам заряжал, наводил и стрелял. Французишки врассыпную. Каждый выстрел в цель. Я вижу: вон они — и беглым огнем крою… Заряжаю, целюсь, стреляю! Все сам, чтоб ты знал, а они дёру. Мне бы передохнуть, а я все заряжаю да стреляю, даже наводить перестал. Только заряжал…»
Тут его в первые годы всегда обрывал Крюгер, тоже ветеран; тот, правда, ранен не был и служил в пехоте: «Да, и так все время: заряжал, стрелял. Наводить тебе не нужно было, только заряжать да стрелять. А потом и заряжать перестал. Стрелял да стрелял… Вот теперь мы знаем, почему ты так руками размахиваешь».
На это Муркельманн хрипел: «Так точно… если я и перестал стрелять, так только потому, что проклятый француз гранатой как вдарит… Да. Попробуй-ка со здоровущей дыркой в башке… Что ты понимаешь, пехтура несчастная, в антилерии? Ты получил Железный крест али я? Ты, думаешь, тебе его дадут за здорово живешь? Ты, что ли, выиграл битву при Вёрте или я? Ты герой или я? Ты думаешь, послали б они меня в полевую жандармерию, если б я не был таким заслужённым человеком? А знаешь ты, что такое полевая жандармерия? У меня во какая власть была! Я всех мог заарестовать, всех как есть. Я б тебя зараз арестовал, да только ты и в бою-то ни разу не был. И Берэншпрунга, хоть он герой, и того… мог арестовать. Это точно, по своему усмотренью… И его ротмистра тожа, и полковника тожа, и генерала тожа, то-то и оно. Жандарму все дозволено. А я им был. А теперь что? А теперь я помалкиваю в тряпочку, когда десятник мне велит: „Муркельманн, заткнись и работай!“ А моя старуха такая же паскуда, как граф и пастор… Кто был полевым жандармом, она или я? Кто герой, она или я? Они еще узнают Олла Муркельманна, Нужно революцию сделать, а меня жандармом при ней. Вот ужо достанется им: и господину графу, и чернорясому, и тебе тоже, Крюгер!»
На это Крюгер всякий раз под хохот других завсегдатаев кабачка изображал на лице испуг и подносил Муркельманну четверть водки, чтобы тот его потом не арестовал.
Год-другой существовал еще и третий бунтовщик, тоже ветеран семидесятого года. Он нанялся каретником в усадьбу по протекции самого графа, прослышавшего, что новый работник воевал под Седаном: стань он членом Союза фронтовиков — и Куммеров вышел бы на первое место среди всех геройских союзов округа. Но новый камрад никак не хотел вступить в союз, так что граф только внес его в список, а взносы платил из собственного кармана. Когда же каретник в годовщину Седана и на день рожденья кайзера постоянно сказывался больным и дошел до того, что за кружкой пива — одной-единственной — стал вести подозрительные речи в кабаке: дескать, надо бы обождать да запрячь живоглотов в плуг и он, мол, уже подыскал подходящую упряжь, да вот жаль, что беднота в здешних местах больше тянется к стакану с водкой, а не к веревке для богатеев и открывает рот только для того, чтоб влить в него зелье, вместо того чтобы протестовать, — тут граф его выставил вон. Даже Диоскуры, и те признали, что такой человек им не ко двору. Что правда, то правда: гореть богатеньким синим пламенем, но чтоб бедняк, у которого ничего за душой нет, чтобы и он не ходил в героях и чтоб ему стаканчика водки не пропустить, нет уж, увольте. Наверное, каретник был тайным смутьяном, вроде старика Драйера, которого тоже прогнали. Тот хоть и не защищал отечество под Седаном и вообще солдатом не был, а тоже, выпив, частенько колол людям глаза бедняцкой правдой.
Самым интересным бунтарем для ребятни был Олл Муркельманн. Хотя детишек мало трогали регулярные попойки и распри Диоскуров, но когда приходил черед Олла Муркельманна и он один шел в кабак, они собирались у стойки. Это случалось раз в месяц или в полтора, как правило, сразу после обеда. В это время на Олла Муркельманна находил стих, и было это заметно уже по тому, что в такой день он надевал помятый плотницкий котелок. Обычно он напивался тогда в одиночку. В деревне было не принято ходить пополудни в кабак. Громко разговаривая сам с собой, он за час напивался, и тогда происходило то, что в этой истории, несмотря на ее неизменное повторение, так нравилось деревенской ребятне. После того как Олл Муркельманн в монологе выворачивал наизнанку весь мир от Парижа до Куммерова, он расплачивался, не забыв прихватить с собой поллитровую. бутыль, вставал и, привязав к котелку метелку из перьев, настоящее гусиное крыло, брал в правую руку витую, как штопор, палку, память о тех временах, когда он был странствующим подмастерьем, а в левую — бутыль и направлялся к дверям, громко возглашая: «Ну, а теперь прибью старуху!» И под пение песен странствующих подмастерьев, размахивая палкой и бутылкой, он, покачиваясь, шел домой, преследуемый толпой куражащихся ребятишек. Конец всегда бывал один: придя домой, он и вправду пытался бить свою строгую, серьезную жену, ибо из всех хозяев, от которых страдало его свободолюбие, она, вероятно, представлялась ему самой слабой. И хотя ему и удавалось разок-другой стукнуть ее, крепкая баба тут же вырывала у него палку и разделывала под орех. Иногда она хваталась за метлу, а однажды взяла в руки даже чугунную сковородку. Олл Муркельманн в таких случаях сразу сникал, опускался на пол, а жена хватила его за шкирку и швыряла на постель. Затем она выходила на порог и давала нам жару. А незадачливый бунтовщик тут же засыпал и на другой день вовремя являлся на работу. И так до следующего раза. Ребятня, сопровождавшая его в этих, с позволения сказать, геройских походах, менялась каждый год, а он тридцать лет оставался все таким же.
Когда после первой мировой войны и в самом деле произошла революция, брызги которой долетели и до Куммерова, бунтовщики давным-давно умерли. Может, свержение графа и доставило бы им маленькую радость.
Собственно говоря, с наступлением новых времен в Куммерове ничего не произошло; только нового помещика звали теперь просто господин Шнайдер и был он не гордым графом, а обходительным колбасным фабрикантом; новая монархия звалась республикой, а новый Союз фронтовиков — союзом «Киффхойзер» или «Стальным шлемом». И все же председателем Союза фронтовиков был теперь не помещик, а крестьянин.
Ну, а в остальном? В остальном в Куммерове велись те же разговоры, что и по всей Германии, только теперь вместо «семидесятого года» говорили «с четырнадцатого по восемнадцатый», хотя звучало это так же, как если бы это произносил сторож Олл Муркельманн. Да вот еще, пожалуй, оба Диоскура осмелились бы вслух утверждать, что все же между маршем победителей в семидесятом году и возвращеньем «не побежденных на поле брани» существует большая разница.
Кантора Каннегисера, который в некотором роде тоже был бунтарем, в Куммерове уже не было, когда наступили новые времена. Может быть, он как-то и воспротивился бы им, хотя и по другим причинам, ибо то, что представлялось духом нового, уходило корнями не в семидесятые годы, а на сто лет глубже, вырывая из земли даже могильные камни, чтобы соорудить из них памятник войне.
Еще не просохли чернила, которыми немцы подписали Версальский договор, а в Германии уже началось возрождение. Возрождение того самого германского духа, который за сотню лет почти полностью сожрал немецкую культуру и теперь пытался уничтожить ее остатки. В городах и селах воздвигались солдатские памятники, и самая захудалая деревушка считала делом чести поручить местному каменщику художественное оформление памятника.
Куммеров был отнюдь не маленькой и захудалой деревушкой. Местные каменщики, так же как и новый помещик, новый пастор и новый учитель, не хотели и слышать о том, чтобы соорудить памятник из какого-нибудь огромного валуна, коих в окрестности было превеликое множество. Как будто не нашлось ничего получше для «наших не побежденных на поле брани воинов»! Победители семидесятого года довольствовались знаменами и мемориальными досками в церкви, а побежденным восемнадцатого года необходим был памятник в центре деревенской площади — «в назидание потомству». И именно этой, затерянной неподалеку от Померании немецкой деревушке было суждено столь необычным образом увековечить культуру целого народа.
Община постановила: во-первых, почтить память «наших не напрасно погибших героев», во-вторых, все-таки сэкономить на этих почестях денежки и, в-третьих, соорудить действительно прекрасный памятник, показав всему миру, какие мы «даже в горе», а в качестве материала употребить три больших могильных камня, которые добрую сотню лет простояли на кладбище и по своему материалу, художественному оформлению и происхождению являлись культурно-историческим памятником не только в округе.
Эти три совершенно необычных для деревенского кладбища памятника были вырублены из огромных глыб песчаника. Каждый из них имел классическую форм) и состоял из двух поставленных друг на друга кубов, украшенных богатым орнаментом. Латинскими буквами на них были высечены надписи, которые по форме и текст) представляли собой уникальные документы эпохи классицизма. Каждый памятник венчала античная ваза, также высеченная из песчаника. Вот тексты трех совершение одинаковых громадных монументов.
Сей памятник я воздвиг супруге моей
Анне Мете Катарине Ноак
урожденной Нойверц
Родилась 24.11.1806
Скончалась 22.1.1832
Которая, будучи наделена прелестями необычайными, острым умом, музыкальным талантом, обширными познаниями, а наипаче удивительной приветливостью вкупе в большой добротою, домовитостию и истинной набожностию, была украшеньем женского рода, с коею я подружился еще в детские леты, обручился 28.3.1823, венчался 19.3.1831 и по счастливому стечению прочих обстоятельств в течение десяти месяцев был бесспорно наисчастливейшим из людей.
Сей памятник я воздвиг сыну моему
Гансу Мартину Герману Ноаку
Родился в Шпанпдау 16.1.1832
Скончался там же 24.10.1832
Милому, цветущему, очень крепкому отроку чрезвычайных умственных способностей и задатков от вечно скорбящего отца.
Сей памятник я воздвиг себе
Иоганну Генриху Августу Ноаку,
королевскому прусскому
гарнизонному аудитору
Родился в Берлине 24. 6.1801
Скончался…
Супругу и отцу, который страстно желает воссоединиться со своими близкими в лоне небесного отца нашего и его сына Иисуса Христа 24. 11. 1833.
Велеречивый человек, который столь необычным способом пытался закрепить за собой право на эту могилу, никогда не обрел ее. Быть может, поэтому дух его беспокойно витал над местом, где он надеялся когда-нибудь воссоединиться со своими родными. Пока более стойкий дух нового времени не прогнал его с кладбища на деревенскую площадь.
Пускай он ночами попробует сложить там маленькие куски песчаника, на которые разбили три его памятника и, обратив обломки надписями внутрь, соорудили из них памятник павшим в мировую войну, эдакую пирамиду с чугунными мемориальными досками по бокам и чугунным железным крестом наверху. Поскольку изгнанный с кладбища дух принадлежал некогда королевскому прусскому гарнизонному аудитору, то есть, по сути дела, тоже был духом военным, да к тому же еще духом судейским, то, пребывая в гордом трауре, он, быть может, осознал, что люди обязаны не только жертвовать своим семейным счастьем, но и памятью о таковом, дабы крепить воинственный германский дух. Подобную мысль высказал и новый пастор, сперва робко протестовавший против разрушения прекрасных памятников, но потом согласившийся отслужить торжественный молебен в честь открытия монумента. И среди марширующих участников этого праздника в колонне «Стального шлема» шагали будущие штурмовики, эсэсовцы, гитлеровские солдаты — безоговорочные капитулянты конца второй мировой войны.
БОЛЬШОЙ ШЛЕМ, ИЛИ КРУПНАЯ ИГРА
Большой шлем, или Крупная игра (1917 г.)
Кончалось лето 1916 года. Я лежал в лазарете около Салоник, в долине нижнего Вардара, на греческой границе. К нам впервые приехал военный священник, о котором по всей Балканской армии шла слава: «Отличный парень, и говорит как человек!» У нас он начал так:
— На ваших кислых лицах написано: «Чего ему надо?» Сразу отвечу: надо ему только чуточку покалякать с вами, а господа сегодня поминать не будем. Вот вы все время лишь в карты дуетесь. Почему? Вас действительно ничего больше не интересует?
Солдаты тупо смотрели на него, один наконец сказал:
— Почему? Чтобы время убить, зачем же еще?
— Вот именно, убить время. Давайте-ка лучше заговорим его до смерти! Поговорим по душам, как велось у наших отцов, по крайней мере по особым случаям. Будто живой водой омывала их такая купель!
Все молчали.
— Но, друзья мои, вы не на службе, говорите как бог на душу положит!
— Скажешь правду и загремишь после этого в карцер, а, господин пастор? Так вот она, правда: хоть в лазарете оставили бы нас в покое!
Лицо пастора непроизвольно передернулось.
— Люди, поймите же меня правильно. Не пастор я сегодня, а товарищ ваш и хочу лишь одного — побеседовать с вами по-товарищески.
— Так, может, сразу и перекинемся в скат[13]?
Солдаты рассмеялись. Пастор сообразил, что надо перестраиваться:
— Идет, — сказал он, — только ваша вечная картежная игра мне порядком надоела. Сыграем в скат, но в словесный!
Солдаты заинтересовались.
— А выигрышем будет ответ на вопрос: когда же конец войне?
Солдаты недоверчиво уставились на него.
Пастор, еще молодой безыскусный человек, не походил на холодных военных проповедников, бывших только офицерами; не походил он и на еще более нудных пустословов-попов, навязчиво доказывавших солдату, что и господу нашему война иногда по нраву. И он бойко заговорил. Его речь была простонародной, с явным патриотическим акцентом, и он искренне верил, что слышит биение сердца народа и правильно считает его пульс. Он рассказывал о государственных деятелях разных стран, о генералах, о промышленных воротилах. По его мнению, они не больше нашего знали, когда кончится война. Он обличал суеверие тех, кто на них играет, гневно атаковал ростовщиков и распутников в больших городах и, наконец, печально подытожил: немецкий народ лишь тогда достигнет подлинного величия, когда очистится от всей этой скверны.
Серая масса дремала, скучала, и в глазах читалось уже сказанное: «Неужели и здесь нас не оставят в покое?» Когда же один солдат вызывающе зевнул, поднялся и начал любоваться из окна поздним солнечным днем, пастор изменил тактику. Он тоже встал и будто спохватился:
— Конечно же, сыграем в скат, но без карт. — И он заговорил, подчеркивая слова жестами, напоминающими движения рук карточных игроков: — Итак, я сравниваю войну с партией в скат. Германия пошла на максимальную ставку. Она играет с Англией и Россией не на жизнь, а на смерть: гибель ждет проигравшего. Вокруг игроков собрались друзья и соседи и болеют за них. Германия не хотела такой рискованной игры, но другие торговались так долго, что ей не оставалось выбора.
— Она могла бы спасовать, — заметил один из солдат.
Пастор сделал вид, что не слышит, и продолжал:
— И вот Германия выложила свой старший козырь: хлоп!
Становилось интересно. Пастор продолжал игру:
— Джон Буль схитрил: «Дождусь-ка я твоей десятки» — и сбросил вместо трефового туза короля, а русский сбросил девятку. Так разыграли первый круг — битву при Марне. Рассвирепев, Англия бьет тузом треф, Россия бросает восьмерку, но треф-то у Германии нет, и она забирает взятку вторым валетом.
Пастор сделал паузу — ниточка потерялась.
— Ну, а потом… Мы заходим червонным тузом, Англия вынуждена дать десятку другой масти, а царь Николай сбрасывает даму. У Германии остались десятка червей и дама. Если другие черви на одной руке, то нам не набрать своих. — Пастор откинул голову и возвысил голос: — Но король-то червей в прикупе! Осталось пять взяток, и конец войне! И думаю, в исходе сомневаться не приходится!
Довольный собой, пастор огляделся. Солдаты оживились, они смеялись, спорили, обсуждали мелкие ошибки пастора. Началась критика господа, государей, государственных деятелей, священников и самого народа. Предлагались наивные решения извечных человеческих проблем. Один солдат, сидевший в углу, спросил, будто невзначай:
— Германии повезло — в вашей игре, господин пастор! Но откуда вы знаете, что лежит в прикупе?
— Сам-то я не знаю, но всевышний, раздавший карты, знает, и внутренний голос подсказывает мне!
Немного кисловато солдаты переглянулись: «Сейчас начнется…»
— Ха-ха, — рассмеялся пастор, — думаете, добрался все-таки хитрец до проповеди… Не бойтесь, не буду!
— Эта небесная игра по крупной, — сказал солдат в углу, — бессовестная она все-таки! Шлепать картами, когда ставка — жизнь народов. Уж хоть бы разыграли пять последних взяток быстрее первых. Не хотел бы я еще два года участвовать в этой игре!
— Ах, — вздохнул пастор, — человеческое несовершенство и себялюбие — бич войны. И нет спасения от них.
Прозвенели часы.
— Мне пора. Обсудим это в следующий раз.
И добавил:
— Доверимся всевышнему, а впрочем, я остаюсь при своем: когда будут разыграны пять последних карт, война закончится. — Он рассмеялся, как после удачной шутки.
Я пошел вниз к озеру и очень скоро забыл пастора и его слишком наивную притчу. Наверное, существует предписание говорить с солдатами как с олухами.
Солнце погружалось за горизонт раскаленным огненным шаром, и, как затухающие аккорды далекой симфонии о вечном возвращении, потянулись к серому северу и синему югу его лучи, то накалявшиеся всеми цветами, то снова медленно меркнувшие. В вышине тихо звучала песня, как равнодушный хорал отрешившихся от земной юдоли. А внизу, над озером, оттуда, где прерывистая штриховка тростника перекрывала границу леса и воды, протянулась ко мне пурпурная полоса: отзвук непоколебимой уверенности проникал из бесконечности в душу смертного. И пока звенели в его сердце бесплотные струны, земное око прочитало на пурпурной ленте озера гигантские ноты мощной мелодии: то была Песнь песней о совершенстве человечества — о вечном мире.
И я закрыл глаза.
На небе царила суматоха. Вокруг бога собрались толпы людей. Сотни, тысячи, миллионы, просившие и заклинавшие дать им хорошую карту, потому что в игре, которую они собирались вести, ставкой была судьба. Каждая группа превозносила свои добродетели и хулила противников, так что у господа закружилась голова. Он все еще пытался разъяснить людям безумие такой игры. Но чем больше он говорил, что человеку надлежит побеждать человека хорошим примером, любовью и добром, тем больше его старый соперник, дьявол, расхваливал достоинства зависти, себялюбия и богатства. Богу стало ясно, что снова придется предоставить людей их собственной воле, — и это был самый тяжкий час его вечной жизни. Как раздать карты? У каждого были пороки и у каждого добродетели, все молили одинаково пылко, а распределить карты вслепую он не мог: они знали, что он всеведущ и всемогущ. Он взял было розгу, чтобы выпороть всю компанию и вышвырнуть ее вон, но им же данный закон гласил, что люди должны идти собственными путями. Да и лукавый, отгадавший мысли господа, уже злорадствовал:
— Смотрите, ему неведомы совет и путь; где же твоя мудрость, о кормчий вселенной?
Еще на мгновение задумался бог, взял карты, перетасовал и раздал посланцам Германии, Англии и России. Игроки немедля заняли места. К ним сразу подсела и Франция. Они даже не заметили, что бог повернулся к ним спиной и вышел. Поспешно, будто им невмоготу было дождаться кровопролития, игроки опустили ставки в большую железную чашу, — а ставкой была тысяча тысяч горьких человеческих слез.
Подошли друзья игроков и тоже напросились в игру; каждый отдал столько капель крови и слез, сколько имел. Чаша скоро наполнилась до краев. Стеклись и любопытные со всего мира, они не делали ставок, но все же надеялись что-нибудь выгадать в азартной игре.
У чаши присел на корточки дух зла с факелом в руках. Каждую минуту он подсовывал факел под чашу, и тогда кровь и слезы превращались в сверкающее золото. И на это золото играли народы, все более дико и все более послушно.
Собственно, Германии достались вполне приличные карты, но партнеры долго торговались и не давали ей играть. В результате они уступили, но Германия зашла слишком далеко. Пришлось назначить большой шлем[14] — большая игра началась.
Она была трудной, почти бесперспективной. К счастью, первый ход был у Германии, и она выложила на стол главного валета — веру своего народа в чистоту ее намерений. И выложила вполне успешно — упал на стол червонный валет русских, и Англия, поморщившись, отдала бубнового валета. Последовал заход с семерки.
— А, — ухмыльнулся Джон Буль, — слабо в коленках. — И побил королем, приберегая туза для десятки. Но десяткой побила Россия и выругала Англию за слишком хитрую игру. Так закончилась битва при Марне.
На крестовую восьмерку Германия сбросила восьмерку бубен, и Англия триумфально обезопасила своего туза — закон о воинской повинности. Потом она разыграла бубнового туза, Россия подбросила десятку, и тут-то Германия хлопнула своим вторым валетом — возмущением народа войной на полное уничтожение. Потом она разыграла червонного туза, а соперники сбросили восьмерку и девятку.
У Германии оставались десятка и дама, — но вдруг червы лежат на одной руке? Это привело бы к проигрышу и перечеркнуло бы все успехи. А червы-таки были у Англии, и она уже предвкушала точно рассчитанную победу: вот что значит война на истощение!
Чтобы сбить с толку партнеров, Германия разыграла десятку и туза пик, на сердце у нее было тяжело. На десятку червей Англия сбросила семерку, а Россия карту другой масти — свою последнюю карту.
— В чем дело? — вскричала она. — У меня одной не хватает!
— А у меня одна лишняя! — взбесилась Англия.
Германия улыбалась, камень свалился у нее с сердца, игра оказалась недействительной: бог ошибся при сдаче карт!
— Бестолковый русак, зарычала Англия, — не можешь считать до десяти?
— Жадюга английская! Никак не нахапаешь?
Они накинулись друг на друга и вцепились бы в волосы, но друзья и болельщики разняли их. Среди всей этой кутерьмы только один зритель сохранял полное спокойствие. Это был долговязый человек с козлиной бородкой; его цилиндр украшали полосы и звезды. Он подошел к столу и прошептал дьяволу:
— Огоньку, маэстро! При виде золота они начнут новую игру!
Лукавый подсунул тлевший фитиль под чашу, и в ней забурлило сверкающее золото.
— Но может ли господь бог ошибаться? — спросил русский. — Нет, тут приложили руку черт или Германия!
— Известно, что черт, что немец — одно и то же!
Однако новая партия была невозможна, так как в суматохе карты рассыпались и многие затерялись. Тогда они решили сообща отлупить черта и разделить казну, но без Германии, которая так и так проиграла бы. Тут начался новый скандал, потому что они не могли договориться, кому сколько причитается.
Вдруг кто-то воскликнул:
— А где же чаша с золотом? — О слезах, которые тоже были в чаше, никто уже не вспоминал.
Все взгляды прилипли к месту, где стояла чаша. Возникли взаимные подозрения, сначала в мыслях, потом на словах. Общее мнение свелось к тому, что Джон Буль если и не украл чашу, то организовал кражу. Однако досада, искажавшая его лицо, слишком явно показывала, что и его одурачили.
Среди ругани и взаимных обвинений внезапно прозвучал чей-то голос:
— Боже мой, какие мы безумцы!
У кого это вырвалось, никто не знал, но все знали, что это чистая правда. Опомнившись, они посмотрели друг на друга и воскликнули хором:
— Боже мои, какие мы безумцы!
Пролились слезы горького раскаяния, но затем кто-то нашел виновника — Германию, затеявшую игру. Совпадение мнений подействовало утешающе.
Но вот растворилась дверь и возник неизбежный в этом мире дух зла. Однако выглядел он скорее раздосадованным, чем злым. Он вскочил на стол и провозгласил:
— Хоть и не по-товарищески вы обошлись со мной, сообщу вам великую новость. Не знаете, куда подевалась чаша с золотишком? Так вот, пока вы лупили меня, лучшего стража ваших сокровищ, и пока тузили друг друга, седой человек в цилиндре подхватил ее и отбыл восвояси.
— Дядя Сэм! — вырвалось у присутствовавших.
— Конечно, — ответил сатана, — но я бросился ему вслед и вцепился в фалды его сюртука. Тут он затараторил «Отче наш» и пообещал господу выстроить тысячу церквей, но я не сдавался. Он сбежал бы все-таки за океан, но неожиданно шкатулка с заветным золотом упала в воду.
В зале стало совсем тихо. Черт сидел на столе и размышлял о мудрости божьей: господь намеренно ошибся при сдаче, чтобы показать, куда ведет безумное поклонение деньгам. А все взоры устремились к окну и ужасной картине, которая там открывалась.
Большая железная чаша погружалась в озеро, вода клокотала и шипела. Золото растекалось по воде, широкая пурпурная полоса тянулась к берегу, а от берега огненной дугой вставала к небу. Или к смутной пустоте, которую они принимали за свое небо. По этой тропе двигались сотни, тысячи, миллионы и миллионы мужчин. С голых мертвенно бледных тел стекала кровь, пурпурный поток плескался и вспыхивал языками, будто золото превращалось в огонь. Пустые глазницы таращились на заходящее солнце — мужчины пятились. Одни несли голову под мышкой, другие ногу на плече, кто-то нес левую руку в правой, некоторые, у кого не было ни рук, ни ног, перекатывались, как кадки; некоторые ползли на руках; раненные в живот волокли, как шлейф, свои кровавые внутренности; у многих в груди зияла брешь; некоторые насадили свои вздрагивающие сердца на уцелевшую часть левой руки, а правой размахивали бедренной костью: они были безумны и воображали себя королями и полководцами, королями и полководцами всех этих несчастных. Конечно, они были безумны: только сумасшедший способен мести трепещущее сердце, собственное трепещущее сердце, подобно царскому яблоку, а голую кость подобно скипетру и маршальскому жезлу. Да и сохранились еще у людей, шедших за этими странными вождями, настоящие короли и полководцы, и те жили со спокойным сердцем и целыми ногами.
И музыка сопровождала шествие, приглушенная жуткая музыка: музыканты барабанили пальцами, с которых было содрано мясо, по пустым черепам и высвистывали воющие тоны из обрывков легких сквозь простреленную грудь. Колыхались и знамена, изодранные в клочья, замаранные кровью и дерьмом знамена. Их несли опущенными, и на некоторых еще можно было прочесть когда-то сверкавшие надписи: Свобода… Братство… С богом за царя и отечество…
И свита сопровождала шествие, болтливая резвая свита: справа и слева вышагивали и каркали стервятники с кривыми острыми клювами, тучные грифы с розовыми шеями и белыми манишками; желтовато отсвечивала чудовищная лента жирных червей.
Шакал и гиена трусили за шествием, на них восседали пьяный павиан и ухмылявшийся мандрил. Одной рукой они набивали друг другу пасти просфорами, а другой благословляли гигантскими военными крестами, на которых повис затянутый в военную форму Христос.
Когда ужасная процессия достигла зала, бог, вошедший раньше нее, закрыл лицо руками и заплакал. Бесконечный зал заполнялся кровоточащими разодранными подобиями людей. Сотнями, тысячами, миллионами и миллионами… А красная улица продолжала вливаться в зал — неиссякаемый поток. Уже не разобрать было жалоб, слышался только сдержанный стон, тонкий, пронзительный, ритмичный, подобный пульсу человечества. Они остановились перед богом, и, казалось, они ждут похвалы или ответа. И тогда бог отнял руки от лица, в котором были только любовь и добро, и произнес темные слова:
— Судьба человека — заблуждение. Но где начало заблуждения?
Исполненные ужаса люди смотрели друг на друга. А черт привстал на цыпочках, выглянул в окно и захихикал:
— А вот и новая процессия!
На пурпурную тропу снова вступали люди, несметное количество людей: старики, женщины, дети, младенцы. Ах, так много стариков и младенцев! На длинной железной цепи женщины волокли открытый гроб, огромный, как собор, доверху заполненный изуродованными бесформенными телами их мужей; невесты держали увядшие миртовые венки и букеты, которые они окунули в кровь из простреленных сердец своих нареченных; родители несли тела убитых сыновей и трупы умерших от лишений детей; матери толкали коляски, в которых младенцы играли телами убитых отцов. Шествовали богатые и бедные, больные и здоровые, изможденные и откормленные. Все они плакали кровавыми слезами, но они не пятились, а смотрели вперед глазами, наполненными горькой жалобой, глубокой ненавистью или диким безумьем; казалось, они смотрят сквозь людей, дома и горы, сквозь небо и ад в бесконечные туманные дали серого ничто.
И музыка сопровождала шествие, пронзительная жуткая музыка: беременные женщины барабанили по вздувшимся животам и потрясали бубнами, на которых вместо бубенцов бряцали ордена и медали их павших мужей. Осеняли шествие знамена, изодранные, замаранные кровью и дерьмом знамена: скомканные простыни, привязанные к терновым веткам, патриотические газетные статейки и благочестивые трактаты; как вымокшие под дождем бумажные флажки свисали оскверненные и убитые души детей. Высоко реяли эти знамена, и на некоторых еще можно было прочесть когда-то сверкавшие надписи: «Возлюби врага своего…», «Не убий…» Была и такая надпись: «В гордой печали…»
И свита сопровождала шествие, болтливая резвая свита: справа и слева выступали сластолюбцы, скупцы, бездушные ростовщики, попы-суесловы… забота, голод, искушение и порок.
За процессией трусила черная свинья с набухшими белыми сосками, розовой мордой и золотыми глазами, а на ней сидела неряшливая старуха, обвешанная искрившимися украшениями: сводничество. Ползла толстая длинная змея, переливавшаяся, как изумруд; красивая пышная голая потаскуха раскинулась на змее; ее зеленые глаза таинственно светились, но из красного смеющегося рта и чрева неслось дыхание чумы, а длинные золотые волосы стекали, как ручей гноя, — то была похотливость. Как слизистый след гигантской улитки был след обеих женщин на пурпурной полосе крови, и лежали на ней прелюбодеяние, распутство, преступление, гниющие сердца, разодранные срамные части, самоубийство и бесчисленные тела и души нерожденных.
Когда несчастные вошли в огромный зал, внезапно наступила тишина. В открытой двери застыл глубокий старик, жалкий нищий, наверное. Он поднял правую руку и раскрыл рот, и тогда будто из вечности раздался мощный голос:
— Но что сказать мне им?
Как страшный ветер, вздымающий и швыряющий волны, ударил этот голос по жалобам и крикам. Загрохотали в безднах подземные бури, тихий плач пролился, как мягкий дождь, что-то пронзительно всхлипнуло, подобно зимнему ветру в сучьях, взлетели дикие отрывистые крики, как брызги пенящегося прибоя. Все стонало и причитало, как стонут и причитают корабельные колокола перед крушением.
Будто в лихорадочном чаду смотрели люди и народы на жуткую картину. Ужас расширил глаза, от страшной муки дергались мышцы. А мощный голос прогремел во второй раз:
— Но что сказать мне им?
И чудовищней, чем в первый раз, было эхо, рожденное голосом. Как буря, срывающая последние оковы, как море, которое вздымается до небес, рушится на сушу и поглощает ее, подобно разверзшейся земле, сметенным лесам и взорванным скалам, как громыхание грома и метание молнии — таким было эхо, которое родил голос предвечного.
В безумном ужасе народы искали выхода из зала. Но его не было. И все еще не кончался поток людей. Он рос и рос. Стенающие заполняли зал и прижимали других стенающих к стенам. Как чудовищная волна росло число жалобщиков, они рыдали, причитали, сетовали и вопили на всех языках земли, неба и ада. А волна росла и росла, грозя затопить игроков и их приспешников.
Но вот прогремел новый оглушительный раскат грома. Будто одновременно взорвались все пушки земли, лопнули все барабаны, разлетелись все трубы. Зазвенело и заскрежетало, как будто все мечи упали на землю. Гневный ужасающий голос предвечного прогремел в третий раз:
— Но что сказать мне тем, кто беззащитен и на ком нет вины?
Воцарилась глубокая тишина. Почернело солнце, звезды остановились на орбитах, и земной шар прекратил вращение: настало мгновение, когда впервые за много-много тысяч лет судьба открылась человечеству, перед тем как свершиться.
И в этой святой тишине прозвучал насмешливый голос нечистого:
— Что им сказать? Не знаешь? Полно, об этом позаботятся твои наместники на земле!
Вряд ли я спал долго, потому что солнце еще не зашло. Оно еще выводило свои огненные обещания на своде неба, все еще светилась на озере пурпурная полоса, как отзвук мелодии о вечном мире. И ноты еще были написаны на пурпурной полосе. Только они изменили мелодию и продолжали ее менять, так, что я уже не мог вникнуть в нее, потому что головки нот превратились в чирков, которые плыли к тростнику.
Танец на могилах (1916–1917)
Когда обер-егерь Фридрих Менцигер услышал, что может поехать в отпуск, он наморщил лоб. Тогда обер-лейтенант рявкнул на него:
— Черт побери! Вас что, это опять не устраивает?
— Я ничего подобного не говорил, господин обер-лейтенант.
— Но вы, наверное, подумали об этом. Другие прыгают от радости, что могут выбраться из этой грязи, а у исто в голове невесть что. Ну, так как же? Хотите или не хотите?
— Так точно, хочу.
— Ну, то-то же. Завтра рота отправляется на отдых, а вы отправитесь домой, на двадцать дней, включая, естественно, проезд.
— Благодарю, господин обер-лейтенант.
Обер-егерь повернулся кругом.
— Послушайте-ка, что, собственно говоря, с вами происходит? Почему вы всегда такой подавленный? Я ведь никого не съем. Может быть, у вас неприятности в семье, а? Или же вы недовольны тем, что только сейчас получили отпуск?
— Дело в том, что… Это, наверное, климат виноват, господин обер-лейтенант.
— Ну, тогда поезжайте, найдите себе немецкую девушку и возвращайтесь назад хорошо отдохнувшим.
Он протянул ему руку.
— Благодарю, господин обер-лейтенант.
— Да пусть едет, — ухмыльнулся гамбуржец Хайн Диркс, когда вечером обер-егерь выходил из квартиры. Они недолюбливали его. И чего он вечно злится… может, потому, что его не сделали вице-старшиной… А на что вообще он мог рассчитывать?
— Может быть, он не хочет домой, потому что у его невесты появился младенец?
— Но он же больше года как не был дома.
— Однако и такое случается. — И они, довольные, рассмеялись. — Да ты что, у нашего тихони и невесты-то нет.
В то время как они продолжали зубоскалить, обер-егерь шагал по пыльной дороге. До Менчи было семнадцать километров, однако он шел медленно, потому что эшелон с боеприпасами проходил через станцию только около пяти утра. А у него было достаточно времени, очень много времени. Если он опоздает на этот поезд, то поедет следующим. Домой он всегда успеет попасть. От таких мыслей солдату вдруг стало не по себе, и он оглянулся, так как ему почудилось, будто кто-то идет следом за ним и читает его мысли. Но это- была лишь окутанная огромным облаком пыли телега с впряженной в нее низкорослой, лохматой лошадкой. Менцигер отступил на обочину и пропустил подводу. На телеге сидели унтер-офицер и еще один человек. Унтер-офицер крикнул Менцигеру:
— Ну и везет же тебе. Я бы тоже не отказался поехать снова в отпуск. Садись, подвезем.
— Не надо, я лучше пойду пешком.
— Ну, тогда кланяйся Германии и скажи им там, чтобы они поскорее кончали с этим делом. — Последние слова потонули в облаке пыли, застлавшем всю дорогу, словно от марширующей колонны.
Чтобы выбраться из пыли и сократить путь, обер-егерь поднялся на холм. Наверху он остановился и огляделся.
Так вот она, эта знаменитая страна македонцев, которую он в течение долгих месяцев видел только из окопа. Волшебные чары истории медленно, но все плотнее и плотнее обвивали эту голую местность своими пестрыми нитями. Многие школьные учителя — плохие сеятели: они бросают семена, но семена эти еще в ящиках потеряли всхожесть и годятся только на удобрение. А такое удобрение питает сорняки и пестрые цветы, занесенные сюда издалека ветром. Однако среди семян, потерявших всхожесть, встречается иногда хорошее зерно, и одинокий стебель, выросший из него, тем краше и крепче, чем меньше у него собратьев. Учитель истории у Фридриха Менцигера был ужасный сухарь, но он рассказывал о Македонии и об Александре Македонском. Обер-егерь посмотрел на раскинувшуюся перед ним землю. Во сто крат ярче, чем у него на родине, сверкали здесь звезды, однако луна была гораздо бледнее. Горы окутывала голубая дымка, и в ней переливающимися красками прочерчивался путь пыльного облака. Солдат порылся в своей памяти, и она соткала из сохранившихся в ней обрывков и из романтического настроения летней южной ночи ряд пестрых картин. Он вздрогнул. В облаке на дороге, которое было, как он хорошо знал, не чем иным, как пылью, он увидел всадников, развевающиеся знамена и тяжелые боевые колесницы. Сверкали шлемы, щиты и копья, и смелые лица устремляли свой взгляд на чужеземца. Во главе колонны ехала верхом огромная фигура, величиной с гору. Когда фигура обернула лицо, солдат узнал ее. Это был сам Александр Македонский, а его войско заполняло долины и устремлялось к реке. Там внизу, на Вардаре, ползли тени, вверх по течению поднимались корабли под вымпелами. Из дымки тысячелетий возникла прекрасная Роксана, супруга полководца. Тени соединились с фигурами на дороге. Теперь, наверное, Александр поцеловал Роксану. Поцеловал, повел в свой шатер, и могущественнейшая сила и ярчайшая мудрость мира соединились с чистейшей формой и с прекраснейшей красотой, а народ ликовал.
Когда солдат подумал о женщине, он почувствовал сильное биение в груди и его зрачки расширились. Он схватил себя за голову и вздохнул:
— Это все нервы.
Затем он сел на камень и продолжал вполголоса:
— Неужели я уже сошел с ума, что мне мерещится всякое? Вот это, очевидно, и есть типичное немецкое помешательство на почве образованности. — И он решил думать о чем-нибудь другом.
И он подумал о родине. «Боже мой, уж лучше беседовать с призраками, соизмерять с ними всю мизерность и никчемность собственной жизни и тем не менее обладать властью отправлять их снова в царство теней. Где они все теперь? Мудрый ученик Аристотеля[15] скончался, красавицу Роксану убили, с отважной Олимпиады из рода Ахилла чернь сорвала пурпурное одеяние и побила каменьями. Рим господствовал здесь и пал. Турки пришли и ушли. Вот уже и сербы ушли, и теперь немцы защищают эти границы от французов. Давно уже исчезло плодородие этой земли, и только вечно обновляющаяся река несет свои воды, и лишь вечно юные звезды смотрят, улыбаясь, на все преходящее».
Какая чушь! — сказал громко обер-егерь и развязал походный мешок с провизией. Но сухой хлеб ему не показался вкусным. Лучше уж закурить трубку.
Неожиданно он снова подумал о родине и о Рейне. Где же все-таки, если смотреть отсюда, находится Германия? Он поднял глаза и посмотрел на северо-запад. На вершине горы Берашина вспыхивала большая звезда, которая светила ярче, гораздо ярче, чем остальные. Менцигер улыбнулся, вспомнив свое видение, и посмотрел, не отвечает ли другой светотелеграф. Ответили несколько. Они посылали световые сигналы, перебивая друг друга, а с юга вмешивались в их разговор вспышки огня французской артиллерии. Тут солдат подумал о военной технике Александра Македонского и о том, что бы тот сказал, если бы увидел эту картину. Чего только люди не изобрели и не сделали за это время! И он подумал о причинах войн Александра Македонского и нынешней войны. Люди за это время почти не изменились: они все так же пытаются перекроить мир, а в результате получается лишь глава для школьной хрестоматии.
— Какая чушь! — сказал солдат, повернулся и пошел дальше.
Прожектор на горе Берашина все еще посылал сигналы и увлекал мысли солдата за гору, все дальше на северо-запад, пока они не достигли его родины, что его очень удивило. Однако они там не остались, а сновали между отчизной и чужбиной, причем всякий раз, когда мысли возвращались на родину, их чистые покровы были разорваны и запачканы грязью и кровью. С каким-то наслаждением солдат наблюдал за жутким танцем в своей душе. Конечно, родители и родственники будут рады, когда он наконец приедет домой! Будут рады, ведь они все там в Германии должны только радоваться этому. В письмах и газетах они писали о своей нужде и своем героизме, обсуждали сообщения с фронта, садились за накрытые белыми скатертями столы, жаловались по поводу своей все более скудной пищи и затем ложились в мягкие постели. Презрительная усмешка перекосила его рот. А когда они получали горькие известия с поля боя, то плакали и стонали, называли свой траур геройством и тем не менее снова садились за белые столы и ложились на мягкие постели. Но погибший оставался мертвым, а ведь он был моложе их и тоже хотел жить. Не успел он еще стать прахом, а его родственники уже снова танцуют. И уже много значило, если отец иногда скажет: «Ну, вот уже два года, как Вильгельм погиб». И еще более впечатляло, если тетя Мария добавляла:
«Он был такой хороший мальчик». Менцигеру хотелось расхохотаться. «Цирк, настоящий цирк!» — кричало все в нем.
Мысли солдата не переставали кружиться вокруг белого стола и мягкой постели, как вороны кружатся над падалью. Стол и постель — когда он видел нечто подобное? Голод, жажда, усталость, мороз, жара, кровь, убитые, умирающие, вши, грязь — таким был его мир в течение вот уже восемнадцати месяцев. А может быть, это длилось уже несколько лет? Где-то вдали, в серой дымке, находились комната с книгами, аудитория и все те вещи, которые возвышают человека над животным. В сером прошлом находилось будущее, которое так прекрасно сверкало и которое потонуло в усталости, крови, вшах и грязи. Всей воды в Вардаре не хватило бы, чтобы смыть грязь, в которой он жил. Даже если бы он и надел фрак и лаковые штиблеты — все равно его сердце оставалось равнодушным, его дыхание пахло кровью, вши вгрызлись в мозг, а из неподвижных глаз таращилась засохшая душа. Долго, слишком долго тянулся этот ужас. Вот поэтому-то он совсем не будет стараться приспособиться к культуре тех, кто остался дома. Он будет продолжать носить свою грязную военную форму и спать на полу. А если они попробуют подойти к нему со своими фразами и разглагольствованиями, подобно тому как они распинаются в газетах, то тогда уж он им скажет все что думает. Да и зачем ему скрывать, что ему все это осточертело, трижды осточертело? Надо лишь не проявлять никаких чувств, быть животным, хищником. Ведь главное — быть зверем, выслеживать жертву, нападать и убивать.
А может быть, вообще все разговоры о цивилизации — болтовня? Может быть, все это интеллигентское умничание имеет меньшую ценность, чем жизнь простого македонского пастуха? Если бы не было войны, то он, вероятно, уже сдал бы все свои экзамены и сидел бы где-нибудь в должности ассистента. Он уже отслужил бы свой первый год и был бы уже помолвлен, продвинулся по службе, женился бы и, подобно другим, произносил умные речи о науке, боге, политике и прогрессе, то есть все то, что до него говорили старики. Разве это была какая-то особая жизнь? Неловкий дипломат или жадный до наживы предприниматель. В один прекрасный день грубое слово взбудоражило человечество, и всем вновь пришлось признать: кто сильнее, тот и славнее. А если как следует подумать, то и его привлекала примитивность стадной жизни в армии, а грязь и кровь для воина в порядке вещей. Да и вообще что такое природа? Кто действительно любит ее, того не испугает ни одно из ее проявлений. Борьба была одним из таких проявлений, а кровь и грязь, в свою очередь, были проявлениями борьбы. Глупо только, что они с детства подавляли в людях всякое естественное проявление, что они просвещали и цивилизовали людей, воспитывали миллионы по единому образцу: сила — это, дескать, нечто грубое, насилие — нечто дурное, жадность — нечто низменное, любовь благородна, правдивость прекрасна, а право — это высшая ценность. Однако в самый разгар своей воспитательской деятельности они выбивают у людей книги из рук, малюют на лице своего господа бога ненависть, суют людям оружие в руки и кричат: «Иди, убивай, и ты будешь героем. А герой — это первый человек среди всех людей». Так было и с той и с другой стороны. Но для чего жить и для чего убивать? Человек, который задумывался над этим, не видел смысла в этой возне, ибо так было всегда и совершенно так же, как у дикарей.
Ведь сколько людей уже погибло! Он сам убил одиннадцать человек. Это он знал совершенно точно. Первый был русский. Он лежал раненый на земле и стрелял им вслед. Его он пронзил штыком. Потом двое русских перед проволочным заграждением, которые хотели подкрасться по-индейски и которые, когда его пули попали в них, подпрыгивали, как зайцы. Затем пойманный сербский шпион, который пытался бежать. Этот долговязый парень упал лицом на землю и уже не шевелился. Потом серб в окопной схватке, когда у него сломался штык. Затем еще один, его он убил ударом ножа в шею. Этот сопротивлялся как бешеный и укусил его в руку через мундир так, что осталась кровавая рана. Потом он подстрелил двух солдат французского патруля. Потом был французский лейтенант, орангутан, мчавшийся на траншеи с обнаженной саблей в руке. Индус, бежавший во весь рост, не сгибаясь, вслед за лейтенантом и катавшийся потом по земле, И чернокожий, кричавший, как женщина в родовых муках. И еще очень, очень многие, в которых он, наверное, попал, но не знает об этом…
И вот эти одиннадцать человек появились вдруг на обочине и взяли, ухмыляясь, винтовки на караул, а затем побежали прочь от обер-егеря, все быстрее и быстрее, в северо-западном направлении через гору Берашина. Впереди бежал молодой французский лейтенант, размахивал саблей и кричал: «Бей их! Бей немецких свиней!» А негр скалил зубы.
Но тут при последней вспышке прожектора в душе солдата возникло видение — у дороги стояла молодая женщина в белом одеяний и смотрела на него с робкою мольбой во взгляде. «Родина!» — с трепетом подумал он. Эту мысль он не окунул в кровь и грязь, а лишь чуть надорвал ее и посыпал немного пылью. Задумавшись, он остановился на мгновение и произнес:
— Какая чушь!
Фридрих Менцигер бродил по улицам Будапешта, и кипучая жизнь этого города, сохранившего и во время войны свою жизнерадостность, была подобна бороне, взрыхляющей своими острыми зубьями затоптанное поле солдатской души, подготавливая его для новых всходов. Обер-егерь хотел ознакомиться с красотами венгерской столицы, но когда он увидел нарядно одетых людей, сидящих в кафе на улицах, когда услышал, как они смеются и музицируют, у него пропало к этому всякое желание, а в его душе нарастало сильное раздражение. Особенно волновали его хорошенькие женщины, их походка, их опрятное и изящное платье. Его волновало то, как они показывали свои ножки из-под коротких юбок, а также то, как они смеялись и бросали взгляды. Иная улыбалась ему. Она, наверное, смеялась над грязным солдатом, выглядевшим иначе, чем элегантные мужчины, разгуливающие здесь. «Это и есть культура, ради которой я стал свиньей», — издевался он сам над собой, и его злость разгоралась от этих гневных мыслей еще сильнее, в результате чего на Цепном мосту он чуть было не совершил злодеяние.
Перед солдатом вышагивал молодой человек в светлом, почти белом костюме, в голубых шелковых носках и в лакированных полуботинках с пряжками. Соломенная шляпа кокетливо сидела на его черных кудрях. В правой руке, одетой в тонкую перчатку, он вертел тросточку с серебряным набалдашником. Он шел беззаботной, танцующей походкой юнца. О, как он ее ненавидел, эту приплясывающую походку! Солдат совершенно отчетливо видел каждую деталь в одежде молодого человека, и мелкие ромбики костюма все сильнее притягивали его к нему. Его дикие мысли поднимались по этим ромбикам выше и выше, пока наконец не вцепились в шею франта. Все сильнее и сильнее ему хотелось наброситься на этого щеголя, дать ему по физиономии, а если тот будет сопротивляться, сбросить его в Дунай. Ведь так много людей, уставших, оборванных и окровавленных, погибло, в волнах, что не беда, если и франт в белом костюме пойдет ко дну, говорил ему внутренний голос, подгоняя его, хотя тормоз хорошего воспитания и останавливал его, нашептывая: «Не надо, не надо». Но его заглушило резкое: «А я?», которое кричало в нем пронзительно, как скрипит колесо орудия, когда тормоз не может удержать его. Он толкнул венгра, посмотрел горящим взглядом ему в лицо и протянул к нему руку с растопыренными, подобно когтям хищной птицы, пальцами. Незнакомец взглянул на него удивленно, улыбнулся и сказал:
— О, немецкий камрад! Вы едете в отпуск и хотите посмотреть Будапешт?
«Бей его! Бей его!»— кричало все в солдате.
— Почему вы сделали такое сердитое лицо? Вы больны? Если сегодня вечером вы будете еще здесь, я вас приглашаю на рюмку вина. Видите ли, я тоже в отпуске здесь и нарядился так, потому что радуюсь этому.
Рука Фридриха Менцигера дрожала. «Он лжет, он лжет, — говорило что-то в нем. — Он боится». Тут его взгляд упал на черно-белую ленточку на лацкане пиджака венгра.
— Ленточка? Я служил в прусских частях в Польше, еще в пятнадцатом году.
— Так, так, — сказал солдат. Кровь прилила ему к голове, и он почувствовал головокружение.
— Если у вас будет время сегодня вечером, то приходите в таверну Хоццеля на улице Андраши, — ее знает всякий. Там я встречаюсь с двумя товарищами из его императорского величества тирольского стрелкового полка, так что нас будет тогда четыре фронтовика. Спросите лейтенанта Маккаша.
— Большое спасибо, но мне нужно сегодня же ехать дальше, — заторопился Менцигер и зашагал прочь.
— Если надумаете, то приходите. Привет, камрад! — крикнул венгр ему вслед.
Солдату было стыдно за то, что он только что намеревался сделать. Но затем он сказал себе — и был рад этой мысли, — что не все франты, которых он здесь видел, являются военнослужащими, приехавшими домой на побывку. Это просто случайность, что он повстречал одного такого. Его нервное возбуждение прошло, и он презрительно скривил рот: «Ну и пусть себе жрут, пьют, танцуют, влюбляются, — что тебе до этого!»
У конца моста он остановился и оглянулся. Как раз в этот момент венгр раскланивался с какой-то молодой девушкой. Менцигер только заметил, что у нее была очень короткая юбка и что на ее красивых ногах были высокие элегантные сапожки. Снова он почувствовал биение в груди, как тогда, в первый вечер своего путешествия. Он повернул назад, даже не отдавая себе отчета в этом. Просто ему очень хотелось увидеть лицо девушки. Когда он поравнялся с парочкой, венгр заметил его.
— Так смотрите же, приходите, — крикнул он.
Девушка кокетливо взглянула на него своими черными глазами, она была прехорошенькой. Солдат отдал честь и зашагал быстрее. В спине он ощущал какое-то жжение, будто кто-то вонзил ему в спину раскаленное железо и оно дошло ему до груди. Он чувствовал, что эта пара смотрит ему вслед и что разговор идет о нем.
Бесцельно бродил Менцигер по городу, не замечая памятников и архитектурных сооружений, и видел только нарядно одетых, смеющихся женщин. У вокзала он зашел в небольшой ресторан, заказал кружку пива и сел в угол. Выпив пиво, он обратил внимание на то, что стол был накрыт белой льняной скатертью. Он уплатил за пиво, взял из камеры хранения свой ранец и сел на скамейку на перроне. Поезд в Вену отправлялся лишь через два часа.
Вот уже восемь дней он находился дома, однако редко выходил из своей комнаты. Они хотели окружить его вниманием и заботой, но их попытки разбивались об его отчужденность. Однако он уже не спал на полу, как в первые две ночи, и обедал уже вместе со всеми за семейным столом. «Ты очень болен», — услышал он слова своей сестры Хильды, и при этом она серьезно и печально посмотрела на него. Родители охнули, и глаза матери наполнились слезами. Тогда он повернулся и ушел. «Скорее бы прошли эти две недели, — таковы были его мысли утром, днем и вечером. — Скорее прочь отсюда, опять в окопы».
Однажды вечером Хильда вызвала у него сильное раздражение. Она пришла в его комнату, взяла его за руку и сказала:
— Фриц, что с тобой? Скажи мне, мы же всегда понимали друг друга.
Он убрал свою руку и ответил:
— Сестричка-медсестричка, я совершенно здоров. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое. Не распространяй сферу своего влияния за пределы лазарета.
Это должно было прозвучать шутливо, а прозвучало бездушно и грубо. Этого он не хотел. Хильда всплакнула.
— Фриц, пойди на люди. Надень штатское платье, пойдем к Вендландам. Ганс вчера приехал в отпуск. Мари и Герман уже не раз спрашивали о тебе.
— А что мне там делать среди вас, таких воспитанных и нарядно одетых? Я не гожусь для выслушивания ваших сетований и разглагольствований о вашем героизме.
Сестра сказала без тени упрека:
— Ты когда-нибудь слышал, чтобы я жаловалась, хотя мой труд часто очень нелегок? А наши родители? У старика отца почти нет людей в магазине, у матери дел более чем достаточно, а мой халат медсестры ты называешь нарядом? — Солдат молчал, а девушка продолжала: — Германа Вендланда демобилизовали — он потерял зрение. Им было очень тяжело. И Мари восемь месяцев только и делала, что ухаживала за своим слепым братом. Теперь Вендланды снова смеются.
— Они смеются? Это хорошо.
— Да, Фриц, они смеются. Герман Вендланд, которому столько же лет, сколько и тебе, снова смеется.
— Он никогда ничего не принимал всерьез.
— Нет, Фриц, Мари однажды застала его в тот момент, когда он хотел броситься вниз, с балкона.
— Будь покойна, этого я не сделаю.
— Почему ты причиняешь мне боль, Фриц?
Он простонал.
— Оставь меня наконец в покое! Господи, да мне ничего не надо, дайте только спокойно почитать книгу.
— Спокойной ночи, Фриц!
— Спокойной ночи!
Он не оглянулся, но чувствовал на себе ее взгляд. Однажды он уже чувствовал на себе проницательный женский взгляд. Где же это было? Ах да, на мосту в Будапеште. Хильда и венгерка. Хильда всегда была жизнерадостной. Сколько же лет она работает медсестрой? Два года. Конечно, для молодой хорошенькой девушки есть более приятные занятия, чем изо дня в день возиться в грязи и крови. Грязь и кровь (он оторвал глаза от книги), нежная, юная девушка, вот уже два года, добровольно… Расстроенный, он захлопнул книгу. В тот же момент он услышал на лестнице ее легкие шаги. Значит, она стояла за дверью и подслушивала. Зачем она это сделала? Он ощутил горечь во рту, встал и подошел к окну.
Тихо шелестели листья на липе и на кустах сирени.
Электрический фонарь за крышей садового домика просвечивал сквозь листву, и свет его рассыпался, подобно блестящим монеткам, по серым тропинкам. Розы опустили свои бутоны, Фридрих Менцигер увидел, что они плохо подвязаны. Кошка перебежала через дорожку и вскарабкалась по шпалере на крышу садового домика. Где-то вдалеке зазвенел трамвай. Пробили часы. Пронзительно стрекотал сверчок. Легкий ветерок доносил запах сена. Это было удивительно, поскольку лугов поблизости не было.
Солдат прижался лбом к оконному переплету. Зеленые деревья, неразрушенные шпили церквей и розы — как давно он не видел всего этого! Если где-либо на голой земле стояло дерево, его срубали. Остроглавые минареты были разбиты снарядами, а о цветах и вовсе нечего говорить… Однако розы действительно плохо подвязаны. Неужели отцу и правда не хватает времени? И садовые дорожки тоже не ухожены. Гравия вообще уже не видно. Фридрих Менцигер снова почувствовал какую-то горечь во рту. Он быстро отошел от окна и сделал три-четыре торопливых глотка из бутылки с коньяком. Когда он захотел закрыть окно, он увидел на дорожке негра, который корчился, извивался и кричал. Это видение длилось только мгновение, а затем солдат различил длинную тень кошки, сидевшей за углом садового домика.
— Надо немедленно уезжать отсюда, — сказал солдат, обращаясь к самому себе. И он внимательно взглянул на себя как бы изнутри, проследил прошлое и настоящее, и ему показалось, что он совершенно отчетливо видит будущее. Он всегда гордился своей способностью к самокритике. Поэтому он кивнул головой и произнес:
— Так тому и быть!
Затем он, как был в одежде и сапогах, одним движением бросился на кровать, широко раскинув руки ладонями кверху. «Вот ты лежишь здесь, как Иисус Христос, когда его распинали на кресте», — подумал он, и ему стало стыдно за свои мысли. И тотчас же он понял, как получилось, что он подумал так. Вчера он прочел роман «Без отечества» Германа Банга. Там в конце повествования вот так же лежал один из героев. Это сравнение он нашел неуместным, однако продолжал лежать и предавался ярости своих мыслей, пришедших из тьмы и, подобно белым червям глубоко в земле, точивших его тело. В конце повествования?.. Он чувствовал, как эти мысли гложут его и подтачивают его сопротивляемость.
И вот между бодрствованием и сном, в ту таинственную минуту, когда человек перешагивает грань между мирами, зная, что он бодрствует, а не спит, но находится тем не менее в совершенно безвольном состоянии, ему явилось видение. У него на носу сидел большой червь с тысячью ножек. Подняв свою черную головку, он смотрел солдату прямо в глаз. У червя было три глаза — черный, красный и над ними еще зеленый. На спине червя, собиравшегося вползти спящему в глаз, было написано «Разум». С отвращением солдат поднял руку, но не смог прогнать гада, потому что другой червяк схватил своего собрата за конец тела и стал пожирать его. На этом, черве было написано «Любовь». И так червь следовал за червем, и они пожирали друг друга. За любовью следовали голод, насилие, право, вера, а затем появился совсем крошечный червячок с надписью «Смысл жизни». Солдату хотелось получше разглядеть его, но червь этот был тонкий, как нитка, и бесконечно длинный. Когда наконец из темноты появился конец червяка, на нем сидел негр, который корчился, скалил зубы и скулил.
Менцигер тихо застонал, уронил голову набок и заснул. Ему приснился страшный сон. В ночи бродил негр. Он пожирал одного червя за другим, пока не оказался перед головой солдата. Одним ударом топора он убил обер-егеря, и хотя Менцигер был теперь мертв, он увидел, как негр бросился на его сестру и повалил ее на землю. «Бей немецких свиней!» — закричал маленький лейтенант, вдруг очутившийся здесь. Резко и пронзительно звучал в ночи наполненный ужасом крик Хильды: «Фриц, Фриц, помоги!»
Фридрих Менцигер проснулся и сел в постели. Был уже день. Около получаса сидел он так в кровати, затем встал, умылся и спустился вниз. Все очень удивились, что он вышел к завтраку Его глаза глубоко ввалились, но лицо было более просветленным, нежели обычно. После завтрака он пошел в сад, подвязал розы и разровнял граблями дорожки. Когда Хильда пришла на обед, она ничего не сказала, но в ее глазах появился счастливый блеск. Великая, самоотверженная любовь чистой женской души сияет ярче, чем весь свет мира, — это впервые ощутил Фридрих Менцигер. За столом они разговаривали мало.
Вечером наваждение сгинуло. Обер-егерь сидел в саду и курил. Мимо как бы невзначай прошла сестра.
— Добрый вечер, Фриц! — сказала она улыбаясь и кивнула ему.
— Добрый вечер, Хильда! — ответил он приветливо и помимо воли добавил: — Ты что, спешишь?
Она остановилась, радостно возбужденная.
— Нет, но я хотела…
— Хильда!
Она была уже рядом с ним.
— Прости, если я был невежлив и груб. Мне кажется, я действительно был болен.
— Все, все снова наладится. Ах, Фриц!.. — Она заплакала и положила голову на его плечо.
— Не плачь, — сказал он грубовато. Она взглянула на него с удивлением.
— Я не болен, а просто-напросто очень устал. Ах, сестричка! — И он обнял ее.
Через некоторое время она сказала, как бы проверяя его:
— Завтра мы пойдем к Вендландам, да? Вот они обрадуются!
Он ничего не ответил. Она продолжала:
— Мы поедем в город, в лес, на мельницу Ричера, завтра после обеда. Я отпрошусь.
Как во сне он пошел в дом, держась за ее руку.
На следующее утро Фридрих Менцигер надел штатский костюм. Войдя в комнату, он покраснел. Отца и Хильды не было. Он был рад этому, а мать не обратила на его одежду особого внимания. Перед обедом он отвел Хильду в сторону и попросил ее не надевать сегодня халата медсестры.
…Маленькая компания была очень веселой. К вечеру, когда уже не осталось посетителей, слепой сказал: — Ребята, давайте посидим еще, я угощаю всех пуншем.
Мари возразила, но Ганс и Хильда с радостью поддержали его. Тогда она сказала:
— Я подчиняюсь. В конце концов, один раз бываешь молодым.
«Может быть, это и есть смысл жизни?» — спросил голос внутри Фрица Менцигера.
Ганс обнаружил в кафе граммофон и вытащил его на улицу. И вот зазвучали мелодии из «Риголетто», «В корчме „Зеленый венок“» и вальс «Розы юга». Пунш был отменный, а вечер теплый. Молодые люди были возбуждены, и даже сводный оркестр всех ангелов небесных не смог бы заставить их сердца биться чаще, чем это делали скрипящие звуки, издаваемые граммофоном. Все вещи этого мира глупы, тупы и не отличаются друг от друга, лишь человеческое чувство делает их хорошими или плохими, страшными или прекрасными.
Больше всех веселился слепой. Когда Ганс в третий раз поставил пластинку «Розы юга», Герман Вендланд поднялся и уверенно, как зрячий, направился к Хильде.
— Прекраснейшая принцесса! Позвольте пригласить вас на первый вальс.
— Но, ребята! — воскликнула она испуганно. — Это уже слишком. Ведь танцевать запрещено.
— Маленький подарок для старого вояки, — умолял слепой.
— Да, да, ты должна это сделать, ты сестра милосердия, — ликовал Ганс.
— Здесь ведь никого больше нет, — успокоил Фридрих сестру.
Тогда она пошла танцевать со слепым.
— Что может Хильда, могу и я, — сказала Мари. — Пошли, Фриц! И эта пара тоже закружилась в танце.
— Черт возьми, а меня, самого молодого, вы что, в старики записали? — воскликнул Ганс.
Из-за дома вышла дама, лет сорока или пятидесяти, и остановилась удивленная. Тут же Ганс подскочил к ней.
— Разрешите, сударыня?
Она смотрела на него, оцепенев от изумления. Он принял ее молчание за согласие и обхватил ее за талию. Сделав несколько шагов, она высвободилась из его рук.
— Как вам не стыдно… В такое время… Генрих!..
Генрих — это был ее муж, профессор, доктор Генрих Шнайдер, старший преподаватель гимназии имени императора Вильгельма. Он вдруг появился здесь и стоял, не находя слов. Девушки, растерявшись, сели. Слепой напряженно вслушивался, стараясь установить причину помехи. Фриц, улыбаясь, прислонился к дереву.
— Извините, пожалуйста, — залебезил Ганс. — У нас…
Тут старший преподаватель, профессор, доктор Шнайдер очнулся.
— Молчите и стыдитесь! Танцевать на могилах! Это же просто скандал — устраивать танцульки в такое серьезное время. Вы здесь отплясываете, а наши доблестные солдаты кровь проливают за таких вот… И если ваша совесть не может показать вам всю низость вашего поведения, то тогда это сделает полиция. Какой скандал! Пойдем, жена!
Фриц нахмурился, Ганс засмеялся, а вслед за ним рассмеялся и слепой. Он не переставал хохотать, и наконец залились смехом все — и девушки, и Фриц. И хотя они уже больше не танцевали, пунш они выпили и подхватили песню, которую начал петь слепой: «Что б ни принес нам завтрашний день — заботы или хлопоты, сегодня есть сегодня!»
…Два дня спустя в газете «Генераль-Анцайгер» под рубрикой «Читатели пишут» появилась заметка профессора, доктора Генриха Шнайдера, озаглавленная «Танец на могилах». Три четверти колонки занимало возмущенное описание неслыханного происшествия, вызвавшего негодование общественности. Заметка клеймила испорченность нравов определенных кругов молодежи и вызвала ряд созвучных откликов.
На грани миров
Разговор шел о спиритизме, привидениях и тому подобных вещах. При этом, как и подобает просвещенным людям, много шутили по этому поводу. И вдруг старый Рамбах, серьезный, скупой на слова мужчина, от которого менее всего можно было ожидать такого, сказал:
— Не будьте же столь непоследовательны, господа. Вы все верующие, во всяком случае утверждаете это. Но если вы верите в существование бога и в чудесные деяния сына его, то почему же в наше время не может быть чудес? Ведь тысяча лет для всевышнего как один день.
Пастор, которому такая аргументация была не очень приятна, заметил:
— Конечно, нельзя опровергнуть предположение, что человек наделен чувствами, которые большинством людей утрачены, у некоторых они так отчетливо выражены, что позволяют им видеть вещи по-другому, так сказать, внутренним зрением, и заглянуть в другой, неведомый для нас мир. Тут уже не может быть и речи ни о привидениях, ни о чудесах.
Рамбах сказал:
— Вы, господин пастор, нашли почти верное слово — другой, невидимый мир. Знаете ли, я однажды находился между этих двух миров, по крайней мере на грани, разделяющей их, причем это было не во сне, не в лихорадочном жару, как меня потом пытались убедить, а при полном сознании.
Мы попросили его рассказать нам об этом.
— Я находился в имении моего дяди в качестве практиканта. Мой дядя любил принимать гостей, и во время одного из таких посещений я познакомился с дочерью соседа и вскоре был помолвлен с ней. Тесть очень любил меня, и я иной раз проводил вечер в его доме. И вот тут произошло событие, после которого я тяжело заболел и которое едва не погубило мое юное счастье. Однажды вечером, это было четырнадцатого августа, я несколько дольше обычного задержался в Бусковице. Так же как и сегодня, мы беседовали о спиритизме и привидениях и устраивали всевозможные опыты. Вы ведь знаете, как любят подобные развлечения у нас в сельской местности. Было почти половина двенадцатого, когда я простился с хозяевами. До дома мне нужно было еще ехать почти сорок пять минут на велосипеде. В разговоре вечером я узнал, что сразу же за деревней от дороги отходит тропинка, которая ведет через луг и затем через лес, пользуясь ею, можно сэкономить добрую четверть часа.
Так как дорога, кроме того, была неровной, а августовская ночь очень светлой, то сразу же за деревней я свернул на тропинку. Хочу заметить, что я находился в имении дядюшки всего лишь полтора месяца. От мыслей о наших спиритических фокусах мне вдруг стало не по себе. Мне было совестно, поскольку при нашем занятии я вел себя довольно легкомысленно. Поэтому я нажал покрепче на педали, и вскоре лес поглотил меня.
Вокруг царила глубокая тишина, и я не слышал ничего, кроме потрескивания веток под колесами моего велосипеда и шуршания велосипедной цепи. Вдруг зазвучали возбужденные голоса, и я услышал приказ положить ружье. Последовал наглый смех, а затем раздался выстрел. Я быстро спрыгнул с велосипеда и выхватил из кармана револьвер. Я не сделал и шести шагов в направлении выстрела, как передо мной раздвинулись ветви кустарника и появился человек. Увидев меня, он замахнулся на меня ружьем. Я отпрыгнул на полшага в сторону и нажал на курок револьвера. Выстрела не последовало — произошла осечка. Я быстро нажал во второй раз на спусковой крючок — грянул выстрел, но человек уже исчез. При свете луны я увидел его лицо: короткая лохматая борода, черные глаза, серый не то зеленый картуз.
Некоторое время я, ошеломленный, стоял неподвижно. Затем что-то заставило меня пойти вперед. Я увидел лежащего на земле лесничего с зарядом дроби в груди. Я вмиг опустился на колени и попытался перевязать ему рану. Это было невозможно. «Домой!» — простонал раненый. «Куда?» — спросил я быстро. «Первая проселочная дорога налево, затем вторая тропа, участок „74в“», — прохрипел он. Пытаясь перевязать его, я рассказывал ему, как попал сюда и что видел, но он, казалось, ничего не соображал. «Вегнер», — прошептал ом и потерял сознание.
Нести этого рослого и крепкого человека я не мог. Поэтому я быстро вскочил на велосипед и помчался. Кустарник раздирал мне руки до крови, и не раз я, налетев на корень, падал на землю. Время от времени встречался песчаный грунт, и приходилось вести велосипед рядом с собой. Мне казалось, что все происходит слишком, слишком медленно. Кроме того, я боялся, что собьюсь с пути и не найду участок семьдесят четыре. Наконец я увидел перед собой просеку и на ней хутор. Я лихорадочно застучал по забору. Залаяла собака, и через некоторое время открылось окно. Молодой человек лет двадцати сердито спросил меня, что мне здесь надобно. «Скорее, — крикнул я, — только что лесничего ранили браконьеры». В доме тотчас поднялись шум и крики. Я услышал, как вскрикнула женщина, а затем в дверях появились двое мужчин и молодая девушка. Я быстро объяснил, кто я такой, и точно описал им место преступления. Потом я спросил, где живет ближайший врач. «В Бендлове, — ответили они мне, — это около часа пути». Бендлов был ближайший город. К счастью, от дома лесничего к шоссе вела довольно хорошая дорога. Итак, я снова пустился в путь. В изнеможении я прибыл в Бендлов и быстро отыскал дом врача.
На эмалевой вывеске было написано: «Д-р Браун, практикующий врач». Рядом висел шнур звонка. Я дернул несколько раз. В верхнем этаже отворилось окно, и недовольный голос спросил, чего я хочу.
«Доктор должен немедленно ехать в лесничество, — крикнул я, — лесничего подстрелили». Окно закрылось. Я внимательно осмотрел дом. Это было старое двухэтажное фахверковое строение с коричневыми балками и стенами, окрашенными в серый цвет. Рядом с домом находился трактир с вывеской «Бурый медведь». Тут появился врач. «Я вас даже не спросил, о каком лесничестве идет речь».
«Я сам этого не знаю, — сказал я. — Но я вас отведу туда».
Он тоже сел на велосипед, и мы поехали по шоссе в обратную сторону. Когда подъем стал очень крутым, доктор слез с седла, и тут я смог рассказать ему о происшедшем. Время от времени он с сомнением качал головой и несколько раз недоверчиво взглянул на меня. Когда мы снова поехали, он следовал за мной примерно в пяти шагах.
Лесничего только что принесли домой. В комнате стояли две женщины и плакали. Мы положили раненого на кровать, и доктор стал осматривать его. Однако он тут же встал и произнес: «Все кончено, кровоизлияние в легкое». Девушка громко вскрикнула, доктор сказал несколько слов помощнику егеря и вышел из комнаты. Я описал присутствующим еще раз подробно браконьера и рассказал им также, что лесничий назвал фамилию Вегнер. Пожилая женщина пожала мне руку и попросила молодого егеря пуститься в погоню за убийцей. Егерь как-то странно посмотрел на меня, помедлил, но затем все-таки вышел из дома. Я еще несколько минут постоял в нерешительности и потом тоже вышел на улицу.
Когда меня снова окутала ночная тьма и окружил лес, мороз пробежал по моей спине. Я почувствовал, что промок и устал, но что-то заставило меня как можно скорее поехать домой. Так что я снова сел на велосипед и помчался вперед. Казалось, лесу не будет конца, и я уже не знал, где нахожусь. К утру я снова попал к месту преступления, и, хотя мне было не по себе, я все же был рад, что по крайней мере знаю, где нахожусь. Сворачивая на тропинку, я налетел на пень и упал. Вилка переднего колеса и три спицы погнулись, моя левая рука была сильно ободрана. Я, как мог, починил велосипед и, обессиленный, медленно поехал домой. Въезжая в деревню, я услышал, как пробило пять часов. Не раздеваясь, я бросился на кровать и тотчас же заснул.
Проснулся я в сильном жару. У кровати стояли мой дядя и врач. Я рассказал им о своем ночном приключении и спросил, поймали ли уже преступника. Врач покачал головой и что-то прошептал дяде. «Он все еще бредит», — услышал я его слова. Я хотел возразить, но потерял сознание.
Когда через несколько дней я снова пришел в себя, здесь уже находился мой будущий тесть. Ему я тоже рассказал эту историю и спросил о преступнике. Я все очень точно описал ему, и он внимательно выслушал меня. Однако тут я увидел, как он кивнул другим. Значит, они уже проинформировали его. Рассерженный этим, я торжественно поклялся, что все, что я ему рассказал, чистая правда. На это он ответил: «Вы были очень больны, дорогой Рамбах. Вам нельзя волноваться».
Через две недели я уже мог вставать. Первым делом я осмотрел свой револьвер. На одном патроне были видны следы осечки, один патрон был израсходован при выстреле. Вилка и спицы переднего колеса моего велосипеда были погнуты. Дядя подтвердил мне, что в то утро мои руки были изодраны до крови. Ночной сторож сказал, что встретил меня около пяти часов утра. Однако, как только я заводил разговор об убийстве лесничего и спрашивал о преступнике, все очень серьезно смотрели друг на друга и старались перевести разговор на другую тему. Когда же я настаивал на своем, то дядя говорил мне, что, очевидно, у меня еще в лесу поднялась температура, потому что в этой местности вообще нет никакого лесничества и, кроме того, в этом районе не убивали ни лесничего, ни егеря и никакого частного лица. Ближайший лесничий живет в Бусковице и пребывает в добром здравии, а браконьеров здесь не водится.
Когда я уже мог садиться на велосипед, я объездил весь лес, но не нашел никакого лесничества. Затем я посетил лесничего в Бусковице. Это был незнакомый мне молодой мужчина. Тогда я вспомнил доктора Брауна. Я поехал в Бендлов и сразу же нашел улицу и трактир «Бурый медведь». Но фахверкового строения не было. Ка его месте стояло массивное здание с мелочной лавкой. Мне сказали, что этот дом стоит уже давно и что никакого доктора Брауна никогда не было в Бендлове. Усталый, я поплелся домой, и меня снова свалила с ног нервная лихорадка с сильным жаром. Я очень долго провалялся в постели, и, должно быть, дела мои были очень плохи, потому что ко мне приехал мой отец, служивший чиновником в Берлине. Вернувшись в Берлин, он прислал мне ящик токайского вина.
Однажды, уже выздоравливая, я сидел у окна. Был январь, и я смотрел, как за окном мела метель. Теперь уже я и сам считал историю, случившуюся с мной четырнадцатого августа, загадочным и дурным сном. Погруженный в мысли, я развернул одну из бутылок. Она была, кроме папиросной бумаги, завернута в страницу берлинской газеты. Я разгладил эту страницу и начал читать. Мой взгляд упал на статью под заголовком «Приговорен к смерти». В статье говорилось о заседании суда присяжных по делу поденщика Штефана Вегнера, застрелившего в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое августа лесничего Миттевски из Брекштайна в Верхней Силезии. До этого Вегнер отсидел срок в тюрьме, куда он попал по заявлению лесничего, и угрожал расквитаться за это с последним. Удивительным было, говорилось далее в заметке, поведение одного молодого человека, очевидно, занимающегося сельским хозяйством, который нашел лесничего, организовал его доставку в лесничество, привел врача, описал преступника и сообщил его фамилию, однако, несмотря на неоднократные обращения в газетах, так и не объявился. Первоначальное подозрение, что он каким-то образом связан с преступником, рассеивается признанием самого преступника в том, что этот молодой человек стрелял в него.
Ну, что я могу вам сказать далее. Мой дядя, мой тесть, моя невеста — все были удивлены и растеряны. Они знали, что четырнадцатого августа до половины двенадцатого вечера я находился в Бусковице и утром рассказал им о своем ночном приключении в Верхней Силезии, удаленной от нас за тысячу километров. Кто может найти объяснение этой загадке?
К счастью, мое самочувствие быстро улучшалось. Через два года я уже мог вспоминать об этой истории, не ощущая внутреннего беспокойства.
Но та ночь все-таки еще раз вернулась в мою жизнь. Много лет спустя я вместе с женой посетил крупную сельскохозяйственную выставку. У нас было прекрасное настроение, и моей жене пришла в голову мысль посмотреть, где же, собственно говоря, находится городок Брекштайн. Мы решили съездить туда. И тут случилось нечто такое, что заставило меня и мою жену никогда более не возвращаться к этой истории. Я нашел большой двухэтажный фахверковый дом, на котором висела эмалированная табличка с надписью «д-р Браун, практикующий врач». Я позвонил, но доктора не оказалось дома. Тогда мы наняли машину и поехали в лесничество. Это было именно то самое лесничество, которое я нашел в ту ночь, однако из семьи старого лесничего никого уже не было. Наше настроение стало очень серьезным, но мы имели достаточно присутствия духа, чтобы не разволноваться снова. Все это случилось уже очень давно, но вы можете спросить мою жену об этой истории. В ту ночь я находился между двух миров, или, точнее, на грани, разделяющей их.
Старый Рамбах умолк, и все другие тоже молчали. В комнате стало как-то неуютно. Затем один из присутствующих, нерешительно и запинаясь, начал рассказывать историю из жизни охотников.
Судные дни Генриха Грасмана История из жизни вокруг нас
С холодной ненавистью дело обстоит так же, как с горячей любовью: только очень сильные натуры способны без ущерба для себя пронести ее сквозь годы, до своего смертного часа. Генрих Грасман силой не отличался, ни телесной, ни душевной, он был скорее одним из тех, кого в народе у нас именуют «Генрих Тихоня». И все же он взвалил на себя бремя ненависти — огромной, тяжелой, холодной; позднее он уверял, да и доказал это происшедшей в нем переменой, что именно эта смертельная ненависть сделала его, после уничтожения врага, человеком теплым и жизнерадостным. Но законы природы, вводящие рождение и смерть, любовь и ненависть всякого существа в круговорот нерасторжимого целого, вечны и неизменны, пусть бы бренный человек и воображал, будто может их опровергнуть судьбой какого-то индивида. В сущности, Генрих Грасман пал жертвой своего человеконенавистничества в тот самый день, когда за людским равнодушием и грубостью ему открылось естественное человеколюбие. Это было прошлой зимой. Сразу после этого он утопился. А вся эта история началась много лет назад.
Не только для юристов города Б., но и для нас, присяжных, дело Генриха Грасмана оказалось интереснейшим из всех, что слушались за последние годы. Первый поставленный вопрос: виновен ли в предумышленном убийстве? Второй: виновен ли в убийстве? Согласно букве закона, на оба вопроса следовало ответить отрицательно, хотя простое чувство справедливости позволяло дать положительный ответ. В то же время чувство справедливости, основанное на знании предыстории происшествия, опять-таки требовало ответа: «Невиновен». Третьего решения — ответственности за неоказание помощи, повлекшее за собой смерть потерпевшего, — быть не могло, в таких вопросах мы были некомпетентны, однако и в подобном случае сказали бы только «невиновен». И все же мы имели дело с редким по своей жестокости деянием.
Строительный подрядчик и владелец лесопильного завода Бервальд прозывался в округе королем Хольтенроде, этот титул носил уже его отец, а некоторые говорили, что и дед. Королевство было бесславное, ибо зиждилось на переходившем от отца к сыну убеждении, что своекорыстием и стяжательством тем вернее добьешься успеха, чем строже будешь придерживаться рамок закона. Тогда, с точки зрения буржуазной морали, даже при крайнем эгоизме и жестокости прослывешь порядочным дельцом и сможешь стать муниципальным советником. Фирма «Бервальд и Сын» обходила конкурентов, беря подряды по более низким ценам, при поставках товара не преступала границ дозволенного и все-таки наживалась больше других. Все деньги фирмы были вложены в земельные участки, — в Хольтенроде нельзя было проложить дорогу без того, чтобы «Бервальд и Сын» хорошенько на этом не нажились. Но самые выгодные дела они обделывали, пользуясь методом, который изобрел еще Бервальд-дед и который имел особое преимущество — создавал видимость, будто у фирмы есть определенные социальные принципы: она особенно охотно строила дома для людей с ограниченным капиталом. При единственном условии: чтобы у жертвы имелся собственный земельный участок. Жители Хольтенроде знали наперечет все участки, которые «Бервальд и Сын» застроили, а потом, постепенно затянув ипотечную петлю, загребли себе, и лишь старой истиной, что человек ничему не учится на чужих ошибках, можно объяснить тот странный факт, что все еще находились желающие строиться. Рухнула целая империя, в одном старинном герцогстве полгода продержалась диктатура пролетариата, а реакционный король Бервальд, в своей деятельности жестокий и антисоциальный, пережил все бури эпохи, ничуть не изменившись, ни внутренне, ни внешне. Если раньше он прекрасно ладил с буржуазно-консервативным бургомистром и ландратом, то теперь нисколько не хуже обстряпывал свои дела со всеми преемниками последних, к тому же оставался муниципальным советником и командиром гильдии стрелков. И когда заходила речь о семействе Бервальд, каждый житель Хольтенроде по-прежнему корчил презрительную мину, но каждый приветствовал муниципального советника и чувствовал себя польщенным, если этот могущественный человек удостаивал его чести заговорить с ним на улице.
Генрих Грасман унаследовал от родителей сад площадью в четыре моргена с маленьким фахверковым домиком, хлевом и развалившимся парником. Его отец и дед были садовниками, и Генрих волей-неволей должен был тем же ремеслом добывать себе пропитание на собственной земле. Это занятие — наблюдение за таинственным произрастанием жизни из крошечных семян — как нельзя лучше отвечало его прирожденной склонности к одиночеству и мечтательным раздумьям, а размышления над материнской щедростью земли, которая одинаково беспристрастно питает культурные растения и сорняки, сформировали его примитивное, пассивное миросозерцание — терпимость к людям и животным, некий род уравнительного социализма, который легко процветает вне любви и ненависти.
Когда отец его умер, а мать захворала, родственники подыскали ему жену — хорошенькую разбитную девушку, которая жила в столице в прислугах и, как говорили, научилась разбираться не только в хозяйстве, но и в людях.
Трудно приходится садовнику в полусельском городке, где почти каждая семья сама выращивает потребную ей зелень, и не всякой молодой женщине под силу изо дня в день в рассветных сумерках тащиться в соседний большой город с коробом на спине и двумя корзинами в руках, к обеду возвращаться домой, да хорошо еще, если с приличной выручкой, а потом допоздна трудиться в саду и в доме. В доме, что ветх и слишком мал, и в саду, что плодоносен и слишком велик. Первые несколько лет она еще как-то справлялась, но когда пошли дети и работы прибавилось, стала ворчливой и раздражительной, и в конце концов Генриху самому пришлось возить свои корзины в город. Он это делал безропотно, но таким образом его сад лишался работника, которому надлежало эти корзины наполнять, и поистине надо было обладать таким характером, как у этого бедного садовника, чтобы со спокойствием духа переносить все множащиеся трудности жизни. Его бедственное положение, хорошо известное согражданам, и его неизменная приветливость дали повод тем из них, кто никак не мог совместить одно с другим, наградить его презрительной кличкой «Генрих Тихоня».
Жена его была совсем другого склада и отнюдь не желала мириться со своим скудным житьем. В Хольтенроде в течение всего лета наезжали дачники, не хватало комнат, чтобы их разместить, и многие хозяйки, сдавая помещение, обеспечивали себе немалый и бесхлопотный доход. Некоторые перестроили свои старые дома, другие возвели новые, а все затраты, рассказывали они, окупились за счет дачников. Разве не практичнее было бы расширить их старый дом, ведь места для этого было вполне достаточно? Генрих Грасман сопротивлялся: он хотел продавать приезжим овощи и цветы, но не хотел пускать их к себе в дом, а тем самым и в сад.
В конце концов он сдался, но не сказал жене, что фирма «Бервальд и Сын» уже не раз предлагала ему продать участок целиком, а когда получила отказ, изъявила готовность удовольствоваться половиной сада. Муниципальному советнику давно мозолил глаза Грасманов сад, эта территория, граничившая с его собственным участком, нужна была Бервальду для какой-то лишь ему одному известной градостроительной затеи, осуществление которой сулило немалый барыш. Когда садовник явился к нему с планами перестройки, строительный подрядчик так охаял его старый дом, что владелец впервые уяснил себе, в какай развалюхе он живет, и уступил настояниям жены построить совсем новый большой дом, тем более что господин Бервальд, заручившись первой ипотекой на весь Грасманов участок, пообещал осуществить постройку без оплаты наличными. Фрау Грасман не уставала восхвалять отзывчивость муниципального советника, который к тому же доказал им, что они смогут с легкостью погасить долг и проценты, сдавая дачникам три комнаты, маленькую отдельную квартирку и выручая доход от лавочки, где приезжие будут покупать овощи и цветы: у них еще останется кругленькая сумма, не говоря уже о растущей стоимости участка.
Три года простоял дом, пока не настали суровые времена— тяжелые экономические условия в Германии так прижали небогатых людей среднего класса, приезжавших обычно на летний отдых в Хольтенроде, что путешествия сделались им не по карману. Господин Бервальд не торопил с выплатой процентов и погашением долга, он просто велел вписать в поземельную книгу вторую ипотеку с отсрочкой платежей на следующие три года, и так же, как первая, она была снабжена «золотой оговоркой». Через некоторое время фирме «Бервальд и Сын» тоже понадобились деньги, и она, хоть и не сразу, согласилась погасить вторую ипотеку за счет продажи части сада. Сколько Генрих Грасман ни бегал, но другого желающего дать ему деньги под вторую ипотеку он так и не нашел.
В тот день, когда сад перешел к новому владельцу, Генрих Грасман утратил первую долю своего хладнокровия, вместе с садом он лишился нескольких опор. Пока еще он не возымел недоверия к фирме «Бервальд и Сын», хотя друзья и показывали ему, как стягивается петля. Прошло еще два года, и вот, когда ипотеки поспели, как вспенившееся пиво, господин Бервальд затянул петлю. Кто бы мог осудить его за это при тогдашней конъюнктуре на земельном рынке? Садовник и сам не мог этого сделать, только когда господин Бервальд рассказывал ему про обязательства большой фирмы, вид у него был расстроенный и печальный.
Однако его не менее мрачную жену распалило вспыхнувшее злорадство кое-кого из соседок, которым кажущееся процветание семьи садовника и явная заносчивость фрау Грасман давно уже внушали угодливую зависть, и она решительно направилась к господину Бервальду.
Ей пришлось ходить к нему не однажды, и когда в последний раз она вернулась с ощутимым результатом, то выглядела довольно-таки подавленной. Добилась ома лишь отсрочки на один год. Этого жалкого успеха соседям оказалось достаточно, чтобы все более определенно называть цену, которую фрау Грасман якобы заплатила за столь необычную отзывчивость короля Хольтенроде. Содержала ли эта сплетня долю истины, поскольку король Хольтенроде слыл непобедимым и по части женского пола, или была плодом чтения дешевых повестушек, где, в подражание классическим романам и драмам, хождение красивой женщины на поклон к разрушителю ее семейного очага образует роковой узел действия, — осталось неизвестным. Разве что Генрих Грасман с тревожно-выжидательным выражением лица попрекнул жену этой сплетней, на что она ответила ему лишь презрительным смехом и словами:
— Ты, паяц несчастный, и жену-то себе сам сыскать не мог! Так поделом же тебе, если ее уведет другой!
Когда трехлетний срок подошел к концу, фрау Грасман еще несколько раз ходила к господину Бервальду, напоминала ему о продлении срока, однако она, должно быть неправильно его поняла, — он ведь ей ничего не гарантировал. Участок был продан с торгов. Фирма «Бервальд и Сын» приобрела его законнейшим образом, так как. предложила самую высокую цену, настолько высокую, что некоторые жители Хольтенроде, хоть и знавшие муниципального советника, все же поверили слухам, которые он потихоньку распускал сам: он-де заплатил с лихвой, чтобы дать этой семье возможность снова стать на ноги. На самом же деле у садовника после погашения долгов с процентами и процентами на проценты осталось всего несколько сот марок. А с этими деньгами в один прекрасный день, когда он в очередной раз отправился на тщетные поиски работы, жена его удрала в Берлин. К сердобольным родственникам, писала она, раз уж сам он не в состоянии прокормить семью. Сына она отдала на попечение садовнику в имении, где мальчик со временем сможет чему-то выучиться, чтобы из него вышел дельный человек, а не такая тряпка, как его отец.
И вот Генрих Грасман остался один в доме, который ему больше не принадлежал, в пустой квартире, откуда столяр вывез всю обстановку, поскольку она не была оплачена полностью. Не удивительно, что новый владелец дома, муниципальный советник Бервальд, отказал в квартире одинокому мужчине и сдал ее нормальной семье. К удивлению соседей, садовник покорно все это снес. Грасман, который в дни торгов был крайне возбужден, нес какую-то околесицу и совсем забросил свой сад, так что приходилось опасаться за его рассудок, был снова спокоен и приветлив со всеми. Но когда его пытались утешить, осуждая подлые поступки короля Хольтенроде, глаза его вспыхивали диким огнем. Генрих Грасман, как он показал позднее, устроил тогда свой первый судный день и приговорил себя к злейшей ненависти, которую всечасно подогревал в себе днем и ею же тешился ночью в сновидениях. Ему удалось устроиться на работу лесорубом. Какое-то время поговаривали, будто он пьет, но разговоры эти пошли только оттого, что теперь он часто сиживал в трактирах, чего никогда не делал раньше, подзадоривал людей против муниципального советника, всячески поносил его и даже грозился, что спровадит этого типа на тот свет. Он ходил с доносами на советника в магистрат, в ландрат, в суд, и каждое из его обвинений, будь оно даже справедливым, могло навлечь на него суровую кару за оскорбление. Однако советник не стал возбуждать иск против Грасмана, а только неизменно повторял, что ему жаль бедного парня, жестокая борьба за существование, какую приходится вести в наше время, ему не по силам, да и голова у него, верно, смолоду не в порядке, о чем свидетельствует, между прочим, безумный проект постройки дома со множеством комнат и лавкой. Что же до его угроз, то, право же, не ему, советнику, бояться какого-то Генриха Тихоню. Нельзя было отказать ему в известном благородстве поведения.
«Бервальд и Сын» построили в Хольтенроде и его окрестностях новые дома, приобрели путем принудительных торгов новые земельные участки, люди из уст в уста передавали новые истории об их деловой хватке, и Генрих Тихоня был забыт. Будто ни на что не годный камень, вывороченный плугом из земли и выброшенный пахарем на дорогу: лежит он там теперь, колеса телег отшвыривают его туда-сюда, и только когда об него споткнется какой-нибудь прохожий, выясняется, что это безобидное препятствие все еще здесь. Генрих Грасман больше не ругался, никого не подзадоривал; в своем лесном уединении он стал набожным и тихим и лишь от случая к случаю выражал вслух свою твердую веру в то, что бог не отвергнет его ненависти и покарает злодея, ибо он того стоит. Когда люди впервые услыхали эти слова, то посмеялись от души: вот-де удобная позиция для человека, который сам действовать не способен.
Минуло опять несколько лет полного забвения — до того дня, когда Генрих Грасман предстал вдруг в ослепительном свете, и не только в Хольтенроде, но и в округе, и даже во всем государстве. Это произошло, когда стало известно, что муниципальный советник Бервальд из фирмы «Бервальд и Сын» найден убитым в горном лесу. Сперва предполагали несчастный случай: покойник лежал с переломом бедра в яме, откуда несколько недель назад по его указанию подняли огромный валун для сооружения памятника павшим воинам в городе Хольтенроде. Он мог свалиться в яму и в тогдашние холода — по ночам морозы превышали двадцать градусов — просто замерзнуть. Однако полиция установила, что снег на краю ямы истоптан двумя различными парами башмаков, следовательно, происходила жестокая борьба, и было высказано предположение, что советника в яму кто-то столкнул и бедро он сломал при падении. Преступник же подло оставил свою жертву замерзать.
В один миг все те, кто высмеивал слабосильного Генриха Тихоню с его угрозами, поверили, что он одолел в поединке силача Бервальда. В лес, к дому лесника, где квартировал Генрих, отправились два жандарма, чтобы взять его под стражу. Там они его не нашли, и вот по какой причине: Генрих Грасман пошел в Хольтенроде, явился к бургомистру и попросил составить протокол. И с сияющими глазами поведал, как поздним вечером в потемках услыхал слабые призывы о помощи, пошел на зов и в конце концов обнаружил на дне глубокой ямы какого-то человека. Он свалился туда, ступив на тонкую корку подмерзшего снега, нависшего над ямой. С трудом спустился Генрих в яму и только при свете спички увидел, кто там лежит. К потерпевшему он не притронулся, однако внутри у него все ликовало, и он громко возблагодарил бога за отмщение. Затем выбрался из ямы, присел на краю и слушал жалобный визг пойманного волка, будто райскую музыку. Этот тип просил у него прощения, предлагал ему не одну тысячу марок, подполз на четвереньках поближе и даже немного привстал, обещая вернуть ему дом, конечно с тем, чтобы потом ни одного из этих обещаний не выполнить. Вот почему он, Генрих, перечислил тому, в яме, все его грязные дела и заявил, что рук об него марать не станет; если богу угодно, чтобы он спасся, то мороз ночью отпустит или же придет кто-нибудь другой и вытащит его. Затем он пошел домой и лег спать, но от радости он не мог заснуть и потому рано утром, в четыре часа, опять пошел к яме. Ночью было двадцать восемь градусов, но человек этот был еще жив. В девять часов утра лесник нашел его мертвым. А теперь он хотел бы знать, какой суд, земной или небесный, покарает его за то, чего он не совершил.
Он был взят под стражу, и пусть даже власти поверили его рассказу, они все-таки были убеждены, что проявленная им жестокость заслуживает суровой кары. Для того чтобы вынести ему соответствующее наказание, построили версию коварного нападения и сталкивания в яму и предъявили Грасману обвинение в убийстве. Допуская возможность непредумышленного убийства. И еще одну — состояния невменяемости. В самом деле, разве здоровый человек, как ни безгранична его ненависть, способен сознательно, даже намеренно дать замерзнуть пострадавшему от несчастного случая? Психиатры нашли Генриха Грасмана умственно вполне здоровым человеком, дающим на удивление логичные объяснения и полностью ответственным перед законом. Прокурор в самых жестких словах выразил свое возмущение обвиняемым, который спокойно улыбался и спокойно отвечал на вопросы, назвал его опустившимся человеком, а покойного — человеком чести; председатель суда в юридическом наставлении с моральной подоплекой всячески намекал нам на полную возможность вердикта «Виновен», мы же, просидев шесть часов, подавляющим большинством признали Грасмана невиновным. И вот что странно: граждане Хольтенроде, принявшие участие в пышных похоронах своего муниципального советника и осуждавшие бесчеловечного Грасмана, понемногу, один за другим признавали обоснованность оправдательного вердикта, как вынесенного именем народа. Прокурор пытался еще добиться пересмотра дела, а когда ему это не удалось, поскольку формальной ошибки допущено не было, предъявил новое обвинение, состряпанное несколькими хитроумными юристами — в умерщвлении через неоказание помощи. Однако в этом ему отказала буква тогдашнего закона, возможно потому, что еще раньше отказало чувство справедливости.
Но мы мало что знаем о той справедливости, которая хоть и рождается вместе с нами, но решающий закон которой, ведающий жизнью и смертью, любовью и ненавистью, все-таки изменчив в сознании народа, а стало быть, и в сознании отдельной личности. Генрих Грасман вернулся в Хольтенроде и за разговорами о своих судных днях — вторым он считал ночь возле ямы, третьим — судебный процесс — постепенно выработал новую линию поведения, поведения человека веселого, трудолюбивого и весьма энергичного. Трудясь сначала рабочим, а потом десятником на крупных мелиоративных работах, он вновь стал на ноги, приобрел в окраинном поселке небольшой дом и в один прекрасный день перевез к себе жену и сына. И только изредка, бывало, кто-нибудь заводил речь о его новых свойствах — о суровом, почти жестоком отношении к людям, которое весьма походило на человеконенавистничество, и о его алчности.
Покамест прошлой зимой не забрезжил ему новый, последний в его жизни судный день. Ночью на шоссе его сбил автомобиль, при этом водитель, как показал он сам, ничего даже не заметил. Серьезных повреждений у Грасмана не было, но встать он не мог, и его чуть было не переехала следующая машина. Когда он закричал и замахал руками, шофер остановил машину, вышел, вернулся на несколько шагов назад, но потом снова сел за руль и укатил, полагая, что он и есть виновник несчастного случая. Позднее Грасмана нашел и подобрал какой-то крестьянин. Генрих Грасман рассказал ему о происшествии, не жалуясь на поведение второго водителя. Однако крестьянин донес властям, водителя разыскали и привлекли к суду, сначала за бегство с места происшествия, а затем, когда потерпевший разъяснил, как было дело, за неоказание помощи, за что он и был осужден, хотя Генрих Грасман в качестве свидетеля всячески старался, к удивлению судей, его обелить. Но свидетель становился все молчаливей по мере того, как в пламенных речах прокурора и председателя суда, обращенных к обвиняемому и к свидетелям, речах, где говорилось о нравственном долге человека оказывать помощь другому, независимо от того, в состоянии он это сделать или нет, вырисовывалось спокойно-укоризненное лицо Человечности, проявляющей себя в единении народа, и лицо это все больше приобретало черты истинного человеколюбия, которое соприкосновенно вечности, когда мы способны преодолеть оскорбленное чувство собственной правоты. Генрих Грасман вышел из суда встревоженный и за несколько недель, сам того не желая, вновь превратился в существо, которое являл собою прежде, в бытность садовником. Когда он оказался не в силах подчинить это существо задачам своей новой жизни и, как неодобрительно выразился его работодатель, «ослабил свою деловую напористость», то уклонился от последнего решения и бежал из жизни. В несколько бессвязном письме, адресованном старшине суда присяжных, много лет назад его оправдавшего, Грасман обосновал необходимость этого шага, не впадая в слезливое раскаяние по поводу тогдашнего своего поступка.
Возможно, его ум с младенчества не был нормальным в том смысле, какой люди привыкли вкладывать в это слово. Однако стоящие за нами силы охотно обнаруживают себя в таких слабых натурах. Если бы то же происходило с нами, сильными и нормальными, мы не были бы столь различны в наших чувствах, мыслях и поступках, касающихся справедливости.
Пылающий идол
Это было в одном из больших городов Западной Германии. Меня заинтересовал плакат. «Христос проходит сквозь наше время» — было написано на нем, больше ничего. Лекцию читал учитель истории, удалившийся от дел пастор. «Ну кто же станет ходить на такие лекции, — спрашивал я себя, — и о чем там может идти речь?»
Пришли добрых пятьсот человек — три четверти из них женщины — и вовсе не пожилые или старики, нет, молодые тоже. Церковь могла бы быть довольна, потому что все сидящие здесь испытывали тревогу, страх перед жизнью, это были страждущие, ищущие чего-то люди. Церковь могла бы радоваться, потому что все сидящие здесь хотели в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году встретить Христа или хотя бы его живое воплощение: действенную любовь к людям.
Оратор, серьезный человек лет шестидесяти, разделил свое выступление на две части: «От фанатизма к вере — от веры к знанию!» По его словам, фанатизм идет от языческого поклонения богам: фанатизм — это страх перед богами и жрецами, это — войны за веру, инквизиционные суды и сожжение ведьм, то есть любая фанатическая приверженность мертвым догмам. Оратор поведал о некоторых ужасных заблуждениях, которым человечество все снова и снова поддается на протяжении целых столетий, и необычайно долго распространялся о человеческих жертвах, из коих он выделял добровольные, в глубоком ослеплении принесенные жертвы.
Он стремился — и это было видно — всколыхнуть самые сокровенные чувства своих слушателей, и ему это удалось, особенно у женщин, когда на примере поклонения Молоху он показал, до какого фанатизма способен дойти человек, даже мать — самое прекрасное творение природы, — если, она находится в плену религиозного ослепления.
— Мы должны об этом говорить, — выкрикивал он, — чтобы суметь представить себе это! Мы должны представить себе это, чтобы содрогнуться при мысли, как сильно еще тяготеет над нами тьма!
Представьте себе огромную глиняную полую фигуру с простертыми вперед руками, пылающую от жаркого огня, разведенного жрецами! А матери спешат сюда, теснят друг друга, чтобы положить своих первенцев живыми в пылающие руки чудовищного бога! Заметьте: не власть имущие похитили у них детей, чтобы предать огню, нет, матери сами принесли их сюда и чувствовали себя благословленными, если их дитя было принято в жертву. А зачем? Для чего? Потому что матери и отцы воображали, будто обеспечивают этим богатство и счастье своему дому, потому что такой обычай когда-то был установлен и удобен их владыкам. Сотни матерей, тысячи, десятки тысяч все из года в год приносили сюда своих сыновей-первенцев и жаждали сжечь их живыми ради мнимого благополучия семьи и народа и потому, что так было всегда. А проповедовали это все-таки жрецы Молоха! И не только на ханаанской земле!
Оратор описывал ужас этого культа и безумие людей так убедительно, что, когда он умолк, по залу прокатился громкий стон; но возникло еще и удивление и фарисейское удовлетворение, потому что нечто подобное происходило ведь, слава богу, только в мрачные времена глубокой древности.
Тогда оратор произнес медленно и тяжело:
— Не пристало нам, живущим сегодня, свысока судить о невежественных людях давно прошедших времен. Я пережил две захватнические и безумные войны, развязанные на этой земле, и мне приходилось многие сотни раз видеть, как несчастные матери и отцы стремились бросить в пылающие руки и в пылающую пасть другого Молоха, другого пожирающего людей идола своих сыновей, а значит, свою надежду и свое счастье. Они обиделись бы, если бы их поступок объяснили религиозным ослеплением. Они-то воображали, что ими движет вера — вера своему долгу, требующему жертв во имя отечества.
Они воображали, будто должны придерживаться именно этого долга, который на протяжении веков проповедовали жрецы святой собственности, угнетения бедных и завоевания чужих земель! Не всегда детей отнимали у родителей жрецы войны; несметное число родителей добровольно приводили их и чувствовали себя польщенными, если жертва их была принята.
Как бы мы это ни назвали, религиозным заблуждением фанатиков или верой, нет никакой разницы между поклонением идолам во благо ханаанских жрецов Молоха и их повелителей и поклонением идолам во благо европейских и американских жрецов мамоны и их господ. Громкие слова об угрозе отечеству и христианству, которые все снова и снова произносят заправилы некоторых стран и финансовые дельцы, далеко еще не утратили своего действия. Слепая вера маленьких людей — лучший фундамент для трона всесильных. Так вот, мне пришлось прочитать сотни объявлений о смерти, в которых матери как бы в гордом трауре похваляются своей жертвой! О эта преступная простота! Люди следующих поколений будут так же беспомощно стоять перед такими вот женщинами, как стоим мы сейчас перед матерями в храме Молоха!
Он замолчал, и казалось, что свет в зале стал ярче. И он заговорил снова:
— После ужасной катастрофы последней войны даже наивные люди, ослепленные верой в лозунги жрецов власти и наживы, отказались от долга слабых и неимущих умирать за эти лозунги, и из пепла сожженных городов стала расцветать надежда народов — пока на цветы надежды не упали тени облаков от взрывов атомных бомб. Они помешали росту надежды, и вот мне снова приходится видеть, как сейчас, во время ремилитаризации ФРГ, матери, живущие в бедности, потерявшие сыновей во время войны и вдовы погибших на войне готовы продать агитационным газеткам свое мнение, будто святым долгом немецкой женщины и матери было и остается — отдавать самое дорогое и любимое всепожирающему идолу войны. А почему? Потому что так сказали им их политические жрецы.
Вчера по западногерманскому радио я слышал елейный голос одного такого жреца. Их называют комментаторами. Этот человек был вынужден перед второй мировой войной бежать со своей родины, потому что тогдашние правители хотели положить его в пылающие руки идола оголтелого расизма в Освенциме или Маутхаузене. После войны он смог вернуться невредимым. Но ведь тогдашние правители или их приспешники тоже вернулись. Пока они еще терпят рядом с собой этого странного жреца цивилизации и хранителя национального достоинства, потому что он помогает им разжечь идола, в пылающие руки которого его самого когда-то собирались бросить, но теперь уже для других жертв. Ведь он проповедует, что начавшиеся в Лондоне переговоры о разоружении между Советским Союзом, Великобританией, Францией и Америкой, которых с таким нетерпением ждали во всем мире, сохраняют создавшееся в настоящее время соотношение сил в мире. А это соотношение непременно нужно изменить, что произойдет-де только в том случае, если Советский Союз будет оттеснен; а для этого мы-де должны не ослаблять, а укреплять свою собственную силу. Оратор опустил голову и тихо продолжал: «Ни в одной христианской газете мне не довелось прочитать ни строчки против этих чудовищных требований, зато хорошо слышны с высот политических постов радостные возгласы одобрения их изуверских покушений на мир. Так что я и сейчас вижу, как трудятся страшные жрецы Молоха, раскаляя добела разожженный уже давно идол насилия».
Я содрогаюсь, когда представляю себе, что немецкие матери и отцы христианской веры могут опять поспешить сюда, чтобы отдать на заклание своих сыновей: «Вот они, возьмите и сожгите их!» Я содрогаюсь еще больше, когда вижу, как мало, кажется, волнует людей то, что у насильственной массовой смерти на полях, подожженных атомным взрывом, есть помощник — менее насильственная смерть, смерть, которая непременно появится там, где человек разрядил атомное оружие: бесплодность всех женщин, которых только коснулось тлетворное дыхание ада! Хиросима доказала это! Что в сравнении с этим поклонение Молоху?
И я спрашиваю наших современников: кто осмелится назваться христианином и захочет перед лицом всего этого с укоризной указать на ввергнутых в самообман женщин ханаанских?
Оратор бросил свой вопрос прямо в лицо слушающим его людям и замолчал, и было совсем тихо в зале. И, как рассказывали люди, они увидели в эту минуту, что Христос идет сквозь пространство и сквозь наше время. Он шел опустив голову, а на лице его лежали глубокая печаль и краска стыда.
— А теперь, — сказал оратор, горько улыбаясь, — его будет искать полиция. За антигосударственную деятельность. Но она, пожалуй, во всей стране не найдет его.
Он сел, лекция, казалось, подошла к концу. Некоторые встали, остальные в растерянности смотрели друг на друга: неужели для них в самом деле нет никакой надежды?
Тогда в последнем ряду поднялся какой-то молодой человек и громко спросил:
— А что же теперь? Что же будет теперь, когда он, ради которого большинство из нас пришли сюда сегодня вечером, и в самом деле пристыженный и беспомощный ушел из нашего времени? Что станет теперь надеждой христиан? Вы пожимаете плечами, господин пастор, и молчите.
Тот, кого спрашивали, растерянно обернулся и медленно проговорил:
— Я молчу, так как полагаю, что должен убедить его взять с собой свою заповедь: «Если кто-нибудь ударил тебя по правой щеке, подставь ему левую!» Пусть он, уходя, возьмет ее с собой. Если бы это было верно, то откуда бы у нас, христиан, взялась тогда уверенность?
— Вот что я хочу сказать вам, — ответил молодой человек, и голос его стал громким и твердым. — Я, правда, сомневаюсь, что глупый совет людям добровольно подставлять лицо под жестокие удары кулаков исходит от него, — но мы надеемся, более того, мы уверены в том, что все усилия жрецов Молоха и Мамоны напрасны, ибо растет то прекрасное движение среди народов земли, которое из любви к человеку стремится к взаимопониманию между народами и к укреплению мира. И у него достаточно силы не допустить того, чтобы снова пустили в ход пылающих идолов, а люди снова стыдились бы быть людьми, а христиане — своей веры. Пусть же люди живут надеждой, но пусть они не бездействуют.
Когда спало удивление, раздалось всеобщее одобрение, которое росло и крепло. И многим, если не всем, показалось, будто сама надежда вошла в зал и время обрело уверенность.
Ожерелье
Когда я прочитал сообщение о смерти — вдова прислала мне его, я, к моему удивлению, остался довольно равнодушным. Вероятно, потому, что мы не виделись с ним уже пять лет, а последняя наша беседа была мучительной для нас обоих. Будто какая-то стена встала между нами; а так как у нас не было ничего общего ни в профессии, ни в делах, ни в политических взглядах — наши отношения, напротив, держались в основном на странных обстоятельствах, с которых они начались, то и прерваться они могли только из-за того, что прошлое потеряло свою значимость. Поэтому я не обратил внимания на наш разрыв и наконец забыл об этом человеке.
И вот он умер. Сколько ему было лет? «В возрасте семидесяти одного года скончался…» Странно все-таки, что и жена его не писала мне последние пять лет. Я вертел в руках объявление о смерти. Там ее четким мужским почерком было приписано: «Я была бы рада, если бы Вы зашли к нам в Ваш следующий приезд в Гамбург. Я не могу разобраться в одном деле. Собственно, это старая история. Но Карл, который всегда был Вам так благодарен, в последнее время, казалось, поистине ненавидел Вас».
Мы познакомились в годы инфляции в Америке, в предгорье Кэтскил, в городке Флайшменс в летнем пансионате «Золотая калитка». Там я работал механиком и по вечерам сиживал частенько с немецкими эмигрантами — официантами, шоферами и мойщиками посуды, выслушивал разные исповеди, так как почти все служащие пансионата были «из бывших»: студенты, офицеры торгового флота, продавцы, воспитательницы, разъездные агенты, все это — не имеющие работы люди, так называемых гражданских профессий, которые в Гамбурге или Бремене нанимались на американские суда в качестве подсобной силы для работы на палубе и в кухне и после нескольких рейсов высаживались на том берегу, в Америке, чтобы попытать счастье в этой стране чудес. Начинали обычно с судомоек, с мойщиков посуды. За это они получали пятьдесят, шестьдесят, семьдесят долларов в месяц на всем готовом. А так как из-за инфляции в Германии это были бешеные деньги — они убеждались в этом, читая восторженные письма из дому, если им удавалось послать туда несколько долларов, — то большинство из них уже потому, что имели несколько настоящих долларов в кармане, чувствовали себя на пути к успеху и бессовестно хвастались, шумели, галдели, читали гангстерские журналы, покупали всякую дрянь, превозносили Americain Life[16] и напропалую тратили так трудно заработанные центы. Он этого не делал. Поэтому да еще и потому, что он всегда был серьезен, неразговорчив, а может, оттого, что ему уже было за сорок и он не играл в покер, хотя глаза его выдавали желание выиграть, он особенно привлек мое внимание, и однажды вечером, когда я встретил его в лесу, он рассказал мне о своей судьбе.
Он был высокий, широкоплечий, немного неуклюжий; после окончания гимназии хотел изучать ботанику, но по семейным обстоятельствам ему пришлось стать торговцем. В Гамбурге он был бухгалтером на фабрике конторских книг, где он и учился. Воевал, был ранен и рад, что так легко отделался. После войны предприятие разорилось и он остался без места. Затем — коммивояжер одного из бывших клиентов, да к тому же в сорок два года женился. Двое детей. Новая фирма тоже обанкротилась, он снова без места. Торговал разным товаром на черном рынке. Кто-то донес, арестовали, потом освободили. Пробавлялся случайной работой, но из-за физического увечья его каждый раз увольняли. Наконец, рабочий кухни на американском пароходе. Три месяца назад высадился в Нью-Йорке, чтобы больше и быстрее заработать доллары. Если где-то и устраивался, то вскоре его снова увольняли, потому что он был слишком стар. А жене там, на родине, всего двадцать пять. Итак, мойщик посуды в летнем пансионате за городом. До праздника труда, до начала сентября. А дальше? Он мрачно посмотрел на меня: «Вы давно в этой стране — что же дальше?»
Да, что дальше? Ну а дальше, вероятно, та же судьба, что и у тысяч других. Как только проходило время отпусков, здесь, за городом, закрывались отели, а это значило — обратно в Нью-Йорк; но там было полно мойщиков посуды помоложе. Другой работы, уж конечно, не найдешь, а так как в Нью-Йорке на большие суда для рейса в Европу вспомогательный персонал не нанимали, то едва ли имелись какие-либо шансы снова вернуться в Германию. Может быть, даже никогда. Не имело никакого смысла приукрашивать его будущее, он сам все знал. Но я все-таки попытался. Безуспешно. Став нелюбезным и вздорным, затем задиристым и злобным, наконец, полностью безучастным, человек этот на глазах погибал.
Так мог бы выглядеть только человек, приговоренный к пожизненному заключению и хорошо понимающий свое положение.
Поэтому я чрезвычайно удивился, когда недели через две он однажды вечером снова подошел к своим товарищам по работе и, казалось, вел себя вполне непринужденно. Он чувствовал себя раскованно, но был весел, хотя в этом настроении и угадывалась какая-то напряженность. К моему удивлению, он даже присоединился к играющим в покер, а за игрой как бы между прочим говорил о возможности вернуться в Германию. «Но ведь вы хотели бы поехать домой, только если бы выполнили намеченное!» — возразил я ему. Он замолчал почти испуганно.
А потом, после игры, когда мы остались с ним одни, он рассказал мне, что дома у него произошли кое-какие перемены и ему нужно возвращаться. Жена написала, что если бы он приехал через три месяца и привез с собой капитал всего лишь в тысячу долларов, то ему представилась бы счастливая возможность стать совладельцем новой фабрики конторских книг его бывшего шефа. Тот сам заговорил с ней и подчеркнул, что такой возможности больше не представится.
Я невольно улыбнулся. «Вы получили наследство за это время? Или так много выиграли в покер?» Он снова помрачнел и замолчал; потом показал на террасу дома, где сидели наши богатые гости. «Надо же, каждый из этих людей тысячу долларов тратит всего лишь за половину летнего отдыха». Злое чувство вдруг вспыхнуло в его глазах.
Это была правда: для многих живущих здесь тысяча долларов не являлась капиталом; правдой было и то, что в Германии в это время тысяча долларов означала большое состояние. Но ведь у него их все равно не было, как не могло быть таких денег у шанхайского рикши. Таким образом, вся эта игра в «если бы» была для почти пятидесятилетнего здорового, но бедного гражданина напрасным начинанием. Я сказал ему это, и он улыбнулся, правда, какой-то вымученной улыбкой.
Однако беспокойство не оставляло его. Я постоянно встречал его, когда он после работы проходил мимо террасы, медленно, почти робея, как бы высматривая кого-то. Вскоре я понял, что взгляд его почти всегда искал одну и ту же даму, которая каждый день на одном и том же месте, у самых перил, пила свой кофе. А так как она всегда носила одно и то же украшение, броское, достаточно безвкусное, хотя несомненно очень дорогое — ожерелье из жемчуга, каждая из жемчужинок которого была обрамлена бриллиантами, то без труда можно было догадаться, что именно привлекало его в этой даме.
Поначалу эта история казалась мне скорее забавной. Но только до тех пор, пока однажды вечером, незадолго до ужина, он не повстречался мне в лесу, сразу за территорией пансионата. Я хотел с ним заговорить, но так как он меня не заметил и, казалось, кого-то ждал, то я решил тоже подождать. И увидел ту самую даму. Если у меня и возникли опасения, что он задумал какую-то страшную глупость, то я ошибся: он замер на месте и даже поклонился даме, когда она проходила мимо него, хотя этого от него вовсе не требовалось. Я устыдился своих скверных мыслей.
Но вечером, когда мы снова сидели вместе, прежнее беспокойство, казалось, опять овладело им. Весь разговор за карточной игрой он переводил исключительно на несправедливость в распределении земных благ. Однако, когда один из мойщиков посуды сделал из того утверждения о социальной несправедливости политические выводы и стал говорить о необходимости активизации действий рабочих организаций и о революции, он решительно уклонился от дальнейшего разговора на эту тему. Для этих неудачников он хотел оставаться добреньким гражданином, которому только однажды сильно не повезло.
Но был ли он таким на самом деле? Это сомнение вдруг сильно взволновало меня. И когда спустя несколько дней я вновь увидел, как этот простодушный охотник за долларами направлялся к лесу по одной из дорог, где должен был встретить гуляющую здесь каждый вечер даму, я решил, что настало время отвлечь этого, по-видимому, совсем запутавшегося человека, который, возможно, хотел совершить большую глупость.
Но как это сделать? Не мог же я ему сказать, в каком намерении я его подозреваю. Правда, тем самым я помешал бы совершиться безумию, но ведь я мог, чего доброго, сделать несчастным человека одним лишь оскорблением, которое нанес бы ему, высказав такое подозрение.
Но тут меня осенило. Я пригласил его выпить стаканчик пива в саду, куда мог заходить также низший обслуживающий персонал; и когда через некоторое время появилась та дама в сопровождении горничной, у меня был уже повод, не вызывая подозрений, начать свое лечение. Я стал рассказывать об известных во всем мире ценнейших жемчугах и бриллиантах, об опасности, которая подстерегает их владельцев, о мерах предосторожности, предпринятых ювелирами, и о менее известных уловках владелиц драгоценностей, чтобы защитить себя. А когда я увидел, что он об этих вещах ничего не знает, то стал с уверенностью утверждать, что, пожалуй, все драгоценные кольца, украшения из жемчуга и бриллиантов, в которых богатые дамы появляются на спектаклях, на балах и вообще в обществе, всего лишь подделки. Настоящее украшение находится всегда в сейфе банка. Драгоценные камни королевы Англии и даже драгоценные регалии лорда хранителя королевской казны и ректора Гарвардского университета тоже лежат в банке; носят же они лишь точные копии из стекла и меди, в лучшем случае из позолоченного серебра.
Он был достаточно наивен, чтобы искренне удивиться этому. Однако он заметил, что тогда ведь любая не столь богатая дама может заказать себе броскую подделку и щеголять в ней; и тут мне пришлось ему снова растолковывать, что в определенных кругах общества известно, есть ли у той или иной женщины драгоценное украшение, как оно выглядит и сколько стоит, ибо то, что в аристократическом мире на самом деле выставляют напоказ, вовсе не ценное и редкое украшение, а только желание привлечь к себе внимание и вызвать зависть.
— И они довольствуются этим? — спросил он нерешительно.
— Не только они, — ответил я. — Почти все люди довольствуются видимостью вместо самого предмета. Это «как будто» теперь жизненный принцип буржуазного мира. Вот, например, старая герцогиня фон Файф в восемьдесят пять лет, незадолго до смерти, хвасталась, что она ни разу не надела известное всему аристократическому миру фамильное украшение, а носила только его дешевую копию. Она даже никогда не видела оригинала.
— Но это же невозможно, — прервал он меня.
— Почему невозможно? Был же ведь случай со знаменитым жемчужным ожерельем графини фон Монпелье, которое еще до рождения матери графини из-за нужды в деньгах было продано какому-то бразильскому миллионеру. Правда, отдельными жемчужинами, которые должны были быть соединены заново и не так, как в оригинале, поэтому теперь в большом мире обмана и лжи существуют два жемчужных ожерелья из особо ценных и редких жемчужин.
Какому-нибудь индийскому сказочнику слушатели не могут внимать с большей жадностью, чем внимал мне этот гамбургский торговец. Я уже давно был уверен, что заполучу его. И я продолжал: «Самое пикантное в этой истории было, однако, то, что в течение пятидесяти лет в Париже и Рио-де-Жанейро всеобщее восхищение вызывало красовавшееся на шее одной богатой дамы необычайно ценное жемчужное ожерелье, которое и здесь и там было дешевой подделкой и в своем первозданном истинном виде уже вообще не существовало, а с его копии, дабы сохранить видимость, в Париже была заказана еще одна копия, чтобы одну из них, как настоящую, можно было положить в банк, ведь должно же что-нибудь лежать на хранении».
Я видел по его лицу, как сильно взволновали его эти сведения.
— Вот видите, целые поколения восхищались подделками, принимая их за настоящие и драгоценные украшения, и завидовали тем, кто их носил. Нам почти всегда достаточно одной видимости. Тем более в Америке. Разве это обман? Нет, ведь ни одному человеку не говорят, что вот это подлинное ожерелье, его только иногда показывают. Тогда внешнего сходства и уверенности, с которой носят такую побрякушку, достаточно, чтобы она сошла за настоящее и драгоценное украшение. Кто же из людей сам, без подсказки, распознает цену человека, вещи, дела?
Он долго таращил глаза на сидящую напротив даму, потом сказал:
— Значит, вы думаете…
Я кивнул и сказал уверенно:
— Я не только думаю, я знаю: украшение, которое носит вон та дама, тоже всего лишь дешевая подделка. Настоящее, конечно, стоит баснословно дорого. Посудите сами: оставила бы эта дама без присмотра в своей комнате настоящее украшение?
Он посмотрел на меня вопросительно.
— В своей комнате и без…
— Да, я уже несколько раз видел его там. Вот не далее как вчера, когда мне нужно было починить лампу, оно лежало на столе и во всем номере не было ни души.
Снова некоторое время он молча не мигая смотрел прямо перед собой. По нему было видно, что он очень разочарован. Может быть, всего лишь из-за того, что предмет, которым он восхищался и который в его представлении был особенно драгоценным, оказался не чем иным, как какой-то дешевой игрушкой из жести и стекла. Во всяком случае, он покачал головой и принялся говорить что-то о мошенничестве и обмане, особенно в аристократическом мире. В этот вечер он скоро попрощался.
А потом произошло нечто удивительное. Он опять стал тем же тихим педантичным человеком, каким был до появления дамы, мыл свои тарелки и чашки и говорил лишь о том, что еще до праздника труда хотел бы уехать обратно в Нью-Йорк, чтобы поискать место, которое бы лучше оплачивалось, чем его теперешнее, и которое, вероятно, легче было бы получить в период отпусков, чем после. И он уехал в последних числах августа.
Вскоре я позабыл этого человека, потому что то, что заставляло меня помнить о нем первые недели, то есть мое предположение, будто именно этот обиженный судьбой обыватель обречен на тяжкое искушение совершить грех, даже преступление, оказалось ошибочном. А восемь лет спустя случилось так, что в ресторане «Отечество» в Гамбурге напротив меня за столиком оказался человек, который довольно долго, внимательно и, как ему думалось, незаметно меня разглядывал. Я узнал его и заговорил с ним. Он был с женой и сначала немного смущался; но когда его жена протянула мне руку через стол и искренне и сердечно поблагодарила меня за ту большую услугу, которую я однажды оказал ее мужу, он стал оживленнее. И наконец он пригласил меня выпить с ним стаканчик вина в каком-нибудь тихом ресторанчике. Итак, дела их, по-видимому, шли не так уж плохо.
В винном погребке он мне признался, почему он и его жена так благодарны мне и как он благословляет судьбу, которая снова свела нас. Он указал на жену:
— Она свидетель, что все, что я говорю, чистая правда. Через много лет я во всем признался ей. Да, мой дорогой, в те дни, там, за океаном, в Флайшменсе, я и вправду будто с ума сошел. Я стоял на краю пропасти. Все время думать о нищете собственного дома, которая свалилась на нас так незаслуженно; знать, что там у тебя жена, дети и ты довел их до нищеты; знать, что ты никому ничего не должен, а тебе приходится навсегда расстаться с семьей и родиной; знать, что это безумная затея — добыть счастье в Америке такой убогой работой, как мойщик посуды.
А потом узнать, что на старой родине появляется большой шанс, возможность с какой-то несчастной тысячью долларов начать новую жизнь, быть может, даже добиться счастья — но не иметь этой тысячи долларов, и не заработать их еще долгие годы, и в то же время видеть, как старое смешное существо каждый день носит их напоказ — и не тысячу, а, может быть, десять или двадцать тысяч долларов, — так вот, это меня и вправду не оставляло в покое. Если бы вы в последний миг не разъяснили мне… — Он посмотрел через стол на жену, которая, немного смущаясь, опустила глаза. Затем он продолжал — Ты хотела этого, дорогая, я бы не стал опять говорить об этом. Итак, короче, я, конечно, ничего плохого не хотел причинить даме. Но меня уже больше не оставляла в покое мысль: так просто выйти из-за куста, рывок… — Он действительно дрожал: — Я боролся с богом и чертом — мне казалось, это не грех. Тогда я впервые понял чувства деклассированных элементов, я имею в виду их ненависть ко всем имущим.
Он глубоко вздохнул, как будто этим признанием освободился наконец от тяжелого груза. Потом он схватил мою руку.
— Вы теперь понимаете, как я вам благодарен? Был благодарен все эти годы. Мы оба, моя жена тоже. И не только потому, что меня, возможно, тут же раскрыли бы. Или вы не думаете так? Я вовсе не собирался сразу исчезнуть. Украшение я хотел закопать в лесу. А так как все предыдущие недели я производил, можно сказать, вполне благоприятное впечатление, на меня в итоге не пало бы подозрение.
Я смотрел на него и улыбался:
— Вы в этом так уверены? Ведь я сразу заподозрил вас. — Тут он, казалось, испугался. — Вы правы. Вы полагаете, что и среди этих официантов и мойщиков посуды были такие, кто кое о чем догадывался и именно в отношении меня?
— Нет, я так не думаю, подозрение, вероятно, пало бы на всех. — Тут я не мог удержаться от смеха. — Ну и что бы вы делали с этими безделушками? Вы ведь, кажется, верующий христианин. В итоге у вас было бы только сознание страшного греха. Разве недостойно было бы благодарности, помогай вы сейчас уничтожить вопиющую несправедливость в распределении благ?
Жена положила свою руку на его, повыше кисти, и посмотрела на меня умоляюще:
— Я попросила бы не говорить больше на эту тему. Хватит уже того, что мы оба, мой муж и я, все эти восемь лет постоянно говорили об этом. Особенно тогда, когда дела наши шли особенно хорошо. А дела наши, благодарение богу, шли хорошо, причем ни одному из нас не приходилась делать ничего дурного. Может быть, это и есть награда за его тогдашнее испытание. Он лучше всего умеет ценить это, ибо он так часто с глубокой благодарностью говорил о вас и называл вас спасителем его души. Хотя в те годы он скорее всего не предполагал, что вы догадались о его намерении, а просто так, рассказывая о драгоценных украшениях, упоминали истории с дешевыми подделками. Но факт остается фактом: этим вы уберегли его, да и нас всех, от несчастья — ну, прямо скажем, от позора. Сколько раз он сожалел, что не знает вашего адреса: он бы выразил вам свою благодарность. А вы бы, может, так и не узнали за что. Но поверьте мне, он вас всегда благодарил, и это была честная благодарность, потому что он честный христианин.
Они пригласили меня в свой дом, чтобы я мог порадоваться их успешным делам и семейному счастью. В свое время он вернулся в Гамбург с несколькими сотнями долларов, которые заработал в Нью-Йорке в одном ресторане для кучеров приготовлением яичницы, а может быть, и тайной продажей водки, и смог приобрести магазин канцелярских товаров и письменных принадлежностей. Дело пошло, и через три года у него было уже несколько служащих. Он имел, как говорится, хороший достаток. Но, пожалуй, не более того.
И теперь, когда я наезжал в Гамбург, мне приходилось жить у них. Это преувеличенное выражение благодарности за поступок, который так и остался лишь намерением, стало наконец немного действовать мне на нервы. Особенно потому, что благодарность всегда сдабривалась благочестивыми изречениями о благословении людской честности и о проклятии греха. Поэтому я был, в общем-то, чрезвычайно рад, когда спустя несколько лет его чувство благодарности, по-видимому, немного поостыло, хотя для этого, казалось, не было особых причин.
Как-то мы вели непринужденную беседу об ухудшающемся состоянии экономики Германии и о том, как трудно теперь стало жить.
Мелочный товар остается мелочным товаром, признался он. А вот у его бывшего шефа и у нового владельца фабрики конторских книг дела, напротив, идут хорошо, даже очень хорошо. Крупная торговля — это также крупные доходы, если даже при этом не делают особого различия между правдой и неправдой. Так мы перешли на политику, торговлю и мораль и вскоре опять-таки вернулись к месяцам и годам, проведенным нами в Америке, и к нашему старому спору, будет ли вернее назвать то роковое ожерелье украшением Неправды, как он считал, или украшением Правды, как считал я. И в самый разгар моих разглагольствований об относительной ценности настоящего и фальшивого и именно как раз когда я приводил свои аргументы, он вдруг уставился на меня и надолго замолчал; я не очень-то обратил на это внимание, а лишь подумал, что ему-де опять померещилась картина, что произошло бы, одержи тогда искушение верх и стань он обладателем тысячи долларов, а с ними и совладельцем фабрики конторских книг. Это было для него чем-то вроде идеи фикс, и с каждым годом он находил все большее удовольствие в обывательских тирадах о грехопадении и преуспевании, Обмане и Правде. Поэтому при нашем последнем свидании я и рассказал ему все — но не могло же это стать причиной нашего отчуждения?
На сам факт, что наступило это отчуждение, я все последующие годы даже внимания не обратил, да мы больше и не встречались, и только от случая к случаю я получал несколько строк от его жены. И мне показалось всего лишь странным, что однажды, когда я вновь оповестил их о своем приезде в Гамбург, она сообщила, что ее муж уехал по делам, но она все же будет очень рада. Я, конечно, к ним не поехал, а потом оба они постепенно исчезли из моей памяти, а я даже этого как-то и не заметил.
И вот он умер, а на извещении о смерти жена его попросила меня посетить ее в мой следующий приезд в Гамбург, ей нужно сообщить мне нечто весьма удивительное.
То, что произошло во время моего визита, и впрямь было довольно странным. Сначала она рассказала, что после нашей последней встречи он вернулся домой каким-то растерянным и задумчивым, почти ничего не рассказал ей о проведенном вечере и в дальнейшем говорил обо мне очень сдержанно, а в последнее время почти враждебно. А когда она настоятельно попросила объяснения, он стал даже говорить о какой-то совершенной мною несправедливости, о моем вмешательстве в чужие дела с использованием ложных данных. Ни один человек не имеет права вмешиваться в судьбу другого человека таким путем, как это сделал я. Если же предположить, что меня не существовало и он стал бы тогда совладельцем фабрики, то его семья могла бы жить лучше и он надежнее обеспечил бы будущее своих детей. Сейчас он по-другому думает о моем вмешательстве и о своем прежнем отношении ко мне. Это вообще не имеет ничего общего с грехом и виной в христианском смысле и с преступлением с точки зрения закона. А если так, то всегда нужно предоставить ответственность тому, кто совершает проступок.
Тут, рассказывала женщина, все более приходя в волнение, она в ужасе вскрикнула и, не в силах овладеть собой, отвернулась от него. Тогда он попытался представить все сказанное всего лишь как домысел, как вполне возможную жизненную ситуацию. Но ведь нельзя же отрицать, что, имея долю у Шнейдервинд и К°, его бывшего шефа, он был бы сегодня человеком с положением, может быть, даже сенатором, и даже с большим основанием, чем те, кто добыл свои деньги другим путем.
Она беспомощно пожала плечами и робко посмотрела на меня:
— А может быть, это были всего лишь отговорки, сказанные для того, чтобы скрыть от меня заботы о будущем? Как вы считаете? Ведь возвращение к своему давнишнему заблуждению было бы бессмысленно даже в пустых воспоминаниях, к тому же он знал, что ожерелье было сделано всего лишь из жести и стекла. Вы можете в этом разобраться?
Нет, я тоже не мог разобраться в этом и изо всех сил пытался восстановить нашу последнюю встречу.
— Я бы давно обратилась к вам, — продолжала удрученная женщина, — но он категорически запретил мне. И, наконец, я подумала, что при наших не столь уж успешных делах он хотел лишь проверить, не стану ли я в такой ситуации, как его, ну, скажем, более великодушной, что ли. А может быть, после встречи с вами, где определенно снова шла речь о той старой истории, он вдруг устыдился своего прежнего признания? А может быть, ему стало стыдно передо мной сначала за эту историю, а потом за свою глупую попытку представить ее в невинном свете? Все это было бы ужасно глупо, потому что мне-то известны его порядочность и честность, которые с годами выросли до педантизма. А вы тогда, при вашем последнем разговоре, ничего особенного не заметили?
Тут до меня постепенно дошло, что же на самом деле случилось после той беседы, и я задним числом ужаснулся, как глубоко и сильно может запутаться душа настоящего торговца. Или душа человека вообще? Но имел ли я право сказать об этом его жене? Имел ли я право разрушить образ, который в ее верующем сердце был окружен ореолом за одно лишь добровольное радостное признание, а также за раскаяние в воображаемом грехе? Я сказал ей, что ничего не знаю и ни о чем не догадываюсь. Может быть, причина его изменившегося ко мне отношения была на самом деле в том, что он, несмотря на все свое искреннее раскаяние, с возрастом все же стал стыдиться того, что однажды в жизни был совсем близок к страшному греху.
Она восприняла это с радостью и благодарностью.
— Ваше подтверждение делает меня просто счастливой. Да, я чувствую, что это было так. То, что он когда-то вынашивал преступную мысль, могло с годами показаться ему невероятным. Поэтому он опять вспомнил об этой истории и разрисовал себе, какие бы успехи она ему принесла, если бы осуществилась. Причем он ведь знал, что это были всего лишь стекляшки и жесть. Просто он занимался самобичеванием, да, да, конечно! А вас он вдруг заподозрил в том, что своим вмешательством тогда в Америке вы отняли у него возможность самому справиться с искушением! Его заслуга перед богом показалась ему из-за этого намного меньше. А вы тоже думаете так?
— Конечно, это так, — сказал я и повесил тем самым еще одну фальшивую жемчужину на драгоценное украшение — Правду. Ведь только теперь я понял, что произошло с ним в тот вечер нашего последнего разговора. Когда его обывательские ханжеские рассуждения о вечной ценности Правды и преходящей малоценности всякой Неправды стали слишком действовать мне на нервы, я рассказал ему историю об украшении той дамы из пансионата в Америке. То есть, все то, что я рассказывал ему тогда о подделке ожерелья и все эти годы подтверждал, было неправдой. Сказал я ему примерно следующее: «Украшение той дамы, дорогой мой, было настоящим! Мне это доподлинно известно. Когда я однажды должен был починить лампу в комнате дамы, ожерелье действительно лежало на столе, но в комнате была горничная. Потом вошла дама, сразу же бросилась к своему украшению и стала злобно выговаривать девушке, как та могла оставить такую дорогую вещь на виду, когда в комнате находятся посторонние люди. Это было просто оскорбительно. Я оставил ее с неисправленной лампой и ушел. Тогда еще эта мерзавка пожаловалась боссу. И тот подтвердил подлинность необыкновенного украшения, так как должен был каждую ночь запирать его в сейфе».
— Значит, тогда в Флейшменсе вы мне все наврали? — спросил, нахмурившись, недовольный торговец.
— Называйте это как хотите, дорогой друг! Я видел ваше состояние и понял, что только рассказ о том, как богачи обычно обращаются со своими драгоценностями, может уберечь вас от необдуманного поступка; потому я и придумал сказку о подделке.
Вместо того чтобы успокоить, мое объяснение возбудило его еще больше:
— Так как украшение было настоящим и очень дорогим, то если бы вы только не вмешались — мне, предположим, все удалось… Вы ведь сами все время осуждали несправедливое распределение благ, — как же вы только додумались?..
Это было для меня уже слишком, и я сказал твердым голосом:
— А разве было бы более справедливое распределение, если бы «Шнейдервинд и К°» унаследовали бы доллары от украденного ожерелья? Кроме того, вы более двадцати лет не только одобряли мое вмешательство, но даже слишком щедро благодарили за него!
В ответ он покачал головой:
— Но я ведь до этого момента верил, что эти украшения были дешевой подделкой!
— Ну и что?
— С точки зрения коммерции…
Я заметил, как с какой-то зловещей быстротой менялось его лицо, приобретая прежнее выражение и черты, как тогда в Флейшменсе, когда искушение готово было одержать над ним верх. А так как он стал неразговорчив и, по-видимому, устал, мы в тот вечер вскоре расстались, а потом я принял его странное поведение за смущение и неспособность разобраться в цене Правды и Неправды. И совсем не подумал, что мой рассказ мог иметь последствия. Да еще такие, как у него.
Пусть тот, кто хочет, по своему усмотрению и возможностям добавит еще одну жемчужину в это ожерелье.
Колокола славы История также и для взрослых
Я хочу рассказать историю, которая может подтвердить, что многое в жизни нашего народа за последние пятьдесят, шестьдесят лет изменилось. Но она покажет также, что многое в жизни людей остается на протяжении пятидесяти, шестидесяти лет неизменным. История эта заставит читателя призадуматься. Описываемые в ней события происходили, как уже сказано, пятьдесят лет тому назад, но с таким же успехом они могли случиться в любое время. Я даю ей название: «Колокола славы».
«Наша колокольня самая высокая», — бахвалились крестьяне из Куммерова, уже триста лет как жившие в плодородной долине за горой.
«Так это и должно быть, — отвечали им все эти триста лет крестьяне из других деревень, — иначе никакой бы бог на небе никогда не разглядел куммеровцев из-за их благочестия!»
Чтобы еще больше позлить худосочных соседей из окрестных деревень, с трудом перебивавшихся на песчаных и поросших кустарником землях, раздобревшие на плодородных нивах крестьяне из Куммерова каждые десять лет (так они постоянно рассказывали своим детям) собирались поднять высокую колокольню еще на несколько дюжин локтей. Но против этого всегда были патрон, архитектор и пастор. Церковный патрон из финансовых соображений, архитектор — из технических, а пастор — моральных. Пастор Брайтхаупт сказал в последний раз, что лучше бы они почтили своего господа бога скромными добродетелями, а не выставленными напоказ предметами. И что прихожане должны наконец путем внутреннего совершенствования вернуть себе утраченное куммеровцами доброе имя христианина (это шло от столетиями державшегося за ними прозвища «безбожники из Куммерова»). Желая показать своему пастору, что, несмотря на всю их подчеркнутую независимость от церкви, они все же хорошие христиане, но чтобы не приходилось доказывать это прилежным посещением церкви, крестьяне вот уже сто лет как додумались воспользоваться для этой цели колоколами. Они буквально привязывали лучшие свои творения, своих сыновей, к большому колоколу.
У куммеровской церкви было три удачно отлитых колокола. В самый меньший звонили к вечерне, а по воскресеньям — за час до того, как идти в церковь. Тогда крестьяне, придерживавшиеся старых обычаев, знали, что пора искать бритву и мыло и требовать от своих хозяек, чтобы те дали им теплую воду и чистую рубашку. Средний колокол раздавался за полчаса до богослужения. Тогда наступало время достать из двустворчатого шкафа свадебный костюм и почистить его. В большой колокол и одновременно в два других ударяли за пять минут до начала службы. Тогда надевали цилиндр и выходили на улицу.
Звонить в церковные колокола, с тех пор как их подвесили, было обязанностью школьников. Обучение этому вошло даже на рубеже последнего столетия в обязательную программу. Маленький и средний колокол раскачивали снизу. К большому приходилось взбираться высоко вверх по колокольной лестнице. Чтобы он звонил равномерно — ибо язык ударял на первых порах в одну сторону, — в большой колокол вставляли деревянную рас порку, которая выпадала, как только он правильно раскачивался. Звонить в колокол было делом нелегким. Некоторые мальчишки до самой конфирмации не могли даже научиться как следует раскачивать маленький колокол, созывающий прихожан на богослужение, чем доказывали всей деревне, что ничего путного из них не выйдет.
Когда случилась история, о которой я хочу вам поведать, прошло уже два года с тех пор, как Мартин Грамбауэр был в Куммерове церковным служкой. Церковным служкой становился всегда тот, кто сидел в школе на первой парте. Поскольку Мартин был удостоен этой чести в одиннадцать лет, разрыв между духовными и физическими силами уже в детстве поставил его перед мучительной проблемой бытия. Римлянам в течение многих тысячелетий удавалось решить ее с помощью цитаты из Вергилия: «Mens agitat molem», что означает в переводе: «Дух движет материей». Деревенскому пареньку Мартину Грамбауэру было довольно трудно справиться и с духом и с материей. До такой степени, что старшие ребята, которые сидели в школе позади Мартина, так же злорадно, как и их отцы, по целым неделям ликовали от ощущения собственного физического превосходства: ну, мол, еще поглядим, от чего в жизни зависит быть действительно первым!
К счастью, Мартин Грамбауэр еще ничего не знал тогда о борьбе между духом и материей за приоритет.
Он воспринимал силу и материю как единое целое и одержал благодаря этому свою первую настоящую победу. Поставленный перед необходимостью публично оправдать возложенные на него надежды и не показать всем свою несостоятельность, Мартин стал с этого момента съедать за обедом и ужином по две порции, тренировать свое тощее тело и испробовал все, что только приходило ему на ум, чтобы усовершенствовать и облегчить раскачивание большого колокола. Материя, следовательно, придала его духу активность и силу, которые были необходимы, чтобы проникнуть в предмет, в материю и подчинить ее себе.
Однако такие мысли еще не осложняли тогда поступков Мартина. Он просто хотел хорошо справляться с порученной ему работой, ибо знал — куммеровцы со злорадством наблюдают за его схваткой с материей. Потому что, хотя крестьяне и не были очень набожны и, к досаде пастора, давали своим колоколам весьма непотребные прозвища (маленький, например, называли дворняжкой, средний — бараном, а большой — быком), все же они считали колокола священными. И церковный мальчик испытывал неловкость, если ему приходилось слышать по воскресеньям, вернувшись из церкви: «Ну что, Мартин, баран опять сегодня страшно ревел?» Поэтому Мартин брал себе в помощники лишь таких ребят, которые хоть немного умели обращаться с колоколами и имели добрые намерения. В таком случае им приходилось упражняться, и упражняться, раскачивая колокол с крепко привязанным языком. Отец его учредил для лучших звонарей награды: тетради, аспидные доски, книжки с картинками. А Мартин изводил себя, съедая за обедом и ужином даже по три порции, и нашел наконец способ, позволявший одному человеку выполнять работу за троих. На свет появился первый энтузиаст, и как раз в Куммерове.
Во всяком случае недели и месяцы упражнений увенчались для Мартина Грамбауэра полной победой. И весь Куммеров гордился, когда через год в окружной газете было напечатано, что мальчики из Куммерова исполняли на колоколах своей церкви настоящий хорал. Это произошло после того, как суперинтендант услышал однажды в воскресенье их колокольный звон и выразил восхищение. И за юными куммеровскими звонарями закрепилась слава лучших звонарей. Поэтому, как ни хотел Мартин Грамбауэр полтора года спустя поступить в школу высшей ступени, нежелание расстаться с колоколами и тем самым отказаться от славы главного звонаря было серьезнейшей причиной, почему он противился этому.
Прошло два года с тех пор, как Мартин Грамбауэр покинул все же Куммеров и учился в городской школе. Там ему приходилось изучать столько нового и трудного и была такая нагрузка для духа и тела, что вскоре он позабыл о своих успехах с колокольным звоном. Рождество прошло, завтра — Новый год. И, как водилось, куммеровские крестьяне и поденщики заполнили оба деревенских трактира; за пивом, рихтенбергером и пуншем грубо резали друг другу в глаза правду-матку, а потом снова дружно сходились на том, что прежде было на свете лучше.
Мартину Грамбауэру исполнилось пятнадцать лет, и, хотя он еще посещал школу, в ночь под Новый год ему, как уже прошедшему конфирмацию, разрешалось в Куммерове посидеть в трактире, что были вправе сделать и его бывшие соученики. И таким образом первое настоящее вступление Мартина в жизнь, в мир взрослых, произошло через трактирную дверь. Он, как и подобало немецкому юноше, выпил кружку пива и порцию пшеничной водки, впервые попробовал вкус сигареты. Но если курить он тотчас же перестал, то пить вместе со всеми не бросил, особенно когда по прошествии некоторого времени сладкий пунш сменил горькое пиво и крепкую водку. Если бы только не уставать так от этого! Вдруг несколько крестьян выпили за его здоровье, и он услышал, как они, поминая лучшие времена, говорили также и о нем и как сельский староста Вендланд сказал:
— Твое здоровье, Мартин, у тебя не отнимешь, когда ты был еще церковным служкой, мы, куммеровцы, страшно гордились нашими колоколами. Теперь, с тех пор как ты и Герман перестали этим заниматься, колокола дребезжат, будто овцы блеют. Все стало хуже на свете, решительно все!
Хотя Герман Вендланд, сын старосты, и не имел никакого отношения к хорошему звону колоколов, Мартин пропустил это мимо ушей из-за пробудившейся в нем вновь гордости. Приятное чувство охватило паренька. И когда в трактире все стали дружно хвалить его, и отец выставил всем по стакану пунша, и они чокнулись с Мартином, волна тщеславия подняла его еще выше. И даже если эта волна и состояла наполовину из паров пунша, в ней было, однако, достаточно силы, чтобы унести Мартина из прокуренного деревенского кабака ввысь, в храм славы, побороть его застенчивость и сделать разговорчивым. Он стал обещать куммеровцам, что совершит еще большие подвиги, если только ему разрешат остаться в родной деревне, после чего он рассказал о древнегреческом герое Антее, у которого тоже всегда появлялись новые силы, когда он прикасался ногами к родной земле. Староста Вендланд счел это со стороны героя Антея разумным, некоторые другие из сидящих за столом тоже, потому что к героям в Куммерове относились с симпатией.
Готлиб Грамбауэр выставил всем выпивку по второму кругу, и Мартину казалось, что весь трактир говорит о его славе искусного звонаря. Он чувствовал себя юным героем, окруженным любовью и восхищением родины, и уже мысленно видел новую заметку в окружной газете, и уже ощущал будущую зависть своих городских соучеников, которым недоставало поддержки родной земли. И вообще жизнь была прекрасна, а он, Мартин, был Антеем, Зигфридом, Теодором Кернером, лордом Байроном, Генрихом Гейне в одном лице. И жаждал больших подвигов, чем просто звонить в колокол. «Бим-бам», — слышались издалека колокола славы, и хотя это был лишь звон стаканов с пуншем, а приветствие восхищенной толпы выражалось только в шуме деревенского трактира, этого оказалось достаточным, чтобы во впервые опьяненном мальчишеском мозгу наивное заблуждение превратилось благодаря пуншу и собственному желанию в реальную действительность. «Подвиги, подвиги!» — гремело в юноше. Большой колокол — теперь он действительно раздался в голове Мартина. Когда он поднялся, дабы объявить куммеровцам о своих героических помыслах, у него хватило времени лишь на то, чтобы поднести ко рту носовой платок и под дружный смех собравшихся, шатаясь, выйти во двор.
Мужчины, сидящие в трактире, сразу же забыли о герое и снова принялись шуметь о налогах и властях предержащих. И только когда трактирщик незадолго до двенадцати открыл окно и поставил, как было принято, перед каждым по стакану пунша и по блинчику, они, тоже как было принято, умолкли и прислушались с благочестивым выражением на лице к звукам за окном. Потому что теперь следовало ждать, пока ровно в полночь башенные часы не пробьют двенадцать раз. Тогда начинали пить за здоровье присутствовавших, поздравлять друг друга с Новым годом и выставлять выпивку; у кого карман толще, тот и угощал дольше, а почти у всех куммеровцев мошна была туго набита, и поэтому угощались они довольно долго. Однако мужчинам надо было поторапливаться, так как в час ночи трактирщик неумолимо закрывал свое заведение. Это делалось по договоренности с пастором, чтобы во время новогодней проповеди засыпало не слишком много мужчин.
На улице было, наверно, градусов пятнадцать мороза. Снег, лежавший полуметровым слоем, сверкал и блестел в лунном свете. В деревне стояла полная тишина, даже фибелькорновский пес Гектор, обычно всю ночь напролет лаявший на луну, безмолвствовал. Слышалось только слабое завывание метели, и Готлиб Грамбауэр истолковал это как уход старого года. Тут наконец начали бить башенные часы. И когда все взволнованно прислушались к их бою и прямо-таки ощутили перелом времени и после двенадцатого удара продолжали ждать, не будет ли еще одного, потому что большинство присутствовавших было уже не в состоянии считать удары, тут и произошло чудо.
Староста как раз поднял свой стакан и произнес:
— Ну, давайте выпьем за то, чтобы в Новом году мы могли хотя бы раз в неделю сказать: «Будем здоровы!»
Как раз в тот момент, когда все встали и хотели поздравить друг друга, с колокольни послышались сильные удары: бим-бам-бим-бам, — это был звон большого колокола. Такого еще не бывало с тех пор, как существовал Куммеров. Удары повторялись снова и снова с поразительной размеренностью и становились все более звучными: бим-бамм-бим-бамм! Казалось, колокол вот-вот разорвется.
Крестьян охватили удивление и страх: не возвещал ли этот звон чуда, которое предсказывала нищенка-цыганка? Бим-бамм-бим-бамм. Это уже и было, наверно, чудо, разве иначе могли бы люди взобраться сейчас на колокольню и извлекать из колокола такие прекрасные, неземные звуки? Этого не удалось бы два года назад сделать даже самому Мартину Грамбауэру с его лучшими помощниками.
Стали звать Мартина, но его не оказалось.
— Может, он заснул во дворе? — воскликнул Герман Вендланд и выбежал на улицу.
Большой колокол продолжал звонить. Мужчины столпились в дверях трактира. В домах зажегся свет. Распахивалось все больше дверей и окон. Вот открылась дверь пасторского дома и оттуда в домашнем халате стремительно вышел пастор Брайтхаупт. Но он поспешил не в церковь и не на колокольню, а в трактир. Пастор заподозрил (о чем уже подумали многие), что тут дело не в чуде и не в новогоднем новшестве, а, вероятно, где-то горело, да так сильно, что для набата годился только большой колокол, хотя до сих пор его еще не оскверняли для такой надобности, даже когда горело в замке. На улицу вышли женщины с детьми. Ночной сторож Береншпрунг изо всех сил трубил в пожарный рожок. Фальшиво и скверно, потому что был уже в сильном подпитии. И, наконец, примчался на двуколке Фридрих Реттшлаг, у которого в этом месяце хранился ключ от пожарного сарая.
«Бим-бамм-бим-бамм!» — раздавалось с колокольни. Торжественные звуки неслись по заснеженным полям, прорывались через лес, перелетали широкую долину. В Руммелове, Раммелове, Мудделькове и Гриппентале люди услышали их и очень удивились, потому что во всей округе новогодней ночью никогда не бывало колокольного звона. И если поначалу звуки колокола показались им очень торжественными и прекрасными и они позавидовали такому христианскому новшеству куммеровцев, то вскоре все же в них закралось сомнение. И когда одному из них померещилось даже зарево пожара над Куммеровом, все проверили пожарные шланги и поспешили туда, бранясь и ругаясь, что проклятые безбожники испортили своим пожаром именно новогоднюю ночь. Неизвестно, что они там снова натворили? Надо бы дать им сгореть дотла, но ведь в конце концов каждый из соседей считал себя лучшим христианином, чем эти безбожники.
Звон оборвался разом, колокол не издал больше ни звука. И снова священный ужас охватил сердца сидящих в трактире крестьян. Но они были куммеровцами, и их колокола были ближе к земле, чем к небу. Поэтому они хотели знать: как это произошло? Ключ от колокольни хранился у кантора, неужто он с ума сошел? Но ведь одному человеку, да к тому же старому Каннегисеру, не под силу раскачать большой колокол. Все кинулись к колокольне, некоторые побежали к кантору, но его не оказалось дома, дверь стояла распахнутой настежь. Когда дюжина молодых крестьян поднялась на площадку для колокола (сначала им пришлось раздобыть несколько фонарей), они ничего там не обнаружили, а только встретили на колокольне растерянного кантора.
Тут на улице раздалось бренчанье бубенчиков, и первыми привезли на санях пожарный шланг раммеловцы.
Потом приехали муддельковцы, мандельковцы, крестьяне из Гюнтерсберга и последними, как всегда, из Гриппенталя. Трактирщику пришлось открыть дверь в залу, хотя там и было холодно. Собравшиеся до самого утра рядили да гадали, откуда взялся восхитительный колокольный звон, и рассказывали разные новогодние истории. Так что в первый день Нового года в Куммерове нельзя было уже разжиться ни глотком рихтенбергера, ни кружкой пива, ни стаканчиком пунша.
Мартин Грамбауэр исчез. Не найдя сына дома, отец отправился в церковь и натолкнулся там на кантора Каннегисера. Им не нужно было объясняться друг с другом. Только спрашивали себя: как Мартину удалось это сделать? Они вместе еще раз поднялись на площадку для колокола. И нашли его все же там. Он мирно спал, прикорнув в углу. Прошло порядочно времени, пока они разбудили Мартина. Он не мог произнести ни слова, и немалых трудов стоило спустить его вниз по крутым ступеням и доставить домой.
— Он совершенно без сил, духовных и физических, — промолвил кантор Каннегисер. Готлиб Грамбауэр перевел это следующим образом: «Уж вы не трубите об этом. Мальчишка пьян вдребезги! Помалкивайте!»
Они дали друг другу слово никому ничего не рассказывать: пусть крестьяне и впредь продолжают верить в чудо.
Однако на следующий день, незадолго до проповеди к Грамбауэрам зашел пастор Брайтхаупт. Его дочь Ульрика сказала ему, что звонил в колокол не кто иной, как Мартин, она поняла это по звучанию (девушка с недавних пор брала уроки игры на фортепьяно).
— Посмотри-ка на меня, — пророкотал пастор. Теперь уж не помогли никакие отговорки.
— И почему ты осквернил колокол? — Тут пастор увидел расширенные от ужаса глаза мальчика.
— Осквернил? Я ведь хотел возвестить наступление Нового года во славу господа нашего, сотворившего небо и землю. Меня прямо-таки потянуло на колокольню. — Он разразился рыданиями.
Пастор огляделся.
— А откуда у тебя ключ от колокольни?
— Я ведь знал, где он висит.
— Но как же ты совершенно один справился с колоколом?
— Я ощутил тогда в себе огромную силу, как Антей, как Геракл, как они оба вместе. — Мартин знал, что старого учителя можно задобрить с помощью древнегреческой мифологии.
— Это невозможно, — возразил, однако, пастор, — Антея и Геракла нельзя называть вместе. Разве ты не знаешь, что они были врагами, что Геракл задушил Антея, оторвав его от земли? — Пастор Брайтхаупт вновь овладел собой. — Было бы, пожалуй, уместней, если бы ты поискал примеры в христианской религии.
Поскольку пастор тоже, по-видимому, не нашел в христианской религии подходящего примера, он прибег для объяснения случившегося к другому объяснению, когда час спустя раскрыл прихожанам в новогодней проповеди тайну благостного ночного звона большого колокола.
— Мальчик, сын деревни, услышал божественное веление приветствовать Новый год во славу господню! И хотя он действовал самовольно, даже нарушил установленный порядок, его благочестивый образ мыслей служит полным оправданием необычного поступка. Этот поступок был, к сожалению, до известной степени осквернен беспутным пьянством взрослых жителей этой деревни (да и по всей округе они не лучше), не по-христиански приверженных к земным радостям. Силу, которая повлекла юношу ночью на колокольню, помогла ему в одиночку раскачать большой колокол и извлечь из него такие удивительно прекрасные звуки, я хотел бы назвать spiritus sanctus — святым духом веры. Эта сила содействовала также тому, что очень много грешных жителей этой деревни нашли сегодня дорогу в дом господень.
Церковь в самом деле была переполнена, поскольку разнесся слух, что пастор Брайтхаупт объяснит чудо колокольного звона в ночи.
Мартин Грамбауэр снова на протяжении четырех недель стал героем Куммерова. Пастор Брайтхаупт напечатал в окружной газете, приписав это, так сказать, своему педагогическому таланту, что пятнадцатилетний юноша только благодаря вдохновенной силе веры сумел в одиночку раскачать самый большой в округе церковный колокол.
Пока все же не обнаружилась правда. А именно, что это, как выразился кантор Каннегисер, был вовсе не spiritus sanctus, а совсем не святой, вульгарный спирт. Пастор, кантор, папаша Грамбауэр и сельский староста вели между собой бурный спор, в котором так и сыпались такие выражения, как поношение, осквернение, поступок есть поступок, добрая воля — это добрая воля. Пока Готлиб Грамбауэр не сказал пастору, грозившему сообщить обо всем в городскую школу, где учился Мартин:
— Господин пастор, вы сильный мужчина, можете ли вы один раскачать во славу господа нашего большой куммеровский колокол? Ну, вот видите! А парнишка смог это сделать. И откуда у него взялись силы, от вашего spiritus sanctus или же от картофельного самогону трактирщика Шмидта, — безразлично. Важно, что парень по собственному побуждению звонил в колокол во славу господню! В церковь благодаря этому пришло много народу, и у вас получилась замечательная новогодняя проповедь. Повлияло это или не повлияло? Ответьте мне, пожалуйста!
Вместе с четырехнедельной славой благочестия Мартина Грамбауэра рухнула также и его слава искусного звонаря. Настолько, что он даже не приехал домой на пасху — так ему было стыдно. Куммеровские крестьяне, правда, еще некоторое время хвастались поступком Мартина и его силой, но только потому, что это оправдывало их мнение о благотворном воздействии хорошего пунша.
На троицын день Мартин Грамбауэр, однако, приехал. Маленький и жалкий. В городе и в школе тоже обо всем стало известно, и за опьянением славой последовало тяжелое похмелье. Кантор Каннегисер пригласил Мартина к себе. Он, как всегда, благожелательно улыбался своему бывшему любимому ученику, слушая с трудом дающийся тому рассказ, и сказал:
— Ты говоришь, тебя позвали в ту ночь колокола славы? Мой дорогой мальчик, для того чтобы извлечь мораль из твоего рассказа, как полагается в немецкой литературе, я хотел бы к нему кое-что присовокупить. Видишь ли, колокола славы, даже в более серьезных случаях, не сохраняют своей ценности надолго, прежде всего они не имеют всеобщего звучания. Что кажется кому-то колоколами славы, воспринимается его коллегами большей частью как набатный звон. Завистливые люди яростно нападают на прославившегося и бывают снова счастливы лишь тогда, когда из их набатного колокола и его колокола славы возникнет похоронный звон. И поскольку так ведется в жизни, покуда человек остается несовершенным, представляя собой смесь духовного и материального начала, я говорю тебе, для необычного поступка безразлично, откуда у человека взялись силы, чтобы совершить его: вызван ли его творческий порыв воодушевлением или хорошим глотком вина. Эта история должна научить тебя только одному: не будь тщеславным! Тебе захотелось тогда звонить в колокол, только чтобы похвастаться. Поэтому ты потерпел крушение. Не обычные поступки, а именно те, которые человек совершает во имя высокой цели, потому что должен их совершить, такие поступки поют ему славу сами. И наиболее громко, неподдельно и долго они звучат тогда, когда человек их даже не слышит, потому что не хочет слышать. Вот так-то. И приходи-ка сегодня вечером, я приготовлю хорошую жженку! От нее не бывает никакого похмелья. К тому же мы снова почитаем немного стихи Гердера. — Он подмигнул Мартину. — Может быть, стихотворение о славе, где говорится:
Блажен, кого всеобщий глас Прославит от души. Но мне милей, кто всякий час Творит добро в тиши. Вдвойне заслугам честь моим, Коль сам остался я незрим[17]МОЛОТ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИМ РАБОТАЛИ
Клеббовский бык Страницы деревенской хроники
I
Они убирают хлеб на полях, убирают косой, как прежде, как тридцать, как сорок лет назад. Самая прекрасная из всех мужских работ, потому что ведь это широкий взмах косы движет телом, а не тело движет косою. Потому что после ритмичных полукруглых взмахов остается на поле волнистая гирлянда и зерно, падающее на сталь косы, издает чудесное, стройное звучание. Звуки словно становятся зримыми, и надо всем этим — трепещущее сияние летнего солнца. Великолепнейшая мирная симфония.
У леска неподалеку от деревни играют дети, которые еще ничем не могут помочь в поле. За стволами ярко освещенной сосновой рощи исчезает цепочка мальчишек; если вглядеться попристальнее, увидишь, что они маршируют и держат на плечах палки, а если получше прислушаться, то услышишь, что поют они нечто маршеобразное, отдающее тысяча девятьсот четырнадцатым, если не тысяча девятьсот тридцать девятым годом.
И девочки тоже играют и поют как прежде, игра в салочки и в прятки остается неизменной.
Ты, да я, да мы с тобой Пошли в Клеббов за едой. Двадцать там стоят домов, Двести там мычат коров, И на двадцать едоков Двадцать там окороков. Все съедают до костей. Выходи-ка поскорей.И ни один чужеродный звук больше не вторгается сюда, маленькие дочки переселенцев уже нашли дорогу домой. Должно быть, у них совсем другие ощущения возникали при словах «двадцать окороков», нежели у девочек из старых деревенских семей. Но девочки вообще ни о чем не думают во время игры, они просто играют в жизнь. Да и мальчишки ни о чем не думают, когда маршируют, они просто играют в смерть. И Генрих Грауманн тоже ни о чем не думает, глядя на них. Единственно, чтобы позлить взрослых, он играет с детишками в жизнь и в смерть.
Генрих Грауманн — крестьянин, лет шестидесяти, громадный, грузный, с сутулой спиной, но с широкими, крепкими плечами. Темные волосы гладкими прядями свисают с его большущей головы, массивный нос без углубления переходит в лоб и разделяет два прищуренных глаза, странно далеко отстоящих друг от друга. Лицо его в любой день недели выглядит так, словно он уже восемь дней не брился. И в воскресенье тоже. Как ему это удастся — его тайна. При ходьбе он старается держаться твердо, прямо и тем самым скрыть, что слегка волочит правую ногу. И при этом он убежден, что никто не смеет смотреть на его ноги, и вдобавок убежден, что все люди, и особенно все не деревенские, смотрят только на его ноги. Случалось, в гостинице или на улице он начинал орать на кого-нибудь из приезжих:
— Что вы там себе думаете — неправда! Если бы мне эти проклятущие гиммлеровские псы не прострелили ногу, я мог бы точно так же скакать, как вы! Я вот скоро на себя табличку повешу и там все это напишу!
А когда испуганные люди останавливались и взглядами пытались что-то объяснить или извиниться, то, как правило, получали еще резкую, язвительную добавку: «Лучше уж ногу увечную иметь, чем голову!» Но все же крестьянин Генрих Грауманн из деревни Клеббов не столь опасен, как юнкер Сирано де Бержерак, хотя сплин у него, пожалуй, посильнее даже, чем у гасконца, у которого всему причиной был только нос. И если кто-то из обруганных спрашивал об этом грубияне, например, у хозяина гостиницы, у бургомистра или просто у школьника, то в ответ всегда немедленно следовало одно и то же: «Этот? Как, вы его не знаете? Да его вся округа знает! Это же Клеббовский Бык!»
Они говорили об этом как о чем-то само собой разумеющемся, и в таком ответе сквозило даже нечто вроде гордости. А история крестьянина Генриха Грауманна — это история его деревни, в известной мере это даже история всех деревень, а он — всем крестьянам крестьянин. «Его никому не обуздать, — говорили в деревне. — Весь в отца!» Что ж, в конце концов, у людей почти всегда все начинается с отцов, даже если это не всегда так явственно, как в случае с Клеббовским Быком.
II
Отец Генриха Грауманна получил от своего отца маленький участок — жалких десять моргенов земли. Три поколения за сто лет сумели увеличить его с четырех моргенов первоначально до десяти, ибо вся земля кругом принадлежала государству. Они были прилежными, эти бедные крестьяне, прилежными, скупыми и жадными до наживы. Крестьянами в общепринятом в этих краях смысле слова они, собственно говоря, не были. Крестьяне должны были иметь самое меньшее шестьдесят моргенов и четыре лошади; далее шли двухлошадники, потом бедняки с одной лошадью и голодранцы, которые за неимением лошади пахали на коровах. Впрочем, это можно считать достижением новейшего времени, так как до первой мировой войны запрягать корову в телегу или в плуг считалось величайшим позором. Уж лучше было обратиться к крестьянину, чтобы он вспахал землю, а потом отработать долг.
Итак, отец Генриха Грауманна, нынешнего Быка, был чрезвычайно дельным работником, и когда на государственных землях начали пахать на волах, он последовал этому примеру. Поначалу ему пришлось снести немало насмешек, но он их снес и продолжал жить. Поскольку он никогда не говорил о своем воле, а всегда только о быке, а разница между волом и быком для здешних жителей такая же, как между голодранцем и помещиком, то старый Грауманн вскоре получил прозвище Бык.
Так и повелось. Вол играючи справлялся с работой на десяти моргенах, и скоро еще несколько голодранцев завели себе волов. У них у всех было по нескольку моргенов арендованной земли, некоторые уже столетиями арендовали один и тот же участок от десяти до двадцати моргенов. Главные арендаторы государственных земель менялись, но почти все они с уважением относились к традиции сдавать в аренду крестьянам несколько сот моргенов земли, иначе тем пришлось бы голодать.
Пока не явился один главный арендатор, который все это порушил. Каждый год крестьяне пытались опередить друг друга с арендой. Стоило появиться новому главному арендатору, как они целыми днями околачивались вокруг помещичьего дома, чтобы улучить момент и переговорить с новым хозяином наедине, старательно выказывая свою преданность и, как правило, не забывая при этом привести то или иное крамольное высказывание соседа. Об этих методах всем было известно, но тем не менее это. не считалось очень уж зазорным. Потребность в земле была общей и извиняла в их глазах все.
С новым главным арендатором все уловки, казалось, были напрасны, так или иначе, но большинство голодранцев оставалось без аренды. Такого уже столетиями не бывало. А тут одним махом вся орава наглых чудаков и упрямцев объединилась, создала даже нечто вроде боевого содружества, кто-то обронил страшное слово «революция», а старший Грауманн, по имени Христиан, стал их вождем. Сперва они подали весьма вежливое прошение его высокородию господину главному арендатору, хотя в прошениях называли его просто капитаном. Два первых послания им писал старый учитель. Не получив на них ответа, они хотели выступить с требованиями. Но учитель писать такое отказался, и тогда они поручили это старому Грауманну. Для пущей ясности Христиан Грауманн все требования сдобрил угрозами. Главный арендатор через своего инспектора передал им, что пусть, мол, они поцелуют его в… Этого они не сделали, а обратились к ландрату, а потом и в правительство. Когда же и эта мера не принесла успеха, они сделали нечто неслыханное, по их мнению, истинно революционное: все как один вышли из рядов воинского союза. А главный арендатор, как капитан запаса, был председателем этого союза.
Акция мелких крестьян-арендаторов из деревни Клеббов была вовсе не такой уж комичной, как может показаться сегодня. Надо знать, какую роль в жизни наших деревень играли эти воинские союзы: отношение деревенских жителей к воинскому союзу расценивалось тогда точно так же, как их отношение к христианству. Церковь и цейхгауз были для них одинаково почитаемыми храмами. По их мнению, так оно было всегда, испокон веку, и так оно и должно остаться на веки вечные. В большинстве случаев замки тоже почитались как храмы, независимо от того, живет ли там граф Шрекенштейи или капитан Мюллер: это был дом, который требовал к себе почтительного отношения. Эти здания веками осеняли их дворы, их головы и сердца.
Выход пятнадцати мелких арендаторов из воинского союза в Клеббове произвел сенсацию в округе. Капитан и председатель союза несколько струхнул и обратился с разъяснениями в Берлин, но получил оттуда только выговор. И все-таки он не сдался, ни один из вышедших из союза крестьян не получил от него земли в аренду, они, мол, своим поведением доказали, (что они социал-демократы. Это было напечатано в окружной газете. Так что господа в Берлине должны были одобрить его позицию.
И тогда крестьяне сделали то, что посоветовал им Шиллер в «Вильгельме Телле», хотя они наверняка ничего не знали ни о Шиллере, ни о Вильгельме Телле: «Когда безбожно попраны права…» и так далее. Несколько человек подкараулили ночью главного арендатора и избили его, он вызвал полицию и жандармов. Они явились вооруженные, но все было спокойно, так что в конце концов пришлось их отправить восвояси, и тут же его опять избили. Главный арендатор теперь по вечерам не мог шагу ступить один, а когда он взял однажды с собою своего сына и инспектора, то этих тоже избили вместе с ним. Тогда он взял с собою пистолет. В ту ночь в деревне слышны были выстрелы, но и крики и вопли тоже были громче обычного: раздраженные стрельбой крестьяне действовали еще жестче, и капитан вынужден был восемь дней просидеть дома: он стеснялся повязки на голове, да и хромоты тоже.
Такое поведение крестьян было непривычным по тогдашним временам и повсюду осуждалось, и в окружной газете, и в деревнях, людьми, которым не было надобности арендовать землю. Но успеха они добились. Так или иначе, а большинство голодранцев через некоторое время снова получили в аренду ту землю, которую арендовали прежде, разумеется, всем им пришлось вновь вступить в воинский союз. Всем, кроме Христиана Грауманна, получившего шесть месяцев тюрьмы: кто-то донес, что он был и зачинщиком избиений и главным действующим лицом, а после этого его не принимали в союз уже как человека, имеющего судимость. Но зато он не выдал никого из товарищей, хотя они, пока он сидел, даже не вспахали его землю из страха перед главным арендатором.
У избитого главного арендатора и председателя воинского союза Мюллера был сын, лейтенант запаса, кирасир. Для мещанина это большая честь, и главный арендатор весьма этим гордился. А папаша Грауманн служил всего-навсего в артиллерии и дослужился только, до унтер-офицера. Но в воинском союзе он занимал должность заместителя председателя. Заместителя согласно традиции всегда выбирали крестьяне. Чтобы их наказать, главный арендатор решил поломать и эту традицию и, учтя голоса своих батраков, добился, чтобы заместителем выбрали его сына. Крестьяне, правда, ворчали и сопротивлялись, но потом сдались: ведь земля-то важнее. К тому же молодой Мюллер как-никак был кирасиром. Папаша Грауманн ругал их за это на чем свет стоит, и в деревне стали поговаривать, что он и вправду заделался социал-демократом. То ли он хотел, чтобы его патриотические чувства не подвергались больше сомнению, то ли просто хотел насолить главному арендатору, заодно с его сыном, лейтенантом кирасир, во всяком случае он сделал все, чтобы его сын Генрих, став военнообязанным, затмил арендаторского сынка. Подумать только, жалкий голодранец с десятью моргенами земли решается на военную демонстрацию против главного арендатора с четырьмя тысячами моргенов! Вся деревня была в высшей степени этим заинтересована.
III
Надо сказать, что у людей в наших деревнях были свои собственные табели о рангах. Дело тут не просто в ступеньках социальной лестницы: помещик, главный арендатор, крестьянин, двухлошадник, бедняк, ремесленник, голодранец, конюх, батрак — нет, все было перепутано, смещено, в зависимости от того, в каких частях ты служил. Помещики, арендаторы, крестьяне и двух-лошадники представляли собой консервативный элемент, к ним из политических соображений примыкали также батраки и поденщики. Более прогрессивными считались ремесленники, учитель, лавочник. Голодранцы и безземельные, которые едва сводили концы с концами, всегда относились к недовольным, к, так сказать, бунтовщикам. Однако былая принадлежность к тому или иному роду войск вносила свои поправки в эту общественно-политическую структуру. Вполне могло быть, что поденщик, некогда бывший гусаром, пользовался большим уважением, нежели никогда не служивший двухлошадник. В самом низу этой табели о рангах стояли служившие в обозе, ступенькой выше — пехотинцы, «серые гусары»; затем шли саперы и артиллеристы, причем конная артиллерия ценилась выше, чем тяжелая. За ними следовали драгуны, гусары и много-много выше — уланы. И наконец — кирасиры. Да, и уже на самом верху, недосягаемо для масс — лейб-гвардейцы. Поскольку их во всей Германии был только один-единственный полк.
Итак, старый Христиан Грауманн вознамерился определить сына на службу в лейб-гвардию в Потсдам. Да и парень был что надо; высокий и могучий, как Ахилл. Но как попасть в Потсдам? Крестьяне со всей Германий собираются там с прошениями за сыновей-добровольцев. Когда все ходатайства и попытки берлинской родни оказались тщетными, Христиан Грауманн сам поехал в Потсдам. Три дня он там рыскал, канцелярия была завалена его пакетами с ветчиной, колбасой и салом, но безуспешно. Он вернулся в Клеббов, рассорился с сыном, ни за что ни про что поколотил его, взял в сберегательной кассе пять новехоньких золотых двадцатимарковых монет и снова поехал в Потсдам, на сей раз с сыном, и имел там очень убедительную беседу с вахмистром из канцелярии. Уезжая в тот раз из Потсдама, он довольно ухмылялся: парня все-таки приняли в лейб-гвардию.
То был прекраснейший день в его жизни, когда сын Генрих впервые приехал в отпуск и он мог пойти с ним вместе в церковь. Вся деревня лопалась от восторга и зависти. Еще бы, такой огромный парень в белой парадной форме (он привез с собой даже цинковую ванну), в кирасе, с лоэнгриновским шлемом на голове, в руке, обтянутой длинной белой перчаткой с отворотом, — палаш. Больше всего старику хотелось бы видеть, как он подъезжает к церкви верхом на коне. Но у папаши Грауманна не было коня.
У добровольца Генриха лошадь, конечно же, была, и даже своя собственная. Так было принято в лейб-гвардии, что юный доброволец, вступая в ее ряды, должен иметь лошадь, прусские милитаристы умели считать. У Грауманна на это действительно не было средств. Но тут сказалась крестьянская гордость жителей Клеббова. Во-первых, чтобы позлить главного арендатора и его сыночка, а во-вторых, чтобы утереть нос другим деревням, они решили сообща купить лошадь для молодого Грауманна. По окончании срока службы они намеревались также сообща этой лошадью пользоваться. Когда молодой Грауманн первый раз приехал в отпуск и пошел в церковь, вся деревня с почтением следовала за ним по пятам. Как будто кайзер Вильгельм собственной персоной прибыл в Клеббов. И все это чтобы позлить главного арендатора и затмить его сыночка.
Тот со своей стороны тоже доставил им удовольствие и здорово озлился. Он произнес на заседании воинского союза гнусную клеветническую речь о сумасшедшем голодранце, ворчал что-то насчет мании величия у местных крестьян и насчет «красных братьев» и даже настрочил в полк донос о том, что якобы папаша Грауманн и его сын — социалисты. Но крестьяне ему все испортили — ведь молодой солдат был гордостью всей деревни, потому что за последние десять лет ни один крестьянский сын не был принят в лейб-гвардию. Они снова взбунтовались и решительно пригрозили, что снова выйдут из воинского союза. На сей раз не только мелкие арендаторы, но и все другие крестьяне. Кроме того, они написали в Потсдам командиру полка. Грауманн-младший без помех пробыл в Потсдаме три года.
Ах да, лошадь! Рассказывают, что каждый месяц кто-нибудь из крестьян ездил в Потсдам проверять, жива ли она и годна ли еще для работы. Пожалуй, это уж чересчур, но кое-что здесь соответствует действительности. К чести жителей Клеббова следует сказать, что они по очереди посылали своему лейб-гвардейцу пакеты с едой, так что у его товарищей и унтер-офицеров сложилось весьма лестное представление о деревне Клеббов.
Генрих Грауманн вернулся в родную деревню ефрейтором. Вместе с лошадью. В трактире был устроен настоящий праздник, затем еще один — в воинском союзе. Хотя господин председатель всячески этому противился и сказался больным, так же как и его сын. А вот дальше с лошадью вышли неприятности. Само собой разумеется, что молодого Грауманна сразу же единогласно приняли в воинский союз. Но его предложение предоставить ему заодно и пост заместителя председателя не имело успеха, на его пути все еще стоял лейтенант кирасир. Но зато в союз опять был принят папаша Грауманн. Он, правда, отказался вернуться, пока пост председателя занимает главный арендатор, и внес предложение вместо него принять в союз лошадь своего сына. Она стояла в конюшне папаши Грауманна, но принадлежала общине, и они не были бы клеббовскими жителями, если бы не высчитали, что старик еще должен им кое-что заплатить за пользование лошадью. И он не был бы папашей Грауманном, если бы не надумал доказать им, что старая кавалерийская лошадь не годится для полевых работ и к тому же жрет больше, чем заслуживает. В результате община продала ему эту лошадь по сходной цене, разрешив выплатить всю сумму в течение пяти лет. Затем папаша Грауманн продал перекупщику эту скотину, не желавшую таскать плуг, и при этом еще нажил сто марок. Община потребовала возмещения этих ста марок, а когда последовал отказ, затеяла судебный процесс. Процесс, на котором хорошо заработали два адвоката, закончился через год. Много было издержек, и много было вражды.
Героическая жизнь лейб-гвардейской лошади тем временем подошла к концу. Три раза пришлось ей сменить хозяина, и всякий раз ее возвращали назад за полной непригодностью. Устав от позора, она в один прекрасный день просто сдохла на пашне. Но она еще пол года продолжала жить в трех разных процессах, один из которых скототорговец Фридман возбудил в окружном городе против Христиана Грауманна из деревни Клеббов из-за сокрытия серьезнейших изъянов при продаже лошади, выдаваемой за рабочую. Но этот последний процесс кончился победой Христиана Грауманна, поскольку суд отклонил заявление Фридмана, что тот якобы купил эту лошадь в качестве рабочей, как недостоверное, поскольку в округе все знали историю этой лошади.
Старику Грауманну довелось еще дожить до того дня, когда крестьяне вновь настояли на своем праве выдвинуть из своих рядов заместителя председателя воинского союза и на эту должность был избран Генрих Грауманн. На радостях старик заказал увеличенные и красиво раскрашенные фотографии своего сына в парадной форме лейб-гвардейца, а потом пожертвовал под них целую стену в чистой горнице. Русский красный угол с иконами не мог бы быть убран с большим благоговением. Стена была торжественно освящена, весь воинский союз при этом присутствовал, учитель заставил детей петь, а вечером в трактире пиво лилось рекой. Семейство Грауманн снова вырвалось вперед. И клеббовские юнцы после перебранок и драк с парнями из соседних деревень хвастались: «Эй вы, вонючки несчастные, у нас в Клеббове один даже в лейб-гвардии служил!»
Довольный, как Иов на склоне дней, старик Грауманн отдал концы. Ему довелось еще пережить провал главного арендатора Мюллера, который не сумел возобновить аренду на государственную землю. Господину капитану пришлось вместе со своим сыночком, лейтенантом-кирасиром, выметаться отсюда. Грауманнам же, наоборот, удалось получить в аренду свой прежний участок, и Генрих смог жениться на дочери зажиточного крестьянина из соседней деревни, которая принесла ему в приданое десять моргенов хорошей пахотной земли и лошадь. И все только потому, что он служил в лейб-гвардии. Когда же Генрих Грауманн купил еще одну лошадь, он стал двухлошадником, и его назначили даже общинным заседателем. Он был остроумнее своего отца, от которого унаследовал прозвище Бык. Чтобы оправдать это прозвище, он завел себе племенного быка, который был признан общинным быком. Но у него были далеко идущие планы, и имя им — земля!
IV
Началась первая мировая война, и Генрих Грауманн стал солдатом. За неделю до призыва он произнес громовую речь о кавалерийских сражениях и о том, как следует на полном скаку изничтожать французов. Он был в. кирасе, в высоком шлеме, с громадным палашом в руке. «Полк лейб-гвардии с гордостью может называть себя единственным!» — так было написано под портретом в чистой горнице.
Но карьера героя не состоялась, Генрих кончил так же плачевно, как и его лошадь. Он, конечно, явился в свой полк и вместе с ним выступил в поход, правда, не в белой лоэнгриновской форме, а в защитной, но все же в составе лейб-гвардии. Однако спустя три месяца кавалерия была признана непригодной на полях сражений и распущена, и Генрих Грауманн перешел в пехоту. Он писал домой гневные письма, и, даже когда война кончилась, Генрих Грауманн не прекратил своих поношений. Революция тысяча девятьсот восемнадцатого года — о, это была, по его словам, божья кара, возмездие жалкому военному руководству, распустившему кавалерийский полк — и какой полк — и превратившему такого кавалериста, как Генрих Грауманн, в пехотинца и землекопа. Злопамятный Генрих Грауманн махнул рукой на развалившуюся империю и поднял над деревней красный флаг. Нет, он не поднял красный флаг рабочей партии, нет, он поднял флаг, так сказать, внутренне, в душе. А когда потом красные рабочие-прядильщики из соседнего города явились в деревню агитировать за свои партии, Генрих Гpayманн не примкнул к ним, но принудил общинный совет предоставить им для собраний деревенский трактир. И там вместе с рабочими выдвинул требование: земля — крестьянам!
Жена, дети, родители, родина, монархия — все это для крестьянина из наших мест были отвлеченные понятия; реальные очертания они приобретали только если были связаны с землей. Вероятно, потому, что уже столетиями им не хватало земли, чтобы жить. При любой политической перемене они рассчитывали, что им дадут землю, и всякий раз им приходилось разочаровываться. Но теперь старая власть рухнула, никаких тебе больше королей божьей милостью, и хотя на первых порах для крестьян это было непостижимо и все их чувства этому противились — как это вместо кайзера править Германией будет какой-то шорник, — но надежда через него получить землю заставила их последовать совету Генриха Грауманна и голосовать за красных. «Вы же видите, — говорил он, — солдаты пропустили к нам красных[18]. Значит, среди них нет предателей родины. А что папаша Гинденбург? Он непобедим на поле брани».
Земли им не дали. И деревенские бунтовщики снова собрались в воинском союзе и объявили Генриху Грауманну бойкот, за то что он соблазнил их голосовать за красных. А когда старик Гинденбург стал президентом, они послали в Берлин верноподданническую телеграмму. И Генрих Грауманн тоже спустил свой мятежный флаг. И водрузил новый: упаковал большой свой портрет, один из трех с подписью «Воспоминания о годах моей службы», и поехал в Берлин к Гинденбургу. Старик, конечно, не принял крестьянина, но, видимо, отделаться от него было не так-то просто, поскольку Генрих Грауманн вернулся в Клеббов и привез с собою письмо к ландрату из какого-то высокого учреждения, с требованием доложить о состоянии арендных дел в деревне Клеббов.
Новый, и, как он сам себя называл, «прогрессивный», главный арендатор установил с Генрихом Грауманном добрые отношения. Крестьяне откликнулись на это тем, что предложили избрать Генриха Грауманна почетным членом «Союза Фридриха Барбароссы», так теперь назывался воинский союз. Им было совершенно ясно, что Гинденбург, бывший верховным председателем «Союза Фридриха Барбароссы», дал аудиенцию Генриху. Само собой разумеется, что Генрих ничего не предпринял, чтобы разубедить их. Он любил говаривать: «Да-да, мы — старые солдаты, мы понимаем друг друга!» Он сумел добиться, чтобы главный арендатор сдал в аренду крестьянам гораздо больше земли, чем прежде. Но его честолюбивые устремления были куда выше: он требовал передачи в аренду крестьянам всего имения!
И опять жители Клеббова несколько дней пребывали в ошеломлении, а потом объявили Клеббовского Быка народным героем. Все, кроме поденщиков, которые были против раздачи земель — они хотели сохранить свои рабочие места, а к собственному хозяйству не стремились. Но поскольку прусское правительство из четырех тысяч моргенов только четыреста выделило для сдачи в аренду крестьянам, да и этого-то удалось добиться только через акционерное общество по строительству поселков, авторитет Генриха Грауманна опять был подорван. Государства, впрочем, тоже. И Гинденбурга. Генрих Грауманн спустил черно-красно-золотой флаг своих демократических убеждений и теперь уж действительно стал Клеббовским Быком. Причин для этого было предостаточно: акционерное общество по строительству поселков, в котором прусскому правительству (или только некоторым его чиновникам) принадлежала часть акций, скупило обремененные долгами поместья и в соответствии с предписанием разбило эту землю на мелкие участки для малоземельных крестьян и переселенцев. Твердая цена не была установлена, и они брали за морген пятьсот марок. У крестьян глаза из орбит повылезли. Ведь их земельный голод так велик, а земля — вот она. Но где взять денег? Правда, общество пока довольствовалось первым взносом и даже отсрочивало второй, сохраняя за собой только право преимущественной покупки. Так что вскоре крестьяне и голодранцы вместе горевали по поводу неумеренно высоких процентов. Они опять остались ни с чем.
И опять проснулся Бык. Он организовал земельное товарищество. Поначалу оно бомбардировало акционерное общество прошениями, а потом провело процентную забастовку. Однако, когда дело дошло до описи имущества должников, они сдались и снова, в который уж раз, покинули своего Генриха Грауманна. Он, единственный в деревне, продолжал забастовку, и в конце концов его новоприобретенную землю все-таки описали. За оскорбление господ из акционерного общества он был приговорен к месяцу тюремного заключения. Он называл их ворами, обманщиками и спекулянтами и даже намеревался представить суду доказательства своей правоты. Но суд этого не допустил.
Однако это было еще не все. В годы инфляции и плана Дауэса деревни были наводнены агентами заводов, выпускающих сельскохозяйственные машины; эти машины предлагались в кредит, и притом долгосрочный. Хотя у крестьян впервые были деньги, они все-таки вовсю пользовались этим кредитом. Непременно хотели быть хитрее всех. Потом произошла денежная реформа, повышение ценности ипотек, расторжение кредитных договоров, великий крах. Машины в большинстве случаев были слишком громоздкими для эксплуатации. Генрих Грауманн предлагал купить еще более крупные жатки и молотилки для работы на землях товарищества. Тогда его объявили сумасшедшим. Или коммунистом. А сейчас, в нужде, они опять к нему кинулись, и он опять стал во главе их. Но и он ничего не смог добиться, кроме судебного приговора и уплаты издержек. В состоянии вражды с деревней и с Веймарской республикой Генрих Грауманн думал о будущем. Для начала он вышел из «Союза Фридриха Барбароссы», чтобы задеть старика Гинденбурга, так он сказал. «Мы оба были непобедимы на поле брани, а дома они одного из нас согнули в бараний рог, но его имя не Генрих Грауманн».
V
Веймарская республика приказала долго жить, к власти пришел Гитлер. То есть еще до того, как он пришел к власти, в деревню явились его гонцы и многих крестьян поймали в свои сети. Потому что с приходом к власти Гитлера, так они говорили, земля наконец перейдет к крестьянам. Итак, Генрих Грауманн был за Гитлера, но поскольку он когда-то призывал крестьян объединиться с красными рабочими-прядильщиками, то не очень-то лез вон из кожи. От него все отвернулись. Но так как он все еще вел Кольхаасову войну против акционерного общества по строительству поселков, то окружной крестьянский фюрер попытался, что называется, с черного хода протащить его в партию или хотя бы в СА. «Если я получу землю, можно будет об этом поговорить», — отвечал Генрих. Земли он не получил. И флага со свастикой не вывесил. Если он не вывесит флаг, то не сможет остаться заседателем, сказал окружной фюрер. Тогда Генрих швырнул им все регалии заседателя. А так как он, кроме того, заявил, что не нуждается ни в каком новом союзе, и они в этом усмотрели поношение своей партии, то уже наутро он прослыл политически неблагонадежным. Местный фюрер лишил его преимуществ при доставке удобрений и соломы и вытянул из него жилы с посевным планом. Они все из-под полы торговали тем, чем не имели права торговать, поскольку их тем временем всех насильственно включили в сельскохозяйственное товарищество. Никому не удалось отвертеться. Генриха Грауманна уличили в продаже пятидесяти центнеров моркови и тридцати центнеров лука и приговорили к уплате тысячи марок штрафа. О получении земли теперь нечего было и думать. И тут уж весь блеск третьего рейха окончательно померк для Генриха Грауманна.
С этого момента он стал произносить чертовски неосторожные речи, а поскольку он еще верил, что большие львы вправе немного пощекотать своих скорее смахивающих на домашних кошек окружных и местных сородичей, то он нарек Гитлером общинного быка, которого до сих пор держал у себя. Генрих и его Гитлер — это кое-что значило для деревенского люда. Вся округа хохотала над этой шуткой, и если иной раз им хотелось обругать настоящего Гитлера, то, чтобы не рисковать, они адресовали свою ругань Генрихову быку. К великому возмущению местного фюрера и других надутых индюков. Но и им тоже нужен был бык.
Почти каждый день со двора Генриха Грауманна доносился могучий рев, и всякий раз, когда кто-то приходил к нему с коровой, оттуда слышалась крепкая ругань и громовой голос Генриха разносился над деревней: «Ну погоди у меня, Гитлер, мы из тебя повыбьем дурь!», «Эй ты, падаль, думаешь, если тебя Гитлером звать, так тебе уж и слушаться не надо?!» А однажды, когда бык ревел не переставая, раздался вдруг еще более громкий рев Генриха: «Ах ты, проклятый Гитлер, если сейчас не заткнешься, получишь по башке за то, что нашего местного фюрера принимаешь за имперского егермейстера!» Местный крестьянский фюрер и бургомистр, двухлошадник и никудышный хозяин, в новом своем качестве всегда и всюду появлялся в высоких сапогах и маленькой шляпе с перышком, похожим на помазок, точь-в-точь главный арендатор, вдобавок, помешавшись на представительстве, он арендовал у общины охотничьи угодья.
И вот добрый Генрих попался. На него поступил донос, что он оскорблял фюрера, и его арестовали. Через неделю Генриха выпустили, но дело его было плохо. Только сам Генрих так не считал. Он придумал, как ему защищаться, и был убежден, что они ничего доказать не сумеют.
На заседание суда явилась вся деревня, это был настоящий народный праздник. Адвокат Генриха доказывал, что многие народы, дабы почтить своих великих мужей, нарекают их именами домашних животных. В Англии лошадей называют Кромвель и Нельсон, во Франции и лошадей и собак зовут Наполеон и Людовик, в Германии собак тоже кличут Телль, и Гектор, и Шилль. И в полку лейб-гвардии лошадь солдата Генриха Грауманна звалась Бисмарк. Все это свидетельствует о том, что, называя быка Гитлером, подсудимый тоже руководствовался патриотическими мотивами.
Генрих весь сиял во время этой речи и кивал односельчанам. Она, казалось, произвела впечатление, потому что судьи не раз прятали ухмылку: ведь был еще только тысяча девятьсот тридцать пятый год. Но потом Генрих сам себе все испортил своим последним словом. Он слишком явно играл роль глупого, недалекого деревенщины и в конце концов забыл всякую осторожность, а одобрение зрительного зала еще больше подхлестывало его.
— Господа, как же так, почему это считается оскорблением? Моего коня звали Бисмарк, а коня моего унтер-офицера звали Фриц. Ну ладно. Я вот читал в одной газете, что в Италии, на аукционе племенного скота был осел по кличке Гарибальди, за него дали самую высокую цену, а ведь Гарибальди для итальянцев вроде нашего Бисмарка. И это осел, господа!
Председатель счел необходимым заметить, что в Италии ослы играют совсем другую роль, нежели в Германии, там к ним относятся с уважением, как у нас к лошадям.
— Все это прекрасно, господин судья, — согласился Генрих, — а как насчет волов, а? Объясните мне, будьте добры!
Судья не сразу нашелся, что ответить, и Генрих продолжал:
— В Италии, это я тоже читал, один тип своего вола назвал Дуче. Потому что очень уж им гордился. И Муссолини нисколько не обиделся, совсем даже наоборот, он счел это за честь. А ведь он же своего рода идейный брат нашего любимого фюрера, разве нет? Но ежели в Италии это почитается за честь, значит, господа хорошие, и со словом «фашист» все обстоит по-разному. Я считаю, что там, в Италии, фашист — государственный человек, а здесь, у нас, выходит, фашист — это скорее босяк! Так что, если бы я именем нашего любимого фюрера вола назвал, ну, тогда… Но ведь это же бык, господин судья!
Судья, казалось, на минуту заколебался. Но тут громко и отчетливо откашлялся окружной фюрер, и судья снова вернулся к своим обязанностям.
— Итак, — произнес он иронически, — вы утверждаете, что хотели почтить фюрера, называя его именем своего быка?
— Ну разумеется, господин судья, он ведь очень благородных кровей, мой бык. Спросите хоть его! — Он указал на окружного фюрера. — У этого быка, доложу я вам, такое телосложение… вы такого арийца и не видывали!
— Но как же тогда получается, что вы столь благородное животное, которому к тому же вы хотели оказать честь, ругаете последними словами и бог знает чем ему грозите, как утверждают свидетели? — Председатель полистал дело. — «Ах ты, сволочь проклятая, чертова падаль, если ты не заткнешься…» и так далее. Как же так? — Судья думал, что припер его к стенке.
Однако Генрих патетически всплеснул руками, проникновенным взглядом посмотрел на судью и, обращаясь к публике, произнес:
— Ну надо же!
Судья прищурился.
— Вам не хватает слов, да? Вам отказывает ваша наглость, да?
Генрих покачал головой, а потом повернулся к своему адвокату:
— Разве ж это возможно? Чтобы судья, и такое говорил про нашего фюрера? Меня прямо в жар бросило, как я услыхал, что бывают люди, которые думают, что бывают люди, которые нашего фюрера считают собакой, или падалью, или сволочью, которой надо поскорей заткнуться! И судья, собственной персоной, тоже считает, что это возможно!
Вот тут судья по-настоящему разозлился.
— Вы наглый тип, вы корчите тут из себя простодушного крестьянина, а на самом деле вы пройдоха. Вы переиначиваете мои слова и хотите еще, чтобы мы вам верили! Вы, мол, хотели почтить фюрера!
— Хотел, конечно, хотел! Ведь у меня бык экстракласса. И ему в самый раз подходит высочайшее имя! А одного из его потомства я хотел назвать Германом. Вот, пожалуйста, я все откровенно сказал. Так что теперь вы можете удостоверить мою невиновность.
Тут судья вынужден был опять улыбнуться, тем более что публика покатилась со смеху.
— Значит, вы намеревались мало-помалу охватить все правительство вашими бычьими отпрысками, да? За Герингом последуют, видимо, Фрик, Дарре, Геббельс…
Веселье в зале заставило Генриха Грауманна совершить безумную неосторожность. Он громко рассмеялся и заявил:
— Нет, этот не пойдет!
— Кто не пойдет?
— Да Геббельс же!
— Почему? — настороженно осведомился судья.
Но Генрих Грауманн уже вошел в раж:
— Потому что мамаша Грибш это имя для себя зарезервировала!
Тут уж стены зала буквально задрожали от хохота. Наконец удивленному судье удалось выяснить, в чем дело с мамашей Грибш: оказалось, она держала у себя общинного козла.
После того как местный фюрер, национальная гордость которого была уязвлена, засвидетельствовал этот факт, веселому судебному заседанию пришел конец. Тут уж все пошло всерьез, и окружному фюреру больше не было нужды давать свидетельские показания о поведении подсудимого, и адвокат мог уже не углубляться в семейную историю Грауманнов: Генриха Грауманна приговорили к двум годам тюрьмы. Случись это несколько лет спустя, он бы так дешево не отделался.
Но если они полагали, что теперь-то уж с ним покончено, то они очень ошибались, это он разделался с гитлеровским рейхом. Для деревенских наци (партайгеноссе) он стал позорным пятном, и уже окончательно.
Тотчас же после процесса они лишили его права держать у себя общинного быка. От имени кормящего сословия империи. А это значило, что он больше не считается политически и морально благонадежным. Быка Гитлера, пока Генрих отбывал наказание, официально оценили и сумму записали на кредит Генриха Грауманна. Разумеется, для него это была оплеуха. Бык перешел к местному фюреру, и на специально созванном заседании общинного совета его переименовали: он получил имя Генрих.
Выйдя из тюрьмы, Генрих Грауманн, вопреки всеобщим ожиданиям, не затеял процесса. Он только все повторял:
— Ну погодите у меня!
Он твердил это независимо от того, вели ли они хвастливые политические разговоры или просто строили хозяйственные планы. В дискуссии он больше уже не ввязывался. Подчас бывало даже жутковато, когда этот громадный мужик выпрямлялся во весь рост, лицо его мрачнело и он, как воплощение Страшного суда, провозглашал: «Ну погодите у меня!» Но иногда в нем просыпался прежний Генрих. Он, например, отказался пользоваться общинным быком: общинный бык-де — это нечто вроде начальника, и он не может позволить такой персоне вступать в интимные отношения с членами семьи арестанта! Для этой цели он завел себе собственного быка, который должен был обслуживать его коров, и нарек быка Адольфом.
Вот так Генрих Грауманн вел свою войну с третьим рейхом, и вел ее, надо сказать, небезуспешно. С этим Адольфом, к которому он теперь обращался всегда в высшей степени почтительно, Генрих сумел опять привлечь на свою сторону многих односельчан. Если его предупреждали, чтобы он не рисковал опять из-за быка, он с улыбкой показывал пачку писем, которыми обменивался с окружным фюрером. Из этих писем он вычитал нечто вроде одобрения своих действий. Он почтительнейше спрашивал у окружного фюрера, может ли он:
а) держать быка, учитывая, что он оказался недостоин своего прежнего быка, или же он деятельностью своего быка как бы совершает осквернение расы, поскольку его бык не наследственное крестьянское имущество. И не должен ли он его ликвидировать, хотя бык у него — чистокровный ариец, чего нельзя сказать о двух коровах местного фюрера, так как они бесспорно были куплены у еврейского скототорговца Фридмана. А что касается:
б) имени нового быка, так он назвал его Адольфом. Разрешено это или запрещено? И неужели имя Адольф более значительно, чем имя Генрих, которым община назвала его первого быка? Он со своей стороны должен оспорить тот факт, что имя Адольф благороднее, нежели имя Генрих. Совсем даже наоборот, ведь Генрихом в Германии называли и королей и императоров, а Адольфом не звали ни одного даже самого захудалого маркграфа. И если такое имя для его быка недопустимо, то он просит:
в) уведомить его, дабы он переименовал быка. И так как он теперь вынужден быть бережливым, он хотел бы переписать только четыре буквы на табличке в хлеву и таким образом сделать из Адольфа Адама. Против этого имени уже нельзя возразить — ведь это имя первого человека, от которого, как гласит Библия, произошли все остальные люди, как ариец Адольф, так и еврей Авраам.
На сей раз странным образом все ограничилось лишь строгим предупреждением. Местный фюрер всем давал понять, что скоро придет время стереть с лица общины это позорное пятно, согнать Генриха с земли и передать хозяйство его старшему сыну Людвигу. Возможно, так бы и случилось, но тут Гитлер начал войну и старший сын Генриха Грауманна стал солдатом.
Они побеждали в Польше и побеждали в Дании, в Норвегии, Голландии, Бельгии и Франции, на Балканах и в Африке, и вполне во вкусе Генриха Грауманна было то, что после Данцига, Праги и Вены «историю и тут, на Востоке, привели в порядок».
— Я, видите ли, и вправду нехорошо обошелся с фюрером, но все это только потому, что между нами то и дело встревали эти чертовы чиновники. Нам бы полчаса времени — мы бы с ним друг друга поняли. О чем бы мы говорили? О солдатах! Потому как фюреру с самого начала кое-что не нравилось. И мне тоже. Фюрер никогда бы не заткнул лейб-гвардию в окопы. А уж раз он ведет для нас победоносную войну, я желаю ему победоносного мира. Германия превыше всего!
Желание победоносной войны и мира возникло не только в солдатском сердце Генриха Грауманна, нет, так же сильно было это желание и в его крестьянском сердце. Окружные власти призвали крестьян хлопотать о распределении завоеванных на востоке земель — там можно бесплатно получить надел в несколько сот моргенов. Генрих Грауманн долго колебался, не должен ли он ходатайствовать о выделе земли на Востоке для своего второго сына Фридриха и для зятя. Вспыхнувший было стыд пересилила жажда земли, но как раз в момент, когда ощущение, будто совершается нечто не слишком порядочное, было окончательно подавлено разглагольствованиями о заслуженном вознаграждении для наших героических солдат и он наконец написал просьбу о предоставлении трехсот моргенов земли в пойме Варты его сыну Фридриху, обер-фельдфебелю, отмеченному многими военными наградами, была проиграна битва за Сталинград. Просьбу пока что пришлось отложить, а Генрих Грауманн опять переменил убеждения. Правда, менял он их все-таки весьма осмотрительно. «Очень уж он зарвался» — так выразился Генрих о «своем друге и друге всех солдат» Адольфе. Но потом это размежевание пошло уже полным ходом. И ускорили его меры, принятые местным фюрером, который ни на грош не доверял Генриху и опять донес на него. А дальше настало двадцатое июля тысяча девятьсот сорок четвертого года, уже был открыт второй фронт и русские вступили на землю Германии. Немцы сотнями тысяч хлынули с востока Германии в Померанию и Мекленбург. И вот как-то вечером, когда несчастные беженцы сидели в доме у Генриха Грауманна, к супу им была подана еще одна приправа:
— Что это значит: наши солдаты не устояли? Немецкий солдат — лучший в мире! Только вот что ему делать, если он плохо вооружен, плохо кормлен и к тому же им плохо командуют, а?
Генрих Грауманн, как и большинство пожилых людей в деревне, все еще был «непобедим на поле брани».
VI
В начале апреля тысяча девятьсот сорок пятого года война докатилась и до Клеббова. Части СС установили перед деревней пушки, жерлами в сторону поля, и всех гражданских лиц вышвырнули из деревни. Красная Армия уже была у Одера. Генрих Грауманн отправил с колонной беженцев на запад двух дочерей и тещу с внуками, а сам спрятался на чердаке в хлеву: он хотел остаться в деревне. Местный фюрер и бургомистр, все еще бдительно следивший за своим врагом, выдал его СС, а поскольку Генрих категорически отказался покинуть деревню, чернорубашечники решили выдворить его силой. Штурмфюрер хотел даже не долго думая расстрелять его, так как в ответ на высказанное подозрение, что он-де, наверно, заодно с русскими, Генрих ответил:
— Так оно и есть. Только вчера получил от Сталина открытку с приказом. Мне велено следить, по какой дороге эсэсовцы собираются маршировать из Клеббова в Россию.
Так как части СС, расположенные в Клеббове, совсем недавно отступили из Курляндии в Среднюю Германию, штурмфюрер усмотрел в словах Генриха подрыв обороноспособности, выхватил пистолет и крикнул:
— К стенке, сволочь!
Тут Генрих смекнул, что дело плохо, и тоже заорал:
— Что я тут делаю? Что ж мне, родную скотину одну в деревне оставить, на голодную смерть?
— Уж о скотине-то мы позаботимся! — закричал в ответ штурмфюрер.
И тут кто-то из эсэсовцев сказал:
— Ну, это вряд ли, если завтра нам отступать!
Штурмфюрер опустил пистолет, огляделся в хлеву, и взгляд его упал на быка и на табличку с именем над его головой — Адольф. Он задумался, а поскольку это было для него занятие не из привычных, далеко он в своих мыслях не ушел и после первого же шага встал в душе по стойке смирно: Адольф. Должно быть, этот крестьянин почитатель фюрера и просто привык побрюзжать. Но тут он увидел ухмылку на лице Генриха и вспомнил о доносе бургомистра. Он презрительно ухмыльнулся:
— Ну, эти-то заботы мы с тебя снимем! — И крикнул своим людям: — Этот бык совсем молодой! Сейчас мы его прикончим, а мясо возьмем с собой! — И чтобы показать наглому крестьянину, что штурмфюрер эсэсовского корпуса «Викинг» даже во время отступления хозяин над жизнью и смертью, он подошел к быку, поднял пистолет и выстрелил.
О том, что произошло дальше, никто ничего толком сообщить не мог. Они услышали два выстрела, а потом на дворе оказались лишь Генрих Грауманн и два эсэсовца. Бык и штурмфюрер остались в хлеву. Они только еще успели заметить, как после первого выстрела бык удивленно поднял окровавленную голову и уставился на своего противника, при втором выстреле он рванулся так, что цепь со звоном разлетелась, а потом огромная голова опять низко опустилась, зато штурмфюрер взлетел до самого потолка.
Когда через некоторое время в хлеву воцарилась относительная тишина, мужчины вошли туда, то есть первым должен был войти Генрих Грауманн с новой цепью. Он довольно долго говорил со своим Адольфом и, как ни странно, произносил только добрые, ласковые слова. Ему не пришлось потом оправдываться, что это была единственная возможность утихомирить разбушевавшегося быка, так как оба эсэсовца, слышавшие похвальное слово Генриха своему быку, не подумали усмотреть в них новую государственную измену. У них были другие дела: им надо было извлечь из хлева бесформенную массу, некогда бывшую штурмфюрером, представить рапорт и помочь организовать, несмотря на приближение противника, достойные похороны начальника, павшего на поле чести.
А потом эсэсовцы ушли из деревни, без быка, который довольно вяло лежал у себя в хлеву, и без Генриха Грауманна, которого по приказу оберштурмфюрера заперли в конюшне; он должен был все-таки предстать перед судом. Крестьянин, знавший свою конюшню много лучше, чем они, сумел ночью улизнуть оттуда, а часовой, который стрелял ему вслед, мог только сказать, что, должно быть, все-таки ранил беглеца, ведь после выстрела тот упал как подкошенный, но найти его все равно не удалось. Пускаться на розыски не было времени — с юго-востока уже доносился гром орудий Красной Армии.
Он заглушал даже страшный рев быка, лежавшего в хлеву с пулей в черепе, заглушал стоны и проклятия Генриха Грауманна, лежавшего в стоге сена на краю оврага с пулей в ноге. Гром этот заглушал и отчаянное мычание брошенных коров, голодных и недоеных, визг свиней и протяжный вой собак. Так прошло два дня, потом Генрих Грауманн не выдержал, доплелся до деревни и из последних сил постарался хоть как-то обиходить скотину. Быку Адольфу он уже не мог помочь — его пришлось забить.
VII
Следующие полгода ушли на сведение личных счетов, и Генрих Грауманн не остался внакладе. Местный фюрер, едва вернувшись в деревню, нашел веревку и повесился. Узнав об этом, Генрих заявил:
— Сразу видно, что он только о своей общине думал. Даже от возни с петлей нас избавил.
И Генрих временно стал бургомистром.
А потом пришла она, земельная реформа. Теперь должно было сбыться то, о чем мечтали целые поколения крестьян: земля! Делили прежние государственные земли. Был создан комитет из малоземельных крестьян, поденщиков и осевших здесь беженцев. Три с половиной тысячи моргенов, это было как во сне! Но тут начались споры и скандалы: бургомистр Генрих Грауманн хотел, чтобы в первую очередь наделы получали малоземельные крестьяне, каждый минимум по сорок моргенов добавочной земли; затем прежние батраки в имении — от двадцати до тридцати моргенов, а уж потом застрявшие в Клеббове беженцы. И хотя в среднем у всех получилось бы по сорок моргенов, прийти к соглашению они не могли. Покуда окружной комиссар, занимавшийся земельной реформой, не взял дело в свои руки. Генрих ворчал: опять, мол, все как у нацистов, а когда сверху еще спустили план по севу и поставкам и Генрих, как бургомистр, должен был все это разъяснить односельчанам, он решил, что уже по горло сыт властью. Когда в деревню приехал ландрат, чтобы проверить, как идут дела в Клеббове, то на общинном доме он обнаружил большой щит, укрепленный там по указанию Генриха: «Эта община выполнила свой план по демократии!»
— Но не совсем, — сказал на это ландрат. — Ей еще не хватает демократического бургомистра. Вы должны выбрать его по всем правилам. А нынешний ваш бургомистр всего лишь был назначен.
Генрих понял намек и отступил.
— Ну, теперь уж действительно прощай Германия, — сказал он и ушел.
— До свидания, Грауманн, — крикнул ему вслед ландрат. — Если ты не хочешь иметь новые тридцать моргенов, можешь их вернуть! Пожалуй, это и впрямь многовато для твоих старых костей!
Тут Генрих Грауманн замер и сердито оглянулся.
— Не земли мне многовато, — прорычал он, — а вашей болтовни!
И он впал в бездеятельность. Но особенно больно его задело то, что убрали памятник доблестным воинам.
Вскоре вернулся из плена его старший сын Людвиг и потребовал, чтобы отец передал ему хозяйство, а сам ушел бы на покой. Старик отказался. Этот юнец с его новомодными взглядами, которым он научился у русских, нравился ему теперь еще меньше, чем прежде. Сердце его лежало к Фридриху, второму сыну, до сих пор находившемуся в плену где-то в Африке или во Франции. О, Фридрих не чета Людвигу! Он был вторым сыном и не мог рассчитывать на хозяйство, а потому в тысяча девятьсот тридцать пятом году, когда Гитлер создал вермахт, он стал кадровым военным. Гитлерова игра в солдатики — это, по мнению Генриха, было единственное стоящее дело в третьем рейхе. Письма Людвига с фронта всегда вскрывали и первыми читали дочери: ведь там не было ничего, кроме тоски по дому, этот парень за четыре года даже до ефрейтора не дослужился, а уж о наградах и говорить нечего. Фридрих же наоборот: знак отличия за участие в рукопашных боях, Железный крест первой степени и к тому же звание фельдфебеля, и, конечно же, он стал потом офицером и добыл себе рыцарский крест. Для Генриха Грауманна гитлеровский режим был связан с двумя годами тюрьмы, с притеснениями клеббовского бургомистра, но только не с войной и не с карьерой его сына Фридриха. Война велась для сынов Германии, для ее величия, а для ведения войны требовались солдаты, и Фридрих стал кадровым военным. И как нарочно, домой вернулся. Людвиг, а Фридрих все еще был где-то в плену, если не просто в тюрьме. Потому что на фронте — старик это вычитал из писем — Фридрих был весьма решительным парнем. Сейчас, в новой Германии, так как она отказалась от армии, он должен был бы вновь стать крестьянином, но уж таким, каким его хотел бы видеть отец. Правда, потом старым солдатам, вроде Фридриха, опять найдется место в Германии, вот так-то, господа, то, что у нас отняли, мы сумеем себе вернуть! Генрих Грауманн приветствовал то, что Людвиг, устав от споров, махнул рукой на отцовское хозяйство, подал заявление и в соответствии с земельной реформой получил надел. Неприятно было только одно — община именно этого новоиспеченного хозяина Людвига Грауманна избрала бургомистром.
Все, что тот теперь требовал относительно поставок зерна, мяса и яиц, Генрих Грауманн, как и большинство старых крестьян, считал чрезмерным и несправедливым, это-де только горожанам на пользу, а горожане для Генриха раньше все были Гитлерами, а теперь стали Иванами, но его это уже не очень беспокоило. Снова и снова сердило его совсем другое, а именно — неуважение к немецкому солдату. Людвиг, сам бывший солдатом, пусть даже плохим, частенько рассказывал в Клеббове, что катастрофа Германии есть следствие германского милитаризма, а Генрих Грауманн под этим словом хотел понимать только одно — просто наличие немецких солдат.
— Так, — говорил он, — смотри-ка, другим, значит, можно иметь солдат, только нам — нет? В этом деле прав был Гитлер, даже если в остальном он был мерзавцем. Когда идет война, я не спрашиваю, кто виноват; когда идет война, солдат — прежде всего!
А еще через полгода появился в деревне новый учитель Кнооп, смышленый, славный человек, который, по-видимому, ухаживал за Бригиттой, младшей дочкой Грауманна, и вскоре стал запросто бывать в их доме..! В один прекрасный день он завел речь о германском милитаризме, и наверняка только затем, чтобы задеть старика Грауманна. Господин Кнооп вздумал вдруг не только обучать детей азбуке, он хотел еще и обновлять немецкую культуру. В общем то, что теперь называлось новой школой, ничуть Генриху не мешало, как не мешали ему объединение крестьянской взаимопомощи, станции проката машин и даже красные флаги. Но что же вытворяет этот новый учитель! Он запретил детям играть в войну. Рассказывал им, что одна война не похожа на другую и если солдата по большей части называют защитником отечества, то это еще не значит, что любой солдат — защитник отечества. Солдаты Гитлера не защищали свое отечество Германию, они нападали на отечества других народов, завоевывали их и пытались полностью подавить покоренные народы. Это не правда, что войны будут всегда, потому что до сих пор они всегда были. Князья и государства, управляемые капиталистами, вели войны, так как хотели завоевывать новые земли и богатства, а для этого нужны солдаты. В социалистических странах солдаты тоже нужны, но только для защиты отечества. Завоевательных войн социалистические страны не ведут. Им война не нужна, социализм побеждает без войны. Но во многих других странах готовятся к войне, дурачат людей и говорят, что только множество солдат может предотвратить войну.
Дети, естественно, рассказывали об этом дома несколько иначе, и звучало это так, что любой бывший солдат — злодей. Старик Грауманн пришел в неистовство, отправился в школу и в присутствии детей потребовал от учителя объяснений. А когда тот не стал кричать в ответ, а попытался все объяснить, старик едва сдержался, чтобы не выволочь его из-за учительского стола. Потом он запретил учителю переступать порог его дома, а младшей дочери запретил любое общение с человеком, так крепко его обидевшим. А еще он восстановил против учителя других крестьян, потребовал от бургомистра отставки учителя, а когда Людвиг Грауманн поддержал учителя, прекратил всякие отношения с сыном.
Мнения в общине разделились. Молодые крестьяне и переселенцы почти все были по горло сыты игрой в войну, но большинство стариков соглашалось с Генрихом: все они не хотят войны, но солдаты — это уж вопрос германской чести. А то, что творилось в Польше и в России, — дело рук СС. В соседних деревнях придерживались того же мнения.
Новый учитель Кнооп пережил тяжелые недели. Так как попытки привлечь его к ответственности за оскорбление их семей ни к чему не привели, они постарались испортить ему жизнь, так сказать, приватно. Они лишили его мелких льгот, которыми он пользовался до сих пор: перестали приглашать к воскресному обеду, на пирог, перестали подвозить его, снабжать топливом и так далее. Однако все эти меры не сломили господина Кноопа — ведь он находил поддержку у молодежи и переселенцев. Но его стали избегать дети. Сначала они послушались учителя, бросили играть в войну и петь марши гитлеровских времен, но сделали это не столько по убеждению, сколько из почтения к нему или из боязни: ведь как-никак он учитель. А потом они стали слушаться своих отцов и снова начали играть в войну: им доставляло удовольствие подрывать и без того уже пошатнувшийся авторитет учителя.
Когда по просьбе бургомистра ландрат прочитал нотацию старику Грауманну и пригрозил ему административными мерами, приспешники Грауманна заколебались. Тогда Генрих нашел выход: уверенный, что все дело в этом учителе Кноопе, Генрих надумал так его умучить, чтоб тот бежал из Клеббова куда глаза глядят. Раздумывая, как бы получше организовать эти мучения, Генрих Грауманн набрел на мысль о краеведении и народном творчестве, которыми тоже занимались в новой школе. Вот пусть-ка попробуют его в чем-нибудь упрекнуть!
Взять к примеру старые считалочки, вроде «Эни-бени, трибабени» или «Между нами, дураками» и так далее. Старые считалочки со времен Тридцатилетней войны вместе с народом выдержали все удары судьбы, пережили они и последнюю войну. И сейчас в Клеббове немецкие ребятишки из Судет учатся по ним правильно говорить и чувствовать по-нижненемецки, а старики видят, как уменьшается возникшая поначалу пропасть между местными жителями и так называемыми чужаками. Так по крайней мере говорил на школьном вечере учитель Кнооп. Он же разучил с ребятами несколько старых народных песен.
Когда ландрат опять приехал в Клеббов, он увидел, как стайка детишек, бежавших по улице, остановилась возле какого-то старика. Это был Клеббовский Бык. Он сделал вид, что не замечает ландрата, заговорил с детьми, они хихикали или хохотали в голос, переглядывались и снова заходились от смеха. А потом до слуха ландрата донеслись слова старого Грауманна:
— Если будете петь не то, что надо, в субботу останетесь без пирога!
Дети, по-видимому, решили спеть то, что надо. Только они, казалось, пребывают в сомнении: знать бы, какое оно, «то, что надо», они бы все правильно спели. Старик рассердился и крикнул:
— Да вы что, сдурели?! Я имею в виду песню про служку Кноопа!
Дети запели, сперва еще неуверенно, потом все громче и звонче:
Эне-мене, тири-бом, что за буря, что за гром? Это бьют не барабаны, не грохочут ураганы, то у Кнопа нынче в брюхе заурчало с голодухи. Эне-мене, тири-бом, вот так гром![19]Они визжали и смеялись, забыв всякий страх, снова и снова повторяли песню. Продолжая петь, они потянулись дальше и остановились у школы, а старик Грауманн смотрел им вслед, довольный, сияющий. Затем он притворился, будто только сейчас заметил ландрата, и направился к нему. Дружески протянул ему руку и насмешливо осведомился:
— Ну, что вы теперь скажете? С этой песенкой я его выживу из Клеббова, — и он указал на здание школы.
Ландрат сперва не понял, в чем дело:
— Ну да, хоть немного и грубовато, но в конце концов это старые считалки, мы их тоже в детстве распевали.
Старик подмигнул ему.
— Я вот только их немножко переделал, стишки-то.
Тут и ландрат уже смекнул, что к чему. То была старая померанская песня про церковного служку Зура, которого, вероятно, никогда на свете и не существовало, разве что в феодальные времена, когда учитель, вечно нищий, мог быть и церковным служкой. Из служки Зура Генрих сделал служку Кноопа, а уж этот-то существовал, и даже существовал в Клеббове, и нынешние ученики распевали насмешливую песенку про то, как у их учителя якобы болит живот.
Ландрат рассердился:
— И вы подбиваете детей громко петь такую пакость?
Генрих Грауманн состроил обиженную мину.
— Что значит — подбиваю?
— Вы же за это обещали детям пирог!
Генрих Грауманн слегка опустил козырек кепки и официальным тоном заявил:
— Я хочу вам кое-что сказать, господин ландрат! Если вы, как руководящее лицо, не разбираетесь в государственных делах, направленных на безопасность государства, а с армией именно так и обстоит, то это печально. Я не был ни кайзером Вильгельмом, ни Гитлером, но зато я был солдатом. И вы тоже. Разве ж мы хотели войны оттого, что были солдатами? Ну да ладно. Но этот учителишка осмеливается шпынять каждого честного солдата! И вы, как представитель власти, это терпите? Но если вы вдобавок ко всему еще и позабыли, что такое народная солидарность и сочувствие несчастным детям, то мне вас просто жаль. Это ведь значит, что вы долго-долго будете ландратом в красном правительстве. И с полным правом, надо сказать. Я велел детям петь песню про служку Кноопа, потому что это старая народная песня, а народную культуру следует беречь. Да что же это теперь делается, если такую песню люди воспринимают не как седую старину, а, наоборот, как очень даже подходящую для новых времен песню? Конечно, я это затеял. И я дам детям за это пирог. Да еще с сахарной присыпкой вдобавок, но это уж из социальных побуждений… И если я тем самым выживу из Клеббова… — Он положил руку на плечо ландрата. — Очень уж мне охота поглядеть, кто дольше выдержит в Клеббове, учитель или я! Я ведь, господин ландрат, и кайзера Вильгельма пережил, и Фрица Эберта, и Гинденбурга тоже, и даже Гитлера пережил, и Черчилля с Рузвельтом, и я уверен — переживу и тощего учителишку и коротышку ландрата! Всего наилучшего!
Это был тысяча девятьсот сорок девятый год.
VIII
Генрих Грауманн не пережил ни учителя Кноопа, ни ландрата, но зато он пережил самого себя, во всяком случае прежнего Генриха Грауманна. Правда, учитель уже собрался было бежать с поля боя, а ландрат — принять серьезные меры против старого и, по-видимому, уже неисправимого упрямца, но тут младшая дочь старика Грауманна подала учителю совет, свидетельствующий о том, что ее педагогический талант куда больше, чем у ее суженого.
— Ты должен победить старое новым, — сказала она. — Научи детей петь новые песни, которые поют в городских школах!
Она имела в виду песни Союза свободной немецкой молодежи.
Он серьезно взялся за дело и организовал в Клеббове пионерскую дружину, где вожатой стала Бригитта Грауманн. Это была первая деревенская дружина в округе. Через месяц уже ни один школьник в Клеббове не пел песню про служку Кноопа, зато в садах и в леске все громче звучало: «Средь нас был юный барабанщик…» А когда еще через три месяца в Клеббове появились белые блузы, черные юбки и брюки и синие галстуки, уже ни один ребенок не вспоминал о маршах гитлеровских времен. Старый Грауманн признал себя побежденным. Но еще долго не мог расстаться со своими солдатскими мечтами с реванше.
— Пусть-ка сперва кто другой появится, не чета этому новомодному учителишке.
И другой пришел. И хоть это был всего-навсего деревенский почтальон, но тем значительнее было то, что он принес: письмо на бланке французской военной администрации в Берлине-Фронау, и в письме этом сообщалось, что — тут пропуски между печатными словами были заполнены чернилами — сержант Фридрих Грауманн из деревни Клеббов (Германия) пал смертью храбрых в Тонкине под Хоабинем. Где это находится, Хоабинь или Тонкин, в семье Грауманнов не знали, но раз письмо пришло от французской военной администрации, значит, тут речь идет об иностранном легионе.
Или Фридрих умер во французском лагере для военнопленных? Оказалось, что Генрих Грауманн отчаянно цепляется за это слабое утешение. Кончить жизнь в лагере для военнопленных — это было почетно, но в иностранном легионе… Его сын, храбрый немецкий солдат, — сержант иностранного легиона? Он знал, что хочет обмануть себя, но в этом письме, хоть и написанном на печатном бланке, сквозь фразы о чести Франции проглядывала голая, неприкрытая правда: немецкий солдат не вернулся домой, потому что боялся своего народа! Храбрый солдат, отмеченный столькими наградами, побоялся вернуться на родину с такой страшной войны?
Старик вновь и вновь пытался найти какую-нибудь лазейку. Может быть, Фридрих не вернулся домой, стыдясь поражения? Нет, нет, и в конце концов выходило все так, как говорили учитель Кнооп и Людвиг: на войне, мол, становятся не только героями, но и… однако он даже в мыслях не мог выговорить слово, которым называли тех, кого после войны посадили в тюрьму или вздернули на виселицу. «После проигранной войны… — размышлял дальше старый Грауманн, — а ведь после выигранной войны и преступники становятся героями». И он вдруг вспомнил того орденоносного штурмфюрера, который хотел его, Генриха Грауманна, штатского, расстрелять в его родной деревне. Чем бы еще мог обременить свою совесть этот парень, не окажись его последняя жертва, прикованный цепью бык, храбрее своего хозяина? Генрих Грауманн видел штурмфюрера раздавленным, уничтоженным дикой яростью считавшейся беззащитной жертвы. А сейчас он видел своего блистательного, орденоносного сына Фридриха поверженным, тоже уничтоженным яростью считавшейся беззащитной жертвы. Тонкин — где это может быть? Генрих Грауманн повалился на диван, и тяжело вздохнул.
А тут еще его дочь Мария вдруг произнесла жестко и безучастно:
— И что ему там понадобилось, в чужой стране? — И так как все промолчали, она сама ответила на свой вопрос: — Он хотел убивать людей, которые ничего ему не сделали. Ради Франции, в которой он за убийство французов получил Железный крест первой степени, хотел убивать китайцев или кого там еще! Фридрих Грауманн — немецкий солдат! — Она язвительно рассмеялась, и смех этот ножом полоснул старика по сердцу.
Он возмущенно поднял голову, но тут же опять опустил ее, Мария без помех продолжала:
— Убивать, убивать, убивать других людей! Не будь у них к этому охоты, они бы этого не делали. Меня вот никто не одурачит фразами о национальной чести и так далее. А Фридрих еще в мирное время подался в солдаты к Гитлеру, и все потому, что не любил работать по-настоящему. Как и вся их братия!
С тех пор как Людвиг обзавелся своим хозяйством, она возненавидела Фридриха, отцова любимчика. Если бы Людвиг стал хозяином на отцовском дворе, все было бы в порядке — он ведь старший сын, но после его отказа хозяйство до возвращения Фридриха перешло к ней и вот уже сколько лет сжирало без остатка ее силы, и все для этого бродяги, который в чужих странах убивал людей? Но потом лицо ее разгладилось, взгляд прояснился, она подумала о Юргене Бинерте, молодом батраке, уже три года работавшем у них, и вышла, чтобы поскорее обсудить с ним новое положение вещей.
Генрих Грауманн словно читал мысли старшей дочери и сам себе дивился, как это он не вспылил. А ведь многое из того, что она говорила и думала, было правдой. А потому он только предупредил младшую дочь, Бригитту:
— Не нужно, чтобы в деревне знали про иностранный легион.
Но люди все узнали, об этом позаботился почтальон, поскольку на почтамте в окружном городе были свои соображения по поводу этого письма. Таким образом, Генрих Грауманн лишился даже такого слабого утешения, как соболезнования односельчан, на которые он надеялся, если бы смог пустить слух о смерти Фридриха Грауманна во французском плену. Но иностранный легион… Старик знал своих односельчан и не мог заблуждаться на их счет: французский иностранный легион для них еще с давних пор означал прибежище дезертиров и преступников. И там кончил свои дни младший Грауманн. «Да у него и так уж давно рыло в пуху», — судачили в деревне.
Когда старик об этом узнал, он сделался еще мрачнее и совсем замкнулся: не отвечал больше на приветствия и перестал ходить в трактир. Зато работал он теперь от зари до зари и раньше срока выполнил все обязательства по поставкам. На просьбу Бригитты хоть немножко себя поберечь он ответил ворчанием:
— Только мне еще не хватало доставить господину бургомистру такое удовольствие — распекать меня за опоздание.
Бургомистром был его сын Людвиг.
IX
— Кажется, твой отец вылечился от своего помешательства на солдатах, — сказал как-то учитель Кнооп своей возлюбленной, когда она сидела у него в классе. Юные пионеры только что вышли, учитель читал им доклад об империализме, колониальной политике и об иностранном легионе, опять объяснял причины империалистических войн и рассказывал о том, как часто употребляют во зло патриотические чувства простых людей. И еще — что такое иностранный легион!
Бригитта Грауманн покачала головой.
— Вылечился? Из-за смерти Фридриха? Нет! Отец считает, что это семейное дело. Но его как будто громом поразило, — сказала она, — и мне кажется, в самое сердце. И теперь сердце у него болит. Если это пройдет, он будет по-прежнему старым другом всех солдат. Его необходимо заставлять думать, а не пытаться переубеждать. Этого он на дух не переносит. Тогда еще может быть какая-то надежда.
Взгляд учителя упал на доску, на которой он прикрепил карту для своего доклада; с этой картой он уже выступал на собраниях в округе и везде имел успех. На карте изображались Европа и прилегающие к ней территории, от Северной Африки до Шпицбергена и от Атлантического океана далеко за Урал. Границы государств и большие города были очень четко обозначены. Слева, вверху карты, был изображен мальчик, играющий оловянными солдатиками, в центре — юноши, играющие в солдат, а справа — пехотинец, гусар и артиллерист в формах мирного времени. Они стоят и поют, взявшись за руки. А над ними как главнокомандующие — карикатурные изображения индустриального магната и юнкера. Служка Кнооп умел здорово рисовать, ничего не скажешь. И как красиво он все раскрасил, ярко и весело, так и хочется запеть: «Кто собирается в солдаты…»
Но еще примечательнее красивых картинок с солдатами была на этой карте странная серо-черная дорога, проходившая по середине. Что бы это могло значить? Эта мрачная дорога брала начало у города Триполи в Северной Африке, шла через Средиземное море к Риму и дальше, в Вену, в Берлин, затем в Варшаву, в Москву, потом тянулась к Уралу и кончалась только в Сибири. Если Вглядеться пристально, дорога была вся изрыта ямами, а если вглядеться еще пристальнее, то увидишь, что вся эта дорога — сплошная братская могила, по мере приближения к середине карты все отчетливее и отчетливее проступали очертания трупов, один мертвый человек впритирку к другому, бок о бок, бесконечно длинная дорога ужаса, боли, бед и человеческого безумия. Это же было написано крупными буквами в левом углу карты, над текстом, который гласил:
Гитлеровская война обошлась Германии
В десять миллионов человеческих жизней!
А вы знаете, сколько это? Если всех этих мертвых Уложить в могилу одни к другому И каждому отвести лишь по шестьдесят сантиметров, То при десяти миллионах убитых Получится братская могила В шесть тысяч километров длиною! Это дорога мертвых, Убитый впритирку к убитому, От Триполи в Северной Африке Через Средиземное море К Сицилии, Через всю Италию, Через Австрию И Чехословакию, Через всю Германию И Берлин к Варшаве И далее через Польшу к Москве, Через всю европейскую часть России В Азию, далеко за Урал И до глубин Сибири. Один немецкий покойник Бок о бок с другим немецким покойником! Мертвый отец или сын Ридом с другим мертвым отцом или сыном!Борьба с поджигателями войны
Начинается в каждом доме!
Учитель и Бригитта оторвали взгляды от карты и посмотрели друг на друга. Потом Бригитта Гpayманн встала, сняла с доски прикрепленную кнопками карту, легко свернула ее в рулон и, уже на ходу пожелав учителю доброй ночи, исчезла.
На другой день, войдя в чистую горницу, куда он заходил только по вечерам, Генрих Грауманн увидел карту. Она висела над диваном, там, где прежде красовалась большая рама с солдатскими фотографиями «Воспоминание о днях моей службы»— молодой солдат Генрих Грауманн в трех видах: в мундире и с фуражкой; в парадной форме с кирасой и в шлеме с орлом; и, наконец, на лошади, с копьем наперевес. Рама с этими фотографиями стояла на диване, прямо под картой, висящей на стене.
Старый крестьянин в удивлении подошел поближе, а разглядев, что там изображено, в гневе поднял руку, чтобы сорвать карту. Но рука так и осталась поднятой, точно приклеилась к стене. Старик прочитал текст и долго смотрел на страшную дорогу. Потом стал считать, может ли быть правдой та чудовищная цифра, что приводится здесь; поняв, что это правда, он задумался. Поначалу он не столько думал о числе убитых, сколько о том, как уменьшилась Германия со времен его службы. А вот армия все увеличивалась и увеличивалась.
Бригитта, видевшая, что отец входил в чистую горницу, потом, когда он ушел в поле, очень удивилась: карта все еще висела на стене, а рама с солдатскими фотографиями по-прежнему стояла на диване, хотя крюк она предусмотрительно оставила в стене.
Три дня все шло без перемен, и ни отец, ни дочь ни словом об этом не обмолвились. Воскресным утром «Воспоминание о днях моей службы» исчезло из чистой горницы; Бригитта нашла раму на чердаке, повернутую лицом к стене. Теперь она хотела убрать и карту, но пришел отец и запретил ей это.
Тут уж появилась возможность высказаться. Правда, очень краткая возможность. Генрих Грауманн проговорил:
— Убери лапу! Служка может себе новую картинку намалевать.
— Но ведь это же некрасиво, что она просто на кнопках держится, — ответила озадаченная девушка.
На секунду Генрих Грауманн задумался, потом кивнул.
— Тут ты права. Мы еще не такие бедные. Сними ее, а я закажу к ней раму. Но если вы думаете… — Он говорил это, стоя лицом к карте, и не видел, что обе дочери за его спиной ничего такого и не думают, а просто удивляются.
X
И по сей день, спустя пять лет, висит эта странная картина в чистой горнице Грауманна.
Ей хорошо там висеть, потому что к Генриху Грауманну часто приходят крестьяне со всей округи за советом, особенно в том, что касается скотоводства. Бывший Клеббовский Бык на протяжении тридцати лет был превосходным хозяином, а собственные причуды и выверты хоть и шли ему во вред, но не могли существенно повлиять ни на его любовь к своему делу, ни на его отношение к преимуществам общинного труда, ни на его честолюбие. Когда он искал выхода из апатии, в которую его повергли раздумья о бессмысленной кончине любимого сына, и примерялся к новому мировоззрению, Генрих — да и как бы могло быть иначе — вновь и вновь возвращался на поле или на скотный двор. Учитель Кнооп даже шутил, что от сверхплановых поставок старик будет иметь неплохой навар.
— Конечно, — отвечал Генрих Грауманн, — а на самый лакомый кусочек уже нацелился служка Кнооп.
А тут еще бургомистр призвал крестьян соревноваться друг с другом, но предложил на собрании его отца к этому не привлекать. Он-де уже слишком стар, слишком своенравен и вообще человек, так сказать, вчерашнего дня. Собственно, только благодаря этим словам старик Грауманн увидел для себя выход из тупика, ставший для него и выходом к сегодняшнему дню и к будущему. Он, значит, слишком стар, он, значит, устарел? Ну я вам еще покажу!
И показал! Он сразу же согласился на брак Бригитты с учителем Кноопом, более того, он даже перед их свадьбой удосужился спросить свою старшую дочь Марию, правда ли, что она имеет виды на Юргена Бинерта. Парень он дельный, за три года сумел себя показать, а поскольку Людвиг опять отказался вернуться на отцовский двор, то пора в конце концов многое обсудить. Но сперва еще надо кое-кому кое-что доказать!
И началось: касалось ли дело сроков осенних или весенних полевых работ, уборки урожая или обмолота, повышения удоя молока или откорма свиней — никто в деревне не мог угнаться за хозяйством старого Грауманна. Все без зависти это признавали, старались подражать ему, а так как их деревенская гордость вновь пробудилась, то они вызвали на соревнование крестьян из других деревень.
И клеббовцы вышли победителями. Кому же по силам одолеть Клеббовского Быка, говорили в округе, и все находили, что Генрих Грауманн с полным правом получил звание передовика сельского хозяйства. С тех пор он стал бриться через день.
— И такого парня, как я, эти типы хотели смешать с дерьмом, — ворчал, желая затеять склоку, Генрих Грауманн на празднике в трактире, когда ландрат окончил свою речь. Никак он не мог смолчать. Но ландрат тоже не остался в долгу…
— А если бы это произошло, Грауманн, и мы бы смешали тебя с дерьмом? Все мы сегодня уверены, что на полях, удобренных с помощью Клеббовского Быка, собрали бы такой же рекордный урожай! — Он обвел взглядом собравшихся, потом обратился к Генриху Грауманну — Вот на одно мы без деятельной помощи нашего старого Генриха безусловно не решились бы, а именно: мы в округе постановили, и я довожу это до вашего сведения, вызвать на соревнование по поставкам молока и мяса все округа нашего района!
Все восторженно зааплодировали, а передовик сельского хозяйства Генрих Грауманн просиял, впервые в жизни ощутив, что это счастье — жить для своего народа.
Но этим он не ограничился, на то он и был Генрих Грауманн. Он и на новом пути остался таким же, каким был на старом. Некоторые односельчане утверждали, что он это сделал только затем, чтобы затруднить своему зятю Юргену Бинерту возможность обзавестись собственным хозяйством — пробыв три года передовиком сельского хозяйства, Генрих Грауманн вдруг выступил с предложением основать в Клеббове сельскохозяйственно-производственный кооператив.
Когда раньше подобные предложения исходили со стороны, передовик всегда указывал на свое хозяйство и спрашивал, к чему тут можно придраться. И еще с усмешкой присовокуплял:
— В конце концов и так можно стать передовиком, верно?
Пока его зять, учитель Кнооп, не нашел наконец подходящий ответ:
— В твоем хозяйстве, отец, придраться и вправду не к чему, а вот к тебе… — И не успел еще старик опомниться, как учитель добавил: — Какой же это мастер, если у него нет подмастерьев и учеников?
Генрих Грауманн ловко перевел разговор:
— А если у некоторых не выходит? У меня-то есть письменное свидетельство, что хозяйство мое — образцовое. — И он указал на диплом передовика, висящий в рамке.
Но учитель Кнооп знал, как вести разговор дальше:
— А ведь и в образцовом хозяйстве могут появиться недостатки, Особенно если оно останется все таким же маленьким образцом, вместо того чтобы стать ядром большого общего хозяйства.
— Ага, — ухмыльнулся Генрих Грауманн, — опять все сначала.
Учитель Кнооп понял, что ему еще рано отказываться от окольных путей.
— Скажи-ка, отец, строго между нами: на тысяче моргенов легче хозяйствовать, чем на сотне?
— Дурацкий вопрос.
— И это будет рентабельно? То есть я хочу спросить, действительно ли с тысячи моргенов можно получить доходу в десять раз больше, чем с сотни?
— Самое меньшее — в пятнадцать раз, а то и в двадцать. Тот, у кого есть эти моргены, далеко пойдет.
В своем крестьянском рвении он не заметил, куда клонит учитель, и вдруг тот с сожалением произнес:
— Жаль, очень жаль. Я хочу сказать, жаль, что тебе уже не по силам возглавить большое хозяйство, в конце концов ты и вправду уже не молод.
Не по силам? Уже не молод? Это ему-то не по силам?
Поначалу многие крестьяне были против. Уж слишком это хорошо — полная свобода действий. Ведь они же знали Генриха Грауманна.
— Зарабатывать на пятьдесят процентов больше тоже очень здорово, — говорил Генрих. А когда крестьяне услыхали, какое название он заготовил для сельскохозяйственного кооператива, они сразу стали сговорчивее. Хорошенько подумав, они пришли к заключению, что, если за дела возьмется Генрих Грауманн, это может сулить немало выгод, и постепенно все приняли его сторону. Ведь они же знали Генриха Грауманна.
Вот какое название для сельскохозяйственного кооператива придумал Генрих Грауманн: «Клеббовские передовики». Но старого ландрата, с которым он частенько ссорился, уже не было здесь, да и вообще никакого ландрата больше не было, а был председатель окружного совета. Он напомнил Генриху о том, что кроме него в округе есть еще только один передовик сельского хозяйства, и сказал, что другие члены кооператива могут обидеться, а это, в свою очередь, может привести к применению неблаговидных методов в соревновании.
— Ладно, — отвечал Генрих Грауманн после недолгого раздумья, — тогда плавать я хотел на передовиков!
У перепуганного председателя язык присох к гортани. Он достаточно был наслышан об этом Грауманне и решил, что тот хочет сам выйти из кооператива и подбить на это второго передовика. Прежде чем он успел сообразить, с чем он здесь имеет дело, с просьбой, угрозой или предостережением, Генрих уже разъяснил смысл своего высказывания:
— Я считаю, что надо наш кооператив назвать просто: «Клеббовцы». — И добавил: — Так оно лучше будет. Тогда всем в деревне кое-что перепадет от нашей славы. Даже тем, кто до сих пор только баклуши бил. А заодно и вам, господин председатель окружного совета.
Мало-помалу все в деревне стали почитать за честь быть членами кооператива «Клеббовцы», не только в своем округе, но и во всем районе слывшего за образец социалистического хозяйства. Когда председатель окружного совета в пышных фразах поздравлял председателя «Клеббовцев» с третьей годовщиной кооператива и заверил его, что он навсегда останется в памяти народа, ему показалось в высшей степени неуместным то, что Генрих Грауманн ответил ему, хоть и с сияющей улыбкой:
— Останусь, конечно, хотя бы как Клеббовский Бык.
Из старого делай новое! Несентиментальная история одной швеи
I
Она, судя по всему старая дева, сидела на набережной в Хайлигендамм. Здесь стояло немало скамеек, гуляющие здесь поодиночке люди сегодня, как нарочно, были северянами, склонными к уединению и тишине. Уважая подобное чувство в других, они проходили к свободным скамейкам. На Рейне, в Саксонии и других говорливых областях такая нарочитая замкнутость и нелюдимость, особенно бросающаяся в глаза в гостиных и залах ожидания, охотно принимается теми, для кого свои собственные склонности — самые лучшие, за мрачность нрава и туповатость.
Женщина на скамейке не думала об этом. От усталости, напряженной работы, а может, и от болезни лицо ее было необычайно бледным; глянув на нее мельком, врач приписал бы тем же причинам и блеск ее глаз, которые к тому же были влажными. Ну кто поверит, что здесь сидит счастливый человек?
Скамейки были повернуты к морю, но женщина сидела так, что могла охватить взглядом и море, и пляж, и длинный ряд домов. Было бы лучше, если бы отдельные части развернутой перед ней панорамы она рассматривала по отдельности: каждый вид сулил умиротворение и снова пробуждал чувство отрады своей красотой и целесообразностью. Теперь же вместе с радостью и благодарностью в выражении ее лица проглядывала боязнь утратить все и жадное стремление все удержать; так люди, едва не умершие от жажды, хватаются за огромный сосуд с водой, который они не осилят и за несколько дней.
Море, словно по линейке, было расчерчено на три широкие полосы: темно-зеленую у берега, оттенков янтаря в середине, серебристую вдали, где оно без видимой границы переходило в дымку, которая уже не была ни морем, ни небом. А небо, казалось, причудливо вторило этому точному делению: бледно-голубое, оно лежало на вытянувшихся полосами серых тучах, ограниченное сверху ослепительно-белым слоем облаков, вернее, облачной стеной, границы и форма которой были обозначены очень легкими линиями, словно нанесенными мягчайшей кистью; небесный купол глубокой бархатистой голубизны, оттенки которой мог различить только взгляд художника, вздымаясь, покоился на этой стене.
Пляж был сплошь усыпан галькой; на ее тусклом фоне вспыхивали крохотные искорки, стоило солнечному лучу коснуться слюдяных вкраплений в камне. Море в своем извечном волнении насыпало высокую, многокилометровую плотину из гладко отшлифованных камней и таким образом возвело преграду своему разрушительному гневу, а монахи из виднеющегося за болотом монастыря истолковали ее появление как награду за их молитвы, и потому она названа святой. По откосу плотины цеплялись друг за друга кусты шиповника, и под лучами сентябрьского солнца на однотонной листве пылали кораллами его плоды. Болото за плотиной окружал темный лес; светлыми пятнами выделялись в нем пруды, трясины и канавы, по временам при полном безветрии еле заметно шевелило длинными ресницами камыша одинокое озеро на заднем плане; это проплывал на лодке какой-нибудь человек, охотник на уток или студент биологического факультета.
Эту картину женщина могла видеть, не поворачивая головы; в поле ее зрения был также длинный ряд домов, которые и составляли курорт. Все дома стояли особняком, посреди широких зеленых лужаек, виллы и строгие дворцы, ослепительно-белые на фоне старого темного букового леса. Сo стороны моря, подумала сидящая на скамейке женщина, этот вид, наверное, еще красивее, чем Серебряный берег в Далмации или Лазурный берег. Там она побывала со своими родителями еще до войны, во времена тысячелетнего рейха.
Ей показалось, что это воспоминание вошло в нее с шумом и болью; женщина изменила позу. Несколько удивленная, она стала вглядываться и вслушиваться во все окружающее, где только что царила тишина, но уловила лишь те самые звуки, которые слышала с тех пор, как села сюда: тарахтенье моторной лодки вдалеке, радостный смех и возгласы играющей детворы, обрывки разговоров, монотонные удары копра у строящейся пристани, утиное кряканье, собачий лай, невнятный возглас, донесшийся несколько раз издалека, с моря, наверное, вопрос, оставшийся без ответа и потому смолкший; легкая танцевальная музыка из курзала. Но ей казалось, что все шумы слились в один, многоголосый, и он обозначился первыми каплями дождя. Однако это не был дождь, от которого надо прятаться, женщине он показался мягким и теплым, как грибной дождь в детстве, под него она всегда выбегала простоволосой — ведь от грибного дождя дети растут быстрее, становятся красивее и на их долю выпадает больше счастья.
Перебирая в памяти важнейшие переломные моменты своей жизни, женщина с улыбкой послала привет картине из детства и почувствовала себя так, словно и вправду сидела под грибным дождем. Не придет ли теперь к ней то, что до сих пор отсутствовало в ее жизни? Улыбка угасла, грибного дождя вовсе не было, а было нечто иное, как многоголосица шумного дня. Скользнув по набережной, вдоль пустых и полупустых скамеек, ее взгляд перенесся к белым виллам. Она так и не узнала, которая из них принадлежала кронпринцессе Цецилии, а в какой господин по имени Геббельс принимал своего фюрера, и она вдруг громко и радостно рассмеялась при мысли, что когда-то это казалось ей важным. Казалось важным наравне с укоренившимся в их кругу мнением: Хайлигендамм не только старейший, но и самый фешенебельный курорт Германии.
II
Первый период ее жизни продолжался с тысяча девятьсот пятнадцатого до тысяча девятьсот тридцать третьего года. Она вернулась в воспоминаниях к заре своей юности, прошло тринадцать лет, ранние впечатления от родительского дома, от отца и матери, прислуги и теток были неотделимы от их громогласного недовольства и гнева, презрительных высказываний о президенте из шорников, о паршивой республике и ее поганом флаге. Для шестилетней девчушки такие выражения оставались непонятными, но она знала, что злые люди чем-то рассердили и обобрали ее родителей и всех других хороших людей и потому все хорошие люди должны держаться вместе, чтобы снова получить кайзера, великого герцога, солдат, и тогда папе не придется надевать свою прекрасную форму с саблей и орденами только дома. Впрочем, годы, проведенные в средней школе, внесли некоторые изменения в то представление о разрушенном рейхе, мировой войне и обновленном отечестве, которое внушалось ей дома, директор даже сказал что-то хорошее о социал-демократах, это был доктор Краневиттер, она очень хорошо помнит, что отец пришел тогда в страшную ярость и немедля перевел ее в другую школу. Там новые времена характеризовались в таких выражениях, по сравнению с которыми отцовские казались очень мягкими. Еще более сильные выражения употребляли ее брат и его друзья по гимназии. А источником, в котором все лучшие немцы черпали силу «для спасения чести Германии», был таинственный человек из Мюнхена, Зигфрид, Армии Освободитель, Генрих I, Лютер, Старый Фриц, Блюхер и Бисмарк[20] в одном лице, к тому же с даром прорицателя; если в глазах Роберта у него и был какой-то недостаток, то единственный: что дослужился он только до чина ефрейтора, а раньше был всего-навсего захудалым художником — факт, упоминание о котором отец запретил категорически. Так наступил для нее тысяча девятьсот тридцать третий год, год ее восемнадцатилетия.
Папа снова стал военным, полковником, Роберт — лейтенантом, мама руководила группой в женском союзе. Дочке очень хотелось стать врачом, но ей запретили сдать экзамен на аттестат зрелости, так как с сего времени немецкая женщина вновь стала принадлежностью своего дома. Ей вспомнились огромные пропагандистские плакаты на афишных тумбах, директор велел вывесить их в школе. На одном из них молоденькая девушка потрясала веником как знаком женского достоинства, стихотворная надпись под рисунком гласила:
Если хочешь иметь мужа, Научись готовить ужин!Такое требование показалось школьницам возмутительным, и они вволю посмеялись над витийским искусством великогерманских женщин, а вульгарный топ национальной музы вынудил маму сморщить нос, но в итоге дочери было предоставлено право выбора только между профессией воспитательницы детского сада и преподавательницы школы художественного ткачества. Бригитта выбрала ткачество и успешно закончила курс обучения. А эскизы ее изделий, в которых главное место принадлежало кораблям викингов, орлам, мечам, свастикам и руническим мотивам, послужили основанием для того, чтобы в двадцать лет ее сочли достаточна зрелой и предложили руководство школой ткачества для молодых крестьянок национал-социалистского толка. Так и поступили, и материальное положение не сыграло при этом никакой роли, у старых благородных семей теперь появился новый идеал — братское сообщество всех истых немцев без различия классов. С небольшой оговоркой, правда: сначала немцы установят в Европе новый порядок и достигнут всемирного владычества, а уж в свое время какому-нибудь представителю правящего дома не трудно будет подсунуть предназначенный ему от бога трон. И прошлое засияет новым блеском.
И разве не должно хорошо воспитанной двадцатидвухлетней девушке из приличной семьи ненавидеть англичан, французов, американцев, поляков, чехов, бельгийцев, голландцев, датчан, норвежцев, русских, канадцев, австралийцев, китайцев, греков, сербов, южноафриканцев, словом, евреев всего мира за то, что они просто из зависти напали на великогерманских вождей свободы? Но боже правый наверняка приведет к победе правое дело. Честно говоря, он порядком замешкался, больше того, он отнял у них отца, уже генерал-майора, под Сталинградом; брата, совсем еще юного, но уже капитана, в Триполи; дом со всем имуществом в Бреслау; и в довершение всего — акции верхнесилезских предприятий. И если о первых жертвах можно было не только скорбеть, но и гордиться ими, то потом господь послал такие испытания, за которые в лучшем мире воздастся как один к ста. «Ни в коем случае не ронять своего достоинства, — потребовала мать, — уважение к самим себе у нас отнять невозможно». То же самое потребовалось от них и в чужом городе, в Мекленбурге, в комнатушке с общей кухней и туалетом.
— Условия ужасны, таких мы ни в коем случае не заслужили. Слава богу, мы хоть вовремя спрятали кольца и брошки.
III
— Мама, я пойду работать!
— Работать? В какое-нибудь учреждение, к так называемому начальнику?
Дочь устало улыбнулась:
— Мамочка, никак ты не поймешь, не смогу я работать в учреждении, а у так называемого начальника тем более. Что я умею? Руководить местным союзом немецких девушек, учить ткачеству молодых деревенских нацисток? И это сейчас?
При воспоминании о прежней тяге дочери к медицине мама подумала о профессии медсестры; но эта мысль была немедленно отвергнута — ведь медсестре приходится выполнять такую работу, которой побрезгуешь.
— А как ты смотришь на ткачество или вязание? Мы бы и дома остались, и я бы тебе помогла!
Желание сохранить независимость подстегнуло в ней предприимчивость. Но ни ткацкого станка, ни ниток, ни шерсти не было.
В конце концов дом пришлось оставить и чинить по домам белье, вручную, потому что у них не было и швейной машины. Слава богу, люди, ставшие их работодателями, сохранили в этом уцелевшем от войны Шверине и свои дома и свое белье. В их домах висели не только изображения великогерцогских замков, они были полны воспоминаниями о прекрасных старых временах Браунау и Веймара, и в большинстве семейств были рады дать работу штопальщицам, которые знавали лучшие дни и даже в несчастье не утратили чувства собственного достоинства. С ними хоть можно поговорить откровенно, без посторонних ушей, разумеется, сравнить старые времена с теперешними.
И тем не менее:
— Мама, я вижу, наше занятие тебе не по душе.
Мама молчала.
— Я вижу, оно тебя изнуряет.
— Это не работа, девочка, а сплошная беготня.
— Конечно, мама. Но слава всевышнему, нам по крайней мере не приходится возиться с лохмотьями: у наших клиентов сохранилось достаточно приличных вещей. Да и обеды у них для нас хорошая поддержка при нашей продовольственной карточке четвертой категории.
Поразмыслив немного, мама сказала:
— Сама бы я об этом не заговорила. И не от работы мне тяжело, нет, а от того, как они нас кормят. Не все, конечно, но большинство. Я имею в виду ту особую еду, которую нам приносят в чулан. Это закат моей жизни… — и мама разрыдалась.
Дочь молчала. Она невольно перенеслась мыслями в детство, в те времена, когда мама приказывала кормить своих штопальщиц в чулане; одна женщина, ее звали Фаринг, была вдовой директора банка, покончившего жизнь самоубийством. Об этом в доме знали все, вплоть до детей — мама однажды показала ей роскошную виллу, в которой раньше жили Фаринги. И сказала: «Кто высоко заносится, тому не миновать упасть».
Истолковав дочернее молчание как проявление грусти при воспоминаниях о детстве, мать сказала:
— Но больше всего меня тревожит безнадежность твоего положения. Я стара, и господь всемилостивый не позволит мне долго лицезреть убожество моей родины. Но ты, моя девочка, Дочь генерала Фалькенберга, внучка тайного советника фон Штуббе, — все это, что прежде почиталось за честь, сегодня только осложняет жизнь. Что будет с тобой?
— Мне хотелось бы открыть свое дело, — живо ответила дочь. И продолжила в ответ на удивленный взгляд матери: — Я умею моделировать, кроить и шить. К счастью, все свои платья я шила сама. Тебе не кажется, что мне надо открыть ателье? Что могут другие, по плечу и мне.
— Прямо здесь, в нашей единственной комнатке? В доме, где полно всякого сброда? Да у нас даже швейной машинки нет.
— Фрау советница Беренс собралась на Запад. Англичане освободили ее мужа. В Восточную зону он не хочет. Он кое-что значил здесь в партии. Машинка у нее хорошая, ты сама знаешь, ведь ты работала у фрау Беренс.
Фрау Фалькенберг удрученно кивнула.
— Сегодня без денег ничего не дают. На что же ты хочешь купить машинку?
— Продай бриллиантовый крестик, мама, все равно ты его никогда не носишь!
— Память о бабушке фон Штуббе! Тайный советник, мой покойный дед, заказал его для своей невесты к свадьбе! Нет, дочка, добра от этого не жди. — Фрау Фалькенберг, урожденная фон Штуббе, почувствовав себя единственной хранительницей традиции, в эту минуту невыносимо страдала.
— В таком случае я всю жизнь буду штопать чужое белье. А не могла бы ты расстаться с папиным перстнем, ты знаешь, я имею в виду печатку с полковым гербом.
Мама запротестовала:
— Нет, уж лучше бриллиантовый крест. Когда распустили папин полк, ты была, совсем крошкой и не могла понять папиного горя. Тогда еще обер-лейтенант, он снял перстень, но хранил его как святыню. Это символ полковых традиций, часто повторял он, когда меня не станет, их унаследуют другие. Нет-нет, о перстне и речи быть не может.
— Ну, а кому я передам этот перстень по наследству, мама? Кто женится на женщине, которая штопает чужое белье?
— Если б в свое время ты не была слишком разборчивой! Но оставим эту тему! — Казалось, теперь мама досадует и на прошлое, во всяком случае на отдаленное прошлое. Но ведь дочь ее плоть и кровь, и она запальчиво воскликнула:
— Если б я не была слишком разборчивой и согласилась выйти замуж за одного из четверых, которых предложила мне моя семья, то сейчас я точно так же сидела бы здесь. Нет, наверняка еще хуже, вдовой какого-нибудь эсэсовского офицера с кучей голодных ребятишек.
— Бригитта! — Возглас повис в комнате как восклицательный знак. И уже мягче мать продолжала:
— Стыдись! Как ты говоришь о священном долге немецкой женщины?
У дочери передернулось лицо.
— Священный долг перед семьей? Лучше б ты этого не говорила, мама. Было время, когда точно такими же словами ты ясно дала мне понять, что я не выйду замуж за Бертольда, которого любила!
— Потому что его арийское происхождение оказалось под сомнением. Поженись вы несмотря на это, где бы ты была сейчас? — Мамин тон был по-прежнему холодным и резким.
Дочь взорвалась:
— Могу сказать наверняка, что не в худшей комнате, чем эта. И уже совершенно точно, меня бы не мучила совесть, что я трусливо оставила в беде порядочного человека.
— Бригитта! — На сей раз прозвучали не укоризна и протест, скорее просто крик. Но мама тут же снова взяла верх, и ее резкий тон растворился в жалобных всхлипах.
Некоторое время в комнате было тихо. Дочь стояла у окна и смотрела на улицу, их комната находилась как раз с фасадной стороны дома. Ей только тридцать, но гнев очень старит ее.
— Надеюсь, ты не хочешь открыть салон мод в комнате, где мы спим? — слезливым голосом спросила мама.
Дочь обернулась:
— Поживем — увидим! Для мастерской мы можем получить дополнительную площадь. Может быть, даже небольшую квартирку с собственной кухней. А когда ко мне придет известность… — она не договорила.
— Но в продаже нет тканей, — выдвинула мать еще один аргумент защиты.
— Ткани скоро появятся, — парировала дочь.
Мать с удивлением смотрела на дочь генерала Фалькенберга:
— Ты полагаешь, эта красная страна окажется прочной? — Дочь молчала, и растерянность, которая скрывалась за этим вопросом, как ответ весь день заполняла комнату.
IV
Швейная машинка была куплена, но комната превратилась не в салон мод, а в мастерскую «Из старого делай новое!». Во всяком случае так гласила надпись на деревянной табличке, которую намалевал Фриц, парнишка Мюллеров из соседней комнаты, в доказательство своей успешной учебы у художника. Под этой надписью буквами помельче было написано: «Мастерская на первом этаже». Имя Бригитты Фалькенберг по настоянию мамы было опущено.
Худо-бедно, а работа их кормила. Дочь оказалась в высшей степени изобретательна, клиенты не уставали благодарить мастерицу за те прекрасные вещи, которые у нее получались из старых тряпок. Из одеял возникали современные дамские пальто или практичные мужские куртки, старое женское пальто превратилось в костюм для мальчика; из двух старых получалось одно новое, модное платье, а если они были совсем изношены, то детское платьице; скатерть («Да, были лучшие времена!» — вздыхала ее владелица) пошла на шикарный пляжный ансамбль для дочери — надежды семьи; клетчатые простыни («Мы раньше прислугу держали») стали летними платьями, которые теперь вошли в моду; плотная шерстяная бабушкина юбка дала материал (слава тебе, господи, ей не пришлось увидеть этого своими глазами!) на крепкие брючки для мальчика; покрывало с супружеского ложа стало элегантным пеньюаром (как-никак, а пожить еще хочется); из старой войлочной шляпы получились домашние туфли, из отцовских кожаных перчаток — искусственные цветы, перочистки или футлярчики для ключей; полотенца давали материал для женских поясов, изношенные шелковые блузки возрождались в виде галстуков; распущенные свитеры — детских штанишек и носочков. Стоило полюбоваться платьем одной артистки, материалом которому послужил белый мешок из-под сахара. Мастерская демонстрировала также сшитые из тысяч лоскутков тряпичные одеяла и даже «настоящий альгёйский тряпичный ковер»[21]. Как в настоящем салоне мод, здесь всегда были выставлены несколько наиболее удачных изделий, и заказчицы не могли нахвалиться мастерством фройляйн Фалькенберг. В такие минуты даже мама забывала сердиться из-за произносимой вслух фамилии.
В дочери постепенно происходила перемена. Финансовый успех ее предприятия наконец-то позволил им сделать кое-какие приобретения для себя, она могла быть довольной делом своих рук, и это разбудило ее честолюбие: в один прекрасный день с удивлением, а потом с гордостью она поняла, что работает уже не для того, чтобы утвердиться сегодня, а для того, чтобы стать чем-то завтра.
Но ее новая жизнь, которая казалась столь многообещающей, очень скоро кончилась: налаживалось положение в стране, из месяца в месяц улучшались условия жизни, товаров становилось все больше, и у женщин пропала необходимость лицевать старые вещи, да, впрочем, и сундуки уже были порядком почищены.
Мама вздыхала:
— С одной стороны, я даже рада, что с тряпьем покончено. Кто сам этого не пережил, тому трудно представить себе нищету последних лет. Кем мы были по сути, как не старьевщиками? Но с другой стороны, мастерская давала нам кусок хлеба и независимость. Что же с нами теперь будет? — У нее снова задрожал голос.
— Теперь? — Дочь кивнула на две швейные машинки, которые принадлежали ей. — Ткани уже есть в продаже, У людей появился заработок, они ощутили вкус к жизни. Женщинам снова хочется хорошо одеваться. Короче, я открываю салон мод!
Первым делом на стене была прикреплена новая табличка из баббита, большего размера, с черными буквами. Даже с улицы можно было прочесть:
МОДЫ
Элегантность и простота исполнения
Бригитта Фалькенберг
Первый этаж
Итак, имя все-таки появилось на вывеске. Маму больше всего задело то, что ее согласия даже не спросили И она на свой лад дала это понять:
— Ну, на меня тебе надеяться не стоит. Как я подумаю… — О чем, она говорить не стала, заметив, что дочь ее не слушает. То, что людям ее класса приходится собственным трудом зарабатывать себе кусок хлеба, долгое время принималось как удар судьбы или испытание свыше; но те же самые люди, и ее собственная дочь в том числе, с подобным положением не только мирятся, но, по всей видимости, расценивают его как новый смысл жизни и при этом испытывают удовлетворение, — это было выше понимания дочери тайного советника фон Штуббе, вдовы прусского, если быть точным, гитлеровского генерала Рассеять заблуждение дочери не представлялось возможным, коль ее ответ прозвучал так категорично.
— Мама, прошу тебя, не пытайся поколебать мою решимость. Я не упрекаю тебя в том, что, лишь дожив до тридцати лет, я узнала цену настоящей жизни. Хоть что-то я еще могу взять от нее. И право на это хочу заслужить именно собственным трудом. Не лишай меня этой радости. За машинку ты больше не сядешь. Если хочешь, готовь для нас, следить за чистотой будет фрау Бандке.
Вот так, а потом модистка фройляйн Фалькенберг кроме газеты Христианско-демократического союза выписала еще и красную газету. При этом она, правда, сказала, оправдываясь:
— Там помещают объявления и тому подобное.
V
Однако через полгода она отказалась от красной газеты. Из-за обманутых надежд и как бы в знак протеста После некоторого застоя вначале дела в салоне «Моды Фалькенберг» стали процветать. Уже три девушки шили скроенное «хозяйкой»: платья, блузки, костюмы, пальто. Но, по ее мнению, дело шло в гору недостаточно быстро, и она принялась хлопотать о несколько большей квартире в центре города. Вот так. А при этом выяснилось следующее: у фройляйн Фалькенберг нет разрешения: а) на открытие частного предприятия, б) на наем учениц, так как она не сдавала экзамен на звание мастера. Поверив в то, что она была в полном неведении относительно подобных предписаний, ей предложили выйти из положения одним из следующих способов: зарегистрировать мастерскую и работать со швеями, но без учениц; сдать экзамен на мастера; техническое руководство мастерской предоставить мастерице с дипломом; пойти старшей швеей на народное швейное предприятие.
Только от одних слов «народное швейное предприятие» мама слегла. Ее мысли вновь вернулись к прошлому, и она наконец-то почувствовала за собой законное право отрицать настоящее. Тут от нее досталось и правительству которое издает такие законы против бедных женщин, и коллегам-швеям, которые наверняка донесли из зависти. Прозвучал возглас сожаления о мастерской «Из старого— новое!», и лаже штопка чужого белья вспоминалась с умилением ведь, несмотря ни на что, они были независимы и не давали властям ни малейшего повода для придирок.
Что же теперь делать? У мамы было достаточно практической сметки, чтобы подсчитать убытки мастерской со швеями на полном заработке, и достаточно осмотрительности, чтобы предвидеть, что дипломированная мастерица в скором времени возьмет бразды правления в свои руки; пока Бригитта сдаст экзамен, пройдет не менее восьми — десяти месяцев. И все-таки потом они будут независимы.
Мечта любого бюргера, так называемая независимость, поднимающая его в глазах собратьев по классу и потому желанная, захватила и дочь. Именно тогда она и отказалась от красной газеты. Они жили на свои сбережения и благодаря случайным приработкам. На крупные вещи времени не было — Бригитта Фалькенберг твердо решила сдать экзамен на звание мастера. Не только мысль о работе на швейной фабрике, но Даже само упоминание фабрики казалось нелепым. Для человека со вкусом за этим названием стоит униформа пролетариев. Такое определение дала ее коллега, владелица частного ателье с хорошей буржуазной клиентурой. Жизнь для себя канула в прошлое.
В те дни мама даже выразила нехристианское желание умереть.
VI
Следующий этап в жизни Бригитты Фалькенберг начался с посещения одного показа мод. Как ни старались мать и дочь уверить себя в том, что изо дня в день действительность будет серее, а платья — мрачнее и безрадостнее, по улицам ходили все более веселые и нарядные девушки, а витрины магазинов постепенно наполнялись все более красивыми вещами. И вот даже устраивают демонстрацию моделей! И это в республике, где все должны выглядеть одинаково: мужчины без воротничков и галстуков, а женщины в брюках, с платками на голове. Демонстрация моделей! Как специалисты Фалькенберги получили бесплатные билеты, но мама отказалась оскорбить свой изысканный вкус видом этих фабрикатов и не пошла. Бригитта пошла. Но скорее для того, чтобы дать себя разочаровать.
Но в этом ей не повезло. Она намеревалась держаться в сторонке, но, как водится на подобных сборищах, невольно сталкиваешься со знакомыми, клиентами, коллегами, а уж после этого в сторонку не отойдешь, хотя бы из-за того, чтобы не показать всем, кто злорадствует, как скверно у тебя на душе. И потому вместе со всеми обсуждаешь показанные модели. Бригитта Фалькенберг могла и хвалить, и критиковать их, ничуть не скрывая своих чувств, своего ателье у нее больше не было, и в зависти ее никто не мог упрекнуть. Она поймала себя на том, что мысленно исправляет недостатки моделей, экономит материал при раскрое, улучшает фасоны, и от этого ее вера в собственные силы возросла. С такими конкурентами справиться не трудно. А продукцией так называемого народного швейного предприятия она занялась бы, особенно теми тремя моделями, которые только что продемонстрировали и которые показались ей достойным завершением показа: вечернее платье черного шелка со скромной золотой вышивкой, спина открыта, перед плотно прилегает и держится на шее только рюшью, на очень длинную и необычайно широкую юбку «солнце» ушла масса ткани. Бригитта назвала туалет жизнеутверждающим, это было первое вечернее платье, увиденное ею за многие годы, и сам факт его существования в известной мере давал уверенность в будущем. Прозвучали аплодисменты и одинокое «браво» Бригитты. Ведущий подал манекенщице белую меховую накидку, она набросила ее и чуть отступила назад, давая место другой манекенщице.
И в платье для улицы, которое сейчас показывали, впервые за все годы, пока донашивали старье, появились модные детали: очень сильно расклешенная юбка с запахом, к тому же смелый, несколько утрированной величины воротник. Это было подобно свежему ветру, повеявшему в спертом, застоявшемся воздухе.
Но как модельер Бригитта пришла в восторг от третьей модели — платья со съемными деталями. Прямо на глазах с ним происходили превращения. Сначала появился костюм для улицы из шерсти цвета красного вина: узкая юбка, воротник. Улыбаясь в предвкушении сюрприза, манекенщица сняла жакет и продемонстрировала элегантное послеобеденное платье с неширокой баской, по узкому удлиненному вырезу вышитый воротник. Чтобы продемонстрировать третий вариант платья, манекенщица расстегнула пуговицы на плечах, увеличив тем самым вырез, по которому широким воротом лег материал, и театральный наряд был готов. И в довершение всего, отстегнув баску на талии, она прикрепила ее к вырезу.
Эти три фасона до такой степени захватили Бригитту, что она даже прослушала, в каком ателье их шили. Наверняка там работают первоклассные мастера, в их распоряжении лучшие ткани, меряться с ними силами — дело нелегкое. Но тут выяснилось, что все три прекрасных образца изготовлены на народном швейном предприятии.
VII
Через две недели Бригитта Фалькенберг сидела за конвейером народного швейного предприятия просто швеей. Сидела тихая и удрученная, потому что ее сомнения в правильности отказа от своей независимости Усугублялись недоверием и любопытством окружающих, желавших понять, что это за тихоня. Начались издевочки по поводу потерпевшего фиаско салона, а там и намеки на происхождение и прошлое. Не раз ей казалось, что она не выдержит, и только напряженная работа помогла сохранить самообладание. Работа примитивная и однообразная, именующаяся пошивом мужских брюк. Очень интересно и совершенно непонятно, почему их кроили так старомодно. Вместо того чтобы давать плотное прилегание в бедрах у пояса, как давно делалось в лучших спортивных моделях, их поднимали чересчур высоко, над талией, а на спине два выступа углами поднимались еще выше, словно хотели встретиться с подтяжками уже на пол пути. Простое решение перейти на более современный и практичный крой дало бы возможность только за счет длины сэкономить десять — пятнадцать сантиметров ткани на каждой паре брюк, что дало бы дополнительную пару с каждых двадцати, а работа значительно Упростилась бы. Она ничего не сказала: ее могли посчитать выскочкой, к тому же она была переведена в бригаду по пошиву пальто.
Но вот однажды она пришивала к пальто рукава, углубившись в свои мысли — теперь она часто задумывалась, воображая себя дома, в мастерской, и вдруг испугалась не меньше своих коллег. Оказалось, что силуэт пальто так заметно изменился, став, конечно, намного элегантнее, что это не могло пройти незамеченным. Одна работница посоветовала скрыть брак и подсунуть испорченное пальто в общую кучу, другая совершенно резонно пола!ала, что положение от этого только усугубится: кто испортил пальто, так ил и иначе выяснится, лучше пойти к мастеру и попросить разрешение оплатить пальто, а третья даже дала совет:
— Только не говори, что сделала это нарочно: те наверху слышать этого не могут. Одно слово, и ты окажешься за воротами!
Незадолго до конца смены Бригитта Фалькенберг взяла пальто и направилась к мастеру. Та заговорила, не дожидаясь, пока к ней обратятся:
— Хотите купить его, верно? Пожалуйста, вы получите скидку, но надо будет сдать свою промтоварную карточку.
Она взяла пальто, подняла его и тотчас заметила изменение.
— Мне хотелось немного изменить фасон, но при этом я его испортила, — торопливо объяснила Бригитта, — я хочу заплатить за него.
— Что вы хотели изменить в крое?
— Рукава. И еще проймы. Мне казалось…
Мастер расправила пальто.
— Прикиньте-ка его на себя!
По тону мастера нельзя было определить ее отношение к происходящему. Она помогла швее надеть пальто. Пуговиц еще не было. Мастер дважды оглядела пальто, даже отступила на несколько шагов и попросила Бригитту немного пройтись. А потом подошла к ней сильно взволнованная.
— Хотите, я скажу вам правду? Вы обманули меня Да! Пальто испорчено не случайно, вы специально изменили фасон, потому что шили его для себя.
Бригитту бросило в краску.
— Нет, это не так. У меня очень однообразная работа, и я немного задумалась, мне показалось, что я у себя в ателье. Я не нарочно, я забылась Просто забылась Это все видели.
— У себя в ателье? — Мастеру нужно было собраться с мыслями. — Ах, верно, у вас было свое дело Но если вы, как утверждаете, не специально изменили фасон а машинально, то странно, что пальто не испорчено, а стало лучше!
Испуганная Бригитта растерянно уставилась на мастера. А та сказала, и в глазах у нее было улыбка.
— Ну, если вы улучшаете изделие, работая машинально, не имея такого намерения, то, вероятно, с определенным намерением результат будет еще лучше, не так ли?
Теперь улыбнулась и Бригитта.
— Смена кончается, — сказала мастер. — Если есть время и желание, расскажите мне о своем ателье. Я сварю кофе.
VIII
Так начался пока что последний период в жизни Бригитты Фалькенберг. За два года она стала старшей швеей, передовиком производства, модельером, руководителем отдела. Она уже не убеждала мать в том, что нашла свое место в жизни, которое ее полностью удовлетворяет, и работу, которая приносит ей радость. У нее было хорошо на душе при мысли, что обрела она эту Удовлетворенность, лишь придя к народу, сознавая, что это приятие нового общества было не только следствием ее сытой жизни. Не считаясь со здоровьем, она взваливала на себя все новые и новые заботы, пока ей вдруг не изменили силы. После серьезной борьбы, из которой она вышла победительницей, борьбы с косным стремлением многих сослуживцев и руководства к постоянному увеличению норм и скорейшего выполнения плана, она одной из первых и последовательнее других подняла голос в защиту качества и красоты изделий. Шить меньше, но качественнее и с большим вкусом, время лишений миновало, людям живется все лучше, жены и дочери трудящихся должны быть не просто одеты, им надо дать возможность наряжаться, они должны лучиться жизнерадостностью! Прошло немало времени, пока руководящие организации признали политическую важность подобных требований, и ее позиция была по достоинству оценена. Но силы изменили ей, она заболела.
И этот день, поначалу ужасный для нее, принес ей настоящую радость: она воочию убедилась в том, что все, кто ее знал, полны заботы о ней, — директор и руководство профсоюза, мастер, подручные и ученики, шоферы и упаковщики, что все единодушны в решении немедленно отправить ее на длительный отдых.
Она пролежала дома десять дней, ежедневно кто-то приходил с фабрики, чтобы справиться о ее здоровье. И вот в доме появилась та самая мастер из цеха женских пальто, которая с удовлетворением сказала:
— Поедешь послезавтра в Хайлигендамм на четыре недели? Ты знаешь это место? Раньше там был курорт для всяких фон-баронов…
Тут она вспомнила о прошлом своей подруги и с улыбкой замолчала. Мама расслышала только «Хайлигендамм» и не смогла удержаться от похвал самому старому и самому фешенебельному курорту Германии. При этом ей наверняка представлялись прогуливающиеся герцоги, графини и среди них — ее дочь, она не подумала о том, что ее дочь стала швеей, и уж наверняка о том, что она будет жить во дворце, который некогда принадлежал кронпринцессе, именно благодаря этому обстоятельству, а не потому, что она была дочерью генерала Фалькенберга и внучкой тайного советника фон Штуббе.
— Немного провожу тебя, — сказала Бригитта Фалькенберг подруге, — и пойду укладывать чемодан. Вернусь из отпуска, всех вас удивлю.
Мать охотно отпустила ее, целиком погрузившись в мысли о самом фешенебельном курорте Германии. Когда подруга в шутку, немного поддразнивая, сказала Бригитте: «Смотри, не подцепи там кого-нибудь!», мама тоже засмеялась, скорее всего потому, что свои представления о мужчинах, которые будут окружать ее дочь в Хайлигендамме, сложились у нее сорок лет тому назад, когда она познакомилась там с обер-лейтенантом Фалькенбергом.
От своих грез она не очнулась и тогда, когда мастер сказала, прощаясь:
— А мы, фрау Фелькенберг, недельки через две соберемся и навестим Бригитту!
— Моя мать принадлежит к тому поколению и классу, сказала Бригитта на лестнице, — которые по-прежнему жалеют об исчезнувших бездельниках, хотя жизнь изменилась им же на пользу. В ее возрасте человеку трудно измениться. Я, кажется, убереглась от подобных взглядов.
IX
Женщина на скамье у пляжа самого старого и фешенебельного курорта Германии в испуге глянула на часы: нет, у нее в запасе еще целый час.
На террасе курзала играли свинг. Пар десять кружились в танце, столики постепенно заполнялись. Бригитта Фалькенберг быстро прошла на террасу, отыскала свободный столик и заняла за ним все места, прислонив к нему спинками три стула. Кельнер неодобрительно наблюдал за ее действиями.
— Я жду гостей, — объяснила она, — а пока принесите мне чашечку кофе.
Она почувствовала, как краснеет, потому что уверенности в визите у нее не было, да и три стула ей не были нужны.
К столику подошел мужчина. На вид ему было лет сорок, худощавый, довольно высокий, с интеллигентным, открытым, несколько утомленным лицом, с которого тепло смотрели большие блестящие глаза. В одежде чувствовалась неброская элегантность: шелковая рубашка в бежево-коричневую полоску, коричневые фланелевые брюки, белый полотняный пиджак, замшевые туфли. Ни одна деталь в одежде человека, появившегося у стола, не укрылась от глаз Бригитты, а иначе она не была бы портнихой. Почувствовав, что заливается краской, она опустила глаза. Первым заговорил мужчина, по оценивающим взглядам с соседних столиков — артист кино или гастролирующего здесь театра либо заглянувший на террасу отдыхающий из дома отдыха для интеллигенции, если не бывший офицер, которому повезло в послевоенной Германии и который, надев безукоризненно сидящий гражданский костюм, по-прежнему грезит о привилегированном положении. Но такому предположению противоречило то, что он не выглядел самонадеянным.
— Приглашение не очень-то обнадеживает, — начал мужчина.
— Приглашение? — вскинула глаза Бригитта.
— Ну, скажем, прием, — он взял один из прислоненных к столику стульев, поставил его на ножки и сел.
— Положение таково, фройляйн Бригитта: если молодая дама занимает за своим столиком еще три места, то к ней без опасения можно подсесть. Другое дело, если рядом с ней только одно занятое местечко. В таком случае следует опасаться ревности того, кого ждут, ибо при его появлении ты вскакиваешь и быстренько откланиваешься.
— Ну когда вы бываете серьезным, господин Хинрихсен? — спросила Бригитта.
— В отпуске — никогда. Меня заражает радость окружающих, — ответил мужчина. И добавил — А вообще-то я, пожалуй, чересчур серьезен. Знаете, так же как и вы, я все время в хлопотах. Мы настолько похожи, что я подумываю о том, не смогут ли два столь похожих человека найти общий язык в совместной жизни.
На какую-то минуту Бригитта почувствовала полную растерянность. Но потом весело рассмеялась.
— Я не в обиде на вашу шутку, ведь вы в отпуске. Но и я тоже!
— Однако мы могли бы попробовать, как будем ладить, несмотря на сходство наших натур, — ответил веселый кавалер, — и разрешите пригласить вас на танго.
Сначала Бригитта глянула на вход корпуса для гостей. Там никого не было. Она поднялась. И они начали танцевать. По-видимому, они танцевали очень хорошо, очень красиво, потому что некоторые пары остановились, любуясь ими. Наконец они остались единственной танцующей парой.
— Кажется, — тихонько произнес Хинрихсен и прижал к себе Бригитту чуть сильнее, чем требовал танец, — мы прекрасно подходим друг другу. Мы просто обязаны рискнуть.
Бригитта сбилась с ритма, покраснела, окончательно смешалась. И остановилась. Зрители были разочарованы. И так как сдержанность не была им свойственна, одна из девушек чересчур громко — Бригитта услышала ее — заметила:
— Ее партнер надежнее. Вести должен он.
— Я с удовольствием расцеловал бы этого милого ребенка за его прекрасный совет, — сказал Хинрихсен, когда они снова сидели за столиком.
К Бригитте вернулась серьезность: по возрасту ли ей такие курортные шутки! С этим мужчиной, так сказать курортным кавалером, она познакомилась две недели назад, он работает декоратором, вернее, главным декоратором госторговли в Берлине. Он показывал снимки оформленных им витрин. Как он выразился, его произведений. Они и вправду были маленькими произведениями искусства.
— А большего мне и не надо, — пояснил Хинрихсен, к счастью, в молодости я вовремя понял, что не состоюсь как художник. Теперь у меня гораздо больше зрителей, стань я художником, я не смог бы пробудить в людях столько жизнерадостности. А до этого я учился на портного. Но из-за искусства, из-за книг напала на меня хандра. Поверите, фройляйн Бригитта, самое большое мое желание — одеть всех женщин на свете, молодых, старых, по-настоящему красиво. Представьте, сколько людей сразу почувствуют прелесть жизни. Не смейтесь, это вовсе не самообман. Когда-нибудь раньше вы могли представить себе этот замечательный курорт, в свое время предназначенный исключительно для герцогинь, принцесс, графинь, исключительно в распоряжении трудящихся? Вот видите!
Оркестр заиграл вальс.
— Приглашаю вас, — сказал Хинрихсен, — и попробуем загладить свою вину перед зрителями как танцевальная пара!
Во время танца он продолжил:
— Между прочим, я кое-что узнал о вас. — И когда она от удивления приостановилась: — Да-да, от двух работников с вашего предприятия. До чего приятно было слышать, что ваши коллеги так хорошо о вас отзываются.
— Тем меньше я знаю о вас, — ответила Бригитта Это могло бы прозвучать вызывающе, но мягкость тона смягчила сказанное.
Хинрихсен выказал удивление.
— Но еще неделю назад я сообщил о себе решительно все, Бригитта! Свидетеля более надежного, чем моя собственная персона, я представить себе не могу. — Он вновь стал серьезным. — Я упустил только одно — я уже был женат. Десять лет тому назад. Потом война — ну и… сами понимаете.
О чем только не успела передумать Бригитта, качаясь на волнах «Голубого Дуная»!
— Будь у вас выбор, где бы вы предпочли жить, в Берлине или Лейпциге?
— Ни тут, ни там, — живо ответила она, но почувствовала, что неожиданный вопрос внес в ее душу смятение. Чтобы вернуть себе спокойствие, она спросила задорно: — А зачем мне выбирать? Разве вы хотите предложить мне какое-то место? В таком случае заметьте свою фабрику и свой коллектив я не брошу.
— Но за свою фабрику вы замуж не выходили, возразил в ответ Хинрихсен, склонный, по-видимому, не сворачивать с намеченного пути.
«За вас тоже», — хотела отпарировать Бригитта, но вальс кончился, освободив ее от необходимости отвечать, чего она; пожалуй, и не сделала бы.
Когда, они возвращались к своему столику, у входа на террасу Бригитта заметила мать и подругу. Она высвободила руку из руки партнера и поспешила к ним. Удивленное лицо Хинрихсена расцвело в улыбке, когда он понял, для кого был занят столик, и он решил закрепить за собой место.
Буквально через десять минут мама находила этого господина Хинрихсена столь же блистательным, сколь и изысканным. Вообще ко всем собравшимся на этой террасе, в большинстве прекрасно одетым людям — нерях и раньше всегда хватало, сегодня мама была склонна проявить терпимость: если заранее не знать, к каким кругам принадлежат сидящие здесь люди, то, глядя на их манеру танцевать, об этом никогда не дога даешься! Ее взгляд сопровождал Бригитту и Хинрихсена, которые опять танцевали.
— Обаятельный мужчина этот господин… как его зовут?
Мастер с довольным видом улыбнулась:
— Не будем зевать — от нас ему ее не увести.
Испуганная мама попыталась защищаться:
— Ну что вы, что вы! Я ведь даже не знаю, кто он!
На лице ее собеседницы снова мелькнула улыбка.
— Думаю, Бригитта наверняка об этом знает, фрау Фалькенберг. Мне-то кажется, он имеет отношение к промышленности.
Предположение показалось маме совершенно невероятным.
— Но что вы, что вы! Он прекрасно умеет поддержать беседу, у него такие манеры…
Подруга внимательно посмотрела на танцующего Хинрихсена.
— Судя по лицу, его можно принять за интеллигента, как раз напротив их дом отдыха. Но нет, те так хорошо не одеваются. Убеждена, он с производства. — И она решила в этом удостовериться.
Такая же мысль возникла и у мамы, но она оказалась более расторопной. Как только пара оказалась за столиком, она принялась за дело и, будучи женщиной образованной, пошла обходным путем.
— Как только подумаешь, что раньше здесь проводили время только придворные… — Но это могло оказаться бестактностью, и она вновь сманеврировала; — А впрочем, здесь такое множество прекрасно одетых людей, они тоже могут принадлежать к числу придворных, только сорок лет спустя.
Подруга, несколько задетая тем, что мама помешала ей выяснить личность Хинрихсена, пошла к цели напрямик.
— Да, — с улыбкой заметила она, — здесь тоже своего рода придворное общество, наверняка большинство из нас родилось во дворе, под черной лестницей.
Хинрихсен и Бригитта нашли, что сказано здорово.
— За это вам придется немедленно пойти со мной танцевать, — сказал в похвалу Хинрихсен. И пока подруга медлила, обдумывая, удобно ли во время танца задать партнеру вопрос о месте его работы, мама опять оказалась далеко впереди. Она спросила дочь напрямик:
— Кто он, собственно, этот господин Хинрихсен?
— Декоратор, — ответила довольная Бригитта, — а раньше был портным. Он хочет на мне жениться.
— А ты? — других вопросов у испуганной мамы уже не возникло.
— Я? Как бы там ни было, а работу я не брошу!
Танцующие вернулись к столику. Мама не проронила ни слова.
— Вам нездоровится, — спросила подруга, — может, с дороги?
— Скорее от воспоминаний, — ответила несколько помрачневшая Бригитта. И добавила: — Сорок лет назад на этой террасе мама обручилась с моим отцом.
— Чудно, — ликуя, воскликнул господин Хинрихсен, и только Бригитта поняла почему.
— Нет, не на террасе, это произошло в зале, — уточнила мама, — под открытым небом тогда еще не танцевали.
— Но, танцуя, сватались, — пошутил Хинрихсен, — и тогда, и сегодня!
— Сегодня? — подруга посмотрела на Бригитту, которая немедленно покрылась предательским румянцем. — Ну, скажи что-нибудь, — потребовала она.
Бригитта подняла глаза, ее взгляд обнял солнечный день, прекрасные светлые здания, светлых, радостных людей, и все это отразилось в блеске ее глаз, когда она сказала:
— Из старого делай новое! Сначала из своей одежды, потом из своих воспоминаний. И в конечном итоге — из своей жизни.
— И из всего мира! — заключил господин Хинрихсен, которому суждено было остаться оракулом для старой представительницы ушедшего мира.
Обходительный человек Неоконченная биография одного молодого человека
I
В первый год после смены власти господин член участкового суда доктор Теодор Бэр из Магдебурга получил письмо, которое даже его, человека всегда спокойного, сознательно наслаждавшегося благотворным влиянием пониженного давления на психику, человека, подчеркнуто держащегося вне политики, казалось, привело в изумление, более того — в некоторое волнение. Хотя волнение это проявилось лишь в том, что он, прочитав письмо, задумчиво повернул его обратной стороной, потом повернул снова, прочел еще раз, сложил, убрал в конверт, посмотрел на адрес, будто желая удостовериться, что оно направлено действительно ему, члену участкового суда доктору Бэру, затем вновь извлек письмо из конверта, перечитал его, медленно сложил и вместе с конвертом погрузил в нагрудный карман сюртука. При этом посмотрел на жену.
Это означает, что поглядел он, собственно, не на нее, не в лицо ей, он поглядел лишь на нижнюю часть ее тела, примерно на уровне бедер. Он уже давно не смотрел своей супруге в лицо, даже в тех случаях, когда говорил о ней, и она примирилась с этим. Они были женаты двадцать четыре года, и с каждым годом их совместной жизни взгляд мужа опускался во время разговоров с супругой все ниже и ниже; в конце концов, он перестал подниматься выше ее колен. А тут вдруг муж поднял глаза до уровня ее лица. Она почувствовала, что покраснела и взволновалась: наверняка в письме заключались необыкновенно важные вести, и вести эти были связаны с их семейной жизнью. Нечто подобное испытывают женщины, сдержанные по природе, из которых холод христианско-мещанской морали вытравил почти весь естественный эротизм. Если бы причиной столь необычного поведения ее мужа не явилось полученное письмо, жена могла бы истолковать этот взгляд как намек на супружеские желания. В конце концов ей было всего сорок пять.
Вообще-то в последние годы достаточно часто приходили вызывавшие волнения письма — официальные, полуофициальные, от озабоченных друзей и анонимные. Жена тоже их получала, и поводом для них всегда служила фамилия Бэр[22]. Почти всегда господин член участкового суда молча передавал письма ей. В них и обсуждать, собственно, было нечего, ведь бывают и арийские медведи, и жена знала, что тот медведь, которого она двадцать четыре года назад ухватила за кольцо, был именно арийского происхождения, хотя в те далекие времена, при кайзере, не придавали значения подобным вещам. Самих супругов Бэр поэтому уже не волновало, что власти и друзья проявляли все больше интереса к их фамилии, поскольку на вопросы подобного рода приходилось отвечать сотням тысяч их соотечественников; несколько беспокоила разве лишь мысль, что в высших инстанциях могут предположить, будто семейство господина члена участкового суда ведет свой род не от медведей из первобытных германских лесов.
Маленькая, грациозная, почти хрупкая жена, чья скромность подчеркивалась ровным пробором туго зачесанных каштановых волос, не сводила своих больших темных глаз с мужа. Они были подобны ее голосу: тихие и сдержанные; но если вдруг они начинали говорить, то звучание и глаз, и голоса было полным и ясным. Чары этого голоса и этих глаз, несомненно, еще сохраняли свою власть над господином членом участкового суда, и лишь особого рода пугливость была причиной того, что он старался пореже давать возможность голосу — звучать, а глазам — светиться. Не исключено также, что теперь он не выносил уже с такой легкостью, как прежде, то ищущее, страдающее, немного жалобное выражение, которое было свойственно ее голосу и взгляду, ему казалось, что жалоба эта подана на него и, быть может, по ней даже вынесен ему обвинительный приговор. Доктор Бэр все двадцать пять лет служебного стажа имел дело только с гражданскими делами, большей частью с разводами и распрями наследников, и, вероятно, именно из-за необходимости постоянно иметь дело с неурядицами в чужих семьях он потерял всякую уверенность в собственной жизни. А поскольку некоторые из его коллег смотрели на него в последние месяцы все более насмешливо и даже с издевкой или обрывали при его появлении разговор, то это отнюдь не способствовало укреплению твердости его духа. Вопрошающие взгляды жены были, правда, несколько иного рода, чем взгляды коллег; глаза ее не утратили способности глядеть одновременно вдаль и вглубь и находить тех, кто нуждается в помощи, казалось, они могли проникать за пределы земного мира и обретать опору или цель в высших мирах.
И теперь господин член участкового суда во всей полноте испытывал на собственной персоне взгляд этих глаз, ощущал, как он погружается в него целиком и в клочья рвется его иссохшее мужество. Он немного выпрямился и снова взялся за письмо. Но тут явился сын, и обстановка в мгновение ока переменилась.
Мальчишка шел по коридору, распевая песню: «Мы будем шагать вперед, пока все не рассыплется в прах». Он рывком распахнул дверь в гостиную и беззаботно пропел еще несколько тактов: «Ведь сегодня Германия наша…», но тут он обнаружил, что отец уже в комнате. Сын тут же преобразился, ухарское выражение исчезло с его лица и сменилось смесью раздражения, досады и плаксивости. Ему было тринадцать, но он был такой крупный и неуклюжий, что вполне сошел бы за пятнадцатилетнего. Возможно, его стремление вести себя грубо и дерзко по отношению к этому тихому дому и чувствительным родителям объяснялось несоответствием его внешнего вида и возраста или противоречием между избытком жадной до разрушения жизненной силы и окружающей его благонамеренной посредственности. Возможно, причиной подобного поведения было новое время, которое, как тогда выражались, требовало мужчин с крепкими кулаками. По всей вероятности, это было именно так, поскольку он плюхнулся на стул прежде, чем сел отец, уперся локтями в стол и пробормотал что-то невразумительное о ребятах гитлерюгенда, которые ему прохода не дают; но пусть директор напишет еще хоть сотню писем, он все равно даст в морду любому, кто вздумает оскорбить его из-за его фамилии.
— Но, Вольф Дитрих! — предостерегающе, как удар колокола, прозвучал голос матери.
— Да не называй ты меня Вольфом![23] — закричал сын. — Хватит с меня и Бэра, тут они правы.
Лицо мальчишки при этих словах приняло злобное выражение, широкий лоб покрылся сердитыми складками Удивленный таким тоном господин член участкового суда поднял свой взгляд, на сей раз даже до уровня лица Потом прозвучал его голос — сухо, сдержанно, но твердо.
— Сейчас же ступай в свою комнату! Обед тебе принесут туда!
Возражать не приходилось. Парень медленно поднялся и взглянул на мать; но поскольку она молчала, он направился к двери. И уже возле порога проворчал:
— Медведь да еще и волк! Правильно они говорят, что этого многовато, не хватает только оленя, лисицы и льва, целый зоопарк. А если бы мы были настоящими арийцами, отец давно сменил бы фамилию.
— Вольф Дитер! — В этот раз голос матери ударил набатом.
Мальчишка закрыл дверь. Но тут же приоткрыл ее снова и крикнул в щель:
— Из-за этого я их и вздул! А если директор вам на меня настучал, так знайте — в моей заднице арийского больше, чем в его роже.
И дверь захлопнулась.
Господи, откуда у него это? Этот тон, грубость, строптивость? Ведь он всегда был такой милый и обходительный мальчик. Глаза матери бросали вопросительные взгляды на господина члена участкового суда. Тот полез было в карман, где лежало письмо, но тут же поспешно убрал руку и взялся за ложку. В некотором замешательстве он все же отодвинул ее в сторону и сплел пальцы рук. Жена произнесла предобеденную молитву.
Во время еды не было произнесено ни слова. После благодарственной молитвы, когда уже появилась служанка с подносом, господин член участкового суда вынул письмо из кармана, развернул его и положил перед женой.
Жена принялась читать письмо и читала слишком долго для нескольких строк, содержащихся в нем. Затем она подняла голову, и взгляд ее устремился мимо косившейся с любопытством служанки сквозь окно и еще дальше, в далекие пределы, минуя настоящее, уходя, в прошлое, или, быть может, в будущее. Вот что содержалось в письме:
Глубокоуважаемый господин член участкового суда!
По решению учительского совета прошу Вас незамедлительно забрать Вашего сына Вольфа Дитера из реального училища, в противном случае мы будем вынуждены исключить его. Причины этого мне не хотелось бы излагать письменно, однако готов встретиться с Вами лично.
Хайль Гитлер!
Д-р Форбергер,
директор реального училища.
Чтобы вышеизложенное не привело Вас к неверным заключениям, сообщаю Вам, что данное решение не связано с причинами политического свойства, кроющимися в Вашем происхождении или Вашей позиции. Однако я считаю своим долгом оградить учеников моей школы от разлагающего влияния Вашего сына.
Вышеподписавшийся.
Когда служанка вышла, жена уронила голову и разрыдалась. Ее методика воспитания потерпела крах.
II
Господин член участкового суда нарушил данное жене шесть лет назад после нескольких споров, если только позволительно обозначить таким словом разговор супругов Бэр, обещание впредь предоставить воспитание сына супруге и после работы отправился к директору училища. В письме было нечто поразившее его: растлевающее влияние сына на других учеников, а также намек на фамилию Бэр, сделанный с коварной оговоркой, что она может быть и арийской.
Высокий, сухопарый директор в начале разговора изобразил на лице строгость и боль и держался столь прямо, что партийный значок со свастикой угрожающе сверкал, но постепенно он позволил верхней части своего тела приятно расслабиться. Конечно, он отнюдь не склонен игнорировать тот факт, что мальчик раздражен постоянными сомнениями детей в его — он просит извинения — в его, гм, расовой чистоте. Однако следует также отдать должное и ученикам, проявляющим бдительность разбуженного национального самосознания и расовое чутье. Фамилия Бэр — он просит прощения — гм, позволяет двоякое толкование, хотя сам он, разумеется, ни в коем случае не подвергает сомнению данные господина члена участкового суда. Речь, однако, идет не об этих вопросах, а о, гм, весьма низком моральном уровне Вольфа Дитера. (Тут господин член участкового суда поднял взгляд.) Да, он вынужден употребить именно это выражение: низкий моральный уровень! Несмотря на это, он, как педагог, попытался бы, применив более строгое воспитание, вернуть мальчика на стезю добродетели. Хотя он весьма сожалеет, что должен высказаться на эту тему, ибо родительский дом, известный, конечно, своей приверженностью христианским принципам, не обладает, гм, достаточной строгостью и твердостью, отличающими германскую добродетель. В то же время он пришел, однако, к мнению, которое разделяют и большинство учителей мальчика, что тот, гм, в значительной степени страдает от известного опережения в развитии, и таким образом за свои, гм, обусловленные этим ранним развитием отклонения, чтобы не сказать, гм, извращения, ответственности нести не может. Он бы посоветовал, как ни тяжело это ему самому, удалить мальчика на некоторое время из родительского дома и попытаться спасти его юную жизнь с помощью строгого воспитания в коллективе. Да, так обстоит дело.
— Я прошу сообщить мне о некоторых подобных отклонениях, — тихо произнес господин член участкового суда.
Сидевший напротив него директор выпрямился.
— Я вижу, вы не лишены самообладания.
Затем он снова сочувственно склонился, но при этом блестящий паучок на значке угрожающе приблизился к господину члену участкового суда.
— Я объясняю себе вашу разумную реакцию в этом щекотливом деле, господин член участкового суда, тем, что вы в известной степени оказались подготовленным к нему. Возможно, вы уже имели не один случай с вашей уважаемой супругой обсудить аналогичные опасения.
Корпус господина директора наклонился еще сильнее вперед, но голос стал тише — хотя, возможно, только для того, чтобы потом его можно было значительно повысить.
— Вы, мой дорогой господин доктор Бэр, хотя и являетесь членом участкового суда, относитесь к тем немногим из имеющих родительские права лицам, кои не разрешили своим детям вступить в гитлерюгенд. Первоначально ваш сын, как казалось, примирился с этим. Зачтем он, однако, понял то, что его отец должен был бы понять раньше его: долго так продолжаться не может и членство в гитлерюгенде является долгом каждого ученика и каждой девочки, имеющих чистое расовое происхождение! С десяти до четырнадцати ты обязан быть членом юнгфолька[24], с четырнадцати до восемнадцати — гитлерюгенда. И вот что вышло: ваш мальчик только первый год довольно равнодушно относился к своим товарищам, одетым в форму, а в нынешнем году все сильно изменилось. Он не только пытался, не имея права на ношение формы, участвовать во всех мероприятиях, он громче всех пел песни юнгфолька, проникал на собрания, пытался принимать участие в их занятиях и все снова и снова обещал, что принесет ваше письменное разрешение на его участие. — Тут директор выдержал паузу длительностью не меньше минуты. — Из соображений, каковые мне неизвестны, но, как полагаю я и учительский совет, у вас имелись, вы не дали такого разрешения. Таким образом, для учащихся нашего учебного заведения, принадлежащих к юнгфольку, оказалось вполне естественным проявлением долга, что они перестали допускать Вольфа Дитера Бэра на свои мероприятия. Тогда он стал появляться в кругах гитлерюгенда. В конце концов они выгнали его вон. Когда же он затем появился с настоящей нарукавной повязкой со свастикой, она была силой у него изъята, а он получил заслуженную пощечину. И что же он сделал потом? Нечто чудовищное; педагогический совет до сих пор упрекает себя в том, что тогда была проявлена непонятная снисходительность.
Лицо у директора стало таким, будто в душе его боролись гнев, отвращение и боль, и это лишило его, видимо, дара слова, так что он вынужден был взглянуть на свой партийный значок.
— Могу ли я узнать, — тихо спросил господин член участкового суда, — что сделал Вольф Дитер?
Из поля сражения противоречивых чувств лицо директора превратилось в плац для проведения парадов, а голос зазвучал подобно фанфарам.
— Когда члены гитлерюгенда пригрозили ему, что как следует вздуют его, если еще раз увидят с символом нашего движения на рукаве, что сделал он тогда? — Глаза директора насквозь пронизывали господина члена участкового суда. Тот вопросительно приподнял плечи, но промолчал. — Это было три месяца тому назад, в январе. На школьном дворе лежал толстый слой снега. И тогда ваш невинный мальчик использовал его… — гм, да, гм… — он выписал свастику на снегу.
Удивленно, слегка улыбнувшись, господин член участкового суда посмотрел на значок в петлице директора.
— И подобное деяние — я имею в виду изображение свастики на снегу или на песке — рассматривается как преступное?
— Нет, изображение свастики не есть преступление, это то, что сотни тысяч, миллионы людей делают из чувства восхищения и гордости за нашего фюрера, наше государство и наше отечество. Но чем изобразил ваш отпрыск этот священный знак? Чем?
Голос директора звучал все громче и громче, последнее же слово громом прокатилось по комнате. Это напугало и самого директора, потому что он смущенно оглянулся, наклонился вперед и произнес свистящим шепотом:
— Он… он… — И, снова оглянувшись, прошипел еще тише: — Я же сказал… он выписал ее… гм… то есть не писал, а писал. — И заключил резким, как вопль: — Свастику!
И как будто стремясь уберечь свой значок, он прикрыл его левой рукой. Затем спросил холодным, убийственным тоном:
— Ну, что вы на это скажете?
Сначала господин член участкового суда не мог на это ничего сказать. Потом он улыбнулся.
— Но, уважаемый господин директор, вы, как наставник молодежи, знаете, вероятно, что… парни в этом возрасте не вкладывают в такие вещи особого смысла. Это не имеет ничего общего ни с оскорблением нравственности, ни, тем более, с политической демонстрацией! Такого сорванца достаточно отвести в сторонку и растолковать ему что к чему, — но из этого не следует делать тех далеко идущих выводов, какие делаете вы!
Директор язвительно кивнул.
— Мы постарались вашему сыну, гм, все растолковать и предупредили его. Мы не стали ничего сообщать вам. Каковы же последствия? А? Мы еще несколько раз обнаруживали, те же, гм, те же рисунки на снегу. — И добавил быстро — И даже если в этих случаях не ваш сын был прямым виновником, а другие школьники, моложе, то несомненным можно считать тот факт, что они лишь последовали грязному примеру. А что вызвало особое беспокойство — среди этих заблудших было даже несколько членов юнгфолька! Представляете себе?!
Господин член участкового суда представил себе это, но слишком быстро отставил эту мысль в сторону.
— Если все произошло три месяца тому назад, ведь теперь май, то уже одно это доказывает, что вы и педагогический совет в конце концов расценили все это как глупую мальчишескую проделку.
Тут стаи директора снова выпрямился и голос стал злобным.
— Да, мы расценили это именно так. К сожалению, к сожалению. Мы должны были бы обратить внимание на то, что развитие это-го учащегося оказалось под влиянием других факторов.
— Этого я не понимаю, — сказал господин член участкового суда несколько тверже. — Пожалуйста, извольте объясниться.
— Как угодно. Я хотел пощадить ваши чувства, вы ведь все-таки отец. Если такое деяние, которое совершил ваш сын, и последующие события подтверждают это, — итак, если, во-первых, подобное деяние уже начало сказываться на нравственном облике других учащихся, то тогда, во-вторых, должно произойти нечто еще. более опасное. Мальчик значительно опередил в физическом развитии свой возраст и далеко ушел в отношении, гм, полового созревания. Пока никому не удалось застать его зa какими-нибудь нечистыми занятиями, но для меня, воспитателя с достаточным опытом, нет сомнений, что это может произойти в любой день. Во всяком случае, я предупредил.
Удовлетворенный воздействием своего пророчества, директор взирал на уничтоженного, молчащего отца снова с некоторой благосклонностью.
— И на основании этого предположения вы хотите исключить мальчика из школы? — спросил наконец господин член участкового суда.
Непредвиденное сомнение в его педагогических талантах и предпринятых мерах заставило опытного воспитателя вскочить со стула.
— Господин член участкового суда! Знаете ли вы, что такое косвенные улики? Полагаю, что, как юрист, вы должны это знать. Как отец, вы, вероятно, это тоже знаете. Известно ли вам, что еще совершил этот невинный ребенок? Он имел наглость перед членами гитлерюгенда высмеивать боевые песни нашего движения и петь детям другие песни, непристойные! При этом хвастался, будто эту грязь поют штурмовики!
В волнении директор прошелся по комнате и остановился под портретом фюрера, повернувшись к нему лицом, как будто испрашивал прощения.
— Так вот что, оказывается, натворил Вольф Дитер? Господин член участкового суда улыбнулся. — Вот уж не поверю. Не поверю, потому что мой оболтус даже дома но весь голос орет часто грубые песенки, которые он слышит на улице.
Господин член участкового суда от удивления забыл уже о странных обвинениях, предъявленных своему сыну, он забыл, где находится и с кем говорит. Когда господин директор реального училища рывком повернулся к нему, тот понял свою ошибку. Но над ним опять бушевала гроза:
— Ввиду тех последствий, которые могут иметь место — уже для вашей службы — после высказанного не кем-нибудь, а господином членом участкового суда, мнения о боевых песнях движения, я не буду принимать его во внимание как лицо официальное, господин член участкового суда. Но я считаю нашу беседу законченной и извещаю вас лично, что ваш сын освобождается от посещения школы еще до завершения этого дела.
Покачивая головой, встал и господин член участкового суда.
— Не могли бы вы мне по крайней мере сказать, какие же непристойные песни, по вашим словам, пел он членам гитлерюгенда?
— По моим словам? Словам? — с издевкой переспросил директор. И добавил жестко: — Пел! Пел! — А закончил с иронией: — Вы знаете такую песню «Милый май, тебя я жду…»?[25]
Исполненный удивления господин член участкового суда вынужден был улыбнуться.
— Она тоже уже запрещена? Как «Лорелея» и…
Что должно следовать за и, он сказать не успел.
— «Лорелея» этого еврея Гейне может быть связана с прекрасной песней о мае только посредством грязных выходок учащегося Вольфа Дитера Бэра, господин доктор Бэр! И я говорю об этом более чем только в прямом смысле!
Директор гневно поглядел с высоты своего полноценного арийского самосознания на господина члена участкового суда, который был заметно ниже ростом.
Тот побледнел. Скоро, однако, медленный ток его крови снова ожил и щеки порозовели. Может быть, весь мир сошел с ума, не один его сын? Голос его стал просто громким:
— Да что же, во имя всего святого, может быть неприличного в «Майской песенке»? Я настоятельно прошу вас сказать мне это! Вы выдвигаете обвинения…
— Вы что, прикажете мне петь эту пакость?! — грозно прокатилось по комнате. — Ну хорошо, я вам сейчас расскажу. Господин штудиенрат Шлееман застал вашего невинного отпрыска, когда он рассказывал группе ребят, да еще одетых в форму, о том, что он слышал у штурмовиков песню получше тех, которые поет гитлерюгенд. Господин штудиенрат Шлееман не вышел из-за куста, так как решил, что речь идет о честном, добром деле, и это его порадовало. Но что он услышал? Это так же невероятно? как и постыдно! Мальчишка запел песню в такой непристойной манере, что его глубокая распущенность, да-да, его склонность к цинизму, которые, гм, следует, видимо, считать врожденными, тут стали очевидны. Он выпускал половину слов и заменял их бесстыдным мычанием! Да-да!
Не только господин член участкового суда, но и другой на его месте вряд ли понял бы сразу, как можно непристойно мычать. Поэтому он с недоумением воззрился на директора.
— Господин штудиенрат Шлееман пересказал нам ее.
Этого действительно сразу не поймешь. И таким вот образом ваш сыночек пел детям немецких родителей немецкую «Майскую песенку» и отравлял таким образом немецкие юные души!
И в своем праведном гневе директор реального училища с декламации перешел на пение и мычание:
Милый мой, тебя я жду. Хм-хм-хм, хм-хм-хм. Будем вместе мы в саду. Хм-хм-хм, хм-хм-хм. До чего же мне приятно, Хм-хм-хм, хм-хм-хм, Ах, мой милый, как приятно. Хм-хм-хм, хм-хм-хм.Напуганный своим собственным пением и мычанием, директор внезапно прекратил его:
— Вам этого достаточно?
Да, этого оказалось достаточно даже для отца. Хотя и не как причины для исключения певца из школы. Возможно, это было всего лишь угрозой и господин член участкового суда решил, что в его интересах проявить гибкость.
— Видимо, я сделал ошибку, не разрешив Вольфу Дитеру вступить в юнгфольк. Я полагаю, он чувствовал себя из-за этого обделенным и пытался, хвастаясь своим физическим превосходством, произвести на своих сверстников впечатление. Итак, я не возражаю против того, чтобы Вольф Дитер стал членом гитлерюгенда.
Директор откинулся далеко назад и схватился при этом за ручки кресла, будто собирался откинуться еще дальше. Он раза два кивнул, подчеркнуто медленно, и это придавало особую остроту убийственным взглядам, которые он бросал на господина члена участкового суда, и тем язвительным словам, которые потом произнес:
— Так-так, вы ничего не имеете против того, чтобы ваш мальчик вступил в гитлерюгенд. Это очень любезно с вашей стороны. — И тут он дал залп из всех орудий: — Но гитлерюгенд и руководство школы имеют кое-какие возражения. Знаете ли вы, что еще натворил ваш парень? Я хотел избавить вас от худшего, поэтому предложил вам забрать вашего сына из школы. Вы настаиваете на разговоре об этом, — ну что ж!
Он поднялся опять. Господин член участкового суда встал тоже. Но поднялась только его телесная оболочка, внутренне же он весь сжался, сердце его упало.
— Господин директор… — начал он. — Моя политическая благонадежность так же безупречна, как и мое происхождение. Иначе я был бы отстранен от службы. Я заберу Вольфа Дитера из школы, если вы мне сообщите, что он там еще, по вашему мнению, натворил.
— По-моему? Опять вы говорите — по-моему? Он сделал это. Нечто ставящее под угрозу мое служебное положение, если я не предприму решительных шагов. Ваше служебное положение, кстати, тоже.
— Да, но что случилось?
— Он — тринадцатилетний дурень — после того как попытался представить в — скажем — смешном виде священный символ нашего движения и государства, он затем действительно осквернил его!
Тут господин член участкового суда с перепугу опять сел. С болью и злорадством в лице господин директор изготовился к завершающему смертельному выпаду. А поскольку жертва была беззащитна, он позволил себе еще два-три фехтовальных приема:
— Хотя ваш сын и не состоял в юнгфольке, он, учитывая его физическое развитие и тот факт, что ему скоро исполнится четырнадцать, был еще раз представлен для принятия в гитлерюгенд. Решение вопроса затянулось. Именно потому, что он не состоял в юнгфольке. И из-за фамилии тоже. Он проявлял свое неуемное рвение — или пытался скрыть действительный образ мыслей, — распевая повсюду песни движения. Пытался даже поднимать утром перед началом уроков флаг на школьном дворе. Этого нельзя было допустить. Тогда он однажды принес в школу свой собственный флаг. Что ж, почему бы и нет. Когда же ему, однако, запретили прицепить свой флаг на флагшток, рядом с имеющимся, он все-таки вывесил его, так, что пришлось флаг снимать. Он водрузил его — где бы вы думали? Это можно объяснить только проявлением наследственного цинизма. Где он его вывесил? Да, господин член участкового суда доктор Бэр… — И тут директор нанес решающий удар: — Над входом в уборную для мальчиков во дворе школы!
И господин директор победно наступил на грудь пораженной им жертвы:
— Этого вам достаточно? — Но тут же дал ей немного перевести дух: — Во всяком случае, этого должно быть вам достаточно, чтобы понять ту невероятную снисходительность, какую я проявил по отношению к вашему сыну и его семье.
III
Вольфа Дитера забрали из реального училища, и первое время он оставался дома. Хотя господин член участкового суда поверил ему в том, что выбор столь необычного места для водружения флага не был связан со злым умыслом, настроение в доме Бэров добрых две недели было подавленное. В полной беспомощности господин член участкового суда спросил сына, как тому вообще пришло такое в голову.
— Да господи, — простодушно ответил Вольф Дитер, — потому что это как раз возле флагштока. Куда бы я еще делся со своим флагом? Должны же были его увидеть. Эти, из гитлерюгенда, и чертовы учителя. А заведение во дворе, уж там-то все бывают.
Обуреваемая сердечным волнением, мать преодолела стыд и доверилась одному другу их семьи, который заехал навестить Бэров по дороге из Гамбурга в Галле, где он жил, инженеру, человеку вообще очень практичному Он битых полдня дрессировал Вольфа Дитера, а вечером заявил притихшим родителям:
— Знаете, чего этому шалопаю не хватает? Время от времени хорошей оплеухи. Крепкая палка тоже сгодится. И когда займетесь этим, не забудьте поучить и директора. Этого идиота!
Взгляд отца остался скептическим, а мать расцвела. Однако педагог-любитель, приверженец старомодных приемов воспитания, еще не кончил.
— Конечно, сказать легко, но — вы, и вдруг палка. Ведь вы оба вне политики! Да еще с таким мальчиком! Нет, ему надо расстаться с вами, в воспитатели в такое время вы действительно не годитесь. Я возьму его с собой в Галле, оба моих сына быстро вправят ему мозги. Они ему и в школе помогут справиться. Наш директор — мой старый друг. Согласны?
Глаза жены наполнились слезами и засветились сквозь влажную пелену еще удивительнее. Господин член участкового суда смог только молча пожать руку друга. Однако тот еще не закончил свою речь. Он перевел взгляд с одного на другого, покачал головой и снова поглядел на обоих. Потом все-таки не выдержал:
— Извините, но я уже года три-четыре все думаю: как это вы, такие замухрышки, и вдруг родили эдакого богатыря. Как будто пара воробьев, выкормившая кукушонка. У парня в тринадцать лет фигура гренадера, лапы льва, нрав разбойника, но при этом он добродушен и обходителен, совсем не глуп, да еще это крупное, широкое лицо, пышные белокурые волосы, глаза — у вас есть кто-нибудь из родственников с такой внешностью? Или это ошибка молодости?
Жена испугалась и посмотрела на мужа. Поскольку он не ответил ей взглядом, она вынуждена была признаться во всем. Нет, ребенок, доставлявший столько хлопот, не был плодом незаконной любви ни матери, ни отца. Она даже покраснела, оттого что только мысленно произнесла бесцеремонное выражение, которое употребил их друг. Просто через десять лет после свадьбы, когда стало ясно, что детей у них не будет, господин член участкового суда уступил настояниям супруги, и они взяли ребенка из воспитательного дома, внебрачного.
— А мать?
— Мать его аристократка, баронесса Вальдхаузен из Тюрингии, которая вышла замуж и уехала за океан.
— А отец?
Неизвестен. Семья матери отказалась его назвать. Вообще они договорились хранить все в строжайшей тайне, чтобы мальчик не узнал о своем происхождении. Да никто об этом и не знает. Оба относились к нему как к родному сыну, и он платил им нежной любовью. Тут господин член участкового суда вздохнул, а мать вся засветилась от прилива материнских чувств. Не даром она была истовой приверженкой христианского движения за материнское право.
— Ну, теперь я приручу вашего медвежонка, — сказал инженер при прощании и сердито кивнул в сторону Вольфа Дитера. — Но те палки, которые я об него обломаю, оплачивать придется вам.
Широкое лицо Вольфа Дитера расплылось в улыбке.
— Я сэкономлю на них из своих карманных денег, дядя Герман, — ответил он за родителей.
— Чувство юмора у него тоже есть, — расцвел жестокий воспитатель и хлопнул воспитанника по спине, словно в продолжение разговора, во всяком случае одобрительно
IV
О Вольфа Дитера Бэра не пришлось обламывать палок, достаточно было при случае дать ему оплеуху и пригрозить отправить домой. Дружбе это никак не повредило, наоборот: все четверо были чрезвычайно довольны найденным решением. Собственно, мать сначала очень страдала от разлуки, но от Магдебурга до, Галле расстояние невелико. И ей было приятно теперь слышать, что Вольф Дитер славный, обходительный мальчик, всегда готовый помочь другим. Это подтверждала даже прислуга. Бэры не воспринимали трагически и тот факт, что в школе Вольф Дитер не блистал особыми успехами, как ни старались ему помочь сыновья дяди Германа. До аттестата они его все же дотянули. Гордый, будто получил докторскую мантию, Вольф Дитер. Бэр вернулся через три года в родительский дом. Его гардероб увеличился на один костюм — у него была теперь форма гитлерюгенда без знаков отличия.
И что же дальше? По мнению господина члена участкового суда, мальчик не получил никакого образования, а по мнению Вольфа Дитера — вполне достаточное, чтобы добиться в третьем рейхе чего угодно. Было три пути, которые, как он считал, ведут к цели кратчайшим, образом: стать начальником в «Трудовой повинности»[26], избрать карьеру эсэсовца (в связи со своими физическими данными, как он гордо подчеркивал) или пойти в офицеры. В последнем случае, конечно, во флот. Поскольку отец и слышать не хотел ни об одной из этих блестящих возможностей и говорил о какой-нибудь коммерческой профессии, например о банковском деле, в доме произошла, насколько это вообще возможно в доме Бэров, ссора, она закончилась заявлением Вольфа Дитера, что он-де рожден не для каких-то там мелких торгашеских делишек, ему и так пришлось немало пострадать от своей двусмысленной фамилии. Короче говоря, он еще год просидел в доме родителей, с иронической ухмылкой сносил безуспешные попытки нанимаемых матерью, часто менявшихся домашних учителей, стремившихся повысить его интеллектуальный уровень. Вольф Дитер с успехом выказывал этим вшивым очкарикам презрение полноценного, воспитанного в духе третьего рейха героического человека действия.
Тут произошло событие, одним ударом разбившее все надежды матери на то, что сына все-таки удастся подготовить к какой-нибудь отчасти интеллигентной профессии. Выяснилось, что Фрида, тридцатидвухлетняя прислуга с безупречным шестилетним стажем, оказалась в интересном положении; и когда фрау Бэр мягко упрекнула свою помощницу и сказала, что вынуждена попросить ее покинуть на некоторое время дом, дабы не подвергать опасности нравственность сына, оказалось, что виновником случившегося был сам Вольф Дитер. В связи с этим господин член участкового суда принял решение о необходимости незамедлительного удаления виновника из дома. Он настоял на этом несмотря на слезы матери и служанки Фриды.
Но куда его деть? На этот раз даже дядя Герман уклонился от помощи. Он написал: «Пошлите его в деревню! В какие-нибудь плодородные земли, в Мекленбург или Померанию. Там он перебесится, внеся свой вклад в увеличение сельского населения, и еще получит за это орден!»
Тут мать припомнила о своей подруге по пансиону, которая вышла замуж за помещика Крюгера из Фюрстенхагена, что в Мекленбурге. Она поехала туда, вернулась и поехала вновь, взяв с собой Вольфа Дитера. Так для Вольфа Дитера Бэра начались годы деревенского ученичества в Фюрстенхагене.
V
К несчастью, фрау Бэр, обмениваясь с подругой воспоминаниями детства, сетуя на современную молодежь и исповедуясь в своих материнских заботах, в связи со способностью Вольфа Дитера вызывать у всех симпатию сообщила и историю происхождения молодого человека. Но когда по принятии нюрнбергских расовых законов стали требовать более строгих доказательств арийского происхождения от профессиональных хранителей немецкого рода и немецкой земли и районный бауэрнфюрер[27] выдвинул против землевладельца из Фюрстенхагена обвинение в том, что тот держит у себя ученика по фамилии Бэр, землевладелец пожаловался своей супруге, и та выдала тайну. Не прошло и недели, как тайну узнал и Вольф Дитер, который с тех пор бегал по деревне, будто именинник. Всем в деревне, даже последней скотнице, он сообщил, что настоящее его имя вовсе не Бэр, что чисто арийская чета Бэр только взяла его на воспитание, на самом же деле он из семейства фон Вальдхаузен, то есть даже барон. После этого деревенская молодежь женского пола еще охотнее, чем до сих пор — если была такая возможность — заключала его в свои объятья. А господин Крюгер, землевладелец, напрочь позабыл о том, как нередко ему приходилось угрожать, а еще чаще и награждать своего ученика оплеухами, и с этих пор относился к нему в известной степени как к почтенной особе. Не столько из-за не скрепленного грамотами дворянства, сколько из-за нового качества, в котором выступил господин Вольф Дитер фон Вальдхаузен, и того уважения, что он быстро снискал в глазах местных партийных властей и утвердил своим стремлением организовать в деревне конный эсэсовский отряд. Господин Крюгер с удрученным видом вспоминал вечера, когда он, сидя за столом в кругу семьи, вел неосторожные речи об имперском фюрере кормящего сословия, об этом идиоте Дарре, о горлопане Геббельсе, об «иконостасе», которым украсил себя Геринг, или о бабьей крикливости Адольфа. Если это всплывет, высылка Крюгеру обеспечена. Целую неделю он ходил с задумчивым видом и предусмотрительно вступил в партию. А затем, чтобы быть уж совсем спокойным, рекомендовал жившим достаточно далеко от него деревенским друзьям своего недоучившегося подопечного полублагородных кровей как чрезвычайно способного управляющего.
Но Вольф Дитер Бэр фон Вальдхаузен не был человеком подлым, он и не думал доносить на своего кормильца, как не думал и о том, чтобы покинуть Фюрстенхаген и занять новую должность. Он стал действительно хорошим хозяином, всегда дружелюбным и обходительным, так что в Фюрстенхагене плодилось и размножалось все — растения, животные, крестьяне. В благородстве ему тоже нельзя было отказать: он не уклонялся от уплаты алиментов, кто бы их с него ни требовал.
Поскольку, однако, он всегда подписывался своим законным именем — Вольф Дитер Бэр, — а гордые матери, называя отца своих детей, величали его Вольф Дитер фон Вальдхаузен, то не обошлось без недоразумений в судах. Пытаясь объяснить их, он добавил к имеющимся недоразумениям странный документ. В нем было написано:
«Я что, должен отвечать за то, что пишут девчонки? Собственно, являясь бароном фон Вальдхаузеном, перед законом я, как усыновленный, только господин Бэр, но все равно чисто арийского происхождения».
Такое неаристократическое поведение, когда о нем стало известно в Фюрстенхагене, значительно остудило пыл девиц, и тех, кто успел стать матерью, и тех, кто только готовился к этому, и Вольф Дитер был вынужден некоторое время ходить в другие деревни. Однако этого гордость женского населения Фюрстенхагена долго вынести не смогла. Они снова залучили к себе этого благородного медведя, и он опять стал предметом их охотничьих рассказов — это глубокое изречение приписывается учителю Буххольцу; оно было выбрано в качестве лозунга, и «Бэр фон Фюрстенхаген», то есть «Медведь из Фюрстенхагена», стал, вместо партийного орла, геральдическим животным целой округи. Во всяком случае для женской части населения. Так что, как говорил страдавший по концлагерю учитель Буххольц, каждая молоденькая девушка получала возможность стать баронессой.
Но тут имперский шеф СС Гиммлер одним махом перечеркнул сказочную идиллию фон Фюрстенхагена. Расовая служба потребовала, чтобы ученик землевладельца Вольф Дитер Бэр, по прозванию фон Вальдхаузен, официально доказал свое арийское происхождение для вступления в ряды СС, причем представлены должны быть не только сведения о приемном отце, но и о незаконном муже настоящей матери и его предках.
Вольф Дитер обратился к своей матери, фрау Бэр, и попросил сообщить ему адрес своей настоящей матери, баронессы Вальдхаузен. Вместо ответа мамаша Бэр примчалась сама и заклинала сына не касаться вещей, о которых в свое время поклялась никогда даже и не вспоминать, но в конце концов она пообещала сама навести справки о благородном семействе. Всего же она провела в Фюрстенхагене восемь дней и ласкала, сама не зная глубинных причин, вызывавших волнение чувств, всех попадавшихся ей сопливых светловолосых ребятишек: некоторые из них наверняка доводились ей внуками.
Она написала в Тюрингию в баронский замок, но не получила ответа. Поэтому у Вольфа Дитера, когда она уехала, постепенно сложилось впечатление, будто она, являясь мещанкой, не выдержала аристократического тона и написала слишком фамильярно-доверительно. И он написал сам. Причем еще более родовитой матери своей родовитой матери:
«Милостивая государыня баронесса, дорогая уважаемая бабушка!
Не пугайтесь подобного обращения, оно вызвано потребностью еще неизвестного Вам сердца. Я знаю все. Но я счастлив. Уже в юности слышал я внутренний голос, говоривший мне, что чем-то я выше окружающих. Это послужило поводом для многих стычек с моим приемным отцом доктором Бэром, членом участкового суда, который не понимал меня, хотя у него происхождение и чисто арийское. Из-за того, что у меня теперь возникли трудности с вступлением в СС и я не могу служить фюреру так, как мне хотелось бы, мне нужны сведения о моем отце. Поскольку таковых сведений не оказалось, нижайше прошу Вас, дорогая бабушка, мне их сообщить. Я не запятнаю ни его, ни вашей чести. Я крестьянин и управляю здесь большим имением. Потом я сам хочу стать землевладельцем, так что имя Вальдхаузен навсегда сохранит традиции древних германских родов.
С немецким приветом нижайше
преданный Вам Вольф Дитер
фон Вальдхаузен, называемый Бэр».
Письмо стоило ему тяжелого труда, особенно конец. Будет ли правильнее написать Вольф Дитер Бэр, называемый Вальдхаузен, или большее впечатление произведет сначала фамилия Вальдхаузен, а фамилию Бэр, явно относящуюся к третьему сословию, лучше отодвинуть на задний план? Вольф Дитер решил, что для него сейчас важнее произвести впечатление. И потом как написать. «Хайль Гитлер!» или «С немецким приветом»? «Немец приветствует словами „Хайль Гитлер!“» — такие плакаты висели даже в деревенской пивной и в лавке, однажды Вольф Дитер сам потребовал объяснения от учителя, потому что тот сказал «Добрый день». Он знал, конечно, что в некоторых аристократических кругах любовь к фюреру по непонятной причине не стала еще таким само собой разумеющимся явлением, как в третьем сословии. Рабочие для Вольфа Дитера ничего не значили, а крестьяне были все сплошь за Адольфа. И, как человек осторожный, он выбрал «немецкий привет».
Но бабушка и тут ничего не ответила. Ввиду того что Вольф Дитер, следовательно, не мог сообщить руководству СС, кто его отец, с СС ничего не вышло, а конный отряд возглавил сын местного бауэрнфюрера Клееманн. Почему в деревне и распространился слух, будто Бэр из Фюрстенхагена никакой не барон, а всего-навсего Бэр и, может быть, даже не арийского происхождения. Почему Вольф Дитер и вздул Клееманна-младшего, а с ним заодно и пять отроков из эсэсовского конного отряда. За что и был исключен из кандидатов в этот отряд. Он отправился к дяде Герману в Галле и попросил того взять дело в свои руки и раздобыть ему арийского отца.
VI
Дядя Герман взял дело в свои руки, а так как руки эти принадлежали человеку энергичному и не раздумывавшему о выборе средств, то есть следовавшему принципу фюрера, который гласил: в политике цель оправдывает любые средства, лишь бы она вела к успеху, поэтому дядюшка и не побоялся взяться за укрощение дворянской спеси оскорбленной титулованной бабушки. Это следует понимать так, что баронесса сначала не ответила и на послание дяди Германа, хотя тот с самого начала выразился очень ясно. Но когда после первого послания он отправил второе, где пригрозил довести до сведения суда, бюро актов гражданского состояния и руководства СС, что речь идет о незаконнорожденном сыне баронессы Дитлинды фон Вальдхаузен из Вальдхайма в Тюрингии, дочери баронессы Эдельгардины фон Вальдхаузен, урожденной графини фон Нофайль, которая могла бы предоставить необходимую информацию вместо отсутствующей дочери, он получил ответ. К сожалению, использовать его дядя Герман никак не мог, ибо состоял он всего из двух строк:
«Господину инженеру Г. Бекеру, Виттенберг.
Избавьте меня от Ваших посягательств. Иначе я подам на Вас в суд за оскорбление семейной чести.
Эдельгардина баронесса фон В.».
Даже свое имя не потрудилась написать полностью.
Но дядя Герман был не тот человек, от которого можно так легко отделаться. Теперь уже он почувствовал оскорбленным себя и стал воспринимать дела Вольфа Дитера как свои собственные. Не вообразила ли эта аристократическая сволочь, что в третьем рейхе можно обходиться со своими соотечественниками из третьего сословия также, как во времена Веймарской республики? Он сел в поезд и отправился в путь, полный решимости в случае неудачи написать заместителю фюрера и обратить его внимание на определенные круги. Дядя Герман, как бывший подмастерье в масонской ложе, вступил в партию ценой больших усилий и боялся сам попасть на заметку поэтому приберегал этот ход на крайний случай.
Сначала он ничего не добился. Благородная госпожа не снизошла до встречи. И когда господин инженер Бекер снова отправил ей свою визитную карточку с просьбой о срочной встрече, слуга вынес ее к подъезду и сказал, что госпожа баронесса велела передать: если Бекер немедленно не покинет замок, на него спустят собак.
— Мы держим догов, — добавил лакей с ухмылкой.
Дядя Герман обругал замок, старую ведьму, своего подопечного и решил было уехать. Он уже расплачивался за гостиницу, когда в громкоговорителе загремел голос министра пропаганды. И хотя речь шла о внешней политике, в самую сердцевину души дяди Германа запал афоризм, выражавший мудрость новой империи: «Для нас нет ничего невозможного. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать». И он решил их преодолеть. Для этого он заново снял номер и стал выдавать себя за краеведа, исследователя генеалогии и т. п.
В этой роли он стал расспрашивать хозяина гостиницы и деревенских жителей о баронском семействе, намекая на свой интерес к народным обычаям, немецкой земле и наследию предков, но все время стараясь поближе подобраться к младшей баронессе. То, что ему удалось выяснить, не приблизило его к цели. Ему охотнее рассказывали о старой баронессе, и тут все были едины во мнении, что она ведьма. «Молодой барон» — этот так себе, тряпка, а вообще-то неплохой человек. Младшая баронесса — так она еще молодой уехала. Настоящий ангел, ни грамма спеси. Была у нее какая-то история. С французским графом. Нет, с английским бароном. Нет, он был из родовитых, но немец, старуха же сочла, что он им не ровня, ей, видишь ли, принца подавай. Да нет же, вовсе он не родовитый, а ученый, из простых. Ни то и ни другое: он был помощником проповедника. Ни в коем разе — обычный школьный учитель. Тогда-то старуха и Увезла ее отсюда; сейчас, говорят, она в Африке. Вот и все.
Вне себя от неудачи, дядя Герман решил уж и вправду Уехать, но тут он получил записку, переданную слугой, в этот раз подобострастным. В записке значилось, что господин инженер Г. Бекер может, если сочтет это для себя удобным, прийти в замок около шести после полудня, барон имеет ему нечто сообщить. Поскольку дядя Герман не забыл о догах, он прихватил с собой толстую трость.
«Молодой барон» оказался мужчиной лет пятидесяти, маленьким, хилым, немного сутулым и необычайно любезным. Желает ли гость выпить красного вина или рейнского? «Надо произвести впечатление», — подумал дядя Герман и сказал, что пусть, мол, господин барон не беспокоится, он обойдется рюмочкой коньяка.
Они выпили по нескольку рюмок, обменялись мнениями о погоде и, когда добрались до сигарет, барон дребезжащим голоском заговорил о деле.
— Я знаю, зачем вы здесь. Мне деревенские сказали. Кроме того, и моя мать говорила. Чтобы вы не устроили скандала по поводу неприятной истории, которая давно бы поросла быльем, если бы не этот идиотизм с расовыми законами… — тут барон спохватился, несколько напуганный партийным значком, надетым дядей Германом специально, мило улыбнулся и, чокнувшись за здоровье гостя, продолжал: — Вы извините меня за такое высказывание по поводу вашей профессии, господин генеалог. Итак, я расскажу все, что знаю. Но это ничего не даст. Ни вам, ни моему племяннику, ради которого вы так стараетесь!
Он помолчал. Лицо его, до сих пор остававшееся насмешливым, стало серьезным, почти злым. Неожиданно он протянул гостю руку и спросил:
— Обещаете, что будете молчать об этом?
Дядя Герман протянул уже было ему руку, но вовремя понял, что чуть не угодил в ловушку, и убрал руку.
— Если я пообещаю молчать, господин барон, то дальше и говорить не имеет смысла. Я ведь приехал сюда не для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Полученные сведения я хочу использовать, чтобы помочь некоему молодому человеку. Зачем вы позвали меня, если ни о чем не хотите рассказывать? Или речь пойдет о настолько высокопоставленном лице?
Сидящий напротив барон опять принял насмешливый вид.
— Вот именно! — И тут хилый барон засмеялся громко и с удовольствием. — Вы правы, что нам эти высокопоставленные лица!
Он хихикал, его реденькая бородка клинышком подрагивала, а поскольку он при этом согнулся еще сильнее, чем ему было предназначено природой, то стал похож на ссохшегося фавна в костюме.
— Семья моя, господин генеалог, очень музыкальна. Один из наших предков был известным композитором. Дитер фон Диттерсбах тоже относится к нашей семье. — Барон показал на стены. Там висели картины великих композиторов и необычные музыкальные инструменты, в углу стоял черный рояль.
Дядя Герман с удивлением осмотрелся. Обычно ведь у таких господ на стенах были развешаны ружья и рога. Забавный тип этот барон. Даже если он стал таким из-за своего происхождения. Знаем мы таких.
И вот барон начал свой рассказ:
— Это было в тысяча девятьсот восемнадцатом году, летом. В музыке я находил утешение перед лицом грозящей моей родине катастрофы, об этом я не смел говорить с моей матерью. Моя сестра Дитлинда — именно так-с, это она — была еще музыкальнее, чем я. Семнадцатилетняя мечтательная девушка. Не очень умная, скорее простодушная. Слишком много близкородственных связей в семье, — он презрительно усмехнулся. — Что вы, как специалист, бесспорно заметили и по моей внешности.
Дядя Герман испугался, потому что он действительно это заметил, но, приняв оскорбленный вид, поднял как бы в знак протеста обе руки. Однако барон, улыбаясь, продолжал:
— Я хочу только сказать, что если вы прибыли в надежде собрать для вашего подзащитного германские мифы о валькириях, то вы попали не по адресу. Валькирий и Зигфридов вы не встретите здесь даже в музыкальной интерпретации Вагнера. Да, это в третьем рейхе тоже имеется. Вы обладаете музыкальными способностями?
— В очень небольшой степени, — признался дядя Герман и беспомощно взглянул на стены. Имена Пауля Линке, военного дирижера Фузеля и Герма Нильса путались у него в голове. Кто там из них написал песню о Лили Марлен у фонаря? Будем надеяться, что этот помешанный на музыке фигляр не спросит. Тут, слава богу, барон продолжил свой рассказ:
— Итак, в тысяча девятьсот восемнадцатом году здесь у нас были военнопленные из разных стран. С теми из них, кто хорошо пел, я свел дружбу и приводил их в замок. Мы вместе пели, и я записывал их старинные песни. Сестра помогала мне и пела вместе с нами. Едва только подумаю… — Тут он подумал и на некоторое время замолчал.
— Среди них был один, молодой, здоровый, симпатичный русский. Да что, собственно, значит — русский? Он был родом откуда-то с левого берега Волги в ее нижнем течении, восточнее Самары, ближе к степям.
Барон посмотрел на дядю Германа так, будто ожидал от него дальнейшего описания тех мест. Дядя Герман не имел о них ни малейшего представления, он знал только, что для русских Волга то же самое, что Рейн для немцев Поэтому дядя Герман энергично закивал, хотя он был удивлен и несколько обескуражен. А барон заговорил снова:
— Поразительный парень. Молодой, высокий, широкоплечий. узкобедрый, открытое лицо с немного грустными карими глазами, добавьте к этому несколько противоречащие чертам лица пышные, почти белые, волнистые волосы, широкий лоб, выдающиеся скулы, прямой благородный нос, мягкий рот — да, невероятно симпатичная внешность. Почти благородная. И это впечатление подкреплялось степенными движениями и дружелюбной, но сдержанной манерой держаться. А голос у него был какой… Мягкий, задушевный, как женский альт. Видимо, и душа нежная. Как она попала в такое мощное тело, знают разве что русские боги.
Барон слегка подмигнул, но, видимо, он чувствовал себя не совсем уютно после такого хвалебного описания какого-то русского под лучами сверкающего на пиджаке дяди Германа партийного значка и добавил:
— Если только у них еще остались какие-то боги.
Дядя Герман решил, что ему правильнее всего тоже не говорить ничего определенного, скорее надо опасаться последующих открытий, поэтому он тоже слегка подмигнул. Барон кивнул:
— И кто же был обладателем столь роскошной внешности? Деревенский парень или пастух из степей. Вот так.
Дядя Герман беспомощно поглядел на барона. Такое красочное описание военнопленного не должно же означать…
— Я долго не мог подметить в его лице ничего необычного, хотя оно наверняка присутствовало. Меня это особенно интересовало, потому что причина внешнего очарования парня и волшебного звучания его голоса могла быть одна. Наконец, я распознал в нем киргизскую кровь. Пойдите меня правильно, речь идет не о его родителях. Но его дедушка, в крайнем случае прадедушка, наверняка был сыном русского, возможно белоруса, и татарки или киргизки. Вероятнее всего последнее. Отсюда и его нос, указывающий на благородную монгольскую кровь.
Барон поглядел на гостя и замолчал, как будто ждал от него, специалиста в таких делах, признания собственных заслуг в любительских исследованиях расовых признаков. Однако господин инженер Герман Бекер, хотя и был партайгеноссе, мало что знал о киргизах и монголоидах вообще, и о тех, у кого благородные носы, и о тех, у кого носов вовсе нет.
— А сам молодой человек ничего об этом не говорил? — спросил дядя Герман, только чтобы что-то сказать.
Барон улыбаясь покачал своей маленькой головой.
— Это поразительно, господин генеалог: происхождение не интересовало молодого человека ни в малейшей степени. Он был жив, был молод, и этого ему вполне хватало. Вещь неслыханная в третьем рейхе, не правда ли? Парень не был также ни угловат, ни резок в движениях, нет, напротив, я уже сказал, что при всей сдержанности он был обходителен со всеми, были ли это его товарищи или наши рабочие. Короче говоря, великолепный образец человеческого рода. Да, и прежде всего голос… — Воспоминания заставили потеплеть голос барона. — Казалось, он внутренне плачет, когда поет. Можете себе это представить? Парень, здоровый, как медведь, и плачет, когда поет. И при этом пел он по-русски. Когда я думаю о том, что… — Барон опять помолчал некоторое время, думая «о том, что». Потом снова заговорил: — Ну вот, и так далее. Моя сестра училась у него русскому языку. Часто они пели, оставшись наедине. Несмотря на всю свою почтительность и сдержанность, пением он преодолел все разделявшие их преграды. Как это могло случиться с таким ребенком, как моя сестра, остается для всех нас, знающих Дитлинду, загадкой. Слава богу, она хоть мне вовремя призналась, и мы ее увезли. Наверное, это было хуже всего. И для нее, и для меня. Ребенка отдали потом в приют. Через два года его усыновили. Мы никогда не стремились узнать — кто. Теперь, к сожалению, знаем. Моя сестра вышла потом замуж за простого немца, фермера из Аргентины. Гнев матери пришлось сносить мне. По сей день. Вот теперь вы знаете все.
Бекер бессмысленно таращился на рассказчика. Но надо же ему было хоть что-то сказать.
— К такому сюрпризу я не был готов, господин барон.
Тот снова усмехнулся:
— Мы тоже, можете мне поверить.
— А этот степной певун?
Дядя Герман счел, что шутливый тон лучше всего позволит не бередить семейную рану.
— Я попросил его обменять. Он ревел, как это говорится, прямо белугой. Они ведь действительно любили друг друга. Больше я о нем ничего не слышал.
Он на мгновение задумался.
— Впрочем, нет. Через несколько лет из России, ам у власти были уже Советы, пришла открытка. На ней были написаны две строчки из русской народной песни и еще несколько слов, но ни имени, ни адреса.
Правду ли рассказал барон? Дядя Герман испытующе поглядел на него. Тот почувствовал недоверие и полез в ящик стола, откуда извлек слегка расплывчатый любительский снимок и передал его посетителю. На фотографии был изображен, с лютней в руках, молодой, симпатичный, русобородый парень, действительно великан, с вьющимися волосами, который пел и в то же время смотрел на что-то приятное, поскольку глаза его светились даже на этом плохом изображении.
— Это она сама его сфотографировала. Я нашел фотографию после ее отъезда и спрятал, чтобы при случае вернуть. Потом, когда она стала ее искать, я оставил ее у себя. Переверните-ка ее.
На оборотной стороне детским почерком было написано: «Мой степной волк!»
Дядя Герман понурил голову. Ее звали Дитлинда, и она любила степного волка, вот откуда появилось такое имя у мальчика — Вольф — от волка, Дитер — от Дитлинды.
— В сущности, все происшедшее не более чем пошленький романс, — продолжал барон, — но все-таки я положил его на музыку. Использовав упомянутые русские народные песни. Хотите послушать?
И он сыграл вещь, в которой обладавший феноменальной немузыкальностью дядя Герман уловил только простую песенку, правда, глубоко его тронувшую. Они распили еще бутылочку бургундского, и дядя Герман простился с бароном в уверенности, что тот отличный парень. Поэтому он пообещал ему со своей стороны быть предельно скромным. Он счел также совершенно необходимым нанести визит вежливости старой ведьме, угрожавшей ему догами, и испросить у нее прощения, однако барон настоятельно отсоветовал ему.
В Магдебурге дядя Герман поведал эту историю господину члену участкового суда и его жене, и они, взвесив все за и против, решили сообщить ее Вольфу Дитеру, надеясь, что открытие пролетарского отца излечит того от аристократического бешенства.
VII
Они не были психологами, ни супруги Бэр, ни дядя Герман, да и тот, с кем они имели дело, был слишком необычен. Вольф Дитер, внимая обстоятельному и несколько смягченному повествованию дяди Германа, все больше впадал в волнение и слушал не очень вдумчиво; он начал расцвечивать свое происхождение фантастическими романтическими событиями и в тот момент, когда рассказчик поверил ему последнюю тайну и сообщил о симпатичном военнопленном и его народных песнях, он вообразил себя сыном русского великого князя.
Тут дядя Герман в гневе ударил наотмашь.
— Да он был бурлаком, дурак ты этакий, или пастухом из… вот именно, из Монголии.
Дядя чувствовал, что это не совсем правда, ну ладно, главное — хорошо примериться и попасть в цель.
Сначала, казалось, Вольф Дитер пошатнулся. Потом засмеялся громко и радостно:
— Вам, мещанским обывателям, этого хотелось бы! Вы отлично придумали! Но вы забыли о голосе крови. Говорите что хотите! Я знаю, чувствую: мой отец, как и мать, был аристократом! Причем очень знатным!
С упрямым ликованием взирал он на обывателя, от удивления потерявшего дар речи.
И с еще большим удивлением дядя Герман вдруг заметил, что гордое молодое лицо, эти теплые карие глаза, красивый тонкий нос, светлая пышная шевелюра, эти чуть выдающиеся скулы и пухлые губы так похожи на мужчину с фотографии, как только может быть похож сын на отца. Лицо его постепенно потемнело, выдавая глубокую печаль, а губы жалобно скривились:
— Во всяком случае отец моего отца был аристократ, владевший огромным поместьем, а большевики во время революции уничтожили и его и всю его собственность. Бедный отец! Когда Германия начнет управлять миром… — Он замолчал, но глаза его грозно засверкали.
Дядя Герман покачал головой, глядя на разгневанного пасынка степей.
— Тебе прямо хоть кол на голове теши. Я видел фотографию твоего отца, он произошел от монголоида. Ты знаешь, что такое монголоид? Это помесь белого с… — Но дядя Герман уже не помнил точно с кем.
Однако Вольфа Дитера было невозможно сбить с его позиций. Он гордо указал на себя:
— Похож я на него?
Дядя Герман понял, что не добьется толку, но попытался нанести еще один удар:
— Именно лицом, дружище!
И тут дядюшка пожалел о своей бесцеремонности, о том, что ради достижения цели отступил от истины; он встал, покачал головой и сказал, скорее себе самому:
— Если бы я был писателем, я бы об этом написал! Только если такое прочтут нацисты, меня упекут в концлагерь за издевательство над родовитыми хранителями германской крови.
Поскольку Вольф Дитер Бэр, который с тех пор прибавлял к своей фамилии «называемый Вальдхаузен», теперь уже никак не мог представить доказательств об арийском происхождении отца, он был освобожден не только от службы в СС, но даже и от службы в СА[28]. Партия тоже отклонила его кандидатуру, так что у него в разговоре с несколькими антинацистски настроенными элементами в деревне даже срывались неодобрительные замечания типа: «Эта братия, которая не может проследить своего происхождения по отцовской линии хотя бы до восемнадцатого века» или: «У других вон ни кожи, ни рожи». (Об этих антифашистских речах вспомнят жители Фюрстенхагена в последующие годы; тогда они приобретут цену.)
Известное удовлетворение несчастный изгой получил, когда его по достижении совершеннолетия спросили, поскольку он приемный ребенок, какую он впредь хочет носить фамилию: своего приемного отца, Бэра, или настоящей матери, Вальдхаузен. Естественно, Вольф Дитер избрал фамилию Вальдхаузен и, конечно, пожелал именоваться барон фон Вальдхаузен, и он был вне себя в равной степени и от ярости, и от печали, когда в суде ему разъяснили, что это невозможно: незамужняя мать-дворянка может передать своему ребенку только фамилию, но не дворянское звание.
— Тогда я отказываюсь от титула барона, — заявил Вольф Дитер после короткого размышления. Нет, частица «фон» от матери-аристократки тоже не может перейти к внебрачному ребенку.
— Это несправедливость, совершаемая государством по отношению к беззащитным детям, — взорвался Вольф Дитер. — Вы вон кричите и пишете о защите незамужних немецких матерей, о том, что их дети имеют в новом государстве равные права с законнорожденными, а на самом деле обманываете матерей и детей!
Служащий участкового суда решительно призвал беззащитного ребенка к порядку, и делать это пришлось не один раз, пока Вольф Дитер не понял, что и с обычным дворянством ничего не выйдет. В знак протеста против установлений третьего рейха Вольф Дитер хотел уж было в гневе вернуться опять к простой фамилии Бэр, но тут сообразил, что изменение фамилии по крайней мере освободит его от подозрений в расовой неполноценности, и он принял фамилию Вальдхаузен без аристократических приставок.
Однако в собственных глазах и в глазах крестьян он остался господином фон Вальдхаузеном, и не одни только молоденькие девушки и женщины Фюрстенхагена поверили, что он лишь жертва этих чиновных индюков и выскочек нацистской партии, преследовавших его, настоящего немецкого дворянина, из зависти. Возможно он тогда угодил бы в конце концов в гестапо, во всяком случае районный руководитель после многочисленных предупреждений своего шефа, господина землевладельца Крюгера, сделал уже замечание в таком духе, но тут Вольфа Дитера забрали в армию. Вольф Дитер стал солдатом. Обычным солдатом, пехотинцем; в этом печальном государстве не было даже одногодичников-добровольцев.
Так вот, а потом Гитлер и вовсе перечеркнул личную жизнь молодого человека, развязав войну. Господин фюрер напыжился, уподобившись спутнику бурелюбивого Борея, набрал воздуха до отказа, раздув щеки, и выпустил с такой силой его, что миллионы солдат подняло и разметало по всем странам света. Пролетев над морями, над лесами, солдаты врезались где-то вдали от родины в горные кряжи или увязли в зыбучих песках, тут их покатило назад в Германию, и даже дальше — за Германию, в разных направлениях. Спустя шесть лет они опять очутились на родине: их, вместе с гражданским населением, погребли развалины фабрик, городов и сел, под которыми оказались скрыты также трупы покончивших с собой и следы сбежавших, некогда толстощеких, раздувателей бури. Некоторые солдаты поднялись снова, оборванные и грязные, хромые и больные, потерявшие прежние тела и души, и, шатаясь, двинулись по бесконечным дорогам к родным нивам. Но родины больше не было.
VIII
Среди возвращавшихся домой летом тысяча девятьсот сорок пятого года был также Вольф Дитер Вальдхаузен. Дома в разрушенном Магдебурге уже не было, а название родового имения там, в Тюрингии, он забыл. Да и стучаться туда вряд ли следовало, неизвестно, кто там теперь обитает. Но Галле еще существовал. И дядя Герман тоже. Хотя он и превратился в усталого, дряхлого, беспомощного старика, оплакивавшего героическую смерть обоих шумных сыновей и печальную кончину своей тихой супруги, но его скорбные речи об усопших начинавшиеся негромко, всегда переходили в страшные проклятия в адрес Гитлера и его сподвижников. Ему понравилось, что Вольф Дитер так убежденно вторит его проклятиям. Пусть остается, сколько хочет. Родители? Да, они живут сейчас в Штральзунде, дела у них идут сносно. Они, конечно, все потеряли, но, поскольку господин член участкового суда всегда был противником нацизма, оккупационные власти дали ему хорошее место.
Вольф Дитер написал домой теплое письмо, в котором извещал о своем скором прибытии; при этом он вовсе не кривил душой: у него становилось тепло на сердце, когда он вспоминал о матери. Но он все-таки задержался на две недели в Галле: его не отпускал осиротевший дядя Герман; и, уезжая, Вольф Дитер был выбрит, чист, одет в хороший костюм одного из сыновей дяди Германа, в руке его был чемодан, а в сердце — самые лучшие надежды на встречу с родиной и юношеская вера в себя.
Первую половину своего путешествия он проделал на крыше вагона, так переполнен был поезд. Затем ему удалось под аккомпанемент бессвязных протестующих Криков женщин втиснуться на открытую платформу, и он очутился меж двух ругавшихся пассажиров, отложивших на несколько минут взаимные обвинения в краже и объединившихся против новичка, угрожая ему рукоприкладством. Чистый господин в приличном костюме подействовал на них, оборванных и грязных, как красная тряпка на быка, а еще большую ярость вызвала его радостная физиономия, которую ни разу не омрачили раздражение или гнев, когда они награждали его такими ругательствами, как «спекулянт», «симулянт», «нацистский главарь» и прочими словами. В конце концов их обезоружило или это радостное лицо, либо сильное тело, облаченное в костюм. Очень скоро они опять обратились к физическому и словесному выяснению собственных отношений, а так как им пришлось наверстывать упущенное, то на Вольфа Дитера они перестали обращать внимание.
Их мелкая личная беда и склока застилала им глаза, и они не замечали всего, что видел подсевший к ним пассажир, когда поезд пересекал шоссе и проселочные дороги: немецкое несчастье с тачками и тележками все еще движется в неизвестность; не замечали они и безутешных пустых полей и выгонов. Не замечали, как зеленеют поля и голубеет небо, смеется солнце, и не увидели даже, что поезд остановился у маленькой станции с названием «Розенфельд», написанным на облупившейся, некогда белой доске, где на перроне стояли, взявшись за руки, две молоденькие хорошенькие девушки, бросавшие взгляды вдоль поезда.
Свет солнца, голубизна неба, зелень лугов, пение птиц, глаза девушек — все эти источники вечного огня заставили сердце Вольфа Дитера вспыхнуть, сияние сфокусировалось в его глазах и горячим потоком хлынуло на девушек, те почувствовали волнение и оглянулись на молодого человека. Усиленная теперь уже четырехкратным отражением энергия вернулась к нему, заставив его душу затрепетать от бессознательной пронзительной радости бытия. Она выразилась в крике и, поскольку крик тонул в шуме окружающих, в виде жестов. А так как девушки тоже стали выкрикивать непонятные слова, то к ним начали прислушиваться ругавшиеся в вагоне женщины, они поглядели на девушек, потом на парня, стоявшего на платформе, посмотрели на луг за девушками, прекратили ругаться и начали хихикать. В конце концов все стали громко и весело хохотать и поддержали хором это трио. Затем к ним присоединились и мужчины, и люди с других открытых платформ.
Удивленные, что оказались в центре внимания целого железнодорожного состава, битком набитого такими несчастными и в то же время радостными людьми, опасаясь, что своим поведением они вызвали странную перемену в настроении, поскольку несомненно на них указывало пальцами и что-то им кричало все больше народу, девушки собрались уже было бежать, как вдруг Вольф Дитер соскочил с платформы и заступил им дорогу. Он обнял их обеих за плечи и повернул смущенных девушек спиной к поезду. И тут они увидели: за ними, совсем рядом, на лугу стоял крупный аист, чопорно-неподвижный, и смотрел в их сторону.
— Аист! Аист!
Не только дети в вагонах выкрикивали это слово, мужчины и женщины также выражали свое удивление и радость: ведь все это грозовое лето никто из них не видел в Германии ни одного аиста.
На виду у аиста, ощущая молодую силу и озорство, исходившие от Вольфа Дитера, девушки заалелись, как маков цвет, и попытались выскользнуть из его крепких рук. Они визжали и извивались, но свобода не далась бы им так легко, если бы не засвистел паровоз. То, что свисток оказался громким, было странно: до сих пор паровоз только стонал, как полуобморочный, сейчас же он заржал, как жеребец, и даже энергично фыркнул Вольф Дитер отпустил девушек, успев, однако, наградить одну из них поцелуем в полуоткрытые от удивления губы, другой же он попал только в щеку, еще раз смеясь показал на аиста, затем на себя, что можно было расценить как предложение, и кинулся догонять свой, уже отъехавший, вагон, а девушки тем временем скрылись за домиком из гофрированного железа.
Еще неистовее синело небо, сияло солнце, зеленели луга, пели птицы, хоть на самом деле это просто чирикали воробьи, в то время как фантастический поезд, карикатура на цивилизацию, заполненный несколькими сотнями людей, потерявших родину, вихляя катил по искалеченной колее в безрадостную пасмурную даль.
Только аист глядел ему вслед. Его острые глаза могли различить, что на одной из платформ по-прежнему стоял высокий молодой человек и радостно махал обеими руками. Зато аист не мог заметить, как из-за жестяного домика осторожно высунулись две смеющиеся девичьи мордашки, непроизвольно игравшие роль стоп-сигнала, останавливающего кровь. О молодость, вечная надежда народов!
IX
Хотя они ждали его после письма из Галле каждый день, радость семьи Бэр была велика. Даже господин член участкового суда, казалось, был взволнован. Таким ухоженным и нарядным он и представить себе не мог вернувшегося домой солдата, особенно этого. Тот пожал господину Бэру руку, похлопал его по плечу и воскликнул с уважением:
— Ну, старик, ты неплохо сохранился. Немного скрючился, но ведь рад небось, что выбрался из этого дерьма, а?
— Однако, Вольф Дитер! — прозвучал, как и прежде, набатом предостерегающий голос матери. — Однако, Вольф Дитер…
— Все в порядке! — протрубил тот и, подхватив худенькую женщину на руки, пронес ее через комнату и опустил на тахту. — А вы заново обставились или комната была меблирована?
И прежде чем ему успели ответить, решительно заявил:
— Не волнуйтесь, все будет. Ведь у вас есть я!
Фрида, верный друг семьи, светилась от зажегшейся в ее душе новогодней елки, а слегка треснувший новогодний колокольчик ее сердца потерял голос. Вот он, тот юноша, который когда-то, как весенняя буря, разметал ее по-летнему спелые нивы, красивый, сильный, веселый мужчина. Благодарность, надежда, смирение спутали ее чувства и мысли, все те благие намерения, к которым она пришла после бесед с госпожой советницей и по велению собственного сердца — быть сдержанной, если… Не помня себя, она рванулась навстречу и таким образом выставила на обозрение другой предмет своей любви: высокого, долговязого девятилетнего подростка с длинным лицом, широкими скулами, пышной белокурой шевелюрой, с широким лбом, выдававшим некоторое недовольство. Ему велели поздороваться с этим человеком как с отцом, так пожелала бабушка; он-то думал, что увидит вернувшегося бойца, каких приходили тысячи, грязного и оборванного, но солдата, а тут перед ним стоял чистенький господин, который к тому же вел себя несерьезно, будто глупый мальчишка. Но тот, поняв, наконец, что к чему, схватил мальчика за плечи и стал трясти, выкрикивая:
— Как тебя звать, парень? Есть ли там кто еще?
Тут с уст одной из женщин, вернувшихся в комнату, матери или бабушки, слетело имя Вольфхен. Что мальчик не преминул сердито исправить, не желая, чтобы к его имени прибавляли совершенно неуместный уменьшительный суффикс:
— Вольфом меня зовут. Может быть, вы позаботитесь о том, чтобы эти женщины стали меня наконец называть правильно!
Вольф Дитер старший был в великодушном настроении, поэтому он воспринял эту просьбу не только буквально.
— Ну конечно, Вольф. А как тебя зовут дальше? — Он забыл фамилию Фриды. — Ну, неважно, я тебя усыновлю. С сегодняшнего дня ты — Вольф Вальдхаузен. Или Вольф Бэр. Можешь выбирать.
Квартира была маленькой, по вечерам каждый раз надо было устраивать постели, и уже через несколько дней обнаружилось, что вернувшийся фронтовик спит с Фридой. Выяснилось также, что еды не хватает, и перед голодными глазами бывшего солдата всплыло имение Фюрстенхаген, и он поведал о своем решении съездить в Мекленбург и посмотреть, нельзя ли там что прихватить. Мать из хозяйственных соображений поддержала его, господин член участкового суда из мещански-нравственных соображений был против. Вольфхен, скоро перешедший на «ты» и «папа», из эгоистических соображений — за: отец ему много рассказывал о благодатной деревенской жизни, а Фрида, по крайней мере внутренне, опять-таки — против, ибо она опасалась, что Вольф Дитер там не столько прихватит, сколько оставит. К тому же, как она знала, он кое-что там уже оставил.
X
Фюрстенхаген, как и все в Германии, сильно изменился внешне и внутренне. Парни, с которыми в свое время молодой новоиспеченный барон или молодой Бэр ухлестывал за девушками, дрался и которых побеждал, были убиты, искалечены или находились где-то в плену. Старики обоего пола казались еще более подавленными, большинство из них страдало от болезненных последствий коричневой эпидемии, и они косились на новичков в деревне, чужаков, которые, бесспорно, всю свою сознательную жизнь были сплошь антифашистами, так что никто не решился бы обойтись с ними как с обнаглевшими пришельцами и попрошайками. Только женская часть населения помоложе цвела все так же. За счет каких источников — это знает разве что бог. Вольф Дитер просто с удовольствием констатировал этот факт.
Женщины с не меньшим удовольствием убедились в том, что вернулся несомненно герой, Зигфрид и Геракл в одном лице, и что острая потребность в мужчинах таким образом несколько поубавилась.
— Барон опять здесь! Бэр вернулся!
Он еще и десяти минут не пробыл в деревне, а вопль ликования проник уже во все дворы, и матери с беспокойством смотрели на свое не совсем созревшее потомство, оно только пошло в школу, когда Бэр-барон покинул деревню, но уже достаточно слышало о нем Атмосфера уверенности, надежды и радости охватила деревню, и в конце концов этими чувствами прониклись даже старики, которые при воспоминаниях о подвигах Бэра, по первому побуждению, скорее всего просто схватились бы за вилы. Но теперь они уже не могли этого сделать, весна расцвела и в их душах, хотя была осень и их пугал призрак зимы: ведь ее придется встречать без собственной свиньи. И в то время как Вольф Дитер Вальдхаузен боролся в бывшем помещичьем доме с недоверием нового так называемого управляющего, который никак не хотел сказать, куда отправился бывший землевладелец Крюгер, зато напирал на то, что господство помещиков закончилось раз и навсегда и что посторонним в Фюрстенхагене искать нечего, даже негде ночь провести, в деревне для их милого медведя были открыты десятки дверей и множество сердец.
Однако враждебность появилась и в народе, и росла она с каждым днем. Среди переселенцев и их жен Казалось, будто они, привыкшие выращивать овец, коров, собак, дрессировали и медведей, хотя и не видели за свою жизнь ни одного. Новички заполнили весь господский дом, а луга, поля и леса имения рассматривали как свою будущую собственность. По праву. Если уж имение и будет кто заселять, то они, и с ними от силы несколько бедняков и батраков. А этот парень, который не сознается, что он барон, пусть катится ко всем чертям, куда отправился и прежний помещик.
Они не замечали, что тот, кого они называли барчуком, был сам одержим чертом. После того как управляющий яснее ясного заявил ему, что реакционному отродью подобного происхождения в новой Германии места больше нет, не за то-де сидели в гитлеровских застенках, и что его силой выдворят отсюда с помощью местных полицейских властей, Вольф Дитер Вальдхаузен начал наконец пони мать, что положение в Германии, Мекленбурге и в Фюрстенхагене действительно изменилось и было ошибкой обрядиться в изысканный костюм и тем самым навлечь на себя подозрение в реакционном происхождении. Прошло лишь три дня, он все время ночевал только у Лизхен Фишер, которая первой имела от него сына, когда Вольф Дитер вдруг объявил, что собирается уезжать. Лизхен знала, кто его преследует, и, преодолев чувство ревности, доверительно поговорила с Бертой Шмидт, которая имела от него ребенка второй. Уже к вечеру и все остальные, тоже от него кое-кого имевшие, узнали: Вольф Дитер собирается уезжать! Их отношение к Бэру было тоже разное, как и друг к другу, но тут они были едины. Это позор для Фюрстенхагена, Мекленбурга и Германии, если каким-то чужакам будет позволено выгонять своих. И Лизхен пошла с Бертой и Дорой, и Ингой, и Карин, и Хильдхен к так называемому управляющему, и они выложили ему все начистоту. Этот тип оказался настолько глуп, что, обругав, выставил их за дверь. Подумайте, он, приезжий, у которого ничего за душой нет, кроме громкой глотки да большой семьи, причем неизвестно, его ли это семья, выставил из господского дома их, уважаемых фюрстенхагенских девиц, дочерей бедняков и батраков, да еще и оскорбил их девичью честь. И это в наше время, когда каждый день в газетах пишут о правах народа!
Вечером в пивной состоялся митинг протеста, в результате которого старая деревня одержала победу над переселенцами из имения. Ведь была задета честь Мекленбурга, и Вольфу Дитеру вовсе не было необходимости отвечать на политические подозрения господина управляющего ссылками на те преследования, которым он подвергся здесь, в Фюрстенхагене, со стороны СС и нацистской партии, тогда как другие, на так называемых немецких территориях за пределами Германии[29], наверняка орали еще «Хайль Гитлер!». Ни к чему было также, подняв пустую пивную кружку, наступать на противника и вызывать его на улицу; и уж наверняка зря было апеллировать к демократическим законам и требовать голосования, — старые фюрстенхагенцы и так имели большинство. Они не больше Вольфа Дитера понимали, из-за чего возникла смута, ведь, в сущности, речь шла всего лишь о том, может ли барон, или Бэр, остаться здесь на несколько дней. Чужаки пришли в конце к выводу, что не стоит из-за такого пустяка устраивать большой скандал, лучше всего избавиться от этого опасного парня по-доброму; в конце концов они присоединились к выпивке, которую Вольф Дитер заказывал на всех.
Однако Лизхен не очень верила в благополучный исход, да и ее товарки по любовным утехам тоже; они решили просить барона задержаться в деревне подольше. Лизхен, понимавшая, что ей не случайно удалось обскакать своих подружек в благосклонности знаменитого медведя, поскольку ее сын уже ходил в школу и был больше похож на отца, чем отпрыски других, ничего не имела против того, чтобы ради укрепления союзных связей Вольф Дитер менял время от времени место ночлега. При этом не обошлось без недоразумений, ибо несколько девушек обманом вплелись в этот венок. Когда же стало известно, что Бэр вернулся к своим старым привычкам, он потерял в значительной степени благосклонность большего числа деревенских жителей мужского пола, теперь уже голосование лучше было не проводить.
И тут произошло нечто совершенно неожиданное: старый пастор Зайдельбаст вдруг заговорил с Вольфом Дитером на улице и отчитал его. Причем не в том отеческом тоне мягкого увещевания, как во времена нацизма: «Возлюбленный сын мой, противься плотским искушениям и т. д.» — тогда пастор не решался сказать большего, да еще и оглядывался, не услышит ли его кто, — ведь в те годы во всех областях Германии семнадцатилетние с гордостью носили животы: «Смотрите, я — немецкая мать!» — а Вольф Дитер ответил на пугливый призыв пастора, хлопнув духовное лицо по плечу и пропев строчку из веселой песенки: «Радуйтесь жизни, пока она не кончилась, рвите розы, пока они не завяли», — нет, на сей раз старый Зайдельбаст осмелился прямо на улице обрушиться во всеуслышание на растлителя народной морали, на наглые барские замашки и на возмутительные родимые пятна крепостного права и еще вызывающе оглядывался, — все ли слышат!
Вольф Дитер вдруг осознал, что в Германии действительно произошли перемены, в том числе и в Фюрстенхагене. Следовало ли их отнести исключительно на счет в корне изменившейся политики? Должна ли любовь к этим милашкам регулироваться диктатурой или демократией? Он отправился к учителю Буххольцу, который и прежде держался с ним очень дружелюбно, и рассказал про историю с пастором. Если Вольф Дитер надеялся, что учитель Буххольц остался врагом всякого начальства, то он ошибся. Регент местного хора принялся задавать вопросы:
— А разве старик Зайдельбаст не прав? Разве тот же управляющий Кравунке, если опустить частности, тоже не прав? Чего вам, собственно, надо в Фюрстенхагене, милый Вальдхаузен? Сначала я решил, что вы приехали сюда наменять немного продуктов. Почему бы и нет: в городах еще голодно. Но все остальное… неужели, дружище, война и пережитые ужасы не сделали вас хоть немного серьезнее? Для каждого немца жизнь заключается в первую очередь в работе, в работе, и еще раз в работе.
— Я немедленно уеду, — ответил ошеломленный Вольф Дитер.
— Никто не гнал бы вас отсюда, — продолжал свою речь регент Буххольц, — если бы вы приехали сюда по-человечески!
Молодой человек вопросительно уставился на него, он не понимал, о чем речь.
— Ну, раз уж мы начали разговор… — господин Буххольц сначала разжег погасшую трубку и понюхал дым, в запахе которого смешались ароматы всех пожаров. — Так вот, что касается вашего ребячества, или, вернее, жеребячества, и вашей тоски по титулам, — над этим я смеялся. А вашему провалу и провалу вашего партийного дядюшки я радовался. И то, что девчонки за вами бегали, добиваясь чести переспать с бароном, которым вы были только наполовину, да и половину эту следовало бы поделить еще на три или четыре части, — это меня не удивляло. Тогда нужно было иметь что-то от барина, чтобы производить впечатление. Но сейчас, дорогой друг, сейчас, чтобы произвести впечатление, надо быть рабочим! Разве вы это еще не поняли?
Нет, этого Вольф Дитер Вальдхаузен, он же Бэр, еще не понимал. Учитель Буххольц посмотрел на зарубки, сделанные им на одичавшем дереве, и подумал, стоит ли и возможно ли вообще пытаться превратить дичок в культурное растение.
— В юности вы были никчемным ветрогоном и пошлым хвастуном. Предположим, это отвечало духу того времени. Но оно прошло. Если бы в вас не было ничего другого, то и для вас все было бы в прошлом, вы относитесь к людям, на которых не держат зла; и если здешние старухи называли вас обходительным молодым человеком, имели они в виду, наверное, совсем не то, о чем думали их дочери. Ну, а работа? Когда-то вы научились работать и действительно ведь работали. Об этом наши батраки еще и сегодня вспоминают. И довольно часто вы выглядели как Йохен Коддельбеен, когда он пригонял коров в дождливый день. И вот вы являетесь именно теперь, когда все мужики выглядят к концу любого дня так, как Йохен Коддельбеен в дождливый, и являетесь эдаким фон-бароном. Эти штучки теперь не пройдут, любезный друг. Да, вот так-то. В общем убирайтесь-ка отсюда!
Учитель Буххольц закончил разговор резче, чем намеревался поначалу, он принял ухмылку, появившуюся на лице Вольфа Дитера, за выражение высокомерия. Но она только выражала скрытую радость молодого человека, решившего, будто новая дворянская грамота у него уже в кармане: ведь он происходил непосредственно от крестьянского пролетария, пастуха, который был к тому же русским и на которого он был так похож. Если он, Вольф Дитер, расскажет это, он опять получит большое преимущество перед другими. Он набрал в грудь побольше воздуха и собрался выложить все начистоту, но тут сообразил, что люди не имеют привычки оказывать особого уважения представителю того же сословия, к которому принадлежат они сами, если только этот представитель не добился каких-либо выдающихся результатов. А вот результатов у него никаких и не было. Зачем же сразу вставать на одну доску с другими? Вольф Дитер Бэр подавил в себе желание открыть, как он полагал, свое истинно пролетарское происхождение и опять стать чем-то особенным в глазах окружающих и потому окончательно решил уехать.
Когда он наконец собрался, вещей у него оказалось столько, что управляющий предложил отвезти его на станцию; он даже пожертвовал еще несколькими килограммами пшеничной муки, лишь бы избавиться от этого парня. По пути к железной дороге управляющий все толковал с Вольфом Дитером о том, как ужасно трудно станет в скором времени жить в деревне и остается только завидовать любому образованному человеку, который может жить в городе. К сожалению, этот парень-барон никак не реагировал на его слова. Он сидел, курил и, казалось, о чем-то размышлял. Подозрительно было и то, что бабы махали ему с радостным видом Управляющий решил в любом случае все хорошенько разузнать и предотвратить фашистскую вылазку на демократические свободы Форстенхагена.
XI
Бэры не успели еще доесть привезенные Вольфом Дитером продукты, когда тот объявил, что опять хочет ехать в Фюрстенхаген, теперь уже надолго. Он собирается помочь на уборке корнеплодов и в осенних полевых работах и надеется, что ему при этом немало перепадет Господин член участкового суда только ч го успел подыскать ему подходящее, как он считал, место, в сельскохозяйственном кооперативном банке, когда Вольф Дитер объявил о своем решении. С ужасом увидели они, что в этот раз он напялил на себя привезенную с фронта форму ополченца, а приличный костюм спрятал в чемодан. Радовался его новому обличью только девятилетний сын, который об этом и поведал окружающим, потому что теперь у него наконец-то появился настоящий вернувшийся с войны отец. Кстати, называли мальчишку по-прежнему Вольфхен, а по фамилии Пульмайер.
Население Фюрстенхагена после возвращения обретшего, хотя бы внешне, демократический вид барона тут же разделилось на два лагеря, которые, как ни странно, были примерно одинаковы по своей силе. Их роднила та решительность, с какой они подчеркивали свои расхождения и изъявляли готовность довести борьбу до конца. Дальнейшее уменьшение числа сторонников барона повлекло новые склоки среди женщин; было ясно; если он в этот раз останется, необходимо выиграть соревнование на роль фаворитки, что, возможно, приведет в будущем к легализации положения. Чужаки, враги, уже злорадствовали: они узнали, что основную ударную силу вражеского стана составляют женщины, поняли причину смуты и решили ее использовать. Кроме того, нашлись свидетели и свидетельницы, готовые подтвердить, что Вальдхаузен сам выдавал себя за барона и даже за принца. Уверенный в своей победе управляющий Кравунке допустил ту же крупную ошибку, что и в прошлый раз: он снова выступил, теперь уже перед публикой, с речью об угрозе общественной морали рабоче-крестьянского Фюрстенхагена, которую несет в себе господин аристократ. Это было уже не просто оскорблением в адрес женского населения Фюрстенхагена, это угрожало тайным надеждам многих женских сердец.
Вольф Дитер мог бы одолеть и не такого врага, как Освин Кравунке. По дороге домой и дома слова учителя Буххольца преследовали его, как гончие псы, и наконец настигли; они схватили его и задали ему весьма основательную трепку; но они его не прикончили, нет, наоборот, они побудили его ринуться вперед. Вольф Дитер Бэр был убежден, что он не плохой человек, больше того, он даже находил в себе некоторые черты вождя. Само это опасное слово он постарался тут же отринуть, но ведь без человека, который бы браво шагал впереди других, новая рабочая власть тоже не могла обойтись. И Вольф Дитер решил стать образцом. А для того чтобы образец этот был заметен, надо меньше говорить и больше работать.
Дней через десять новый, так изменившийся барон стал для жителей Фюрстенхагена еще более волнующим предметом споров, чем прежний Вальдхаузен. Они приняли его рвение к труду за каприз и были убеждены, что он попросту прикидывается и скоро такая жизнь ему надоест. Эти разговоры мало заботили Вольфа Дитера, он продолжал работать, молчать и оставался неизменно приветливым. Через две недели о молодом человеке односельчане говорили столько, что чуть не забывали о собственной работе.
Вольф Дитер Вальдхаузен, сам выбравший себе такое имя по достижении совершеннолетия, после своего возвращения в Фюрстенхаген все чаще скромно назывался Вольфом Дитером Бэром. Он въехал в дом Лизхен Фишер, привел в порядок запущенное хозяйство ее родителей; он помогал другим крестьянам на уборке урожая, вывозил навоз, пахал там, где не было мужских рук, а потом стал помогать на одолженной упряжке и переселенцам из имения. Он работал не покладая рук с утра до ночи; при этом медвежья сила давала ему еще возможность время от времени возделывать поля любви.
Теперь он снова стал заводить разговоры, но сначала не о политике и не о том, что касалось лично его, он даже не считал нужным опровергать подозрения Кравунке, нелепость которых становилась все более очевидной. Когда Вольф Дитер начинал говорить, то это были уже не анекдоты для мужчин или двусмысленности для женщин, а советы по поводу того, как лучше распределить землю или как лучше провести полевые работы в условиях нехватки семян и машин. А поскольку платы он никакой не требовал и только как молотилка уничтожал еду, если его угощали, то он очень быстро затмил горлопана управляющего, который только языком трепал и почти вовсе не работал с другими в поле, хотя затребовал себе зарплату. Не заметить этого было невозможно, так называемый барон, который вовсе не был бароном, а носил имя Бэр и был незаконнорожденным, вел жизнь пролетария, а пролетарий Кравунке жил как аристократ. Лизхен и другие девицы без всякого удовольствия наблюдали этот процесс демократизации своего героя и превращения его в пролетария, и чем больше он становился простым Бэром, тем больше хвастали они его матерью, немецкой баронессой, и отцом, русским князем. В это время Вольф Дитер, насколько это возможно определить по внешности человека, все ниже спускался по социальной лестнице. Он почти не снимал с ног заскорузлые от грязи высокие крестьянские сапоги на деревянной подошве, пышную светлую шевелюру покрывала засаленная шляпа, а лицо — такая же светлая, как и волосы, кудлатая нестриженая борода. Только веселые теплые карие глаза остались прежними. При этом он ко всем обращался на «ты», а большинство называл товарищами, хотя — и это все знали — он не состоял ни в какой партии.
Кравунке и его приспешники были обескуражены. И тогда они начали делать то, что делают обычно обескураженные люди: говорить. Они стали говорить так много об этом пришлом барчуке, который-де наверняка был шпионом сбежавшего помещика Крюгера, что Вольфу Дитеру пришлось защищаться против воли. Решающего сражения по поводу «быть или не быть», во всяком случае, за главенствующее положение. избежать было нельзя. Если бы мир знал об этом, он не следил бы так внимательно за Лондоном и Парижем, а обратился бы к Фюрстенхагену. Ибо здесь решения нельзя было добиться, замазывая противоречия или затягивая дискуссии.
Имение, которое первоначально планировалось сделать земельной[30] собственностью, необходимо было заселить, заявки принимал бургомистр. Роль бургомистра исполнял старый нерасторопный крестьянин, назначенный после крушения третьего рейха, поскольку прежний нацистский бургомистр сбежал, а все прочие крестьяне-старожилы, владевшие наделами еще до земельной реформы, были не вполне благонадежны. Обязанности свои он не очень понимал, большую часть работы выполнял за него учитель Буххольц, было ясно, что в ближайшее время предстоит выбрать нового бургомистра. Освин Кравунке и раньше не упускал случая указать на то, что он прямо-таки создан для подобной должности, обосновывал он это тем, что побывал в застенках. Теперь же, по заселении имения, он терял предоставленный ему собственными полномочиями пост управляющего, и должность бургомистра казалась ему весьма подходящей, поэтому он не упускал случая задобрить крестьян-старожилов и объяснил им необходимость выдавать себя за малоземельных крестьян, чтобы получить наделы в имении. А с переселенцами он уж справится.
Но тут явился этот самый Вольф Дитер Вальдхаузен, назвался Бэром и подал заявку на заселение. Мотивировал он свои притязания тем, что, так сказать, вырос в этой деревне, знает землю как никто другой и хочет основать семью, что он в известном смысле жертва нацистского варварства, бюрократия которого втравила его, незаконного сына бедного русского батрака, в позорную игру.
Целый день все в деревне ходили с открытым от удивления ртом. Это было самым невероятным. Десять, двадцать иных мотивировок, приведенных бароном, они не стали бы проверять, но то, что он имел наглость выдавать себя за сына батрака, да еще русского, это, как считало большинство, было уж слишком.
— Он издевается над пролетариатом! — орал Кравунке.
Но Вольф Дитер и не думал об этом, он просто хотел использовать все те возможности, которые давало ему новое время, и вовсе не собирался прибегать к нечестным приемам. Местный комитет по проведению земельной реформы преобладающим большинством проголосовал за него и уже на втором заседании избрал его председателем. Вне себя от ярости, обозвав всех присутствующих реакционерами, за которых не стоило страдать в застенках, Освин Кравунке покинул зал. Однако Вольф Дитер внес предложение наделить землей из имения прежде всего бездомных и безземельных переселенцев, потом бывших батраков и после этого уже давать наделы малоземельным крестьянам. Крестьяне-старожилы не без грусти и сомнений проголосовали за это предложение. На следующее заседание Освин Кравунке явился опять и стал делать разные намеки, вроде этого:
— Дайте мне только стать бургомистром, уж я наведу порядок, а от этого парня мы отделаемся.
Вообще он вел себя так, будто не могло быть иначе, чтобы его, Кравунке, не избрали бургомистром единогласно.
Тут к его ужасу этот самый Вальдхаузен или Бэр был вдруг официально объявлен в качестве контркандидата, конечно, за этим стояли бабы. В батрацкого сына они верили еще меньше, чем мужчины. Кравунке, который не побоялся бы никакой другой контркандидатуры, понял опасность и проклял право женщин на выборы. Чтобы не дать противной партии собрать силы, он срочно назначил общее собрание крестьян, переселенцев и батраков с повесткой дня:
1. О выборах бургомистра.
2. Разное.
Когда подошел день собрания, а со стороны крестьян не было принято никаких мер, Кравунке вздохнул с облегчением. Но тут после обеда по деревне пошли девицы, которые стали расклеивать на всех деревьях, заборах и наличниках маленькие листочки, на которых было написано: «Кто такой Кравунке?» Эти листочки были плодом упорных трудов Лизхен и ее подруг. Что они имели в виду, они и сами не могли бы толком сказать. Собственно, они ведь ничего не знали о Кравунке, разве лишь то, что в деревне о нем никто ничего не знал. Во всяком случае, эти листочки возбудили сомнения по поводу управляющего и привели всю деревню, а особенно самого Кравунке, в неистовство.
Чисто отмытый, в воротничке и при галстуке, с толстым портфелем, появился Кравунке за столом президиума собрания и провел выборы бюро, сам предложив его состав. Он считал, что поступил очень хитро, включив в него несколько крестьян-старожилов, несколько батраков и даже одну женщину. Это была мамаша Ханчке, жена ночного сторожа, которая, однако, застеснялась и решительно отказалась в своем преклонном возрасте участвовать в подобных глупостях. Тут вместо нее предложила себя Берта Зиберт, третий ребенок которой был от Вольфа Дитера. Под общий хохот она взобралась на сцену.
Управляющий Кравунке произнес длинную речь о политическом положении в мире и в Германии. Потом он перешел к Мекленбургу, к помещикам и промышленным магнатам и в заключение сказал о земельной реформе и необходимости уничтожать всех врагов рабочих и крестьян. Особенно если они рядятся в рабочие и крестьянские блузы и пытаются похитить у суверенного народа его власть. Тут Кравунке набрал побольше воздуха:
— Сограждане! Женщины! Как волк в овечьей шкуре…
— Сам овца! — пронеслось звонко и гневно по залу.
Выкрикнула это Лизхен. Сбившись, Кравунке остановился.
Все посмотрели на Вольфа Дитера. Он спокойно продолжал сидеть на стуле и Лизхен тоже усадил на место. Тут он позволил себе шутку:
— Он хочет сказать — медведь в овечьей шкуре!
Присутствующие на собрании засмеялись, и докладчик решил, что он может выражаться яснее. И стал говорить совсем ясно. Никто не имеет ничего против приезжих, если только у них нет намерения захватить власть для темных политических целей. Речь здесь идет о выборах бургомистра, первых в новое время, о пользе и вреде, которые может принести община новой Германии, за идеалы которой люди томились в гитлеровское время в застенках. Тут барон никому не нужен, даже если он внебрачный или поддельный. Но, может, барон и настоящий, он, Кравунке, как раз занимается расследованием. Тут управляющий вытащил из портфеля какие-то документы, показал их публике и положил на стол перед собой. Все вытянули шеи: не раскопал ли и вправду Кравунке чего-то опасного? Тот почувствовал, что момент удачный, но черт дернул его опять не вовремя вставить фразу о чистоте семейной жизни и о доказанной аморальности противника.
— Это семейство благородных баронов фон Вальдхаузен, которые хотят открыть здесь свой филиал…
Тут Вольф Дитер встал, медленно, и прошло не так уж мало времени, пока голова его поднялась. В своем рабочем наряде так называемый барон выглядел среди более или менее отмытых крестьян еще больше пролетарием, чем он был на самом деле. В высокие крестьянские сапоги были заправлены штаны из чертовой кожи, принадлежавшие брату Лизхен, куртка была позаимствована у отца Лизхен, шерстяной шарф был подарен Дорой. Он встал и сказал:
— Прошу слова!
— Дискуссия еще не открыта! — заверещал Кравунке. — Я еще не закончил свой доклад!
— А он как раз хочет сказать по поводу повестки дня, — выкрикнула из-за стола президиума Берта Зиберт, которая с момента крушения третьей империи чертовски здорово поднаторела в политике. Вольф Дитер поглядел на нее с настоящей гордостью. Безземельный крестьянин Фридрих Гризбах, которому Вольф Дитер вчера вспахал поле, встал и крикнул:
— Заткни-ка свою глотку. Пусть товарищ Бэр скажет!
Во всяком случае это доставило удовольствие публике, и она была за то, чтобы Вольфу Дитеру немедленно дали слово.
Он был уже на пути к сцене. Одним прыжком вскочил на нее, так что деревянные подошвы грохнули по доскам. Потом он оказался возле председателя, взял его за воротник и приподнял со стула.
— Не смейте давать волю рукам! — завопил Кравунке возмущенно. — Граждане! Товарищи! Будьте свидетелями…
Но уже загремел другой голос: Вольф Дитер произнес свою единственную в жизни парламентскую речь, которую он начал как Вальдхаузен, а закончил как Бэр. Если бы ее взвесить на ювелирных весах правдивости, то она не вытянула бы тысячи каратов, но, боже мои, ведь это была, в конце концов, речь в предвыборной кампании.
— Мужчины и женщины Фюрстенхагена, товарище и граждане! Вы в первый раз после проклятых времен гитлеризма собрались здесь, чтобы выбрать своего бургомистра. Вот этого или меня. Меня вы знаете уже девять лет, а вот этого всего шесть месяцев. Он выглядит так, а я выгляжу так, — при этом Вольф Дитер указал на противника и на себя. — Он не умеет отличить куст картофеля от фасоли, а всходы ржи от всходов пшеницы. Он работает глоткой, а я — руками. Органы, которые постоянно действуют, у человека увеличиваются. У него — руки как у белоручки, у меня — лапы. Зато рот у меня веселый, созданный для поцелуев, а у него…
— Браво! Браво!
— И теперь что касается семенных дел. У меня действительно две семьи, это верно.
Тут прозвучал гневный женский голос:
— Только две? От остальных откреститься хочешь?
Смутившийся было оратор присоединился к веселому хохоту зала:
— Ну и дура! Я имею в виду, что у меня два отца и две матери. Поэтому у меня и два имени. Что же здесь нечестного? А вот не знаю, был ли вообще отец у Кравунке? И что он сам за человек? Кто такой Кравунке, а? Я приехал сюда девять лет назад, и звали меня тогда Вольф Дитер Бэр. Мой отец был членом участкового суда в Магдебурге. В конце концов Гитлер его выгнал с работы. Мою мать вы часто видели здесь. Я научился крестьянствовать. Здесь, в Фюрстенхагене. Поэтому я знаю здесь каждый вершок земли. Когда они потом стали требовать доказательств арийского происхождения, выяснилось, что я был усыновлен и Бэры — мои приемные родители. Я был взят из сиротского приюта. Виноват я в этом? Моя настоящая мать, говорят, была баронесса, родившая вне брака. Что ж. В конце концов, значит, у нее не было дворянской спеси. Потому что мой незаконный отец был русским военнопленным. Он был рабочим и пастухом, а в имении, там, в Тюрингии, он тоже был на крестьянских работах, то есть он был простым сыном своего народа! Русского народа! Вот так! И поэтому я не должен считаться полноценным человеком? Фамилия моего приемного отца Бэр, вот так. То есть вполне возможно, что семья раньше была не чисто арийской. Больше я не хочу ничего сказать.
Разве только, что, когда я стал совершеннолетним, мне надо было решить, какую фамилию я хочу носить. Тогда я решил взять фамилию Вальдхаузен, потому что меня донимали этим арийским происхождением, вот так. Поскольку же меня крестили как Бэра и все мои документы и школьные аттестаты выписаны на фамилию Бэр, то теперь я решил опять взять ее.
Он запнулся, но почувствовал, что сказал еще не все. Однако поскольку слов не находилось, он разозлился и переплел на местный говор:
— Тут вот этот пустобрех, черт те откуда его принесло, меня оболгать захотел. Какой-то там Кравунчишка, да у него кишка тонка, а задницы в портках вовсе не видать! Выберете вы меня или нет, мне плевать. Но вот коли кто меня тронет и на мою семью наклепает, то я его по роже так хрястну, что у него все зубья повылетят. У меня все!
Бурное «браво» показало, каков будет исход дела. Кравунке еще раз сам себе предоставил слово, но его перекричали:
— Выбирать! Выбирать давайте!
Против женского хора устоять не может никто. И огромным большинством голосов было принято решение Вольфа Дитера Бэра также рекомендовать в кандидаты на пост бургомистра.
XII
Его не выбрали. Но и Освина Кравунке тоже не выбрали. Виноват в том учитель Буххольц. Он пригласил через несколько дней после собрания Вольфа Дитера Бэра к себе и весьма настоятельно порекомендовал ему снять свою кандидатуру. Отчасти по-товарищески, отчасти по-отечески он объяснил: для нового государства очень важно иметь даже в самой последней деревне достойных представителей, и если речь идет не о возрасте, то во всяком случае об идеологической устойчивости, о незапятнанном прошлом и примерном поведении.
— Ишь ты, и все это как раз есть у Освина Кравунке? — спросил Вольф Дитер.
Учитель Буххольц пропустил упрек мимо ушей.
— Дорогой Бэр или Вальдхаузен, и вы действительно считаете нужным добиваться такой должности? Конечно, вы человек обходительный, вы кое-что смыслите в сельском хозяйстве. Вы вообще не глупы. Вы сильно изменились за последнее время — но вы все еще так любите хвастаться. Теперь вы вдруг превратились в сына русского батрака; дружище, да уж скорее поверят, что я сын последнего великого герцога Мекленбургского!
И тогда Вольф Дитер рассказал все. Задумчивым тоном, почти снисходительно, как благоволит объясняться находившийся в долгом отсутствии претендент на престол, излагающий народному представительству свои монархические претензии так, будто это милость с его стороны. Закончил он тем, что положил на стол перед учителем маленькую, расплывчатую любительскую фотографию:
— Вот мой отец!
Господин Буххольц внимательно изучил фотографию, перевернул ее и прочел «Моему степному волку», — и сомнения его улетучились: уж слишком велико было сходство.
— Или вы против моей кандидатуры, — едко спросил Вольф Дитер, — потому что мой отец не только пролетарий, но еще и иностранец, русский, вообще в расовом отношении не чистый тип?
— Да вы что, — вскипел Буххольц, — совсем с ума сошли? Я против вашей кандидатуры, потому что в вас осталось еще слишком много мусора от прошлого. Я против, потому что не хочу допустить, чтобы вы прежде времени сломались. Я против вас как бургомистра, потому что для вас есть другая должность.
— Я сын народа, скромно защищался Вольф Дитер, поскольку он неверно истолковал слова учителя, — и я принадлежу народу.
— Я совсем не исключаю, что когда-нибудь вы, может, станете бургомистром, — постарался смягчить его учитель, — но не раньше, чем лет через пять, когда вы докажете, что у вас хватит выдержки.
— Все это решаете вы? — спросил Вольф Дитер.
— Нет. Но если власти прислушиваются к моим советам, у них есть на это свои основания. Они согласились со мной, кстати, и тогда, когда я возражал против того, чтобы вас просто выбросили на свалку. И у меня на это тоже были ведь свои основания.
— А для Освина Кравунке у вас никаких оснований не нашлось?
Господин Буххольц махнул рукой.
— Он также не будет бургомистром Фюрстенхагена, как и вы. Он даже… впрочем, оставим его. А вот вас я не оставлю в покое. Я знаю, что с таким хозяйством, как у Лизхен Фишер, не справится один человек, даже такой, как вы, добровольная помощь другим тоже со временем потеряет для вас прелесть. Вы снова захотите чего-то добиться, чего-то необыкновенного. А что вы скажете, если вам предложат взять на себя уход за сельскохозяйственными машинами имения и вы будете отвечать за их использование на участках переселенцев и крестьян? Водить трактор вы ведь тоже умеете! Разве это поручение для такого парня, как вы, хуже, чем писание бумаг?
Так появилась первая машинопрокатная станция, и так возникло одно из лучших объединений крестьянской взаимопомощи. Вольф Дитер Бэр женился на Лизхен Фишер и постарался навести порядок в своем разбросанном потомстве и собрать его воедино. Собственно, отнюдь не все гордые матери поспешили отдать своих отпрысков, так как они надеялись, как и те, чей черед пока не настал, что еще далеко не вечер и ночей впереди тоже много. Но, в общем, девушки и женщины Фюрстенхагена удивительно быстро отказались от своих надежд, поскольку господин барон был мертв и погребен, а вместо него по деревне расхаживал примерный отец семейства. У мужчин теперь появились свои причины видеть в бывшем лжебароне только обходительного малого. Провал его старого противника Кравунке автоматически поднял престиж Вольфа Дитера. Вот как бывает в жизни.
Кравунке не смог стать бургомистром, потому что в день выборов его вообще не оказалось в Фюрстеихагене. Через несколько дней после беседы с Вольфом Дитером господина управляющего Кравунке вызвали в приемную бургомистра, и там учитель Буххольц спросил его, не знаком ли ему некий Отто Краузе, бывший повар в столовой завода «Опель» в Рюссельсгейме, который во времена фашизма за присвоение денежных взносов на так называемое зимнее вспомоществование получил два года тюремного заключения. Господин Кравунке на несколько минут оцепенел, а потом вспомнил, что знал такого человека, и пообещал выяснить у знакомых, где может находиться названный Краузе. По всей видимости, господин Кравунке той же ночью лично отправился на поиски в Рюссельсгейм, во всяком случае в Фюрстенхагене его больше никто не видел.
Когда узнали, что Освин Кравунке бесследно исчез, жители Фюрстенхагена единодушно решили избрать Бэра бургомистром, но он категорически отказался. Некоторое время на эту тему еще пошумели, а потом выбрали Берту Зиберт. Она, поддержанная учителем Буххольцем и Вольфом Дитером Бэром, прошла на ура. Ведь в конце концов она была одной из тех, кто на маленьких листочках задал вопрос: кто такой Кравунке?
XIII
Прошли годы. Сегодня и старожилам, и переселенцам кажется странным иметь что-то против Вольфа Дитера Бэра. Ведь он, как утверждает учитель Буххольц, несмотря на свою молодость, истинный отец общины. Учитель Буххольц так и не бросил своей привычки выражаться двусмысленно; достаточно заглянуть разок в школу, чтобы заметить, что количество Бэров значительно больше, чем зарегистрировано под фамилией Бэр.
А может быть, учитель Буххольц, который и в свои шестьдесят лет не истощился на выдумки, только шутки ради внес в районный совет предложение изменить название Фюрстенхаген? Официально он мотивировал свое предложение тем, что с его заменой из деревни будут устранены последние воспоминания о помещичьем прошлом[31]. Жители Фюрстенхагена, которые по старой привычке называли еще Бэра бароном, хотя он все шесть рабочих дней недели выглядел, как некогда Йохен Коддельбеен после дождя, поначалу не хотели отказываться от такого благородного названия. Да и как им называться в будущем? Если не проследить и сначала не решить промеж себя, какое взять новое название, то начальство такое имя пропишет, что дальше некуда, как это уже случилось с соседней деревней, которая называется теперь Какерсхаген. Поэтому они взяли дело в свои руки. Поскольку у каждого человека две руки, то хитрый педагог вложил в каждую руку по названию, и жители деревни долго не могли решить: называться им теперь Бэрендорф или Вальдхаузен. Сначала учитель Буххольц просто хотел всех разыграть, внеся подобные предложения, но когда крестьяне сообразили, в чем фокус, они сочли своим долгом довести дело до конца. Однако выбрать одно из двух названий им не удавалось, так что в конце концов они опять было вернулись к мысли оставить все как есть.
И тут выход нашел не кто-нибудь, а новый бургомистр Берта.
— Мои дорогие граждане пока еще Фюрстенхагена, — сказала она на третьем, но безрезультатном заседании. — Поскольку мы не можем никак решиться в пользу одного из двух названий, называться ли нам Бэрендорф или Вальдхаузен, я предлагаю объединить их в одно и впредь называться Бэренвальде!
Все согласились, и Берта передала решение в земельный совет. Там были разные мнения, довольно долго никто не знал, чем кончится эта история. Председатель земельного совета высказал мнение, что лучше всего отложить решение вопроса на несколько лет, пока… «мы со своей стороны не убедимся в том, что названный переселенец Бэр может доказать свои заслуги в секторе сельского хозяйства еще и в районном масштабе». Это вызвало у крестьян только смех: они-то знали своего Бэра. Он представил доказательства в районном масштабе, организовав первый сельскохозяйственный кооператив, который по его предложению был назван «Один как все», и не успокоился, пока основатель не превратился в руководителя. Это был лучший день в жизни Лизхен Бэр и учителя Буххольца.
Когда госпожа советница Бэр приезжала в деревню, последнее лето носившую название Фюрстенхаген, на продолжительный отдых, она, что называется, отправилась по воду с полным ведром, поскольку она привезла с собой из города взрослого юношу Бэра. Она порадовалась тому, что пятнадцатилетний, городской парень и старшеклассник без ложной скромности сумел найти свое место в деревне и уже через несколько дней был принят деревенскими ребятами как равный, но в равной степени была напугана поразившим ее в один прекрасный день фактом, что не смогла на берегу озера среди беснующейся оравы маленьких голых фавнов определить всех тех, кто лицом и шевелюрой был похож на Вольфа Дитера Бэра и Вольфхена Бэра, бывшего Пульмайера. И тут сердце ее сжалось от стыда и гордости. И потом все последующие дни, встречая где-нибудь широколобое скуластое долговязое существо с растрепанной шевелюрой, она протягивала руку и гладила его по детской головке. Она делала это, боясь случайно пропустить внука, и всякий раз испытывала несказанное счастье от того, что она, оставшись бесплодной, сумела взрастить росток неистребимой жизни.
Коллега Сухоед Человек с ничейной земли
1
Когда в прошлое воскресенье, вернувшись после двухлетнего отсутствия, я пришел обедать в кооперативный ресторан «Бодрич», то снова увидел его. Увидел человека, который многие воскресенья подряд, за исключением последних двух лет, доставлял мне невинное удовольствие, но вместе с тем и задавал кое-какие загадки. И который теперь все повторил опять, разве что в еще более четком исполнении.
Раньше, не далее как три года назад, «Бодрич» был частным рестораном и славился блюдами местной кухни, а это значит, что кормили здесь вкусно и обильно. Конечно, в основном по карточкам. В основном. Потом заведение отошло к кооперативу, и теперь у вас есть выбор: либо питаться по карточкам, то есть дешево, либо по коммерческим ценам, то есть подороже. А в остальном здесь ничего не изменилось — управлял заведением тот же человек, еда была такая же вкусная, посетители — те же. Публика состояла и по-прежнему состоит из добропорядочных бюргеров, которым хочется в воскресенье избавить жену от стряпни; из служащих и ремесленников, которые уже истратили все талоны или желают в воскресенье немножко себя побаловать; из крестьян, выгодно продавших накануне свои продукты; из старичков-пенсионеров, которые экономно расходуют талоны и к своей великой радости обнаруживают, что в этом ресторане и за мясной талон в пятьдесят грамм можно получить вполне приличное блюдо. «Как это они ухитряются, фрау Шнейдер? Нам с вами пришлось бы то и дело что-нибудь добавлять».
Почти каждое воскресенье здесь одни и те же люди. И все они являют сугубо частное, хорошо темперированное выражение лица — смесь ожидания, воскресной умиротворенности и аппетита.
Все, кроме него и его жены. Потому о них и рассказано будет подробнее, чем о других.
Обычно он приходит в ресторан без десяти час, лишь в плохую погоду, бывает, немного опаздывает, минут на десять, не больше. В ресторане два довольно просторных зала, люди постарше предпочитают второй, поскольку в первом зале стойка и возле нее по здешнему обыкновению всегда собирается и шумно спорит группка мужчин.
Итак, без десяти час. Открывается дверь, он входит и, не удостоверясь, следует ли за ним жена, шествует мимо стойки во второй зал. На ходу еще он высматривает свободный столик или, по меньшей мере, два свободных стула и указывает на них жене, но и теперь не считает нужным хоть краем глаза взглянуть на нее и убедиться, что она идет за ним и поняла его жест. Наверно, тридцать воскресений подряд я мечтал о том, чтобы эта женщина, едва переступив порог ресторана, хоть раз взяла бы и потихоньку повернула обратно. Нет, этого она не делает. Размеренным шагом подходит он к одной из вешалок у стены, всегда к одной и той же, будь даже эта вешалка переполнена, а другая, рядом, почти свободна, — медленно, бережно снимает и вешает пальто и шляпу, и тень грусти на его лице чуть-чуть сгущается, если ему приходится вешать свои вещи на крючок, куда уже повесил пальто другой посетитель. Затем он шествует, — да, он не ходит, а всегда только шествует, — к столику, на который указывал и за которым уже сидит его спутница жизни. Сидит в пальто и с зонтиком, потому что ведь главная ее задача — сторожить места. Как только он усаживается, она встает, подходит к вешалке и вешает свое пальто на пальто мужа, даже если рядом оказывается свободный крючок. Пальто она тщательно расправляет, обдергивает рукава, а затем возвращается к столу. Он тем временем едва заметно кивнул головой одному из незнакомых сотрапезников и оглядел стол таким недвусмысленным взглядом, что людям, уже занятым едой, понятно — он ищет меню. Ему услужливо передают карту. Если ее нет на месте, он встает и подходит к соседнему столику, дотрагивается рукой до лежащей там карты и молча слегка наклоняет голову. На этот жест и молодые и старые люди всегда откликаются любезным «пожалуйста, пожалуйста». Но, как правило, карта лежит у него на столе, и когда жена, повесив пальто, возвращается на место, он уже погружен в изучение меню. Сделав выбор и не выпуская карты из рук, он озирается в поисках кельнера. Для жены это сигнал. Она открывает сумку, вынимает из нее сумочку поменьше, открывает ее, достает две карточки на жир и мясо и передает их мужу вместе с маленькими ножничками, и тот осторожно отрезает нужные талоны, на всякий случай еще разок бросив взгляд в меню и убедившись, что все правильно. После этого он возвращает жене карточки и ножнички, берет меню и снова, уже несколько укоризненным взглядом, ищет кельнера. Когда тот подходит, слышатся первые слова:
— Пожалуйста, два раза телячье жаркое!
(Иногда это мясной рулет или две порции жареной свинины. По-видимому, это его любимые блюда, к тому же они самые дешевые.)
Жене он не говорит ни слова, она ему тоже. Не спрашивает даже, что он сегодня заказал. Когда кельнер приносит еду, она не выказывает никакого любопытства, глаза ее не столько устремлены на поднос с предназначенной для нее едой, сколько шныряют по тарелкам на соседних столах. Чета принимается есть с равнодушными лицами, не выражая ни удовольствия от вкусного блюда, ни досады на не совсем удавшееся. Пить ничего не пьют.
Он худощав, среднего роста, лет шестидесяти с небольшим. Лицо бритое, узкое и бледное, землистого оттенка, со впалыми щеками, жидкие седые волосы; за очками без оправы — тусклые глаза. Рта, можно сказать, нет — он едва намечен тонкой бесцветной черточкой. Сутуловатая фигура облачена в серый плотно облегающий костюм, сшитый несомненно еще в первые годы Веймарской республики, к тем же временам относится и высокий стоячий воротничок фирмы Хяльмара Шахта. Тем не менее этот человек отнюдь не производит впечатление гражданина, обозленного вмешательством в его жизнь, скорее его высушило что-то изнутри. И какой-то удивительной игрой природы представляется, что его жена видимо сделалась такой не по его воле, а скорее исподволь подделалась под него сама, по собственной склонности. Она тоже среднего роста, у нее тоже седые волосы, такое же землисто-серое лицо и рот — такая же тонкая черточка. Пальто и платье как будто бы более позднего происхождения, чем у мужа, но, возможно, такой их вид объясняется многократными переделками.
Супруги быстро управляются с обедом, ибо он состоит всего только из одного блюда, без супа и без десерта — ни компота, ни салата, ни глотка вина, пива или какой-нибудь воды. Порой взгляд жены следует издали за кельнером, когда тот, балансируя подносом с четырьмя порциями мороженого со взбитыми сливками, скользит к соседнему столику, где четыре девушки встречают его радостными возгласами. Или ее глаза минуту-другую устремлены на ту сторону зала, откуда раздается ленивый голос владельца столярной мастерской:
— Метр, теперь еще три кофе, два обычных, один по-турецки. Со сливками, понятно.
Сколько платить, они знают сами, без кельнера. Счет составляет три марки семьдесят, вот они лежат на белой скатерти, ровно три семьдесят, ни на пфенниг больше. Что ж, возможно, ему приходится экономить.
Гость поднимается, идет к вешалке, жена за ним. «Большое спасибо!» — говорит по привычке кельнер, не отдавая себе отчета в том, что его не слышат. Молчаливый воскресный посетитель уже снял с крючка женино пальто и протягивает его куда-то назад, не интересуясь, успела ли жена подойти. Но она успела, два года назад тоже всегда успевала, все воскресенья подряд, успела и сегодня. И пока она путается в рукавах пальто, он влезает в свое, надевает шляпу и направляется к выходу, мимо жены, в полной уверенности, что она пойдет за ним. Он шествует через первый зал «Бодрича», открывает дверь и выходит в вестибюль, оставляя дверь открытой для несомненно идущей позади жены, но ее перед женой не придерживает. Медленно шагает по тротуару мимо окон ресторана, сзади, на расстоянии метра, — спутница жизни. Филемон и Бавкида на немецко-бюргерский лад, словно бы уже пережившие метаморфозу в дуб и липу[32]. Полезно бывает полистать мифологию, чтобы с известной долей вероятности предугадать, какие еще превращения могли бы произойти с этой парой.
2
Внезапно маленькое происшествие разрывает это переплетение из серой прозаичности и голубой нереальности, и остается только кирпич неопределимой формы и субстанции. Супружеская чета в очередной раз удалялась, провожаемая моими взглядами, как вдруг у самой двери муж чуть-чуть повернул голову вправо, чего еще никогда не случалось. Кто-то с той стороны громко его окликнул. Правда, мой серый приятель на приветствие не ответил, но шляпу слегка приподнял. Я наклоняюсь вперед, чтобы увидеть, кто бы это мог его окликнуть, и узнаю одного школьного работника, с которым мне довелось сотрудничать в первые годы после сорок пятого. И вдруг во мне просыпается чувство, которого я не испытал за все время моих воскресных встреч с этим деревянным господином, — любопытство узнать, что же это за странная супружеская пара.
— Как? — изумленно спрашивает мой знакомый. — Вы его не знаете? Не знаете коллеги Сухоеда? — Он весело смеется. — Собственно, его настоящее имя Штокфиш, штудиенрат Элард Штокфиш, но ученики и учителя между собой называют его только этим старым местным словцом — Сухоед, которое к нему исключительно подходит.
Вот оно как! И тут я узнаю историю выломанного из стены кирпича с остатками штукатурки, которую оббивали молотком, очищая кирпич для нового употребления, но, по-видимому, с излишней осторожностью.
— Штудиенрат Штокфиш несомненно всегда был коллегой Сухоедом. До тысяча девятьсот тридцать третьего года его можно было считать социал-демократом, хотя в партии он не состоял, а только сочувствовал. Он всегда только сочувствовал! В гитлеровскую партию он в тысяча девятьсот тридцать пятом году все-таки вступил, пожалуй потому, что здесь в очередной раз сошлись противоположности. Во всяком случае, его к этому никто не принуждал. И все же он никогда не усердствовал — его даже не захотели взять в СА. По этому поводу он никаких суждений не высказывал — Штокфиш всегда был человеком послушным. Послушным, но не более того. В партии ему время от времени хорошенько доставалось за пассивность, после чего он ходил на все собрания. Поскольку руку для так называемого германского приветствия он поднимал, а слов «Хайль Гитлер» не произносил, против него возбудили дело. Но оно было прекращено: коллеги показали, что Штокфиш еще более молчалив, чем Мольтке[33], к тому же после Сталинграда у нацистов были другие заботы. Он преподавал немецкий, латынь и математику, считался совершенно выдающимся специалистом и очень хорошим учителем. Хорошим в том смысле, что при всей сухости своей манеры преподавания, благодаря обширным знаниям умел увлечь учащихся и, сколько бы ошибок или вольностей они себе ни позволяли, никогда не терял своего почти апатичного спокойствия. Питал ли он какой-либо интерес к тому, что преподавал, или к своим ученикам, — в этом с полным основанием сомневались уже тогда, он был настоящей учебной машиной, преподавателем-роботом, серым, малокровным, но надежным, полной гарантией против любой попытки нарушить порядок. И все же его несколько раз отстраняли от преподавания: его усердствующие коллеги-нацисты, несмотря на принадлежность Штокфиша к партии, нашли его «сухоедское» настроение не германским. Когда меня уволили, он не сказал мне ни слова. Но я знал, что он был огорчен.
Когда после разгрома фашизма у нас началось строительство новой жизни, его, конечно, лишили права преподавать. Думаете, он воспротивился? Гитлера он, похоже, действительно не оплакивал, но и на будущее больших надежд не возлагал. К концу сороковых годов, когда мы почувствовали сильную нехватку преподавателей немецкого и латыни, то вспомнили о нем. А так как по совместной работе с ним до моего увольнения в тысяча девятьсот сороковом году я знал, что в этом случае мы, возможно, впервые имеем дело с человеком и впрямь аполитичным, я предложил снова пригласить его в школу. Я понадеялся, что теперь он, быть может, станет живее, активнее. Он все принял как должное. И вот он работает у нас уже пять лет, и к нему не придерешься, разве что он производит впечатление не живого человека, а выходца с того света. Я знаю, что вы хотите сказать: как можно в наше время допускать к молодежи такого сухого, бездушного человека! Да, мы тоже задавались этим вопросом, но поскольку он, как выяснилось, никакого вреда не приносит, напротив, — в качестве преподавателя по трем прежним своим дисциплинам несомненно приносит пользу и даже умеет подтянуть отстающих учеников, то решено было его оставить.
— Что же он, и в школе не разговаривает, и при встречах с коллегами? — поинтересовался я.
— Да, вне школы он почти не разговаривает — два-три слова, без которых уж совсем нельзя обойтись.
— А в чем причина? В студенческие годы он наверняка таким не был, ведь, в конце концов, он же сделал предложение, женился?! Дети у него есть?
— Был сын. Возможно, здесь и кроется причина его образа жизни — наподобие трапписта[34]. Сын погиб на войне. После этого он позволил себе несколько политических выпадов, наверное, единственный раз в жизни, и снова оказался под следствием. Но его оставили в покое. С тех пор, — говорят, что будто после ссоры с женой, — он впал в полное молчание. Подробностей я не знаю, к тому времени я давно уже в школе не работал. Поговаривали, будто он наложил на себя обет молчания, чтобы опять «на что-нибудь не напороться». «На что-нибудь»— это вполне в его духе.
Я с недоумением смотрю на директора школы.
— Знаю, о чем вы сейчас думаете, — прерывает он молчание. — Не стесняйтесь, говорите вслух.
— Пожалуйста! Годится ли этот камень для строительства новой Германии? Новой школы? Кирпич из развалин, на который столько налипло старой штукатурки, что сквозь нее не видно, цел ли еще сам кирпич, не разбит, не рассыпается ли?
Директор высоко поднимает плечи, застывает так на несколько секунд, а потом с легким вздохом их опускает.
— Pectus est quod disertos facit![35] — Он смотрит на меня с улыбкой. — Если правда, что красноречивым человека делает сердце, то, значит, у него сердца никогда не было.
— Эта знаменитая цитата не очень соответствует действительности: красноречие для человека не обязательно. Но сердце только и делает человека Человеком. Сегодняшний учитель должен хотя бы пытаться быть человеком.
Палка с бляшками День отставного советника по делам строительства Фридриха Вильгельма Ванкельмана
I
Город, где встречал советник этот осенний день тысяча девятьсот сорок седьмого года, был земельной столицей. Он расположился среди лесов и озер, мы найдем в нем замок, театр, музей, собор, несколько правительственных зданий, четыре кинотеатра и девяносто тысяч жителей. Отставной советник по делам строительства д-р Фридрих Вильгельм Ванкельман был одним из них. Впрочем, нет, он был чем-то большим; сказать: город, улица, дом, квартира, комната, квартиросъемщик — значит вести речь о нем.
Что до города, то он знавал лучшие времена. Не говоря уже о давних, когда здесь еще пребывали их королевские высочества. Но даже перед войной в нем насчитывалось всего тридцать тысяч жителей, в войну всего сорок тысяч, и советник к их числу еще не прибавился. Главное же, люди чувствовали тогда, что живут не просто в городе, даже не просто в земельной столице, а как-никак в резиденции. Хотя резидента и звали уже не Фридрих Франц Великогерцогский, а всего лишь гауляйтер Фридрих, Фридрих Великодержавный. Для горожан, считавших своим долгом, и долгом приятным, оказывать уважение наместнику Великой Германии, это знаменовало все-таки регресс с точки зрения общественной и светской, поскольку десять тысяч жителей из сорока оказались тогда не своими, местными, а приезжими. Испокон веков таких считали здесь чужаками; война заставила величать их эвакуированными. И все это были люди отнюдь не великих достатков.
Что и говорить, им стоило посочувствовать, шуточное ли дело — остаться без крова, без вещей, без пары белья и искать пристанища в чужом городе, у чужих людей, причем людей, быть может, другого круга, с другими манерами. Понаехали без ничего, да, может, ничего приличного у них и прежде не водилось, и где же им было понять, что значило ощущать себя истинными согражданами, фольксгеноссен, что значило крепить сплоченность народа перед лицом войны, как прекрасно сказал когда-то наш великий национальный поэт Фридрих фон Шиллер: «Сплочен ты в горе и в беде, народ единый, братский!» Ибо только сплоченность могла стать залогом окончательной победы. И ведь фюрер уже почти ее достиг. Хотя в последние годы всякое было: и террор воздушных налетов и эта история со Сталинградом, вообще духовная стойкость соотечественников год от года подвергалась испытаниям все более суровым, и, в сущности, на каждого жителя города ложилось бремя немалой ответственности. Кто, в самом деле, мог знать, что ему предстоит завтра? Если бомбежки обошли резиденцию стороной, то, по правде сказать, не благодаря замечательной обороне, а благодаря добрым отношениям между бывшим домом великих герцогов и английским королевским двором. Так что великогерцогское семейство хоть этим заслуживало лучшего с ним обхождения. Ведь правда же? Но что можно было сказать?
Да, таков был город в войну, таким он оставался после войны и до сего дня; во всяком случае, если судить по разговорам; правда, половине города вовсе не до разговоров, ей надо работать, так что ее по целым дням просто не бывает дома.
II
Улица уже два года как носит имя Рудольфа Брейтшейда[36]. Два пожилых господина, на вид из приличных, хотя воротники и брюки у них малость потерты, стоят против дома номер шестьдесят семь.
— Такие времена, господин камер-музикус, два года прошло с войны, и что же? Мы бы теперь предпочли видеть в резиденции не десять, а двадцать тысяч эвакуированных. То все-таки были настоящие фольксгеноссен. А эти беженцы… я знаю, их принято называть переселенцами… уже больше сорока тысяч навязали нам на шею, и все лишь потому, что война пощадила нас. А по мне, так лучше бы трещина в стене и разбитая крыша, чем эти квартиранты. Их теперь в городе больше, чем нас. Ко мне подселили два семейства из польских областей. Да еще улицу переименовали: Рудольф-Брейтшейдштрассе. Скажите честно, господин камер-музикус, вы знаете, кто это такой? Мне кажется, эти новые там, наверху, сами толком вначале не знали, трижды писали имя и всякий раз по-разному, покуда разобрались. Наверно, какой-то из коммунистических вождей. Может, даже еще живой, теперь ведь и не ждут, пока человек умрет.
— Нет больше уважения к традициям, мой дорогой господин гоф-кондитер. Я вовсе не реакционер, семья наша всегда считалась прогрессивных взглядов, я бы даже сказал, демократических, только что разве не республиканских. Но ведь и демократия немыслима без традиций. Возьмите хоть Англию, эту мать всех демократий! Потому я и считаю, что лучше бы называть улицу по-старому. Здоровый дух немецкого народа стихийно вернул ей в тысяча девятьсот сорок пятом году название Гинденбургштрассе[37], как было до тысяча девятьсот тридцать третьего года. Национал-социалисты — вы ведь знаете, я в партии не состоял — да, так они перекрестили ее в Хорст-Вессель-штрассе[38], что уже тогда мне показалось бестактностью. После тысяча девятьсот сорок пятого года это действительно никак не годилось, но почему нельзя было оставить Гинденбургштрассе? Я понимаю, он был солдат, фельдмаршал, а все военное сейчас не в почете, но все-таки — рейхспрезидент! Ладно, пусть не Гинденбургштрассе, но почему хотя бы не Александриненштрассе, как до тысяча девятьсот восемнадцатого года — в честь сестры нашего последнего великого герцога? К тому же не исключено, что это она уберегла нас от бомбежек — ведь она во время войны жила в Англии.
— Народ не знает благодарности, господин камер-музикус.
— Ну, да все равно. Резиденцией нашему городу так и так уже не бывать, господин гоф-кондитер.
— Поживем, увидим, господин камер-музикус.
На первом этаже дома — лавка колониальных товаров, оттого в коридоре всегда такая странная мешанина запахов. Даже на улице чувствуется.
— А фирма-то старинная, господин камер-музикус. Солидная была торговля, еще мои родители тут покупали. Теперь-то вообще ничего не достать, я только рад, что еще перед войной отдал свою кондитерскую и купил вместо нее дом. Какая нынче торговля! Сколько приходится людям побегать, пока разживутся чем-нибудь, что им оставит кооператив. А какая была прежде фирма! Недаром же дед нынешнего владельца числился поставщиком двора. И жилья им тоже оставили всего две маленьких комнаты слева от коридора, он ведь, знаете, в тысяча девятьсот тридцать седьмом году вступил в национал-социалистскую партию. А что еще оставалось деловому человеку? Конечно, лишь номинально, как и я. Хорошо хоть, эти новые власти оставили ему магазин. Ну, он, наверное, тут постарался — это у них в крови.
Смех. Потом тревожный взгляд наверх. И — в испуге, совсем тихо:
— Пойдемте-ка лучше отсюда. Там кто-то у открытого окна стоит и смотрит на нас. Будем надеяться, что он ничего не слышал.
И вдруг в полный голос:
— Я всегда говорю: будем разумны, в конце концов и переселенцам надо где-то жить, тоже все-таки немцы. Потеснимся немного: в тесноте, да не в обиде. Все уже налаживается.
На, углу гоф-кондитер оглядывается еще раз. Затем, учтиво попрощавшись, они расходятся.
III
В доме номер шестьдесят семь тоже шепчутся, продолжают на свой лад пересуды двух бюргеров:
— Тут на площадке, напротив, живет зубной техник Краузе. Ну, дорогие мои, вот кому хорошо! Сами понимаете, раз у человека болят зубы, значит, милые вы мои, у него есть что ими жевать. А как же, иначе бы и зубы, небось, не болели. Да по нынешним-то временам, если человеку жевать нечего, ему и врача не найти для своих зубов. То есть, конечно, сейчас уже не так, как в первое время после катастрофы. Тогда, бывало, придут к нему иностранные-то солдаты, так Краузе плату с них брал только натурой. Да, люди жили, и оба ведь были наци.
А вот справа на площадке — этот, небось, из начальства. Кто он такой, никто не знает, но как же не из начальства, если они втроем занимают четыре комнаты. Иной раз на машине его привозят. И гардины у них новые, и занавески. И пахнет у них уж никак не брюквой.
Слева — там прокурист Бреттшнейдер. Умеют люди устраиваться! Он в этом доме уже двадцать пять лет живет. Само собой, из ветеранов партийных, года чуть ли не с тысяча девятьсот двадцать четвертого. Так представляете, что сделал? Как почуял, что старых партайгеноссе[39] станут брать в оборот, пошел добровольцем на черную работу, во искупление, так сказать, грехов. Рабочим при городской транспортной конторе. И каждый день этаким молодцом возня конфискованную мебель, а это, небось, кому-то понравилось. Так что власти даже позабыли забрать немного мебели у него самого. Больше того, он первым ухитрился поселить к себе офицера оккупационных войск с семейством, какими путями, один бог ведает. Две комнаты нм отдал. Зато всю зиму в квартире у него было тепло, как в бане, из продуктов тоже кое-что перепадало: на кухне готовили ведь. Многие тогда жалели, что сами не были в партии. Потом, правда, нацистов стали вычищать со службы, этого господина транспортного рабочего тоже уволили. Да он горевал недолго, побегал, побегал и уже через несколько дней оказался прокуристом в какой-то экспедиционной фирме. Офицер-то с семьей теперь с квартиры у него съехал. Так он взамен поселил к себе двух девиц, вроде бы переводчицы, они и таблички себе такие на дверь повесили, теперь как придут контролеры из жилуправления, так эти дамы объясняются с ними только по-английски да по-русски, чтобы думали, будто они в самом деле иностранки. А в жилуправлении им пока верят, вот и занимают Бреттшнейдеры с этими девицами всю квартиру.
Но довольно прислушиваться к шушуканью, которое несется со всех углов лестничной площадки, посмотрим лучше, дома ли тот, кого мы ищем.
На верхнем этаже четыре двери, увешанные карточками с именами жильцов, среди них две старые таблички позволяют узнать многолетних съемщиков.
Одна овальная, из фарфора, с латунным ободком, головки винтов истончились за десятки лет, что их начищали. На ней старонемецким вычурным шрифтом выведено: «Беттина Фрейтаг, певица придворного театра». Судя по табличке можно предположить, что Беттина Фрейтаг выступала еще с Генриеттой Зоннтаг[40]. Она тоже давно уже не поет, даже- не преподает больше пения, со сцены она ушла, когда скончался последний великий герцог, а потом нацисты лишили ее и права на преподавание, поскольку ее дедушка Фрейтаг, то бишь пятница, был вроде бы слишком близок с еврейской субботой. На первых порах Беттине Фрейтаг еще было разрешено содержать «пансион с питанием для работников искусств», потом, когда ей по расовым причинам и в этом было отказано, она стала просто сдавать комнаты. В сущности, у нее был как бы полупансион, даже с утренним кофе. Но в тысяча девятьсот сорок втором году жилищное управление отобрало у нее и квартиру, передав ее прежнему съемщику Армину Дрейслеру, из эвакуированных, который жил у фрау Фрейтаг со своим семейством, при условии, однако, что он позволит прежней хозяйке жить в одной из комнат. Крах третьего рейха воздал и за. это; Беттина Фрейтаг вновь была утверждена в правах квартирохозяйки, хотя жить, впрочем, осталась в той же комнате, что и прежде. Дрейслерам же, как получившим привилегии при нацизме, пришлось съехать, и вместо них, четверых, в квартире поселились семеро. Переселенцы с востока, национал-социалистов среди них, разумеется, не было. Как-то Беттина Фрейтаг подала в суд на жену одного из своих новых жильцов, которая будто бы ее обозвала жидовкой, однако до разбирательства дело: не дошло, поскольку бывшая придворная певица взяла свою жалобу обратно. За это муж женщины, на которую она жаловалась, обещал ей полцентнера картофеля, правда, отдал потом лишь половину обещанного. Певица пробовала вытребовать и вторую половину, но смолкла, услышав однажды в ответ, что еще наступят другие времена и в Германии опять будут распоряжаться немцы. А тринадцатилетний сын упомянутой женщины, который всякий раз, как певица входила в общую кухню, начинал вслух читать одну и ту же газетную статью о разделе Палестины, прекратил эти глупости лишь после вмешательства третьей обитавшей в квартире семьи.
В квартире наверху слева две комнаты занимает портной Ортвин Ветцель с женой и двумя детьми, а в двух других комнатах живет железнодорожник Вильгельм Кульке с женой и пятерыми детьми. Ветцели — переселенцы из Судетской области, Кульке — с Вислы. Они друг с другом не ладят, тем более что оба семейства претендуют на звание квартиросъемщиков. Квартира эта наводит ужас на весь дом, поскольку человек, строивший его сто лет назад, не рассчитывал на такой напор детской энергии, какую она источает. Отверстия по краям ступеней свидетельствуют, что перила когда-то доходили до самого верха лестницы; зато выцветшая роспись в стиле модерн на стенах лестничных пролетов подновлена рисунками, которые наносила с помощью мела пли куска штукатурки вдохновенная детская рука: по зеленым волнам былого сказочного пруда гордо шествует неуклюжая девица с косматыми волосами, под ней надпись: «Герта свинья». Герта, видимо, в долгу не осталась, потому что на противоположной стене коридора среди лужайки с красными цветами написано: «Вилли ворует». Можно еще добавить, что уже с первых ступенек чувствуется запах кошек, и чем выше по лестнице, тем он сильней. У Ветцелей сиамский выводок.
Квартира справа наверху все еще принадлежит фрау Бентин, на латунной дверной табличке значится: «Эрнст Бентин, ревизор». Тоже был партайгеноссе, даже старший по кварталу, зато и службу имел. Говорят, однажды во время свары на этаже он пригрозил певице Фрейтаг, что при воздушном налете она в бомбоубежище не попадет, он об этом позаботится. Потом, когда англичан и американцев в городе сменили русские, господин Бентин подался на Запад. Теперь у его жены и дочки, которая работает учительницей, представьте себе, живут две молодые девушки, называющие себя танцовщицами, молодая супружеская чета, ожидающая ребенка, и пожилой господин с дочерью и внуком. Табличку ревизора на дверях этой квартиры окружают четыре визитных карточки. Строго говоря, визитных карточек три, четвертая вдвое большего формата и выполнена красивым шрифтом — сразу видно, что писал чертежник. На ней значится:
ВАНКЕЛЬМАН
Строительный советник в отставке
Стучать 3 р.
Его-то нам и надо.
IV
Табличка с именем, кстати, вовсе не означает, что мы попадем сразу к советнику: ведь обилие визитных карточек на входной двери говорит, что дверь эта общая для нескольких семейств. Стало быть, и коридор за дверью — тоже помещение общего пользования. И кухня общего пользования, и туалет. Впрочем, в этой квартире живут исключительно люди культурные, так что говорят здесь не туалет, а ванная комната. Заметим также, что отнюдь не все предметы и устройства в трех вышеназванных помещениях предназначены для общего пользования; жильцам дано право пользоваться: в кухне — только плитой (печной) и водопроводом, в ванной — ванной (для стирки) и ватерклозетом, в коридоре — настенным зеркалом и стойкой для зонтов. То есть, одно время пользоваться зеркалом и стойкой советнику не разрешалось, фрау Бентин объяснила ему, что коридор он у нее не снимал. Этого права он удостоился лишь после того, как ему с помощью жилуправления удалось поменять в этой квартире комнату, где он жил прежде, на другую. И вдобавок оказались расширены его права. Тут дело вот в чем: в коридор выходят пять дверей, одна из кухни, другая из ванной, но жилых-то комнат в квартире четыре, из чего можно понять, что одна комната прямого выхода в коридор не имеет.
Вот эту комнату фрау Бентин отдала вначале советнику, а в смежной, через которую ему, следовательно, каждый раз надо было проходить, поселила молодую супружескую чету, ожидавшую ребенка. Советник воспротивился такому порядку расселения из соображений моральных. Жилищное управление сочло, что он прав, и в двух смежных комнатах пришлось поселиться фрау Бентин с дочерью и двум танцовщицам, причем танцовщицы заняли заднюю комнату.
После каковой перестановки моральные страсти в бентиновской квартире накалились еще пуще, ибо теперь фрау Бентин с дочкой-учительницей стали каждый раз возражать против визитов, которые наносили танцовщицам их братья. Как фрау Бентин, так и учительница противились этим визитам не потому, что внешность братьев не обнаруживала ни малейшего сходства с внешностью той или иной сестры, и не потому, что братьев этих, как обе не без колкости констатировали, оказалось слишком уж много, нет, это их не касалось, так как они убедились, что в нынешнем государстве на сей счет господствовали взгляды более вольные, чем прежде; но нельзя же было приличным женщинам пропускать через свою комнату, которая служила им и спальней, и чем угодно, совершенно незнакомых мужчин. Жилуправление посоветовало в ответ поменяться комнатами, однако негодование фрау Бентин и ее дочки-учительницы разгоралось лишь сильней от мысли, что им придется тогда проходить через комнату танцовщиц, которые, может, будут в это время лежать в постели, или принимать гостей, или то и другое вместе. Попытка вообще запретить балеринам принимать гостей-мужчин закончилась провалом: в полиции, куда с этим обратились, сказали, что жилицы имеют право до десяти вечера пускать к себе и лиц мужского пола. Аморальными визиты считаются лишь после двадцати двух часов. А чиновник, пришедший ознакомиться с условиями на месте, посоветовал сдвинуть в проходной комнате шкафы, чтобы получилось нечто вроде коридора, — тогда заглянуть в комнату можно будет, так сказать, только с помощью силы.
Так сказать, только с помощью силы, так и сказал. Впрочем, он добавил еще, что, на его взгляд, лучше бы принять первое предложение — отдать балеринам проходную комнату. Что же касается протеста советника, будто нехорошо лицам мужского пола, то есть ему самому и его внуку, проходить через комнату молодой супружеской четы, ожидающей ребенка, то, продолжал полицейский чиновник, здесь было допущено некоторое преувеличение, ибо мальчика десяти лет можно еще не считать, с моральной точки зрения, лицом мужского пола, мужчина же за шестьдесят, с моральной точки зрения, может уже не считаться лицом мужского пола. После чего фрау Бентин и дочка-учительница решили лучше еще потерпеть соседство танцовщиц, но по возможности уделять им такое внимание, чтобы совсем выжить из квартиры этих попрыгуний и взять вместо них двух-трех школьников, лучше всего из деревни, с полным пансионом и дополнительными занятиями.
Как бы там ни было, советник получил комнату от входной двери сразу налево, а так как он был из числа людей, которые в любых обстоятельствах остаются культурными и порядочными, даже фрау Бентин не смогла на него долго сердиться. Во всяком случае советник с первых же дней раскланивался со всеми жильцами этажа, да и всего дома, даже детьми, вежливо приподнимая шляпу; он не перестал этого делать, даже когда заметил, что подобная вежливость грозит его единственной шляпе опасностью: ей так долго не выдержать. Все-таки на вешалку в коридоре он шляпу больше не вешает, хотя фрау Бентин однажды сама ему это предложила. Он прибил на косяк своей двери с наружной стороны крюк и на него вешает шляпу и палку. Это, сказал он соседям, позволяет сразу, не спрашивая, определить, дома он или нет. А на самой двери в комнату еще одна картонная табличка величиной в ладонь, тоже явно выведенная рукой чертежника, подтверждает, что живет здесь
Ванкельман
строительный советник в отставке
V
Сейчас осень тысяча девятьсот сорок седьмого, стало быть, живет он здесь почти три года. Шляпа и палка висят на крюке, значит, советник дома. Да и времени-то всего семь утра.
Шляпа и палка характеризуют своего владельца лучше всякой таблички. Ибо они — приметы той ушедшей в прошлое Германии бисмарковского закала, которая последний раз проявила себя во времена «Гарцбургского фронта»[41], когда националист Гугенберг и Зельдте из «Стального шлема» пробовали показать свой характер нацистам. В последующие двенадцать лет шляпы и палки такого фасона можно было видеть все реже, их предпочитали не носить; это выглядело, как если бы среди волнующегося моря знамен со свастикой вдруг поднялся черно-бело-красный флаг[42]. После поражения грубошерстные шляпы и дубовые палки с изогнутой ручкой стали опять встречаться чаще, но владельцы их были уже не ост-эльбские юнкеры или почтеннейшие бюргеры, да и сами вещи эти уже не были знаком подлинно немецкой сути — просто не нашлось других палок и шляп, вытащили, что оставалось, из шкафов и чуланов. Ничего в этом такого не было, обнищавшему народу приходилось использовать остатки своего имущества, превращая старое в новое; и что же тут было поделать, если старое слегка просвечивало — и в политике, и в экономике, и в культуре. И в названиях улиц.
Так вот, типично немецкая грубошерстная шляпа, что висит на дверях строительного советника в отставке Ванкельмана, была некогда серо-зеленой, лента на ней, теперь засаленная и обтрепанная, была целая и цвет имела коричневый, а пропотевшая, грязная полоска кожи внутри была светлой и чистой. Сзади, там, где сейчас из сплющенного жестяного кулька, изображавшего когда-то рог изобилия Фортуны, жалко торчат несколько петушиных перьев, напоминая о разрушительной работе времени, красовалась прежде настоящая кисть из волос серны. Бессильно и смиренно обвисли поля шляпы: уже не защитят они от солнца глаз охотника, когда он браво смотрит на зайца через прицел своего ружья; уже не обметут ими стол деревенской харчевни, когда после славной прогулки степенные истые бюргеры, опустив свои крепкие зады на садовые березовые стулья и широко вытянув ноги, зовут: «Эй, хозяин, Горацио!»
Места, где происходило такое, где можно было распить бутылочку, а там и официанточку ущипнуть, но где больше всего певали о немецкой отчизне, изображены на жестяных овальных бляшках, желтых и белых, которыми обита сверху донизу эта дорожная палка из лучшего немецкого скального дуба: Брокен 1114 метров, Шнеекоппе 1400 метров, Фельдберг 1200 метров, Кейльберг, Гейдельберг, Кёнигштуль, Нидервальдский памятник, Рудельсбург, Вестфальские ворота, Кифхойзер, Танненбергский памятник… И не беда, если несколько бляшек на палке стыдливо прикрыты в полутемной прихожей полями шляпы; они довольно новые и легко читаются, свидетельствуя, что при всей верности черно-бело-красным цветам палка эта не без удовольствия прошла какое-то расстояние и вслед за коричневым фюрером, потому что на одной памятной пластинке над вычеканенным рисунком башен написано: «Золотая Прага», а на другой, поверх лесистых хребтов: «В прекрасном Богемском лесу».
Дверь открывается, выходит женщина лет тридцати пяти, одета она бедно, и, несмотря на раннее утро, глаза у нее усталые. Свет, упав сквозь дверную щель на шляпу и палку, спугивает воспоминания, витающие над палкой, словно мухи над свежей липучкой, остается лишь старая, сплошь покрытая мерзкими мушиными трупами клейкая полоса. Что-то вспомнив, женщина опять открывает дверь и возвращается в комнату:
— Фридхен, не забудь принести молочную сыворотку! Я просто не знаю, что буду готовить сегодня вечером! Да зайди к Бринкманам: нам уже нужны овощи! И кожаные ботинки дома не носи, новых у нас нет. Другие мальчики тоже ходят в деревянных. И смотри, может, по дороге увидишь какие-нибудь дрова. Другие дети тоже приносят домой дрова!
Последние слова она произносит под аккомпанемент нарастающего ворчания, затем слышен ясный и чистый мальчишеский голос:
— Все я да я! Пусть разок дедушка сходит! Дрова! Что мне их, воровать? Ты же всегда говоришь…
Но дверь уже захлопнута, а голос мальчика в комнате перекрывается мужским.
— Всю ночь не спал, и утром поспать не дают, — говорит этот голос. — Ну-ка, марш в школу, чтобы я смог пойти на работу!
Тут уже мальчишеский голос перебивает мужской, да еще звучит громкий смех:
— Ты — на работу! Если бы не мама, мы бы все с голоду умерли!
Слышится скрип мебели, и в коридор прорывается через дверь голос, привыкший отдавать команды, — конечно же, это голос советника:
— Я запрещаю тебе этот неуважительный тон! Дети в моем доме пока еще должны вести себя прилично, учти это!
В ответ молчок, лишь раздраженно звякает посуда, и в звяканье этом можно уловить строптивость.
Затем дверь резко открывается, еще резче захлопывается и в коридоре появляется десятилетний мальчуган, бросает на пол что-то завернутое в кусок брезента, должно быть книги, с грохотом ставит рядом помятый, черный котелок, прислушивается к звукам, доносящимся из-за двери ванной; оттуда слышно, как шумит вода и булькает в чьем-то горле.
— Ну конечно! — вздыхает он и валится в плетеное кресло.
Но вот дверь ванной открывается и оттуда выходит фрау Бентин, одетая в поношенный, слегка выцветший купальный халат, голова по-турецки обмотана полотенцем. Бросает на мальчика яростный взгляд.
— Мог бы и подождать, — говорит она, — неужели трудно?
— Именно что трудно! — вскочив, нагло отвечает малый и тут же исчезает в ванной комнате. А фрау Бентин с выражением злости на лице скрывается за кухонной дверью. Опять утро испорчено.
Тем временем отворяется дверь одной из комнат, в коридор выходит молодой супруг, ожидающий ребенка, и направляется к ванной. Услышав, что там булькает вода, он отпускает ручку и вздыхает: «Каждое утро одно и то же, как сговорились!» В расстройстве он собирается уже уходить, но тут слышен шум водослива, дверь ванной открывается и вновь со стуком захлопывается.
— Доброе утро, господин Бергман, — жизнерадостно говорит Фридхельм и предупредительно распахивает опять дверь ванной.
— Доброе утро, Фридхельм, — отвечает господин Бергман и входит в ванную, но тут же он высовывается в коридор и говорит сердито: — В другой раз открывай хотя бы окно, как положено.
После чего вновь закрывает дверь, так что сомнительно, доходит ли до него ответ Фридхельма:
— Это не я, там старуха была!
После таковых слов малый хватает свои вещи и хлопает дверью прихожей. Так что теперь он не слышит, как резко распахивается кухонная дверь и в прихожей появляется фрау Бентин.
— Ах ты, сорванец проклятый, — гневно восклицает она, — ну какой же сброд приходится терпеть в собственной квартире!
Обычно она держит себя в руках и на людях старается выглядеть скорее ироничной, но этот, должно быть, слишком задел ее женскую честь, потому что она открывает даже дверь прихожей, чтобы крикнуть мальчишке еще что-то вдогонку. Увы, там уже отстонали и отскрипели ступени, замерли звуки, и только далеко внизу глухо хлопает входная дверь.
А в ванной все еще бурлит и шипит вода, когда открывается дверь еще одной комнаты и в коридоре появляется попрыгунья номер один, облаченная во фланелевую пижаму. Услышав булькающие звуки, она в комическом отчаянье опускает головку, что позволяет ей не видеть возмущенного лица фрау Бентин. Но не услышать ее слов она, конечно, не может.
— В своей комнате можете делать и позволять себе что угодно, фройляйн Герстинг, — говорит та. — Но коридор — помещение общего пользования, поэтому я бы на вашем месте хоть накинула на себя что-нибудь!
На что балерина, приподняв головку, ответствует:
— Ну, вы же не на моем месте, фрау Бентин. Когда я доживу до вашего возраста, я, конечно, буду что-нибудь на себя накидывать!
— Чего только не приходится терпеть в собственной квартире… — остается лишь возмущенно произнести фрау Бентин. Затем она вновь скрывается в кухне.
Танцовщица уже вернулась к себе, когда дверь ванной открывается, выпуская господина Бергмана, а вместе с ним звуки неторопливого клохтанья канализации, этого домашнего органа, слышного каждое утро по нескольку часов. Жильцы со временем что-то в нем, видно, отрегулировали, ибо поначалу в звуках этих было больше злости, досады, некоторых диссонансов. Попытка советника ввести здесь нечто вроде планового хозяйства, какое-то, что ли, расписание, с учетом потребностей и пожеланий каждого квартиранта, закончилась неудачей, так что пришлось снова вернуться к хозяйству индивидуальному. Но известная последовательность с недавних пор все же установилась, так что сейчас, собственно, очередь учительницы. Советник из своей комнаты прислушивается к звукам за дверью. День для него начался.
VI
День вроде бы как день, похожий на девятьсот девяносто девять предыдущих, и все-таки он не совсем обычен. Потому что он начат под знаком некой осознанной идеи, осознанно будет прожит и завершен: это будет день немого протеста против несправедливости, день сопротивления духа материи, своего рода духовная голодовка против сурового гнета эпохи. Советника никак не назовешь недобитым фашистом или затаившимся недругом нового порядка, советник всего лишь оскорбленный апостол старонемецкой справедливости, своего рода немецкий Ганди: он просто отказывается в чем бы то ни было участвовать! Вот и все. Единство его жизни, которое однажды представилось ему в виде тугой струны, протянутой от предков, что завещали ему прусское чувство долга, до самых последних дней его служебной деятельности, а там и до конца жизни, вплоть до подножья престола немецкого его бога, это единство оборвалось, струна была разрезана, и концы, спружинив, исчезли в тумане; один конец, тот, что, поначалу не без сопротивления, тянулся в тысячелетнее будущее, исчез совсем, другой, свернувшись спиралью, лежит в ноябрьской мгле тысяча девятьсот восемнадцатого года, и в нем еще можно узнать ремень капитана запаса.
В годы Веймарской республики он было опять ухватился за этот конец и год за годом постепенно вытягивал спираль; в тридцать третьем даже показалось, что удастся снова зацепить ремень за крючок консервативно-бисмарковского будущего, пока в тысяча девятьсот тридцать четвертом году какой-то самодур-крайсляйтер не вздумал подвесить на него кинжал СА с надписью «Верность — наша честь»[43]. На что советник возразил, что к его ремню уже привешена верность, только старопрусская, черно-белая, и тогда крайсляйтер вовсе отрезал ему ремень вместе со служебной карьерой.
Некоторое время после этого можно было еще жить, и жить совсем неплохо, являясь совладельцем инженерно-строительной фирмы, поскольку сооружение военных аэродромов приносило много денег, но в душе оставаться при этом противником системы. В душе и лишь некоторое время, ибо необходимость вынудила в конце концов вступить в партию. Что, естественно, потребовало и участия в шествиях. Что, в свою очередь, естественно, потребовало принять по крайней мере те лозунги фюрера, которые можно было назвать фридрихо-бисмарковскими. Германия превыше всего. Но ведь не более? Вдова Розенталь, полуеврейка, жившая до самого начала войны в доме советника, могла бы подтвердить, будь она еще жива, что с нею всегда здоровались; он оставался прихожанином церкви, а иногда слушал и передачи английского радио. Другим такое революционное прошлое позволило теперь занять высокие посты, но советник этого сам не пожелал, ибо не мог одобрить то, что было потом, и прежде всего то, что сделали с Германией иностранные державы, не мог, и все. Оставалось лишь пребывать в бездействии да оглядываться на прошлое, во мгле которого закручивалась спиралью оборванная струна жизни и, как часовая пружина, то сворачивалась беззвучно, то разворачивалась, хотя один конец ее удерживался еще тяжестью офицерского ремня и звался старопрусской верностью.
Натянутый кое-как при помощи бумажной веревки с добрым десятком узелков рулон выцветшей светомаскировочной бумаги, местами порванной и обтрепанной по краям, занавешивает окно и день и будущее. И не поймешь, да и неважно, то ли штора не до конца опущена, то ли не до конца поднята. И неважно, кто здесь виноват: дочь ли, внук ли, новые ли партии, правительство или державы-победительницы. Советник лишь понял тысячу дней назад, что все происходящее противно порядку и его чувству справедливости и что изменить что-либо в этом он бессилен. Так что лучше просто ни на что не глядеть.
Советник мог бы подлатать штору с помощью бумаги и клея, мог бы привести в порядок ее пришедший в негодность механизм, благо кусок бумаги и клейстер уже можно было достать, и в конце концов он умел кое-что делать своими руками, да и дочь уже не раз об этом просила. Но тем самым был бы нарушен принцип протеста против несправедливости, которую ему причинила судьба. Это уж пусть дочь пытается приукрасить недостойную жизнь, принося время от времени в их жалкую комнату что-нибудь новое: забавный детский рисунок, расписной кафель, настенное изречение, бумажный абажур, или железный подсвечник, или кустарную шкатулку. Лучше бы принесла новую мебель, или хоть новые ботинки, или штаны. Но не стоит быть к ней несправедливым, хорошие вещи — не для простых людей. Стыд и гнев охватывают советника, но через несколько минут выражение лица его смягчается, уголки рта вновь горько опущены. Простой народ, средний уровень жизни. Вот то-то и оно, против этого он и протестует, потому что здесь несправедливость по отношению к нему: разве он создал Гитлера? Он хочет получить обратно то, что имел, что положено строительному советнику в отставке, немцу догитлеровских времен, он хочет все либо ничего!
Своей комнаты советник сейчас не видит и видеть не хочет. Он только знает, потому что три года назад из чувства протеста обмеривал ее, что она занимает площадь четырнадцать и шесть десятых квадратных метров, и только угловая ниша в полтора квадратных метра создает впечатление большого пространства.
Окно смотрит во двор, и, если поднять светомаскировочную штору, с постели советника можно увидеть глухую заднюю стену фабричного здания. Что это за фабрика, советник до сих пор не знает, он только установил, что стена представляет собой деревянную, перекошенную от старости фахверковую конструкцию, заполненную хорошо обожженным кирпичом, и что видная над ней верхушка трубы раскрошилась и скоро должна обрушиться.
Иногда, в задумчивости стоя у окна и глядя во двор, советник видит также старую усталую яблоню, три ветви на ней еще пытаются летом зеленеть и плодоносить. В тысяча девятьсот сорок четвертом году, когда советник сюда въехал, зеленеть пытались целых четыре ветви, однако юные обитатели дома так усердно лазали на них и обирали, что дерево сдалось, и лавочник, которому принадлежала яблоня, ни разу не видел на ней яблочка, которое было бы крупней вишни. Когда на дереве не было детей, там сидела пара сиамских кошек; с терпением, непостижимым даже советнику, они вот уже два года тщетно высматривали хоть какую-нибудь певчую птичку. И неизменно от ствола расходятся бельевые веревки, пять толстых крюков вбили люди в тело дерева, веревки тянутся к фахверковой стене, к стене дома и к дровяному сараю лавочника. И почти всегда на этих веревках висит белье, штаны и рубашки и неопределенного рода постельные принадлежности, и в ветреный солнечный день простыни и полотенца плещутся весело, прямо как флаги старой Германии; если же, напротив, день сырой, мужские и женские рубашки, кальсоны и рейтузы висят печально, как будто сами тут повесились из отвращения к жизни. И всегда во дворе галдеж: то женщины не поделили крюка для веревки, то они ругаются с детьми из-за белья, то дети ругаются друг с другом, то лавочник и его служащие ругаются с женщинами и детьми из-за пропавшей тары. Но теперь вся эта суета во дворе советника не касается, он ничего больше не видит и не слышит, и ему было бы странно, если б кто-нибудь напомнил ему, как два года назад он стоял у окна, погруженный в раздумья о прошлом, и чертежной линейкой пытался для забавы достать одну из кошек на яблоне и даже согнал ее. В то время он еще иногда держал линейку в руках.
Справа от окна, в нише, стоит единственная здесь кровать. Погнутая железная походная кровать, собственность фрау Бентин, включая матрас, о чем она периодически напоминает, чтобы не забывали. Постельное белье принадлежит дочери советника, единственный комплект, который они сумели взять с собой. Он вообще-то предназначался для одной кровати, дочь выгадала из него три спальных места, советнику досталось укрываться толстым стеганым одеялом, мальчик получил вместо одеяла перину. Дочь безуспешно пыталась уступить отцу также и саму кровать, но он отказался, заметив, что ей, как работающей, это нужней, и как бы между прочим подчеркнув, что у него есть своя мебель.
Так что спит он исключительно на небольшой софе в стиле бидермейер, она слишком коротка для взрослого мужчины, зато собственная. Советник сумел вынести ее из своей сгоревшей квартиры вместе с секретером и двумя стульями, вещи слегка обгорели, и все-таки, как оказалось, стоило тащить их потом до самого Мекленбурга. Как-никак у него теперь есть хоть что-то собственное. Правда, ноги на этой софе на вытянешь, так что первую половину ночи советник спит на левом боку, затем четверть ночи — повернувшись, хоть не совсем до конца, на правый, а коленками упершись в спинку софы, и последнюю четверть — на спине, подняв колени кверху. Такое членение ночи было не столько добровольным, сколько вынуждалось болью в тазобедренном суставе: это она диктовала советнику и перемены положения, и их периодичность. Но человек ко всему привыкает, и отставной строительный советник Ванкельман, когда-то занимавший со своей экономкой шестикомнатную квартиру, причем одна спальня была площадью в двадцать пять квадратных метров, а в ней стояла штейнеровская роскошная кровать, теперь привык и к своему ложу, и к своему положению. Само собой, чувства протеста все это никак не отменяло.
Фридхельм спит на канапе, принадлежащем фрау Бентин. Мальчик тоже предлагал свое место дедушке, и тот отказался, также сославшись на то, что у него собственная софа, при этом, однако, советник, будучи все же человеком практичным, успел оценить беглым взглядом бентиновское канапе, его холмы и впадины, порожденные сорвавшимися или лопнувшими пружинами, и констатировал, что удобств оно сулит ничуть не больше, чем коротковатая, зато ровная софа.
Советник открывает глаза, кровать и канапе, как всегда по утрам, уже аккуратно застелены. Постельные принадлежности Фридхельма лежат на кровати матери, наполовину прикрытые дешевым выцветшим красным хлопчатобумажным покрывалом — его взяли из бывшей комнаты прислуги и при эвакуации завернули в него постельное белье. Все чисто, все прибрано, за этим она следит, его дочь, на год раньше, чем он, потерявшая все, и мужа, и собственный дом, и вынужденная теперь, со своим лицейским образованием и веймарским пансионом, зарабатывать на хлеб как машинистка-стенографистка в одном из этих новых учреждений. Она толковая женщина и никогда не жалуется, даже не рассказывает больше о своей службе, заметив, что эти рассказы выводят его из себя; возможно, сейчас, в этот самый момент, она выслушивает нагоняй за пятиминутное опоздание. Его дочь и эти господа! Мысль об этом заново напоминает ему, как несправедливо с ним обошлись, заставляет рывком подняться и выпрямиться на постели. Некоторое время он сидит задумчиво и тихо, качает головой раз, другой, потом вздыхает и встает.
Кальсоны уже в десятке мест штопанные, но чистые, за этим она следит, его дочь, девочка из доброй немецкой бюргерской семьи. Советник осторожно влезает в брюки, они болтаются на тощих ногах и обвисают унылыми складками; их пояс выдает, какое солидное брюшко они когда-то вмещали. Тепла от них мало, но у советника сохранились вельветовые брюки, их прежде носил его шофер, они лоснятся, в нескольких местах на них пятна, которые не смогла удалить даже энергичная рука его дочери, зато сносу им нет. Короткие шерстяные носки в порядке, значит, она штопала их не поздней, чем вчера вечером: просто непонятно, как женщины все успевают.
Советник засовывает концы подтяжек в левый карман и, шаркая домашними войлочными туфлями со стоптанными от долгой службы задниками, идет к нише. Там стоит картонная коробка с тряпьем. Куском мешковины он стирает пыль с полуботинок, бросает оценивающий и озабоченный взгляд на скошенные каблуки и констатирует, что подметки прохудились до самой стельки. Он надевает ботинки, наматывает вокруг тощих икр обмотки, потому что брюки у него фасона бриджи. Это настоящие марсовские обмотки, правда, уже потерявшие эластичность, так что на ходу они иногда сползают и в прорехах бывают видны кальсоны. Но кто смотрит на прорехи? Люди, до которых ему нет дела? Советник их не видит. А поскольку внизу обмотки никак не прикрепляются к ботинкам, советник надевает поверх них еще пару коротких гамаш с пуговицами, тоже качественная вещь, фирмы Пайче, хотя они уже продрались спереди на подъеме и сзади над пятками и к подъему уже не прилегают, так что при ходьбе как будто то разевается, то закрывается рыбья пасть. Нижняя сорочка, в которой советник также и спит, ибо ночной рубашки или хотя бы пижамы у него теперь нет, к счастью, хорошая — плотная серо-зеленая егерская рубашка с длинными рукавами. Советник надевает поверх нее грубошерстное пальто и направляется в ванную.
Вернувшись, подходит к секретеру и открывает нижнюю дверцу. За ней слева лежит его белье. Правая сторона отведена дочери и внуку. Белье советника занимает немного места, здесь всего два носовых платка, несколько шерстяных носков, вторые кальсоны, еще одна егерская рубашка и цветная верхняя сорочка. Он достает ее и, подумав, кладет на место — чуть не запамятовал, какой нынче день. Так что он надевает подтяжки поверх егерской рубашки и прямо к ней пристегивает узкий воротничок на резинке. Его настроение улучшается, потому что, стало быть, и бриться ему сегодня не нужно: побреется завтра. Галстук желтовато-белый с зелеными кругами и красными точками, дочь сшила его из старых лоскутков, очень удачно. Его носят с железной застежкой, прежде советник никогда таких не носил, но теперь это удобно. Где она только достала застежку, нигде ведь не купишь? Если они, эти новые, дадут нам производить что захотим, при нашей немецкой предприимчивости, при усердии немецкого рабочего — увидят еще, что выйдет из их планового хозяйства.
Лишь теперь советник подходит к окну и поднимает штору. Хотя заглянуть в окно никто не может, советник не любит, чтобы оно было не занавешено, когда он в комнате полуодетый. Он смотрит на угол фабричной стены, на небо, затем возвращается к стулу возле кровати, снимает старую вязаную фуфайку и, сложив, укладывает ее в секретер; сегодня она ему не нужна, лучше поберечь до зимы. Надев жилетку и пиджак, он открывает окно и садится за стол завтракать.
Завтрак каждый день один и тот же: два куска черного хлеба, намазанные чем-нибудь; сегодня в порах хлеба искусственный мед. Советник степенно снимает с безносого кофейника грелку-колпак и наливает в чашку суррогатного кофе. Колпак обгорел внизу, выпачкан сбоку, он когда-то выглядел симпатично, дочь сама его обвязывала, но прошлой зимой распустила шерсть и связала из нее пару перчаток для Фридхельма.
Неторопливо заканчивая завтрак, советник обдумывает предстоящие дела. Они каждый день одни и те же, разве что иногда нет картошки, тогда не надо ее чистить, зато надо наколоть во дворе дров. Для этого там стоит чурбан, один на всех, но топора при нем нет, его каждый должен приносить с собой, и советник обычно одалживает топор у супружеской четы, ожидающей ребенка. Сегодня дров колоть не надо — их достаточно лежит в нише.
Фрау Бентин вначале энергично возражала против использования ниши в качестве подсобной кухни, даже обращалась в жилуправленне, но эти так называемые служащие, которых старый пройдоха, видимо, сумел как-то подмазать, признали за советником право поставить в нише буржуйку. Собственная печь, которая используется лишь иногда, чтобы разогревать еду и тому подобное, является предметом особой гордости советника, это единственное доказательство его способности выстоять. В первый год жизни здесь, когда вокруг кухонной плиты не затихали ссоры, советник нашел на угольном складе, откуда он намеревался вместе с Фридхельмом привезти на грузовичке в две человечьих силы полцентнера угля, метровую печную трубу. Собственно, даже и не нашел, она стояла прислоненная к забору, и никто ее словно не замечал. Стояла и махала советнику заборной планкой, как будто именно его и ждала. Печурку, называемую буржуйкой, удалось выменять на посеребренную столовую ложку и лопаточку для торта с костяной ручкой, за недостающие части трубы был отдан охотничий нож. Установкой печки занимался лично советник, труба выводилась через маленькую форточку наверху, из которой, несмотря на всполошенные крики фрау Бентин, удалось в целости и сохранности вынуть стекло. Печка действовала и радовала строительного советника, но больше строить он ничего, кажется, не собирался.
Завтрак окончен, он идет к нише, наливает в миску воды из ведра, достает из-под скамеечки картонную коробку, отсчитывает двенадцать средних картофелин и принимается их чистить. Потом убирает свою постель, то есть все аккуратно сворачивает, простыню и стеганое одеяло, укладывает на кровать дочери и ровно застилает сверху выцветшим хлопчатобумажным покрывалом служанки. На софе бидермейер остается лишь вышитая подушка; прикрытая простыней, ночью она служит для сна, а сейчас становится вновь красивой диванной думкой, приглашая, как в счастливые времена: «Всего на четверть часика»[44]. Оглядевшись, советник в смятении обнаруживает, что не до конца прибрался, на столе еще остался кофейник и тарелки после завтрака, да тут же и посуда Фридхельма. Обычно советник моет ее и убирает в нишу, в ящик из-под апельсинов, который служит буфетом; этот ящик предоставил им в пользование лавочник полтора года назад, он оставался у него еще со времен оси[45]. Но теперь эмалированная миска уже занята чищеной картошкой, поэтому ее нельзя использовать для мытья посуды. Покачивая головой, как с ним могло такое случиться, он ставит посуду в ящик невымытой. Идет к секретеру, достает тетрадь, отвинчивает колпачок с автоматической ручки и начинает писать.
Советник пишет воспоминания. Пишет уже три года, правда, написал всего несколько страничек, но время впереди еще есть. Однако мысли опять что-то не идут. То есть мысли-то приходят, но не те, что нужно. Кое-что можно сказать, но нельзя записывать: ведь мало ли что, вдруг пронюхает кто-нибудь из соседей и донесет оккупационным властям? Правда, советник пока дошел лишь до года тысяча восемьсот девяносто пятого, того самого, когда молодой кайзер изрек: «Бранденбуржцы, я поведу вас к славному будущему!»— и хотя сам советник был тогда всего лишь мальчиком, он вложил теперь в уста этого мальчика некоторые замечания уже опытного в вопросах немецкой внешней. политики человека. В них он оправдывал политику железного канцлера, а такое нынче говорить не позволено, даже, может, несмотря на то, что попутно делались упреки Гитлеру за отход от политики Бисмарка. Мысли одинокого человека переносятся на двадцать пять лет назад, ко временам Версаля и Седана. Потом опять возвращают его в Версаль. Но в Версаль тысяча девятьсот девятнадцатого года. Мальчик к той поре был уже капитаном запаса.
Может, лучше пойдет, если закурить трубку? Советник достает короткую трубку, мундштук у нее обкусан, головка обгорела, она тоже долго не протянет. Но не это мешает советнику набить ее табаком, а открытие, что табака в засаленном кожаном кисете осталось от силы на одну трубку и лучше его приберечь на сегодняшний вечер. Он со вздохом затягивает кисет и снова берется за тетрадь. Теперь он переносится мыслями в будущее, в будущее своего народа, потому что пальцы перелистывают назад несколько исписанных страниц, а глаза пробегают по первым строчкам: «Отцам обет, внукам назидание». Написано красивым почерком и обведено рамочкой, видна рука чертежника. Но это все только для будущего, а для настоящего никак не годится. Так что советник встает и закрывает секретер.
Со двора доносится шум, ссорятся дети, женщины бранят детей, с фабрики доносится грубая ругань мужчин, в коридоре фрау Бентин объясняется, похоже, уже с обеими попрыгуньями, с лестницы слышен звон стекла, одного из трех оставшихся, кажется, и оно пало жертвой неугомонной краузовской ребятни.
Не обращая на все это внимания, поднялось солнце и послало еще несколько лучей в комнату Ванкельмана, которая кажется уютной, надежной, спасительной ладьей в бурном потоке времени. В этой ладье спасительными кругами кажется все, что напоминает о бюргерской жизни: обгорелая мебель, две сделанные под гравюру репродукции на стене, изображающие молочницу Грёза и английскую парфорсную охоту; они принадлежат, правда, фрау Бентин, но та их не особенно ценит, поскольку они не цветные, поэтому они остались висеть тут. Кусок дорожки, заменяющий ковер, уже протерт, сквозь дыры местами проглядывает не менее истертый пол. На секретере еще стоит посеребренное блюдо для визитных карточек, с другой стороны майоликовый пивной кубок в виде головы Бисмарка, вмещающий пол-литра, с крышкой в виде кирасирского шлема. Дорогое воспоминание о буршевских пирушках в высшей технической школе Шарлоттеибурга.
VII
Советнику становится невмоготу дома. Он берет свое старое грубошерстное пальто, надевает его и достает портфель. Кожа на нем продралась; как и все теперь, думает он, и форму совсем утерял. Заворачивает в старую газету картофельные очистки, сует их в портфель. И когда советник покидает комнату, это опять настоящий немец старого закала, дубовая палка на левой руке, на голове грубошерстная шляпа; он вешает ключ на крючок и, выпрямившись, достаточно твердым шагом выходит из квартиры.
Лавочник как раз вывешивает у дверей доску, на которой мелом написано, что у него сегодня нового. Справа уже висит одна; на ней сверху большими буквами выведено: «По карточкам», а ниже: «Масло — II декада, продукты — II декада, водка — группам II и III. Только при наличии бутылок и пробок».
Советник прочитывает это по мере приближения, прочитывает он и другую доску, слева от дверей:
БЕЗ КАРТОЧЕК:
Пищевая кислота
Ликерная эссенция
Ароматические добавки
Горячий напиток
Соус для салата
Бульонная паста
Эрзац корицы
— Корицы! — мрачно бормочет советник. — Как всё теперь! — Однако здоровается вежливо — так уж он привык. Но лавочник на приветствие не отвечает, это у него тоже стало привычкой, и не только потому, что он из торговца превратился в распределяющего продукты; он еще сердит и на советника, который дома у себя рассуждал как-то о разнице между торговцем и распределяющим, а фрау Бентин его слова разнесла. Пока торговец был действительно торговцем, говорил якобы советник, он своим покупателям был слуга покорный; а вот когда он становится распределяющим, он держится как господин с бесправными рабами. А еще более странно, сказал будто бы советник, что чем меньше продовольствия, тем больше выдают продовольственных карточек; самое же странное, что чем меньше в магазинах товаров, тем больше толстеют распределяющие. Он говорил, конечно, вообще, отнюдь не имея ничего против всех торговцев и тем более лично против торговца Пфланца, да и против нового управления по торговле и снабжению, даже против нового самоуправления, он, в сущности, выступал лишь против западных военных властей, которые, установив границы между зонами, нарушили экономическое единство Германии. Но торговец Пфланц принял все на свой счет. Он так и заявил дочери советника, при всем народе, как он потом гордо рассказывал, в отсутствие лишь того, кто его оскорбил. Пусть эти приезжие достают себе свое барахло где хотят. А его собственность, между прочим, пусть ему вернут. Под собственностью господин Пфланц подразумевал коробку из-под апельсинов.
Советник идет вниз по улице. Он не удивлен, что лавочник не пожелал с ним здороваться, но вся эта история каждый раз заново его раздражает, он выше вскидывает голову, и выражение его лица становится еще горделивей. У него благородное лицо, зеркало всегда это подтверждало, и, вспомнив о нем, советник невольно придает лицу то же выражение, что перед зеркалом. При этом губы его сжимаются в узкую полоску, а поперечные морщины на высоком лбу делают взгляд повелительным и гордым. На солдат, унтер-офицеров, швейцаров, мелких служащих и бедный люд такой взгляд до сих пор действует лучше резкого слова. Особенно потому, что у советника он сочетается с абсолютной вежливостью и приветливостью в обращении. О, с людьми он обходиться умеет.
Направляется советник к жестянщику, тому самому, у которого два года назад выменял за охотничий нож кусок трубы. Тогда в разговоре выяснилось, что оба они служили в инженерных войсках, жестянщик, правда, был всего лишь унтер-офицером. Оба состояли также в «Стальном шлеме» и членами партии, по их словам, в ту пору не были. И обоим не по душе были как тогда, так и теперь новые времена. Судьба за последние три года постаралась еще больше сравнять их и уподобить, поскольку советник опустился по социальной лестнице вниз, а жестянщик по ней поднялся.: ведь иметь ремесло, дом, собственное жилье да ко всему еще кой-какой материал — это в наше время кое-что да значит. А если полного общественного равенства даже и нет, поскольку простота советника все же знает границы, жестянщик компенсирует это возросшим сознанием своей профессиональной необходимости. Мастер держит кроликов и кур, советник вправе был ими восхищаться, мастер, опасаясь, как бы тот не попросил яичка, обычно жаловался, что корма нет и что куры не несутся, так что советник иногда приносил картофельную кожуру или очистки овощей, особенно после того, как он действительно однажды получил в подарок яйцо. Это было на прошлую пасху, но ведь ничего нельзя знать наперед. Кроме того, у мастера свой огород, а в огороде табак, и набить трубочку за разговором никогда не проблема, дружба со строительным советником этого стоит. И вообще, они все-таки старые камрады. Да, согласно кивают оба, солдатское товарищество — этого как раз не хватает сейчас нашему народу, не зря же нам запрещают солдатское чувство! Что говорить, они во многом понимают друг друга.
Мастер: «Взять хоть рабочих у Франке и Бинерта, плуги они выпускают и сельскохозяйственные машины, раньше еще элеваторы. Их опять уже четыреста человек. Конечно, все только на экспорт. Теперь ведь всё вывозят».
Советник: «Вы хотите сказать, даже у них сохранилось солдатское чувство?»
Мастер: «По части политики они, конечно, красные. Но если что начнется, увидите, сразу за пугачи возьмутся».
Советник: «Я, извините, другого мнения».
Мастер: «Я лучше знаю. У меня же подмастерья».
Советник: «Я хотел сказать, что другого мнения насчет войны».
Мастер: «Вы все-таки были капитаном, сами же говорили. Вы что думаете, эти, другие, уйдут из Германии сами собой?»
Советник: «Воевать мы пока не можем. У нас нет оружия».
Мастер: «Понадобится, будет и оружие».
Советник: «Война в ближайшие годы? У нас и продовольственных запасов нет. И чтобы Германия опять стала полем битвы? Нет. Нам нужно еще минимум десяток лет».
Мастер: «Понадобится, будет и продовольствие. Думаете, те, другие, дадут нам помереть с голоду?»
Советник: «Те другие любят нас не больше этих, дорогой мой друг. С Германией считаются, когда она сильна».
Мастер: «Я думаю иначе. Я говорю: Германия только тогда станет сильной, когда другие из нее уберутся, вот и все. Рабочие это тоже знают».
Советник: «Рабочие хотят видеть Германию сильной, но лишь в экономическом отношении, это очевидно. Может быть, социалистической, но никак не милитаристской и капиталистической».
Мастер: «Можно подумать, вы сами стали красным».
Советник с возмущением это отрицает.
В мастерскую входит женщина, ставит на стол большую эмалированную кастрюлю и просит ее запаять.
Мастер: «А материал у вас есть?»
Женщина принимается объяснять, что осталась без кастрюли и ей не в чем сварить обед. А мужа и детей кормить ведь надо.
Мастер: «У меня, дорогая фрау, олова нет ни грамма. Такое уж у нас получается восстановление; разве в этом моя вина? Обращайтесь к начальству!»
Женщина канючит свое, что, мол, нельзя же ей оставить детей голодными., надо же им что-то варить.
Мастер: «У вас, дорогая фрау, устарелые взгляды. Мы все теперь должны есть то, что нам готовит начальство. Я же вас знаю, фрау, как истую демократку».
Женщина, схватив кастрюлю, выбегает из мастерской.
Советник, вспомнив собственные заботы: «Вообще-то ей можно и посочувствовать. Не ее вина, что нигде ничего нет. Разве в самом деле нельзя было запаять ей пару дырок?»
Мастер: «Тут я последователен. Некоторые приходят сюда с сигаретами. А у меня свой собственный табачок».
Советник: «Но что же делать такой вот женщине?»
Мастер: «Полтораста граммов олова на весь квартал. А если больше достать негде? Чем мне паять, творогом, что ли?»
Входит ученик.
Ученик: «Мастер, пришли с пивоваренного, завтра утром можно паять котел».
Мастер: «Скажи Вильгельму, что в семь вы там будете. Я приду потом».
Советник: «Мне показалось, что у вас нет материала?»
Мастер, удивленно: «Ну, дорогой! — Он испытующе смотрит на советника. — Набейте-ка себе еще трубочку. А мне пора за работу».
Советник набивает трубку и поднимается: «Да, так посмотришь, каждому в самом деле остается думать о себе».
Мастер: «Знаете, я бы на вашем месте… именно в строительном деле…»
Но советник устало отмахивается.
VIII
Советник идет по главной улице, на сей раз по левой стороне. Критически оглядывая витрины, он молчаливо оценивает состояние экономики. С удовлетворением констатирует, что никаких перемен к лучшему не видно. В сущности, все то же самое: жестяные брелоки и браслеты; пепельницы из отходов металла; треугольные продырявленные штуковины из жести, теперь уже непонятно для чего употреблявшиеся на войне, превратились в шумовки; несколько дюжин картонных коробочек, оклеенных пестрой бумагой, предназначены для хранения девичьих богатств и стоят шесть марок штука; зажигалки из гильз без кремней; зверьки из необструганных досок в роли детских игрушек; деревянные туфли по ордерам; маленькие грабельки по ордерам; молоточки по ордерам; ему, например, нужна дрель, но разве у этих найдется? Разве что по ордеру. Ничего не изменилось, думает он, ничего и не может измениться, все идет по их плану. Советник язвительно усмехается, а так как он при этом еще разглаживает взъерошенные усы, можно подумать, что он рад чему-то.
Сегодня ему везет: газета в витрине на месте, можно почитать. Хотя особенно и незачем, там все одно и то же, но, может, Трумэн хоть яснее дал понять, чего ждать дальше. В газетах советник внимательно читает лишь зарубежные новости. Греция, Китай, Палестина, Индонезия, Индия, первым делом обычно страны, где еще или уже опять идет война. Затем ООН, Совет безопасности; эту постоянную свару они называют миром между народами; нет, он не был приверженцем нацистов, но вот их больше нет, и Гитлер мертв, и фашизм искоренен, а все равно уже три года воюют и вооружаются пуще прежнего. Немцы теперь миру не угрожают, почему же нет в мире мира?
Газета сегодня неинтересная. Советник сворачивает на соседнюю улицу, и лицо его оживляется. Он останавливается, противоречивые мысли и чувства внезапно охватывают его. Он видит грузовик с брикетами, один борт опущен, куча брикетов лежит на тротуаре, один отлетел далеко в сторону, поблизости ни души, лишь дорожка из угольной пыли от грузовика к дому указывает, куда понесли брикеты.
Советник продолжает стоять в задумчивости. Из дома выходят двое мужчин с корзинами, один взбирается на машину, наполняет лопатой две корзины, затем оба взваливают их на спины и исчезают в доме. И снова улица безлюдна.
До сегодняшнего дня советник соблюдал предельную строгость правил; но тут словно невидимый змий подсунул ему яблоко искушения. Советник делает три шага к машине и останавливается перед брикетом, отлетевшим дальше других. Он чувствует, как кровь отхлынула у него от лица и прихлынула к сердцу, которое стучит громко и часто. В смятении он окидывает взглядом одну сторону улицы, другую, ряды домов справа и слева. У самого крайнего дома играют двое детей. А дальше все происходит так: быстро наклонясь, советник сует в портфель брикет и продолжает путь. Мимо машины, не удостаивая ее взгляда, мимо кучи угля, на которую даже не смотрит, и удовлетворенно чувствует, как успокаивается бурный ток крови. Оглянувшись, он с облегчением убеждается, что угольщики еще не вышли из подвала. Он поворачивается опять и хочет уже идти дальше и тут видит, что на земле валяется. еще один одинокий брикет, и опять наклоняется и таким же манером сует его к себе в портфель. Советник хочет закрыть портфель, но, подумав, берет под мышку, ускоряет шаг, а метров через десять, намереваясь свернуть за угол, вновь с забившимся сердцем констатирует, что оба угольщика теперь вышли, стоят возле машины и смотрят ему вслед.
За углом на первом же доме справа советник видит металлическую табличку: «Школьный врач. Комиссия здравоохранения». Хотя ему там совершенно нечего делать, он быстро входит в дом и поднимается по лестнице, лишь бы не оставаться на улице, а когда из застекленной двери на втором этаже выходит женщина с мальчиком, советник спешит за эту дверь и вдруг оказывается перед симпатичной молоденькой медсестрой, которая спрашивает, что ему угодно, и советник беспомощно, слегка запинаясь, но, впрочем, вполне вразумительно спрашивает, как можно получить консультацию детского врача: у него, видите ли, есть внук, который в последнее время ему что-то не нравится, нельзя ли его сюда прислать. Любезно условившись о дате, он прощается и как бы в легком хмелю спускается вновь по лестнице, отягощенный отныне двумя грехами: воровства да вдобавок еще обмана. Два этих адских призрака так занимают его, что, лишь оказавшись на тротуаре, он вспоминает о необходимости оглянуться, не поджидают ли его еще там на углу два черных угольщика.
Впервые с тех пор, как он живет в этом городе, советнику не доставляет радости мысль, что улица, по который он теперь идет, все еще носит имя Бисмарка. Он даже не знает, как очутился на ней, не знает, что написано в газете, которую он стал снова читать у другой витрины. Он читает и читает про события в мире, и они понятны ему не больше, чем то, что произошло с ним. Стыда он не испытывает, он вовсе и не пытается сравнить советника былых времен с нынешним. Испытывает он просто сильное удивление, постепенно перерастающее в догадку, что он переступил какой-то высокий порог Он решает разобраться в необычных ощущениях этого дня и не завтра, а прямо сегодня заглянуть к своему другу доктору Кильморгену, чтобы с ним поговорить.
IX
До вчерашнего дня Бисмаркштрассе была крайним пунктом прогулок советника, здесь он мог всякий раз с язвительным удовлетворением убеждаться, куда все идет и насколько правильна была его отрицательная позиция. Это, в сущности, главная улица города, и имя, данное ей некогда и сохраненное из чувства пусть даже тайного уважения, ласкает слух советника как противовес всему этому хламу в витринах, который доказывает, что способна произвести новая немецкая экономика.
Улица кишит иностранными солдатами. Каждый день советник возмущается этой картиной и каждый день тянется на нее взглянуть: чужие солдаты здесь, в центре Германии, три года спустя после окончания войны, и держатся миролюбиво, прямо-таки приветливо; а немецкие мужчины, женщины и дети уже не видят в этом даже ничего особенного, ведут себя так, будто все это совершенно естественно, да еще с таким удовольствием разглядывают эти так называемые товары в витринах, будто барахло это и впрямь свидетельствует о том, что дела идут на поправку. Конечно, сегодня советника волнует другое: ему просто не по себе от сознания, что он вынул совесть свою из груди и спрятал в портфель. И хотя случиться такое могло лишь возле машины с углем, надо вернуть все на свои места. Но прежде он хочет посоветоваться с другом и, покаявшись, вновь обрести под ногами твердую почву.
Доктор Кильморген был когда-то юрисконсультом большой бумажной фабрики на Одере, партайгеноссе, по необходимости, разумеется, он, конечно, не был приверженцем нацистов. Но разве мог он как юрисконсульт допустить гибель акционерного общества или даже просто свою собственную? За это после тысяча девятьсот сорок пятого ему пришлось год поработать в лесу, и теперь, после денацификации, он частный «советник по финансовым и налоговым вопросам» для частных деловых людей. Что ж, он и это переносит с достоинством, у него уже есть машинистка. Но в душе юрисконсульт не капитулировал, не продался за чечевичную похлебку, нет. Все это просто политика.
«Д-р Кильморген, юрисконсульт в отставке, переехал на Тальштрассе, 34, вход со двора, первый этаж», — написано на дверях. Советник удивлен и озабочен. Тальштрассе находится далеко от деловых кварталов. Да еще вход со двора. Не похоже на расширение дела, что-то, видно, произошло. Дружеские чувства заставляют советника забыть про собственные заботы, теперь он действительно обязан к нему пойти.
Дом, слава богу, на вид оказывается приличным, и пусть он даже стоит во дворе, стало быть, публика в нем обитает не самая почтенная, но не обязательно юрисконсульту жить с кем-то в общей квартире; и действительно, рядом с основной дверью есть отдельный вход, а на нем висит прежняя табличка: «Д-р Кильморген, юрисконсульт в отставке, консультации по финансовым и налоговым вопросам». Когда-то ее писал советник.
Юрисконсульт открывает сам и выражает радость. Советник радости пока не выражает: быстрый взгляд в комнату убеждает его, что перемены тут произошли к худшему. Письменным столом служит дешевый обеденный стол, на нем стоит портативная пишущая машинка, свидетельствуя, что юрисконсульт, как в начале своей карьеры, сам печатает свои бумаги. Но кодексы на месте, и маленькая подставка для папок, и сами папки с бумагами, и конторские книги. И вид у юрисконсульта, кажется, довольный.
Советник: «Вы переехали?»
Юрисконсульт: «Потом об этом, дорогой мой. Хотите сигарету? А, понимаю. Ну, так набейте ею трубку».
Советник нерешительно вертит сигару в пальцах, разглядывает ее и даже нюхает.
Юрисконсульт, со смехом: «А, понимаю. Конечно, жаль ее переводить на трубку. Но для вас?»
Советник замечает на столе пачку сигарет, она иностранная.
Юрисконсульт: «Честерфилд. Вы, старая честная гвардия, таких, верно, еще не курили, а?»
Советник: «Когда я прочел про переезд…»
Юрисконсульт: «Потом. Выпьете водочки? Осточертело, знаете, консультировать этих спекулянтов».
Советник: «Что все-таки будет дальше с нами, немцами?»
Юрисконсульт: «Кое-кто хочет, чтобы у нас все так и оставалось».
Советник: «Не сделай Гитлер этой глупости, не пойди одновременно против всех…».
Юрисконсульт: «Он бы все равно не победил. В любом случае».
Советник: «Вы думаете?»
Юрисконсульт: «Немецкая катастрофа связана не только с военным поражением».
Советник: «Вы имеете в виду то, что делали с евреями и с поляками и с русскими? Действительно, тут многое достойно сожаления. Я как немец готов это признать.»
Юрисконсульт: «А, преступление и наказание? Прекрасно. Вы лично совершили какое-нибудь преступление? Я лично совершил? Вот то-то и оно. Тем не менее они хотят всеобщего покаяния. Для чего? Чтобы вечно держать нас в подчинении».
Советник: «Вы правы. Не для чего стараться».
Юрисконсульт: «Ну, так выпьем за это еще по одной. Ваше здоровье».
Советник: «Вы так щедры сегодня. Не мрачный ли у вас юмор?»
Юрисконсульт: «Думаете, из-за переезда в пролетарский квартал? На то свои причины. Но о них потом. Набейте-ка себе еще трубочку».
Советник: «Говоря о вине, я имел в виду тогдашнее правительство. Гитлер не должен был затевать войну».
Юрисконсульт: «Вы думаете, он ее хотел? Да хоть бы и так. Пойди он в тысяча девятьсот сороковом году на Англию, скажу я вам, так ни одно правительство в мире не решилось бы сегодня упрекать победоносную Германию ни в каких гнусностях. Победителей не судят, это старая. пословица».
Советник: «Я считаю иначе. Гнусности недостойны немцев. В старой немецкой армии до тысяча девятьсот восемнадцатого года такое было бы невозможно.»
Юрисконсульт: «Бросьте, в вас говорит типичный немец. Взгляните, что творили другие. Наполеон хотя бы. Или эти, что бомбы бросали. На наши города, на Дрезден. Штурмовая авиация. А сколько потом выселили. Много миллионов».
Советник: «Я один из них. Но что до выселений, первым тут был в конце концов Гитлер. Ночами я теперь часто не могу заснуть, все думаю. О нашей, молодежи, о растущем одичании, о распаде морали, Я по себе чувствую, как в человеке слабеет сопротивление. Вот сегодня…»
Советник встал, потянулся к своему портфелю и открыл его.
Юрисконсульт, не поняв его движения: «Посидите немного еще, у меня есть время. Выпейте еще. Вы, между прочим, пришли очень кстати. Вы можете оказать мне услугу, а заодно и себе».
Советник, уже сунувший было правую руку в портфель, так и застывает.
Юрисконсульт: «Но сначала — ваше здоровье! Дело в том, что я вам весьма доверяю. Хотели бы вы немного заработать?»
Советник смотрит на него с недоумением: «В финансовых делах я, по правде сказать, разбираюсь не очень».
Юрисконсульт: «В деле, которое я вам предложу, разберется любой немец, и вы не хуже других. Суть вот в чем: я переехал, чтобы заиметь себе укромное местечко. Нет, не для баб — на хрена мне бабы. Но вот сам хрен мне не на хрена. Понимаете?»
Советник не понимает.
Юрисконсульт: «Тогда выпьем, дорогой друг. Видите ли, мне надоело учить этих торгашей, как придерживать денежки, которые они загребают из-под полы. Я сам при этом кое-чему научился. А именно, как зарабатывать деньги. И я решил действовать самостоятельно».
Советник начинает кое-что понимать, он в изумлении.
Юрисконсульт: «Хватит нам, немцам, мечтать и ничего не делать. Надо действовать. Газеты каждый день об этом кричат. Хорошо, раз так, я приступаю к делу, у меня будет торговое дело. Достать товар не проблема, труднее его сбыть. И вот смотрите: вы строительный советник, живете в большом доме, у вас свой лавочник, наверняка есть другие знакомые. Смотрите, дружище, что вы сможете распределять: жир, масло, муку, сигареты, подметки — погодите, я сейчас запишу вам цены».
Советник не в силах ответить. Трубка не держится у него во рту. Он пьет.
Юрисконсульт (протягивает ему небольшой листок): «Вы же не хотите жить как прежде?»
Советник: «На старости лет я вынужден…»
Юрисконсульт, быстро: «Голодать, хотите вы сказать? Если вам это доставляет удовольствие, пожалуйста. Но я больше думаю о вашей дочери, о вашем внуке. Им-то зачем голодать? Если так пойдет, мальчик не сможет даже доучиться в школе».
У советника кружится голова, кажется, будто портфель у него под мышкой то наливается тяжестью, то становится невесомым.
Юрисконсульт: «Подумайте. А как надумаете, приходите опять. Уверен, вы еще придете. Такой шанс в наше время выпадает не часто. Или вы намерены ждать, пока они назначат вам несколько марок пенсии?»
Советник: «Думаете, это возможно?»
Юрисконсульт: «Можете и на красных поработать. Швейцаром, скажем, или рассыльным».
Советник (ищет свою шляпу и палку): «Мне действительно надо это обдумать. Как бы там ни было, благодарю вас. Но только… хорошо, я обдумаю».
Советник знает, что ничего не станет обдумывать. Он не собирается никого судить, отнюдь, время вынуждает людей так поступать. Но как хорошо, что он не успел рассказать Кильморгену про брикеты, слава богу; до чего изменился этот человек! Впрочем, так ли уж велика между ними разница? Нет, дико даже вообразить, что он на такое способен.
X
В смятенных чувствах возвращается советник домой, взгляд его опущен, словно от стыда, Увидев валяющуюся крупную картофелину, он подбирает ее и машинально сует в портфель.
Советник разогревает вчерашний суп и обедает с Фридхельмом. Тот рассказывает, что овощей ему сегодня не дали, и что школьные булочки стали меньше, и что школе присвоили имя Генриха Гейне.
— Это что за тип?
Не дождавшись от дедушки ответа, он встает и исчезает.
Советник оставляет посуду на столе, он рассеян, утомлен, надо немного вздремнуть после обеда.
Но и отдохнув, советник оставляет посуду неприбранной: ему не сидится в комнате. Он выходит на улицу и, погруженный в свои мысли, не замечает, как оказывается возле комендатуры, где всегда в это время собирает окурки, к вечеру их бывает больше всего. Собрав двенадцать штук, он с испугом спохватывается, вспоминает доктора Кильморгена и брезгливо выбрасывает окурки. Неизвестно опять, каким образом он попадает в парк, где замечает, что уже стемнело.
Советник медленно идет домой, на своей улице находит деревяшку и прихватывает ее с собой.
XI
Советник не удивлен, что его дочь уже дома и что стол уже накрыт. Не удивляет его и то, что она не удивилась двум брикетам, которые он выложил в нише возле буржуйки и один из которых она держит в руке. Зато удивлен Фридхельм.
— Ты где это нашел, дедушка? — говорит он, но ответа не получает. — Смешно, — говорит тогда он, — как я найду что-нибудь такое, мать сразу спрашивает, не стащил ли я!
Мать пугают эти слова и движение советника, резкое, как будто он сейчас возмущенно вскинется; на самом деле он просто задумался, а теперь вернулся к реальности.
— А Гейне, оказывается, поэт, — спешит перевести разговор Фридхельм, — нас освобождают от уроков. Придет обер-бургомистр. Мне велели выучить стихи: «Не знаю, что сталось со мною…», мы будем это петь.
Советник вспоминает путешествие по Рейну: германская река, но не граница, мы им ее не отдадим…
Стук в дверь. Входит господин Бергман, молодой супруг, ожидающий ребенка.
Господин Бергман: «Можно? Не помешаю?»
Советник: «Вы нам никогда не мешаете, господин Бергман».
Господин Бергман: «Знаете, сегодня у нас была такая история… Я подумал: надо про это рассказать советнику. Разрешите?»— Он протягивает сигару.
Советник: «Сигары?»
Господин Бергман: «На службе у нас выдавали, каждому по три штуки. Похоже, что-то понемногу налаживается».
Советник смотрит на него в сомнении.
Господин Бергман: «Нам бы только людей, чертежников, техников».
Советник: «Для Германии, пожалуй, все это бесперспективно».
Господин Бергман: «Для народов не может не быть перспектив».
Советник: «Дай вам бог сохранить оптимизм».
Господин Бергман: «Извините, господин советник, но бог мне для этого не нужен».
Советник молчит.
Господин Бергман: «Я вас не обидел?»
Советник: «Вы работаете в строительной организации. Подсчитал ли у вас кто-нибудь, сколько лет вам потребуется, чтобы хоть расчистить развалины?»
Господин Бергман: «Нет, господин советник. У нас и на это нет времени».
Советник: «Что верно, то верно, так теперь принято работать».
Господин Бергман: «Конечно, мы работаем еще далеко не образцово, господин советник. Настоящим образцом своему народу сегодня служим не мы в наших конторах, а простые рабочие, те, что еще летом тысяча девятьсот сорок пятого года начали восстанавливать из развалин и обломков свои фабрики. Сами, никто им этого не поручал и не приказывал. А между прочим, не кажется ли вам, что у этих рабочих было, в сущности, не меньше причин возмущаться условиями, в которых они оказались, чем у людей… ну, скажем, вроде вас?»
Какое-то время оба курят молча.
Господин Бергман: «Я сегодня утром наблюдал, как вы идете по улице. Для чего, скажите, вам эта палка? Со стороны никак не дашь вам шестидесяти. Вы ходите как молодой человек, а палка все время просто висит у вас на руке. Зачем вы, собственно, ее таскаете, господин советник? Она вам не опора, просто ноша, связывающая вам руки».
Советник: «В опорах я, слава богу, пока не нуждаюсь».
Господин Бергман: «Знаю. Я иногда смотрю на эту палку. Вы носите ее ради воспоминаний».
Советник: «Совершенно верно. Ради воспоминаний о лучших временах; Когда Германия была прекрасней, чем сейчас». — Подумав, он добавляет: «До мировых войн».
Господин Бергман: «Но на эти воспоминания тоже не обопрешься. Они, в сущности, только мешают. Мешают идти дальше, работать».
Советник хочет сказать что-то сердитое, но, смолчав, задумывается.
Фридхельм, который вместе с матерью внимательно прислушивался к разговору, вышел и вернулся с палкой. Господин Бергман, взяв ее, рассматривает бляшки, как будто впервые их видит.
Советник, показывая на палку: «Это Германия, вот она, тут. И народ германский, каким он был когда-то, он тоже тут. А когда я оглядываюсь вокруг…»
Господин Бергман: «Вы видите почтенных прежде бюргеров, ставших спекулянтами, беспризорную молодежь. Но при желании мы могли бы увидеть и много, много работающих с утра до вечера. В нашем строительном управлении трудятся семидесятилетние. Сегодня мы взяли чертежником бывшего тайного правительственного советника по строительству или что-то в этом роде, самого настоящего. Ему семьдесят, осталось и вправду одно звание. Говорит, ему надо загладить вину. Как раз это я вам хотел рассказать».
Господин Бергман, видимо, надеялся, что такая новость произведет впечатление, и теперь удивился, что советник молчит. Но он продолжает наступать: «Вы человек мыслящий. Задумывались ли вы, чем бы все кормились, скажи крестьяне в тысяча девятьсот сорок пятом году: чего зря стараться, обеспечить бы себя, и ладно? А как работают женщины? Посмотрите хоть на свою дочь. Разве она жаловалась когда-нибудь, разве оплакивала прошлое? Она поняла, что надо делать, чтобы ее сын не стал околачиваться в залах ожидания, торговать американскими сигаретами или не записался в иностранный легион».
Советника передергивает от таких слов, он озирается раздраженно и нервно, однако опять не говорит ничего.
Господин Бергман идет в открытую: «Если вы действительно смотрите, что делается вокруг, господин советник, то рядом с рабочими, крестьянами, работающими женщинами, бывшими партайгеноссе, которые работают, потому что хотят загладить свою вину, так вот, рядом с ними вы заметите и людей пожилых, лет шестидесяти, походка у них упругая, как у сорокалетних, но на прогулку они таскают при себе толстую палку с воспоминаниями. Им кажется, они имеют на это право, ведь они не кричали так уж прямо „ура“ Гитлеру, когда тот убивал евреев и нападал на. чужие страны. Эти моложавые шестидесятилетние мужчины считают себя жертвами эпохи и потому позволяют себе разгуливать в такое время, а их дочери изматываются на работе да еще занимаются домашними делами. Все, а теперь можете меня выставить».
Господин Бергман встает и идет к дверям. У дверей он останавливается в ожидании, потому что советник все еще задумчиво молчит. Дочь смотрит на господина Бергмана, и взгляд ее светится надеждой и благодарностью; Фридхельм между тем корчит рожи.
Увидев, что все молчат, господин Бергман опять начинает: «Некоторые держатся в стороне из одного лишь смехотворного протеста против перемен в политической и социальной жизни».
Советник: «Я всегда был сторонником здорового прогресса и развития».
Господин Бергман с облегчением подходит к нему ближе: «Что же вам мешает придерживаться такой позиции и сейчас, господин советник? Никто не требует от вас речей в поддержку социализма. Он и без вас наступит. Но работать ради создания нового государства, которое должно принести надежду нам, немцам, — это вы можете? Допустим даже, оно в самом деле не сулит вам надежд, все равно оно может дать вам прекрасную возможность рассчитаться с ошибками прошлого. Но в любом случае оно даст вам — хлеб!»
Советник все еще не отвечает, и тогда господин Бергман вновь присаживается к столу.
Господин Бергман: «Вы строитель по профессии. Дело строителя ликвидировать разрушения, улучшать, создавать новое, двигать что-то вперед, помогать своему народу! — Он на всякий случай встает, однако от стола не отходит. — Бросьте эту глупую палку, возьмите лучше в руки линейку!»
«Ну, сейчас будет!» — думает Фридхельм, но ничего особенного не происходит, просто советник смотрит на них с улыбкой, и тогда мальчик, приблизившись, берет со стола палку, которую господин Бергман положил перед советником. Но тут советник протягивает руку и забирает палку у Фридхельма. Затем как бы между прочим спрашивает: «А что вы там у себя строите?»
Господин Бергман, усаживаясь опять: «Жилье, усадьбы для крестьян-переселенцев. Начнем восстанавливать разрушенные города. Будем строить школы, фабрики, мастерские. Словом, новую и счастливую Германию, — Он делает паузу и опять настойчиво принимается за свое. — Как было бы прекрасно, господин советник, если бы человек вроде вас мог когда-нибудь написать в своей автобиографии: я участвовал в строительстве новой жизни!»
Все чувствуют, что наступил решающий момент. Некоторое время они молчат, никто не шелохнется. Взгляд советника серьезен. У женщины слегка дрожат руки. Сейчас надо сказать что-то такое, чтобы сохранить и раздуть появившуюся вдруг искру. Но любое слово может и погасить ее. А если все будут молчать, она, глядишь, угаснет сама.
И тогда Фридхельм — или нечто неведомое устами Фридхельма — неожиданно произносит:
— Если палка тебе больше не нужна, подари мне картинки с нее, а, дедушка? Мне за них дадут кучу новых марок.
Советник встает:
— Я дарю эту палку вам, господин Бергман. Делайте с ней что угодно.
Его слова не сразу доходят до них, а Фридхельм ноет. Ясно лишь, что что-то произошло, и, кажется, очень хорошее.
Господин Бергман: «Давай поделим подарок, Фридхельм. Тебе картинки, мне палку».
Советник: «Вы непоследовательны, господин Бергман. Зачем же мальчику отягощать себя воспоминаниями, раз они такие опасные?»
Господин Бергман, весело: «Молодежи эти воспоминания мешать не будут. Обменяет их, вот и все. Он ведь так и собирался».
Советник барабанит пальцами правой руки по спинке кресла, переводит взгляд с непоседливого Фридхельма на дочь, которая замерла рядом, в левой руке чашка, в правой посудное полотенце, наконец, на господина Бергмана, который жует погасший окурок сигары. Потом он говорит:
— А знаете, господин Бергман, почему я так просто расстался с палкой? Потому что сегодня чуть было не обменял ее вместе со всеми воспоминаниями у некоего таинственного незнакомца. На два угольных брикета и несколько английских сигарет. Я, знаете, испугался, что предложения, которые сделал мне этот незнакомец, со временем могли стать опасными.
Советник произносит все это очень серьезно, а они смотрят на него в изумлении, чуть ли не в испуге, ибо ничего не понимают. Но вот он встает и улыбается:
— Уже поздно, дорогой друг. Я за сегодня много пережил, надо отдохнуть.
Господин Бергман протягивает на прощанье руку и желает всем спокойной ночи. Палку он вешает на руку Фридхельму. У дверей господин Бергман на миг задерживается, как будто хочет сказать что-то еще. Но, увидев, как дочь прикладывает к губам палец, тихо выходит.
Фридхельм, прижимая к себе палку, на цыпочках подходит к канапе и прячет ее там. Затем быстренько раздевается. Мать стелит советнику на софе, потом ложится сама Когда затихает сердитый скрип железной кровати, она говорит тихо, голосом, полным нежности и благодарности:
— Спокойной ночи, отец!
Советник приподнимает голову:
— Спокойной ночи, дитя мое!
— Спокойной ночи, дедушка! — бормочет Фридхельм. И, удивленный, слышит в ответ:
— Спокойной ночи, мой мальчик!
Затем в комнате становится тихо, совсем тихо. Так, что слышно, как тикает будильник, громыхает вдалеке поезд, тявкает где-то собака и как этажом ниже закрывают дверь.
XII
Медленно поднявшись со своего стула, советник начинает раздеваться. Прежде чем снять брюки, он, как всегда, выключает свет. Должно быть, сейчас полнолуние, потому что мягкое серебристое сияние словно переносит комнату в какое-то нереальное измерение. Во всяком случае у советника такое чувство — он словно забыл, что стоит в егерской рубашке и перештопанных, мешковатых, слишком широких кальсонах, хотя в комнате совсем светло. Он даже не замечает, что забыл надеть шлепанцы, и, подобно лунатику, идет босой к секретеру. Осторожно открывает его, достает большую готовальню, поднимает крышку и придирчиво рассматривает отдельные инструменты. Потом вновь закрывает готовальню, но в ящик ее не кладет, а оставляет на секретере; прислушивается, как там на канапе, на кровати, и идет к своей постели.
Тишина в комнате, хотя никто не спит, только дышат беззвучно.
Собака вдалеке уже не лает, а воет; этот протяжный вой то нарастает, то затихает, точно забытая в куче хлама сирена воздушной тревоги жалуется, что стала ненужной, и, тоскуя, клянет забывшее про войну человечество. Этот вой возвращает мысли обитателей комнаты на Брейтшейдштрассе от сновидений к действительности. Но они этим не огорчены — ведь изменилась сама действительность в маленькой комнате, нет в ней больше места для мрачных мыслей о былом, для упреков, причитаний и жалоб. Собака, взвизгнув и поскулив, вдруг замолкает: должно быть, удар палкой привел ее в чувство. Никелированные уголки большой готовальни, которую советник оставил в отличной боевой готовности на секретере, блестят в лунном свете все ярче; наконец, они озаряют комнату так сильно, что кажется, будто даже с закрытыми глазами внутри видны инструменты.
Советник, его дочь и внук спят спокойно в ожидании радостного утра.
А по ту сторону коридора, в комнате молодой четы, ожидающей ребенка, господину Бергману все не спится, он смотрит на потолок. Потолок обветшал, как весь дом, но хотя господин Бергман по профессии и техник-строитель, он впервые этого не замечает: на лице его счастливое выражение, точно у него уже родился ребенок.
Преступление и наказание? «…существуют среди нас!»
I
— У вас новый шофер? — спросил я старого сельского врача, в очередной раз оказавшись у него на острове. Такие вопросы задают, не имея при этом в виду ничего определенного. Мне просто бросилось в глаза, что за рулем сидел новый человек. Доктор подошел к письменному столу, достал газету и сказал:
— Прочтите! Это дело рук нашего учителя. Даже без свойственных корреспондентам-любителям преувеличений здесь достаточно подлинного драматизма.
Я стал читать:
«Подвиг, достойный античного героя.
В четверг, 16 февраля, около одиннадцати часов со стороны дамбы донеслись крики о помощи. Две женщины увидели на скале, торчащей из воды метрах в трехстах от берега, троих детей, мальчишек от шести до восьми лет, они кричали и махали руками, так как обратный путь был отрезан. Несколько дней стояли холода, море замерзло, ребятишки по льду добрались до скалы, влезли на нее и там заигрались. Когда они собрались вернуться, то обнаружили, что лед потрескался и огромные льдины пришли в движение. К тому же усилился ветер и возникла опасность, что детей может снести с голой скалы в море. Скорчившись, сидели они в расщелине скалы, которую то и дело окатывали ледяные волны. К тому же и мороз был около десяти градусов. Попытка взрослых, немедленно поднявших тревогу, на лодке добраться до детей сорвалась — трижды лодку захлестывало водой; три следующие попытки тоже не принесли успеха — лодку затирало льдинами; с помощью топоров и жердей удалось кое-как ее освободить, но продвинуться, вперед при ревущем девятибалльном шторме было невозможно. Бригадир рыбаков Генрих Засс сбросил с себя верхнюю одежду и попытался вплавь добраться до скалы, но тяжело поранился о льдину, и его с великим трудом удалось вытащить из воды. Тем временем на берегу собрались уже почти все жители нашего поселка, они метались по берегу, звали, кричали, но в конце концов им оставалось только наблюдать за трагедией, поскольку еще дважды лодки заливало водой и три попытки отважных мужчин добраться до скалы вплавь оказались обреченными на неудачу: шторм и ледяной холод вынудили их вернуться. Рыбаку Карлу Фрёлиху удалось заплыть дальше всех, — но вот волна накрыла его и он исчез под водой. Вынырнул он на поверхность довольно далеко от берега, однако, двигаться уже почти не мог, и это лишь счастливый случай, что его подхватило другой волной и понесло к берегу, где односельчане, встав в цепочку, сумели его поймать. Между тем со скалы уже не доносилось ни звука — либо дети забились в более глубокую расщелину, либо они уже замерзли.
Все не сводили глаз со скалы, и никто не заметил, что по единственной длинной полоске льда, уходившей в море метров на пятьдесят, бежал человек. Как только его обнаружили, надежда с новой силой вспыхнула в сердцах людей: после многих разочарований этого дня возможности к спасению детей, казалось, уже не было. В человеке, бежавшем по льду, опознали шофера доктора Каале. От этого человека, слывшего чудаком, так как он держался в стороне от всех событий, происходивших в поселке, меньше всего ожидали такого поступка, без шансов на успех, который к тому же мог стоить ему жизни. Он был без куртки и без сапог. Добежав до конца ледяной полосы, он прыгнул в воду, и, хотя его несколько раз относило в сторону, ему все же удалось добраться до скалы. Вскоре он показался, держа на руках одного из детей; это был, как удалось определить с берега, самый меньший из них, и, казалось, он уже не подает признаков жизни. И тут вновь начался ужасающий спектакль — борьба с ледяной стихией, осложненная еще и тем, что левой рукой человек должен был высоко держать ребенка, а грести только правой. Захлестывало его волной или относило в сторону, — и над морем раздавались испуганные крики и стоны. Люди на берегу разделились, никто точно не знал, где достигнет суши вконец измученный человек. Едва он ступил на землю, как рыдающая мать вырвала у него окоченевшего ребенка и бросилась бежать. Однако почти тут же она остановилась и поспешила обратно. Другая женщина забрала у нее ребенка, а сама она кинулась к спасителю, который едва держался на ногах, и обрушила на него поток благодарностей. Но он только покачал головой, словно вспомнив о каком-то своем упущении, и снова кинулся в море по ледяной полосе.
На этот раз ему больше повезло. Пенные громады волн казалось, обходят его стороной, и он довольно быстро доплыл до скалы. Однако по тому, как тяжело ему дался подъем, люди на берегу поняли, до чего он измучен. И всем почудилось, что на сей раз прошло больше времени, прежде чем он появился со вторым мальчиком. Это был восьмилетний сын мясника Харботта. Он тоже, по-видимому, был без сознания, во всяком случае спаситель нес его на плече и несколько минут простоял у воды в растерянности, не зная, как ему лучше взять мальчика. В конце концов он обхватил его левой рукой за туловище и спрыгнул в воду. Всякий раз, когда он останавливался на плаву — то ли изнемог, то ли окоченел, — люди на берегу начинали кричать ему и махать руками, подбадривая, благодаря.
— Я больше не могу! — воскликнул какой-то молодой человек, бросился в воду и поплыл навстречу терпящим бедствие. Но среди громадных волн он, наверно, потерял их из виду, не смог приблизиться к ним и в результате, обессиленный, отдался на волю волн и лишь с огромным трудом, довольно далеко, сумел выбраться на берег.
Между тем в воду бросились два молодых рыбака Один вскоре вернулся, второму же наконец удалось добраться до мужчины с мальчиком, который все чаще и чаще останавливался. Он взял у него мальчика и вынес на берег. Там уже появился врач, он взял ребенка на руки и отнес в ближайший дом, сопровождаемый толпой матерей. Тем временем людей на берегу опять охватил ужас, так как спасителя отнесло далеко на север. Но уже была наготове лодка, большая рыбацкая лодка, и в нее вскочили четверо мужчин. И опять тут речь шла о жизни и смерти, но им все-таки удалось доплыть до сносимого волнами человека и втащить его в лодку.
И тут люди на берегу, замершие в страхе и ожидании, пережили самый ужасающий акт этой страшной драмы: покуда двое рыбаков пытались догрести до берега, двое других хлопотали вокруг недвижно лежавшего человека, массировали его, растирали и в конце концов привели в чувство. Затем между ним и рыбаками, по-видимому, разгорелся спор. На берегу отчетливо слышали его протесты и увидели, что он указывает на берег. А еще они увидели, что он соскочил с лодки в воду, едва не был раздавлен проплывшей на волосок от него огромной льдиной и в третий раз, но уже гораздо медленнее, поплыл к скале. С неимоверными усилиями взобравшись на нее, он упал и остался недвижим.
На берегу появилось несколько мужчин с легким челноком, который они по льду донесли до чистой воды. Двое влезли в челнок, больше он взять не мог бы — ведь придется еще принять на борт обессилевшего пловца и последнего мальчика. Не пройдя и половины пути до скалы, челнок перевернулся, и людям пришлось, бросив его, вплавь добираться до берега, что им и удалось.
Тем временем человек на скале очнулся, исчез за камнями и вскоре появился опять, держа на руках третьего мальчика, очевидно тоже потерявшего сознание. С берега по льду волокли еще одну лодку и спустили на воду, на сей раз она была побольше, в ней нашлось место троим. Но доплыть до скалы им никак не удавалось, ибо шторм еще усилился и лодку все время сносило в сторону. Человек с окоченевшем ребенком на руках ждал, стоя на скале, покуда не заметил, что волны все больше захлестывают скалу и она уже покрывается ледяным панцирем. Он понял, что если прождет еще немного, то и сам окоченеет, и, держа на руках неподвижного ребенка, ступил в воду. Но плыть он почти уже не мог. Лодка, казалось бы попавшая в более благоприятное течение, никак не могла приблизиться к пловцу. Обессилевшего человека все больше сносило в сторону, при попытке настичь его лодку подхватило волной, и она проскочила мимо.
В этот момент самый молодой из рыбаков Хайнер Брюйам прыгнул из лодки в море и попробовал догнать человека с ребенком, сносимого волнами. Лодке тоже удалось подойти поближе. И еще раз увеличились все расстояния, покуда юный Брюйам не нагнал наконец пловца, который последним чудовищным усилием сумел передать ему окоченевшего и не приходившего в сознание ребенка. Брюйам не успел еще повернуться, как человек пошел ко дну. Лишь через десять минут удалось втащить в лодку Брюйама с мальчиком и в конце концов ссадить на ледяной полосе.
И этого парнишку тоже вернули к жизни. А труп утонувшего шофера так и не нашли. Песнь об отважном человеке — здесь она прозвучала во всей простоте и величии, смысл ее сквозь толщу лет доносят до нас слова поэта: „Человек — это звучит гордо!“»
II
Дочитав статью, я положил газету и уставился в пол. Я знал этот берег, знал эту скалу, знал эти зимние штормы. И человеческую природу тоже. Ах, дорогой, уважаемый любитель поэзии, быть может, мы потому только так многого ждем от человека, что очень редко чувствуем в слове «человек» гордость людской сплоченностью.
— Да, вот этот самоотверженный, тихий и неизвестный человек… кто из нас мог бы хоть встать рядом с ним, если бы надо было найти прообраз или хотя бы сравнение для людей, о которых думал Горький?
Забыв о докторе, я произнес последнюю фразу вслух и даже испугался, услышав:
— Я мог бы!
Я взглянул в его усталое и болезненно-подвижное старческое лицо.
— Никто из знающих вас, милый доктор, не сомневается в вашей человечности и готовности прийти на помощь, но в этом случае, здесь…
— Именно в этом случае, здесь. Именно в этом случае, как никогда за всю мою долгую жизнь, я вижу перед собою почти бесконечную мерную ленту, которой должно мерить человека, во всей его высоте и низости, во всех его взлетах и падениях, дабы справедливо судить о нем. Что знаем мы о человеке, мы — врачи, судьи, священники, политики и поэты? Знаем лишь самое обыкновенное. Но не его возможности. — Для старого сельского врача его склада — непривычный разговор.
— И что же в его возможностях?
— Всё. — Но затем он слегка покачал головой. — Мы были бы ближе к истине, если бы вы спросили: что невозможно для человека? Тогда я ответил бы: ничего.
Суровый и непривычный тон, которым было произнесено это «ничего», точно дорожный знак или предупредительная табличка, преградившая мне путь, очень меня удивил, и я осведомился, связано ли как-то с подвигом тихого и скромного человека, описанным в газете, то направление, которое принял наш разговор, Доктор уклонился от ответа, сказав, что принесет сейчас бутылочку бургундского.
Но прежде чем уйти, он еще добавил, что местные жители хотят поставить памятник спасителю ребятишек и общинный совет намерен использовать для этой цели единственный на острове большой валун. Доктор улыбнулся.
— Во время войны он уже дважды предназначался для памятника, и оба раза для памятника воину. Последний раз, кажется, в тысяча девятьсот сорок третьем году, когда и наши рыбаки еще мечтали о победе. А сейчас они только никак не договорятся, ставить памятник на скале или на берегу. Те, что ратуют за скалу, хотят увенчать камень высоким крестом, а те, что за берег, мысленно видят фигуру, ребенка например, или хотя бы барельеф и чугунную плиту. Как вы относитесь к идее такого памятника здесь? И если положительно, то какое место вам больше по душе? Вы пока подумайте, а я спущусь в подвал.
III
— Ну? — спросил доктор, разлив вино по стаканам.
Да что тут долго раздумывать!
— Когда люди сообща ставят памятники отдельным представителям человечества, надо, по-моему, прежде всего помнить о том, кто совершил подвиг, как в этом, здешнем случае. Место? Только одно — омываемая морем скала, вот, на мой взгляд, самое подходящее место — скала и на ней крест. Кто будет читать надписи на чугунной плите, лежащей на берегу? А может, всего правильнее было бы попытаться разузнать у жителей острова, не осталось ли у героя родственников, для которых можно было бы что-то сделать в знак благодарности.
Доктор покачал головой.
— Кроме меня, никто его не знал. А поскольку я его знал, мне больше по душе было бы вообще отговорить всех от этой затеи с памятником. Три матери спасенных детей уже злятся на меня из-за этого и даже утверждают, будто у меня были какие-то счеты с моим бывшим шофером, что-то такое, чего я и после смерти не могу ему простить. Они хотят его смерть считать его преображением.
Я не понял доктора и посоветовал ему поддержать людей в их стремлении выразить благодарность и сообщить им сведения о прошлом своего бывшего шофера, даже если все сведется к простому обелиску, который через несколько лет будет предан забвению.
Доктор допил вино, но не сразу начал рассказывать, а какое-то время сидел, задумчиво уставясь на стену. Лицо его помрачнело: казалось, он сомневается, стоит ли вообще говорить. Хорошо зная его, я понимал, что принуждение тут бесполезно. Совершенно неожиданно прозвучали в маленькой комнате первые слова, впрочем, «звучания» как раз и не было, то, что я смог расслышать, было началом рассказа, удивительным по своей монотонности.
— Когда я еще жил в Альтендорфе под Штеттином, он был моим соседом. Я знал его с юных лет. Отец его был деревенским кузнецом и сына своего, хотя тот был, пожалуй, слабоват для этой профессии, намеревался тоже приобщить к кузнечному ремеслу. Вероятно, из тех же соображений, из которых крестьяне и ремесленники, имеющие земельный участок, заставляют одного из сыновей во что бы то ни стало идти по своим стопам. В двадцать три года он должен был вступить во владение кузницей. Честолюбец в душе, с ловкими, умелыми руками, он, закончив обучение у отца и по-прежнему живя в деревне, стал посещать специальное техническое училище и уже в двадцать пять лет стал мастерски делать телеги на пневматических шинах и прицепы. Когда началась война, ему было тридцать, он уже несколько лет был женат, и, по-видимому, счастливо. Я это заключаю из того, что по вечерам он частенько сиживал один в своем саду и играл на гармонике. И что особенно интересно, это не были ни уличные песенки, ни обычные тогда военные марши, ни солдатские песни. Еще два года он смог пробыть дома, вероятно, была большая нужда в его прицепах, потом призвали и его. Накануне вечером он пришел ко мне, какой-то беспомощный, или, вернее, растерянный. Не для того, чтобы помучить, а просто желая, воспользовавшись его состоянием, заставить его хоть немного пошевелить мозгами, я сказал: «Вы подавлены, мой юный друг. Вам грустно. А сознаете ли вы, что ситуация, в которой вы оказались, не что иное, как следствие политики вашего фюрера?» Он знал о моих политических убеждениях, знал, что меня несколько раз вызывали на допрос, и несомненно считал, что я поверил его признаниям, сделанным мне несколько лет назад, будто он вступил в нацистскую партию единственно из соображений коммерции. Действительно, он только принимал участие в тех партийных праздниках, что устраивались в деревне. Протянув мне руку на прощание, он вдруг собрался с духом и попросил меня присмотреть за его женой и тремя детьми, если с ним что-нибудь случится. А когда я хотел его успокоить, он со слезами на глазах сказал, что не вернется живым. Вот так-то, а потом мы еще пили с ним коньяк, он ушел домой, и к вящему моему удивлению я через час — стояла светлая летняя ночь — увидел, что он сидит на одном из прицепов, стоявших во дворе, и играет на гармонике. И что же он играл? Нет, вовсе не что-то сверхчувствительное, вроде «Утренней зари», нет, он играл «Степную розочку». Никогда бы не подумал, что он знает эту вещь.
Прошло полтора, а может, и два года, прежде чем он получил отпуск. В один прекрасный день я увидел, что он стоит у себя в саду, в форме ополченца. Он приветливо помахал мне и крикнул, что после обеда зайдет к нам. Когда он пришел, меня дома не было. Он гулял по саду вместе с моей женой, вот тогда-то это и случилось. Я большой любитель фасоли, и мы натыкали два ряда довольно крепких и высоких палок с перекладинами, по которым она должна виться. Он ухватил несколько этих палок, слегка тряхнул их и сказал моей жене: «Смешно, ей-богу, но с тех пор как я опять здесь и вижу ваши штанги для фасоли, я все время вспоминаю это». — «Что это?» — спросила моя жена. — «А вот как раз так, только подальше друг от друга, мы в Польше ставили столбы и вешали на них еврейских детей».
Моя жена вскрикнула и в ужасе уставилась на него.
Но он пояснил, как будто бы совсем бесстрастно: «Но это же был приказ. Понимаете, если бы я этого не сделал, меня бы расстреляли и вместо меня это сделал бы другой».
Моя жена снова застонала, отшатнулась от него, но потом проговорила: «Но ведь это же просто байки, страшные солдатские байки! Неужто вам не стыдно такое рассказывать?»
Тогда он, очень удивленный, ответил: «Ну да, сперва мне было страшновато. Но, знаете, мало-помалу к этому привыкаешь».
И тут моя жена упала в обморок. Он помчался за нашей прислугой, и они вместе внесли мою жену в дом. Когда она очнулась и увидела его, с ней случилась истерика. К счастью, тут вернулся я.
Доктор печально и понимающе посмотрел на меня и кивнул.
— Я был немало наслышан о том, что творилось в Польше. Если бы мне это просто рассказали, это было бы только лишним подтверждением сотворенных там ужасов. Но меня совершенно выбило из колеи то обстоятельство, что этот человек, вовсе не бессердечный эгоист, не оголтелый нацист, а скорее тихий, чувствительный малый, счастливый муж и отец трех здоровых ребятишек, в которых он был буквально влюблен, оказался способен на такое. Этого я не мог постичь, ни как врач, ни как психолог.
Когда моей жене стало лучше, я пошел к нему. Жена об этом не знала. Казалось, ему нисколько не было стыдно. А робость, с какой он мне обо всем рассказывал, безусловно, происходила из другого источника, а именно оттого, что он беспокоился, не зная того, как я себя поведу. Ведь он рассказывает человеку, который известен ему как противник режима, вещи, разглашать которые строго-настрого запрещалось. А он еще и об этом запрете рассказал. Меня же особенно волновало открытие, что этот молодой человек не ожесточился, не стал циником, не напускал на себя показную жестокость и надменность, желая заглушить муки совести. Ничего подобного. Все было именно так, как он сказал: он к этому привык! Знаете, мой милый, я вдруг увидел тысячи, сотни тысяч, миллионы добрых своих соотечественников, отцов семейств, христиан, бюргеров, филистеров, благопристойных граждан, которые в годы войны привыкли не только собственноручно истреблять и убивать, но привыкли также к системе истребления и убийства. Ибо для них это уже было не преступлением, а патриотическим деянием, вызванным необходимостью защищать народ и страну. Воистину, что люди знают о себе? И что мы знаем о них? Когда во время войны я возмущался позицией церкви, то нередко — говорил себе: ее служители меньше всех знают о человеке. Тогда я оправдывал священников и первосвященников, поскольку был убежден, что и господь бог не может все досконально знать о человеке.
После продолжительной паузы доктор вновь заговорил:
— Когда пятерых его работников, одного за другим, призвали в армию, жена кузнеца заперла кузницу и вместе с детьми подалась к своим родителям в Штеттин, всего за каких-нибудь пятнадцать километров. Больше я о ней ничего не слышал. В апреле тысяча девятьсот сорок пятого года вышел приказ СС об эвакуации деревни. Я, как видите, перебрался сюда, к морю. Это были тяжелые годы. После смерти моей жены приехала ко мне дочь, которая осталась вдовой. Она и вела мой дом.
Потом наступил тысяча девятьсот пятьдесят третий год, и в один из весенних дней на моем пороге появился человек, о котором я вам рассказал и которому люди хотят поставить памятник. Исповедь его, хотя он то и дело запинался, была правдивой. В тысяча девятьсот сорок седьмом году он вернулся из плена. Его родная деревня и дом, который он оставил в целости и сохранности, хотя и уцелели, но, так же как и Штеттин, отошли к Польше. Под развалинами Штеттина остались погребенными его жена и трое детей. От отца он унаследовал какое-то подобие религиозности и даже в гитлеровские времена, несмотря на все кляузы бургомистра, не порвал с церковью. Теперь — так он, во всяком случае, заявил — на него снизошло прозрение, он понял, что гибель семьи была ему карой за его злодеяния в Польше. И еще он присовокупил: «А я ведь только выполнял приказы, за неподчинение меня бы самого убили. Вот так-то, господин доктор».
Он с надеждой взглянул на меня, и я заметил, что сомнение уже засело в нем.
«Итак, это было в сорок седьмом году, то есть шесть лет назад, — перевел я разговор. — Что вы делали все эти годы?» — Он украдкой, как-то снизу вверх взглянул на меня и запинаясь проговорил: «Только потеряв семью и все имущество, я впервые осознал, что я не просто выполнял приказы». И потом, глядя в пол: «Я действительно совершал преступления?»
Доктор опять посмотрел на меня:
— В этот момент я не знал, что ответить. Я же видел: этот человек взвалил на себя новую, неподъемную ношу. Но я не мог поступить иначе и ответил ему: «Да, совершали. Совершали преступления, достойные любого проклятия!» Но потом я сменил тему и спросил: «А что вы делали по возвращении?»
«Мне страшно было оставаться на родине. Я боялся суда и подался на Запад. Через некоторое время я нашел работу на заводе „Фольксваген“. Вскоре я уже стал хорошо зарабатывать, но поверьте мне, я за все эти годы не смеялся ни единого раза. Я не хочу изображать себя лучше, чем я есть на самом деле. Я не потому не мог смеяться, что все время помнил о своих позорных преступлениях, нет, я ведь и вправду эгоист. Я не мог смеяться, потому что все время помнил о своих собственных детях, похороненных под развалинами Штеттина. Но время многое предает забвению, образы детей и жены — тоже. И даже детские виселицы в Польше».
Он замолк, и я заметил, — сказал доктор, — что он во время рассказа все искал какую-то новую мысль.
«В Брауншвейге я познакомился с одной солдатской вдовой. У нее тоже было трое детей. И хотя из-за них мне чаще и больнее вспоминалась моя семья, все же этим детям удалось, да, именно это я и хочу сказать, удалось вернуть меня к жизни. Я еле-еле мог дождаться конца рабочего дня, чтобы скорее попасть с завода домой, играть с ребятишками. Ну вот, а через два года мы с этой женщиной решили пожениться. Зачем я как-то вечером стал ей рассказывать о прошлом, я и сам не знаю. Обычно люди это делают, чтобы приукрасить себя. Я должен был бы знать, что могу только уронить себя в ее глазах. Но что-то в глубине души мне не давало покоя. И вот как-то вечером, за месяц до нашей свадьбы, я ей рассказал о том, как потерял жену и троих детей, то есть что они погибли под развалинами во время бомбежки Штеттина… Это она уже знала, но то, что я в этом вижу возмездие за те злодейства, которые творил в Польше, я ей еще не говорил. А тут что-то меня заставило исповедаться ей. Это было очень страшно, почти так же, как тогда, с вашей женой. Она, правда, не упала в обморок, но крикнула мне: Убийца! — прямо в лицо и просто в бешенство пришла от того, что я касался ее детей. Я вынужден был в тот же вечер уйти. Знаете, господин доктор, я тогда хотел повеситься. Но на следующее утро я все-таки пошел на завод и продержался там еще полгода.
Она, конечно, язык за зубами не держала, и в конце концов на заводе это тоже стало известно. И хотя там был целый ряд людей, на совести которых были дела еще почище моих, тот факт, что женщина меня выгнала, всех подстегивал именно меня привлечь к ответственности. Итак, я этого не вынес и просто бросил работу. Перебрался в деревню и работал там простым батраком. Примерно около года. Но к детям я даже приближаться не мог. А я ведь так любил детей! Всякий раз, когда я, поддавшись соблазну, клал руку на голову ребенка, на деревенской улице или в поле, мне казалось, что ребенок отшатывается от меня. Конечно, это было не так, даже наоборот: дети были очень ко мне расположены, они буквально висли на мне. Но мне все время чудилось, что кто-то поблизости обязательно крикнет, дерево крикнет или животное: „Он убивал детей!“»
Он опять некоторое время молчал, потом вскрикнул:
«Кто меня послал на это? Кто убил мою совесть? Я точно знаю, как это началось: на вокзале в Люблине я должен был помогать грузить в эшелон евреев. Поезд состоял из одних только товарных вагонов и был так набит, что, сколько ни старайся, никого туда уже втиснуть было невозможно. А тут капитан заорал на нас, что мы жалкие трусы и если эти жидовки не желают лезть в вагон добровольно, то надо им помочь, или пинком в зад, или прикладом. Что многие из нас и делали. А другие, и я в их числе, все еще медлили. За это капитан наорал на нас, что он-де всех велит наказать, и притом как следует. Вот так, с криками, ревом, проклятиями, хохотом, шуточками и угрозами убивали мою совесть. И если в первый раз там, в Люблине, я только делал вид, что участвую в этом, то потом я и в самом деле участвовал. И повешенные еврейские дети — тоже только часть того, что я делал». — Он говорил все тише и тише, а потом вдруг закричал: «Неужто это вечно будет числиться за мной? А искуплю я свою вину, если наложу на себя руки?»
Голос доктора слегка дрожал:
— Вот так стоял передо мной этот злосчастный человек, вот здесь, в этой комнате. Он явно чего-то хотел, от меня чего-то хотел, не пришел же он без всякого определенного намерения. И почти неслышно, как-то снизу вверх, прозвучал его голос:
«Да, господин доктор, если это можно назвать намерением… Просто у меня было чувство, что если есть на земле человек, который может мне помочь, то это вы.
Я справлялся о вас у булочника Мартенса, он сейчас живет в Люнебурге, и от него услышал, что ваша жена уже восемь лет как умерла. Она бы никогда меня не простила, уж я-то знаю».
«Так, а на мое прощение вы все-таки надеетесь?»
«Очень надеюсь, господин доктор», — отвечал он. И вдруг неожиданно твердо проговорил: «Если вы сочтете правильным, чтобы я ушел из жизни, скажите мне».
Доктор опять взглянул на меня.
— Вот, друг мой, попробуйте-ка произнести свой приговор в такой ситуации. Я точно знал, что он это сделал бы, ушел бы из жизни. Но разве я имею право отнимать жизнь у человека, даже у такого, как он? Из всего, что он пережил за эти годы, все-таки чувствовалось, что крохотный зародыш человеческого был еще жив в нем. Вы знаете, я совсем не религиозен, и это понятие человеческого ничего общего не имеет с церковными догматами. Не затем я пятьдесят лет был врачом, чтобы теперь отказаться спасти человеку жизнь. Разве не лечил я в течение десяти лет преступников в тюрьме? И тем не менее я не мог решиться, не мог подарить ему ни черного, ни белого кубика. Но тут решение приняла судьба или какая там еще бывает таинственная сила: в прихожей раздался детский смех. Это затеяли потасовку двое моих внучат. Я невольно взглянул на него. И увидел просветленное, но в то же время омраченное печалью лицо. И это лицо преступника? Я сказал ему, что он может остаться у меня в качестве шофера. Но должен пообещать мне, что ни одному человеку и даже моей дочери, которую он давно знает, ни словом не обмолвится о своих злодеяниях в Польше. Я знал, что и она, как мать, тоже непременно захочет оградить от него детей. Ну вот, все шло хорошо, дети в нем души не чаяли. Но я сделал одно открытие, которому и по сей день не могу найти объяснение. Хотя моя дочь знала о его печальной судьбе, то есть о том, что он потерял жену и троих детей, она тем не менее всегда испытывала некоторый страх, когда он оставался наедине с детьми. И при этом она действительно ничего не знала. Но что толку было гадать и доискиваться, где брал начало этот ее безотчетный материнский страх? Знаю только, что я не могу этого разгадать.
Доктор налил себе полный стакан и задумчиво осушил его. Потом заговорил уже совсем другим тоном, так, словно рассказывал о местных событиях:
— В деревне очень полюбили тихого, всегда готового помочь человека. Так он проработал у меня два года.
Холодная отчужденность моей дочери, должно быть, пробудила в нем новые опасения, так как полгода назад он спросил меня:
«Вы что-нибудь обо мне рассказали, господин доктор?»
Я успокоил его, а потом поговорил с дочерью, просил держаться с нашим шофером по дружелюбнее, он-де испытал много тяжелого и нуждается в добром слове. Она сказала, что попробует, хотя изменить себя не в состоянии, и что этот замкнутый человек ей несимпатичен и она не любит, когда дети бывают с ним. А следовательно, она все равно будет стараться держать их от него подальше. Должно быть, он это почувствовал, потому что спустя еще три месяца исчез из дому, так же тихо и внезапно, как и появился. Правда, он поселился в деревне у одного старого рыбака. Встречаясь со мной, он очень вежливо здоровался. Мы с ним: больше не говорили. Да, и вот этот человек совершил поступок, о котором газеты пишут как о подвиге, достойном античного героя.
— Вы полагаете, что это самоубийство?
— Да.
Мы замолчали. Как могут, как смеют два человека, верящих, будто они что-то знают о людях, продолжать подобный разговор? Но поскольку дальнейшее молчание тоже было не слишком уместным, я спросил:
— Считаете ли вы справедливым такой исход этой истории?
В ответ опять прозвучало только:
— Да.
Но в конце концов доктор вновь заговорил:
— Мы, люди, вероятно, не имеем права в случаях, подобных этому, выдвигать обвинения в убийстве, выносить смертный приговор или приводить его в исполнение. Но мы также не имеем права разыгрывать из себя всепрощающего Христа и радоваться раскаянию грешника. Я полагаю, что мы, люди, обязаны только протянуть руку виновному, чтобы он мог снова подняться. Но мы не вправе помешать убийце детей расстаться с жизнью, если он от всей души, не услышав ни слова упрека, верит, что, расставшись с жизнью, искупит свою вину. Так пусть же местные жители исполнят свое желание и поставят памятник спасителю детей. И пусть они сами решат, что более уместно — большой крест на скале, где произошло несчастье, или высокий обелиск на берегу. Я вижу несомненную пользу от этой истории уже хотя бы в том, что самопожертвование опять способно растрогать людские сердца.
Рассказав мне все, старый доктор словно освободился от тяжкого груза; он встал, вышел из комнаты и вернулся со второй бутылкой вина.
IV
А потом он еще раз подошел к своему письменному столу и положил передо мной другой газетный лист.
— Вот, — сказал он, — а теперь прочтите еще то, что я здесь отчеркнул. Это, так сказать, по-прежнему, увы, общенемецкий ответ на те не совсем обычные вопросы, которые задала первая статья.
Под заголовком «Убийство ста пятидесяти человек осталось неотомщенным!» газета сообщала о заседании суда присяжных в Дармштадте, на котором десятого марта тысяча девятьсот пятьдесят шестого года бывший капитан гитлеровской армии Карл Фридрих Нёлль и бывший фельдфебель Эмиль Цимбер из Фрайбурга в Брейсгау были приговорены к ничтожным срокам — соответственно к трем и двум годам тюремного заключения за то, что осенью тысяча девятьсот сорок первого года в деревне под Смоленском уничтожили сто пятьдесят еврейских женщин, детей и стариков. На состоявшемся ранее слушании дела обоих обвиняемых Нёлль был приговорен к четырем, а Цимбер к трем годам заключения; этот приговор был отменен верховным судом ФРГ на основании того, что суд забыл проверить, можно ли расценивать расстрел как допустимую репрессию. Одновременно верховный суд настаивал на оправдательном приговоре. Новый обвинительный приговор удалось вынести только потому, что среди расстрелянных было много детей. Да и то эти двое обвинялись не в убийстве, а в пособничестве убийству.
Далее в статье говорилось: западногерманская общественность чрезвычайно взволнована возмутительно мягким приговором дармштадтского суда присяжных. И в прессе и в читательских письмах ставится вопрос, почему убийцы стольких людей не понесли заслуженного наказания. Приговор, вынесенный в Дармштадте, фактически представляет собою реабилитацию нацистских преступлений. И приводилась цитата из западноберлинской «Берлинер цайтунг»:
«Судьей на этом процессе был председатель окружного суда Лауперт. В обосновании приговора он заявил, что обвиняемые, расстреливая детей, преступили „границы гуманности“. В своем ли он уме? Откуда, по его мнению, начинается гуманность и где она кончается? Истребление взрослых он, видимо, считает гуманной акцией. Что же это, спрашивается, за судья? Такой был бы уместен в третьем рейхе!
Так где же справедливость? 58-летний учитель народной школы и бывший капитан гитлеровской армии приговорен к трем годам заключения. Фельдфебель Цимбер отделался двумя годами. Это меньше, чем мог бы получить обычный взломщик. Преступление и наказание здесь столь вопиюще несоразмерны, что о справедливости и говорить не приходится. Так куда же мы катимся? И ведь этот процесс в Дармштадте не единственный. В последнее время добрая дюжина подобных случаев могла бы навести нас на те же самые вопросы. И ответы были бы не лучше».
В виде пояснения к статье в «Берлинер цайтунг» от двенадцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят шестого года была напечатана еще и карикатура.
Я сложил газету и взглянул на доктора.
— Слабенькая картинка и абсолютно не передает основной сути подобных событий. Однако тут даже Гойя мог бы усомниться в своих силах.
— К тому же это вообще не материал для шаржей, — перебил меня доктор. — Что тут шаржировать? Этих двоих из Дармштадта? Судей из верховного суда, которые хотят добиться оправдания для них? Добрых граждан и христиан, которые со всем этим мирятся? Или же политиков, писателей и газетчиков, которые, несмотря ни на что, каждый божий день разглагольствуют о культуре Запада? — Доктор схватил газету, вгляделся в рисунок и отшвырнул ее в сторону. — А вдобавок и возмущение их — тоже притворство. «Куда мы катимся?» — вопрошает этот западноберлинский борзописец. Как будто он сам не знает!
Доктор опять взял газету и продолжал:
— Март тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Значит, всего год назад происходил в Дармштадте этот процесс. И уже сегодня господин редактор мог бы найти точнейший ответ на свой вопрос, куда, мол, они катятся, в опубликованном списке приблизительно четырехсот имен, носители коих при нацистском режиме усердно и деятельно заседали в кровавых гитлеровских судах и тем не менее опять занимают государственные посты, определяют политический курс и говорят о праве в немецком суде. А в это время десятки тысяч их сподвижников получают огромные пенсии и радуются жизни, на которую, собственно говоря, вообще не имеют права. — Его взгляд затуманился. — А почему бы и нет, если убийцы сотен детей могут даже преподавать в школе? — И немного погодя: — Мне семьдесят четыре года, и я мог бы уже ни во что не вмешиваться. Но почему это выше моих сил? Почему меня до сих пор волнуют и глупость и жестокость? Тысячи врачей и медицинских сестер каждый день трудятся до полного изнеможения, чтобы спасать и поддерживать жизнь совершенно незнакомых им людей. Мы вот на наших конгрессах говорим об обязанности охранять и восстанавливать здоровье народа. И как редко кто-нибудь задается вопросом: а разве та действительно опасная бацилла, угрожающая здоровью народа и человечества, принадлежит к тем одноклеточным существам на границе оптической видимости, как этому учили нас, врачей, разве она не является сама живым существом, именующим себя, homo sapiens? И если кто-то об этом все-таки заговорит, имея в виду не только почитателей атомной бомбы, но и бескультурных радетелей западной культуры, тот гибрид homo fossilis и homo oeconomikus[46], который на Западе решает, быть или не быть войне, тогда… о, тогда ему с высокомерной улыбкой возразят что-нибудь вроде того, что мне довелось недавно слышать на одной медицинской конференции: «Добрый старый друг, мы знаем, что на Востоке люди обязаны так говорить. Но вы? Неужто вы стали коммунистом?» — «Да, — взволнованно отвечал я, — это верно, я обязан так говорить! Но и вы должны быть к этому обязаны!» — И что же в результате? Только удивленное покачивание головой и десятки неодобрительных взглядов. Куда они катятся, по-моему, сегодня может спрашивать только идиот.
Старый доктор продолжал:
— Вы, друг мой, в последний раз рассказывали мне о своем намерении в одной книге собрать несколько историй о людях, которые из политических и духовных джунглей, возникших при их же содействии, нашли все-таки путь к свободе и свету и стали полезными гражданами новой Германии. То есть о бывших нацистах. Что ж, прекрасно. Но не думаете ли вы, что многие из этих вновь выползших к свету обитателей джунглей по-прежнему верят, что во время катастрофы они стали не кучкой обломков, а лишь слегка поврежденными мраморными статуями богов и героев? Я не знаю, какого рода те человеческие обломки, о которых вы говорили. Должно быть, вам они представляются пригодными для нового строительства, иначе вы не стали бы их собирать. Но чтобы ни один читатель не пришел к ложному выводу, будто в той, достойной всяческих проклятий системе было все же и нечто хорошее, раз выясняется, что не все члены нацистской партии были такими, как их вожди, я посоветовал бы вам рассказать также историю моего шофера. Но только если вы согласны прокомментировать этот случай в свете, так сказать, сегодняшней действительности и без всяких литературных прикрас. Для этого вам надо будет воспользоваться вырезками из западногерманских и западноберлинских газет, которые я охотно вам предоставлю. Вот она — реалистическая современная литература.
— А какая перспектива для читателя? Надежда на победу человечности несмотря ни на что?
Он, словно признавая свое бессилие, пожал плечами.
— Надеяться — это обязанность социалистов, а не старого буржуазного индивидуалиста, вроде меня. Даже если vox populi[47] немножко охрип. — Он в своем несколько затруднительном положении решил прибегнуть к спасительной иронии.
— Милый мой старый гуманист, — . сказал я, — не надо этого тона. Голос народа охрип, но только потому, что хозяева государства и церкви веками старались старое выражение vox populi — vox dei[48] переиначить и истолковать так, чтобы то, что они объявили гласом божьим, можно было принять за глас народа. Впрочем, в тех письмах, что приходят в газеты, и вправду есть что-то от голоса народа.
Социалист радуется этому, но не возлагает на это больших надежд. Его надежды давно уже стали чем-то само собой разумеющимся: в эпоху социализма он просто будет писать: vox popuIi — vox humana. Голос народа — голос человека!
ПУДЕЛЬ САМСОН Истории и анекдоты о людях и зверях
Об удивительной дружбе, или краткое описание некоторых трудностей в обхождении великих людей с животными
Валленштейн, прежде чем предпринять какие-либо решительные действия, которые должны были всколыхнуть мир, спрашивал совета не только у звезд, но и у кошек. Он был в дружбе с этими животными и очень привязан к своей необычайно красивой кошке… Пристально наблюдая за ней, записывал все, что в ее поведении казалось ему примечательными соотносил это со своей судьбой. Однажды утром — Валленштейн не успел еще посовещаться со своими офицерами — кошка пять раз перебежала ему дорогу, а когда он, обеспокоенный таким ее поведением, вышел из дома, перебежала опять. Полководец тотчас выразил опасение, что его ожидает какая-то неприятность — будет проиграно предстоящее сражение, погибнет он сам или же все его дело пойдет прахом! Один из генералов посоветовал ему убить кошку. Другие офицеры предостерегали его от этого шага, утверждая, что кошки способны мстить за себя даже после смерти. Сам полководец не мог ни на что решиться, но потом изъявил согласие, чтобы кошку на ближайшие дни заперли. Сражение, к которому готовились, было проиграно, Валленштейну с его войском пришлось отступить, а кошка попала в плен к шведам.
Полководец больше сокрушался о потере кошки, нежели о проигранном сражении.
Вывести Валленштейна из состояния бездеятельности, грозившего только умножить потери, пытался один полковник, пообещав вернуть ему кошку. В шведском лагере тоже прослышали о причуде имперского полководца и радовались, что им досталась такая добыча; сведения об этом в свою очередь проникли в имперский лагерь.
Когда Валленштейн услыхал, что кошка жива и находится на попечении одного шведского графа, он заговорил о мире. Его генералы попросили, чтобы он денек повременил и дал им попробовать вызволить кошку не столь дорогой ценой. И они обменяли трех пленных шведских генералов на одну имперскую кошку!
— До сих пор меня одного считали сумасбродом, отныне всех нас будут считать сумасшедшими!
— Это не должно нас трогать, — возразил ему один из офицеров. — Зато нашему великому полководцу больше ничто не мешает продолжать войну и одержать в ней победу!
То, что великий английский физик Ньютон вывел закон тяготения благодаря яблоку, которое упало с дерева к его ногам и таким образом открыло ученому тайну взаимного притяжения тел, по-видимому, все-таки легенда. Вольтер якобы слышал историю про яблоко от племянницы Ньютона; из того же источника исходит еще более занимательная история про животных, имеющая отношение к теории гравитации.
Когда Ньютон однажды в дурном расположении духа прогуливался по своему саду, он заметил, что его кот сидит на яблоне. Окликнув зверька, ученый пожаловался ему, как бесплодны усилия его мысли. Кот встал и, мягко ступая, двинулся по суку. От сотрясения одно яблоко сорвалось с ветки и упало на газон… Ученый стоял неподвижно и следил глазами за падающим яблоком. Потом нагнулся, поднял яблоко и взглядом измерил его путь — от ветки до газона и от газона до ветки. Подставив руки, Ньютон подхватил спрыгнувшего кота и тут же прочел ему лекцию о законе взаимного притяжения, над которым давно уже ломал голову. Но коту было скучно.
— Ах ты дурень! — воскликнул наконец ученый, — знал бы ты, какой подарок благодаря тебе получили я и все человечество! Да что ты можешь смыслить в силе тяжести!
Он подбросил яблоко в воздух и следил за его падением. Кот вырвался у него из рук, цапнул яблоко и принялся им играть. Тогда Ньютон сказал без тени шутки:
— Милый мой зверек, прости мне мою заносчивость! Зачем тебе что-то смыслить в тяготении, ведь этот закон живет в тебе как естественное чувство, ибо ты ближе к природе, нежели человек, воздвигнувший разум между собой и ею!
Он подобрал яблоко, подхватил под мышку кота и понес в свою рабочую комнату.
Когда Ньютон писал свои «Principia»[49], коту пришлось сидеть с ним рядом и выслушать весь порядок его рассуждений. Ньютонова собака Диамант, которая обычно делила с котом место подле хозяина или на его письменном столе, была изгнана на кресло. И вот случилось так, что, когда рукопись была готова, собака, воспользовавшись отсутствием хозяина, изорвала ее в клочья, так что ни листа целого не осталось. Но в Ньютоне человек пересилил ученого: бить собаку он не стал, даже оставил попытку прочитать ей нотацию и сказал только:
— Можно предположить двоякое. Первое: ты поступил так потому, что этого требовала твоя честная натура, ведь я несправедливо тобой пренебрег и оказал предпочтение твоему приятелю. Второе: ты оказался орудием высших сил, как до тебя им оказался кот, — то есть работа моя была несовершенна. Я напишу новую!
И он написал новую работу, по его собственному утверждению — лучше первой.
Вильгельм барон фон Лейбниц, прежде чем стать в 1700 году президентом основанной им в Берлине Академии наук, был советником и библиотекарем герцога Ганноверского. Ганноверский двор постоянно испытывал нужду в деньгах, поэтому герцог, к удивлению и ужасу своих придворных, в один прекрасный день издал нешуточный указ о том, чтобы впредь из мяса, предназначенного для стола, костей не вырезать и не отдавать на корм собакам: отныне кости надлежит варить вместе с мясом, так как герцогу стал известен надежный способ полного их разваривания.
Весь Ганновер был в испуге, не только собаки, — ведь подобное крохоборство плохо вязалось с претензиями на блеск и пышность герцога, метившего в курфюрсты. Начали с костей, но кто его знает, не последует ли за первым указом второй, предписывающий употреблять в пищу также кожу и шкуры. Прежде чем указ о костях успел вступить в силу, в герцогскую канцелярию было подано прошение на латинском языке, адресованное «Его высочеству главному уполномоченному французского поварского искусства при ганноверском дворе». Оно гласило:
«Мы, нижеподписавшиеся доги, гончие, легавые, ищейки, дворняжки, болонки и прочие крупные и мелкие собаки, покорнейше просим Вашу милость соблаговолить выслушать и принять во. внимание причины, побудившие нас к столь серьезной жалобе.
Хотя различие между собаками так велико, что они могут даже казаться животными разных пород, ныне мы все объединились, чтобы сообща защитить одну из замечательнейших привилегий, которой когда-либо обладало наше собачье племя и которой теперь грозит нас лишить начинание, чреватое опасными последствиями. Ибо от наших осведомителей мы узнали, что небезызвестное Лицо утверждает, будто умеет разваривать кости и делать их пригодными для людской пищи, не портя при этом мяса; что означенное Лицо намеревается даже отправить свои кухонные горшки и прочую утварь к ганноверскому двору, дабы осуществить этот прожект. Мы сочли необходимым незамедлительно сему воспротивиться. Пусть не воображают, будто можно поставить под сомнение право на очищенные от мяса кости, которое принадлежит нам с незапамятных времен и на которое еще не осмелился посягнуть ни один человек или зверь. Гомер и древнейшие писатели ясно высказались на эту тему, и если в Писании сказано, что „не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам“, то про кости ничего подобного не говорится, ибо всем известно, что они принадлежат нам со времен потопа, то есть с тех самых пор, как люди стали употреблять в. пищу мясо животных. И если костный мозг мы уступили людям ради доброго мира с ними, то сделали это, надеясь тем вернее сохранить свое право на кости, каковое этим соглашением было только упрочено.
Боже правый, как же далеко заходит жадность человеческая, ежели люди не довольствуются тем, что нередко проедают все свое достояние, но и не стыдятся отнимать у нас нашу долю. Не говоря уже о том, что сей новый корм может для людей оказаться вредным и заставит их окончательно особачиться, ведь в наши дни они и без того склонны к бесстыдству, — мы предоставляем Вашей Милости, зрело поразмыслив, рассудить, безопасно ли и выгодно ли для людей порвать таким образом с собаками. Вам, столь основательно изучившему историю, известно, что некий король, изгнанный из своей страны, вернулся в нее с эскортом из своих двухсот собак, одолевших мятежников, что многие собаки спасли жизнь своим хозяевам, а иные отомстили за их смерть.
Наконец, и по сей день существуют города, охраняемые собаками, которые отныне, как многие другие, будут нами оставлены, ежели у нас отнимут лучшую часть нашего вознаграждения. Охотничьи собаки перестанут искать и преследовать зверя, сторожевые псы и овчарки — охранять дома от воров, овец — от волков, а мы, маленькие болонки, не станем впредь защищать наших хозяек от домогательств поклонников и не станем лаять, что бы те себе ни позволили. В конце концов на кухнях воцарится ужаснейший беспорядок, и вы, господа повара, не раз хватитесь бараньей, грудинки, ибо, отказав нам в костях, сами лишитесь не только костей, но и мяса. Посему вам-то и надлежит измыслить, как этому воспрепятствовать, — вам и господам форшнейдерам[50], чье искусство в будущем окажется вовсе излишним, коль скоро мясо, невзирая на кости, можно будет резать, как масло.
Вот почему мы умоляем Вашу милость представить дело столь великой важности на рассмотрение Генерального собрания, а этого изобретателя со всем его снаряжением послать подальше и запретить ему доступ к какой бы то ни было кухне. Что же касается Вас, милостивый государь, то Вы проявите исключительную доброту, помешав ему проникнуть на кухню Ганноверского дворца.
За охотничих собак — Лолапс
За дворовых псов — Мопс
За болонок — Амарилья».
Адвокатом собак-просительниц был не кто иной, как философ Лейбниц. Смех, который повсеместно вызвало это прошение, вскоре распространившееся по стране, привел к отмене «указа», и ганноверские собаки получили кости обратно.
Любовь к животным, в особенности к собакам, толкнула Лейбница на другой необычный поступок, который, правда, не увенчался успехом: он утверждал, будто открыл говорящую собаку! О своем открытии он сообщил Академии наук в Берлине, а также Академии в Париже. Собака эта принадлежит крестьянскому мальчику и может весьма отчетливо произносить различные слова, как-то «чай», «кофе», «суп», к тому же у него самого, у Лейбница, был пудель, весьма отчетливо произносивший слово «фрау». Это письмо философа было опубликовано в мае 1715 года во французском «Журналь де Треву». Там говорится: «Собаку, умеющую говорить, я видел и слышал в декабре месяце прошлого года в Цейце. Его светлость герцог Саксен-Цейцский лишь ради этого приказал доставить к нему собаку, жившую за много миль от Цейца. В наружности ее нет ничего необычного, наоборот, наблюдается полное сходство с другими деревенскими собаками. Она выговаривает много немецких слов, а поскольку „чай“, „кофе“, „шоколад“ и „ассамблея“ — слова, очень употребительные в Германии, то ее научили выговаривать именно эти слова. Хозяин собаки — молодой парень, довольно-таки забавного вида. Когда прежде ему случилось несколько раз играть со своей собакой, он возомнил, будто услышал звук, очень похожий на некое немецкое слово, после чего парень этот, как ни был он молод, крепко вбил себе в голову, что научит собаку говорить, и в этом преуспел. Быть может, кто-нибудь подобным же образом откроет философский камень, когда люди и думать-то о нем забудут. Ludus infantinium[51]. Так что впредь не будем отчаиваться».
Поскольку Лейбниц сам слышал «говорящую» собаку, остается только предположить, что гортань и губы у нее были устроены иначе, чем у других собак, и она могла, в подражание человеку, произносить некоторые звуки, похожие на слова. Однако с речью, как выражением чувств или представлений, это ничего общего не имеет. В этом смысле собака, видимо, так и останется немой.
Хотя Гете смолоду был страстным любителем верховой езды, он не питал личной привязанности к своим лошадям, да и к другим животным тоже. Всю жизнь мерой всех вещей для него был и оставался человек. Интересно в этой связи, что когда заходила речь о лошадях, Гете ни одну из них по имени не называл, только «лошадь» или «моя лошадь», даже в студенческие годы, когда животные так легко становятся для нас товарищами, личностями. В годы учения в Лейпцигском университете Гете часто ездил верхом. В письме к Беришу из Лейпцига от 2 ноября 1767 года говорится: «…короче, меня сбросила лошадь, или, вернее, я сам сбросился с лошади, которая понесла меня, наездника весьма неловкого, сбросился, чтобы она не потащила меня по земле и не сбросила в другой раз».
До пятидесятилетнего возраста Гете ездил верхом, потом обзавелся экипажем и сам наведывался на конскую ярмарку в Бутштедте, чтобы купить лошадей, однако о личной привязанности к ним нигде речи нет. Они в самом деле трогали его сердце только своим внешним видом.
В хронике за 1801 год говорится: «Лошадь как животное стоит очень высоко, однако ее значительную и далеко идущую смышленость ограничивают приневоленные конечности. Существо, которое при таких значительных, даже замечательных свойствах способно проявлять себя только в шаге, беге, скачке, — странный предмет для наблюдения; невольно приходишь к мысли, что она создана лишь в дополнение к человеку, дабы, присоединенная к нему для высших замыслов и целей, довела до предела возможного самое силу и грацию».
В «Вильгельме Мейстере» он рассуждает все же о лошади как о благородном животном, а в другом месте говорит, что искусство верховой езды заслуживает внимания, поскольку имеет целью выучку, сохранение и целесообразное использование ценного, неповторимого и в таком совершенстве все реже встречающегося животного, живописцу же он рекомендует изучать лошадей:
«Они составляют вторую армию в делах войны и мира. Манеж, бега и парады дают художнику достаточную возможность узнать силу, мощь, изящество и быстроту этого животного».
Лошадь могла быть довольна тем мнением, которое имел о ней Гете сравнительно с собакой. К собакам поэт, хоть он и не оспаривал их ума, относился с нескрываемым отвращением и не уставал выказывать его снова и снова.
Когда зародилась его неприязнь к собакам, неизвестно, всерьез, однако, она проявилась, по-видимому, на рубеже веков, когда Гете перевалило за пятьдесят. Потому что в связи с кампанией 1792 года во Франции, которую Гете как наблюдатель проделал вместе с немецкой армией, он сообщал о завязавшейся у него по пути дружбе с камерьером Вагнером и его пуделем:
«Камерьер Вагнер и его черный пудель первыми приветствовали нас, оба признали во мне своего многолетнего спутника, которому предстояло снова пережить с ними трудные времена».
Битвы оказались не столь захватывающими, так что Гете, несмотря на внимание, которое он посвящал готовящимся мировым событиям, находил время упомянуть о пуделе, пока еще вполне почтительно: «Камерьер Вагнер своевременно присоединился к нам вкупе с пуделем и со всем обозом».
Когда ему пришлось ближе соприкоснуться с пуделем, проявилось уже отвращение к собакам, хотя пока еще сдержанное:
«Для ухода к ним был приставлен камерьер Вагнер, а я, по заботливому совету государя моего, герцога, не мешкая занял четвертое место. Нас отправили в путь, снабдив рекомендательным письмом к коменданту, а поскольку пуделя нельзя было оставить, то дормез, обычно такой удобный, превратился в полулазарет и немножко в зверинец».
В прежние годы Гете случалось и неплохо отзываться о собаках. В рассказе «Честные женщины» говорится: «Вы, должно быть, помните, что рассказывает некий путешественник о городе Гретце: там он встретил великое множество собак и великое множество немых, полубезумных людей. Разве нельзя предположить, что привычка созерцать неразумных лающих животных могла определенным образом повлиять на людское племя?»
В другом эпизоде собака все время будит в молодой девушке воспоминание о далеком возлюбленном, подарившем ей эту собаку. Когда собака испускает дух, воспоминание о далеком друге блекнет и другой поклонник как будто намеревается занять его место не без видов на успех. Покамест один умный человек, подарив девице новую собаку, не вызывает из тьмы полузабытого ею возлюбленного и любовь к новой собаке не пробуждает в девушке любовь к старому другу.
Если здесь собака выполняет благородную миссию, то в другой истории она разрушает счастье любящих: собака вызывает у девушки такую пылкую любовь, что любовь ее милого кажется ей теперь вялой, бесцветной, эгоистичной, и в конце концов ее чувство к нему гаснет. История эта может показаться восхвалением собаки, по может представлять собой и обратное. Возможно, собака здесь только компонент рассказа, тема для притчи и с отношением Гете к животным ничего общего не имеет.
Точно так же, как в стихотворении из «Западно-восточного дивана» про четырех зверей, впущенных в рай: про осла, на котором ехал Иисус Христос, про Магометова волка, про песика, спавшего столетним сном при семерых спящих, и про кошку пророка Абугерриры. Они тоже лишь узелки в прекрасной ткани, очаровательной композиции. Хотя здесь и присутствует собака, честь воздается лишь ей одной, всем остальным собакам на свете поэт навряд. ли посулил бы или пожелал такую судьбу.
Уже в хронике пребывания Гете в Геттингене рассказывается:
«Другим поводом к отчаянию были звуки совершенно противоположного рода: возле углового дома собралась стая собак, слушать их непрерывный лай было невыносимо. Я искал, чем бы их пугнуть, и хватал что под руку попадет, — так в незваных возмутителей спокойствия не раз летели аммониты, которые мой сын с трудом притащил с Хайнберга, и летели чаще всего впустую. Когда мы уже думали, что прогнали всех этих псов, лай начался снова, покамест мы в конце концов не обнаружили, что наверху, над нами, стоит на подоконнике огромный пес наших хозяев и призывает своих собратьев ответить по достоинству».
«Многие звуки меня раздражают, но всех ненавистней лай оголтелый собак: гавканье уши мне рвет».
Но особенно зло высказывается поэт в известной венецианской эпиграмме, а именно в 73-й, которая лишь потому кажется более миролюбивой, что вместе с собакой осуждению и проклятью предается и человек, мера всех вещей:
«Не удивляюсь ничуть любви человека к собакам:
Твари ничтожнее нет, чем человек или пес»[52].
В глазах Гете собаки приобрели, видимо, какое-то мефистофельское подобие, так что этот мудрый человек их даже побаивался и старался побороть это чувство с помощью юмора. Иначе никак не объяснишь сцену, которую описывает Фальк в своей книге о встречах с Гете: «Тем временем на улице несколько раз слышался собачий лай. Гете, который совершенно не терпел собак, живо подбежал к окну и крикнул: „Кривляйся, сколько хочешь, гусеница! меня тебе не запугать!“ Слова, в высшей степени странные для того, кому неизвестны мысли Гетe в их взаимосвязи, для того же, кто с ними знаком, — просто божественное озарение, к тому же вполне уместное. „Это низкое земное отродье, — заговорил он опять после некоторой паузы, тоном уже более спокойным, — имеет обыкновение строить из себя невесть что. Поистине ничтожные монады, с коими мы столкнулись на этой захудалой планете, и подобное общество принесет нам мало чести, если о нем прослышат на других планетах“.
Если бы огорчение, о котором пойдет речь ниже, причинили Гете люди, поэт, возможно, превратил бы эту историю в пьесу, на худой конец — в комедию. Но то были собаки, поэтому Гете смолчал и бежал в Иену, меж тем как веймарцы смеялись, и больше всех его друг, великий герцог. Произошло событие действительно сверхкомическое: собаки свергли всесильного олимпийца, по крайней мере с трона директора Веймарского герцогского театра.
Человеческий — слишком человеческий характер этой истории, правда, придал не только Гете. Сначала этому способствовал сам великий герцог, большой любитель красивых собак, часто раздражавший этой склонностью своего друга Гете. Затем актриса, мамзель Каролина Ягеман, любительница маленьких хорошеньких собачек, которая уже одним этим должна была злить Гете — директора театра, не разозли она его своей наглостью, каковую могла себе позволить, поскольку обожателем ее был опять-таки великий герцог. А кроме них — веймарские филистеры, городские и придворные, злившиеся на всех троих — на тайного советника, герцога и актрису.
Мамзель Ягеман прослышала о знаменитой французской пьесе под названием „Собака мосье Обри де Мон-Дидье, или Лес Бонди“, в которой главную роль играли собака и молодая вдова. Пьеса эта, по слухам, имела огромный успех во всех театрах Европы. В Вене двор забавлялся этой пьесой, а владельцем выступавшей в ней собаки был актер Карстен, товарищ и бывший возлюбленный Ягеман. Она ему написала, и он изъявил готовность приехать со своим пуделем на гастроли в Веймар. Она убедила и помешанного на собаках великого герцога Карла Августа разрешить постановку этого спектакля в Веймаре.
Только директора театра Гете оба они уговорить не смогли, и разгорелся конфликт. Его решил каприз герцога.
Пусть даже эта пьеса была страшнейшей ерундой, осквернением священного храма — веймарского театра с его высоким искусством, герцог все равно желал видеть чудо-собаку, которая в пятиактной пьесе мстит убийце своего хозяина. Глубоко уязвленный Гете 21 марта 1817 года подал в отставку с поста директора театра и надолго покинул Веймар — уехал в Иену, чтобы не видеть и не слышать всего этого позора. Возможно, он надеялся, что его друг герцог не примет его прошения об отставке и все-таки откажется от собачьей пьесы. Но этого не произошло: 13 апреля 1817 года поэт просто получил от герцога сердечное письмо: „Дорогой друг, я с охотой иду навстречу Твоим желаниям, благодарю за все доброе, что Ты совершил, занимаясь этими столь запутанными и утомительными делами, и прошу не терять интереса к художественной стороне оных…“
В течение всего пути до Иены и в первые дни пребывания там Гете был совершенно невыносим для окружающих.
А в Веймаре господин Карстен из Вены, его пудель Драгон и мамзель Ягеман разыгрывали перед зрителями жуткую историю про собаку мосье Обри де Мон-Дидье. Играли они так хорошо, что веймарские филистеры забыли, как презрительно фыркали на герцогскую мамзель, и с удовольствием предпочли у себя в городе такого замечательного артиста, как пудель Драгон, уехавшему поэту Гете. Каждому была известна неприязнь тайного советника к собакам, и каждый подчеркивал, что именно сейчас она ему совершенно непонятна. Однако и в Веймаре нельзя было бесконечно играть историю про собаку мосье Обри, так что господин Карстен из Вены и его пудель Драгон отбыли из города, дабы стяжать себе новую славу на других сценах Германии. А в дважды осиротевшем театре теперь безраздельно господствовала мамзель Ягеман, герцог же во всем ей потакал. Неприязнь к актрисе придворных и горожан, ожившая с новой силой, подстрекала ее ко все новым причудам, тем паче что теперь ей то и дело приходилось слышать, как веймарцы сожалеют о смещении господина Гете, ведь это поистине позор для Веймара, что из-за какой-то собаки и какой-то паршивой пьесы из города изгнан величайший поэт мира. А Гете в соседней Иене давно уже успокоился.
Но тут сами же собаки загладили свою вину перед ним — случай прямо-таки трагикомический. Одна из породистых охотничьих собак герцога загрызла Жюли — болонку Ягеман; возмущенная актриса потребовала от своего сиятельного возлюбленного казни „убийцы“ ее собачки. Герцог будто бы от души смеялся над этим наглым требованием. Равно как и общество — придворное и городское. За это мамзель лишила повелителя своей милости, что заставило его искать утешения в другом месте, а Каролину Ягеман — покинуть Веймар и отправиться на гастроли в другие города.
Гете возвратился в Веймар с твердой решимостью никогда больше не переступать порог театра в качестве директора — только в качестве поэта. Он понял, что растратил годы на бесполезное для него дело, и великодушно простил всех — актрис и собак.
Гете, так много взявший от своей матери — не только веселый нрав и склонность к сочинительству, — возможно, и в своем отношении к животным был тоже лишь сыном госпожи советницы. Об этой женщине — жизнерадостной, веселой, добродушной и щедрой — известно, что она все же неизменно оставалась госпожой советницей и к делам обыденным, житейским, если они не касались патрицианской фамилии Текстор, относилась без всякого понимания. Она способна была радоваться любым живым существам, но непосредственного физического контакта с ними избегала, так же- как ее сын, и все же искренне считала себя другом животных.
Характерен и не лишен пикантного оттенка разговор, якобы записанный Беттиной фон Арним. Разговор этот состоялся вскоре после расквартирования во Франкфурте французских солдат. Госпожа советница получила на постой молодого офицера, который, видимо, питал к достойной даме сыновнее почтение, за что она едва не подарила свое старое сердце этому „мальчишке-французу“. Лейтенант, как видно, был человеком своеобычным, он принес с собой в дом советницы птицу — сороку, а покидая город, оставил пичугу ей в подарок. Советница не знала, что с ней делать. Беттина повествует:
Советница. Знаешь ли новость? Мой постоялец-француз вчера со мной простился! Не успела я опомниться, как мальчишка бросается мне на шею, целует и говорит: „Vous êtes ma mère!“[53], и плачет, и я тоже не могу удержаться от слез. Видела бы ты эти объятья — уйдет и тотчас обратно, взбежит по лестнице и опять, опять жмет мне руку. И конца бы этому не было, не загреми вдруг барабан. А сегодня утром — прыг-скок! — впархивает сюда этот сокол с букетом незабудок на спине, — теперь эта птица мне всюду нагадит!
Беттина. Ах, госпожа советница, никакой это не сокол.
Советница. Ну, стало быть, орел!
Беттина. И не орел тоже!
Советница. Ну пусть его будет коршун!
Беттина. И вовсе не коршун!
Советница. Значит, кукушка, не воробей же он, в самом деде!
Беттина. Да это сорока.
Советница. Вот и забирай отсюда эту сороку, уноси подальше и не морочь мне голову своими естественнонаучными познаниями, — твоя сорока еще, чего доброго, загадит мне тут весь пол.
Беттина. Но почему же эта сорока теперь моя?
Советница. Да, она твоя! И незабудки тоже возьми себе, на что старой женщине незабудки. Д теперь избавь меня от сороки. Куда мне девать эту птицу?
Беттина. Выпустите ее обратно в лес!
Советница. Вот еще! Теперь, когда она уже такая ученая, все по глазам понимает, что хочешь ей сказать, — взять и выгнать ее обратно в лес?
Беттина. Ну и что? Она сможет обучить других сорок и послать своих апостолов в пустыню, к людям.
Советница. Ах этот французик! Какой у него был чистый, пламенный взор, когда он прощался, — у меня из ума нейдет! Вон там, у окна, стоял он под вечер, когда садилось солнце, смотрел на закат, а когда обернулся, глаза полны были слез. Я говорю: „Поди сюда, мальчик!“, протягиваю ему руку и спрашиваю: „Ты, верно, думаешь сейчас о своей Франции, о своей отчизне?“ „Oui, patrie! — говорит он, — adieu pour jamais!“[54]— говорит он и целует вон ту птицу, которую привез с собой из Франции. Нет, думаю, у этого юноши не солдатская кровь в жилах! Но как только запели вчера: „Marchons, enfants de la patrie!“[55] — ты бы на него поглядела! Вытянулся в струнку, топнул ногой, в глазах огонь, губы дерзко выпячены, как у бога войны. Надел он шлем, а когда сорока вздумала порхнуть ему на голову, сказал: „Non! Non!“[56] — и отогнал ее. Ну, и вот он отбыл! Бедняга Летье, славный паренек! Ты посмотри только на эту птицу, как она прислушивается! Гляди, она выходит из угла, впору подумать, будто она его имя знает! Возьми ее и посади на стол. Эй! Черт побери! Эта бесовка уселась мне на голову! Марш с моего нового чепчика, это тебе не хвост французского фрака!»
Вольфганг Амадей Моцарт, чья душа с детства реяла среди мелодий и гармоний, по-товарищески относился к животным, особенно к своему шпицу. Шпиц принимал участие в творчестве хозяина, в его заботах и треволнениях. Узнав о том, что его невеста Констанция позволила обмерить себе икры — это было в те времена чем-то вроде светской игры, — Моцарт пришел в ревнивую ярость и написал ей:
«Полагаю сие совершенно неподобающим, такие вещи делают сами. Хотелось бы мне, чтобы мой верный шпиц вцепился бы вам в икры, а тому бесстыжему обмеряльщику — в пальцы. У такой собаки больше понятия о том, что прилично!»
Путешествуя, Моцарт всегда справлялся в письмах, как поживают его шпиц Бимперль и его канарейка, и посылал им нежные приветы.
Но случалось ему и отказывать любимому шпицу в надлежащем чутье и понимании. Констанция, давно уже ставшая его женой, написала однажды, что шпиц, по-видимому, одобряет не все сочинения своего хозяина, кое-что он совершенно недвусмысленно критикует. Тогда из Вены пришло недвусмысленное письмо:
«Если шпиц будет еще раз так же громко выть при исполнении тобою на спинете моих композиций, дай ему от моего имени несколько хороших затрещин. Но, бога ради, не подвергай его никаким лишениям!»
Для Жан-Поля животные были необходимыми компаньонами. Он любил их, не противопоставлял людям, однако людям он тоже скидок не делал и никакого предпочтения не отдавал.
Жан-Поль требовал от человека признания равноценности всех созданий, а поскольку добиться этого не мог, то сделал для себя практический вывод: тех, кто приглашал его к себе, он ставил перед выбором — либо пригласить вместе с ним и его животных, либо не ждать его самого. Это не было причудой, желанием позлить людей, это было чувством долга перед презираемыми меньшими братьями. Мораль его была проста: «Имея дело с животными, я могу рассчитывать, что они тем лучше будут относиться ко мне, чем лучше я буду относиться к ним, с людьми же это не так, а часто даже совсем наоборот!» Он настаивал: «Зверей, птиц и собак нельзя приманивать к себе ласковыми уговорами, чтобы потом поймать, — людям не дозволено обманывать доверие- животных». У писателя еще в молодые годы была собака, и, когда ему пришлось покинуть Гоф и уехать, в письмах к матери он первым делом спрашивал: «Что поделывает моя собака?» В годы странствий от нигде не упоминает о собаках, однако, обосновавшись в Мейнингене, повествует в неторопливом обстоятельном письме: «В половине седьмого мы поднимаемся с постели, жена часто встает раньше меня, чтобы снять сливки — кофе уже стоит у меня в комнате. Но сначала, прежде чем войти к себе в кабинет, я говорю что-нибудь умное шпицу, а он отвечает мне тем же. Затем жена одевается у себя в комнате, я пишу. Так проходит почти все зимнее утро. В час дня жена зовет меня и собаку к себе в комнату обедать».
Какие удивительные обстоятельства сложились вокруг этого шпица, показывает прошение к герцогу Георгу Мейнингенскому от девятнадцатого сентября 1802 года:
P.P.[57]
«По вине некоторых скверных людей, беззаконно охотящихся и выслеживающих дичь в угодьях нашего округа, дело, к несчастью, дошло до того, что всех нас подвергли аресту в городских стенах. Поскольку разума у нас маловато, — лучшее его проявление состоит в том, что мы пьем, но не напиваемся пьяны, — то сочинить я ничего не могу. Посему мой замечательный хозяин и кормилец взял на себя труд составить за меня, скорее нижеподписуемого, чем нижеподписавшегося, челобитную о том, чтобы мне разрешено было последовать за хозяином, ежели он отправится в Велькерсхаузен или Гримменталь.
Могу представить свидетельство моего патрона, что я так же мало смыслю в охоте, как и он сам, и бегаю разве что за его тростью. Единственный род охоты и отыскивания дичи, какой я время от времени себе позволяю, коль скоро меня поощряет к тому „Райхс-Анцайгер“, это ловля полевых мышей. Поелику же я лишусь прокорма у моего хозяина, ежели он не сможет брать меня с собой за городские ворота, куда нас с ним призывают дела; и поелику я единственный составляю весь его скот, весь его курятник, весь фазанник, а также его геральдического зверя; и поелику Вы, конечно, любите его вполовину так же, как он вас, и часто, быв у него в гостях, благоволили гладить меня, бедную собаку, и подзывать к себе словами: „Поди сюда, шпиц“, то я, полагаясь на свою счастливую собачью звезду, уповаю на то, что мне будет дозволено, прежде чем меня изрежут на башмаки и обуют в них чьи-то чужие ноги, выйти за городские ворота на моих собственных.
Шпиц,
сиречь собака господина Жан-Поля».
Это письмо Жан-Поль удосужился написать за день до того, как его жена разрешилась от бремени их первым ребенком. В другом письме, написанном им в день родов, он не преминул упомянуть:
«Поистине человечно вникает он (герцог) в Человеческое. Вчера я послал ему прошение, составленное от имени моего шпица. (Из-за облавы в лесу всем городским собакам запрещено покидать город, от какового запрещения свою собаку я освободил.) Можешь почитать это прошение». День спустя он пишет другому приятелю:
«Все идет по правилам; мы слушаемся купленных нами книг во всем (то есть книг по уходу за роженицей), дитя — агнец, мать — дева, и все устроено так просто, что пятого шара (ибо шпиц принадлежит к Cinq-quaram-bole этого дома)[58] совсем не замечаешь и по утрам я могу работать».
Первые четыре шара — это Жан-Поль, его жена, служанка и собака, а пятый ребенок! 3 ноября 1803 года Жан-Поль шлет одному байрейтскому другу копию прошения и одновременно сообщает:
«К несчастью, мой покойный шпиц совсем недолго пользовался своей privileg portae[59]. Месяц тому назад его укусила бешеная собака. Я заранее заметил близящееся бешенство и распорядился, пока он еще в уме, пристрелить его у меня на глазах. Только что мне доставили его преемника, размером с волка».
15 ноября 1802 года Жан-Поль напоминает герцогу о своих прежних просьбах, ссылается опять и на прошение о пропуске для шпица. На сей раз он нижайше просит отпустить его с миром, «ежели я, подобно вечно бродячей крысе, весною подамся в Кобург с женой, ребенком и собакой».
В начале января он отправляется в путешествие. Жене он оставляет «Утреннее и вечернее благословение из семнадцати пунктов». Пункт первый: «Лотта должна каждое утро выводить собаку и ставить ей воду для питья». Только в пункте десятом говорится: «Ежедневно выноси ребенка на воздух!» Пункт пятнадцатый: «Не сиди все время дома и бери с собой шпица». В апреле 1803 года он приглашает своего друга Тьерио поскорее посетить его в Кобурге:
«Шпица вы здесь найдете тоже, правда, от него нельзя ожидать, что он, как прежний, тотчас ухватит зубами вашу руку, чтобы сожрать от любви. Эта собака — вот собака! — к сожалению, сущий ягненок, и мне приходится ее науськивать».
С 1804 года потянулись годы жизни в Байрейте. Вскоре Жан-Поль снял комнату в маленькой гостинице на тенистой каштановой аллее, ведущей к Эрмитажу, у добрейшей фрау Рольвенцель. Туда он будет теперь десятки лет подряд, в теплое время года (нередко вплоть до зимних холодов) ходить работать — каждое утро, с ранцем из барсучьего меха за спиной, с толстой узловатой палкой в руке и в сопровождении шпица.
После смерти шпица Жан-Поль взял пуделя, который должен был сопровождать его во всех путешествиях. Так, Генрих Фосс сообщает из Гейдельберга (1817): «Утром, в половине восьмого, Жан-Поль с собакой, письменными принадлежностями и бутылкой вина поднимается на Заттлер-Мюллерей и там наверху, у садового домика, садится работать».
С благодарностью рассказывает писатель о необычайно любезной хозяйке гостиницы в Мюнхене, не забывая отметить: «Когда я вышел, она втихомолку подсунула к нам в комнату скромную подстилку для Понто».
Но Жан-Поль и требовал кое-чего для своего пуделя. Однажды он гостил в замке Танненфельд возле Лобишау, и его пудель тоже. Он попросил, чтобы собаке было разрешено входить в гостиную вместе с ним. Однако ему разрешили брать с собой вечерами в гостиную неразлучного спутника только в том случае, если пудель подружится с комнатной собачкой герцогини Саган породы кинг-чарльз. Этот пудель Понто вообще вел себя вполне по-человечески. Он был очень послушный, без приглашения выделывал всевозможные фокусы, а людям, разумеется, смотрел прямо в глаза. По улице он ходил, держась точно возле левой ноги хозяина: когда они подходили к городским воротам, раздавалась команда: «Понто, вперед!», и пес летел стрелой, но далеко не убегал, а все время описывал круги, вокруг хозяина, пока тот не окликал его: «Понто!», и тогда оба чинно шествовали обратно к городу.
Жан-Поль испытывал потребность в постоянном общении с животными, они были для него посланцами природы, и если он не брал с собой пуделя, то прихватывал какое-нибудь другое животное, — выбор зависел от настроения. Очень часто он появлялся в Байрейте в компании с белочкой, которая бегала и прыгала по нему. С этой белочкой он даже пришел на крестины в дом своих друзей. И пока он простирал одну руку над младенцем, другой ему приходилось все время удерживать белку в глубоком кармане сюртука, чтобы она не мешала церемонии, — зверек то и дело высовывал мордочку наружу, норовя взобраться писателю на плечо, что и было ему дозволено, когда по окончании обряда все уселись за стол.
Рабочая комната Жан-Поля кишела животными. У него было много птиц; когда он выходил, то закрывал окно и открывал дверцы всех клеток: птички должны были получить какое-то возмещение за то, что он оставлял их одних, — он боялся, как бы они не заскучали! Он держал только таких птиц, которые сами хотели у него остаться; чтобы это проверить, он время от времени открывал-окна и давал птицам возможность улететь. Зато как он радовался, если они возвращались! Не выпускал он только канарейку, справедливо опасаясь, что комнатная птица не сможет на воле ни прокормиться, ни защитить себя.
Писатель держал у себя также мышей и лягушек, а в картонной коробке, накрытой стеклом, у него жил даже паук, с которым он разговаривал и который привык к нему. А в сумерках писатель рассказывал детям сказки. Он лежал на длинном канапе, дети — все трое — устраивались между спинкой диванчика и отцовскими ногами, а над Жан-Полем, на самой спинке, спала собака.
Фридрих Шиллер у себя в Веймаре собак не держал, хотя очень любил животных и в письмах к своей невесте, Шарлотте фон Ленгефельд, очень часто упоминал ее собаку, передавал ей приветы, а когда она заболела, даже обещал за нее помолиться. Собака сдохла, и другой Лотта, по-видимому, не взяла. Возможно, тут сыграли роль ее домашние обстоятельства и стесненность в средствах.
Как Фридрих Шиллер относился к животным, явствует из письма, которое его старшая дочь Каролина послала своей падчерице Адельгейде Юнот. В этом письме говорится:
«Когда ты рассказываешь в твоем последнем письме о твоем милом пуделе Мавре, то мне снова вспомнились истории, которые мой дорогой отец рассказывал про умного пинчера в его родительском доме. Это был любимец семьи, образец смышлености и ловкости; особенно он был привязан к моей бабушке, правда, и капризов у него было тоже предостаточно.
Когда, например, бабушка, Шиллер стелила себе постель, собираясь спать, пес был тут как тут, чтобы, опередив хозяйку, захватить лучшее место в середине ложа. Лениво и неохотно, даже принимаясь ворчать, он в конце концов, под натиском бабушки, чуть подвигался к краю. Просто он был очень избалован, а чтобы это дорогое дитя ни в чем не нуждалось, в спальне, рядом с кувшином воды, ставилась глиняная миска со свежей водой, и на ночь тоже. Когда наступало время отхода ко сну, пускались в ход всевозможные военные хитрости, чтобы отвлечь пса от кровати и занять ее раньше его. Иногда побеждала бабушка, иногда — собака.
Однажды вечером первая счастливо одержала победу, что было ей очень приятно, поскольку под вечер она совершила долгую и утомительную прогулку с собакой. Пес, которого перехитрили, вынужден был удовольствоваться местом на краю кровати. Только бабушка собралась погасить свет, как друг Ами, хотя он и сам был очень усталый, поднялся на ноги и, безжалостно пройдясь по хозяйке, соскочил на пол. Бедняга, которого жажда согнала с мягкого ложа, побрел к своей миске. Так, по крайней мере, казалось! Однако пить из миски он не стал, только лизнул пересохшим языком ее край и, свесив язык, жалостно повизгивая, подошел опять к кровати. Бабушка, с удивлением за ним наблюдавшая, поняла, что в миске нет воды. Она, правда, удивилась, что мой отец (Фридрих Шиллер), тогда еще одиннадцатилетний мальчик, позабыл налить воду, и про себя слегка его выбранила, — ведь ей теперь не оставалось ничего другого, как встать и восполнить упущенное. Но как же она удивилась, найдя миску полной до краев! Удивление ее еще возросло, когда в тот же миг собака лихо вспрыгнула на освободившуюся кровать, чтобы захватить и уже не уступать местечко посередине.
Возле дома дедушки с бабушкой жил старый тамбурмажор, вместе с которым мой дедушка, служивший фельдшером, сражался в войне за австрийское наследство. У соседа был маленький пинчер — сучка, сидевшая на привязи в задней половине дома. Однажды собачка сорвалась, с обрывком веревки выпрыгнула в окно и была такова. Поскольку к вечеру собака не вернулась, музыканту оставалось только думать, что милое животное кто-то поймал и убил. И тут бабушка обратила внимание, что ее Ами уже несколько дней ничего не ест, а всю еду, которую он получает, уносит в лес. Более того, собака бегала по соседям и попрошайничала. Одна соседка как-то сказала ей: „Знаешь, Ами, сегодня у меня есть для тебя только вот этот черствый хлеб“. Она протянула хлеб собаке, та жадно схватила кусок и помчалась в лес.
Такое странное поведение пинчера обратило на себя всеобщее внимание, и было решено в следующий раз за ним проследить. На другой день, когда он опять побежал в лес с едой, бабушка, мой отец и дети тамбурмажора последовали за ним на довольно большое расстояние. Войдя в лес, они обнаружили маленькую беглянку, которая так запуталась в кустах со своей веревкой, что не могла оттуда выбраться. И вот Ами четыре дня ее кормил, жертвуя собственной порцией, — ведь когда животных нашли, собачка музыканта была разжиревшей и толстой, а бедняга Ами до того отощал, что у него можно было все ребра пересчитать.
Мой отец (Фридрих Шиллер) имел обыкновение рассказывать эту историю всякий раз, когда ограниченные люди выражали сомнение в том, что в душе у собаки могут рождаться мысли, да и вообще пытались отрицать существование души у животных. Подобные рассуждения он всегда заключал этой историей из своего детства — примером жертвенной дружбы их замечательного пинчера».
Поразительно теплое отношение моряков к корабельным животным. Его разделяют все, от адмирала до последнего матроса, а кто сам не испытывает нежности к зверушкам на борту, свойственной большинству моряков, тот, по крайней мере, уважает предмет любви остальных. Корабельные животные бывают разных родов, но более всего распространена кошка.
Одним из самых больших кошатников среди моряков был лорд Нельсон. С того дня, как он впервые стал командовать кораблем, он держал на борту, кроме общей корабельной кошки, еще одну — лично для себя. У него в доме, где, впрочем, подолгу он никогда не жил, потому что почти все время находился в море, было полным-полно кошек, к великой досаде его жены.
Когда Нельсон поджидал возле Булони французский флот, — в то время он был уже знаменитым английским адмиралом, — сильная буря выбросила его корабль на скалу; случилось это ночью, и команде неоткуда было ждать помощи. Под утро помощь наконец приспела, в самую последнюю минуту: треснувшее судно начало сползать со скалы и тонуть. Нельсон последним покидал тонущий корабль и собирался уже сесть в спасательную шлюпку, когда узнал, что кошка осталась на борту. Он немедля вернулся и в поисках кошки обошел всю палубу, хотя корабль в любую минуту мог развалиться. Кошки он нигде не нашел, а потому заглянул еще в одну из оставшихся лодок, где и обретался зверек. Нельсон взял дрожащего зверька под мышку и только теперь покинул корабль, который вскоре затонул.
Незадолго до последнего своего выхода в море Нельсон развелся с женой; в иске о расторжении брака она будто бы приводила в качестве одной из причин, затрудняющих совместную жизнь с лордом Нельсоном, «его безрассудную любовь к кошкам», и судья принял этот пункт к сведению.
Но можно предположить, что слово «кошка» было употреблено здесь лишь иносказательно, а подразумевалась на самом деле леди Гамильтон, вдова британского посла в Неаполе, с которой Нельсон поддерживал отношения, вызывавшие злобу не только в Англии. А леди Гамильтон за свою дипломатическую гибкость давно уже была прозвана «Нельсоновой кошечкой».
Эрнст Теодор Амадей Гофман признавался друзьям, что без своих домашних животных никогда бы не смог написать ни «Известия о новейших похождениях собаки Берганца», ни тем более «Житейских воззрений кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера». Это не книги о животных, ни одна, ни другая, но то, как ведут себя животные у Гофмана, показывает, что он их пристально наблюдал и был их большим другом.
У Гофмана были литературные образцы, так же, как были и подражатели. В своих книгах он указывал на эти образцы: «Собака Берганца» — детище великого Сервантеса, да и сам Берганца — собака некоего испанца; кот Мурр — это Тиков «Кот в сапогах» без сапог. Но пес Берганца нашел себе товарища, развязавшего ему язык, в собаке, принадлежавшей самому Гофману, — черном бульдоге по кличке Поллукс, который пристал к писателю в Бамберге и которого он очень любил. А кот Мурр стал таким задушевным другом Гофмана, что когда этот его любимый кот скончался, писатель, потрясенный утратой, разослал друзьям извещения о его смерти.
Собака Берганца очень умно рассуждает о людях, а о своем племени говорит следующее: «Я имею в виду не что иное, как стократно видоизменяемое движение нашего хвоста, с помощью которого мы умеем выразить все оттенки удовольствия — от чуть шевельнувшейся радости до самого разнузданного веселья; вы, люди, достаточно неуважительно называете это „вилять хвостом“. Душевное благородство, высота помыслов, сила, прелесть и грация — все это выражается у нас положением хвоста, соответственно тот же член тела замечательным образом говорит о нашем душевном благополучии, так же как, совершенно спрятав или поджав хвост, мы выражаем предельный страх или мучительнейшую тоску». Кот Мурр осмеивает литераторов и доказывает, сколь легко изучить их ремесло. Капельмейстер Крейслер — тень Гофмана (и его псевдоним) — говорит об этом коте такие прекрасные слова:
«Когда я наблюдаю за этим умным котом, то с большим огорчением сознаю, в каком тесном кругу замкнуто наше познание. Кто может сказать, кто способен хотя бы догадаться, как далеко простираются умственные способности животных! Когда что-то или, вернее, все в природе остается для нас непостижимым, мы тотчас налепляем на все это названия и кичимся своей дурацкой школьной премудростью, которая видит не дальше нашего носа. Точно так же разделались мы и с умственными способностями животных, которые проявляются иногда самым чудесным образом, обозначив их словом „инстинкт“. Я желал бы, чтобы мне ответили только на один вопрос: совместима ли с понятием инстинкта — слепого непроизвольного влечения — способность видеть сны? А ведь о том, что собаки, например, живейшим образом видят сны, знает каждый».
Клингеман, директор театра в Брауншвейге, рассказывает в своих воспоминаниях о визите к Гофману в ноябре 1821 года:
«Пока я какое-то время беседовал с другими гостями, Гофман разговаривал с Девриентом. Речь шла, как я сразу понял, об одном очень тяжелом больном, в чьем выздоровлении приглашенные к нему врачи сомневались, я все же, в качестве последнего средства, решили применить вдувания и втирания».
Клингеман спрашивает, кто же этот больной, тогда Гофман открывает дверь в одну из соседних комнат и с волнением указывает на постель, на которой дремлет внушительного вида кот. Клингеман думает, что его мистифицируют, но Девриент объясняет ему, что больное животное, можно сказать, состоит с Гофманом в магической взаимосвязи и что это кот Мурр.
Вскоре после этого визита Клингеман получил такое извещение:
«В ночь с 29-го на 30 ноября сего года, на четвертом году своей многообещающей жизни, опочил, дабы проснуться для лучшего бытия, мой дорогой любимый питомец кот Мурр. Кто знал усопшего юношу, кто видел его шагающим по стезе добродетели и справедливости, поймет всю меру моей скорби и почтит его память молчанием.
Берлин, 1 декабря 1821 года.
Гофман».
Людвиг ван Бетховен, человек-гигант, вызывавший из таинственного мира вещей несравненные гармонии, человек, в душе которого, когда его уши перестали слышать, звучала Вселенная, был глашатаем сострадания к животным и единения с ними. Потребность в сочувствии ко всему живому была неотъемлемой частью его натуры и необходимым условием творчества.
Это свойство он проявил еще в ранней юности несколькими импульсивными поступками. Однажды мальчик стоял посреди комнаты в родительском доме и импровизировал на скрипке. Вошла мать, чтобы вести его обедать, но ничего не сказала, а, завороженная звуками, остановилась, потому что сын ее не заметил и, подняв глаза вверх, продолжал упоенно играть.
Вдруг она увидела, что на уровне лица мальчика висит паук, — он спустился с потолка на своей нити и пружинил на ней, то поднимаясь, то опускаясь. Охваченная отвращением, она сорвала паука, бросила на пол и растоптала. Юного Бетховена этот поступок привел в такое отчаяние и такую ярость, что он швырнул скрипку матери под ноги, — инструмент разбился.
Он играл не для матери, а для паука, и в его детской душе возникали картины, где, возможно, фигурировали животные, — которых люди считают безобразными, — но не безобразные поступки людей.
Прямых признаний Бетховена в любви к животным сохранилось мало, у него не было ни времени, ни склонности вести обширную переписку или дневниковые записи. Мы знаем только, что перед своим приездом в Вену он сочинил «Элегию на смерть пуделя» и что отношения с животными своих приятелей и приятельниц он строил на основе равноправных притязаний на жизнь. Он до тех пор обхаживал комнатную собачку госпожи фон Мальфатти по кличке Жигон, пока она не стала бегать за ним по пятам. Тогда он с торжеством написал своему другу И. фон Глейхенштейну:
«Ты ошибаешься, если полагаешь, будто Жигон ищет только тебя, нет, мне тоже выпало счастье видеть, как эта собачка ни на шаг от меня не отстает. Вечером она ужинала рядом со мной, потом еще провожала меня домой, короче, прекрасно меня развлекала, однако сесть высоко я не мог, а все время сидел довольно-таки низко».
В одном из писем к Терезе Мальфатти Бетховен выражает свою восторженную любовь к природе:
«Какая вы счастливая, что сумели так рано выбраться за город. Я только 8-го числа смогу насладиться этим блаженством; радуюсь, как ребенок. То-то весело мне будет бродить по лесам и кустарникам, среди деревьев, трав и скал! Никто не может любить все это больше меня!»
Во время одной из прогулок Бетховена произошел тот знаменитый инцидент, который вызвал столько смеха, в то время как самому Бетховену было совсем не смешно. Он шел лужайкой, с восторгом созерцая, как все в природе дышит жизнью. Вдруг он увидел молодую даму в летнем платье и мальчика, которые с веселым смехом прыгали по лужайке. При виде этой картины Бетховен умилился и подошел ближе. И с возмущением заметил, что молодая дама гоняется с сачком за бабочками. Эта охотница за бабочками была Каролина Виммер, будущая мать швейцарского писателя, автора книг о животных Йозефа Виктора Видмана.
В Мёдлинге под Веной она развлекалась тем, что сачком ловила на лугу бабочек. И вдруг заметила человека, бежавшего невдалеке вровень с ней и носовым платком отгонявшего бабочек, которых она надеялась поймать. Это повторялось еще два дня подряд. Когда она выходила на лужайку, там уже стоял этот человек и делал для нее ловлю бабочек невозможной. В конце концов девушка взбунтовалась и потребовала, чтобы он оставил ее в покое, на что незнакомец громким голосом ответил: «Неужели благовоспитанная молодая дама не научилась занимать свое время чем-либо иным, кроме как убийством бедных животных?» На миг опешив, Каролина ответила: «Разумеется, я научилась кой-чему другому, — например, игре на фортепиано, но вы и в этом ничего не смыслите». — «А вот и нет, — отвечал незнакомец, — как раз в этом я кое-что смыслю и мог бы даже вам сказать, действительно ли вы научились играть на фортепиано. Ступайте домой и сыграйте мне что-нибудь при открытых окнах!» Молодая девушка отозвалась на эту шутку и была очень удивлена, когда немного погодя незнакомец вошел к ней в комнату и сказал: «Вы умеете играть на фортепиано. Тем меньше повода у вас уничтожать безобидных маленьких животных».
Заинтересовавшись этим разговором, в комнату вошла мать Каролины и узнала в странном посетителе Людвига ван Бетховена. Отныне Каролина получила право иногда сопровождать маэстро во время его прогулок, но только предварительно пообещав ему «никогда больше не убивать невинных животных».
Мать Каролины поведала знакомым историю принудительного обращения Бетховеном ее дочери, а маэстро, когда его об этом спрашивали, подтверждал рассказ, снова вскипая гневом против безнравственной ловли бабочек. Достиг он этим лишь того, что венское общество всласть посмеялось над очередной причудой Бетховена.
Певец Крамолони в своих воспоминаниях о Бетховене повествует о том, как в 1816–1818 годах он жил в Мёдлинге в одном доме с Бетховеном и очень часто с ним разговаривал. В те годы он был еще мальчиком и думал, что доставит великому музыканту удовольствие, показав ему крупных бабочек и спросив, как может называться этот вид. Вдруг композитор, обычно такой приветливый, грубо оттолкнул его, воскликнув: «Оставь меня в покое, маленький убийца!»
Поэт лорд Байрон любил собак и кошек. Поскольку в животных он всегда ценил индивидуальность, то его домашние зверушки становились для него личностями, обогащали мир его представлений и часто возникали в его речи. Его кот Шип, который с точки зрения породистости особой ценности собой не представлял, но как личность был почти что гением, воплощал для поэта прямо-таки лучший мир.
В то время у англичан считалось хорошим тоном быть большими любителями животных; многие полагали также хорошим тоном быть почитателями Байроновой музы. Однако дамы, обожавшие божественного лорда, находили его любовь к кошкам, особенно, к этому коту, мало оригинальной, — последней модой была любовь к экзотическим зверям, прежде всего к обезьянкам. И вот в один прекрасный вечер несколько великосветских дам окружили лорда Байрона, который опять с восторгом рассказывал про своего кота, и тогда одна герцогиня заявила ему: «Милорд, вы должны переменить свои вкусы и найти себе других любимцев в царстве животных. Извините меня, но какой-то кот для лорда Байрона слишком низок. Перестройтесь на обезьян, а мистера Шипа подарите кому-нибудь! Он преграждает вам путь в рай!»
Поэт смеясь ответил: «Дражайшая миледи, вы снова доказали, что Ева все еще продолжает говорить о рае, хотя давно уже перестала быть его обитательницей. Адам сделался в раю жертвой яблока, за пределами рая он, возможно, стал бы жертвой обезьянки. Но Адам был слаб, а лорд Байрон силен и не даст себя соблазнить. Он отказывается даже от самой очаровательной обезьянки и оставляет у себя Шипа!»
Скрытая насмешка была понята и весьма возмутила даму. Ей удалось тайно выкрасть кота у поэта. Но зверек через три дня от нее сбежал и отыскал неблизкий путь домой, к уже отчаявшемуся Байрону. Тогда поэт сел за стол и написал герцогине письмо:
«Дорогая леди, было бы, наверное, правильней возбудить иск о краже кота. Скорбь поэта вам, по-видимому, безразлична, а животного — нет! Однако от иска я все-таки отказываюсь, зная, что ярость от постигшей вас неудачи делает вас достаточно несчастной. Ева, во всяком случае, была более соблазнительна, это доказывает ее несомненный успех».
Поэт позаботился о том, чтобы его письмо стало известно в свете. Позднее, правда, чтобы помириться с герцогиней, он приобрел обезьянку, но лишь в дополнение к коту и собаке.
Рихард Вагнер совершенно не мог обходиться без животных, держал он по преимуществу собак. Первой из них был музыкальный пудель, сопровождавший юного капельмейстера Варнера в Магдебурге — это было в 1834 году — даже в театр, где у песика было свое место в оркестре, которое ему, правда, пришлось оставить, когда он взял за привычку громким воем протестовать против нечистых тонов виолончели.
Преемником этого пуделя был знаменитый ньюфаундленд Роббер. Вагнер женился на Минне Планер и стал капельмейстером в Риге. Материально ему жилось там очень плохо, и в конце концов пришлось во тьме ночной из Риги бежать. Домашняя утварь и кое-какие ценные вещи были брошены, а большую собаку Вагнер все-таки взял с собой, хотя беспрепятственно мог вернуть ее прежнему владельцу, одному рижскому купцу. Таким образом Роббер проделал вместе с хозяевами опасное морское путешествие из Риги в Лондон на парусном судне, а затем и не менее утомительную поездку в Париж. Здесь для Вагнера начались печальнейшие дни его жизни; ради собаки он нередко голодал. Потом Роббера украли. Вагнер воздвиг ему памятник рассказом «Конец в Париже».
Как и все его собаки, — Роббер тоже сидел в оркестре, пока не начал мешать ему «выкриками», — следующий песик Вагнера, маленький Пепс, также был помощником маэстро. Вагнер с полной серьезностью утверждал это во многих своих письмах; ведь только с вовлечением животного в свой творческий процесс художник вступает в круг великих людей. С той лишь разницей, что другим великим людям довольно было присутствия любимого животного, Вагнер же приписывал ему прямое участие в творчестве. По словам Вагнера, Пепс часто ему помогал. Уже при сочинении «Тангейзера» пес был противником слишком бурного, экстатического выражения чувств, сразу начинал выть и тем принуждал хозяина еще раз просмотреть весь кусок, за чем обычно следовала более умеренная его редакция.
Но у Пепса была и человеческая задача: помочь своему хозяину вынести тяготы изгнания из родной страны. В годы жизни в Цюрихе письма Вагнера то и дело упоминают Пепса, который побуждал Вагнера к ежедневным прогулкам и помогал забыть о его бедах. Насколько любил Вагнер эту собаку, явствует из того, что в одном из писем к Минне он называет Пепса лучшим другом из всех существ мужского пола, а своему лучшему другу Францу Листу присваивает почетное звание «Дважды Пепс» — титул, который Лист принял с благодарностью и который он даже употреблял.
В одном из писем к Матильде Везендонк Вагнер пишет:
«Боюсь, что мой добрый и верный старый друг Пепс сегодня умрет. Я не в силах покинуть бедное животное. Вы не рассердитесь на нас, если мы попросим, чтобы сегодня вы не ждали нас к ужину? Конечно, вы не станете надо мной смеяться, если я буду плакать».
Пепс скончался в 1855 году. Вагнер долго его оплакивал и спустя год еще писал:
«Я все еще плачу, вспоминая день смерти славного животного. Его портрет я взял с собой. Годовщину смерти этого дорогого и доброго друга я отмечу от всего сердца».
Пепсу наследовала собачка Фипс, которую подарила Вагнеру Матильда Везендонк. Вскоре новая собака завоевала сердце Вагнера, имя ее повторяется во многих его письмах. Он пишет о Фипсе своей жене:
«Чтобы воздать хвалу Фипсу, мне понадобилось бы исписать еще целый лист. Когда поезд в Цюрихе тронулся, он вдруг принялся скулить, сидя на столе, и смотреть в ту сторону, где скрылась ты, на меня же он никакого внимания не обращал, что бы я ему ни толковал. Но потом, когда я пошел в почтовый вагон, он успокоился и всю дорогу был умненьким, послушным, тише воды, ниже травы, так что я им не нахвалюсь. Только вот в первые дни он не хотел ни есть, ни пить, и лишь самыми лакомыми кусками жаркого мне удалось наконец его соблазнить. Он и сейчас еще почти ничего другого не берет, но на обед я варю ему суп, чистый деликатес. Постепенно это пройдет. Здесь ему, видимо, очень нравится, я оставляю для него двери открытыми, и он то ложится на крышу и разглядывает ландшафт, людей и скотину, то бегает по саду. Чуток он сверх всякой меры, люди его очень любят. Он шлет тебе горячий привет».
Фипс не успел состариться, он умер в Цюрихе, и Вагнер пишет об этом Матильде Везендонк:
«Ко всему еще скончалась собачка, которую вы когда-то послали мне от одра болезни, скончалась быстро и загадочно! Вероятно, на улице ее зашибло колесом, отчего внутри у нее разорвался какой-то орган. Пять часов пролежала она, кроткая, ласковая, без единого стона, только все больше слабея, и беззвучно скончалась. В моем распоряжении не было ни клочка земли, чтобы похоронить моего милого дружка. Силой и хитростью проник я в маленький садик Штюрмера, где собственноручно, в тайности, закопал песика под кустом. Многое похоронил я вместе с этой собачкой! Теперь я намерен странствовать пешком, и в этих странствиях спутника у меня не будет».
Но Вагнер был привязан не только к собственным животным, он страдал из-за чужих, однако не довольствовался только жалостью, а в меру сил помогал им. Из многих примеров, которые приводит в своей книге «Рихард Вагнер и мир животных» друг композитора Ганс фон Вольцоген, мы приведем здесь один, весьма примечательный:
«По соседству с ним в Бибрихе денно и нощно сидела на цепи, без радости и без ласки, несчастная чужая собака, вызывая у Вагнера сильную жалость. Время от времени он снимал ее с цепи, брал к себе домой и кормил чем-нибудь вкусным. Странным образом это вызывало неудовольствие хозяина Лео. Он усмотрел в этом упрек, что сам он недостаточно хорошо содержит собаку. Напрасно Вагнер, не жалея усилий, пытался внушить этому человеку понятие о душевных потребностях столь высоко организованного животного. На его письменном столе скопилось за это время множество писем, которые Вагнер начинал и бросал, считая, что все еще не вполне четко и ясно просветил столь темные мозги. Одно из этих начатых писем хранится по сей день у человека, дружившего с композитором, и являет собой трогательное свидетельство той участливой серьезности, с какою этот художник, поглощенный собственными трудами и заботами, вступался за своего подопечного. Суровой зимой 1862/1863 года, одной из самых хлопотных и гнетущих для самого Вагнера, он все еще беспокоился из своего венского далека (из Бибриха он тем временем уехал) об этой собаке, оставшейся в холодной будке, и через друзей сумел добиться, чтобы ей положили, для защиты от холода и непогоды, теплый коврик».
В байрейтские годы, с улучшением материальных условий семьи, число животных в доме Вагнера, где до сих пор кроме собак жили еще попугаи, быстро и значительно увеличилось. Огромную, прямо-таки детскую радость доставляли композитору лебеди, присланные ему королем Баварским. Вагнер называл их не иначе, как «мои белые павлины», он мог часами стоять и смотреть на них, а в громком жалобном крике этих птиц с содроганием слышал «голос страждущей пленной природы».
Из позднейших собак Вагнера особенно выделяется Рус. Когда он скончался, то получил место в фамильной усыпальнице Вагнеров в Ванфриде и памятник с надписью: «Здесь лежит и не дремлет Вагнеров Рус». Теперь собака покоится в ногах умершего композитора.
Как сообщает Ганс фон Вольцоген, место Руса заняла целая семья сенбернаров-ньюфаундлендов, продолжавшаяся во многих поколениях. Однако над ними в известной степени реял дух старого Руса. Главой семьи был огромный пес Марке, последняя собака Вагнера. Когда эта многочисленная свора однажды вошла в библиотеку, где как раз шла беседа на высокие темы искусства, маэстро прервал свою речь и, глубоко взволнованный, воскликнул: «Вот идет природа!»
У Марке была подруга, которую дети Вагнера прозвали Бранге — от имени Брангены[60]. Детям вообще нравилось давать собакам имена персонажей из опер Вагнера. Когда Брангена умерла, Марке получил другую подругу, собаку-медалистку из Ганновера, которую дети нарекли Кундри[61]. Первые два щенка этой пары получили имена Фазольт и Фафнер[62]. Фазольт позднее был оставлен в Венеции, Фафнер стал сторожем «Дома торжественных представлений» и достойным преемником своего отца Марке. Среди дальнейшего собачьего потомства в Ванфриде были два существа женского пола — Фрейя и Фрикка[63] и их будущие мужья Фро[64] и большой белый Фриш.
Рихард Вагнер признавался, что, когда он встречал какое-нибудь животное, сердце его наполнялось радостью. Зато потом, когда он думала о судьбе животных, оно всякий раз сжималось от тоски. Какое-то время у него жил попугай, которого он нежно любил. Ганс фон Вольцоген рассказывает, как печалился Вагнер о смерти этой птицы:
«Мой бедный милый попугайчик, теперь и его не стало! Это был мой spiritus familiaris, мой добрый домашний дух! Мне все-равно, пусть надо мной за это смеются. Вообще-то для людей, способных надо мной смеяться, я должен был бы написать книгу, где объяснил бы им, что может значить для человека, всецело зависящего от фантазии, такое вот маленькое существо».
До старости сохранял Вагнер искреннюю любовь к произведениям Э.-Т.-А. Гофмана за то, что в них получила совершенно своеобразное, фантастическое воплощение идея единства всей природы. «Кота Мурра», «Собаку Берганца», «Повелителя блох», «Золотой горшок» с полным птиц волшебным садом Саламандра — архивариуса Линдгорста и золотисто-зеленой змейкой Серпентиной, сказку о Щелкунчике и мышином короле он называл чудесными поэтическими созданиями.
Велико и пестро количество животных, действующих в произведениях Вагнера. Лошади в «Риенци», «Валькирии», «Гибели богов», в «Тангейзере», кроме них еще собаки и соколы. Удивительное единство составляет Брюнхильда со своим конем Гране:
Гране, мой конь, Привет тебе, друг! Знаешь ли, верный, Куда поведу тебя? Сияя в огне, Лежит твой хозяин, Зигфрид, мой павший герой! Что ты так весело ржешь? Иль за другом стремишься? Влечет ли тебя к нему Льстивое пламя? Тронь только грудь мою — Как она пышет! Гейя — йо, Гране! Друга приветствуй! Зигфрид! Зигфрид! Навеки тебе мой привет!В «Лоэнгрине» имеются лебеди и голубь, в «Золоте Рейна» — змей и жаба, в «Валькирии», кроме коней, — баранья упряжка Фрикки, в «Зигфриде» — дракон, медведь и лесная птица, в «Гибели богов», кроме коней, — еще быки, Вотанов ворон, а в «Парсифале» — убитый лебедь.
Примечания
1
Ehm Weik zum 80. Geburlstag. Rostock, 1964, S Hinstorff Verlag.
(обратно)2
Ehm Welk. Stucke. Rostock, Hinstorff Verlag, 1964, S. 7.
(обратно)3
Ehm Welk. Stucke. Rostock, Hinstorff Verlag, 1964, S. 145.
(обратно)4
Ehm Welk zum 80. Geburtstag, Rostock, Hinstorff Verlag, 1964, S. 11.
(обратно)5
Reich K. Ehm Welk. Stationen eines Lebens. Rostock, Hinstorff Verlag, 1976, S. 343.
(обратно)6
Ehm Welk. Geliebtes Leben. Gesammelt und herausgegeben von A/ Lindner-Welk. Rostock, Hinstorff Verlag, 1959, S. 119.
(обратно)7
В этой книге представлены рассказы Эма Велька, взятые из его сборников: «Моя страна, что светит вдалеке», «Большой шлем, или Крупная игра», «Молот хочет, чтобы им работали», «Пудель Самсон. Истории и анекдоты о людях и зверях». Рассказы расположены в хронологии вывода сборников в свет.
(обратно)8
Перевод А. Гугнина.
(обратно)9
Перевод В. Левика.
(обратно)10
Перевод В. Левика.
(обратно)11
Элеонора Дузе (1858–1924) — известная итальянская актриса, выступавшая с огромным успехом на многочисленных сценах мира, в том числе и в России.
(обратно)12
Мореплавание необходимо (лат.).
(обратно)13
Скат — широко распространенная в Германии карточная игра, в которой старшими козырями служат валеты в последовательности: трефовый, пиковый, червонный, бубновый. (Примеч. переводчика.).
(обратно)14
Термин карточной игры в скат.
(обратно)15
Имеется в виду Александр Македонский (356 г. до н. э. — 323 г до н. э). Роксана — жена Александра Македонского, которую убил в 311 г. до н. э. македонский царь Кассандр. Олимпиада — мать Александра Македонского, участвовала в заговоре против своего мужа Филиппа.
(обратно)16
Американский образ жизни (англ.)
(обратно)17
Строфа из стихотворения И. Гердера «Посмертная слава». Перевод Л. Карельского.
(обратно)18
Имеются в виду социал-демократы.
(обратно)19
Перевод Б. Хлебникова.
(обратно)20
Зигфрид — главный герой древнегерманского и скандинавского эпоса; Армии Освободитель (16 г до н. э. — 21 г. н. э.) — вождь германского племени херусков; Генрих I (876–936) — король Германии с 919 г.; Мартин Лютер (1483–1546) — глава Реформации в Германии; Старый Фриц — Фридрих II (1712–1786), король Пруссии с 1740 г.; Гебхард Леберехт фон Блюхер (1742–1819) — прусский генерал-фельдмаршал; Отто фон Бисмарк (1815–1898) — премьер-министр Пруссии с 1862 г.
(обратно)21
Альгёй — область в Австрийских Альпах.
(обратно)22
Бэр (Вäг) — медведь (нем.).
(обратно)23
Вольф (Wolf) — волк (нем.).
(обратно)24
Юнгфольк — детская национал-социалистская организация.
(обратно)25
Немецкая народная песня.
(обратно)26
Фашистская организация.
(обратно)27
Бауэрнфюрер — должность крестьянского руководителя в национал-социалистской структуре общества.
(обратно)28
Нацистские штурмовые отряды.
(обратно)29
Имеются в виду Померания и другие территории, которые империалистические правительства Германии причисляли к немецкому государству.
(обратно)30
Земля — административная единица в ГДР в первые годы народной власти.
(обратно)31
Первая часть этого слова (Fürsten) означает «княжеский».
(обратно)32
Согласно греческой мифологии, добрая и любящая супружеская чета. За оказанное нм гостеприимство боги даровали супругам долголетие, а после смерти превратили их в деревья, растущие из одного корня.
(обратно)33
Мольтке Хельмут Карл (1800–1891) — германский фельдмаршал.
(обратно)34
Трапписты — монахи ордена, устав которого отличался особым аскетизмом.
(обратно)35
Вдохновение делает красноречивым (лат.) — слова из сочинения римского оратора и педагога Квинтилиана «Об образовании оратора».
(обратно)36
Брейтшейд Рудольф (1874–1944) — видным деятель социал-демократической партии Германии, погиб в концлагере Бухенвальд. (Здесь и далее — примеч. переводчика.).
(обратно)37
Гинденбург Пауль (1847–1934) — германский военный и государственный деятель, фельдмаршал; в 1933 году, будучи президентом Германии, поручил Гитлеру сформировать правительство.
(обратно)38
Хорст Вессель— деятель нацистского молодежного движения, убитый в 1930 году; фашистская пропаганда возвела его в национальные герои.
(обратно)39
Партайгеноссе (Parteigenosse) — обращение, принятое между членами национал-социалистской партии.
(обратно)40
Генриетта 3оннтаг (1806–1834) — знаменитая немецкая певица.
(обратно)41
«Гарцбургский фронт» — объединение реакционных партий и группировок, враждебных Веймарской республике. Создан 11 октября 1931 года, когда в городке Бад-Гарцбург встретились руководитель национал-социалистов Гитлер, председатель Национальной народной партии Альфред Гугенберг, руководитель «Стального шлема» (Союз фронтовиков) Франц Зельдте и другие. Внутри «фронта» продолжалась борьба партий и групп, однако влияние фашистов в нем возрастало. В 1932 году «Фронт» распался.
(обратно)42
Черно-бело-красный — цвета флага Германской империи (1871–1918), а затем и гитлеровского рейха (при Гитлере, однако, обычно употреблялся нацистский флаг). Возникли из соединения черно-белого (Пруссия) и бело-красного (ганзейские города) цветов.
(обратно)43
Вероятно, имеются в виду события 1934 года, когда организация бывших фронтовиков «Стальной шлем» была включена в состав СА, нацистских штурмовых отрядов, и прекратила самостоятельное существование.
(обратно)44
Строки из популярной песенки.
(обратно)45
Имеется в виду «Ось Берлин — Рим», союз между гитлеровской Германией и фашистской Италией, заключенный в 1936 году и просуществовавший до 1943 года.
(обратно)46
Человек-ископаемое и человек хозяйственный (лат.).
(обратно)47
Голос народа (лат.).
(обратно)48
Глас народа глас божий (лат.)
(обратно)49
«Начала» (лат.) Имеется в виду труд Ньютона «Математические начала натуральном философии».
(обратно)50
Слуга, разрезающий мясо.
(обратно)51
Детская забава (лат.).
(обратно)52
Перевод С. Ошерова.
(обратно)53
«Вы моя мать!» (фр.).
(обратно)54
«Да, отчизна! Прощайте навсегда!» (фр.).
(обратно)55
Советница неточно передает первые слова Марсельезы — «Вперед, дети отчизны!» (фр.).
(обратно)56
Нет! Нет! (фр.).
(обратно)57
P.P. — рraemissis praemittendis — предваряя посылаемое (лат.).
(обратно)58
Карамболь в пять шаров (фр.). Карамболь — игра на бильярде в три шара, когда двумя шарами одновременно бьют по третьему.
(обратно)59
Правом свободного выхода (лат.).
(обратно)60
Брангена — служанка Изольды в опере «Тристан и Изольда».
(обратно)61
Кундри — колдунья из оперы «Парсифаль».
(обратно)62
Фазольт и Фафнер — великаны из оперы «Золото Рейна».
(обратно)63
Фрейя и Фрикка — богини из оперы «Золото Рейна».
(обратно)64
Фро — бог из оперы «Золото Рейна».
(обратно)
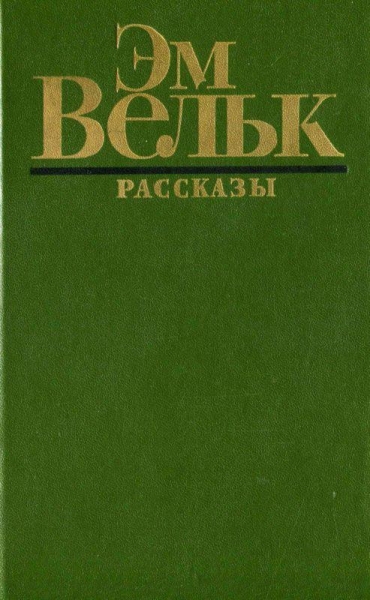
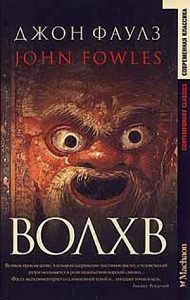
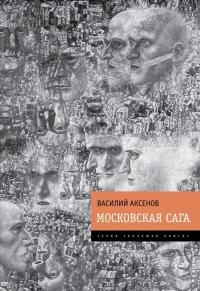






Комментарии к книге «Рассказы (сборник)», Эм Вельк
Всего 0 комментариев