Серж Резвани Загадка
1
Следователь Морского ведомства и Литературовед направляются к порту. Пройдя мимо складов, они оказываются в сухом доке, где возвышается «Уран», окутанный голубоватой вечерней дымкой.
— Странно, не правда ли, видеть такую моторную крейсерскую яхту, как «Уран», в сухом доке, — говорит Следователь, поднимаясь вместе с Литературоведом по железному трапу, приставленному к гладкому борту. — Посмотрите, как выделяется ватерлиния, испещренная кровавыми царапинами, — продолжает он, преодолев половину ступенек. — Несмотря на отчаянные усилия, никто из потерпевших так и не смог ни за что уцепиться, чтобы забраться на борт. Но лучше исследовать эти царапины при дневном свете, а пока давайте осмотрим каюты. Всё на своих местах, кроме рукописей, которые мы с моим другом Криминологом приказали изъять. В рубке и на палубе ничего не тронуто, как, впрочем, в библиотеке и на кухне. Только испорченные продукты были выброшены после описи. А теперь пойдем по этому коридору, — говорит он, показывая дорогу Литературоведу. — Здесь каюта Карла Найя, самая просторная: письменный стол из тикового дерева, две кровати, на которых спали он и Лота — его молодая жена. Рукописи Карла Найя лежали в безупречном порядке на столе и в ящиках. Рукописи, вернее, дневники Лоты Най были обнаружены за ее платьями в стенном шкафу. Все разбросанные вещи остались на своих местах — мы ничего не трогали; все сфотографировано, описано, подсчитано, чтобы досье, касающееся загадки «Урана», было как можно более полным. А теперь зайдем в каюту, которую занимали Роза Зорн-Най, Курт Най и Густав Зорн. Такой же беспорядок, как и у старика Найя. Единственное, что вызывает интерес, это листок со стихами, приколотый к переборке. Вероятно, они принадлежат Курту Найю.
А вот и Каин! Мгновение — и нож взлетает обрушивается на зеленеющую могилу Сверкая бронзой, вспарывает землю поднимает черную пыль Первые капли человеческой крови проливаются на мир — сын Каина наш отец!И на обратной стороне тем же почерком написано:
Триада богинь правит миром, когда из хаоса рождается безвестный бог Уран В тайных расселинах Матушки-Земли дождь превращается в реки чистой воды В ложбинах рождаются птицы деревья цветы как и первые существа из полуплоти-полукрови — мы в пучине, куда нас бросил Арно!— Уран… Скажите, вам не кажется, что этими стихами, где фигурирует название яхты, Курт Най хотел посмертно подсказать нам разгадку?
— Если бы эти стихи попались мне в то время, когда я писал книгу о литературном семействе Найев, я с удовольствием включил бы их туда, — отвечает Литературовед. — Я могу оставить себе этот листок?
— Конечно. Вы можете присоединить его к рукописям, которые мы отнесли в ваш номер в отеле. А теперь пройдем через эту шлюзовую камеру. Вот мы и в передней части яхты. Это уголок Франца Найя, настолько тесный, что непонятно, как он здесь работал. Стопка исписанных бумаг находилась на этажерке возле иллюминатора. Рядом, в закоулке, спал Юлий. Его рукописи занимали три старых чемодана, стоявших открытыми на полу. Вот и всё, что мы обнаружили с моим другом Криминологом, когда поднялись на борт вместе с береговой охраной. Пустой «Уран» дрейфовал в открытом море, где его нашло рыболовецкое судно и взяло на буксир.
— Но…
— Вас удивляет, что на борту не было ни одного слуги? Да, это так, на яхте не было ни матросов, ни горничных, ни повара. Хотя, по идее, здесь должен был находиться или какой-нибудь таиландец, или пакистанец, или грек; греки на яхтах — классические слуги. Но эта яхта не классическая. Карл Най любил отправляться в море один со своей семьей, своей литературной семьей, как говорит название вашей книги. Это было желанием писателя, прихотью известного и авторитарного человека. Конечно, если бы на борту были слуги, драмы не произошло бы, так как кто-нибудь спустил бы лестницу и все семейство благополучно забралось бы на борт. К сожалению, в жизни случаются такие нелепости. Понимаете, в море царит другая логика, чем на земле. Море — огромное нелогичное живое тело. В каждом преступлении, произошедшем в море, сталкиваешься с иррациональным. Может, поэтому я самый одержимый фанат своего дела. Кстати, мой друг Криминолог, который к тому же пишет стихи, тоже обожает свою работу. Люди, отправляющиеся в плавание, очень отличаются от других людей. В море всё ненормально. Преступление, совершенное в море, ненормальное преступление. А вот несчастный случай в море — нормальное явление. Даже самые ненормальные несчастные случаи в море являются нормальными. Каждый день в морских водах происходит огромное количество необъяснимых событий. Движение этой водной глади не только искажает перспективу, но и сильно повреждает разум. «Море играет, как отмечают многие поэты», — часто повторяет мой друг Криминолог. Он пишет очень давно, но никому не показывает свои стихи, только рассказывает о них близким людям. Однако все наслышаны, что у него их очень много. Стихи, как он любит говорить, это темы. «Темы, — объясняет он, — это то, что руководит творческой мыслью. Нет ничего хуже сюжета, какой-то идеи. Для творца имеет значение лишь увлеченность разными темами, абсолютно противоположными друг другу. Только тогда разум безумствует и с наслаждением бросается в хаос, порожденный различными идеями». Впрочем, вы скоро с ним познакомитесь. Он найдет нас в Морском клубе, как только разрешит некоторые проблемы, серьезно осложняющие ему жизнь. Не так давно мы вместе расследовали крушение одного парома, в котором погибло более восьмисот человек из-за пробоя передних тормозных колодок… А теперь зайдем в рубку, служащую также салоном-библиотекой. Здесь можно было одновременно управлять судном и беседовать со своими гостями, сидевшими в удобных креслах под книжными полками на стенах.
— Смотрите, — говорит Литературовед, записывая в блокнот названия книг, — здесь собраны все великие классики, всё лучшее, новое, неожиданное, что произвела человеческая мысль в различные эпохи. «Уран» был великолепной плавучей библиотекой…
— Которая в одно мгновение потеряла не только своих читателей, но и авторов.
— Вот где загадка! В том, что какая-то яхта идет ко дну с пассажирами, библиотекой и рукописями, нет ничего удивительного. Дно океана усеяно подобными сокровищами. Собранные вместе в ограниченном пространстве, они символически представляют все то, что создано человечеством. И мы, хоть и с жалостью, принимаем как неизбежное, что все это погибло. А здесь волнует и огорчает то, что мы являемся свидетелями долговечности утерянного мира.
— Вы хотите сказать, книг без читателей?
— Вот именно! Я вспоминаю один очень странный рассказ Франца Найя. В нем идет речь о настолько автоматизированном мире, что когда все люди внезапно погибают, — какая-то неизвестная эпидемия, — то всё продолжает исправно функционировать. Нефть добывается сама по себе, атомные станции работают вхолостую, энергия распределяется самостоятельно, поступая на машиностроительные заводы, которые сами продолжают выпускать продукцию, совершенствовать ее и распределять. И вот представьте себе удивление каких-то космических путешественников, обнаруживших этот мертвый мир, населенный исключительно беспрерывно работающими и якобы думающими машинами, бесцельно выпускающими продукцию и не имеющими ни малейшего представления о том, что случилось с давно исчезнувшим человечеством.
— Это похоже, — говорит Следователь, — на удивление человека, обнаружившего великолепную раковину, из которой несколько тысяч лет назад вылупилось неизвестное животное.
— Да, только раковина — это предмет, окаменевшее ископаемое, след. А Франц Най хотел показать весь ужас того — и эту мысль так и хочется развить, — что бессмысленное движение происходит бесконечно. «Без искусства, — говорил он, — может, и мы представляли бы собой то же самое: движение ради движения?»
— Вы с ним часто встречались?
— Да, достаточно часто. Он жил в Гамбурге, где ставил любопытные опыты с органами чувств. Кстати, он изобрел удивительный прибор, о котором я расскажу вам позже.
— Осторожно спускайтесь по трапу, — предупреждает Следователь. — Нам уже пора ехать в Морской клуб. Мой приятель Криминолог наверняка нас заждался.
2
Они заходят в Морской клуб, где их поджидает Поэт-Криминолог.
— А вот и наш французский литературовед! — знакомит их Следователь.
— Мы ждали вас с большим нетерпением! — восклицает Криминолог. — Я прочитал вашу книгу «Литературная семья Найев», и мы подумали, что вы смогли бы помочь нам расшифровать рукописи, найденные на борту «Урана».
— Мы только что были в сухом доке, — говорит Следователь и, поворачиваясь к Литературоведу, объясняет: — Именно мой друг Криминолог предложил обратиться к вам. Он сказал: «Я думаю, что его присутствие нам сильно поможет. Этот ученый прекрасно знает всё, что написано Карлом Найем, его братом Юлием, сыновьями Куртом и Францем, а также дочерью Розой Зорн-Най. Он долгие годы интересуется этой семьей, в курсе всех их бесконечных конфликтов, любовных связей, ревности, ненависти, амбиций! Без него мы никогда не раскроем тайну «Урана», так как это не несчастный случай, а продуманное решение убрать лестницу». Именно так вы сказали?
— Все верно! Из вашей книги следовало, — и меня это особенно поразило, — что метафорическая лестница между членами этого странного семейства была давно убрана и все конфликты, которые их разделяли и в то же время сплачивали, когда-нибудь должны были закончиться драмой. Отсюда такое загадочное исчезновение!
— Поскольку мы будем работать втроем, — прерывает его Следователь, — то я позволю себе заметить, что вы не только прекрасный криминолог… но и тайный поэт.
— О, не будем касаться поэзии! В этом деле участвует только криминолог; поэт всегда позади, он наблюдает и молчит. Один молодой поэт, которого я люблю и который наивно возомнил себя графом, сказал: «Неужели я должен писать стихи, чтобы отгородиться от других людей?» Не буду ничего к этому добавлять. Я и в самом деле иногда пишу стихи, но редко даю их читать. В своих стихах я говорю о том, что не могу выразить другим способом. Я пишу ночью, а днем работаю с моим другом Следователем. С одной стороны, я тот, кто пишет, а с другой — тот, кто изучает причину смерти. Я обожаю расследования. Меня увлекают несовместимые вещи. На первый взгляд, между поэтом и криминологом нет ничего общего, и однако я живу в полной гармонии. Мне интересна ненормальность. Почему кто-то внешне нормальный неожиданно, без всяких причин, теряет рассудок? Вы знаете, что в Берлине есть институт кайзера Вильгельма, где мозг прославившихся людей — знаменитостей или убийц — рассекают на двадцать тысяч волокон толщиной в двадцать микрон? Там есть мозг Ленина, Максима Горького, Сталина, Эйнштейна, а также многих политиков и ученых двадцатого века. Эти волокна хранятся между стеклянными пластинами, чтобы в будущем их могли изучить наши потомки и сделать соответствующие выводы. Вы не можете представить, до какой степени изношен мозг Ленина! Вот наглядный пример ненормальности. Конечно, каждый человек в чем-то ненормален. Но большую часть времени эта ненормальность никак не проявляется в так называемой повседневной жизни. И вдруг нормальный человек, как характеризуют его соседи, убивает своих жену и детей. Самое нежное существо неожиданно превращается в дикого зверя. И все же, в большинстве случаев ненормальность выявить очень сложно. Представьте, как мы удивились бы, если бы взяли первого встречного и вторглись в глубины его сознания!
— Вы считаете, что кто-то из Найев сошел с ума и убрал лестницу, пока все плавали вокруг яхты? — скептически спрашивает Литературовед.
— Мы рассматриваем все возможности, — отвечает Следователь.
— И что же, по-вашему, стало с оставшимся на борту, если он в самом деле решил убить всю семью?
— В этом и вся загадка, — говорит Поэт-Криминолог. — Скажите, поскольку вы их хорошо знали, был ли кто-то из них до такой степени ненормален, чтобы покончить с собой после убийства всей семьи?
— Мне кажется, — после некоторого размышления отвечает Литературовед, — что в каждом из них жило это желание. Да, все они играли с этим ужасным желанием. Но ни один из них, по моему мнению, не был способен его осуществить.
— На земле, в чем я не сомневаюсь, — говорит Следователь, — но не в море, где невозможное становится возможным. Недавно мы с моим другом Криминологом расследовали причины ужасного кораблекрушения, в котором погибло восемьсот человек. И по мере обнаружения новых неожиданных фактов так увлеклись игрой, что вообще забыли о жертвах. Нас занимала только игра. Та игра, какой является всякое расследование.
— Один французский поэт писал: «Муха сейчас не может думать. Какой-то человек жужжит ей в уши». Может, мы мухи? Однако мы все-таки не мухи, в которых играем, чтобы не думать. Интересно, как выглядит мозг ненормальной мухи? Ведь есть же наверняка ненормальные мухи, поскольку есть множество людей, воображающих себя нормальными мухами.
— Опять вы с вашими парадоксами! — восклицает Следователь и, призывая Литературоведа в свидетели, продолжает: — Вы вряд ли найдете где-либо еще такого необычного собеседника, как мой друг Криминолог, с таким классическим умом, вышедшего словно из восемнадцатого века, если судить по его манере играть с глубокими мыслями и создавать впечатление, будто они только что пришли ему в голову. На самом деле любое расследование требует любви к игре. На этом пароме, затонувшем на глубине девяносто метров, произошло нечто вроде чуда, которое объясняется элементарной физикой. Двум мужчинам удалось выжить в одном из воздушных карманов, которые обычно образуются в железных кубриках, где находится экипаж. К счастью, паром не лег на дно. Он встал прямо, с широко открытым большим люком, похожим на зияющую пасть кита. И через этот люк нашим водолазам удалось проникнуть вовнутрь. Представьте их удивление, когда, поднявшись на высоту кубрика, они услышали удары — удары регулярные и даже ритмичные. Никакого сомнения, кто-то ритмично стучал по жестяным переборкам парома. Один из водолазов сразу же проскользнул внутрь кубрика. Там образовался большой воздушный карман, а на высокой кушетке, скрючившись, сидели два негра, тайно проникшие на борт. Они прижимались друг к другу, стуча зубами, не понимая, почему столько времени находятся в темноте и по пояс в воде. После многочисленных усилий нашим водолазам удалось спустить необходимое снаряжение и объяснить неграм, что они оказались пленниками затонувшего парома и теперь им нужно соблюсти все меры предосторожности, чтобы подняться на поверхность. Помните, — спрашивает Следователь Криминолога, — этих двух несчастных, полумертвых от страха и холода?
— О, конечно! Мы находились на палубе судна, предоставленного в наше распоряжение одной крупной нефтяной компанией, когда эти двое были извлечены из кессона. Кроме невероятного страха, — честно сказать, мы тоже перепугались, — от которого они, по словам водолазов, дрожали даже больше, чем когда находились в воде, в целом оба были в порядке. А несколько часов спустя они уже со смехом поглощали обильный обед и впоследствии очень быстро оправились от столь тяжкого потрясения.
— А знаете, что их спасло? Непреодолимая и такая по-человечески понятная страсть к игре.
— Не понимаю, говорит Литературовед.
— Все очень просто. Оказавшись в кромешной темноте, они начали регулярно стучать по переборке кубрика. И постепенно этот стук превратился почти в музыкальный ритм. Именно эти синкопические ритмы, приглушенные толщиной и плотностью вод, с удивлением и услышали наши водолазы. То есть, наполовину затопленные и уверенные в ужасной смерти, эти два негра превратили в игру свои гипотетические призывы о помощи, — продолжил Следователь. — Видите ли, когда мы осматривали корпус «Урана», то ужасно поразились странным знакам, которые нацарапал драгоценным кольцом один из отчаявшихся перед смертью. Любовно покрытая лаком корма — и кровавые царапины, скрывающие странное послание. Вы их увидите, как только сделают увеличенные снимки этих знаков.
— Это похоже на то, как приговоренные к смерти, лишившись всякой надежды, оставляют на тюремных стенах какие-нибудь следы, — говорит Поэт-Криминолог. — Известно, что перед тем, как быть «гуманно» усыпленным с помощью укола или электрошока, человек испытывает непреодолимое желание поиграть с символами, предложив будущим шифровальщикам загадку в виде последнего знака осужденного на смерть.
— Поиграть, вы действительно так считаете? — спрашивает Литературовед.
— Да. Поиграть — значит заинтриговать мир, который будет жить без тебя. Это похоже на игру в страшилки, когда дети пугают самих себя. Только в данном случае приговоренный к смерти пытается испугать других. А как иначе объяснить эти странные знаки на борту яхты?
— Но в случае с «Ураном»… Это явно должно о чем-то говорить, разоблачать или, по крайней мере, давать подсказку тем, кто попытается понять причину такого ужасного поступка, — размышляет Литературовед.
— Если только перед смертью один из Найев не попытался написать имя или инициалы убийцы, но, охваченный паникой, так и не вывел ничего связного. Сколько человек разоблачили своих убийц, написав их имя окровавленным пальцем. А вспомните известный случай, произошедший у вас во Франции. Один старик миллионер, причем высокообразованный, которому нанесли множество ударов отверткой, смог дотащиться до стены и окровавленной рукой написать имя своего убийцы, а также еще несколько слов, в одно из которых закралась невероятная орфографическая ошибка. И эта ошибка больше, чем само преступление, безумно напугало всю Францию. Преступление, настоящее непростительное преступление, было здесь, на стене. И оно, как электрошок, пробудило всю Францию от ее успокоенности за свою литературу и грамматику. Это было не кровавое преступление, а орфографическое.
— Очень хотелось бы взглянуть на фотографии этих знаков, — задумчиво произносит Литературовед. — Думаю, я знаю, что они могут означать. Какая-то странная интуиция. Кажется, я догадываюсь, кто из Найев мог их нацарапать. Если это тот, о ком я думаю, то нас ждет еще много открытий.
— Так скажите же, кто это? — с улыбкой спрашивает Поэт-Криминолог.
— Пока это преждевременно, уверяю вас.
— Ладно, уже поздно, — замечает Следователь. — Проводим нашего друга до отеля, а завтра утром соберемся в моем кабинете. Думаю, что фотографии будут готовы. Я буду ждать вас с большим нетерпением, — обращается он к Литературоведу. — В своей комнате вы найдете несколько пакетов, перевязанных бечевкой. Это рукописи, которые мы обнаружили. Надеюсь, перед сном вы немного их полистаете, чтобы получить первое представление. Их количество впечатляет.
3
— Я только что был у Литературоведа, — говорит Поэт-Криминолог, входя на следующее утро в кабинет Следователя. — Он даже не собирается выходить из комнаты. Сидит в одежде на кровати, среди рукописей, читает и без конца курит. Все стулья, кресла, стол, пол и постель устланы листами, которые он складывает в стопки в зависимости от авторства. «Я ни на минуту не сомкнул глаз, — заявил он, — и боюсь, то, что я обнаружил, еще долго не даст мне покоя. Я потрясен!»
— Он так и сказал? — с нетерпением прерывает его Следователь.
— Может, он и преувеличивает, но что-то в этих бумагах его действительно удивило. «Как ученый я просто растоптан, — сказал он. — Несколько лет исследований творчества Найев могут оказаться совершенно бесполезными. Если бы моя книга не была опубликована и широко разрекламирована, я бы ее немедленно уничтожил. Я потерян и в то же время жутко возбужден». Я попросил его выразиться поточнее, и он показал мне несколько толстых тетрадей, лежащих в изголовье кровати. «Эти рукописи особенно красноречивы. Я отложил их в сторону, так как они уже проливают некоторый свет на драму и в то же время еще больше всё запутывают. Как ученый я в большом затруднении». Он взял верхнюю тетрадь и протянул ее мне: «Взгляните на этот неразборчивый почерк. Что вы о нем думаете?» — «Мне кажется, это почерк женщины». — «Вы не ошиблись. Это тетрадь Лоты Най. Оказывается, она тайно вела дневник. Но это совсем не такой дневник, какой ведет женщина, более озабоченная собой, чем литературным творчеством удивительной семьи, чьи такие разные произведения, собранные вместе, представляют собой уникальное явление не только в европейской, но и в мировой литературе», — заявил Литературовед с несколько болезненной восторженностью, что меня немного обеспокоило.
— Обеспокоило? — удивляется Следователь.
— Хоть он и очень симпатичен, но недостаточно надежен. Подумайте, сколько лет он отождествляет себя с семейством Найев! Разве можно хладнокровно вести расследование и подавлять в себе бьющую через край восторженность? Эти литераторы часто бывают слишком экзальтированными. Правда, в данном случае это понятно. Я сам разрываюсь между поэтом и криминологом. Поэт во мне восторгается, а криминолог пытается сохранять хладнокровие. Я так и сказал Литературоведу: «Даже если произошло что-то из ряда вон выходящее, мы должны держать себя в руках. В морских хрониках полно кораблей-призраков. Вспомните хотя бы большой бриг, который шел очень странно, постоянно меняя курс, а на его палубе стоял улыбающийся и жестикулирующий человек». — «Но это был труп, — сразу ответил Литературовед. — Мертвый моряк, которого обглодала морская чайка, и на его обезображенном лице выделялись ослепительно-белые зубы». У кого это было описано — у Эдгара По или у Бодлера? Конечно, у По, но в данном случае слова так хорошо заменяются картинкой, что возникает вопрос…
— Вернемся к рукописям, — перебивает его Следователь. — Он нашел что-нибудь необычное?
— Именно это я и спросил. «Не пытаясь уменьшить значение литературной стороны, — сказал я, — прошу вас не забывать, что в этой семейной драме нас интересует только криминальный аспект». — «Не волнуйтесь, — ответил Литературовед. — Я буду держать вас в курсе по мере своих открытий. А сейчас наберитесь терпения и скажите вашему другу, что мне нужно время».
— И когда же он даст нам хоть приблизительный отчет?
— Я задал ему точно такой же вопрос. Он показал мне рукописи и ответил: «Уверяю вас, что в этой кипе бумаг должен находиться ответ. Я говорю не «ключ к разгадке», а ларец, где на алой бархатной подушечке лежит ключик. Для меня, написавшего книгу об авторах этих страниц, все эти рукописи — ядовитое сокровище! Вот незаконченные наброски Юлия Найя, где как нигде видны его гениальные неудачи, если употреблять это болезненное слово, так часто встречающееся в «Дневниках» Кафки, и где особенно ярко выявляются глубинные расхождения с его знаменитым братом Карлом. Вот сочинения Розы Най — некоторые наспех прочитанные страницы меня просто ошеломили. А вот произведения Курта Найя, написанные неразборчивым почерком; большей частью это верлибры, похожие на те, которые мы нашли в его каюте. Сюда я отложил рукописи Франца Найя — самые чистые, самые умные из всех. Но больше всего я хочу погрузиться в чтение сочинений Юлия. Его инверсированное мышление — самая странная вещь, не вписывающаяся ни в какие нормы. Когда я собирал материал для книги, то отправился в Испанию, в провинцию Жерона, где у Карла Найя огромный дом в порту Палс. Оттуда мы с Карлом поехали к Юлию в Гранаду, где он снимал комнату над cantina. В течение многих лет оба брата не разговаривали друг с другом. Не из-за ненависти. Между ними стояло чье-то присутствие, привидение, отсутствие, которое давило на них всю жизнь и природу которого я постепенно узнавал. Это присутствие-отсутствие неразрывно связывало двух братьев, вызывая невыносимые угрызения совести».
— Он открыл вам причину этих угрызений совести? — спрашивает Следователь.
— Не совсем. Но я понял, что между братьями произошло что-то ужасное, что не только не отдалило, а еще больше приковало их друг к другу. «Передайте вашему другу мои извинения, — сказал мне Литературовед, — но пока я полностью погружен в инверсированные сочинения Юлия. Еще в Гранаде я был очарован его оригинальными высказываниями, которые подчеркивали различные стадии его постоянного опьянения. Но сегодня я испытываю настоящий страх, сравнивая написанное Юлием и Карлом. Посмотрите на эти стопки на полу, между кроватью и ванной комнатой. Это последние сочинения Карла Найя, «великого писателя». Я прочел несколько десятков страниц — они ужасно откровенны». Когда я попросил Литературоведа быть поточнее, он ответил, что пока не может этого сделать и что у него голова идет кругом от сопоставления этих сочинений. «Кажется, это наброски двух огромных и амбициозных книг, призванных дополнить друг друга, хотя их авторам об этом не было известно. Это две книги-завещания, как называют их при жизни автора и которые предают забвению после его смерти. То, что писал Карл Най, хотя именно его называли великим писателем, кажется мне намного слабее и примитивнее того, что писал Юлий. В рукописи Карла то и дело попадаются фразы, подразумевающие, что их автор серьезный и честный человек, а его читатели прежде всего должны восхищаться этими его качествами. Зато сочинения Юлия, так потрясшие меня этой не чью, удивительно скандальные. Оба брата одержимы одной и той же мыслью, одной и той же темой. Но один действует как литературный бетаблокатор, а второй погружает вас в неведомые пучины», — сказал Литературовед, явно находясь под впечатлением от того количества рукописей, которые мы на него взвалили.
— Да, это может обеспокоить, — вздыхает Следователь. — Получается, он очень впечатлителен и принимает все, что касается литературы, слишком близко к сердцу. Кроме того, его отношение к семейству Найев кажется мне предвзятым. Он превозносит Юлия так, словно неудачник-писатель, пребывающий в тени своего брата, дает ему пищу для исследований. Не секрет, что многие ученые ненавидят тех, кого изучают. И поскольку Карл был солнечной орбитой, вокруг которой вращались остальные члены созвездия Найев, то наш бедный литературовед пытается всеми способами принизить Карла и возвеличить Юлия.
— Не думаю, — отвечает Поэт-Криминолог. — И вот почему. Я пошел на небольшую хитрость и перефразировал прекрасную фразу Музиля, которую тот мрачно обронил по поводу Томаса Манна: «Карл Най — это что-то! Но точно не кто-то!» Не так ли вы думаете и не так ли думал Юлий о своем брате?» — «Ни в коем случае! — воскликнул Литературовед. — Эта лаконичная оценка должна остаться в Швейцарии, на совести того желчного писателя, который ее дал. Нет ничего более опасного, чем такие неуместные изречения. Эти слова касаются только того, кто их произнес: писатель Роберт Музиль, эмигрировавший в Швейцарию, в отличие от других «гениальных скаковых лошадей», первых пришедших к финишу на издательском ипподроме, не смог смириться с тем, что не был по достоинству оценен своими соотечественниками. Карл Най был не из тех, кто, как говорят, «морочит голову»; может, у него и была какая-то стратегия, но он всегда действовал честно. В этом он немного походил на Томаса Манна, крупного буржуа, не прибегавшего ни к бунту, ни к злопыхательству. Карл Най был таким и до того, как получил премию «Динамит», как называли в шутку эту высшую награду Роза и Курт. Томас Манн, на которого, конечно же, пытался походить Карл, был закоренелым занудой. Все произведения Манна — это мрачное смакование болезни. Он говорил только о болезни, спал, ел, думая о болезни, отождествлял себя с нею и, вероятно, немного любил ее. Его крупные и небольшие романы полны ипохондрии, болезненности, это книги страданий и постыдных удовольствий. На этом заканчивается возможное сходство между ними, так как в отличие от Томаса Манна Карл Най скрывал какую-то тайну, ужасную тайну, в чем я не был уверен, когда писал свою книгу, но этой ночью, расшифровывая его бумаги, мне показалось, что я напал на след». Вот что рассказал мне Литературовед.
— Тогда пойдемте скорее к нему! — восклицает Следователь. — У нас есть предлог: фотографии, о которых мы вчера говорили.
— О нет! — возражает Поэт-Криминолог. — Только не сейчас, не будем его раздражать. Дождемся обеда. В конце концов голод заставит его выйти на улицу и нам будет легко затащить его в Морской клуб, где мы всё из него и выпотрошим, — со смехом добавляет он.
— Нам нужно его контролировать, держать строго в рамках расследования. Мы же доверили ему эти ценные бумаги не для того, чтобы он ответил на свое исследование антиисследованием, включив в него не только свои литературные открытия, но и наши выводы. Этот материал принадлежит нам. Это мы пригласили его работать с нами, а не наоборот. Что произошло на борту «Урана»? Вот что мы хотим знать.
4
— И все же нам нужно крайне уважительно обращаться с этим литературоведом, — продолжает Поэт-Криминолог, — поскольку лишь он, хорошо зная семейство Найев, может пролить свет на то, почему все обитатели «Урана» внезапно лишились рассудка и очутились в море.
— Или же кто-то из них все-таки остался на борту? Но почему он тогда убрал лестницу? — вопрошает Следователь. — И как получилось, что потом он тоже оказался в воде? Давайте представим себе пустую яхту и ее обитателей, плавающих два дня вокруг нее…
— Два дня? Это много.
— Вы ошибаетесь. Иногда потерпевшие держались на воде и по четверо суток, если вода была не очень холодной. В любом случае, все они кружили вокруг этой роскошной лакированной яхты, безуспешно пытаясь за что-нибудь уцепиться. Кровавые царапины на корпусе красноречиво показывают, что все были в панике и ярости и не понимали, за какие грехи судьба бросила их в это глупое море.
— Интересно, — размышляет Криминолог, — о чем они разговаривали, пока плавали? Какая жалость, что их слова не доносились до берега, как это происходило во время одного морского сражения. «Поскольку свидетелей нет, — сказал я Литературоведу, — то только вы с вашей проницательностью сможете обнаружить в их рукописях какой-нибудь знак, тайное предчувствие, преднамеренный умысел, желание покинуть этот мир! Благодаря современным методикам чтения текста и особенно черновиков, можно выявить намерение там, где автор и не подозревал, что выдал себя. Это явно был не несчастный случай, и эту загадку нужно разгадать».
— Если только они не отмечали какой-то праздник, — прерывает его Следователь, — и, напившись, не прыгнули ради смеха в воду, не подумав, что лестница убрана.
— Или же все прыгают в воду, кроме одного. И тогда на него внезапно нисходит озарение. Он решает совершить то, о чем давно мечтал в одиночестве. Великолепный способ легко покончить со всей семьей… а заодно и с самим собой.
— Покончить не просто с ненавистной семьей, — развивает эту мысль Следователь, — а, в первую очередь, с литературной семьей. Причем без насилия: убрал лестницу и прыгнул в воду.
— Почему вы говорите ненавистная! Зачастую «красивые» убийства всех членов семьи, наоборот, совершались из-за переизбытка любви. Некоторые из выживших самоубийц, которых мне доводилось допрашивать, не могли смириться с мыслью, что их любимые будут страдать от горя и отчаяния после их смерти.
— Давайте пофантазируем, — предлагает Следователь. — Предположим, что это коллективное самоубийство произошло то ли от избытка любви, то ли от отчаяния. У кого, по-вашему, был этот избыток «любви»… или это отчаяние? Вот вопрос, который нужно немедленно задать нашему странному литературоведу. Кстати, пора бы его навестить, так как приближается время обеда.
Они приходят в отель и поднимаются в номер к Литературоведу. Но на их стук он не открывает. Они продолжают стучать. Тогда Литературовед через закрытую дверь кричит, что читает увлекательнейшие вещи, и просит его не беспокоить. Они снова стучат. Наконец дверь распахивается и в проеме появляется Литературовед со стопкой листов в руке.
— Ну что вам надо?
— Поскольку вы были с ними знакомы и вам удалось завоевать их доверие, скажите, был ли среди них хоть один, настолько одержимый любовью к своим близким, любовью, переросшей в психоз, что он захотел всех уничтожить, как это порой случается во внешне благополучных, ничем не примечательных семьях? — спрашивает Следователь.
— Как поэт и как криминолог я задаюсь вопросом, а не является ли этот случай обычным вымыслом, достойным пера Эдгара По? Не являются ли наши умозаключения ложными, поскольку информация, полученная из совершенно разных источников, сплетается в узел, который становится все более запутанным по мере его распутывания?
— Если я правильно понимаю, — говорит Литературовед, — вы предпочитаете придумать объяснение этой загадке, вместо того чтобы найти его?
— Вы почти угадали, — смеется Поэт-Криминолог. — Для криминолога было бы очень заманчиво найти место и для «художественной» стороны. Художники расследования! Вот кем мы должны быть! Помните знаменитое «Похищенное письмо» Эдгара По? Оно лежало на самом заметном месте, но его никто не замечал, то есть на самом деле оно было невидимым. Но именно то, что оно бросалось в глаза, вызывает у нас приятную дрожь, когда мы с наслаждением читаем этот литературный вымысел. Поэтические преступления По — настоящая чепуха, но если бы они не были чепухой, им не было бы места в книгах. Перед тем как прийти к вам, мы говорили о том, что в наше время с невиданной скоростью распространяется болезнь, не имеющая пока названия — убийство членов своей семьи отцами, внезапно теряющимися перед жизненными трудностями. Отец семейства! Забавное сочетание пустых слов! Дайте нам святого, дайте священное убийство — и больше не будет беспочвенных преступлений, городских преступлений, вызванных непониманием современной жизни. Назовем это «преступлением в двух измерениях».
— По-моему, загадка «Урана» никак не связана с «преступлением в двух измерениях». Не удивлюсь, если в ней найдется место священному. Ладно, входите и садитесь сюда, на край кровати, — вздыхает Литературовед, отодвигая несколько стопок рукописей. — Представьте себе, я как раз читал странный текст Курта Найя. Курт находится вместе с отцом в Морском клубе по случаю спуска на воду последнего «Урана».
— Я помню, как это происходило, — прерывает его Следователь. — Карл Най, как обычно, был в центре внимания. Его сыновья, дочь, Зорн, а также завсегдатаи клуба были там.
— Вот что пишет Курт, — продолжает Литературовед, перебивая Следователя: — «Отец обнял меня за плечи и, сильно прижимая к себе, произнес: «Знаешь, почему я называю все мои яхты «Уран»? В честь лодки Шарона. Уран — давно забытый бог, несчастный отец всех богов. Вначале была Тьма, и, как это ни странно, из Тьмы родился Хаос. От союза Тьмы и Хаоса родились Ночь, День, Эреб и Воздух. От союза Ночи и Эреба родились Судьба, Старость, Смерть, Убийство, Целомудрие, Сон, Мечта, Ссора, Страдание, Тирания, Немезии, Радость, Дружба, Сочувствие, Парки и три Геспериды». Роза, Франц и Густав тоже были здесь и с удивлением слушали странные слова отца. Юлий стоял чуть в отдалении, смешавшись с другими гостями. Он странно улыбался». А немного дальше Курт говорит о своей ненависти к яхте: «Это абсурдная семейная традиция, но до сих пор ни один из нас не набрался смелости отказаться от приглашения отца. Даже Юлий. Отец все не отпускал меня, обнимая за плечи с явно выраженной любовью. Наконец, словно в шутку, он произнес эти жуткие слова: «Бог Уран был кастрирован своим любимым сыном Кроном». Эти слова удивили всех присутствующих, и в воцарившейся тишине он, немного повысив голос, объяснил: «Уран спал, и тогда Земля-Матушка вооружила их сына Крона серпом, объяснив, что нужно сделать. Крон схватился левой рукой за гениталии отца, — уточнил мой отец, — проклятой рукой, что не предвещало ничего хорошего, и обрубил их. Он выбросил серп и член своего отца в море, но несколько капель крови пролились на землю, и из них родились три Эриннии — фурии, которые мстят за отцеубийство и клятвопреступление»».
— Я прекрасно помню эту странную речь, — вспоминает Следователь. — И даже не удивляюсь, что Курт записал ее. Но знаете, в такой выходке нет ничего необычного. Карл Най был человеком очень учтивым, очень обходительным… но иногда говорил страшные вещи. И тогда он старался замаскировать их под мифы, которые хорошо знал и охотно рассказывал.
— А вот страница, где Курт пытается объяснить странности своего отца, — продолжает Литературовед. — Говоря о невыносимом грузе, — Курт забавляется тем, что играет со словом книги, — книги «великого автора», «автора, известного не только в международном, но и во всемирном масштабе», которого тщеславие и дифирамбы заставили писать все более ожидаемые книги вместо того, чтобы рисковать, как говорил Фрейд, быть первым, кто… Взгляните, каждый раз, упоминая своего отца, Курт пишет по-французски слово livres (книги) справа налево — servil (рабский).
— А ну-ка покажите, — с нетерпением произносит Поэт-Криминолог. — Да, это очевидный след, хотя мы точно не знаем, что означает это перевертывание слов. Когда человек начинает писать или читать справа налево, он недалек от чисто литературного помешательства. У Курта перевернутое слово приобретает преступное значение. Я так и вижу, как он в ярости пишет повсюду слово рабский в отношении великого Карла Найя. А это ясно указывает, в каком душевном состоянии пребывал этот сын, тоже пишущий книги!
— Но только не в рабском! — смеется Литературовед. — Курт, Роза и Франц относились к отцу с некоторым превосходством. Вначале это не бросалось в глаза, но по мере завоевания их доверия начинало чувствоваться. Больше всего их потешало то, что Карл с гордостью согласился стать лауреатом премии, которую они в шутку окрестили «Динамит». «Что может быть общего у динамита со славой?» — как-то спросил меня Курт Най. В то время я находился с ним, его сестрой Розой и Густавом Зорном в Австрии, где собирал материал для своей книги. Они очень приветливо приняли меня в доме, расположенном в пригороде Вены, который предоставили в их распоряжение продюсеры, снимавшие фильм по первому роману Розы Зорн-Най.
— Что общего у динамита со славой? — повторяет Поэт-Криминолог. — Действительно! Динамит, нужно признать, при совершении кровавых преступлений не обладает с криминологической точки зрения завораживающим эффектом по сравнению с другими средствами. Представьте себе Каина, взрывающего Абеля! Больше нет Жертвы! Больше нет Искупления! А Авраам, подкладывающий динамит в кровать своему сыну, как вам это? Нет больше ножей! Нет больше игры с Богом! Только анонимный динамит! А если подумать, что этой премией награждаются и работающие в «мирных целях» физики, взявшие в качестве образца разрушения как раз динамит, чтобы во множество раз усилить последствия давно ожидаемого Апокалипсиса.
— Вы намекаете на сочинения Розы Най? — улыбается Литературовед.
— Вот именно. Только такая неврастеничка, как Роза Най, могла осмелиться затронуть литературные темы, на которые отважились посягнуть лишь несколько писательниц-англичанок в девятнадцатом веке. Вспомните этих неврастеничек, ставших жертвами пуританизма их безбородых наставников — отцов, дядей, кузенов или мужей, похожих на словно выбравшихся из саркофагов мумий с высушенными руками. Ничего удивительного, что их болезненное воображение рисовало лишь ветры и низко нависшие над ландами облака, а их книги рассказывали о гробах, трупах с пустыми глазницами и кровосмесительной любви. Да, Розе Най удалось заново изобрести ядовитое современное письмо, где чуть в завуалированном виде показывается отвратительный отец, охваченный сильнейшей паникой. Вездесущий отец владеет волшебным кольцом, сверкание которого снимает с детей кожу… Помните знаменитую фотографию ребенка с ободранной кожей, кричащего: «Да!», позади которого возвышается гриб с головой мертвеца — результат ядерного взрыва?
— Роза Най, — замечает Литературовед, — обладала необыкновенно оригинальным умом. Мне так и не терпится погрузиться в ее сочинения, которые я положил на этот стул. У нее есть совершенно потрясающие страницы о ее брате Курте и особенно о ее браке с этим чокнутым комедиантом, чью фамилию она взяла и даже подписывала ею свои последние книги: Роза Зорн-Най. Все эти откровения так волнующи! Только ночная тишина поможет мне разобраться в них. В любом случае, книги Розы Зорн-Най не имеют ничего общего с рабскими.
5
— Когда я собирал материал для своей книги и пытался разобраться в отношениях треугольника Роза-Курт-Густав Зорн, то часто думал о семействе Бронте, — продолжает Литературовед. — Две сестры и брат-наркоман, тщеславный и слабоумный, пишущий бездарные поэмы, которые он подсовывал в рукописи своих сестер.
— В случае с Найями, это, скорее, брат и сестра предпочитали бы, чтобы между ними вторгся кто-то третий, — говорит Поэт-Криминолог. — И именно этой болью, если я правильно понял, проникнуты их сочинения, постепенно опутавшие молодое трио неразрывной сетью.
— Вы правы, только эта сеть была намного больше и крепче и в нее попались все члены семьи. Просмотрев лишь ничтожную часть рукописей, я пришел к выводу, что, несмотря на различную манеру письма, их сочинения образуют единое целое. Словно мы имеем дело с особой культурой Найев, их противоречиями, союзами, изменами, обманами, любовными связями, постыдными инцестами, в которых они не только признаются, но и пользуются как любимым оружием, придумывая мифы о своем отце, прекрасно устроившемся в истории литературы, умерщвленной этими же мифами. Вы не можете представить, как мне ужасно хочется вернуться к своей книге и до какой степени то, что я успел узнать из этих рукописей, переворачивает всю картину, сложившуюся у меня об этой семье. Раньше я видел в трио Роза-Курт-Густав влюбленных близнецов, что казалось почти нормальным, учитывая современные нравы, то есть двоих в одном, втянувших в свою орбиту третье, проходившее рядом тело…
— А вы знаете, что так и происходит с некоторыми редкими небесными светилами? — говорит Поэт-Криминолог. — Вращаясь, эти двойные звезды засасывают и поглощают блуждающие тела.
— Да-да, но в данном случае сила притяжения действовала вначале по формуле двое поглощают одного, а потом, постепенно, все изменилось и один поглотил двоих. Понимаете? Его можно сравнить с великолепным и дьявольским Хитклифом, созданным Эмили Бронте. «Это он», — подумал я, впервые увидев Густава Зорна в Вене, хотя раньше, познакомившись с Куртом, сказал себе: «Вот как мог выглядеть Хитклиф, и таким, наверное, был брат Бронте, пока Эмили со свойственным ей болезненным воображением не придала ему новые черты». То, что две сестры параллельно писали романы, где обожаемый ими брат представал самим воплощением дьявола, нет ничего удивительного, поскольку в том веке женщины жили как заживо погребенные. Сегодня, конечно, шокирует не инцест или извращения, а необузданность настоящей безумной любви. Да-да, безумной! Было очень заметно, что Розу и Курта связывает что-то неистовое, какая-то любовная электрическая сила, безнадежная и торжествующая. Это выражение «любовная электрическая сила» я позаимствовал из рукописи Розы. И это же выражение я нашел в рукописи Курта, которого следовало бы теперь называть Курт Най-Зорн, настолько талантливо Зорн, объединившийся с близнецами, паразитировал на этой любви.
— Да-да, — соглашается Следователь, — когда Зорн появлялся в Морском клубе, все взгляды присутствующих сразу же устремлялись на него. Этот человек обладал отталкивающим очарованием. О нем ходило много слухов. Одно очевидно: Карл Най терпеть его не мог… а Густав Зорн не пропускал ни одного семейного путешествия на яхте. Он наслаждался холодностью Карла, и часто, в Морском клубе, я замечал, как старик Най весь застывал при приближении Зорна и подчеркнуто отворачивался.
— Несмотря на это, — замечает Литературовед, — он всегда брал его на борт. Ненавидя его, он в то же время не мог без него обходиться. Уж я-то знаю, поверьте!
— Да, такое неприкрытое влечение вызывало немало улыбок.
— Ох уж этот Зорн! Какой прекрасный подозреваемый! — со смехом говорит Поэт-Криминолог.
— Вот именно! — отвечает Литературовед. — Если бы мы могли доверять своей интуиции, то выбрали бы его. Но, исходя из опыта, мы знаем, что когда всё указывает на человека…
— Это доказывает, что он не виновен.
— И все же лишь он в силу своей порочности кажется мне способным совершить это преступление.
— Порочность не может быть мотивом. Утопить столько людей и утопиться самому из-за порочности? Нет! — восклицает Следователь.
— Но все как раз наоборот! — возражает Поэт-Криминолог. — Я изучил с научной точки зрения множество преступлений, и в моей практике было, как говорится, хоть пруд пруди преступлений, где отсутствовал мотив. Преступление — уже само по себе мотив. Сколько преступников, отличавшихся артистической натурой, признавались, что не могли устоять перед возможностью побороть искушение! Воспользоваться удобным случаем. Совершить почти невероятное! Это невозможно, но я сделаю! Мы должны понимать, что желание убивать заложено в природе человека. Первобытный человек не знал, что он убивает. Он жил себе и жил. Смерть предшествовала преступлению. До преступления было убийство. Но убийство нас не интересует. Смерть не подчиняется жизни: это движется — это больше не движется! Были вдвоем — остался один. Вероятно, такова была первая реакция того, кто, встав на нижние конечности, удивленно констатировал: то, что двигалось, больше не движется. Не правда ли, потрясающее впечатление? Едва он понял, что жизнь, как в зеркале, имеет обратную сторону, то у него возникло непреодолимое желание разбить это зеркало. Вот, на мой взгляд, достаточно сильный мотив для коллективного утопления: философское убийство.
— Остается только узнать, кто из присутствующих на яхте был философом, — скептически замечает Литературовед.
— Вот именно!
— То есть кто не смог воспротивиться философскому искушению?
— Вот именно! Искушению «красоты». Это было слишком красиво, понимаете? Вокруг — необъятное синее море, сливающееся на горизонте с таким же синим небом; неподвижно стоящий «Уран», величественный, белый, похожий на айсберг. Все шестеро плавают в воде, смеются и переговариваются…
— Вы говорите шестеро, а их было семеро.
— Все правильно! Но кто-то же поднялся первым! Кто-то, нагнувшись и глядя с высоты на остальных, не смог побороть искушения убрать лестницу и самому прыгнуть за борт. Вероятно, он думал, что такой случай совершить редкое по красоте преступление предоставляется умному человеку с художественной натурой раз в жизни.
— Вы рассуждаете как эстет-криминолог, — замечает Литературовед. — То, что вы, исповедуя теорию о возможной «красоте» преступления, не смогли бы устоять в подобной ситуации, я почти допускаю, но то, что в этой семье нашелся бы хоть один, поддавшийся почти естественному, по вашему мнению, искушению, я ни за что не поверю!
— Но вы меня плохо поняли! Да, это чудовищное преступление, но неотразимое с художественной точки зрения!
— Мне кажется, вы кое-кого забываете, — перебивает его Литературовед. — К примеру, Лоту Най.
— Что? Молодую жену старика Найя?
— А чему вы удивляетесь? Я просмотрел ее дневник. Он очень странный и сложный, причем не только из-за своего стиля, но также из-за вставок и рисунков, сделанных рукой Карла! Но об этом позвольте мне рассказать позже, когда я ознакомлюсь с увеличенными фотографиями знаков, обнаруженных на корпусе «Урана».
— В таком случае пойдемте ко мне на работу! Фотографии уже готовы.
— Нет, я не могу заниматься всем сразу. Поймите, за одну ночь на меня свалилось слишком много информации. И я чувствую, что совсем утону, как только продолжу чтение.
— Лота Най, — размышляет Криминолог, — да, это соблазнительно — сделать ее подозреваемой. Ей грустно, она чувствует себя одинокой в этой семье. Предположим, что все бросаются в воду, кроме нее. Она смотрит, как они плавают вокруг яхты, и внезапно ее охватывает что-то такое, перед чем невозможно устоять: одним жестом, не требующим никаких усилий, она берет лестницу и бросает ее купающимся. Вначале все смеются, потом жутко пугаются. Ее просят спустить веревку, швартов, чтобы поднять лестницу и снова прикрепить ее. Но что делает Лота?
— Она бежит, пытается найти швартов, — предполагает Следователь.
— Никоим образом! Возбужденная общей паникой, криками, требованиями, скорее всего, Карла Найя, она чувствует внезапное головокружение и тоже прыгает в воду. Да, вот так, спонтанно… или от отчаяния… но она понимает это уже в воде. И тогда пробуждается.
— Скажите, все криминологи обладают таким дьявольским воображением? — со смехом спрашивает Литературовед.
— Криминология действительно дьявольская наука. Она доказывает, что преступление завораживает человека. Я уже говорил, именно преступление, а не убийство. Убийцей был Каин, а преступниками стали его потомки, которые знали, что делают. Каин, в отличие от своих потомков, был простодушным. Убийство превратилось в преступление со смертью простодушного Авеля. Я люблю великих преступников; криминолог во мне любит великих преступников. Кто когда-нибудь станет изучать простодушных? Кто когда-нибудь станет изучать социального раба? Социальный раб — это клон, биологически размноженный, несущий в своих генах закон «ты никогда не будешь убивать». Социальный раб ест, пьет, спит, производит себе подобных; вот уже тысячи лет он вне игры, за что получает компенсацию в виде ежедневной горстки хлеба насущного. И вдруг — никто не знает почему? — в нем просыпается дьявол. Этот действует уже по-другому. Но вот думает ли он по-другому? Об этом никому не известно, но всё, что он делает, — это уже другое. Преступление — в нем, оно живет и поджидает удобного случая. Еще никого не убив, дьявол уже преступник. Он идет в безликой толпе, и никто не замечает, что преступление живет в нем, что он сжился с ним, как талантливый артист с образом преступника.
— Вы читали книги Юлия Найя?
— Нет.
— Я поражен, насколько близки его и ваши парадоксы. Посмотрите на эти рукописи на столе. Они занимали три старых чемодана, которые Юлий притащил на яхту. Одно из своих сочинений он сопровождает эпиграфом, взятым из Ницше. И этот эпиграф приоткрывает скрытые черты характера Юлия, кажущегося таким таинственным и отстраненным от мира сего. «Я должен преодолеть более ста ступенек. Я должен подняться, сопровождаемый вашими криками: «Ты твердый как камень. Неужели мы — камни?» Я должен преодолеть более ста ступенек. И никто не желает быть ступенькой».
— Эти стихи недостойны гуманиста, — говорит Следователь. — Эти стихи недостойны настоящего поэта!
— И однако, — замечает Поэт-Криминолог, беря листок, — эти стихи показывают всю тихую и тайную ярость, давящую на душу как преступника, ожидающего, когда пробьет час для его великого преступления, так и артиста в ожидании невероятного шедевра. Каждый поэт предпочитает убийство слов убийству людей. Поэт и гуманист? Сожалею, но эти понятия несовместимы. Есть тысячи людей, пописывающих стихи, есть тысячи гуманистов, пописывающих стихи. Но можно ли назвать их поэтами? Конечно же нет! Не об этом ли говорил тот же Ницше? «Это не книга: что значат книги! Эти гробы, эти саваны! Прошлое — вот добыча книг. Но здесь царствует Вечное Сегодня». Вот настоящий поэт-преступник, поэт, не являющийся гуманистом, и такими были все жестокие поэты, исполненные любовью-ненавистью к человечеству.
— Я восхищен вашей интуицией! — восклицает Литературовед, помахивая стопкой листков, исписанных необычайно сжатым почерком. — Юлию удалось невероятное — лишить слова спокойствия. В этих рукописях встречаются фрагменты почти нечеловеческой красоты и великолепия. Этой ночью, переходя от одной рукописи к другой и невольно сравнивая их, я смог отметить, насколько сочинения Юлия, впрочем как и Розы, достойны стихов Ницше: «Море смеется. Это неслыханно!» И это лишь первое впечатление! Дайте мне еще несколько дней — и я обещаю вам немало сюрпризов… А также будущим потомкам.
— Хватит поэзии! — восклицает Следователь. — И какое нам дело до будущих потомков! Я прошу вас дать мне зацепки или хотя бы какие-то рассуждения, предвещающие будущую драму. То, что творения Юлия Найя призваны взбудоражить будущие поколения, нам безразлично. Как следователю мне не терпится узнать то, что относится непосредственно к делу, а не к вашим литературным исследованиям. Меньше всего вы должны обращать внимание на стилистические изыски. Мы ждем от вас шокирующих откровений! Кто убил? Почему убил? Как убил? Мы должны удовлетворить любопытство. Не наше любопытство, а вообще любопытство. Мы сделаем отчет по поводу загадки «Урана», посвященный богине Любопытства! А не описанию загадки «Урана» ради вашего удовольствия. Каким образом будет получен ответ, нас мало волнует; мы хотим удовлетворить любопытство.
— Как тайный поэт я с вами не согласен, — говорит Криминолог, — но как криминолог я вас почти поддерживаю. Поэт во мне ненавидит любопытство, эту ядовитую шпагу, которой писатель пронзает сердце читателя. Любопытство требует финальной точки. Загадка должна оставаться загадкой. Ну ладно, давайте на этом остановимся и отправимся пообедать в Морской клуб.
6
Теперь они сидят за столиком в Морском клубе.
— Давайте-ка снова возвратимся к семье Найев, — предлагает Следователь. — Скажите, как это старик Най согласился на то, чтобы вы стали писать книгу о его семье? Зная его характер, я удивлен, что он пошел у вас на поводу.
— О, он не пошел у меня на поводу! Он пригласил меня в гости, думая, вероятно, отговорить от этой работы. Для этого мне пришлось поехать к нему в Испанию, и он поставил условие, чтобы наша встреча продлилась не более двух часов… в результате я остался там на неделю.
— Значит, он согласился?
— Вовсе нет. Но, не будучи в состоянии мне помешать, он попытался в Палсе, а потом в Гранаде, Нью-Йорке и Берлине «отбить у меня охоту». Это его слова. «Вы не напишете эту книгу», — все время повторял он, тем не менее отвечая на мои вопросы. Конечно, он сразу понял, что я пойду до конца. Он знал, что я буду встречаться с Розой, Куртом и Францем, что я в курсе того, где находится Юлий. Юлий не отказался от встречи со мной, и это тоже он знал. Что же он делал, чтобы держать меня в руках и твердо направлять в нужное ему русло? Во-первых, он принял меня в маленьком мавританском садике, где у него стоял рабочий стол. Когда я произнес «литературная семья Найев», старик весь напрягся, а Лота начала нервничать. «Как?! — вскричал он. — Вы собираетесь писать не научный труд о моих произведениях, а исследование, выходящее за рамки литературы?» — «Вовсе нет, — ответил я, — я бы хотел с вашей помощью, а также с помощью ваших детей, согласившихся встретиться со мной, построить здание не столько на базе литературной критики произведений вашей необычной семьи, сколько на семантическом исследовании этого исключительного феномена. В истории еще не было семей, полностью посвятивших себя литературе и создавших ряд параллельных произведений. Именно этот, я бы сказал, генетический аспект меня и привлекает». То есть я перенес акцент на научное исследование материала, хотя на самом деле меня интересовал вопрос «как они это переживают?». Но старику больше всего не нравилось то, что я ставлю на один уровень его произведения с произведениями его брата и детей.
— Даже с произведениями Франца?
— Даже с ними.
— Но Франц, скорее, был философом. Я читал его труд о чувствах. Вряд ли он мог тягаться с «великим» Карлом.
— Из всех детей меньше всего Карл любил Франца. Причину я понял гораздо позднее. Франц был третьим ребенком — последним, — и его рождение стоило жизни матери, первой жене Карла. Этого Францу он никогда не простил. Такова жизнь! Через Франца он за что-то ее винил, может, за страшный уход. Она укрылась в смерти, оставив его одного с тремя детьми на руках. Но в тот момент он старательно избегал разговоров о детях и с трудом сдерживался, когда я упоминал его брата Юлия. Он даже не хотел говорить о своих книгах. Он начал с общих рассуждений о литературе, упомянул «Кольцо и книгу» Роберта Браунинга[1]…
— Одну из самых странных книг, которую почти никто не читал! — говорит Поэт-Криминолог. — А знаете, что в Лондоне есть тайная секта почитателей этой книги?
— Карл мне об этом сказал и намекнул, что вокруг его собственных книг «кристаллизуется», по его выражению, небольшое общество «анонимных читателей». «В противоположность этому, — продолжал он, — все уверяют, что читали «Улисса» Джойса, хотя на самом деле никто не прочел его до конца… или, наоборот, все прочли конец. Ах, эта Молли!» Нахмурившись, он замолчал с напряженным видом. В тот же момент к нему подошла Лота и положила руки на его седую голову. Она обращалась с ним как со взрослым ребенком — участливо и с некоторым превосходством.
— Итак, вы встретились с Карлом Найем в Палсе, — уточняет Следователь. — Признался ли он вам в чем-то таком, что могло предвосхищать будущую драму?
— На второй день нашей встречи Карл упомянул отрывок, не называя произведения, где рассказчик берет двуствольное ружье и стреляет в пловца, чье красивое и решительное лицо то появляется, то исчезает среди волн. Помните этот отрывок, отличающийся очень милой небрежностью стиля? «В самый жуткий момент бури я увидел над водой голову с торчащими волосами. Человек отчаянно и энергично боролся со стихией. Он заглатывал литры воды и скрывался под волнами… Ему было не больше шестнадцати лет, так как при вспышках молний, разрезавших ночную тьму, я заметил над его верхней губой пробивающийся пушок…» Я мог бы продолжить до конца.
— Значит, Карл Най, не называя произведения, упомянул этот фрагмент? — настойчиво переспрашивает Следователь.
— «Несчастный «Уран»! — воскликнул Карл, когда мы шли по берегу в Палсе. Махнув тростью в сторону стоявшего неподалеку на якоре «Урана», он словно пригрозил небу и морю. — Хотите узнать мое самое заветное желание? — продолжил он с такой неприятной иронией, что я в какой-то момент подумал, уж не насмехается ли он надо мной. — Мое самое заветное желание — увидеть, как эта яхта идет ко дну со всеми моими родственничками».
— Вы говорите, его заветное желание… — прерывает Следователь.
— Да, и он добавил все с той же неопределенной интонацией: «И чтобы ни один из нас не спасся! Но в то же время мне хотелось бы спрятаться с двуствольным ружьем на прибрежной скале и стрелять в каждого прыгающего в воду». Он засмеялся и, внезапно переменившись в лице, как это часто бывало с ним, сказал, что это был сюжет, который он вынашивал для своей будущей… или последней книги… я точно не помню.
— Однако вы не могли не заметить разницы между будущей и последней, — замечает Следователь. — Второй термин не только всё меняет, но и значительно усиливает наши подозрения. Вы действительно считаете Карла способным…
— Нет, не думаю. Одно дело — рисовать все это в воображении, другое — уничтожить всех близких и себя в том числе… перейти от написанного к делу…
— Вы ошибаетесь, — прерывает его Поэт-Криминолог. — У меня был совершенно необычный случай, когда человек перешел от написанного, как вы говорите, к делу. Одна работница от скуки или ненависти к своей семье начала писать сама себе анонимные письма. Хотела развлечься? Устала от роли «матери семейства»? Никто не знает! Какие угрозы были в ее письмах? Конечно же, разбить ее семейное и материнское счастье. То счастье, которое эта работница в тайне души ненавидела. Но так как никто не воспринимал всерьез эти анонимки, которые по ее замыслу должны были пробудить интерес к ней, то она в каждом письме стала увеличивать дозу. Угрозы стали более конкретными. Она дошла до того, что начала угрожать жизни собственного ребенка. Но никто так и не всполошился. Люди смеются, когда шантаж приобретает огромные размеры. Вполне естественно, что молодой женщине нужно было выполнить обязательства по литературному контракту, который она заключила сама с собой. И тогда она убила своего ребенка! Написанное осуществилось.
— Не думаю, что Карл был настолько «простоват». Вспомните, как он прекрасно знал мифы, — продолжает Литературовед. — «Я не хочу быть «современным» автором, наоборот, я хочу, чтобы меня считали «античным» автором, — говорил он. — Я хочу оставаться как можно ближе к мифам, в которых я у себя дома. Я все люблю в мифах: кровь, людоедство, инцест, многочисленных богов, зеркально отображающих человека. Цель всех моих книг — осовременить античные мифы. Я хочу придать им красоту, очарование, которые возвысят их и сделают доступными для понимания. Возьмите, к примеру, рубрику происшествий. Добропорядочный, как говорят, отец семейства по непонятной причине, — а чаще всего без причины, что еще более непонятно, — убивает своих детей, жену и других родственников… а затем накладывает на себя руки, приговаривая сам себя. Понимаете, отец семейства, как недавно его еще называли, приговаривает сам себя! Так когда же в нем расцвела черная сторона души?» Мы по-прежнему прогуливались по пляжу. Всю неделю, что я оставался у него в Испании, мы только это и делали. Вдруг он остановился и начертил на мокром песке какие-то странные знаки. Кстати, во мне зреет подозрение, что знаки на борту «Урана»… но к этому мы еще вернемся! Карл Най продолжил: «Хотя много веков назад мы пришли к патриархальному обществу, где-то в душе мы все еще сожалеем о матриархате. Я это понял в тот день, когда умерла моя жена Бель. Да, в этот день я пожалел об эпохе, канувшей в Лету, когда правила Царица-Мать, Великая Богиня, явившаяся из Месопотамии, прародительница Афродиты Урании, царица священной горы, где жила Эрикиния, богиня середины лета. Она убила Царя, сблизившегося с ней на вершине горы. Эрикиния Афродита Урания — Эрикиния означает вереск, не забудьте упомянуть об этом в вашей книге, дорогой литературовед, и обязательно подчеркните красный цвет вереска — любимый цвет Царицы-пчелы, убивающей трутня путем отрывания ему половых органов — была одета в красное как в момент ее любовной связи с Анхисом на вершине священной горы, так и во время принесения в жертву несчастного Царя».
— Подождите, подождите! — прерывает его Следователь. — Карл Най, случайно ли, не морочил вам голову? Я прекрасно помню, что когда в Морском клубе он хотел посмеяться над кем-то из своих детей или приглашенных, то именно в мифах, по его словам, находил подходящие примеры. Честно говоря, мне всегда казалось, что у него больше развито воображение, чем память.
— Однако то, что он говорил о Царе, которого принесли в жертву на священной горе, совершенно верно, — продолжает Литературовед. — Карл Най, рассказывая о свергнутом Царе, видел в нем себя. Честно говоря, в семье он ощущал себя свергнутым царем или богом. Каждую строчку, написанную его братом, одним из сыновей или дочерью, он воспринимал как посягательство на свое господство.
— И все-таки вы не думаете, — настойчиво переспрашивает Криминолог, — что Карл Най морочил вам голову? Хорошо известно, что когда автор находит достаточно наивного исследователя, то не может отказать себе в удовольствии запудрить ему мозги. Вы действительно считаете, что, прячась за мифами, он не пытался завлечь вас в пучину и не выстрелить в вас, идущего ко дну литературоведа, из автоматической винтовки?
— Понимаете, — говорит Следователь, — поскольку мы часто присутствовали то на спуске на воду очередного «Урана», то на праздниках, которые он устраивал в Морском клубе в честь счастливого возвращения из круизов, то нам всегда казалось, что Карл Най злоупотреблял своим истинным — или ложным — знанием мифов, чтобы своей эрудицией и заумными речами отсечь всякую возможность общения с такими нормальными людьми, как мы. Таким оригинальным способом он выказывал нам свое скрытое презрение. С ним нужно было пить и слушать.
— Да, — подтверждает Литературовед, — Карл Най всегда немного с презрением относился к людям. Я даже думаю, что в душе он презирал и самого себя или же настолько сомневался в себе, что был вынужден мысленно принижать всех окружающих. Однако я понял происхождение этого горделивого сомнения. Постепенно, слушая его рассказы, я увидел, в чем причина его сомнений и гордости. Всю свою жизнь он бился головой о стенку.
Литературовед на минуту замолкает, чтобы закурить сигарету.
— Этой стеной был Юлий. Несмотря на славу, книги, рецензии, статьи критиков на всех языках, он всю жизнь бился лбом о стенку под названием Юлий. Между братьями стояла не только страшная тайна, которую я почти разгадал этой ночью… я говорю почти, так как эта тайна находится в их сочинениях, словно банковская квитанция, разорванная пополам и тайно выданная в знак признательности двум неизвестным. Карл понял настоящую литературную ценность произведений Юлия и от этого невыносимо страдал. В один из моментов, — а мы по-прежнему находились на пляже в Палсе, — он остановился и на этот раз своей тростью написал на влажном, блестящем от убежавшей волны песке имя Юлия. Он сжал мою руку и долго смотрел, как набегающая волна постепенно стирает имя брата и песок снова становится таким же гладким, как и прежде. Подождите, это не всё! Затем он написал имена Курта, Розы, Франца, Густава Зорна и, наконец, свое и Лоты. И снова схватил меня за руку и сильно сжимал ее до тех пор, пока море не слизало все имена с мокрого песка. «Видели, — спросил он, — здесь все герои вашей книги». — «Да», — ответил я. — «Вам действительно они нужны?» — «Лишь в той степени, чтобы мое исследование оставалось чисто литературным». Он рассмеялся: «Чисто? Вы прекрасно знаете, что чистых исследований не бывает. Любое исследование уже нечистое, — сказал он, продолжая рисовать на песке странные знаки. — А любое литературное исследование строится на письменных останках. Точно так же, как нужно прикоснуться рукой к трупу, чтобы препарировать его, или купить кошку какому-нибудь гадкому мальчишке, чтобы он произвел над ней вивисекцию, так и ваше исследование может быть не чем иным, как литературной бойней, причем более близкой к вивисекции, чем к препарированию. Почему бы вам не дождаться моей смерти? Я — старый человек, моя жена намного моложе меня. Неужели вам трудно дождаться, когда меня похоронят? Для вдовы писателя нет лучшего развлечения, чем вспоминать об отсутствующем! Отсутствие наполняется словами, и это так естественно. А рассказы вдов воспринимаются с гораздо большим доверием, нежели слова живого писателя». Некоторое время мы молча шли по пляжу, как вдруг Най сказал: «Мне не нравится ваша книга. Мне она не нравится заранее!» И, не выпуская моей руки на манер старых, слишком экспрессивных итальянцев, он потащил меня в небольшую cantina в новом порту. «Садитесь, — пригласил он, — и давайте-ка выпьем. У меня здесь назначена необычная встреча, и я хотел бы, чтобы вы на ней присутствовали. Наблюдайте, но ничего не говорите. У меня здесь встреча с будущим… и, как вы позднее поймете, с прошлым — невыносимо ужасным прошлым. Выпьем! Послушайте, — сказал он, когда за первой бутылкой последовала вторая, — как исследователь вы мне вовсе не антипатичны. Вы молоды и даже кажетесь слишком умным. Мои дети, брат — все с усердием пишут, и это, уверяю вас, раздражает меня больше всего. Даже Лота пишет тайком дневник. Все пишут дневники, стихи, рассказы и, ко всему прочему, еще и романы! Вы читали последнюю книгу Юлия?» Я не знал, — продолжает Литературовед, — стоит ли говорить ему, как я восхищаюсь всеми творениями Юлия. И что именно из-за восхищения Юлием я стал читать и его, Карла, книги, а также книги Курта и Розы, а позднее — необычные философские эссе Франца.
— И что же вы ему ответили? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Как подсказывает мой опыт, он, конечно, промолчал! — восклицает Следователь.
— Вовсе нет, — отвечает Литературовед. — Наоборот, я поспешил вонзить первую стрелу: «Я бесконечно восхищаюсь произведениями вашего брата», — сказал я, наливая себе выпить. Он немного помолчал и сдавленным голосом произнес: «Бесконечно, говорите?» — «Да, уверяю вас…» — «Ладно…» Мы продолжили пить в тишине. «А как вы относитесь к творчеству Курта? Только не говорите, что вы им тоже бесконечно восхищаетесь!» — «Скажем, я его высоко ценю». — «Неужели?» — «Да, высоко». Заказав еще одну бутылку, он произнес на этот раз еле слышным голосом: «А что вы думаете о сочинениях моей дочери Розы?» Я посмотрел ему в глаза и вонзил третью стрелу — самую ядовитую, в самое уязвимое место. «Не считая Карсон Мак-Калерс[2], Роза, без сомнения, самая крупная…» — «О, не надо, — сразу же прервал меня он, — вы прекрасно знаете, что нет женщин-писательниц… Сочинения женщин бесполезны». — «Я с вами не согласен, — возразил я. — Ваша дочь заткнет за пояс большинство современных писателей».
— Вы так действительно думали или хотели его подразнить?
— Это была стрела, бандерилья. Но я на самом деле считаю, что Роза — большой писатель, хотя никто не может определить, где начинается «большая» литература.
— Согласен, — кивает головой Поэт-Криминолог, — то же самое я говорил недавно по поводу преступлений. «Преступление» всегда присутствует в любом новаторском сюжете.
— Послушайте, — начинает нервничать Следователь, — давайте-ка вернемся в cantina, где вы выпивали со стариком Найем. Так кто же должен был прийти к нему на встречу?
— Это была странная встреча. Вдруг в зал вошла женщина с петухом под мышкой. Она была одета в лохмотья и походила на одну из пьянчужек, которых полно в портовых романах. Так вот, эта женщина села за наш столик и, отпустив петуха, к лапе которого была привязана веревка, спросила у старика Найя, не нуждается ли он сегодня в ее услугах. «Я всегда нуждаюсь в тебе, и ты это знаешь! На, выпей!» И, положив на стол стопку купюр, он, немного с сарказмом, приказал ей продолжать с того места, где она остановилась, рассказывая «будущий роман моей жизни». И эта женщина фазу же начала говорить ему ужасные вещи, интерпретируя движения клевавшего петуха, которому она бросала крошки.
— Что вы подразумеваете под ужасными вещами? — спрашивает Следователь.
7
— Она всего лишь сообщила ему о семейной драме.
— Что?! Как это? — одновременно воскликнули Поэт-Криминолог и Следователь.
— Да, это были ее слова: семейная драма.
— Вы уверены? И вы только что об этом вспомнили?
— Постойте, постойте! Я не могу рассказать обо всем сразу. В моей книге полно подобных случаев. Как заманчиво после происшествия интерпретировать некоторые события! Карл Най все время консультировался с ясновидящими и магами: в Гранаде — с цыганами, в Нью-Йорке — с бенгальским индийцем, в Берлине — с женщиной, чья семья исчезла в каких-то монгольских степях и теперь ей поступали оттуда странные сообщения.
— Ладно, так что было дальше с женщиной с петухом?
— Она пила стакан за стаканом и то и дело ударяла ногой петуха. Най без конца подливал ей. И она болтала. Позднее, когда мы с трудом плелись к дому, где нас ждала Лота, он сделал странное признание: «А знаете, что эта жуткая старуха диктует мне то, что я пишу? Эта старая Парка ткет в некотором роде судьбы тех, о ком я рассказываю в книге, над которой сейчас работаю». Он не был пьяным, но все-таки от вина его разобрало, впрочем, как и меня. Поэтому сегодня мне тяжело отделить свои воспоминания от впечатлений.
— Очевидно, что Карл Най хотел ввести вас в заблуждение, — говорит Поэт-Криминолог. — Его словам нельзя доверять, поскольку он сам признался, что хотел бы саботировать вашу работу или сделать так, чтобы вы в ней увязли.
— Я тоже так думаю, — отвечает Литературовед. — И поэтому надеюсь, что чтение рукописей поможет мне отделить факты от вымысла. То, что писал Карл, — довольно удивительно, если учитывать его бесстыдство и одновременно стыдливость. Когда мы подошли к его дому, он остановился и, сжав до боли мою руку, произнес: «Признаюсь вам в одной вещи при условии, что она не будет фигурировать в вашей книге. Клянетесь?» — «Клянусь!» — сказал я, осознавая, что мы говорим не на пьяную голову.
— И дальше, дальше? — нервничает Следователь.
— «Я хочу — и это, безусловно, будет моя последняя книга — соединить вымысел и реальность». Поскольку я удивился, он объяснил: «В конце концов, жизнь и мои произведения смешались у меня в голове, понимаете? Конечно, вы можете сказать, что любое произведение рано или поздно утопит — он употребил этот термин — своего создателя в яме, заранее вырытой и заполненной доверху его же произведениями».
— Подождите, подождите, — прерывает его Следователь. — Еще недавно вы не решались утверждать, что Карл говорил о своей последней книге. Но для нас это крайне важно. Напрягите память и постарайтесь все-таки вспомнить.
— Как специалисты мы прекрасно знаем, — говорит Криминолог, — что не существует надежной памяти. Десять человек могут присутствовать при одном событии, но когда они начинают рассказывать о нем, то кажется, что это было десять событий в десяти разных местах и в разное время.
— Я могу утверждать одно: Карл Най был уставшим человеком. «Я от всего устал. Пора перевернуть песочные часы, — немного позднее сказал он. — Мне все равно, в каком направлении течет песок, поскольку я чувствую, что задыхаюсь, что на моей шее завязан узел, который невозможно развязать и который осталось только разрубить». Подождите, это еще не всё. Стукнув несколько раз тростью о землю, он со злостью и презрением заговорил об авторах, которые «совершают самоубийство, о чем более-менее ясно заявили в своей последней книге».
— Все, что вы рассказали, — говорит Следователь, — очень серьезно и, на мой взгляд, усиливает неприятное подозрение, что у Карла были все причины утопить свою семью… и утопиться самому. Перевернуть еще раз песочные часы, как он выразился, не ограничиваясь самоубийством.
— А вы знаете, зачем Най пригласил меня в Гранаду? — продолжает Литературовед, не обращая внимания на слова Следователя. — Мысль, что я могу встретиться наедине с Юлием, была для него невыносима. Он хотел присутствовать при этой встрече. И надеялся создать между нами определенные отношения, выгодные ему. Уже много лет Юлий жил в Гранаде, на окраине, среди цыган, и именно там мы с ним должны были встретиться. «Приезжайте, — сказал мне Карл, — мы устроим ему сюрприз». Едва я приехал, как он привел меня в прокуренную cantina, в которой играли гитаристы, испуская жуткие вопли. Юлий сидел за столиком в углу — Карл показал мне его издали. Представьте мое удивление. Оба брата неприятным образом походили друг на друга. Особенно на первый взгляд. Затем становились видны небольшие различия, говорящие, как мне показалось, в пользу Юлия, поскольку я был пристрастен и уже много лет восхищался им как писателем. Юлий поднял глаза и, узнав своего брата, улыбнулся, не проявляя ни радости, ни враждебности. Он вытер свои жесткие, плохо подстриженные усы, запачканные красным вином, которое он допил одним глотком. «Садись, брат, и давай выпьем!» — «С удовольствием», — ответил Карл и сел на табурет рядом с Юлием, обняв его за плечи. Я ничего не говорил, так как был почти взволнован… — нет, не почти! — признаюсь, я был по-настоящему взволнован, глядя на этих двух стариков, сидящих рядом в обнимку. Они выглядели близнецами, отражением друг друга в несколько искажающем зеркале. Уверяю вас, я не преувеличиваю! Только один был очень ухоженным, с бледным, словно напудренным лицом, тогда как лицо второго выглядело одновременно изможденным и необыкновенно спокойным.
— Ладно, давайте на этом закончим, — предлагает Следователь, — поскольку я должен вас покинуть. Встретимся вечером у меня в кабинете.
— Я бесконечно восхищаюсь моим другом Следователем, — говорит Поэт-Криминолог, оставшись вдвоем с Литературоведом, — но это человек с глубокой душевной раной. Мы дружим с детства и даже женились в один и тот же день, организовав общий праздник, чтобы отпраздновать наше счастье. Но, к сожалению, несколько лет назад его жена захотела с ним расстаться. По неизвестной мне причине она пожелала жить некомфортно. На самом же деле это вылилось в неразлучную разлуку, как называет теперь мой друг свои отношения с женой. Они все время встречаются и каждую ночь проводят вместе. Заметьте, как поспешно он нас покинул. Иногда он становится одержим одним желанием — встретиться с ней в сквере, или небольшом портовом отеле, где она живет, или в каком-нибудь ресторане, где люди делают вид, что не узнают их. На самом деле все в курсе их отношений и посмеиваются над этой странной страстью, питаемой иллюзией отстраненности от мира. Иногда они часами сидят на берегу моря. Иногда уходят в море на паруснике и возвращаются только ночью. Они проводят время в случайных местах, как говорит мой друг Следователь. Он утверждает, что она ни за что не соглашается снова жить вместе. Вы не поверите, но я их понимаю. Ни семьи, ни детей, ни ответственности — только иллюзия, что они одни в мире! Если хотите, я провожу вас до отеля, где вы продолжите свою расшифровку. Давайте пойдем через верфь, чтобы сократить путь. Кстати, именно здесь строились все «Ураны», а последний сразу же был признан самой шикарной яхтой на сегодняшний день. Посмотрите на ее белые лакированные надстройки, возвышающиеся над низкими портовыми строениями. Подумать только, что все Найи соглашались жить вместе на ее борту — и не только жить, но и писать! Наверное, для этой семейки писать было то же самое, что для других говорить или без конца смотреть на солнце, рискуя ослепнуть.
— Вы правы, — соглашается Литературовед. — Вынужденные все время писать, они ослепли и перестали видеть, что творится вокруг, для них был важен только их собственный мирок. И именно в нем, в этом подземном царстве, они в конце концов пересеклись. Таково мое впечатление, вынесенное из той малой толики, что я успел прочитать.
— Мне кажется, что писательство в этой семье заменило фатальный и религиозный закон.
— Вот именно! Они подчинялись только законам писательства. Этим даже можно объяснить то влечение, которое они испытывали друг к другу, соглашаясь жить вдали от мира на этой штуковине, украшающей теперь сухой док.
— «Уран» — необычная яхта!» — сказал я своему другу Следователю, когда в тот ужасный день мы впервые поднялись на ее борт. Вы не представляете, какое гнетущее впечатление оказывает пустая яхта, где единственным признаком жизни становятся незаконченные рукописи. Но прежде чем вы снова приступите к чтению, давайте присядем на несколько минут на эту скамейку на берегу моря и вы мне расскажете, чем закончилась встреча Юлия и Карла.
— Между двумя братьями все время стояло их детство. Хотя Юлий был старше, это Карл был «сформировавшейся личностью», тем, кому удалось завладеть «правом старшего» прямо с момента появления на свет и узурпировать это «право» с непонятно откуда взявшейся детской самоуверенностью. «Я вышел из живота нашей матери уже вооруженным, тогда как Юлий, ее старший сын, появился на свет абсолютно безоружным, доверчивым», — сказал Карл Най после того, как мы распрощались с Юлием. Над садами Генералифе медленно поднималась заря, вдали виднелась бледно-розовая Сьерра-Невада. «Юлий сразу стал жертвой своего будущего. Он был бесконечно одареннее и даже намного гениальнее меня…» Естественно, он произнес «гениальный» с легкой иронией, вполне оправданной на рассвете, после бессонной ночи, проведенной в бедном квартале Гранады с нелюбимым братом и молодым, умным, сведущим литературоведом. «Юлий, — пояснил Карл, — родился уже гениальным, я же им стал! Десятилетие за десятилетием я с упорством продвигался по единственному пути, слушая того, кто диктовал мне текст». Позднее, — говорит Литературовед, — я скажу вам, кого он имел в виду. И вы увидите, что это имеет огромнейшее значение. «Да, — продолжил Карл Най, — я упорно продвигался вперед, тогда как Юлий делал это играючи, будучи слишком уверенным в своей «гениальности». «Создавать — это прежде всего удивлять самого себя, — всегда говорил мой брат. — Каждая книга, которую пишешь — это окончательное «прощай» всем предыдущим», — вот что утверждал мой старший брат, превратившийся в младшего», — заключил он, когда мы направлялись в отель «Вашингтон Ирвинг».
— Эти слова Юлия напомнили мне ситуацию с Флобером, когда он, устав от всех скандалов по поводу «Госпожи Бовари», в ярости назвал свою следующую книгу «Саламбо». В некотором роде это было «Прощай, Бовари» — иронично и горько.
— Устроить столько неприятностей писателю из-за нескольких шнурков в корсете, свистящих, как змея! На самом деле прокурор и все, кто хотел уничтожить Флобера, почувствовали в его заявлении «Бовари — это я» замаскированную гомосексуальность. Об этом говорится в диссертации одного из моих коллег, которого я встретил во время коллоквиума на тему «Великие самоубийцы в литературе», где Эмма Бовари и Анна Каренина делили первое место.
— Так что же было в cantina в Гранаде? Вы сказали, что просидели там до утра.
— «Знаешь, Юлий, я привел кое-кого, кто обожает твои книги, — произнес Карл. — Он приехал издалека ради встречи с тобой. Этот молодой литературовед восхищается тобой, твоими сочинениями — всеми без исключения — и считает, что тебя нельзя отнести ни к какому течению». Юлий молча выслушал это. В какой-то момент он приподнял голову и подмигнул мне. Затем с усмешкой стал рассматривать Карла. «Итак, ты здесь?» — он снова замолчал. Время от времени он говорил: «Выпьем!», и мы выпивали. «Итак, ты здесь, мой великий младший брат! А вы? Зачем тратите время? Что вы напишете в своей книге? Цитаты? Цитаты — это старые одежды, пропитанные чужим потом. Можете процитировать это! В книгах моего великого младшего брата вы найдете кучу цитат!» — «Ах, Юлий! Ах, Юлий!» — «Ну вот! Каждый раз, когда мы встречаемся, Карл требует, чтобы я молчал. Карлу нужны мирные взгляды. Взгляды, успокаивающие его сомнения. И чем больше хвалят его произведения, тем меньше ему нравится мой взгляд». — «Ах, Юлий, Юлий!» — снова с несерьезным видом вздохнул Карл. «Я заноза в кончике пальца у человека, лежащего на лепестках роз». — «Юлий, не забывай, что этот литературовед мысленно записывает каждое твое слово». — «И пусть записывает! Выпьем и запишем! Поскольку ни одно исследование не может обойтись без цитат, я выдам вам еще одну, хотя не я являюсь ее счастливым автором: «Когда у одного человека спросили, зачем он так много рисует, если люди могут о нем и не узнать, он ответил: «Я буду рад, если найдется хоть один почитатель. Я буду рад, если не найдется ни одного». От этих слов повеяло холодом, и Карл насупился. С этого момента Юлий стал хозяином ситуации и заказал еще одну бутылку и жареную каракатицу. Он ел и пил, бросая неимоверно нежные взгляды на своего брата Карла.
8
— Так пробудился мой интерес к Юлию, — продолжил Литературовед. — На следующий день, вечером, я снова отправился в cantina. Юлий был там, на том же месте, словно не только всю ночь, но и весь день не покидал заведения. Казалось, он сидит там целыми днями, месяцами и даже годами. Гитаристы играли с необыкновенным азартом; время от времени один из них вставал, подходил к Юлию и тот давал ему выпить бокал вина. В этом не было ничего интересного. Всё, что он делал, выглядело вполне обычным. Юлий не был совершенством. Он не стремился отвлечься от действительности. «Я никогда не прошу Вечности, что не родился четырьмя веками раньше. Что такое для Вечности четыреста лет? Ничего! А для меня это было бы праздником. Я мог бы дышать одним воздухом с Монтенем! Читать вместе с ним его песнь любви к Ла Боэси! Смотреть, как он пишет, и читать высказывания старинных авторов, которых он так беспечно цитирует в своих «Опытах»! Да! Я говорю совершенно противоположное тому, что говорил вам сегодня ночью! Я ненавижу цитаты… и люблю их. Как понять это противоречие? Просто нужно смотреть, кто именно их использует. Одни высказывания становятся необыкновенно привлекательными у одних, и те же самые высказывания — отвратительными у других. То же касается и текстов. К примеру, Карл постоянно прикрывается мифами. Но как он их использует? В каких целях? Мифы не могут служить подпоркой прекрасным цитатам!»
— Мне это нравится! — говорит Поэт-Криминолог. — Очень нравится!
— Подождите! Здесь начинается очень странная исповедь. Я хотел рассказать вам о ней позже, когда лучше изучу рукописи Юлия, так как обнаружил то, что уже более полувека мучило этих двух стариков. Между Карлом и Юлием произошло что-то очень серьезное. И если в дальнейшем мои подозрения подтвердятся, то у нас появится очень веская причина, объясняющая драму «Урана».
— Перестаньте дразнить мое любопытство! — восклицает Поэт-Криминолог.
— Поверьте, что я заинтригован не меньше вас, — говорит Литературовед, устремив взгляд на неподвижную морскую гладь. — Как и в прошлый раз, Юлий заказал жаркое из рыбы и блины — ужасно жирные, какие делают в таких испанских cantina и которые я ненавижу. «Хватит литературных мифов! — бросил Юлий. — Нет ничего более познавательного, чем мифы, скрепляющие семейные узы. Семейные истории не представляют никакого интереса, если в их основе не лежат мифы. Когда мы — Карл, я и наш младший брат Арно — были подростками… — Он надолго замолчал, потом спросил: — «Карл рассказывал вам об Арно? Конечно же нет! Даже я сейчас не буду вдаваться в подробности его смерти. Кто может знать, что произошло? В любом случае нас было трое: Карл, я и Арно. Запомните: из нас троих именно Арно должен был написать то, что ни Карл, ни я никогда не смогли бы сочинить. И если Арно продолжает жить, то это в сочинениях Розы и Курта! Да, именно их сочинения проникнуты этой юностью, этой изящной бесполезностью, этим чистым удовольствием — писать!» Затем он начал вспоминать свое детство, от которого так и не смог «излечиться». «Я болен своим детством. Мое детство — тяжелейшая болезнь, от которой я никогда не вылечусь. Арно умер подростком. А вот Карл убил свое детство в самом себе. Он положил на это всю жизнь. Я же стал неизлечимым инвалидом. Подростками мы все втроем увлекались мифами и были в них очень подкованы. Мы наблюдали за различными группами людей и, не без иронии, переносили их в различные мифы. И это действовало божественно! Из нас троих Карл быстро пошел в гору, обо мне не будем говорить, а вот Арно, к несчастью… или, может, к счастью, не дожил до своего семнадцатилетия, когда человек еще верит в чувства. Арно был Арно, а мы с Карлом были влюблены в него. Представляете, какие прозвища мы себе дали: Минос, Радаманф и Сарпедон! Нас зачали Европа и Зевс. Бедная, брошенная Зевсом Европа, которой удалось женить на себе Астерия! Ну как, вы заинтригованы, молодой ученый? — внезапно спросил Юлий, наполняя мой бокал сладким черно-красным вином, которое делают в деревнях в окрестностях Гранады. И, насмехаясь надо мной, продолжил: — Не упускайте ничего из того, что я вам говорю. Всё хорошенько записывайте. Пейте и слушайте, мы работаем над вашей книгой, и поскольку я принимаю в этом участие, мы ее обогатим! Итак, знайте, что семейство Найев пишет под диктовку призрака — призрака Арно, склонившегося над плечом каждого члена нашей литературной семьи. Несмотря на то что Арно умер пятьдесят лет назад, его сердце бьется в каждом из нас. Когда вы встретите Курта и Розу, то увидите, что они вдвоем образуют, придают форму призраку нашего младшего брата, которого мы убили. Да-да, все верно: убили, Карл… и я».
— Постойте, постойте! — восклицает Поэт-Криминолог. — Что он хотел сказать этим «Карл и я»?
— Просмотрев незаконченные рукописи Карла и Юлия, я подумал об одной вещи, о которой сейчас не хочу говорить. В своей книге я упоминал о ранней смерти их младшего брата. И я изобразил Карла и Юлия слишком сентиментальными, так как каждый из них посвятил одно из своих произведений Арно. Я даже подчеркнул, что, продолжая писать после его смерти, они испытывали одновременно стыд и гордость, и я действительно верил, что это оправдывало страшное признание Юлия «мы его убили».
— А теперь вы считаете, что между этим таинственным событием пятидесятилетней давности и загадкой «Урана» есть связь? Да, но от чего умер молодой Арно?
— Насколько я знаю, никто никогда не мог с уверенностью этого сказать.
— Боже! Еще одна загадка! Вы шутите?
— Это на самом деле могло бы походить на шутку, если бы все факты не были доказаны. Я смог это проверить, когда собирал солидные аргументы, на которых рассчитывал построить свое исследование. В то время смерть Арно породила множество слухов. Два брата из добропорядочной провинциальной семьи задержаны полицией. Их долго допрашивают и с сожалением отпускают. Что же произошло на самом деле? Никто так и не смог дать исчерпывающий ответ. Как погиб Арно? Однажды утром его нашли мертвым рядом с двумя братьями. Утверждали, что все трое хотели покончить жизнь самоубийством, но только самому младшему удалось это сделать. Говорили также, что два старших брата помогли младшему умереть. Изучив практически все газеты того времени, рассказывающие об этом ужасном событии, я отказался сформировать собственное мнение. Я также не смог ничего вытянуть ни от Карла, ни от Юлия, ни от Курта, ни от Розы и Франца, с которым провел несколько дней в Гамбурге. Один Густав Зорн похвалялся, что многое знает об этом «преступлении», этом «убийстве», этой «ужасной смертельной игре», этом «жалком результате пари, которое могли придумать лишь безответственные молодые люди из добропорядочной семьи». Но все это попахивало сплетнями, от которых страдали даже Роза и Курт. Смерть их дяди должна была оставаться под покровом мрака. Это был семейный секрет. Он действительно брал начало в мифах, как сказал Юлий в Гранаде. И именно эти намеки на миф проливают свет на загадку «Урана» и делают ее очень захватывающей.
— То, что говорил Юлий о семье, можно отнести и ко всей криминологии. Самые изощренные преступления — от каннибализма до выплескивания наружу самых потаенных запретов — зарождаются в лоне семьи. Именно в семьях происходит по тысяче убийств в год и насилий, а каждый ребенок может стать жертвой тайных преследований, в основе которых — постель и порок.
— Мне кажется, я проник в тайну, сравнивая рукописи братьев. Многочисленные намеки, особенно в сочинениях Юлия, натолкнули меня на мысль, которая, когда я писал книгу, даже на мгновение не могла прийти мне в голову.
— Так что же произошло?
— Как я уже говорил, Арно нашли на кровати, в комнате, смежной с комнатой его братьев. Его сердце не билось, и вскрытие показало, что смерть наступила приблизительно в полночь. Некоторые детали привлекли внимание следователей. Сапоги Арно были выпачканы в грязи. С другой стороны, его накидка — как и все денди того времени, братья носили так называемые кучерские накидки — тоже была выпачкана грязью, кроме того, слева, с изнанки, она была порвана. Руки, особенно ногти, тоже были в той же грязи. Было очевидно, что трагедия произошла вне этой комнаты. Юноша умер снаружи, и кто-то дотащил его до постели. Но кто? Понятное дело, два старших брата. Но их обнаружили почти без чувств, так как они приняли очень большую дозу сильнодействующих снотворных. Их сапоги были в той же грязи, что и сапоги Арно.
— И что дальше?
— А ничего!
— Перестаньте меня разыгрывать! Как это, ничего?
— Повторяю: ничего! Хотя после того как дело закрыли, слуги нашли в глубине парка ржавую шпагу, на которой остались следы той же грязи, что и на сапогах трех братьев. Однако следствие отказалось принимать во внимание этот неудобный предмет, и дело зашло в полный тупик.
— А что вы думаете по этому поводу? Вы считаете, что находитесь на пути к разгадке?
— Почти. Я случайно нашел в незаконченных рукописях Карла и Юлия намеки на то, что они собираются написать произведения на одну и ту же тему.
— То есть один и тот же…
— Да, один и тот же рассказ.
— И вы думаете, что в этом рассказе…
— Да, я почти уверен, что нашел ключ к разгадке.
— Подумать только! Но что же это за рассказ?
— Речь идет о необычном пари. Один из подростков бахвалится, что воткнет свою шпагу в могилу погребенного в этот день друга. Веселая компания провожает его до ворот кладбища. Естественно, что всё происходит в полночь. Подросток блуждает между могилами, а вся остальная компания ожидает его со все возрастающим нетерпением. Наконец, когда уже начинает светать, а он не возвращается, они тоже заходят на кладбище и обнаруживают его мертвым, стоящим на коленях на еще свежей могиле.
— Мертвым? Как это мертвым?
— Мертвым от страха. Совершенно случайно он воткнул шпагу в край своей накидки, а когда захотел подняться, то почувствовал, что его кто-то держит. И он тут же умер от страха.
— И вы думаете, что оба старика собирались в своих рассказах описать смерть Арно?
— На это указывают и другие признаки. Но то, как они подошли к этой теме, очень интересно, если, конечно, моя интуиция меня не обманывает. Юлий описывает события еще более скупо, чем я вам рассказал. Грязь, пальто, а не накидка, шпага, взятая из коллекции оружия и ради смеха воткнутая в могилу погребенного в тот день друга. Страх. Эмболия… Карл же описывает все это совсем в другом тоне. Вот два подростка. Конечно же, они дерутся на дуэли. Один убит. Его хоронят. В ночь после похорон «убийца, опьяненный гордостью», заключает пари, что воткнет шпагу побежденного в еще свежую могилу. Вызывающий жест в виде дани уважения, на манер Дон-Жуана. И, как Дон-Жуан, он умирает, вопя от страха, думая, что его тащит под землю рука мертвеца. Оцените всю разницу между двумя братьями.
— Это был бы прекрасный конец для «Дуэли» Конрада[3]. Но какое значение имеет сегодня дуэль? Жаль, что старики писатели не закончили свои рассказы.
— Что касается Карла, то тут все понятно. А вот с Юлием совсем по-другому. Что он сделал из этой вечной драмы? Юлий уничтожал истории. Его письмо было кислотой, разъедающей истории, и он приглашал вас принять участие в этой жестокой игре по разрушению. Он действовал на виду, перед свидетелями, ему удавалось превратить письмо в искусство фокусника и довести его до такой степени, что вы заражались его безумством. Почти как у Борхеса, когда многочисленные планы один за другим раскрываются на глазах читателя и история распадается на столько граней, сколько может вместить человеческий ум. В этом был весь Юлий! А вот у Карла, хоть он и отчаянно ссылался на мифы, истории оставались лишь вечными историями, написанными и переписанными тысячью мелких сочинителей историй. Правда, в его произведениях все время чувствуются угрызения совести, которые пожирали его до последнего вздоха… если следы на «Уране» означают то, что я предполагаю. Признание Юлия по поводу мифологических имен, заимствованных тремя братьями, показывает, как им хотелось восстать против семейной лжи. На следующий день мне удалось в отсутствие Карла продолжить начатый разговор с Юлием, и он признался: «Мы с братом не разговариваем еще и потому, что смерть Арно оставила огромную пустоту в наших душах. Мы прозвали его Сарпедоном — гигантом, изгнанным с Крита, блуждавшим по морям и доплывшим до Кари, где царил Анакт, сын Урана. Сарпедон-Арно таинственно погибает! С тех пор я не живу. И Карл не живет тоже. С тех пор я жду. Чего? Ничего! Карл тоже ждет. Я знаю, чего ждет Карл, и боюсь этого. Я знаю, чего жду я, но не боюсь этого. После смерти Арно мы с Карлом стали самоубийцами. Однако нас возвратили к жизни. С тех пор мы медленно умираем, и это длится уже пятьдесят лет. Карл стал «великим» Карлом Найем, а я? Карл продолжает жить, убеждая себя, что он есть Арно. Вы удивлены, юный исследователь? И однако, так оно и есть! Это не Карл Най пишет произведения Карла Найя, это Арно диктует Карлу произведения Арно-Карла Найя. Вот во что верит мой брат. «В тот день, когда призрак Арно сочтет, что его произведение закончено, — признался мне Карл, когда мы плыли на «Уране», — в этот день я переверну песочные часы и мы все полетим в тартарары, туда, где он нас ждет. Это предрешено: не только мы с тобой должны будем умереть в одно и то же время, но и все Найи, как мне предсказывали, должны исчезнуть таким же таинственным образом, как исчез Арно». Вот в каком бреду живет Карл», — заключил Юлий.
— Смотрите, смотрите! — восклицает Поэт-Криминолог, показывая на парусник, скользящий за фарватером. — Это Следователь и его драгоценная жена. Вот почему он так спешно покинул нас. Она ждала его на свидание. С какой грустью и завистью я смотрю на этот белый парусник, направляющийся в открытое море. Почти каждый день, наслаждаясь нежностью осени, они в некотором роде покидают Землю, оставляя всех других людей заниматься своими делами… Однако вы понимаете, что сейчас мне сказали? Все семейство Найев должно исчезнуть! Тогда всё указывает на старика Найя!
— Постойте, постойте! Всё указывает на него и всё его оправдывает. Сколько еще таких же весомых аргументов совершенно неожиданно могут вызвать наши подозрения! Поэтому сейчас самое время вернуться к рукописям.
— Мне, кстати, тоже пора с вами расстаться, — говорит Поэт-Криминолог. — Что я делаю с большим сожалением. На некоторое время я должен забыть о нашем расследовании, проститься со своим хорошим настроением и спуститься во влажный и душный подвал своей настоящей жизни. Вечером мы можем встретиться в бюро моего друга Следователя, или же вы предпочитаете, чтобы я заехал за вами и мы втроем поужинали в Морском клубе?
9
На исходе дня Следователь приходит к Литературоведу в отель.
— Я пока один, мой друг Криминолог присоединится к нам позже в Морском клубе. Кажется, он слишком внезапно с вами расстался, но вы его извините, когда узнаете причину. Этот человек уже несколько лет переживает жуткую драму. Вообще-то, правильнее сказать, они с женой переживают жуткую драму. Их ребенок болен миопатией. Вначале ничто не предвещало подобного несчастья. Ребенок был очарователен, хотя что-то было не так! Но что? Ни мой друг, ни его жена не могли этого сказать. Просто что-то было не так. Ребенок ползал, но не поднимался. Если он лежал на спине, то не мог перевернуться на живот, а если лежал на животе, то не мог перевернуться на спину. «Ваш ребенок, — сказали им педиатры, — никогда не будет ходить, говорить и долго не проживет. Он будет узнавать вас, но никогда не поймет, где он и с кем он. Вы должны отдать его в специализированное учреждение, пока еще не привязались к нему и он не привязался к вам, как маленький зверек». — «Я оставлю его», — сказала жена моего друга и сделала это. Вначале ребенок выглядел довольно приятным и нормальным, учитывая его безнадежное положение. Он не говорил, не вставал, ползал все с большим трудом, пищал или хныкал. Они дали ему очень милое имя, на которое он периодически откликался. И действительно, как предсказывали врачи, они к нему страшно привязались — так привязываются к тем, кто целиком и полностью зависит от вас. Скажу даже больше: слабость вынудила их открыть в себе какую-то примитивную животную силу. Очаг стал действительно очагом, а крыша — своего рода защитным покрытием, что очень печально. Счастье еще, что мой друг завален работой, и это позволяет ему без лишних угрызений совести удирать за крепостную стену, которую они с женой возвели вокруг себя и своего ребенка — инвалида, разрушающего их жизнь. Понимаете? А иначе как ему вырваться из цепких объятий этой болезненной нежности, из мира, где существует лишь постоянно жалобно хнычущий ребенок, похожий на беспокойно мычащего теленка, только что оторванного от груди своей матери. Кстати, и сам ребенок стал постепенно походить на мирного и растерянного теленка, а его молочного цвета кожа кажется немного влажной и пахнет молодым зверьком, которого без конца облизывает мать. И действительно, мать все время его ласкает, подбадривает, держит возле себя так, словно он никогда не покидал ее плоть, словно ее предназначение — носить его в себе, чтобы никогда не превратиться в женщину, свободную от груза, женщину беззаботную и независимую, которую когда-то любил мой друг. С годами ее лицо приобрело блаженное выражение, а когда смотришь ей в глаза, то видишь такую печаль, что всё внутри переворачивается. Признаюсь вам еще в одной вещи. Я не люблю говорить о своих личных делах, но эта драма спровоцировала другую, которую можно классифицировать как симметрично противоположную. Я говорил вам, что на приеме, устроенном Карлом Найем в Морском клубе по случаю спуска на воду последнего «Урана», я находился там со своей молодой женой?.. Мы с ней сейчас расстались, хотя и не по-настоящему. Я всегда был безумно влюблен в нее. Я говорю «всегда», так как влюблен в нее с детства. И, поверьте, она тоже всегда была влюблена в меня. Мы с Поэтом-Криминологом — неразлучные друзья с юности. Смешав любовь и дружбу, мы решили назначить наши свадьбы на один день. Это решение привело в восторг наших женщин и показалось забавным еще и потому, что мы с Криминологом практически не расставались, помогая друг другу в раскрытии преступлений или причин необъяснимых кораблекрушений. И вдруг катастрофа! Не сразу, нет! Через какое-то время. У прекраснейшего ребенка наших друзей, счастливыми крестными которого мы собирались стать, обнаруживают миопатию. Последствия этого ужасного открытия стали симметрично разрушительными. И его жертвами оказались не только наши друзья — моя жена неожиданно объявила, что не сможет больше нормально жить со мной. Однажды утром она сказала: «Я люблю тебя, ты даже не представляешь, как я люблю тебя, мой дорогой, но я не смогу больше нормально жить с тобой». Вот что она сказала, узнав о диагнозе, приговорившем ребенка наших лучших друзей… приговорившем наших лучших друзей. И, вы не поверите, она немедленно собрала свои вещи и переехала в отель. «Я хочу любить тебя вечно, — говорит она, — я хочу, чтобы мы любили друг друга, но чтобы ничто нас к этому не обязывало или подталкивало». И сейчас я более, чем когда-либо, влюблен в свою жену, ставшую для меня больше чем жена. Стоит ей подать знак — и я тут как тут. Стоит мне захотеть увидеть ее — и я бегу. Вы улыбаетесь? Улыбайтесь! В определенном возрасте любовь выглядит смешной. Во всяком случае, такая любовь. Однако забудьте все, что я вам рассказал.
Следователь осторожно передвигается по комнате, заваленной рукописями.
— Кажется, вы заметно продвинулись в ваших раскопках. Мой друг Криминолог сказал, что вы гуляли по берегу моря и он с большим интересом слушал ваши рассказы: «Конечно, подозрения падают на Карла Найя, но мне кажется, что нам нужно заняться слишком светлой личностью Юлия». Он рассказал мне, как была обставлена — «уж слишком поэтично!» — смерть их младшего брата.
— Но я повторяю: это не точно! — возражает Литературовед.
— Вот именно, это не точно, а потому вполне могло быть!
— С тех пор как я расстался с вашим другом, я уже сто раз изменил мнение. Возвратившись в этот номер, превратившийся, если можно так выразиться, в гробницу творений семейства Найев, я пролистал еще три рукописи, каждый раз натыкаясь на новую грань алмаза, образованного всеми этими неожиданными смертями. Вот дневник Лоты Най. Вот несколько волнующих поэм Курта о «желании быть осужденным».
— Не понимаю. Как это — «быть осужденным»?
— Очень интересные стихи, где Курт говорит, что человечество предпочитает быть осужденным и гореть на вечном огне, чем раствориться в небытии.
— Ну и какая здесь связь? — начинает нервничать Следователь.
— Это желание быть осужденным, вернее, приговоренным, выраженное в стихах, показывает, насколько сильно он был ожесточен, а значит, мог создать такую ситуацию, когда человек решается на самое страшное.
— Сожалею, — говорит Следователь, — но я не вижу здесь никакого мотива или обещания отправить всю семью вместе с собой на морское дно.
— Подождите, это еще не всё! Посмотрите эти стихи, обласкайте их взгладом!
— Ну и что? Ничего не вижу, — все больше нервничает Следователь.
— Вам ничего не бросается в глаза?
— Нет, ничего.
— Да это же акростих! Читайте!
— Вот это да! ВСЕ УТОНУЛИ! У меня даже мурашки по коже пробежали, — восклицает Следователь. — Но теперь мы знаем имя виновного!
— Лично я в это не верю. Я нашел и другие акростихи у Курта. Но пока предпочитаю ими не заниматься. Вначале мне нужно сравнить их с текстами Юлия, зашифрованными с помощью зеркала, на манер Леонардо да Винчи. Я расшифровал несколько страниц — это довольно трудное упражнение. Но эти странности показывают, что Юлий был совсем не тот человек, каким хотел казаться. Эти зашифрованные тексты — самое жуткое, самое дьявольское, что мне приходилось читать о ревности. Судя по ним, Юлия снедала зависть. И так было с самого детства. Эти зашифрованные слова ужасны! И почти непереводимы на «нормальную» каллиграфию. Юлий! Такой интересный человек, которым я так восхищался в Гранаде! Кажется, он был равнодушен ко всему, что не имело отношения к его мизантропии! Но это вовсе не доказывает, что он был ангелом-мстителем. Возможно, он и хотел, чтобы вся семья отправилась на тот свет, поскольку этому старому холостяку не было чего терять и он не был привязан ни к чему и ни к кому. Однако некоторые высказывания Карла на его счет не дают мне покоя и сегодня. Он говорил об этом, когда мы прогуливались в цветущих садах Генералифе и во Дворе львов. «Я знаю, что ночью вы были в цыганском квартале, где Юлий, напиваясь, прожигает свою жизнь. Не бойтесь, — сказал он, когда мы сидели на краю бассейна во Дворе львов, — и не смущайтесь, я не завидую Юлию. А вот Юлий, напротив, завидует мне». В тот момент из-за его настойчивости я как раз думал обратное. Кому обычно завидует бессмертный человек? Тому, кто имеет то, чего нет у него, и тому, у кого нет того, что есть у него. Юлий подкупил меня своим поведением, и я поверил, что он действительно ничего не желает в этой жизни, что он равнодушен, как Диоген, поскольку потерял то, что называют сдержанностью, — то есть всякий стыд. Казалось, он выше стыда. Нечего скрывать, нечего желать… «кроме смерти», которую он считал высшей точкой покоя. Покой! Разве в то время я мог подозревать, какой смысл он вкладывал в это слово? Эти небольшие отрывки, которые мне удалось расшифровать, ясно показывают, что означает «покой», к которому он так стремился.
10
Немного позднее к ним наконец присоединяется Поэт-Криминолог и Следователь рассказывает ему о странных открытиях, сделанных Литературоведом, после чего вся троица отправляется ужинать в Морской клуб.
— И что же всё это нам дает? — спрашивает Поэт-Криминолог после того, как все заказали обильный ужин из даров моря.
— Вы собираетесь работать за едой? — удивляется Литературовед.
— А почему бы и нет? Речь же идет не об историях, каких полно в книгах Карла Найя и от которых я засыпаю, а о настоящем расследовании его тайной жизни и жизни членов его семьи. То, что все видели, — это одно, а то, как они жили на самом деле, — это другое. Жизнь любого «великого человека» независимо от того, на самом ли деле он великий или его таковым считают, наполнена страхом. В человеческом обществе царит обычный биологический порядок: женитьба, рождение детей, возможность властвовать над как можно большим количеством других людей. Однако у некоторых индивидов, как опухоль, разрастаются тщеславие, гордость, постоянно неудовлетворенные желания, что выделяет их из общей массы. Эти индивиды пользуются теми же, обычными средствами, методами, что и другие люди, но никто не знает, как им удается становиться незаурядными личностями. Одни, уловив дух времени, проявляют себя великолепными стратегами и быстро приобретают славу «великих». Другие, как Юлий, возводят эшафот под свою жизнь… или, скорее, делают из своей жизни эшафот.
— Совершенно верно! — восклицает Литературовед. — Всю свою жизнь Юлий подставлял шею под лезвие гильотины, и оно то и дело опускалось на нее. Из этих повторяющихся неудач и ранений он умудрился извлечь таинственный яд — ужасный и в то же время прекрасный нектар. Да, проза Юлия прекрасна, красива, как «красивы», по вашим словам, бывают некоторые преступления. Она великолепна еще и потому, что является выдумкой чистейшей воды, словно загадочный кусок будущего слишком рано попал в настоящее. Насколько меня никогда не привлекал путь, которым шел Карл, настолько меня завораживал «антипуть», который выбрал Юлий. Точно так же меня завораживают «антипути» Розы, Курта и Франца, особенно когда понимаешь, какие тонкие нити связывают их с настоящим «величием» Юлия.
— Давайте перейдем к делу! — просит Следователь. — Нас интересует не эстетическая траектория их творений, а связь между произведениями и загадкой «Урана».
— Послушайте, — говорит Криминолог, — но если есть загадка, то она должна выглядеть как постскриптум в конце их произведений и жизней. И я благодарю Бога, что наш друг Литературовед среди рукописей Юлия нашел зашифрованные тексты, подтверждающие его тайную болезнь — зависть. Теперь нужно узнать, чему завидовал Юлий. Может, успехам Карла?
— Только не им, — возражает Литературовед.
— Тогда любовному или семейному счастью Карла?
— Тоже нет.
— Огромным гонорарам?
— Тем более нет! Юлию нужно было почти ничего или крайне мало.
— Тогда чему? Может, он завидовал зависти, которую вызывал у Карла? Завидовал, что не испытывает зависти?
— Вы просто неистощимы на парадоксы! — восклицает Следователь.
— Вовсе нет, — отрицает Поэт-Криминолог. — Люди всегда завидуют другим, — и, обращаясь к Литературоведу, добавляет: — Вспомните новеллу Генри Джеймса[4] «Зверь в джунглях». В чем заключался секрет «зверя»? Конечно же, в Зависти, но не в обычной, на первый взгляд, зависти. Всю свою жизнь зверь провел в джунглях, думая, что живет, чувствует, не подозревая о своем безразличии до тех пор, пока его женщина, подруга, сообщница внезапно не умерла.
— Согласен, — говорит Литературовед, — более красивой метафоры не существует.
— И вот этот «зверь», являющийся человеком, не способный ни любить, ни отвечать на любовь, стоит перед могилой своей подруги в полнейшей растерянности и не понимает, чего ему не хватает. Не кого-то, а чего-то. Он не в состоянии понять, что его внимательная подруга была настолько деликатна, что он никогда не догадывался о ее любви к нему. И вдруг он замечает на соседней могиле…
— Плачущего незнакомца?
— Да! И «зверь» внезапно понимает, что завидует неприкрытой печали незнакомца. Завидует его рыданиям! Зависть и ревность часто путают. Можно не ревновать, а завидовать сильному чувству — признаку полноценной жизни. Как вы считаете, завидовал ли Карл в глубине души неудачам Юлия? Хотел ли он оказаться на его месте и испытать то, что чувствовал Юлий в глубочайшем одиночестве, о котором все говорили с уважением и неловкостью? Для Карла Юлий был «зверем». Или, наоборот, для Юлия Карл был «зверем»? И что все-таки в жизни Карла вызывало зависть Юлия, как он признался в этом в своих зашифрованных бумагах?
— В Гранаде Юлий однажды удивил меня странным признанием по поводу не своих литературных неудач, — наоборот, он не считал себя неудачником в литературе и в глубине души был уверен в высоком качестве своих произведений, — а неудачной жизни. «Я не хочу прийти к какому-то концу, — заявил он. — Я не хочу достичь какой-то цели, я не хочу целей. Для меня достижение цели равносильно смерти. Я хочу жить и испытывать неудачи. Неудачи необходимы мне даже больше, чем это вино». Поскольку я невольно улыбнулся, он продолжил: «Это не поза. Неудачи необходимы мне больше, чем воздух. Я не хочу, чтобы меня восхваляли или не восхваляли. Я хочу быть ничем! Не хочу быть заключенным в какую-то форму».
— Если присовокупить к его зашифрованным сочинениям еще и эти ужасные слова, то мы могли бы с полным основанием обвинить его в том, что он спровоцировал трагедию на «Уране».
— Не уверен… — продолжает Литературовед. — Он сказал еще: «Я не хочу иметь какой-то статус в обществе. Я чувствую постоянную ностальгию по своему детству. Я хочу остаться подростком».
— Убрать лестницу… Разве это нельзя назвать «шуткой» подростка? Юлию нравится нагонять страх. Он убирает лестницу и смеется, глядя на родственников, барахтающихся в воде и не воспринимающих всерьез «веселую шутку» своего дядюшки. Он и сам не воспринимает ее всерьез. Но в какой-то момент, увидев, как задыхается его брат и, постепенно теряя последние силы, приходит в ужас, как поддерживают его на воде другие, он ощущает такую радость, такое умиротворение, что ему хочется, чтобы муки Карла продолжались бесконечно. Однако остальные тоже выдыхаются, к тому же старый Карл ужасно тяжелый…
— И вы думаете, что, увидев, как его брат…
— Да, увидев, как «великий Карл» теряет последние силы, захлебывается, задыхается, Юлий не может удержаться от того, чтобы не совершить непоправимое.
— А затем он что, бросается к остальным в воду?
— Да, причем с радостью! С радостью подростка. И со смехом.
— Значит, это он перевернул песочные часы?
— Это было бы заманчиво… — внезапно Поэт-Криминолог становится серьезным и говорит словно сам с собой: — Как было бы заманчиво перевернуть раз и навсегда песочные часы.
— Но только песок от этого не меняется.
— Вы правы, — продолжает Поэт-Криминолог, и его лицо становится все более напряженным. — Но как быть с иллюзией? Иллюзией освобождения. Иллюзией, которой удовольствовался виновник гибели «Урана», чтобы оправдать свой поступок. Что это значит — совершить поступок? Это последовательность длинного, чрезвычайно длинного тайного пути. То же самое в криминологии. Преступление — это конечное звено цепочки, состоящей из невыносимых страданий, единственный выход из которых — покой, о котором говорил Юлий. Я встречал преступников, очень крупных авторитетов, приговоренных к смерти, которые в один голос заявляли, что преступление останавливало их страдание и они испытывали огромное облегчение, словно у них лопались все нервы. Если бы вы спросили у них, что это было за страдание, то услышали бы в ответ: просто Страдание. То есть раньше они страдали, а теперь не страдают! Они уже и раньше жили как мертвые. И преступление для них — это всего лишь возврат на дорогу, ведущую к их собственной смерти.
— Убить себя — это еще куда ни шло, но совершить самоубийство, пригласив окружающих последовать вашему примеру, — это самый ужасный пример трусости, — говорит Следователь, не сводя настойчивого взгляда с Поэта-Криминолога. — Нет, не существует «красивых» преступлений, точно так же как нет оправдания самоубийцам, если только их к этому поступку не толкает физическое страдание!
— Аполлинер говорил почти то же самое, — подает голос Литературовед.
— Помните его знаменитую фразу? — восклицает Поэт-Криминолог. — «Избавьте меня от физических страданий, а с моральными я разберусь сам».
— Вот именно!
— И он умер от трепанации черепа.
— Давайте вернемся к делу, — нервничает Следователь.
— Вы правы, — со смехом отвечает Поэт-Криминолог. — Итак, мы остановились на том, что наш Литературовед днем прогуливался с Карлом, а ночи проводил в пивной с Юлием. И, рассказывая об одном, он, в результате, обрисовывал нам другого. Их сочинения — это как эхо, улавливаемое летучими мышами. Они не просто дополняют друг друга — мы находим в них то, что раньше было от всех скрыто. Так при раскопках в Помпее находили слепки от тел людей, которых извержение вулкана застигло во время сна. Задохнувшиеся от испарений, засыпанные раскаленным пеплом, они, медленно разлагаясь, пролежали нетронутыми две тысячи лет. За это время пепел под действием дождей превратился в цемент, такой же твердый, как и базальт. И вот каким-то археологам, не лишенным художественного мышления, пришла в голову замечательная идея залить гипс в эти слепки, чтобы получить отпечатки погибших во сне. Невыносимая по своей жестокости картина.
— Понимаю, к чему вы клоните, — говорит Литературовед. — Вы говорите об иносказаниях, да? Думая при этом о Рильке и женщине, о которой он пишет?
— Вот именно! И о том, что его почитатели, не имея возможности назвать ее прямо, оставляли лишь многоточие…
— Помните известную фразу Витгенштейна[5]: «То, что нельзя сказать…»? Слова необходимы человеку для того, чтобы высказываться и таким образом выражать невыразимое. А эта фраза Витгенштейна, цитируемая по поводу и без, могла бы, наоборот, означать, что невозможность высказаться приводит к иносказаниям, завуалированный смысл которых становится ясным лишь по прошествии времени.
— «Не забывайте, — говорил мне Юлий, — что Карл без Юлия — ничто и что без Карла Юлий не был бы Юлием. Своим существованием мой брат вызывает у меня желание перестать существовать. Там, где его считают писателем, я не считаюсь писателем. Если он решает создать, как говорят, семейный очаг, я остаюсь один и без семейного очага. Он женится. Я — нет. И представьте себе, что, не любя ту, которую звали Бель, но закрепив этот семейный союз без любви тремя детьми, Карл завел Юлия в окончательный и бесповоротный любовный тупик, так как Юлий всю жизнь мечтал только о Бель». Вот в чем признался мне Юлий в cantina. А днем Карл, говоря о Юлии, пытался выведать, что сказал тот ночью. Представляете, как ликовал литературовед во мне, слушая уклончивые ответы двух старых братьев! Прошлой ночью в неоконченной рукописи Карла я нашел странные фразы: Нигилистический восторг Тристана. Состояние нирваны. Смертельное восхищение романтизмом. Какой мощью нужно обладать, чтобы противостоять темным колдовским силам? Является ли любовь волшебным лекарством, способным обратить во благо жизни всё двусмысленное и разрушительное? Но как тяжело изучить язык любви! Какую стыдливость нужно преодолеть, сколько проявить угодливости! Это основные высказывания, а их там — пруд пруди. А в конце одной страницы я прочитал наспех набросанные слова: Я не жил. Я писал. Я не сделал ничего, что потом не описал бы. Фатальная абсурдность! Может, мне удастся хотя бы моя смерть? Затем он зачеркнул несколько слов — конечно же, главных! — и дальше написал: Смерть — это загадка, которую мы должны сделать еще более… тут слово таинственной вычеркнуто и заменено на проблематичной. Есть еще одна вещь, о которой я вам пока не хотел говорить, — признается Литературовед, закуривая сигарету: — У меня возникло одно подозрение, которое очень быстро превратилось в уверенность: незаконченная рукопись Карла написана не только его рукой.
— Как это?! — подскакивают от неожиданности Следователь и Поэт-Криминолог.
— Вначале вы не понимаете, что не дает вам покоя при чтении. Но понемногу становится очевидным, что чья-то другая рука сделала вставки, замечания, зачастую язвительные, но тем не менее умные и ясные. Неужели Карл изменял почерк, редактируя свои записи, подумал я. Потом, открыв наугад дневник Лоты Най, я узнал его.
— Вы считаете, что Карл давал ей читать то, что пишет, а она делала свои комментарии? — спрашивает Поэт-Криминолог. — Это довольно часто встречается, вспомните Набокова.
— Да, но Набоков таким образом хотел покрасоваться, а я не думаю, что Карл Най красовался перед своей молодой женой.
— Тогда что?
— Мне кажется, таким способом, на полях страниц, она говорила ему то, что хотела сказать в реальной жизни, где он отказывался ее слушать. Но еще больше меня поразило то, что дневник самой Лоты испещрен небольшими рисунками и странными знаками, сделанными, несомненно, рукой Карла. Это говорит о том, что между ними шел бурный диалог. Он марал ее дневник ужасными рисунками, а она отвечала ему язвительными замечаниями на полях рукописи. Ночью, я думаю, он снова рисовал в ее дневнике какую-нибудь гадость, которой его научил, насколько мне известно, бенгальский колдун, с которым он консультировался в Нью-Йорке, а она своим решительным и четким почерком наносила ему очередной укус… и он…
— Постойте, — прерывает его Следователь, — неужели старик Най пытался заколдовать свою жену?
— Думаю, это так.
— А может, старик Най просто делал эти граффити ради забавы, как Набоков, рисовавший на обоях в своих апартаментах в швейцарском отеле, где он проводил последние годы жизни со своей женой? — рассуждает Поэт-Криминолог. — Подобная мания присуща почти всем преступникам. Они оставляют свою подпись. Естественно, в письменном виде. Кстати, вспомните Хамберта Хамберта, преступника, который любил писать и который утопил свою жену во время прогулки на лодке.
— А не вернуться ли нам в Гранаду? — восклицает Следователь. — Вы сказали, что оба брата сделали вам очень важные признания?
— Да, поскольку в то время я был молодым исследователем и все скрупулезно записывал, то каждый из них с радостным ликованием рассказывал мне о другом. Мои наивность и добрая воля вдохновляли их на продолжение глухой борьбы даже на страницах моей будущей книги. Однажды, когда мы находились в самой высокой части садов Генералифе, я обратил внимание Карла на то, что именно в этом месте Малколм Лаури[6] встретил свою будущую жену, ставшую впоследствии прототипом «трогательной и воинственной» Ивонны в одном из его романов. «Все женщины трогательны и воинственны, — ответил Карл с хмурым видом. — Лота — трогательна и воинственна, моя первая жена Бель была трогательна и воинственна, Роза тоже трогательна и воинственна, но это не мешает им умирать. Когда женщины трогательны и воинственны, но не имеют детей, как Лота, их смерть воспринимается как ужасное событие, но все же не настолько ужасное как тогда, когда у умершей женщины остаются трое детей. Мать не имеет права рано умирать! Такая мать, умирая, совершает самую большую подлость! Моя первая жена Бель была слишком слабой, чтобы жить, и слишком сильной, обременив меня тремя детьми. И что за жизнь! — воскликнул он, вырвав своей тростью несколько цветков. — Она вынашивает в своем крепком животе одного за другим троих детей и забывает, что мать не имеет права умирать, оставляя их на руках начинающего писателя. Как может быть природа настолько недальновидной, чтобы не забрать и троих детей! Как может быть природа настолько тупой, чтобы позволить умереть рожающей женщине! Я думал только о себе, и для меня смерть Бель была настоящим скандалом. Невыносимым скандалом. Пожалуйста, вот вам Франц, и она умирает! Не сразу, нет! Она умирает, не сводя глаз с ребенка, который ее убил! Возможно ли испытывать такую любовь к своему убийце? «Будь мужественной, — говорил я ей. — Превозмоги свою усталость. Ты не имеешь права оставлять меня одного с тремя детьми, которых ты мне дала. Мое дело — писать, а твое — растить детей. Ты должна жить! А я должен писать!..»
— А знаете, — прерывает его Поэт-Криминолог, — в этом крике Карла Найя не было фальши. Какой мужчина возьмет на себя ответственность за ребенка, данного ему женщиной? Разве он на самом деле его? Ребенок, рожденный женщиной, принадлежит женщине. Задача мужчины — поддерживать ее, помогать ей быть трогательной и мужественной… Но он не может брать на себя ответственность…
Поэт-Криминолог на мгновение замолкает, потом смущенно улыбается.
— Такой эгоизм писателя заставил меня вспомнить Достоевского, — продолжает Литературовед, — рожающего «Записки из подполья» в комнате, в которой умирала его жена. В письме к своему брату он писал: «Каждый день наступает момент, когда мы думаем, что она умрет. Ее страдания ужасны. Иногда мне кажется, что это плохо, но я пишу, и пишу с вдохновением. Не знаю, что из этого выйдет. И еще одна вещь: боюсь, что смерть моей жены не будет быстрой. МНЕ, КОНЕЧНО, ПРИДЕТСЯ ПРЕРВАТЬ РАБОТУ. Если бы не было этой остановки, я бы, без сомнения, закончил».
11
— Пока нам несут по третьей чашке кофе, — говорит Поэт-Криминолог, — я расскажу вам одну волнующую историю о писательском эгоизме. Один писатель, которого я немного знаю, так как читал его прозу и стихи, посвященные его жене, описывает в одном произведении реальное событие. Он описывает его то от первого, то от третьего лица, словно боль и ужас мешают ему смириться с действительностью. В общем, этот писатель уже более сорока лет влюблен в свою жену. Невероятно, но и она безумно влюблена в него. Такое сильное чувство встречается крайне редко, и оно проходит красной нитью через все его сочинения. Они страстно любят друг друга. И в этой страсти столько свежести и радости, что кажется, ничто и никогда не омрачало их дней и ночей, прожитых вместе. Но вот однажды писатель вставляет в свою автобиографию несколько отрывков, написанных его женой. Недавно мы говорили об иносказательности. Когда человек не может сказать то, что хотел бы, он прибегает к иносказательности — и именно это попытался он сделать. Будучи жертвой своей глубокой страсти, которая в буквальном смысле его парализовывала, он считал, что не смог литературными средствами показать настоящий портрет женщины, которую обожал всю жизнь. И поэтому он рискнул включить в свою книгу, в которой описывал их жизнь, тексты, принадлежавшие ей. Таким способом, казавшимся ему изящным и остроумным, он хотел еще больше привязать ее к себе и своим творениям, героиней и вдохновительницей которых она всегда была. К несчастью, в одном из текстов, написанных его женой, шла речь о воспоминаниях ее молодости. Она рассказывала об одном молодом музыканте, в которого была влюблена в юности, но очень быстро потеряла его из виду. Это произошло за несколько лет до встречи с писателем, с которым ее связала такая страсть, что они превратились в двух близнецов, одинаково думающих и чувствующих. Сила этой страсти была такой, что юношеская любовь стала для нее просто приятным и далеким воспоминанием. Но оказывается, что могут проходить долгие годы, а воспоминания сохранять свою силу и новизну. Время прошло, но пара не заметила этого. Может быть, здесь и кроется причина того, что этот неосторожный писатель решил издать автобиографический роман, включив в него светлые и чистые воспоминания своей жены. И тут Судьба решает зло подшутить над ними. Эта книга попадает в руки умирающего от страшной болезни мужчины. Он читает воспоминания жены писателя и узнает в них себя. Он вспоминает влюбленную в него когда-то девочку и чувствует такое потрясение, что ему кажется, будто это любовное послание специально дошло до него через столько лет, пока смерть не забрала его. Он незамедлительно пишет письмо этой женщине, сообщая о своем безнадежном состоянии и о том, что тоже никогда не забывал ее все эти годы. Эта новость сражает ее. И сражает писателя. Письмо отличается ужасающей откровенностью, где незнакомец, в прошлом молодой музыкант, описывает свою боль с невыносимой жестокостью. Вот приблизительное содержание этого короткого рассказа, который писатель не мог не написать. Но это еще не всё! Два очень ярких абзаца на одной из страниц заставили меня сильно задуматься. В какой-то момент писателю кажется, что его жене хочется сесть на поезд и поехать к этому умирающему незнакомцу, призыв которого, хоть и скрытый между строк, давит на них обоих тяжким грузом. Писатель прогуливается со своей женой и видит — более отчетливо, чем во сне, — как она уезжает, как он проводит без нее время, как страдает от ее отсутствия. Он видит ее рядом с умирающим, которого она совсем не узнает, но который, весь во власти далеких воспоминаний о молоденькой девушке, хочет обратить вспять ход времени, перевернуть песочные часы. Всё это проносится в воображении писателя, пока он прогуливается со своей беззаботной, веселой женой по набережной в одном итальянском городке. И его охватывает такая боль, что он еле сдерживается, чтобы не упасть и не потерять сознание. И именно эта боль воображения, а также признание в своем жутком эгоизме больше всего поразили меня в этом рассказе.
— Постойте! — прерывает его Следователь. — Так она поехала к умирающему или нет?
— Нет.
— Она осталась с писателем?
— Да. Спустя какое-то время новость о смерти этого ожившего призрака поставила точку в столь печальной и недолгой истории.
— Хотелось бы знать, вдохновили ли эти фантазии писателя на роман?
— Нет!
— Как?! Он ничего не написал?
— Только любопытную поэму о дружбе, любви и смерти. Она называется «Ревность музыки».
— Давайте вернемся к «Урану», — просит Следователь. — Вы говорили о Карле, о рождении его детей и о смерти его жены Бель. Кажется, мы окольными путями медленно, но верно приближаемся к разгадке.
— Все-таки странно, — размышляет Поэт-Криминолог, — что у каждого пассажира «Урана» были причины прыгнуть в воду. То есть, если дойти до абсурда, можно представить, что они все спонтанно прыгнули в воду.
— Вы хотите сказать, что это был коллективный прыжок, продиктованный нелепой логикой, вылившейся в одно-единственное, чуть ли не инстинктивное движение? — заметно раздраженный, спрашивает Следователь. — То есть, по-вашему, у таких совершенно разных людей проявился какой-то биологический инстинкт, как у насекомых?
— Или у американских леммингов. Замечено, что два раза в столетие у них происходят массовые самоубийства. Эти маленькие животные, обычно не покидающие родных мест, вдруг, охваченные неистовым возбуждением, все как один отправляются в дорогу к берегам Тихого океана, где высокие скалы, словно стена, отрезают путь назад. И они — миллионами! — бросаются в море, чтобы добровольно утонуть. Что за сигнал они получают? Что за биологический процесс толкает их на самоубийство? И почему сразу всех?
— Не надо впадать в крайности. Если мы начнем искать объяснение в необъяснимом, то нам следует прекратить расследование. Точно так же нам вряд ли стоит рассматривать многочисленные гипотезы, касающиеся логики сумасшедших и их игры ума. Вернемся-ка лучше в Гранаду, — предлагает Следователь, поворачиваясь к Литературоведу.
— С удовольствием. Так вот, мы прогуливались в садах Генералифе. «Я безумно люблю Двор львов, — сказал Карл. — Может быть, это не оригинально, но что касается меня, то я не оригинален».
— Вы слышали? Он сказал: что касается меня! — восклицает Поэт-Криминолог. — Может быть, он отделял себя от всей семьи?
— Пусть продолжает, пусть продолжает! — машет рукой Следователь.
— Действительно, Карл Най всегда подчеркивал, что не является «эксцентричным», как «мои дети, на которых, когда они были еще маленькими, мой брат оказал плачевное влияние». В общем, в течение нескольких дней Карл диктовал мне мою книгу, которую не хотел бы увидеть опубликованной. «Я очень израненный человек», — сказал он, когда мы находились в апартаментах Принцессы. Иногда он останавливался в небольших нишах, чтобы полюбоваться пейзажем через бойницы. «Этот пейзаж меня успокаивает, как и огромный пляж в Палсе, как и Сьерра-Невада, как и эта вода, бегущая по склонам садов, эта холодная пенная вода, цвет которой напоминает изумруд. Да, я чувствую себя умиротворенным вдали от моих близких и в то же время вблизи от Юлия. Только когда я знаю, что он рядом и что я могу воздействовать на него некоторыми магическими средствами, я спокоен. Когда я в Палсе, я хочу, чтобы он тоже был там. Я еду к нему в Гранаду, где он снимает жилье в квартале грязных cantinas и темных закоулков. Он любит темные закоулки. Он избегает меня, и я избегаю его. Иногда, по ночам, я обхожу все cantinas, зная, что найду его мертвецки пьяным и что он не узнает меня. Я сажусь возле него и смотрю. Он ничего не говорит. Он пьян и ничего не говорит. Я тоже ничего не говорю. Так мы молча сидим друг напротив друга до самой зари. Так мы оцениваем нашу близость и ужасающее расстояние, разделяющее нас после смерти Арно. Затем я оставляю его и спешу к старой цыганке, живущей на скалистом отроге Генералифе. Она живет в хибаре, похожей на курятник, в окружении кур и котов. Как и женщина с петухом, она читает все мерзопакостные мысли, скопившиеся в моей голове. А знаете, что в Греции статуи привязывали к постаментам, чтобы не дать им убежать? — спросил Карл, неожиданно переходя к совершенно другой теме. Я же был весь внимание и всё запоминал. — В Аргосе статуя Геры была привязана к постаменту из золота и слоновой кости, — продолжал Карл, — так как горожане боялись потерять свою богиню и лишиться ее покровительства. Вы знаете, кем была Гера? Гера была матерью Ареса, Гефеста и Гебы. У Зевса от Геры было трое детей, как и у меня от Бель. Эти дети были зачаты в тот момент, когда Гера коснулась кое-какого цветка. Улавливаете, что это значит? Ее дети были зачаты без полового контакта. Она зачала их, лаская себя. Эти дети принадлежали только ей. Ее сын Гефес, не желая верить в такое непорочное зачатие, схватил свою мать и посадил на механический трон, ручки которого складывались и больно сжимали того, кто в нем сидел. Он держал в нем свою мать до тех пор, пока она не поклялась именем Стикс[7], что не обманывает его и что его брат и сестра тоже родились в результате определенных ласк с кое-каким цветком. Гера в переводе с греческого означает Защитница. Теперь вы понимаете, почему после смерти Бель я не мог защитить ее троих детей? Эти дети были не от меня, а от Бель. Почему я не привязал ее к жизни, почему у меня не было такого механического трона, чтобы не дать ей умереть?! Вот о чем я думал, возвращаясь с кладбища. Нельзя иметь троих детей и посвящать себя литературному творчеству! Нельзя жить в доме, где отсутствие Бель угнетает и не дает работать! Я закрылся в своем кабинете и провел там несколько дней без еды, беспрерывно куря и размышляя. Я слышал своих… детей Бель, слышал, как они носятся по коридорам и лестницам большого пустынного дома, и, уверяю вас, если бы я мог перевернуть песочные часы, то сделал бы как в античные времена, когда отцы ревностно соблюдали право. Завтра, возможно, я расскажу вам, какую роль во всем этом сыграл Юлий. И как я со своим разыгравшимся воображением, не имея на то оснований, стал подозревать его во всех злодеяниях, включая слишком красноречивое молчание в присутствии Бель, когда она носила Франца, и потом, когда дети стали сиротами». Вот так, понемногу, я стал понимать, до какой степени свихнулся старый Карл из-за Юлия. И каждый раз, когда он хотел объяснить свое нелепое поведение, то прибегал к помощи мифов. Когда я закончу сравнивать рукописи, я приведу вам еще больше примеров. Но пока между тем, что говорил и писал Карл, мало что сходится.
— Но, может быть, в этих расхождениях и кроется разгадка, — размышляет Поэт-Криминолог. — В любом расследовании нужно исходить из привычного взгляда на вещи. Пока же судьба дала нам уникальную возможность пойти другим путем. И этот путь — вы! Вы не только хорошо знали всех Найев, но и изучили их творчество.
— С тех пор как вы обратились ко мне и я побывал на пустой яхте, я в этом глубоко сомневаюсь, — возражает Литературовед. — Раньше я был спокойным и беспристрастным исследователем, а теперь, когда вы взвалили на меня все эти рукописи, я совершенно лишился покоя и не могу уже быть по-прежнему беспристрастным. Я подхожу к каждому слову писателя как исследователь. Я подхожу к каждой запятой писателя как исследователь. Но исследователь должен обладать беспристрастностью, чтобы уличить в небеспристрастности любого хорошего писателя. Хотя я всей душой обожаю свою работу, я начинаю ненавидеть исследователей и себя в том числе! С тех пор как я узнал о гибели всех Найев, я ненавижу свою книгу, а одна мысль о том, что мне придется сутками копаться в их рукописях, приводит меня в удручающее состояние. Теперь слишком поздно — я всего лишь специалист по творчеству литературного семейства Найев. Я отдал столько лет своей жизни, чтобы написать эту книгу, я буквально жил ею, и теперь вся эта работа поставлена под сомнение! Если бы вы знали, что скрывается в этих рукописях! Все то ценное, что я собрал об их семействе, в один миг обесценилось! Это полный провал! Есть все основания пустить себе пулю в лоб. Вам смешно? Я тоже смеялся всю ночь среди этих графоманских отбросов. Я не рассказывал вам об одной исследовательнице, пишущей на тему «Почему лорд Джим?» Всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы доказать, что Джозеф Конрад, прожив в Йере во Франции, сбежал из этого городка из-за нелепой истории с разорванной помолвкой. Чудесным образом избежав мести пуританского общества, он погрузился в творчество и превратился в писателя Конрада. Исходя из этого факта, она проводит параллель между ним и лордом Джимом. Лорд Джим, виновный в том, что сбежал вместе с паломниками с судна, за которое нес ответственность, бросив его в открытом море, олицетворяется ею с молодым Конрадом, убегающим от любви. По ее мнению, без этого романа не было бы Фолкнера, Лаури, произведений о разбитых сердцах, как у Юлия Найя и Розы Зорн-Най.
— По-моему, нам пора возвратиться к Карлу Найю, рождению его детей и смерти Бель, — с нетерпением говорит Следователь.
12
— Итак, встречаясь то с одним, то с другим братом, я внезапно осознал, что конченым человеком является вовсе не тот, о ком все думают, — рассказывает Литературовед. — Юлий был изначально сильной личностью, обладавшей незаурядным умом. Карл, наоборот, отличался невероятно слабым характером. Всемирно уважаемый писатель представал перед публикой в тщательно продуманном обличье, скрывавшем его слабые стороны — он не мог обходиться без всякого рода ясновидящих, к примеру, женщины с петухом, или колдуньи из Гранады, или бенгальца из Нью-Йорка. А когда их не было под рукой, он подбадривал себя мифами. «Знаете, почему Юлий, сам того не подозревая, поселился в Гранаде? — спросил у меня Карл. — Потому что Гера держит в руке гранат и кукушку: птица и фрукт, похожий на кору головного мозга. Юлий не знает, что я знаю — да! — всё! Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Гранат подарила мужчине женщина, чтобы он проник в глубины своего сознания. Гера отдалась сама себе, дотронувшись до своего цветка, и родила троих детей. Я несчастный герой своей собственной жизни, — жаловался Карл Най. — Я герой, превращенный при жизни в памятник благодаря моим книгам и позиции ярого гуманиста, человек, раздавленный слишком безмерным восхищением почитателей — убивающим восхищением». Карл надолго замолчал, воображая, конечно же, что я начну переубеждать его, но я продолжал молча шагать рядом с ним. Наконец он сказал: «Каждая моя книга — это скала, на которую я взбираюсь вопреки искушению поддаться этому восхищению. Я взбираюсь, преследуемый всеми этими горящими ждущими взглядами». — «Вы считаете, что люди ждут вашей неудачи?» — с улыбкой спросил я. — «Нет, наоборот, больше всего меня угнетает то, что этим нетерпеливым читателям не хватает настоящего чтива. И эта мысль давит на меня и мешает писать. Вы не поверите, но я завидую Юлию, книги которого не имеют такого значения — то есть их ждут не с таким нетерпением, как мои. Что делать, когда эта творческая скала становится слишком крутой и на нее невозможно взобраться? Тогда я еду в Гранаду к старой цыганке с котами или отправляюсь в Нью-Йорк к слепому бенгальцу, предсказания которого самые неожиданные, самые точные. Вот как духи участвуют в моей работе! Особенно это касается Арно, который водит моей рукой и вторит моим мыслям. У меня есть целый набор тайных средств, чтобы заставить себя писать. Не смейтесь, молодой человек, это мои лекарства против сильнейшей боли — писать. Знаете, от какого слова происходит герои? От греческого heros. Эрос — несчастный бог, принесенный в жертву богине Гере. Его тело осталось под землей, а душа унеслась в рай, расположенный за северными широтами. Так вот, я, каким вы видите меня сейчас, старым и уставшим, с мешками под глазами и усами, пропитанными табаком, я — этот несчастный бог. Сразу же после смерти Бель мои дети превратились в кукушек, пожирающих меня. На протяжении многих лет они высасывали из меня то, что Бель не смогла им дать. Дети Бель пожирали меня. Курт пожирал меня. Роза пожирала меня. Франц пожирал меня еще больше, чем эти двое, так как он убил свою мать, чтобы явиться жить с нами. Все пожирали и пожирали меня! Пожирали читатели! Пожирали коллоквиумы по поводу моих книг! Пожирали критики! Пожирали фотографы! Пожирал долг быть гуманистом! А что в это время происходило с Юлием? Ничего! Он как был, так и остается безвестным! Меня раздирают на части, а он — безвестен. Я же был вдовцом Геры, несчастным божеством, пожираемым своими детьми. Кукушка в руке Геры символизировала обман в любви. Гранат и кукушка! Кора человеческого мозга и песнь! Какую любовь я получил от Бель? Троих детей, принявшихся писать раньше, чем рисовать, только для того, чтобы высосать из меня все соки. Нормальные дети рисуют и выставляют на обозрение свои рисунки точно так же, как в младенчестве выставляют свои экскременты, за что удостаиваются шумных похвал. Мои же дети, едва появившись на свет, сразу начали писать. Кипы страниц! Необъяснимое врожденное чувство стиля! И чем больше я отступал и, закрывшись у себя в кабинете, погружался в работу, тем больше Юлий превращался для этих кукушек в отца. «Это прирожденные писатели», — говорил он, протягивая мне листки, написанные Куртом и Розой. — «Не бывает прирожденных писателей, — спорил я. — Может быть, есть прирожденные музыканты, но только не писатели! Может, ты сам им это надиктовал?» — «Уверяю тебя, Карл, эти тексты написали наши дети!» Это «наши» вывело меня из себя, и я выгнал Юлия из дома. Абсурд, да и только! Я понимаю, когда дети гадят, шумят — так делают все нормальные дети! Ребенок рождается, крича и гадя. Он может быть начинающим музыкантом или художником. Но что он может выразить с помощью слов? Какие умные мысли? Скажите, какой отец смог бы терпеть маленьких монстров в своем доме? Поскольку вы собираетесь писать книгу, попросите Юлия показать первые сочинения этих детишек. Кстати, Юлий ловко подменил меня в роли отца, принимая любовь этих деток, которых только бонна-датчанка умела держать в ежовых рукавицах, требуя соблюдать тишину на верхнем этаже дома. А знаете, на что я надеюсь? На то, что когда-нибудь вы откажетесь от трофеев, добытых у меня и моей семьи. Я раздавлю вас массой деталей, и тогда ваша книга начнет вас душить и угаснет сама собой».
— Да уж, есть от чего отказаться, — прерывает его Поэт-Криминолог.
— Поверьте, я бы и отказался, если бы он нарочно не подстегивал мое любопытство. «И потом, что доказывает, что я говорю правду? А что вам рассказывает Юлий? Что доказывает, что он тоже говорит правду? А может, мы все лжем, чтобы запутать вас и чтобы вы не смогли собрать воедино все абсурдные вещи, которые мы рассказываем?» Тут он занервничал и, внезапно остановившись посреди аллеи, под глициниями и розами, начертил своей тростью на песке какие-то странные знаки.
— Думаете, те самые?
— Несомненно, те самые, что обнаружены на корпусе «Урана». «Посмотрите на эти знаки, — сказал он. — Мне достаточно нарисовать их на земле, на воде или в воздухе, чтобы защититься от любого, кто готов причинить мне зло. Если я захочу, то могу даже парализовать ваши мысли. Или спастись из безвыходной ситуации, когда другие этого сделать не смогут».
— Вы нарисовали нам портрет человека, не способного отличить реальное от иррационального. Почему такой человек, утопив всех родных, не смог выбраться сам, несмотря на то что умел пользоваться магическими знаками? Знаете, в его семье происходили вещи, в которые трудно поверить!
— Да, он несколько раз рассказывал мне о сеансах левитации, которые проводил его бенгалец. Он также верил в контакты с окружающими нас духами. «Посмотрите на эту толпу, — сказал он мне в Нью-Йорке, когда мы шли к слепому бенгальцу, — все эти люди, которые толкают нас на тротуаре, ничто по сравнению с невидимой толпой, окружающей нас… современная физика доказала, что мы воспринимаем лишь ничтожную часть материи, из которой состоит Вселенная». Я слушал его, недоумевая про себя, как такой здравомыслящий человек может верить в подобные глупости? Понятное дело, что я помалкивал.
— Но зачастую именно здравомыслящие люди верят в духов и ангелов. Материалист Виктор Гюго вместе с семьей проводил спиритические сеансы. Он не только верил в стучащих духов, но и выполнял их приказы, — говорит Поэт-Криминолог. — И, поверьте, я бы тоже охотно прибегнул к их помощи! В жизни есть такие проблемы, когда хотелось бы решить их с помощью или поддержкой высших сил. Бальзак тоже верил в духов. Когда читаешь то, что он говорил об Эммануэле Сведенборге[8] и его «Тайнах небесных», так и хочется обратиться к духам.
— В моей семье происходило такое… — возбужденно произносит Следователь.
— Подождите, удивительное только начинается, — смеется Литературовед.
— Кажется, мы засиделись, — замечает Следователь. — Давайте зайдем ко мне на работу и посмотрим увеличенные снимки «Урана». А затем вы продолжите изучение рукописей.
— После того что мы узнали о Карле Найе и его вере в тех, кто помогал ему преодолевать его страхи, я больше не сомневаюсь, что на снимках мы увидим те же знаки, что и на яхте, — заявляет Поэт-Криминолог по дороге к порту.
После долгого изучения увеличенных снимков Литературовед говорит:
— Это те же знаки, которые рисовал Карл Най. И такие же, немного измененные знаки я нашел в дневнике Лоты Най.
— Значит, никто, кроме него, не мог их нарисовать? — спрашивает Следователь.
— Я в этом уверен. Когда мы летели в Нью-Йорк, Карл сказал: «Лично я хотел бы, чтобы вы отказались от своей затеи написать книгу, но, если вы все-таки решили продолжать во что бы то ни стало, совершенно необходимо, чтобы мой слепой бенгалец благословил вас. Он должен нарисовать на вас кое-какие знаки, без чего всё, что вы напишете о моей семье, не будет соответствовать действительности. Вы должны показать в своей книге скрытую часть моих произведений, а также всех остальных членов семьи, так как во всех нас живет Арно и это под его диктовку мы пишем». Он также сказал, — продолжает Литературовед, рассматривая снимки под светом настольной лампы: — «Великие книги — это те, в которых человечество с трудом осмеливается признать себя. Это огромные безвоздушные пещеры в форме черного зеркала. Великие книги — это обрушивающиеся на вас скалы. Великие книги в отличие от всяких книжонок, которые читают в самолетах, поездах и других местах, давят на вас, как давит сама жизнь. Это действительно жизненные книги, настоящая душегубка. Вот почему, бесконечно взбираясь на вершину, я все еще пытаюсь написать великую книгу. И я очень надеюсь задушить своей последней великой книгой всех исследователей типа вас». И тут он добавил еще несколько ужасных фраз, о которых я не могу вспоминать без дрожи: «Я собираюсь написать великую книгу о семье человеческих крыс и молниеносном размножении этих крыс-литераторов. Всё будет внешне выглядеть прилично, уравновешенно, внушать доверие, но потом, под этой внешней поверхностью, произойдет мерзопакостная вещь. Это будет бездонная по своей глубине книга, где всё закончится на дне морском».
— Вы уверены в словах, которые употребил Карл Най? На вашу память случайно не повлияло то, как они все погибли?
— Такую историю о «человеческих крысах» нарочно не придумаешь, — замечает Поэт-Криминолог. — Сколько презрения и отвращения к людям нужно иметь, чтобы мечтать о том, чтобы все утонули.
— Но я еще не сказал, — продолжает Литературовед, — что он собирался издать эту книгу под псевдонимом. Достигнув всемирной славы, он хотел, чтобы эту книгу читали без предубеждения, как книгу неизвестного автора.
— Это уже верх гордости.
— Да, конечно, но и желание обрести то, чего не имеешь. Мне кажется, что старый писатель, устав от своих огромных успехов, почувствовал что-то вроде желания оправдаться… уйти в тень… Побыть немного Юлием… и самим собой. Побыть собой… и своими детьми. Собой… и тем, кем он никогда не был. Так иногда происходит со стареющими писателями, которые вместо того, чтобы прояснить какие-то моменты в своем творчестве, начинают запутывать следы. Достаточно почитать его последнюю рукопись. А вот последние сочинения Юлия, наоборот, отличаются болезненной откровенностью. В любом случае, — заканчивает Литературовед, откладывая в сторону фотографии, — могу вас заверить, что это знаки Карла Найя. Косые лучи солнца, при которых проходила съемка, очень отчетливо их выделили.
13
Расставшись со Следователем, Поэт-Криминолог провожает Литературоведа до отеля.
— Я просто потрясен вашим рассказом. Всё указывает на Карла Найя, и тем не менее я считаю, что он не виновен в этом коллективном убийстве или самоубийстве. Скажите честно, а вы считаете его виновным?
— Откровенно говоря, нет.
— О, мне приятно это слышать! В этой истории всё так запутано. Если следовать классической теории криминологии, то лишь ясный след может привести нас к успеху. Все преступники, пытаясь замести следы, делают их слишком очевидными. Классические криминолог и следователь похожи на туристов, побывавших на леднике. Они рассказывают, что видели лишь бесконечную белизну скованной льдом воды. Я могу на минутку заглянуть к вам в номер? Хочу признаться, что это расследование и сопровождающие его сюрпризы приносят мне облегчение. В вашем присутствии я забываю о тяготах собственной жизни. Ваши рассказы о Найях отвлекают меня от моих ужасных проблем, и я забываю о своей личной драме, которая давит на нас с женой днем и ночью. Могу ли я признаться вам в одной вещи, на которую вы не обязаны реагировать, искать успокаивающие слова. Но если я мешаю, скажите об этом честно, и я сразу испарюсь. Мой слишком серьезный тон вас настораживает? Я тоже насторожился бы, если бы какой-то криминолог ворвался ко мне в комнату и пустился в ужасающие откровения. Что такое драма «Урана» по сравнению с некоторыми тайными драмами?! Что значат несколько страшных часов по сравнению с годами страха и отчаяния? Скажите, есть ли более жестокая пытка, чем та, когда видишь страдания дорогих сердцу существ? Если загадку «Урана» невозможно ни описать, ни вообразить, то как рассказать об инвалиде, неподвижно лежащем в лодке Шарона уже несколько лет? Не знаю почему, но загадка «Урана» заставляет меня думать о своих бесконечных страданиях. Да, гибель семейства Найев — когда все плачут, кричат от страха, царапают ногтями неподвижное судно, отталкивают друг друга, карабкаются друг на друга, пытаясь уцепиться за борт, и, обессиленные, зная, что умирают, идут ко дну — ужасающая картина, но разве можно сравнить ее с каждодневными страданиями ребенка, у которого разрушены все мускулы? Поймите, это же мой ребенок! Поймите, какую пытку переживает моя жена! И какая для меня пытка — выглядеть веселым и энергичным, когда я нахожусь вне дома! Я нисколько не сомневаюсь, что утопающие, обломавшие до крови ногти о белоснежную лакированную поверхность «Урана», испытывали адский ужас. Но моя жена переживает такой же адский ужас уже многие годы! Пытка для самых крепких из семьи Найев длилась не более сорока восьми часов, а для самых слабых — не более семи или восьми. И я даже уверен, что когда Карл и Юлий поняли, что идут ко дну, то они просто перестали бороться. И вот теперь я спрашиваю вас, иностранца, должен ли я бороться или пойти ко дну, увлекая за собой свою жену и своего сына? Нет! Ничего не отвечайте! Я сожалею об этой вспышке. На днях, возможно, я принесу вам почитать свои стихи. Поэзия, на мой взгляд, это воспоминания о страданиях, которые невозможно выразить другими средствами. Вся наша жизнь — сплошное страдание.
— Ваш друг рассказывал…
— Это мой единственный друг, самый близкий друг, и поэтому я не могу исповедаться перед ним так, как перед вами.
— Он…
— Умоляю вас! Больше ни слова на эту тему! Иногда мне кажется, что какая-нибудь загадка завладевает людьми с такой мощью, что все остальное кажется им нереальным. Только необъяснимая загадка представляется реальностью. Загадка, какой бы неразрешимой она ни была, иногда из-за этой самой неразрешимости кажется более реальной, чем Бог или Вселенная, в существовании которых никто в точности не уверен. И я говорю себе, что Оскар Уайльд или Борхес, каждый по-своему, предложили бы нам литературную игру по поводу загадки опустевшего «Урана», чей гладкий корпус был испещрен непонятными царапинами, которые, возможно, так и останутся неразгаданными. Позвольте мне еще немного побыть вместе с вами, посидеть на этой кровати, заваленной рукописями. А затем я пойду туда, где меня ждут другие вопросы. Продолжайте рассказывать о Найях, спасите меня на какое-то время от ночного кошмара!
— С удовольствием, — смущенно бормочет Литературовед.
— Я знаю, что после моей исповеди — и я благодарен вам, что вы не пытались меня утешить — вам, конечно же, тяжело продолжать. Однако вы даже не представляете, до какой степени мне не терпится узнать новые сведения о Густаве Зорне, Курте и Розе. А что вам рассказывал Карл о Франце и Лоте?
— Зная, что все они будут фигурировать в моей книге, старый писатель, естественно, высказал о них свое мнение. Больше всего он ненавидел Густава Зорна. «Это неудачник-актеришка, — сказал он, когда мы летели в Соединенные Штаты. — Он очарует вас так же, как очаровал Курта и Розу, на которой женился, чтобы жениться через нее на Курте. «Не забывайте, что я их отец, — сказал я Зорну в день этой странной свадьбы на троих. — И что бы там ни было, они мои дети». И знаете, что этот чертов любовник моих детей ответил мне своим издевательским тоном? «Но я их люблю!» Увидев, что я почти вышел из себя, он не преминул уточнить: «Я люблю Курта и люблю Розу, и они меня тоже любят. И поскольку Курт и Роза были влюблены друг в друга еще до знакомства со мной, то мне ничего не оставалось, как влюбиться в них обоих. Я люблю ваших детей намного больше вас!» Вот что он осмелился мне сказать». Наш самолет приближался к Нью-Йорку, огни которого виднелись сквозь облака.
— А вы написали о Зорне в своей книге?
— Не много, лишь то, что он рассказал о себе при нашей встрече. Кстати, это действительно обаятельный человек. Он говорил о своих отношениях с Куртом и Розой с такой откровенностью, что даже сегодня, когда современными либеральными нравами удивить трудно, его ликующее бесстыдство выглядело шокирующим. И однако, что нового мы можем узнать о плотской любви? Чему еще можем поразиться? Пока я жил на их вилле в окрестностях Вены, то мог вблизи — с их разрешения — наблюдать за жизнью этого трио. Между Куртом и Розой пробегали очень мощные флюиды. Не сомневаюсь, что они с самого детства жили в своем собственном замкнутом мирке, и к этому миру, одновременно чувственному и романтичному, Зорн страстно желал присоединиться. Женясь на Розе, он главным образом провоцировал гнев Карла Найя, которого этот тройственный союз выводил из себя. А Карл был не тот человек, которого подобные вещи выводили из себя. Разве он по каждому поводу не ссылался на мифы, где инцест и антропофагия были делом самим собой разумеющимся? Он, современный писатель, неизменно ссылался на Древнюю Грецию. «Зорн, — сказал Карл, — на самом деле женился на Курте, а не на Розе. Он действовал как вор, проникший к своей жертве без взлома. Роза послужила отмычкой, которой воспользовался этот хитрый вор».
— Карл хотел этим сказать, что, женившись на Розе, Зорн без взлома проник в семью Найев?
— Вот именно! Старик считал себя центром Вселенной. Он был одержим этой мыслью. Когда самолет кружился над Нью-Йорком и мы находились в томительном ожидании, он сказал: «Да, до того злосчастного дня, когда Зорн проник в нашу семью, никто, кроме Юлия, не удосужился узнать, а любил ли я детей, которых оставила мне Бель? Никто! Даже мои дети! Что бы они сделали с любовью человека, полностью погруженного в свое творчество, живущего своим творчеством в окружении теней, связанных с его творчеством? После смерти Бель мои дети родились во второй раз, как Дионис в трех ипостасях, которого прозвали дважды рожденным ими сыном двойной двери. Мои дети, — продолжал Карл, — родились дважды: от Бель и, против моей воли, от меня. Зевс изменял Гере с Семелой. По наущению ревнивой Геры Семела потребовала от Зевса, чтобы он оставался верен хотя бы ей, поскольку надеялась, что ее меняющийся облик будет способен его удовлетворить. Но Зевс отказался, и в отместку красавица Семела запретила ему присутствовать при родах. И тогда разъяренный Зевс, представ в сверкании молний, испепелил Семелу и ее терем. Но Гермес спас младенца Диониса, которого носила Семела. Поскольку с момента зачатия прошло только шесть месяцев, Гермес зашил Диониса в бедро Зевса. В положенный срок Гермес распустил швы, и Зевс родил Диониса. Мои дети тоже в некотором роде были зашиты в мое бедро, — продолжал жаловаться Карл Най. — В течение многих лет я носил этот тяжкий груз. Они питались мною и пожирали изнутри. И представьте себе, что это Юлий вбил себе в голову мысль освободить их от меня, когда решил, что они к этому готовы».
— Жалобам Карла можно только посочувствовать, — говорит Поэт-Криминолог. — Но что в этой истории делает Семела?
— Если я правильно понял из некоторых записей Юлия, следует полагать, что два брата, хотя никогда не объяснялись на эту тему, всю жизнь приписывали себе право на отцовство детей Карла. Зная Карла и его отвратительную манеру извращать мифы, я могу лишь предположить, что для него Гера и Семела были одной и той же женщиной. Только одна действительно делила с ним постель, а вторая каким-то фантастическим образом оказывалась в постели с Юлием. Но кто знает, какие смутные мечты роились в голове одинокого Юлия!
— Вы хотите сказать, что для Карла верить в то, во что на самом деле он не верил, было просто злой забавой?
— Да, благодаря этой хитрости Карл придумал себе оправдание, почему он отказывается признавать отцовство своих собственных детей.
— А Юлий, со своей стороны, охотно вошел в эту роль?
— Да.
14
Проведя всю ночь за чтением бумаг, Литературовед, совершенно обессилев, наконец засыпает.
— Надеюсь, вы не очень раздосадованы моим появлением, — говорит Следователь, тормоша Литературоведа. — Я прождал вас все утро в своем кабинете, но, поскольку вы не пришли, я решился зайти к вам. Мой друг Поэт-Криминолог тоже придет сюда. Кажется, вы заснули, даже не раздеваясь, прямо во время чтения? Итак, есть что-нибудь новенькое?
— Еще сколько! — отвечает, зевая, Литературовед.
— Если позволите, я присяду на край кровати. Можно переложить эту кипу рукописей?
— Осторожнее! — восклицает Литературовед. — Это сочинения Розы Зорн-Най. Замечательные тексты, редкие по своей лаконичности. Читая их этой ночью, я все время думал, что хотя женщин-писательниц постоянно недооценивают, их идеи очень ловко крадут и выдают за свои в мужских произведениях.
— Какой мужчина может понять женщину! — вздыхает Следователь.
— Особенно когда она пишет! На этих листах, на которые вы положили свой локоть, Роза как раз демонстрирует жесткость стиля и мыслей: «Когда придет день, — пишет она, — я, не колеблясь, как ты, Вирджиния, моя сестра, войду в воду с карманами, полными камней!»
— В воду! С карманами, полными камней!
— И это еще не все! Чуть дальше она описывает старого человека, до такой степени одержимого рисованием таинственных знаков, что он не может сделать ни жеста, ни шага, не начертив в уме или на самом деле ряд символов, и в конце концов погибает в им же созданном лабиринте. Она описывает его перстень с печаткой. И я знаю, что это за перстень! У Карла был точно такой же. Нефритовая печатка с такими же знаками, как и те, что были обнаружены на корпусе «Урана». В Гранаде, когда я спросил у Карла, что означают эти знаки, он ответил: «Вспомните Валтазара!» — «Какого Валтазара?» — «Из «Поисков абсолюта» Бальзака».
— Ужасная книга! — прерывает его Поэт-Криминолог, входя в комнату.
— Вот тут я с вами не согласен, — говорит Литературовед, отодвигая в сторону несколько рукописей, чтобы Поэт-Криминолог мог сесть. — Какой писатель не хотел создать своего Фауста? Для Бодлера, к примеру, Фауст Бальзака превосходил…
— Прошу вас, вернемся к кольцу и к вашему рассказу о Розе. Войти в воду с карманами, полными камней, это почти то же самое, что и бросить лестницу в воду? Вы считаете, что у нее были основания желать гибели всей семьи? Вы что-то нашли в ее рукописях, указывающее на это? Может, неуравновешенное состояние души?
— У какого писателя может быть уравновешенное состояние души? — вопрошает Литературовед.
— Значит, ни один из них…
— Не был уравновешенным!
— Но Зорн, насколько я знаю, не писал!
— Он не писал сам, но оставлял замечания на полях рукописей своей жены и Курта.
— То есть Лота вмешивалась в то, что писал Карл, а Зорн — в то, что писали Роза и Курт? — недоумевает Следователь.
— Да, и у меня тому много доказательств.
— А какую роль во всем этом играли Юлий и Франц?
— О, с Францем всё совсем по-другому! Я расскажу об этом позже. Я несколько раз встречался с ним в Гамбурге. Из всех Найев он самый мягкий, самый умный и самый изобретательный. Его исследования в области чувств — самые значительные из всех, что предпринимались до настоящего времени, а его философские труды отличаются такой оригинальностью, что мало кто из интеллектуалов может угнаться за его мыслью. Франц всегда был любимчиком Юлия. Насколько Карл отталкивал от себя этого ребенка, называя его «убийцей своей матери», настолько Юлий старался оградить его с самого нежного возраста от нападок Карла. Конечно же, Карл ревновал своих детей к Юлию. Он даже признался, что, старея, все чаще сожалел о том, что не сумел стать для своих детей обычным отцом. «В этом виноват Юлий. После смерти Бель он вбил себе в голову, что должен оградить моих детей от меня. И ему не пришлось прилагать много сил, чтобы восстановить их против меня. С удивительным упорством он незаметно подчинял их себе. Он до такой степени серьезно отнесся к их детской писанине, что даже заставил их слишком рано начать публиковаться, совершенно не беспокоясь о том, чье имя они себе присвоили. То, что он сам нагло стал подписывать свои творения моим именем, только указывает на его необычайное самомнение. Но когда с его подачи все мои дети пошли тем же путем — это уж слишком! Признаюсь вам в одной вещи при условии, что вы ни под каким предлогом не вставите ее в свою книгу. Клянетесь?» — «Клянусь», — сказал я, зная, что он жаждет прямо противоположного. «Всю свою жизнь я поддерживал Юлия. Я не хотел, чтобы кто-нибудь сказал, что Карл Най дал подохнуть своему брату с голоду. Я постоянно оставлял ему часть своих гонораров». В то время мы еще были в Гранаде, и он знал, что каждый вечер я встречаюсь с Юлием в cantina. Я думаю, он хотел, чтобы эти слова дошли до его брата. «О, не будем больше говорить о моей семье! Только не о ней! — воскликнул он как-то утром. — Я устал от такого количества Найев! И от свояка Зорна-Найя в том числе! Этот брак был чистым шантажом. Чудовищной вещью! Вы и представить себе не можете, какие суммы вымогает у меня Зорн, но по какой причине — я не скажу. Думаю, вы понимаете, как сильно я ненавижу это чудовище! Не желая обострять отношения со своими детьми, я делаю над собой усилие и регулярно приглашаю их провести некоторое время на моей яхте. Включая Зорна! Всем претит это путешествие, но никто не пытается уклониться от этого, в некотором роде, морского обычая. Включая Зорна! — подчеркнул Карл Най. — Моя яхта — это лодка с безумцами. Я даже признаюсь, что нам нравится ненавидеть друг друга на отдыхе». Вот, — заключает Литературовед, — в каких выражениях Карл Най говорил о своей семье и, в частности, о Зорне, чье обаяние действовало на него странным образом.
— А вы тоже испытали на себе его обаяние?
— Безусловно! Зорн словно был не от мира сего. Казалось, он здесь мимолетом, остановился лишь на мгновение, случайно проходя мимо, что он живет в далеких краях, недоступных для человека, и все это создавало вокруг него ореол манящей тайны. Я уверен, что Карл Най видел в нем посланца — то ли полу-ангела, то ли полу-дьявола — какого-то промежуточного мира. Во всяком случае, я вынес это из его обрывочных рассказов.
— Давайте подключим воображение, — предлагает Поэт-Криминолог. — Когда вы встретились с Зорном, вы составили о нем мнение?
— Нет, в общем-то, нет.
— Но вы можете представить его в ситуации, которая нас интересует?
— То есть на борту яхты, когда все остальные…
— Борются за жизнь в воде. Вы можете представить, как он убирает лестницу, а затем прыгает в воду к обезумевшим Найям? Что им движет? Хватает ли вам фантазии, чтобы выдать его нам, как говорится, связанного по рукам и ногам?
— Если вы хотите понять его поведение, то нам лучше обратиться к творчеству Розы. Вы читали «Мемуары» Казановы?
— Только отдельные куски…
— Как и все! Побег из венецианской тюрьмы Пьомби! Это не только самая поучительная книга об обществе того времени, но некоторые ее страницы о Вольтере или Екатерине Великой…
— Давайте вернемся к Зорну! Хватит отступлений! — кричит Следователь. — Зорн! Зорн!
— Но я как раз и говорю о Зорне! — восклицает Литературовед. — В «Мемуарах» Казановы есть такой пассаж: казнь Дамьена, фанатика, совершившего покушение на Людовика XV. Казанова сидит на балконе, который он снял специально для этого случая, в окружении своих друзей. Это самые жуткие страницы, показывающие эротическое воздействие как на мужчин, так и на женщин картины казни: скрипящие колеса, крики, стоны, хруст ломающихся под железными спицами костей, кровь, рвота, дефекация, нескончаемая агония. Этот спектакль бесконечно долгой смерти — четыре часа искусственно дозированных пыток! — до такой степени возбуждает зрителей и зрительниц, что Казанова очень ловко позволяет себе определенные жесты и действия с женщиной, стоящей перед ним и зажатой со всех сторон на переполненном балконе. Пока несчастный медленно умирает от жутчайших нечеловеческих пыток, Казанова детально описывает, как, испытывая одновременно ужас и возбуждение, он дает и получает наслаждение… Вот какая фантазия родилась у меня в воображении, — со смехом заключает Литературовед.
— Если отбросить это сравнение Зорна с Казановой, вы действительно думаете, что любовник Розы и Курта был способен получать удовольствие при виде идущего ко дну семейства Найев?
— По-моему, вы не читали рассказов Розы Зорн-Най.
— Ну почему же, кое-что читал.
— А вы заметили, как часто женщины-писательницы выбирают невыносимо жестокие темы? Самые ужасные преступления за всю историю мировой литературы были совершены писательницами. И зачастую ими были милые любезные старушки. Так вот, то, что писала Роза Зорн-Най, было достойно самых жестоких образчиков этих гениальных англичанок, не отступавших перед описанием никаких ужасов. В одном из своих рассказов она как раз и показывает «дьявольскую парочку», которая…
— В криминологии, — прерывает его Поэт-Криминолог, — часто встречаются настоящие «дьявольские парочки», как их называют. Нужно ли литературе уделять столь пристальное внимание криминальным происшествиям? Вам не кажется, что подобным дамам, помешанным на описании ужасов, не хватает уверенности в себе, а вдохновение они черпают в страхе?
— Вы говорите о Мэри Шелли[9]?
— Вот именно! Она изобрела самый отвратительный персонаж во всей литературе. Эта женщина занималась своего рода литературным пэчворком, используя в качестве лоскутков куски трупов. Мэри Шелли разрывалась между Байроном и своим мужем Шелли. В некотором роде, Роза Зорн-Най является сестрой Мэри, писательницей, связанной с двумя мужчинами.
— Один из которых, кстати, утопился!
— Вот именно! Роза Зорн-Най, современная сестра Мэри Шелли, влюбленная… в своего брата и в актера, претендующего на гениальность… На самом деле этот денди был слишком умен, чтобы играть комедию где-то еще, кроме как в жизни. Каждый раз, когда я встречал Зорна, то видел перед собой не только другого человека, но и другой типаж. Иногда он носил длинные гладкие светлые волосы, а его жесты и даже походка выглядели совершенно беспечными; иногда он брился почти наголо и вел себя как прусский офицер; иногда отращивал усы или бороду… но всегда в глубине его глаз чувствовалась непреклонность. Хищнический смех. Руки длинные, нервные, с ногтями, более ухоженными, чем у женщины. «Значит, вы, — сказал он мне, — в некотором роде литературный сыщик?» — «Да, — ответил я в таком же насмешливом тоне. — Я провожу расследование по поводу всех Найев». — «Вы знаете, кто я?» — настойчиво продолжил он, обнажив зубы не в улыбке, а в ухмылке, которая все-таки была удивительно обаятельной. Есть же такие типы! Ужасно опасные и этим необычайно притягательные. Он был опасно неотразим. И, наверное, был таким с детства. То, что он знал об этом, чувствовалось во всех его жестах, во всем его поведении. «Да, вы — Густав Зорн, и я многое о вас знаю». — «Без сомнения, все плохое». — «Вы почти угадали. Карл Най говорил мне о вас». — «Вы хотели сказать: плохо говорил обо мне». — «И да и нет. Он наблюдает за вами с беспокойством и восхищением». — «Не слушайте Карла Найя. Этот старик уже не в своем уме. Если вы собираетесь написать о нем, его детях и брате, то вам лучше не обращать внимания на то, что одни говорят о других». Вот какой была моя первая встреча с опасным Густавом Зорном, — заключает Литературовед.
15
— Вы не ответили на мой вопрос, — говорит Поэт-Криминолог.
— Пусть он продолжит, — возражает Следователь. — Как это заманчиво — представить в роли виновного Зорна.
— Именно по этой причине его следует исключить из числа подозреваемых. Когда слишком много улик, то чаще всего это заканчивается ничем.
— Итак, Зорн! — продолжает настаивать Следователь.
— Во время нашей первой встречи Зорн сказал: «Роза и Курт пожелали, чтобы именно я принял вас. Для такого масштабного исследования вы выглядите слишком молодо. Что конкретно вам нужно от Розы и Курта?» — «Поговорить об их книгах, отце, дяде Юлии, может, о Лоте Най… да и о вас тоже. Кстати, вы носите фамилию преждевременно умершего великого швейцарского писателя». — «А, вы говорите о моем однофамильце! Его рак переносят на литературу. И где? В Швейцарии! Этой маленькой опухоли, зажатой между Францией, Италией и Германией, которую до сих пор никто не решился ампутировать. Мы здорово поиграли в Швейцарии! Два века спустя после известного письма Руссо мы развратили жителей Женевы, показав им комедию. И им понравилось! Очень ехидная комедия Розы. Только на следующий день до них дошел ее смысл. Но они уже приняли ее на «ура». Курт сыграл свою роль, а я — свою. Эта комедия говорила о нас. Мы были плохими. Курт слишком хороший писатель, но не актер. Точно так же как Арто[10] слишком хороший писатель, чтобы посвящать себя театру. Арто очень плохой драматург. Его «Семья Санси» — отвратительная пьеса, без капли жестокости, с невероятно наивными указаниями актерам. Тончайший писатель, но ужасный драматург!» И так далее. Зорн говорил и говорил, стараясь меня спровоцировать. Но я сохранял спокойствие и улыбался.
— То, что он говорил об Арто, особенно о его «Семье Санси», не кажется мне преувеличением, — прерывает его Поэт-Криминолог.
— Повторяю, этот человек был очень умным, обаятельным, с развитой интуицией и умел провоцировать собеседника. Он казался красивым насекомым, выискивающим самое уязвимое место, чтобы укусить. Ему явно хотелось, чтобы его любили и одновременно ненавидели. От него веяло то холодом, то теплом, и он умело это дозировал. Он все время шел по канату, понимаете? Но я сразу понял, что достаточно всего одного слова… слова, принадлежащего кому-то постороннему, чтобы пробудить его и заставить упасть.
— Вы действительно думаете, что наше поведение настолько сильно зависит от мнения других людей? — взволнованно спрашивает Следователь.
— Лично я в этом твердо уверен, — говорит Поэт-Криминолог.
— Вы, мой друг, кто знает всё о моей жизни и моих трудностях, — продолжает Следователь, обращаясь к Поэту-Криминологу, — вы, кто женился в тот же день, что и я, действительно думаете, что она не вынесла постороннего мнения о нас? Неужели брак мог бы погубить нашу любовь? Неужели она побоялась потерять эту любовь? Неужели ее требование, чтобы мы расстались, является доказательством любви? Когда я шел к вам через порт, то заметил на балконе ее номера в отеле красный платок — это условный знак между нами, говорящий о том, что она хочет со мной встретиться. Представляете, — обращается он к Литературоведу, — что она не желает звонить мне по телефону, предпочитая устраивать экспромты. У нее всего один маленький чемодан, который она держит все время открытым, словно готовясь в любой момент убежать. Вы не представляете, до чего она прелестная женщина! И такой она была уже в детстве и юности. «Будем жить настоящим, — без конца повторяет она, — будем жить каждым мгновением». Неужели наша любовь ей настолько дорога?
— Именно это я вам постоянно твержу, — отвечает Поэт-Криминолог, легонько похлопывая своего друга по плечу.
— О, извините, что прервал ваш рассказ о Густаве Зорне, — говорит Следователь. — Обычно я не смешиваю личные и профессиональные дела, но тут меня, к моему стыду, понесло.
— Ничего, — успокаивает его Поэт-Криминолог. — Вы в кругу друзей. И у меня есть предложение: а не пойти ли нам пропустить по стаканчику?
— Итак, — продолжает Литературовед, когда они устраиваются за столиком в Морском клубе, — Густав Зорн легко мог бы сойти за подозреваемого. От него исходили одновременно какое-то томное спокойствие и скрытая порочность. Он разговаривал с вами спокойным, необычайно любезным голосом с ласковыми интонациями, но в то же время вы чувствовали, что он в любой момент может взорваться. Его руки, казалось, душили воздух. Во время первого разговора мы то и дело переходили от Карла к Юлию, потом к Розе, Курту, Францу и Лоте, потом снова к нему, к нему, к нему одному! И так целый час, пока я находился под его обаянием. В момент расставания он мне со смехом сказал, что я выдержал первый экзамен и завтра в это же время могу встретиться с Розой и Куртом. Густав был из тех демонических ангелов, которые мечтают умереть как можно эффектнее, и это проскальзывало во всех его словах. «Смерть — наш друг, — как-то сказал он мне, когда мы познакомились поближе и я спросил, что он думает о книгах своей жены. — Роза пишет о смерти и больше ни о чем. Часы для нее остановились раз и навсегда. Роза, Курт и я поклялись, что, когда пробьет час, мы умрем вместе, но только весело!»
— Когда пробьет час?
— Подождите, это еще не всё! В то время произошла одна ужасная авиакатастрофа, о которой все только и говорили. Первый пилот, чтобы покончить с собой, решил заодно угробить с сотню пассажиров. Его разговор со вторым пилотом, отчаянно пытавшимся переубедить его, записали на командно-диспетчерском пункте. Но никакие уговоры не помогли, и самолет врезался в землю. «Какая прекрасная смерть! — воскликнул Зорн. — Какой летчик не испытывал искушения направить самолет прямо в море?» В то время я знал их уже получше. Зорн и Курт тоже жили на вилле в окрестностях Вены. Они разрешили присутствовать мне на съемках фильма по роману Розы, чтобы мое исследование обогатилось и этим фактом, который должен был показать…
— Как кино убивает литературу, — почти с комической живостью произносит Поэт-Криминолог. — Но согласитесь, что между адаптациями и…
— Хватит! Не отвлекайтесь! — нервничает Следователь. — Мне кажется очень важным то, что вы говорили о коллективном самоубийстве. Умереть эффектно! Вот мощнейшая мотивация, чтобы продумать коллективное утопление, единственное в истории криминологии!
— О, таких эффектных самоубийств хватает и в истории человечества, и в истории криминологии, — возражает Поэт-Криминолог. — Достаточно только вспомнить секты! Со времен сотворения мира до сегодняшнего дня трупов столько, что и не перечесть! Однако, основываясь на том, что вы рассказали нам о Зорне и о сексуальных пристрастиях этой троицы, мы можем выдвинуть прекрасную гипотезу гибели «Урана».
— Предположения вряд ли помогут нам завершить дело, — говорит Следователь. — Пусть наш друг продолжает исследовать рукописи и сохраняет беспристрастность, когда обнаруживает что-то новое. Только беспристрастность поможет нам ответить на вопросы: кто, как и почему? Что это было? Преступление? Коллективное самоубийство? Коллективное убийство одним, двумя, тремя самоубийцами? Несчастный случай из-за всеобщего пьянства? Я даже слышу, как они смеются, прыгая за борт. Знаете, ночью, когда не спишь и всё думаешь, какие только гипотезы не приходят в голову… Я насчитал уже двадцать две. А что еще говорил Густав Зорн о контракте, который они заключили между собой? Каким образом они собирались его осуществить? Если, конечно, Зорн говорил правду, а не морочил вам голову.
— Если бы вы лучше знали Розу и Курта…
— Я часто встречал их в разное время в Морском клубе. И даже несколько раз видел Густава Зорна.
— Значит, вы видели их всех вместе?
— Да уж, этакие денди — не знаю, как их еще охарактеризовать.
— Это достаточно поверхностное суждение. Я некоторое время жил рядом с этим трио и могу сказать, что они уделяли большое внимание не только своему внешнему виду, но и впечатлению, которое производили. И когда Густав говорил о смерти и о том, как они собирались поиграть с ней, уверяю, что вы ни на секунду не усомнились бы в его словах.
— Вы действительно считаете, что эта троица могла задумать коллективную смерть, решив, что момент настал?
— Нет, я так не думаю. Зная Курта, я считаю, что, играя в игру Густава Зорна, которому удалось подчинить его, он никогда бы не согласился на деле воплотить идею, запущенную ради бравады и эстетического наслаждения. Поскольку, признаем, это коллективное утопление — абсолютный эстетизм. Белая яхта, гладкая, лакированная, синее море и ни души вокруг — ни на воде, ни под водой, нет даже трупов, только размытые тени, словно застывшая похоронная процессия, медленно уносимая подводным течением, да еще веселые рыбки по бокам… Такого рода картинки Зорн легко придумывал, что восхищало Розу и Курта. Оба они любили Зорна и, находясь рядом с ним, теряли способность критически мыслить. Оба, такие умные, казались завороженными тем магнетизмом, который исходил от этого изворотливого и неуловимого человека.
16
— Постойте, постойте! — восклицает Следователь. — А вы не думаете, что их дендизм и извращенный эстетический вкус могли стать довольно мощной движущей силой, чтобы устроить художественную постановку собственной смерти?
— Вспомните об эффектном самоубийстве Луп Велес в Беверли-Хиллз, — вторит ему Поэт-Криминолог. — Луп Велес, находясь в самом расцвете своей красоты и славы, решила умереть в тот момент своей жизни, который считала непревзойденным. Еще никогда самоубийство не было обставлено так тщательно и продуманно. Ее великолепный дом был уставлен экзотическими цветами, залит мягким светом, ни одна деталь не была оставлена без внимания. Косметологи, парикмахеры, костюмерши суетились вокруг молодой женщины. И вот наконец она одна. Выпивает яд, подсыпанный в шампанское. И внезапно весь ее план рушится: смесь алкоголя и яда вызывает у нее рвоту, и она устремляется к унитазу, возле которого ее и находят мертвой. Ее прекрасное лицо, которое она так тщательно подготовила, вымазано…
— В случае с Зорном, Розой и Куртом их уход в мир иной оставлял после себя пустоту, — перебивает его Литературовед. — Зорн был хромым бесом.
— Вы подразумеваете Лесажа[11], которого вдохновил Велес де Гевара[12]…
— Не будем своими шутками раздражать нашего друга Следователя. Вспомните, что говорил Дидро в «Жаке-фаталисте»: «Если вы благодарны мне за то, что я сказал, то представьте, сколько я еще не сказал». Не стоит забывать, что Зорн в глубине души был невероятно раним. Когда я узнал его получше, то понял, что он страдает от своей посредственности. Гордый Зорн, интеллигентный и язвительный Зорн, был посредственным актером. Да, посредственным, и он это знал. Розе все-таки удалось пристроить его в фильм, съемки которого начались в Вене. И Зорн был этим глубоко уязвлен. «Нет ничего более забавного, чем видеть, насколько мало значат рекомендации моей жены. Эти люди не нашли ничего лучшего, как предложить мне самую никчемную роль», — сказал он мне. Он пытался шутить по этому поводу, но я понял по некоторым его репликам, брошенным ради смеха как всегда язвительным тоном, что он никогда не простит ни Розе, ни Курту, ни мне как свидетелю такое ужасное унижение, ставящее крест на его актерской карьере. Это была открытая всем взорам рана, поскольку ему дали третьестепенную роль безликого персонажа. «Настоящий удар кинжалом», — говорил он со смехом. «Такое предательство» позволило ему разыгрывать веселую и горькую комедию с Розой и всей остальной семьей Найев. Зорн стал еще более неуловим, обворожителен и опасен. Как только Роза и Курт не понимали, что живут с влюбленным врагом? Что между ними всегда стоит начеку влюбленный в них враг?
— Вам не кажется, что нарисованный вами портрет Зорна, а также его артистические выходки рискуют увести нас от объективного расследования? — спрашивает Следователь. — Не направляете ли вы нас по ложному следу, показывая Зорна настолько отвратительным? Ведь в таком случае можно не сомневаться, что он мог.
— Но я на самом деле думаю, что он мог.
— Значит, у нас есть уже двое подозреваемых, которые могли бы, — смеется Поэт-Криминолог. — Карл Най мог бы, поскольку верил всему, что говорили ясновидящие, и, кажется, подчинялся им не раздумывая. А теперь еще Густав Зорн, который тоже мог бы.
— Я помню, как в Нью-Йорке Карл Най привел меня к слепому бенгальцу и сказал: «Этот человек знает даты». — «Какие даты?» — «Даты смерти. Все даты смерти! Даты моей, вашей смерти, даты смерти Юлия, моих детей, Лоты. Всю свою жизнь я хотел узнать эту дату, так как мне не терпится присоединиться к моему брату Арно, которому я обязан своим успехом. Мне всю жизнь хотелось достичь абсолюта, но удалось достичь только успеха. Арно водил моей рукой, я абсолютно ни за что не ответственен. Ни одно из моих произведений не принадлежит мне. И этот знак, который выгравирован на моем кольце и который я рисовал на песке в Палме и во всех других местах, это gaandrha пришло ко мне из каббалы и от Мелампа, внука Кретея. Он был первым смертным, получившим дар прорицателя. Мой слепой бенгалец будет седьмым из настоящих ясновидящих. Меламп был также первым, кто смешал воду с вином. Он понимал язык птиц. Его уши были очищены выводком змеёнышей, которых он спас от смерти. Кроме того, он понимал язык насекомых. Мой слепой бенгалец тоже понимает язык насекомых, и он узнаёт от червей или рыб дату, в которую они ждут прибытия тех, кто предназначен им на съедение. Посмотрите на мой лоб, вы не замечаете на нем этого gaandrha?. Конечно, вы не относитесь к числу посвященных. Но я знаю, что он спрятан в складках моего лба, и когда Посвященный разглядит его, он даст мне ответ, что я должен узнать в момент моей смерти».
— Он сказал «в момент моей смерти!» — восклицает Следователь. — Он связал этот знак со своей смертью?
— А еще он сказал: «Этот знак откроет мне гробницу моего брата Арно, очутившегося в ней раньше всех. Когда-нибудь я спущусь в нее, и в этот день он увидит это gaandrha, к которому добавит еще один знак, который я искал всю жизнь. И я знаю, что это будет знак, не относящийся ни к науке, ни к искусству, ни к знаниям. Это будет знак временности. Вспомните Джеймса в романе Стивенсона «Хозяин Баллантрэ» и его проводника-индейца…»
— Великолепная книга! Борхес считал ее самым прекрасным романом во всей мировой литературе! — восклицает Поэт-Криминолог.
— Не стоит слишком доверять щедрым комплиментам Борхеса, — возражает Литературовед. — Сколько романов он называл самыми прекрасными!
— И что дальше? — нервничает Следователь.
— Он долго говорил о конце Баллантрэ. «Мы все можем пережить наши похороны. Нужно только знать знак, завещанный нам в каббале. Помните женщину с петухом? Эта женщина отвратительна! Она внушает мне ужас. Но она тоже знает дату. Она бросает зерна своему мерзкому петуху, и он клюет их, рисуя цифры. Я мог бы назвать вам дату своей смерти, которую знаю и от бенгальца, и от женщины с петухом. Было бы забавно, если бы в своей книге вы заранее написали даты смерти всех Найев, включая Густава Зорна и мою жену Лоту».
— И он сказал вам эту дату? — спрашивает Следователь, что-то помечая в своем блокноте. — Этот человек был явно ненормален, но это не исключает того, что всё им сказанное имеет право на существование. Что мы знаем…
— Постойте! — прерывает его Поэт-Криминолог. — Я прошу вас оставаться объективным. Вы — следователь, а я — криминолог. То, что наш друг литературовед мог поддаться нездоровому обаянию Карла Найя, это его трудности. Но нам не хватает только историй по поводу этой знаменательной даты.
— Однако пока что я слышу одни «истории», — возражает Следователь. — Кстати, в моей семье тоже случались необъяснимые вещи.
— И вы были их участником? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Я — нет. Но благодаря этим необычным, потрясающим событиям, я сейчас стою здесь, перед вами. Представьте себе, что моя мать в возрасте девятнадцати лет должна была ехать поездом, чтобы встретиться со своим женихом — моим будущим отцом. И вот накануне отъезда ей снится ужасный кошмар: какая-то монашка, вся в крови, грустно и предостерегающе машет ей пальцем. И моя мать решает, что ей лучше отказаться от этого путешествия.
— И поезд, без сомнения, сошел с рельсов, — со смехом произносит Поэт-Криминолог.
— Вы правы, поезд сошел с рельсов. Однако, как оказалось, в этом поезде действительно ехали монашки и несколько из них погибли. Моя мать всегда утверждала, что одна из них знала дату своей смерти и явилась ей во сне, чтобы предостеречь.
— Она знала не только дату своей смерти, но и то, что вашей матери умирать рано!
— Вы невыносимый скептик! — восклицает Следователь. — Однако в нашей семье произошло еще одно невероятное событие. Не улыбайтесь! И это опять связано с поездом. Да не смейтесь же! На этот раз одному из моих дядей ясновидящая запретила ехать на поезде. Поскольку эта поездка была очень важной, то вместо него на поезд села его жена. Итак, тетя садится на место возле окна, которое зарезервировал мой дядя. В какой-то момент она встает, чтобы пойти в вагон-ресторан. Вдруг раздается ужасный грохот. Поезд резко тормозит. И представьте, что в тот момент, когда она покидает свое место, по параллельным путям движется товарный состав, перевозящий стволы деревьев. И тут происходит невообразимое: один деревянный брус отделяется от всей связки и врезается прямо в окно, возле которого сидела тетя.
— Глупости! — смеется Поэт-Криминолог.
— Как это глупости?
— Ваши железнодорожные истории. Кроме того, какое отношение они имеют к нашему делу?
— Они в некотором роде подтверждают то, что говорил Карл Най.
— Но вы же не были свидетелем этих несчастных случаев?
— Потому что они произошли до моего рождения!
— И вы в них верите?
— Верю.
— Тогда мы не будем вас разочаровывать. Но имейте в виду, что тот, кто верит в фатализм, становится его жертвой. Вспомните о смерти юного брата Карла и Юлия. Шпага, воткнутая в могилу.
— Давайте лучше возвратимся к «Урану»! — говорит Следователь. — Итак, Карл Най утверждал, что знает не только дату собственной смерти, но и даты смерти всех членов семьи.
— Он действительно это утверждал.
— Назвал ли он вам конкретную дату? И не совпадали ли все эти даты?
— Понимаю, к чему вы клоните, — говорит Поэт-Криминолог. — Узнав от своих предсказателей даты смерти, Карл Най убедил всех членов семьи поплавать в открытом море. Затем он быстро поднялся на борт, отвязал лестницу и снова прыгнул в воду.
— Это было бы самым заманчивым решением.
— Во всяком случае, самым простым и наименее загадочным. И самым элегантным.
— Но не самым хорошим, — возражает Литературовед. — По моему мнению, все члены семьи желали коллективной смерти и все они должны оставаться под подозрением.
— Когда мы поднялись на борт пустого «Урана», то я вначале подумал, что несчастье произошло в результате коллективной пьянки. Все напились и слишком развеселились…
— И, заключив абсурдное пари, ринулись в воду.
— Я думаю, что здесь сыграл человеческий… фактор… Все вместе прыгают в воду, но каждый думает, что кто-то все же остался на палубе и спрятался шутки ради. Затем они начинают считать. Пересчитывать. Все бараны в воде, а напротив них — пустая, высокая, гладкая белая яхта, неприступная, как айсберг.
— В общем, прекрасная иллюстрация человеколюбия.
— По-моему, это слишком литературно, — возражает Литературовед. — Когда я читаю такой сюжет, то сразу отбрасываю книгу! Подобные парадоксы на тему коллективной гибели не стоят ни гроша! Поверьте, то, что я обнаружил в различных рукописях Найев, дает повод для выдвижения более интересных гипотез.
17
Две предыдущие бессонные ночи совсем подкосили Литературоведа, и этим вечером он, чувствуя, что силы его на исходе, не стал читать рукописи, а сразу заснул. Поздним утром, проснувшись и вытаскивая из-под щеки поэму Курта Найя, он внезапно уткнулся заспанными глазами в следующие строки:
Мое воображение убивает и поедает меня я чувствую себя убитым Поэзия играет как зеркала и приукрашивает голую плоть Тот кто поверил плоти обрекает себя на смерть в течение миллионов лет становится добычей судьбы Не находя спокойствия не переставая вмешиваться я — посторонний Абсурдный парадокс рождение смерть крупица смысла всё иллюзия Среди лавы ледников газовых вихрей ищешь судьбу Галактики Вселенные мои да еще биологический инстинкт мое воспаленное воображение рождает невероятные извращения ОПИШИТЕ сверкающие цветыИ когда Поэт-Криминолог входит в номер, он находит Литературоведа по-прежнему лежащим ничком на кровати, со стихами Курта в руке.
— Мы с моим другом Следователем уже несколько раз осторожно стучали в вашу дверь, но так как из-за нее не доносилось ни звука, мы решили вас не беспокоить. Вижу, вы всю ночь работали? Я восхищен вашим упорством. Итак, что новенького?
— Кажется, что-то вырисовывается, — отвечает Литературовед.
— Знаете, всю последнюю ночь я не мог уснуть, чувствуя стыд за то, что вы один в этой комнате сражаетесь с горой незаконченных рукописей.
— Да, я всю ночь не сомкнул глаз и свалился только на рассвете… а теперь уже вторая половина дня. Вот, прочтите эти стихи.
— Не вижу ничего особенного, — говорит Поэт-Криминолог. — Да, красивые стихи, но какое отношение они имеют к нашей загадке? Кроме слов «убивает» и «я чувствую себя убитым», нет ничего особенного.
— А ОПИШИТЕ сверкающие цветы, позаимствованные у Малларме?
— И что?
— Основываясь на этом заимствовании, мы можем выстроить вторую гипотезу о литературном семействе Найев. До сих пор что-то было недосказано… как эти стихи, обрывающиеся на слове «цветы».
— По-вашему, эти стихи…
— Были бы незакончены. И как всегда, когда мысль не может сформироваться, на помощь ей приходит цитата. Эти сверкающие цветы напомнили мне коллоквиум как раз на тему «Незаконченное», который проходил в Токио и на который я поехал, чтобы посетить Японию. Этот коллоквиум был организован Крупным Специалистом в Области Книг Которые Валери не Прочел до Конца. Представьте: в течение полувека этот милый старый японец скрупулезно изучил все книги в библиотеке Валери, отмечая разрезанные и неразрезанные страницы. «Мною научно доказано, — заявил этот старый ученый, — что Валери разрезал первую страницу в книгах, которые получал в подарок, иногда — вторую и из суеверия — девяносто девятую». Затем писатель читал последнюю страницу и окончательно закрывал книгу. Иногда он пролистывал ее, но почти никогда не читал полностью. На этом коллоквиуме присутствовал также немецкий ученый, тоже специалист по Валери. Но только он занимался всю жизнь исключительно поздним Валери, пытаясь обнаружить чрезвычайно мудреными методами следы его ногтей на полях страниц, оставляемые по мере того, как тот «смаковал» книги своих соотечественников. По словам этого исследователя, некоторые отметки носили явно положительный характер, а некоторые — критический. Подобное чтение следов ногтей великого Валери дало в итоге великолепную диссертацию об авторе дневников, не читавшем до конца книги.
— А действительно, почему нужно читать книги до конца? — вопрошает Поэт-Криминолог.
— Неприятность в том, что сегодня практически невозможно узнать, прочел ли человек всю книгу, пролистал или просто открыл и закрыл. Например, Карл Най, для того чтобы узнать, читали или нет его книги до конца, ходил по букинистическим магазинам и смотрел, разрезаны или нет все страницы. Но теперь, когда книги продаются с разрезанными страницами…
— Это зависит от того, кто читает… и что читаешь. Скажите честно, вы прочли хоть одну книгу Карла до конца?
— О, наконец он проснулся! — восклицает Следователь, входя в комнату. — Итак, что нового?
— Мы пока еще не касались этой темы, — отвечает Поэт-Криминолог. — Мы говорили о различных подходах исследователей к произведениям.
— Из всех исследователей, которых я встречал на различных коллоквиумах и симпозиумах, больше всего мне понравился пожилой израильский ученый. Он говорил, что книги читают до конца люди недалекие и послушные. Великий же человек с подвижным и креативным умом может вынести из книги в лучшем случае слово или фразу, которые вдохновят его на создание чего-то нового. Этот еврей был очень хитрым. «Я исследователь, не написавший ни одной диссертации, — говорил он, — так как все великие диссертации, несущие новую мысль, это еще не написанные диссертации».
— Всё это прекрасно, — замечает Следователь, — но не вернуться ли нам к Найям? Итак, что нового?
— То, что вы только что рассказали, чрезвычайно интересно, — говорит Поэт-Криминолог. — Я бы с удовольствием продолжил с вами разговор на эту тему. Попозже я расскажу, как было раскрыто одно преступление, хотя не удалось найти ни труп, ни убийцу. Чистая загадка.
— Прямо как в нашем случае! — замечает Следователь.
— Осторожнее! — восклицает Литературовед. — Вы уронили одну из тетрадей Лоты Най. Это как раз последняя тетрадь ее дневника.
— Странный почерк, — замечает Следователь, поднимая тетрадь. — О, а вот и рисунки, который Карл Най оставлял на полях! Действительно, очень похоже на знаки, обнаруженные на корпусе «Урана».
— Видите, повествование в этой тетради прерывается на слове, которое зачеркнуто с таким рвением, что ручка прорвала несколько листков. И теперь мы не сможем узнать, что хотела скрыть молодая женщина. А предшествующие слова ни о чем не говорят. Может, это было чье-то имя? В таком случае я уверен, что это Франц.
— Да? Но почему?
— Прочитайте начало фразы. Разве оно не подводит к имени того, кто занимал привилегированное положение в уме женщины, написавшей эти строки?
— Да? — повторяет Следователь, растерянно глядя на Поэта-Криминолога.
— Отсюда легко сделать вывод, что она вычеркнула имя единственного человека, который имел значение для нее в этой семье.
— То есть вы хотите сказать?
— Вот именно! Я понял это, как только встретил ее.
— Поняли что?
— Что она несчастна. Что ее мысли заняты иным. «Что она делает с этим стариком?» — подумал я, впервые увидев ее рядом с Карлом. Это было в Палсе. «А вот и Лота, моя молодая подруга», — употребил это ироничное слово Карл Най. И я сразу решил, что у обоих накопилось достаточно обид друг на друга. Достаточно было понаблюдать за ее руками, когда старик Най начинал рассказывать о себе, своем творчестве и творчестве своих родных. «Все упорно пишут, даже Лота, хотя она поклялась больше не написать ни слова с тех пор… с тех пор, как шесть лет назад в Порт-о-Принс разрешилась диссертацией о Карле Найе». — «Карл, пожалуйста, не начинай», — слишком спокойно произнесла Лота. Эта женщина явно страдала от того, что ей приходится быть подругой старого писателя. Сначала я и вправду подумал, что эта квартеронка приходится ему подругой, но очень быстро понял, что старик употреблял это слово, чтобы не говорить «моя жена». Что их связывает, спросил я себя, что они делают вместе, что их держит рядом друг с другом? Должен признаться, что эта молодая негритянка с белой кожей, ходящая взад и вперед по дому, не переставала меня удивлять. Она не была красавицей, но от нее исходила такая мощная жизненная энергия, такая животная сила, что казалось, она в любой момент может вырваться наружу, ничего не щадя на своем пути. В то же время Лота выполняла малейшие прихоти Найя, хоть и называла его старым импотентом — что было неправдой, — словно, не знаю перед кем, ей необходимо было оправдать свое присутствие рядом с этим стариком, словно ее угнетала разница в возрасте и жизненной силе. «Лота — молодая кобылица, — сказал мне Густав Зорн, — что Карл о ней знает? Вот как писатели могут покорять детей и внуков своих рабов! А что Лоте известно об этом старом фабриканте литературы? Великий писатель ненадолго останавливается в Порт-о-Принс — и молоденькая студентка, внучка раба, вбивает себе в голову, что должна написать диссертацию об этом красивом старике с седой шевелюрой, с уставшими глазами, чей приглушенный голос пробуждает в ней врожденное послушание квартеронок, знающих, где находится дом хозяина. Эта девица воображает, что завладела мыслями старика Найя, хотя это на его угасающие чувства она оказывает угасающее влияние. Вы заметили, как она умело скрывает свой взгляд за большими учительскими очками, как умело маскирует свою необузданную сексуальность? Нет, нет! Это не то, что вы думаете! Ее большие учительские очки красноречивее любого плаката: Лолот много читала, Лолот страшно много читает, Лолот будет читать! Впрочем, она сует нос в рукописи Карла и — какой секрет! — пишет сама. Что? Да кто его знает!» Вот что сказал мне Зорн. В другой раз, в присутствии Зорна, Роза рассказывала о Лоте совершенно в других выражениях, признаваясь, что соглашается встречаться с отцом только из-за Лоты. «Лота — моя подруга. Только в ее присутствии я могу переносить своего отца. В Лоте мне нравится ее ум, трезвый взгляд на окружающее. Когда у меня возникают сомнения по поводу той или иной вещи, я всегда прибегаю к ее совету». — «В этом вся Роза, — прервал ее Зорн. — Мы любим тех, над кем доминируем. Не ради того, чтобы возвыситься, а из какого-то стыда быть самими собой. Роза стесняется быть Розой Най главным образом перед Лотой Най, так как на самом деле ей стыдно за Лолоту Най, которую старик подобрал у доминиканцев в Порт-о-Принс». — «Там нет доминиканцев», — возразила Роза. — «Тогда в какой-нибудь хижине или в конторе по найму». — «Тебе прекрасно известно, что она преподавала литературу в Квебеке и случайно находилась у своих родителей как раз в тот момент, когда мой отец приехал в Порт-о-Принс, чтобы прочитать лекцию». — «Лекцию? Как бы не так! Не доверяйте Розе, — добавил Зорн. — Во всяком случае, в том, что касается Лоты. Роза безгранично верна и снисходительна по отношению к тем, кого любит. Вы убедитесь в этом, когда будете говорить обо мне в мое отсутствие. Поверьте, это плохая идея — написать книгу о семействе Найев! Спросите Курта, что тот думает по поводу Лоты. А вы говорили о ней с Юлием? Предупреждаю вас: будьте поосторожнее с Францем! И поосторожнее с Лотой, если случайно при ней произнесете имя Франца. А что касается старика Карла, то никогда не упоминайте при нем Франца и Лоту вместе».
— И какой вывод из этого вы сделали? — спрашивает Следователь.
— О Лоте?
— Да, и о Лоте в том числе. А как относился к ней Юлий? И что говорил Курт?
— Курт никогда не мог понять, что Лота делала среди Найев. Что касается Франца, то тут, как говорится, совсем другое дело.
— И поэтому вы думаете, что Лота вычеркнула именно его имя?
— Да, поэтому.
— А можно узнать, какое место вы отвели ей в своей книге?
— Думаю, то место, которое она заслуживала, во всяком случае, в то время я был в этом уверен.
— А теперь?
— Теперь я прочел ее дневник, о существовании которого раньше не подозревал. И мое мнение за последние две ночи во многом изменилось. Как-то, в Женеве, Лота дала мне понять, что хотела бы встретиться со мной без Карла. «Я знаю, что вы виделись с Францем в Гамбурге, — без обиняков сказала она. — И провели с ним больше недели». — «Действительно», — ответил я, забавляясь тем, что она уже в курсе.
— Подождите, — прерывает его Следователь. — Вы на самом деле поехали в Гамбург, чтобы встретиться с Францем?
— Конечно. Любое исследование строится на тех же принципах, что и полицейское расследование. И когда Зорн называл меня литературным шпионом, я совсем не обижался. В основе моей книги лежат реальные факты, конкретные тексты, свидетельства, касающиеся литературного семейства Найев. Франц неожиданно принял меня очень радушно. Когда мы лучше узнали друг друга…
— Подождите, не так быстро, — прерывает его Следователь. — Расскажите еще что-нибудь о Лоте Най. Итак, вы встретились с ней в Женеве.
— Хорошо. Но только вы должны помнить, что Лота была одержима навязчивой идеей. Ее наваждением был Франц. Она хотела встретиться со мной, чтобы иметь возможность поговорить о нем. Я спросил у нее: «Но как вы узнали, что мы с Францем опрокинулись, катаясь на паруснике в устье Эльбы?» — «Мы каждый день звоним друг другу. Я испытываю к Францу… настоящую… нежность».
— Как?! Вы с Францем опрокинулись, катаясь на паруснике? — восклицает Следователь.
— Да, Франц любил выходить в море на паруснике, когда поднималась волна и ожидалась буря.
— О, это я понимаю! Какой восторг испытываешь, несясь навстречу бушующим волнам! Мы с женой обожаем такие вылазки. Ничто не может сравниться со счастьем, когда возвращаешься назад, все еще живой! Это восхитительно!
— Давайте поговорим о радостях, которые приносит парусный спорт, попозже, — предлагает Поэт-Криминолог. — Вернемся к Лоте или Францу, но не будем перескакивать с одной темы на другую. А то это сбивает нас с толку, как лошадь палача, которая у каждой висельницы…
— Ладно, мы поняли! — смеется Литературовед. — Вернемся к Лоте. «Знаете ли вы, что я могла бы быть сестрой Франца, — продолжила она. — Карл все время предостерегает меня от чрезмерной нежности по отношению к его детям. «Я не хочу, чтобы моя жена слишком привязывалась к детям Бель!» Вот что Карл без конца повторяет мне с тех пор, как впустил, по его словам, в свою жизнь, не понимая, что это он ворвался в мою и полностью ее перевернул. И теперь я с трудом могу найти уголок и сказать: «Ты у себя дома, Лота!»» Мы прогуливались по пирсу, недалеко от острова Руссо. Почему Лоте захотелось встретиться со мной на свежем воздухе, хотя шел снег и она дрожала от холода? Внезапно мне показалось, что эта встреча была не обычной встречей двух ученых, а встречей свободного мужчины и молодой женщины, открыто демонстрировавшей свое разочарование мужчиной, за которого она, несмотря на огромную разницу в возрасте, согласилась выйти замуж. «Знаете, — сказала она, смеясь сквозь слезы, — что я уже не выношу его книги. Я думала, что встретила и полюбила великого писателя, а на деле оказалось, что я была ослеплена великим человеком. Да, я восхищалась его именем, тем, какой восторг вызывало его имя у моих друзей, таких же молодых литераторов, как и я, ослепленных литературными светилами. Карл был одним из них не только для меня, но и для моих друзей, и мне хотелось стать Лотой Най, чтобы возвыситься над ними. Ладно, не буду вам докучать своей банальной историей». — «Но вы мне вовсе не докучаете! И я вам очень признателен за оказанное доверие. Не бойтесь, ни слова из нашей беседы не появится в моей книге». — «Но я, наоборот, хочу, — живо воскликнула она, — чтобы мое имя появилось в ней. Я хочу… я хочу…» Она замолчала, и я тихо спросил: «Чего вы хотите?» — «Чтобы вы всё рассказали про меня! Я против этого глобального исследования, но если никто не может вам помешать, тогда выложите всё — я этого хочу!» Вот что сказала мне Лота, пока мы прогуливались по набережной Роны, под падающими снежинками, которые запорашивали ее большие очки. И, должен признать, выглядела она очень соблазнительно.
— Да, она довольно пикантная женщина — я встречал ее в Морском клубе, — говорит Следователь. — Когда она появлялась на приемах, которые устраивал старик Най, мужчины начинали вести себя по-другому. Не то чтобы они слишком уделяли ей внимание, — нет, — это было что-то более неуловимое. Как объяснить? Они начинали держаться более прямо… Я говорю о пожилых мужчинах, словно сам факт, что она вышла замуж за старика, омолаживал их, давал шансы…
— А ее тянуло к тем, кто моложе и не устроен в жизни. Литература оказалась ловушкой, приманкой, с помощью которой старику Найю удалось завладеть наивной «любительницей литературы», как он называл ее.
— И вы считаете, — прерывает их Поэт-Криминолог, — что все это продвигает нас в нашем расследовании?
— Даже не сомневайтесь, — отвечает Литературовед. — То, что я узнал о Лоте в Женеве, а также то, что мельком прочел в ее дневнике, наводит меня на мысль, что, может, в сумасбродном поведении этой женщины нам нужно искать одну из нитей этого ковра.
— И что же вы узнали?
— Эта женщины чего-то ждала. «Что-то должно случиться», — говорила она. А теперь слушайте: это произошло во время нашей второй встречи. Она вытащила из сумочки конверт, набитый деньгами. Не знаю точно, сколько там было, но я никогда не видел столько денег. «Видите эти купюры? — спросила она. — Я плачу их одному человеку, чтобы он направлял Карла так, как мне заблагорассудится». — «Но кто он?» — «Тот, с кем он консультируется и без кого не предпринимает ни одного шага». В тот раз мы находились в Париже. Там у Карла Найя тоже был ясновидящий. На этот раз перс. А еще она рассказала мне страшные вещи по поводу Густава Зорна.
— Ну вот мы и снова к нему вернулись! — восклицает Следователь.
— Она выглядела очень оскорбленной, даже желчной.
— Оскорбленной? Желчной? Странная женщина! Она платит ясновидящему персу, чтобы тот направлял старика Найя даже в Париже, но, когда речь заходит о Зорне, она выглядит оскорбленной и желчной. А еще есть Франц. Мне бы хотелось, чтобы вы побыстрее дочитали ее дневник и расшифровали знаки, оставленные Карлом на его полях.
— Надеюсь сделать это, как только вы оставите меня одного.
18
— Что вы думаете о нашем литературоведе? — спрашивает Следователь у Поэта-Криминолога по пути к порту.
— Он вас тоже беспокоит? Довольно странный тип. То, как он рассказывал о Лоте Най, меня озадачило. А его недомолвки по поводу Франца, о котором он так ничего и не рассказал, вызывают у меня подозрения.
— Да? Какие подозрения?
— Боюсь, что это доставляет ему удовольствие.
— Не понимаю. О каком удовольствии вы говорите?
— О том, которое испытываешь, когда берешь власть в свои руки. Поскольку мы слушаем его, ловя каждое слово, то он начинает этим пользоваться. Он постоянно играет на нашем любопытстве. Кроме того, я уверен, что у него есть своя теория. И ему доставляет удовольствие держать нас все время в напряжении. Например, то, что он ничего не рассказывает о Франце, кажется немного…
— Вот именно.
— И он ничего не рассказывает о Розе и Курте.
— Я тоже это заметил!
— И вы ничего ему не сказали?
— Я хотел посмотреть, что будет дальше.
— Но дальше ничего не произошло.
— Да, вы правы.
— Он словно специально хранит молчание, как в случае с Францем и другими, чтобы затем выдать что-то неожиданное. И я начинаю подозревать, что он метит в детей Найя, которые якобы решили покончить раз и навсегда со всей своей семьей… и с собой тоже.
— Но какой у них был мотив?
— Вы прекрасно знаете, что в криминологии никогда не нужно искать мотив. Кто-то кого-то убивает. И только после этого раскрывают причину убийства. В случае с самоубийствами все намного сложнее. Некоторые выжившие самоубийцы на вопрос «Зачем вы это сделали?» не могут ответить ничего вразумительного или указывают на заведомо ложную причину. Давайте присядем на скамейку, чтобы полюбоваться морем. Я хочу признаться в ужасной вещи, которая без конца меня мучит: единственное убийство, которое я понимаю…
— Прошу вас, не продолжайте. Я уже давно чувствую, что за вашим якобы хорошим настроением скрывается глубокое отчаяние.
— Я на пределе, — признается Поэт-Криминолог, не сводя глаз с водной поверхности. — Моя жена демонстрирует такое спокойствие, что мне кажется, будто она ждет от меня какой-то бури… убийства, чтобы всё это наконец-то закончилось. Мы ничего не можем поделать! Мы ничего не говорим. Сейчас я пойду домой. Знаете ли вы, что происходит у меня, у нас… у них, если говорить, глядя со стороны. Сколько лет я мучусь вопросом: неужели все это происходит с нами, со мной? Что такого мы сделали, за что нам послано подобное наказание? Он хнычет целыми днями и прижимает к груди старый тапок. Я знаю, что это не слишком эстетично — старый тапок. Мы пытались дать ему плюшевую зверюшку, но он плакал и плакал, и мы отдали ему тапок. «В тот день, когда ваш ребенок не захочет больше играть со своей игрушкой, в тот день, когда она станет ему безразлична, — сказал врач, — это значит, что он…» О, простите! Не нужно слов, давайте просто смотреть на море. Какой хаос в нем творится! Загадки повсюду! Найду ли я в себе смелость? Одно сплошное страдание, а какие ужасные страдания нам еще предстоит пережить, и как найти смелость? Вот целый субконтинент, который находится вне поля зрения криминологии. Ни преступления, ни убийства. Иногда я мечтаю уснуть его сном — тихо, безболезненно. Кого будет волновать исчезновение троих человек? Уйти мирно, тихо, без шума — понимаете? Но как? Видите ли — нет, не говорите ничего! — видите ли, если бы не это расследование, которое меня отвлекает и даже забавляет, может быть, мы — я, мои жена и ребенок — уже бы тихо ушли. Но есть такая вещь, как любопытство. Любопытство держит меня. Загадка держит меня. Наверное, вы думаете: нет никакой связи между старым тапком и загадкой «Урана». Так вот, вы ошибаетесь! Пока есть надежда узнать — что, как и почему? — я буду здесь, рядом с вами, упиваясь рассказами Литературоведа. Да, любопытство! Как у того султана, чье любопытство разжигали сказками каждую ночь. Может, и нас перед лицом хаоса поддерживают сказки?
— В том состоянии, в котором вы находитесь, я не советую вам возвращаться домой прямо сейчас. Вернитесь лучше к Литературоведу и попросите продолжить чтение рукописей детей Найя. И пусть не увиливает! Это мой приказ.
— Я позволил себе смелость снова зайти к вам, — говорит Поэт-Криминолог, входя в комнату. — Когда мы спускались к порту, наш друг Следователь сказал, что очень обеспокоен тем, с каким хладнокровием вы в буквальном смысле расшифровываете рукописи. «Я не против, чтобы он изучал их с целью написать в будущем опровержение к собственному исследованию, но только в будущем, а не сейчас! В будущем! А сейчас он должен думать о том, как разгадать эту загадку!» Как поэт я с ним не согласен, поскольку считаю, что тайна вовсе не обязательно должна быть раскрыта, но как криминолог я выступаю в роли его глашатая. «Я нахожу абсурдной и просто глупой историю Сфинкса, удовольствовавшегося ответом Эдипа, — сказал я ему. — Эдип хранил молчание, и поэтому Сфинкс его пощадил. Идиотский ответ, который ему приписывают, — это всего лишь выдумка какого-то писаки, вообразившего, что таким образом Эдип проявил свое остроумие, хотя я считаю загадку о трех возрастах мужчины совершенно дурацкой». Я не утомил вас своими парадоксами? Я их просто обожаю, а что касается загадки «Урана», то, клянусь, мы ее разрешим, хотя как поэту мне этого не хотелось бы. И поэтому я вас умоляю не торопиться. Вспомните о султане, вспомните мою сбивчивую исповедь и поймите, что каждое ваше слово по поводу семейства Найев отвлекает меня, помогает держаться, держать себя в руках. Я вам еще не говорил, но он теперь целыми сутками прижимает к груди старый тапок! Хнычет и плачет, если мы хотим его отнять. Если бы он так не цеплялся за этот старый тапок, я бы решил, что он уже ничего не понимает. Каждое ваше слово по поводу Найев необходимо мне так же, как ему старый тапок. Что бы мы делали без этих старых тапок, которыми являются слова? Только не просите меня, чтобы я успокоился. Я спокоен! Спокоен! Посмотрите! Я само спокойствие! Очень-очень спокоен! Более спокоен, чем само море! Успокойте меня, скажите, что не сердитесь за мою выходку. Еще минуту — и я ретируюсь. Меня ждут. Меня очень ждут.
— Но вы мне нисколько не мешаете, — успокаивает его Литературовед. — Наоборот, я очень…
— Нет! Я ни за что не поверю, что вы рады видеть меня через пять минут после того, как мы расстались!
— Видите этот блокнот? — спрашивает Литературовед. — Здесь собраны мои первые заметки по поводу всех этих рукописей. Когда я их перечитываю, то говорю себе: «Ты не можешь оставаться с этим наедине! Ты должен об этом с кем-то поговорить, иначе эта словесная масса раздавит тебя и ты сойдешь с ума». И я очень пожалел, что попросил вас оставить меня одного, напротив, я должен был вас задержать.
— Вы говорите это из вежливости.
— Никогда не произносите в моем присутствии этого слова! Что все мы делаем? Ищем поддержки у других, чтобы выжить. Нет ничего более эгоистичного, чем считать себя самым необходимым. Что касается загадки «Урана», то я теперь задаюсь вопросом, а не произошло ли там какое-нибудь несчастье? Вдруг один из Найев случайно упал за борт, а все остальные бросились в воду, чтобы его спасти?
— Но это же не китайцы.
— Вы имеете в виду дурацкий случай, произошедший на озере под Пекином, когда ради спасения конькобежца, провалившегося в трещину на льду…
— Вот именно! Сотни конькобежцев в едином порыве бросились его спасать, и под весом их тел ледяная поверхность окончательно треснула. В то время подобная солидарность вызвала восхищение во всем мире. Хотя хорошо известно, что независимо от причины любое скопление народа обязательно приводит к трагедии.
— «Только бесчеловечный может быть справедливым», — возмущался один молодой поэт. И как не вспомнить циничные слова Зорна: «Бесчеловечность свойственна человеку; так оставим гуманность собакам!» Вот вершина разочарования!
— Полностью с вами согласен! Чистый гуманизм — это потеря чувства самосохранения. Разве появилась бы такая наука о человеке, как криминология, если бы мы не были необузданными животными, способными вопреки всем законам природы уничтожать себе подобных? Работая криминологом, не перестаешь удивляться. Почему? Этот вопрос криминолог задает себе, сталкиваясь с «изысканным» преступлением — оригинальным преступлением. Я не имею в виду эти бойни, коими являются настоящие и будущие войны. Я говорю о человеке, который смотрится в зеркало и целится себе в лоб. А иногда бывают случаи, не подлежащие никакой квалификации: человек должен сделать человеческий выбор. Скажите, можно ли убить того, кого любишь, из сострадания?
— Как вы думаете, мог ли я попасть под влияние Густава Зорна? Этот отвратительный тип очень сильно меня озадачил. Я так и вижу его ухмылку, так и слышу его голос, когда при мне произносят слова искупление, любовь, сочувствие. У Зорна не было чувства меры. И все, с кем он встречался, попадали под его влияние. Насколько ужасно должен был звучать его смех, когда все семейство Найев находилось в замкнутом пространстве, на своей яхте в море!
— Вы считаете, что в этом замкнутом пространстве Зорн мог вызвать в их мыслях смятение?
— Посмотрите на меня, посмотрите, какое смятение он вызвал в моих мыслях — и это длится до сих пор! Этика? Эстетика? Имеют ли они хоть какое-то значение? Я больше не знаю, как пользоваться этими словами. «Остерегайтесь Зорна, — предупредил меня Карл Най. — Это посредственный актер, и как актер — опасный человек в жизни. В жизни он играет весьма искусно, зато на сцене переигрывает. Он отвратителен! Остерегайтесь театра, который он ежедневно устраивает, и помните, что как актер-неудачник он очень обидчив. На сцене он отвратителен. В жизни он притягателен. Его считают красивым. Но меня его присутствие выводит из равновесия». Уже в самом начале нашего знакомства Карл Най предостерег меня по поводу Зорна. Помню, как мы шли с ним по пляжу и каждый раз, когда он произносил имя Зорна, то рисовал на песке какие-то знаки. Позднее он объяснил: «Видите эти скрещенные линии и этот круг? Они не только предохраняют меня от опасности, но и позволяют воздействовать на расстоянии на того, кого я выберу». Внезапно он посмотрел мне в лицо: «Вы действительно собираетесь встретиться со всеми?» — «Мое исследование к этому обязывает. Только после этого я смогу начать писать». — «И вы хотите познакомиться с Зорном?» — «Если это возможно». — «Тогда берегитесь. Это человек-разрушитель. Я также советую вам остерегаться Юлия. Не слишком доверяйте его пьяным россказням. Не верьте ничему!» — «Не беспокойтесь, — ответил я. — Я не буду верить ничему, но буду записывать всё».
— Великолепный ответ!
— Я еще добавил: «Человек слушает, исследователь записывает». В другой раз он сказал: «Надеюсь, что вы честный литературовед, который прочитал все мои книги». — «Конечно», — ответил я, хотя это было ложью. «И все книги Юлия?» — «Разумеется». — «И все книги Курта, Розы и Франца?» — «Все». — «Так, и вы решили, что все эти книги заслуживают того, чтобы о них говорили, заслуживают исследования, которое вы предпринимаете?» — «Да, — ответил я, — все сочинения Найев совпадают друг с другом, дополняют друг друга, противоречат друг другу и даже сражаются. А в итоге показывают истинное лицо каждого из вас». — «Неужели?» — воскликнул старик Най. — «Если бы из всех Найев только вы были писателем, то многие стороны остались бы в тени, неисследованными, недоступными пониманию. Но то, что замалчиваете вы, я нахожу у Юлия, то, что замалчивает Юлий, я нахожу у Курта, Розы или Франца. Для меня ваши книги образуют одно созвездие, где все звезды движутся вместе. Это целая армия слов, дополняющих друг друга и противоречащих друг другу». Вот что я сказал Карлу Найю, прекрасно осознавая, что ему это не понравится. «Все яйца в одной корзине! — возмутился он. — Но я совсем не желаю быть в одной корзине с моей семьей! Мне отвратительна даже сама идея о литературной семье, в которой все, сами того не ведая, пишут одну книгу, что отдает борхесианством! И что же эта за книга? Что за созвездие?»
— Подождите! Вы хотите сказать, что книги, написанные каждым из членов семьи, образуют все вместе одну-единственную книгу?
— Если это и не одна книга, то это сложное, разоблачающее и местами безжалостное чтиво. Кроме того, рукописи, которые вы мне дали, утвердили меня в мысли, что, как я интуитивно и предполагал, это действительно литературное созвездие. Существуют черные светила, затмевающие солнце. Любой научный подход к изучению какого-то феномена должен учитывать совокупность всех феноменов. Насколько возможно, нам нужно избегать дробления на части. То же касается и литературы. Чтобы прийти к общему определению, следует исходить из разрозненных фактов. Поэтому, исследуя различные явления, можно создать множество интегральных уравнений, отличающихся друг от друга только заданными значениями интеграционных констант.
— А, понимаю, — прерывает его Поэт-Криминолог. — Затем следует удалить константы путем дифференцирования и таким образом найти единственное решение.
— Совершенно верно. Но, к сожалению, в жизни нет единственного решения или возможного глобального видения, поскольку наш ум нуждается в том, чтобы задействовать все данные и уже из них создать логичное целое, единственную систему. В этом и заключалась цель моего исследования творчества Найев. Конечно, на практике нельзя придумать единственную систему, охватывающую все современные литературные явления, и я, зная, насколько спорны мои методы исследования, пытаюсь не обращать на это внимания, чтобы избежать умственного бездействия, и надеюсь, что в моей будущей книге, опровергающей первую, соединятся все взаимодействия. То, что я уже нашел в этих рукописях, аннулирует мою первую работу, но в то же время меня возбуждают открывающиеся перспективы. В своей первой книге я выступал на стороне Юлия и зачастую незаслуженно обвинял Карла.
— Постойте, ваша книга появилась еще при жизни тех, чьи произведения и мотивы, которые неразрывно связывали их друг с другом, вы анализировали. И какой же была их реакция?
— О, почти одинаковой.
— Они прочитали вашу работу?
— Думаю, да.
— И одобрили ее?
— Нет. Все были разочарованы. Во всяком случае, я так думаю, поскольку не получил от них ни одного отзыва.
— Всеобщее молчание?
— Вот именно.
— И даже Юлий никак не отреагировал?
— Даже Юлий. Впрочем, ничего другого я и не ждал.
— Вы хотите сказать, что даже Юлий был о себе более высокого мнения?
— Да, видимо, так. Наверное, он не смог смириться с тем, как я провел параллели между ним и Карлом. Я показал не то, что лежало на поверхности, а обрисовал скрытые стороны этих двух разных и в то же время близких людей.
— Еще одна история об антагонистах?
— Еще чего! В литературе подобных историй и так полно! Это невыносимо тяжкое наследство досталось нам из девятнадцатого века. Антагонисты. Видимое и скрытое! Нет, в своей книге я не изображал Юлия антагонистом Карла. Это был бы слишком ожидаемый ход. С одной стороны — «буржуа», с другой — «художник», с одной стороны — обычная сильная личность, со средними умственными способностями, с другой — страдающий человек, раздираемый противоречиями, интеллектуал, слишком умный. Как было бы удобно присовокупить к этой раздвоенности еще и их антагонизм, показать, что именно из-за раздвоенности их отношения стали натянутыми, двусмысленными, что их раздирали противоречивые чувства. Нет, я избежал этой ловушки! По моему мнению, история двух братьев Найев — это история третьего, их брата Арно. В некотором роде они превратились в него и перестали существовать. Эту тему я развил в своей книге. Когда мертвый не может умереть, когда ему не дают умереть, когда испытывают стыд за то, что живут, то эти люди, испытывающие стыд, не вполне живы. Юлий всю жизнь был живым мертвецом, да и Карл не мог жить, не чувствуя за спиной призрака своего брата. А затем это распространилось на следующее поколение. Даже отказ от отцовства Карла Найя может служить симптомом этого несуществования. Точно так же отрицание жизни Юлием и его желание, чтобы дети не воспринимали Карла как отца, объясняется этим смертельным грузом, давившим на него всю жизнь.
— Вы действительно так думаете? И думаете ли вы так до сих пор?
— Хороший вопрос! Признаюсь: очень скоро мое исследование завершилось само по себе. Семейство Найев превратилось в материю, в какую-то вязкую глину, из которой не я лепил, что хотел, а мое исследование делало всё, что хотело. В моей книге они все оторвались от реальности.
— То есть, описав, вы их уничтожили?
— Вот именно! Я не собирался говорить вам об этом сейчас, но то, что я обнаруживаю в различных бумагах, приводит меня в замешательство. Может, моя книга спровоцировала драму на борту «Урана»? Вот что не дает мне покоя. Тексты Юлия, написанные в зеркальном отражении, безусловно, появились в результате того, что я написал в диссертации. Они раскрывают то, что Юлий никогда не решился бы изобличить. Тут есть такие невероятные признания, которые тот, кто хотел выговориться, мог сделать только с помощью зашифрованного письма. У Карла смесь изречений и идеограмм тоже указывает на то, что он перестал доверять словам. После выхода моей книги изменился и тон в дневниках Лоты. И то же самое у Розы и Курта… и даже у Франца. Просмотрев некоторые заметки… я не могу еще этого утверждать, но мне кажется, что они…
— Перестали писать, как раньше. Может, вы их разбудили?
19
— Несмотря на поздний час, я рад, что застал вас обоих, — говорит Следователь, входя в номер.
— Ну наконец вы до нас добрались, а то я уже начал волноваться. Итак, что слышно? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Я только что был у вас дома и попытался успокоить вашу жену: «Наше расследование продвигается быстрее, чем мы думали, но нам, вероятно, придется задержаться и поработать ночью».
— И что она ответила?
— Не беспокойтесь, она все правильно восприняла.
— Он хныкал или спал?
— Он заснул на ковре, прижав щеку к старому тапку. Итак, что у нас нового?
— Мы только что приподняли еще один край завесы, — отвечает, нервно посмеиваясь, Поэт-Криминолог. — Представляете, наш друг Литературовед неожиданно возложил на себя вину за происшедшее.
— Не преувеличивайте, — смеется Литературовед.
— Он считает, что его книга в некотором роде разбудила всех членов семейства Найев.
— Просто я обнаружил в разных рукописях некоторые признаки, указывающие на это.
— Давайте позволим разыграться своему воображению, — продолжает Поэт-Криминолог. — Итак, все прочитали книгу нашего друга и почувствовали невыносимый ужас — видеть все время перед собой свое собственное привидение, сошедшее со страниц!
— Перестаньте! — восклицает Следователь. — Вы же не хотите сказать, что для того, чтобы избавиться от маячивших призраков, сошедших со страниц книги нашего друга, они все бросились в воду.
— Это могло бы быть одной из фантастических версий.
— Давайте говорить серьезно, — предлагает Следователь. — Поднимаясь по лестнице, я задавался вопросом: «Что скрывает от нас этот литературовед?» Видите, я с вами честен.
— Да очень многое! — восклицает со смехом Литературовед. — Во-первых, мне очень трудно держать в рамках свою фантазию. Поэтому я делаю все возможное, чтобы не дать ей разыграться. Я пытаюсь трезво смотреть на вещи и говорю лишь то, что знаю, предполагаю, вспоминаю, делюсь своими сомнениями, поскольку убежден, что к некоторым словам, фактам, всплывающим в моей памяти, нужно отнестись с большой осторожностью. Но в то же время литературовед во мне находится начеку. Любой литературовед — это неврастеник. Из ничего прирожденный литературовед — а это мой случай — сочинит тысячи страниц. В общем, я опасаюсь самого себя. Представьте себе, что о повести Флобера «Простая душа», в которой всего около тридцати страниц, написана диссертация объемом в шестьсот! И в то же время как написать о стариках Найях, не упомянув этапы их взросления? К тому же после смерти Арно секрет, давивший на них тяжким грузом, породил между ними нездоровую дружбу и навеки связал их. В течение нескольких лет они бороздили всю Европу и в конце концов вернулись в маленький городок возле швейцарской границы, то есть туда, где родились. Там они решили устраивать свои жизни по отдельности, но «не спуская глаз друг с друга». Они сняли по небольшой холостяцкой квартирке, вблизи от кафе, где собирались немногочисленные местные интеллектуалы, которых притягивал этот городок, ставший знаменитым, поскольку в нем жил когда-то Вольтер. Кстати, в этом маленьком франко-швейцарском городке я редактировал свою книгу. И представьте, что случайно сняв комнату у двух сестер — двух милых, смешливых старых дев, которых полно в каждом маленьком городке Европы, — я узнаю, что они были знакомы с Найями. «Найи! Братья Найи!» Их глаза затуманивают слезы. Оказывается, у них был тихий, провинциальный роман! Одна сестра обожала Карла, другая — Юлия. Кроме этих старых дев, никто больше не помнил о Юлии. Никто не знал, что в могучей тени «великого Карла Найя» жил второй Най по имени Юлий, который тоже учился, писал и бывал в маленькой роще, о которой одна из сестер рассказывала мне с большим волнением. Каждый день, уходя на прогулку, я оставлял в ящике стола, запертом на ключ, свою рукопись. И естественно…
— Что старые девы ее читали?
— Вот именно! Как только я уходил, они накидывались на нее и читали запоем.
— А вы что, об этом не знали?
— Наоборот, я всё знал, но ничего не говорил. Со своей стороны, старые девы, бывшие возлюбленные Карла и Юлия, каждый раз в разговоре деликатно умудрялись вставить кое-какие детали, касающиеся Найев, их матери, отца, младшего брата Арно, которого они уважали и чьи первые сочинения читали. Но чем больше они забрасывали меня деталями, тем больше я сомневался в их достоверности.
— Слушая вас, я вспоминаю одну долгожительницу, которой, кажется, сто двадцать лет и которая живет в Арле. По мере того как она старела, все больше журналистов со всего мира приезжало поговорить с ней. И она каждый раз вспоминала о рыжем мужчине по прозвищу Чокнутый, который во времена ее юности бегал по Арлю в соломенной шляпе с обтрепанными краями. И чем больше она старела, тем больше деталей вспоминала. То есть интерес публики подогревал в ней страсть к сочинительству и актерству.
— Всё было точно так же! Старые девы принялись сочинять. Вместо слов одни недоговоренности, молчание, покачивание головой, неожиданные приступы грусти или смеха. Короче, братья обосновались в этом городе. Поскольку каждый живет теперь в своей квартире, они больше не обмениваются по вечерам рукописями и не пишут друг другу заметки на полях. Но оказывается, что их мать еще жива, она тоже в этом городе и следит за сыновьями. Она стара, авторитарна, требовательна и не оставляет в покое своих «мальчиков», ради которых пожертвовала всем: молодостью, улыбкой, драгоценностями. Закрывшись в семейном особняке, она ждет своих сыновей. И однажды ее находят мертвой — покончившей жизнь самоубийством в своем пустом доме.
— Нормально! — восклицает Поэт-Криминолог.
— Прямо как в романе! И как вы думаете, что она любовно держит в руках?
— Фотографию своего сына Арно.
— Совершенно верно! Но как вы догадались?
— О, человеческое поведение вписывается в определенные рамки, в незыблемые схемы. И очень многие кончают жизнь на рельсах.
— Не понимаю, к чему вы клоните? — спрашивает Следователь. — Не вижу «Урана» на горизонте.
— Но вы не знаете, как она покончила с собой! Утопилась в собственной ванне, прижимая к груди фотографию младшего сына. Похоже, для других братьев это самоубийство стало сигналом к началу скачек. Их карьера начинается. Они пишут. Их печатают. Но обоих преследует погибший брат, причем погибший два раза, поскольку его образ смешивается теперь с образом матери, держащей под водой фотографию! Книги Юлия, слишком дерзкие, слишком провоцирующие, затрагивают умы только маленькой группы «посвященных», тогда как первая книга Карла сразу производит сенсацию.
— До сих пор всё понятно. Но где ловушка? — спрашивает Следователь.
— Подождите. Поскольку Юлий обладает болезненным самолюбием, он ограничивает свои контакты в обществе. Он вынужден стать тем, кем никогда бы не смог стать его брат Карл: как Улисс — Никем. Карл, наоборот, приобщается к литературной жизни. Он появляется в обществе, он любезен, умеет польстить.
— И вы думаете, что именно здесь начинает пролегать дорога, которая приведет к нырянию в море?
— Да, здесь, перед ванной, в которой лежит их мать, сжимая в руках фотографию Арно! Оба брата дают клятву, что будут жить вместо мертвого и, когда перестанут писать, покончат с собой в один и тот же час. Прочитайте это с помощью маленького зеркала. Эти несколько фраз из рукописи Юлия напоминают об этой клятве. Кстати, это последние слова, которые он написал перед тем, как отправиться в трагическое путешествие.
— Вы хотите сказать, что всю жизнь Юлий помнил об этой клятве?
— Да.
— И вы думаете, что он…
— Толкнул Карла за борт?
— Кажется, это вы так думаете, — говорит Следователь.
— Очень заманчиво! — с неестественным ликованием восклицает Поэт-Криминолог. — Представьте старого Карла, выходящего ночью на палубу…
— Перестаньте, — обрывает его Следователь. — Когда «Уран» обнаружили, то его двигатели были выключены и всё указывало на то, что трагедия произошла днем.
— Я не говорю, что они прыгнули за борт ночью. Представьте картину: «Уран» шел по морю ночью и Карл стоял у штурвала, когда на борту все спали. В какой-то момент, когда яхта могла двигаться с помощью автопилота, он вышел на палубу, где притаился Юлий. Оба брата начинают вспоминать клятву, данную в юности, и вот Юлий неожиданно хватает Карла, заявляя, что час пробил, что звездная ночь светла и прекрасна и что прыжок легко осуществить. Карл сопротивляется, Юлий же, как обычно, пьян. Короче, оба оказываются в воде.
— Я прерву вас, — говорит Следователь. — Неважно, что вы еще придумаете, но я плохо представляю, как Карл чертит свои знаменитые знаки на корме ночью, продолжая бороться в воде с братом.
— А может, он начертил их заранее, например в тот день, когда спускал яхту на воду. Или когда осматривал ее, сидя в лодке, спокойно подплыв к ней.
— Ладно, допустим, что стариков больше нет. Что делают остальные?
— Утром обнаруживается, что старики исчезли. Все перерывают яхту вверх дном, но их нигде нет. Исчезли! Вообразите, какой это шок. А дальше начинается обычный классический процесс. В криминологии он существует уже тысячу лет и прекрасно изучен последующими поколениями.
— И что это за процесс? — нервничает Следователь.
— Желание сопровождения. Этот примитивный феномен встречается в некоторых сектах, когда главу или главарей сопровождают в смерти.
— Абсурд! Полный абсурд! — восклицает Литературовед. — Почитайте эти рукописи. Это последние сочинения Франца. Там он рассуждает о некоторых видах внушений. По его мнению, в результате перенесенного сильного шока, когда субъект или субъекты лишены привычных ориентиров — а в открытом море все ориентиры отсутствуют, — достаточно всего ничего, чтобы «не только возможное, но и невозможное стало возможным». Эти слова он произнес, когда мы с ним находились на паруснике во время бури в устье Эльбы.
— Ну наконец вы о нем заговорили! — восклицает Следователь. — Расскажите, каким он был?
— Как его охарактеризовать? — задумывается Литературовед. — Это был экспериментатор и философ в одном лице. Когда я с ним познакомился, он работал над одним произведением, на которое до сих пор ссылаются некоторые философы. Он хотел распространить взгляд Дидро на естественные науки.
— Вы хотите сказать, что мы должны учитывать последние открытия в биологии, физике и астрономии? Что с тех пор, как были написаны «Сон Д'Аламбера» и «Письмо о слепых в назидание зрячим», философы потеряли ориентиры, которыми так легко пользовался Дидро?
— Я только в общих чертах понял работы Франца. В своей последней работе «Похвала чувствам» он анализирует не только зрение, слух, осязание и вкус, но и электрическое ощущение, ощущение жары, холода, голода, жажды, гидрометрические ощущения пчел, гироскопический компас мух…
— Давайте-ка ближе к делу. Излишние подробности только утомляют мозг. Перейдем к фактам. Итак, что представлял собой Франц? — спрашивает Следователь.
— Я несколько раз встречался с ним. Это замкнутый человек, одинокий, любитель загадок природы. Я пережил вместе с ним очень любопытные моменты. Он пригласил меня в мир Алисы. Из окон его квартиры в Гамбурге можно было следить за огромными, ярко освещенными кораблями. Он не считал себя писателем. «Почему вы хотите засунуть всех нас в одну корзину? — спросил он меня при первой встрече. — Для чего нужна эта книга о таких разных людях, как мы? Вы называете ее обобщающей? Это совершенно бессмысленно!» Но после того как я объяснил ему свою цель, он согласился мне помогать и мы даже подружились. Мне нравилась его грусть… его меланхолия… Однако смотрите, уже светает! Думаю, нам пора расстаться. Мне еще нужно почитать рукописи.
— Да, вы правы. Другие дела зовут нас. С огромным нетерпением буду ждать завтрашней встречи с вами у меня на работе.
20
Как и было условлено, на следующий день Литературовед приходит в кабинет к Следователю. На этот раз он уже много прочитал.
— Мой друг Поэт-Криминолог присоединится к нам позже, — говорит Следователь. — Расставшись с вами на рассвете, мы еще долго гуляли. Я проводил его прямо до двери дома, но так как он не решался войти, мы пошли на верфь, где в бледном свете луны возвышался «Уран». Трап все еще стоял там, и нам пришло в голову подняться на борт. Странное чувство — находиться на таком огромном судне, стоящем на суше. Мы долго болтали, облокотившись о перила и глядя вниз на гладкий белый корпус. Знаете, вы очень многое сделали для того, чтобы мой друг не совершил непоправимое. Вы его отвлекаете от мрачных мыслей, с вами он весел, полон энергии. Сегодня утром, когда я вернулся к своей любимой женщине в отель, то сказал ей: «Это расследование — последний шанс для нашего друга Криминолога. И всё благодаря Литературоведу. По мере того как мы всё больше узнаём о семействе Найев, наш друг отвлекается, забывая о своем огромном несчастье. С нами он весел, возбужден, фантазирует, что-то придумывает. Мне нравится, когда на его губах играет улыбка. Почему именно ему, кто так любит жизнь, выпали такие моральные страдания?» Вот что я сказал своей жене. Кстати, благодаря вам, она каждый вечер с нетерпением ждет, когда я вернусь и нырну к ней в постель. «И что было сегодня?» — спрашивает она в темноте, кладя голову мне на плечо в ожидании подробного рассказа. И когда она задает этот вопрос, я чувствую себя самым счастливым человеком на свете! Так вот, когда первые лучи солнца осветили «Уран», мой друг Поэт-Криминолог сказал: «Эта тайна больше чем тайна. Я хочу, чтобы она никогда не была раскрыта. Точно так же я хочу, чтобы никогда не были раскрыты тайны, над которыми мы бьемся. Не нужно достигать цели. Я ненавижу слово цель. Самым великим философом всех времен и народов я считаю Зенона из Элея. У Зенона стрела всегда находится в подвешенном состоянии между луком и целью. Она летит, но никогда не достигает цели. Вот что мне нравится! Лететь, лететь целую вечность! Я хочу быть такой же стрелой и никогда не достигать цели», — вот как сказал мне мой друг Поэт-Криминолог. И его глаза наполнились слезами. Я рассказываю вам все это, чтобы вы ни о чем не беспокоились, изучая рукописи. Не будем торопиться. Вы смеетесь, что это я, такой нетерпеливый, прошу вас не торопиться? Не обращайте внимания на мою нетерпеливость. Я еще не раз буду вас поторапливать. Такой уж у меня характер. Когда я здесь, я хочу быть там, а когда я там, то хочу быть здесь. Вот почему я хотел бы, чтобы загадка никогда не была разгадана. «Несмотря на то что твоя нетерпеливость меня утомляет, я люблю тебя таким, какой ты есть», — говорит моя разлученная, но неразлучная подруга. Поэтому будьте ко мне снисходительны, не обижайтесь на мою нетерпеливость. А вот и наш друг Поэт-Криминолог! Я слышу его голос. Кажется, сегодня он не так подавлен.
— Я вначале зашел к вам в отель, думая, что вы еще там, — весело произносит Поэт-Криминолог. — Кажется, вы перерыли все бумаги. Итак, есть что-нибудь новенькое?
— Не так уж и мало. Сегодня утром я просмотрел рукописи Розы и одну поэму Курта и хочу зачитать вам несколько катранов.
1—Насколько точной стала хирургия 22—Скальпель вынут глаза осторожно режут сердце 9—Или красную мякоть печени, которую пересаживает рука 34—обычный кровоточащий кусок вздрагивает как живой 7—Живые трансплантаты для девяностолетних больных 2—Сердца потухшие глаза китайских правителей 2—Кто верит что эти молодые приговоренные к смерти имеют шанс на бессмертие 20—Постыдная современная наука без Законов Крови подлая выгода 36—На костре сгорят мои сожаления их преступления 9—Короли матриархальных оргий зарезаны вечера с возлияниями и женщинами 2—Ваша голая плоть с содранной кожей чертовски комичный кровоточащий груз 36—Жалко эру медуз-сирен Сфенебею убитую Беллерофонтом ?— Ну и что? — спрашивает Следователь. — Здесь кроется какой-то акростих?
— Не совсем, но здесь спрятаны три ужасных слова. В первом — убить, во втором — всем, в третьем — Карла. Но это не утверждение, а вопрос. Меня заинтриговал знак вопроса, стоящий в конце, и в результате он-то и привел меня к разгадке.
— К разгадке чего? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Скрытого смысла.
— А не вернуться ли нам к загадке «Урана»? — предлагает Следователь.
— Но именно о ней мы и говорим! Убить всем Карла? Но это ужасно! Кому, по-вашему, он задает этот вопрос? — говорит Поэт-Криминолог.
— Думаю, Богу, — отвечает Литературовед.
— Вы полагаете, что Бог умеет считать?
— Если Курт обращался к Богу, то наверняка думал, что тот умеет считать хотя бы до тридцати шести.
— Перестаньте играть со мной! — возмущается Следователь.
— Но мы играем с Куртом. Итак, считайте!
— Что я должен считать?
— Посмотрите, перед каждой строфой стоит цифра. Читайте!
— О, простите, что я обиделся, — смеется Следователь. — Я просто сначала ничего не понял. Значит, Курт задал этот вопрос всем! Убить всем Карла?
— В сочинениях Розы, на полях, я тоже обнаружил такие же цифры. Кажется, брат и сестра общались друг с другом, задавали вопросы и отвечали на них с помощью такого зашифрованного письма.
— А может, это был кто-то третий? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Вы имеете в виду Зорна? Вот уж действительно, трудно представить Зорна, шифрующего рукописи, чтобы таким образом втянуть брата и сестру в интеллектуальную игру, направленную против их тирана-отца.
— Кстати, эти медузы-сирены — жуткий образ, но он меня восхищает, — говорит Поэт-Криминолог. — Чего Курт ожидал от Розы и Лоты? А намек на старых китайских правителей, пользующихся человеческими ногтями, вырванными у полуживых, приговоренных к смерти молодых людей, — очень рискованный прием в поэзии, разве не так? Тогда как сегодня большинство поэтов не идут дальше описания солнца, камней, лаванды, воздуха, света, Курт один, без Вергилия, спускается в хирургический ад.
— Когда я был в Гамбурге, Франц мне сказал: «Несмотря на то что это я был с самого рождения отвергнутым сыном, так называемым убийцей своей матери, больше всех страдал Курт. Он страдал из-за меня — если хотите, вместо меня. А я больше страдал, глядя на его страдания, чем из-за того, что отец взвалил на меня непосильный груз убийцы матери. Когда мы были маленькими, Курт добровольно взял на себя этот груз, которым отец хотел раздавить меня. Он нёс его и никогда не стремился избавиться. Роза тоже встала на сторону Курта и защищала меня от упреков отца. Представьте себе, что отец прозвал меня Асклепий, как бога врачевания! И знаете почему? «Ты отвратительный меленький Асклепий, — говорил он. — Твоя мать бросила тебя, а собака, козел и козленок пригрели тебя, кормили и защищали». Вот что, ссылаясь на мифы, которые он якобы так хорошо знал, повторял все мое детство отец, чтобы принизить как можно сильнее Розу, Курта и нашего дядю Юлия — моих единственных союзников, поддерживающих меня. Однажды, когда отец в очередной раз так назвал меня, я ответил: «Когда-нибудь я, как Асклепий, стану великим врачевателем и в одной руке буду держать змею-целительницу, а в другой — скипетр, так как вопреки вашим мерзким надеждам Зевс поместит меня среди звезд». То, что восьмилетний ребенок пытается противостоять ему, ловко пользуясь его любимым оружием — мифами, — произвело на Карла Найя неизгладимое впечатление. «Кроме того, — сказал я, подняв голову к этому гиганту, словно выточенному из камня, — я, как и Асклепий, смогу возвращать к жизни мертвых. И я, конечно же, возвращу к жизни дядю Юлия, а вас — никогда!» И представьте себе, что Франц всегда был уверен в своем предназначении, которое диктовало ему его прозвище.
— То, что вы говорите, — прерывает его Поэт-Криминолог, — имеет большое значение. Давно известно, что не бывает безобидных имен или прозвищ. У меня есть целый репертуар имен, перевернувших многие понятия в криминологии, в результате чего ученые принялись искать корни страшных преступлений в глубинах коллективной памяти. Этот список создал немецкий криминолог…
— Дайте ему продолжить рассказ о Франце, — прерывает его Следователь.
— И Франц превратился в того, кем из злости и в насмешку назвал его старик Най. «Одной рукой я завладел змеей-целительницей, а другой — скипетром философии, — сказал он мне. — Отец верит в знаки и паралогическое могущество, а я думаю, что нашел способ если не лечить, то хотя бы предупреждать болезнь, а также давать вторую жизнь умершим. Воскрешение Лазаря, брата Марты и Марии, которого Христос возвратил к жизни простым прикосновением, должен не оставаться единичным случаем, а служить примером обычного биологического процесса. Говорят, что у котов семь жизней, а у человека, может, еще больше. Мое изучение чувств это подтверждает. Если отбросить в сторону бессмертие, мы можем предвидеть несколько смертей в нашей жизни и несколько возрождений. Мы все рождены из хаотичного движения частиц. По примеру Вселенной наши частицы объединились и образовали независимые галактики…»
— Постойте, постойте! — восклицает Следователь. — Могу вас заверить, что в моей семье было несколько случаев воскрешений.
— Как вы собираетесь объективно вести расследование, будучи настолько доверчивым? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Но я уверяю вас, что в моей семье…
— Послушайте, на этот раз я прошу вас не прерывать нашего друга и дать ему возможность продолжить. Какая разница, встают мертвецы из гроба или нет! Кроме того, Лазарь, насколько я знаю, не утопился.
— Забавно, что Франц сказал: «Главное — это не то, что Лазарь воскрес, а то, от чего он умер с научной точки зрения». В этот момент мы, мокрые и дрожащие, находились на военном корабле в устье Эльбы. Моряки закутали нас в армейские плащи, и капитан ругал нас, как мальчишек, за то, что в такую непогоду мы отправились на прогулку на паруснике. Когда мы переодевались в его каюте, он вдруг спросил: «Най? Это тот, который писатель?» — «Да, я его сын». — «А вы знаете, что я его верный поклонник?» — «Нет, не знаю», — ответил Франц. «Я читал и перечитывал все его книги под всеми широтами, в любое время года, — продолжал он, не обращая внимания на плохое настроение Франца. — Не могли бы вы вместо автора подписать мне его последний роман?» И он действительно взял с книжной полки последний роман Карла Найя.
— Но что с вами случилось? Как вы оказались на военном корабле?
— Поскольку была буря, парусник Франца перевернулся.
21
— А не поговорить ли нам подробнее об опытах по поводу наших способностей к воскрешению? — спрашивает Следователь.
— Итак, Франц Най принял меня в Гамбурге. В то время он писал труд о летучих мышах в воображении детей. В его кабинете стояли несколько клеток, в которых в подвешенном состоянии находились летучие мыши. В соседней комнате он поставил довольно сложный, сконструированный им самим аппарат, описание которого чрезвычайно просто. Но до этого надо было додуматься! Этот аппарат представлял собой подвижную кабинку, которую можно было наклонять в любую сторону от оси. Внутри находился подвижный стул, который тоже можно было наклонять независимо от кабинки. «Здесь с математической точностью можно изучать движущую энергию, — сказал Франц. — Известно, что человек обладает чувством равновесия, но его положение в пространстве контролируется также зрением. С его помощью он ориентируется в комнатах, домах, различает деревья, любые привычные линии, такие как горизонт и так далее. Но нужно учитывать, что чувство равновесия может обойтись без зрения. Чтобы убедиться в этом, достаточно прикрыть глаза. Но как только вы их откроете, внутреннее ощущение равновесия усилится. Этот аппарат я создал для того, чтобы понять, в какой пропорции каждое из чувств управляет впечатлением, получаемым от вертикального изображения. Чтобы изучить эту физическую и философскую проблему, я создал антиестественный мир, где два вида чувств не дополняют друг друга, а противостоят друг другу».
— Какой изобретательный ум! — восклицает Поэт-Криминолог. —Такой прибор был бы очень полезен в криминологии. Действительно, как различить, какие чувства были задействованы в «красивом» преступлении? То есть: поскольку мы все являемся скоплением частиц и органов, то какие из этих частиц или органов задействуются в преступлении, а какие нет. Представьте, что ваши печень, сердце, глаза отказываются действовать совместно с вашей рукой в тот момент, когда она вонзает нож. Ваши глаза закрываются. Печень выделяет столько желчи, что у вас течет зеленая слюна. Ваше сердце сжимается, стучит всё быстрее и внезапно останавливается от страха и отвращения. В общем, действовали только ваши рука и ум. И вот это тело с различными и противоречивыми чувствами приговаривается к смерти. А вам известно, что один врач-криминолог изобрел метод, названный оптограммой? Путем рассечения глазного яблока жертвы и исследования радужной оболочки он надеялся увидеть тень преступника, сфотографированную в момент смерти.
— А еще нужно иметь одного или нескольких преступников, чтобы определить, какие части тела участвовали в преступлении. А еще нужны жертвы, чтобы рассечь их глаза и увидеть преступника или преступников, — со смехом замечает Следователь. — А в нашем случае с «Ураном» — никого! Ничего! Одна только гора рукописей!
— Постойте-постойте, — говорит Поэт-Криминолог. — Пусть Литературовед продолжит. Так что представлял собой этот аппарат Франца Найя?
— Великолепное изобретение! Представьте небольшую камеру внутри этой клетки, которую можно наклонять при необходимости. В центре камеры находится подвижный стул, прикрепленный к оси, который можно отклонять в ту или иную сторону. Объект привязывают к стулу, и клетка погружается в темноту. После того как стул и камера наклоняются, свет зажигается снова. Экспериментатор медленно наклоняет стул до тех пор, пока подопытный не заявляет, что чувствует себя прямо, так как он ориентируется на углы камеры. Но почти всегда он ошибается. Некоторые отклоняются даже на тридцать пять градусов. В редких случаях они чувствуют, что сидят прямо, хотя отклонение составляет пятьдесят два градуса. На вопрос: «Вы в таком положении сидите за столом?» они отвечают утвердительно. Это означает, что они больше доверяют своему зрению, чем чувству равновесия. Постойте, постойте! Самое интересное то, что когда они закрывают глаза, то понимают, что сидят под наклоном. Прислушиваясь к внутреннему ощущению, они просят вернуть их в вертикальное положение и определяют его совершенно точно.
— А вы не сидели на этом стуле? — спрашивает Поэт-Криминолог. — Как вы ощущаете, что находитесь в вертикальном положении?
— Позвольте мне не отвечать на ваш вопрос.
— Это почему?
— Потому что вы узнаете слишком интимные подробности о моей личности, — смущенно посмеиваясь, отвечает Литературовед. — С помощью этого теста, разрушающего наши представления о самих себе, Франц Най, по его словам, мог вычислить константу личности. Существует прямая связь между тем, как человек понимает, что находится в прямом положении, и его личностными качествами. Всех людей можно разделить на две группы: независимых от поля зрения и зависимых. Независимые отличаются способностью решать острые вопросы, у зависимых — тех, кто, несмотря на сильный наклон стула, считали, что сидят прямо, — творческие и аналитические способности отсутствуют.
— Было бы любопытно узнать, к какой категории принадлежит каждый из нас и кто быстрее смог бы найти ключ к загадке «Урана», — развеселившись, говорит Следователь.
— Но это еще не всё, — продолжает Литературовед. — По мнению Франца, независимые часто зависят от их окружения и других людей. «Они не так-то легко подчиняются законам, принятым в обществе, — говорил он. — Они не следуют общепринятым нормам, а в чрезвычайных ситуациях становятся несговорчивыми, мизантропами, индивидуалистами и капризными. И наоборот, зависимые всегда учитывают мнение, царящее в их окружении. Женщины, — утверждал он, — больше мужчин стремятся быть зависимыми. Маленькие дети полностью зависят от поля зрения. К восьми годам в них просыпается индивидуализм, который, в зависимости от характера и воспитания, достигает своего пика к шестнадцати годам. И так длится до семнадцати лет. Затем происходит неожиданная вещь: в большинстве случаев начинается обратный процесс. Необходимость следовать порядку и иерархии оказывает влияние на психику. И только у небольшой части молодежи продолжает развиваться склонность к индивидуализму и творчеству».
— Он написал об этом книгу?
— Страшную книгу. «Мой отец — это человек, у которого уже повреждены все чувства, — сказал Франц. — Дядя Юлий приближается к такому же состоянию, хотя этого еще никто не видит. Курта и Розу ждет бесславный конец, так как они ввели в свое окружение страшного разрушителя чувств. Они готовы отдать за этого извращенца свои души, и, уверяю вас, что все они умрут в результате несчастного случая. Поместите их в мой аппарат и вы увидите, что никто из них не знает, сидит ли он прямо или под наклоном». — «А Лота?» — спросил я, зная, что он откажется о ней говорить. — «Только если вся семья Найев попадет в безвыходную ситуацию, мы увидим, кто выйдет сухим из воды».
— Как? — восклицает Следователь. — Вы ничего не перепутали?
— Я повторил вам его слова.
— Он говорил в будущем времени или в сослагательном наклонении? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Мне кажется, что это было, скорее, утверждением.
— К чему вы клоните? — спрашивает Следователь.
— Вы прекрасно знаете, что многие исследователи, чтобы доказать свою теорию, без зазрений совести могут, как говорят, подтолкнуть события. А разве нас, следователей или криминологов, не посещает желание сфальсифицировать улики, чтобы подтвердить свою правоту, свой дар предвидения? — говорит Поэт-Криминолог.
— Вы правы! Сколько невинных было осуждено и даже приговорено к смерти только из постыдного желания какого-нибудь следователя — не просто упрямого, а сознательно пошедшего на фальсификацию — доказать свою правоту. Даже у меня, когда не хватало неоспоримых доказательств, несколько раз возникало желание пустить следствие по ложному пути.
— Да, таких историй — море. И то, что вы рассказали о Франце, наводит меня на мысль, что он был способен утопить всю семью ради своих научных исследований. Он кажется мне мизантропом, способным на любое уголовное деяние только для того, чтобы доказать, что все, кто не похож на него, то есть не мизантропы, являются социальными дебилами, прячущими голову в песок, — говорит Поэт-Криминолог.
— То есть, по-вашему, он воспользовался этим круизом, чтобы действительно посмотреть, «кто выйдет сухим из воды»?
— Я прекрасно представляю его в этой роли. К примеру, он говорит себе: «Могу поспорить, что если все будут плавать вокруг «Урана» и я тоже прыгну в воду, предварительно убрав лестницу, то лишь те, кто сохранил неповрежденными свои чувства, смогут выпутаться из этой безвыходной ситуации».
— Похоже на эволюцию видов?
— Вот именно! Что думает Франц? «Если чья-то жизнь не пошла под откос при первом удобном случае, если человеку удалось преодолеть все препятствия, то что значит для него какой-то гладкий, лакированный корпус яхты?» Вот что, вероятно, думал Франц Най, если рассматривать его в качестве виновного.
— Ирония судьбы заключается в том, — замечает Литературовед, — что каждого пассажира на борту яхты можно рассматривать в качестве виновного. После трагедии мотив можно увидеть в чем угодно. Когда у Стендаля спрашивали, составляет ли он план перед тем, как приступить к роману, он отвечал: «Я составляю план потом». Очень многие писатели, особенно среди новаторов, «составляют план потом», поскольку делают по две, три, четыре и даже по пятнадцать версий своих работ. Например, Достоевский начал свой роман «Преступление и наказание» с дневника убийцы, потом стал писать исповедь от первого лица и так далее…
— Прошу вас, давайте не уходить от темы, — просит Следователь. — Ваша обоюдная любовь к парадоксам уводит нас от фактов и придает случившемуся слишком литературный и философский характер. Кем же все-таки был Франц Най? Ученым? Поэтом?
— В поэзии, как и в точных науках, всегда ищут смысл. И если не находят, то придумывают. Но между поэтом и ученым существует глубокая разница: первый — не серьезен, второй — слишком серьезен, — объясняет Поэт-Криминолог.
— Поэзия берет начало в игре, — продолжает Литературовед, — однако не будем забывать, что и научные открытия совершаются из любопытства, а это тоже игра. Только в поэзии эту игру мы видим, а в науке — нет. Кстати, когда Корнелю наскучило писать «Горация», он ради развлечения придумал непристойный акростих — «грязная задница», — посвященный, кажется, королю. Можете обратиться к тексту. Акт второй, сцена третья. Содержание этих стихов показывает, какое уважение Корнель питал к некоторым ценностям.
— Давайте вернемся к «Урану!» — взывает к ним Следователь. — Итак, Франц.
— Хочу вас разочаровать. Франц — самый не вызывающий подозрений человек.
— Тогда это он преступник! — со смехом восклицает Криминолог.
22
— Однажды Франц мне сказал: «А вы знаете, что вода совершенно необычная субстанция? Мы все зависим от круговорота воды. Во всей Вселенной вода в жидком состоянии присутствует только на Земле. Если бы Земля находилась ближе к Солнцу, то вокруг нее витал бы один пар, а если бы была более удалена, то вода превратилась бы в лед. В космосе огромное количество пара и льда, а воды в жидком состоянии крайне мало».
— То есть он хотел сказать, что утопиться можно только на Земле.
— Перестаньте иронизировать! «Чтобы вода существовала, — говорил Франц, когда я находился у него в Гамбурге, — необходимы уникальные условия». Он называл их «водным окном». Это «водное окно» ограничено несколькими градусами. Земле повезло, что она находится в этом узком пространстве по отношению к Солнцу. Таким образом, вода конденсируется, приблизительно об этом писал Курт Най в стихах, которые вы нашли в каюте «Урана»:
В тайных расселинах Матушки-Земли дождь превращается В реки чистой воды В ложбинах рождаются птицы, деревья, цветы— Ну вот мы и вернулись к тому, с чего начали!
— Эти же самые стихи я нашел в незаконченной рукописи Франца. И теперь я с грустью вспоминаю, как он любил цитировать стихи своего старшего брата. Пока я гостил у него в Гамбурге, мы каждое утро совершали долгие прогулки на паруснике. «Вода, — объяснял он, — помогает мне думать. — Она умна, непостоянна и обладает памятью. Вода — это жизнь. Мне бы очень хотелось умереть в воде и от воды».
— Вы уверены, что он именно так сказал?
— Абсолютно. «Вода очищает душу, — говорил он, когда мы возвращались в бухту Эльбы на опасно накренившемся паруснике. — Мой отец совершенно рехнулся — построить такую яхту! До чего я ненавижу этот плавучий дворец, белый и лакированный, названный к тому же «Ураном»! Богом Неба!» Мы проплывали мимо огромных военных кораблей, неподвижно стоявших на воде, хотя море уже начинало вспениваться, покрываясь белыми барашками. «Посмотрите на эти суда! Они похожи на моего отца, — сказал он, показывая на темно-серые железные махины. — Такие же огромные, как произведения «великого» Карла Найя. Его книги — это «великие» книги, с «великими» сюжетами и якобы возвышенными мыслями. Однако все герои этих «великих» книг не вызывают ничего, кроме омерзения — такого же омерзения, которое я, Роза и Курт испытывают к нему. Понимаете, если книги Юлия действительно производили на меня неизгладимое впечатление, то его книги в буквальном смысле валились из рук. Хотя он считал, что пишет романы о любви. Нет, не о настоящей любви, а о Любви с большой буквы. По его убеждению, они были полны Любви. Но к чему и к кому? Никому не известно. «Любовный роман» — так обычно характеризовали его книги издатели. Но о какой любви там могла идти речь? Однажды, — рассказывал Франц, — я обнаружил у него в доме письма Бель — нашей матери. Оказывается, они обменивались письмами до нашего рождения. Письма моей матери до глубины души потрясли меня своей грустью, и я наконец успокоился по поводу ее смерти. К моему великому удивлению, письма отца были настолько переполнены добротой, нежностью и огромной любовью, что невозможно было представить, чтобы Курт, Роза и я были зачаты этим Карлом Найем, способным на доброту, нежность и огромную любовь. Сколько же мне тогда было лет? Пятнадцать? Шестнадцать, самое большое? Курт и Роза в то время уже уехали из дома. Я тоже собирался последовать за ними. Но эти письма позволили мне по-другому взглянуть на моего отца, который проклинал себя за то, что является моим отцом, что зачал меня. Теперь-то я знаю, что он никогда по-настоящему не любил Бель. Он видел в ней ту девушку, которую любил его брат Арно. Он любил эту любовь и был переполнен ею. Он верил, что сможет жить этой любовью, которую Арно оставил ему якобы в наследство. Но это еще не всё. Юлий тоже был без ума от Бель. Но не от той Бель, которую любил Арно, а от самой Бель! Настоящей Бель! Понимаете? И он продолжал любить ее всю свою жизнь. Теперь я уверен, что из них двоих только Юлий после Арно по-настоящему любил Бель».
— Ну, это уже роман! — смеется Поэт-Криминолог.
— Прошу вас! Не перебивайте! Наконец-то мы услышали настоящую любовную историю.
— И намного более сложную, чем вы думаете, — продолжает Литературовед. — Спустя годы Франц узнает, что эти письма принадлежат и Карлу, и Юлию.
— Как так? А почерк?
— Почерк, естественно, Карла. А вот чувства, слова и весь шарм — всё исходит от Юлия.
— То есть Юлий диктовал эти письма?
— Вот именно. Я узнал сегодня об этом из дневника Лоты. Но вначале я должен вам рассказать, какие отношения связывали Франца и Лоту. Однако уже поздно…
— А не пойти ли нам пропустить по стаканчику в Морском клубе? — весело прерывает его Поэт-Криминолог.
— Я тоже хотел вам это предложить, — поддерживает его Следователь.
Устроившись за столиком в Морском клубе, Литературовед продолжает свой рассказ.
— Итак, во время моего пребывания в Гамбурге Франц, словно найдя во мне благодарного слушателя, которому можно выложить всё, что накопилось на сердце, без конца рассказывал о своей семье. «Для меня, Курта и Розы, во всяком случае до тех пор, пока они не попали в лапы Зорна, с которым принялись совершать всякие бесчинства, настоящим отцом, духовным отцом был дядя Юлий». — «Скажите, а Карл Най действительно всегда посещал ясновидящих?» — спросил я, предпочитая из-за внезапно нахлынувшего ощущения неловкости сменить тему разговора.
— Постойте, — прерывает его Следователь, — что за бесчинства имел в виду Франц?
— Насколько я понял, все, какие только возможны. Дойти до грани. Забыться. Быть на волоске от смерти. Я думаю, что они испробовали все развлечения, все возможные и невозможные наркотики, всё, что им предлагал Зорн, чтобы «почувствовать дуновение смерти», как сказала мне Роза в Вене, когда мы остались с ней вдвоем, без Курта и Зорна, которого она страшно боялась. Итак, я спросил у Франца, с каких пор его отец с такой одержимостью стал посещать ясновидящих. «Наш отец никогда не предпринимает что бы то ни было без консультаций с этими жуткими личностями, — ответил Франц. — Когда мы были детьми, один из них оказал на него особенно пагубное влияние. Он позволял ему ненавидеть нас, а меня — более, чем остальных. Мы не должны были писать, так как лишали, по его словам, творческой энергии нашего отца. Нас нужно было отдалить от Юлия, которому мы всегда давали читать свои сочинения. Этот ясновидящий утверждал, что Юлий, одобряя наши поступки, пытается вооружить нас против отца».
— Как это — вооружить? — спрашивает Следователь.
— Он считал, что для Юлия наши сочинения были своеобразным оружием, с помощью которого он надеялся свергнуть с постамента такого колосса, как Карл. «Своим творчеством мы якобы должны были убить нашего отца, — сказал Франц, поворачивая на другой галс и жестом показывая, чтобы я пригнул голову и не стукнулся о гик. — Самое ужасное, что этот маг не ошибался. Для Юлия мы действительно были удобным оружием, и он очень гибко и умно манипулировал нами. Например, он помог Розе опубликовать ее первое творение. И какой резонанс! Дочь «великого» Найя выпускает выдающееся произведение! Какое событие в мире литературы! С каким извращенным удовольствием критики осыпали Розу похвалами! О чем говорилось в этом произведении? Конечно же, о любви. Но о какой любви? Об эротической любви между братом и сестрой. В средние века такой текст сразу сожгли бы на костре вместе с автором; в прошлом веке автора сожгли бы на медленном огне в какой-нибудь камере или монастыре, предварительно загнав под ногти иголки; пятьдесят лет назад произведение сожгли бы, а автора поместили бы в психушку для богачей. Теперь же произведение уничтожают комплиментами, а его автора выставляют на обозрение…
— Миллионам жадных до зрелищ зрителям! — прерывает его Поэт-Криминолог. — В общем, ваш дорогой Франц пытался доказать бесполезность литературной критики.
— В то время литературная критика еще имела смысл. Конечно, сейчас…
— Давайте не отклоняться от темы, — нервничает Следователь.
— «Чувствуя поддержку и одобрение со стороны дяди Юлия, Роза публикует второй роман, совершенно неожиданный для молодой девушки — очень волнующий и по-настоящему художественный. Я обожаю свою сестру, — сказал Франц, — сегодня никто не пишет, как она. Ею руководит что-то свыше. Последние произведения, где речь идет о смерти, как литературная капельница…»
— Молчите! Молчите! — восклицает Поэт-Криминолог. — Только не произносите эти слова!
— Сожалею…
— О, извините, — бормочет Поэт-Криминолог. — Некоторые слова нельзя так использовать… да, есть метафоры… но… я весь на нервах… Правда, простите! И продолжайте. Ничто не успокаивает меня так, как ваши рассказы.
— Выпейте, мой друг, и успокойтесь, — говорит Следователь. — Так что еще интересного рассказал Франц Най?
— Мы по-прежнему неслись на паруснике в пене и брызгах, и наши спины совсем промокли. «А вы читали книги моей сестры?» — громко прокричал он, так как из-за сильного ветра почти ничего не было слышно. «Да-да, — ответил я с такой восторженностью, что он засмеялся. — Я взялся за это исследование именно для того, чтобы показать, что большая литература находится совсем не там, где присутствует «великий» Карл Най!» — попытался я перекричать оглушительный шум бури. Франц в это время отчаянно старался выровнять парусник, лавируя среди бушующих волн, чтобы добраться до устья и как можно быстрее встать на рейд в каком-нибудь укрытии. Ветер продолжал все усиливаться. Вдруг маленький парусник, слишком накренившись под очередным его порывом, перевернулся, и мы были вынуждены добираться вплавь, борясь с огромными волнами, до одного из военных кораблей, стоявших на якоре при заходе в порт. Нам спустили веревочную лестницу и…
— Как?! — восклицает Криминолог. — Всё это похоже…
— На генеральную репетицию постановки, в которой, правда, не окажется лестницы, — смеется Литературовед.
— Генеральную репетицию? Да, нарочно не придумаешь. А в жизни, как говорится, всё бывает. Современные писатели…
— Вы называете так тех, кто мечтает увидеть свои произведения запечатанными в целлофановую пленку на прилавках магазинов? Давайте называть писателями тех, кто пишет… Только не говорите, что я пассеист… если бы я не верил в литературу и в то, что ее кто-то читает, я бы не стал вместе с вами разгадывать загадку «Урана». Разве то, что все литературное семейство Найев пошло ко дну, не является своеобразным знамением времени? Особенно когда знаешь, сколько произведений осталось на яхте, которая не пошла ко дну. Давайте примем это условие задачи, как принимаем увертюру, готовящую нас к основной музыкальной теме.
— Итак, вы взобрались по веревочной лестнице на борт судна, — прерывает его Следователь. — Оставим в покое аналогичные игры и сосредоточимся на странностях Франца Найя. Я прекрасно его помню — он приходил с остальными членами семьи в Морской клуб. Он казался довольно скромным и застенчивым. В тот день, когда спускали на воду последний «Уран», отец попросил его — не без иронии — объяснить собравшимся, почему у млекопитающих красная кровь, а не зеленая, как у гусениц. Да, я забыл сказать, что Лота Най слегка поранила палец о край бокала с шампанским — в Морском клубе всегда давали отвратительные бокалы. Франц улыбнулся и очень любезно, в нескольких словах, рассказал «историю крови». В тот день все столы были выстроены в ряд для банкета. Франц встал и сказал приблизительно следующее: «История крови начинается в океане. Небольшое количество кислорода в растворенном виде находится в морской воде. Живое существо захватывает его… или, — продолжил он с улыбкой, — вбирает вместе с водой, как медуза, которая носит в себе целое море, сообщающееся с океаном. У гусеницы же это крошечное внутреннее море закрыто, а такая среда благоприятна для появления металлических пигментов, задерживающих кислород. Потом, во время циркуляции, клетки орошаются этой жидкостью в память об океане, превратившемся в кровь». Поскольку он собирался сесть, Лота Най попросила его закончить эту маленькую импровизированную лекцию. «Существует логика, — сказал он, — к которой, в зависимости от обстоятельств, каждый раз прибегают представители животного мира, когда им приходится выбирать между случайным и необходимым. Понятно, что кровь должна течь по артериям. Но ничто не обязывает ее быть красной. Своим цветом она обязана гемоглобину, который переносит кислород, и протеинам, использующим способность железа задерживать его. Но могут быть использованы и другие металлы, как, например, медь, которая окрашивает кровь гусениц в зеленый цвет». Вот, практически слово в слово, я пересказал вам импровизированную лекцию Франца Найя.
— И вы сделали абсолютно точный его портрет! — восклицает Литературовед. — «Почему у нас не зеленая кровь?» Этот абсурдный вопрос великолепно характеризует его.
23
На следующий день все трое собираются в комнате у Литературоведа.
— А знаете, говорит Поэт-Криминолог, — ваши воспоминания о семье Найев не только продвигают наше расследование, но и совсем неожиданно привносят покой туда, где давно поселилась безысходность. Теперь я каждый вечер, вернувшись домой, пытаюсь развлечь свою жену подробными рассказами, услышанными от вас. «И что было сегодня?» — спрашивает она, как только я переступаю порог нашего дома. — «Сегодня, — отвечаю я, — Литературовед приоткрыл нам «водное окно». Но мне кажется, он умалчивает о том, что происходило между Францем и Лотой».
— Ошибаетесь, — улыбается Литературовед, — просто я до сих пор не уверен в некоторых вещах. Правда, этой ночью я узнал много нового о Франце и Лоте. Ее дневник нам рассказывает удивительную историю любви.
— Постойте-постойте, вначале я хочу выразить вам свою признательность. Моя жена заметила, что, как только я начинаю рассказывать о семье Найев, как только произношу «литературное семейство», наш сын начинает прислушиваться и забывает о своем старом тапке. Это необъяснимо, но мы уверены, что он тянется, напрягается и слушает, слушает. Нет, вы представьте, что этот ребенок, который почти все время хнычет, вдруг начинает покачивать головой и улыбаться на свой манер. Вчера вечером, когда я вернулся домой, он неожиданно разволновался и кинул в меня своим тапком. «Давай, рассказывай, — попросила жена глухим голосом, — рассказывай ему, посмотри: он весь внимание!» Не знаю, может, нам это только кажется и мы выдаем желаемое за действительное? Но это точно, что вот уже несколько дней он реагирует. И вчера вечером, когда мы с женой говорили об этой трагической гибели, наш ребенок, казалось, ловил каждое наше слово. Я, наверное, выгляжу смешным?
— Вовсе нет, — отвечает Литературовед. — Было бы здорово, если бы это расследование хоть кому-то пошло на пользу.
— У меня тоже каждый вечер кое-кто спрашивает: «И что дальше?» — признается Следователь. — Мы уже все превратились в пленника нашего Литературоведа. Но позвольте мне повторить: так что нового вы узнали о Лоте и Франце?
— Вчера, как я уже говорил, вы нарисовали очень точный портрет Франца. Он постоянно витал где-то в облаках, ставил перед собой абсурдные задачи, а решения, которые он находил, превращались в новые вопросы. Знаете, почему Франц сбежал в Гамбург? Чтобы быть как можно дальше от Лоты.
— Какой огромной интуицией обладают женщины! В тот день, когда спускали на воду «Уран», моя подруга… моя жена… сказала: «Что происходит или не происходит между Лотой и Францем?» Поскольку женщинам повсюду мерещатся чувства, я не придал значения ее словам. Но сейчас, когда все эти люди исчезли и нам нужно выяснить мотивы драмы, я хочу спросить вас: что вы написали о Лоте в своей книге?
— К сожалению, я уделил ей недостаточно внимания. Этой ночью я узнал из ее дневника удивительные вещи. Лота задыхалась в этой семье. Кроме того, она воровала у Карла деньги и под делывала счета, чтобы оплачивать ими «ясновидящего» из Парижа.
— О! — радостно восклицает Поэт-Криминолог. — Наконец появились деньги! Без денег не бывает настоящего романа. И до сих пор этой детали нам не хватало. Значит, она подделывала подпись мужа?
— Вот именно! Помните, я говорил, что она показывала мне в Париже толстую пачку денег? «Вы думаете, я неврастеничка? — спросила она в тот момент. — Не протестуйте. Я — неврастеничка. Мой муж — неврастеник, и его дети — неврастеники. В общем, мы все больные. Поскольку вы решили написать о нас, я хочу вам помочь. Я тоже когда-то начинала писать о «великом» Карле Найе, но эта работа так и осталась в Порт-о-Принс. На вашем месте я бы написала о себе так: «Лота Най — молодая женщина с очень сложным характером и настолько меняющимся настроением, что, пообщавшись с ней пару часов, вы больше не знаете, с кем имеете дело». Не смотрите на меня с таким смущенным видом и позвольте мне продолжить рассказ об этой глупой Лоте. «Сексуально не удовлетворена. Пока ее муж разъезжает по всему миру в погоне за призрачной славой, она ворует у него деньги и покупает на них ясновидящих, о чем он не догадывается». — Рассказывая, она плакала и смеялась, курила сигарету за сигаретой, что-то искала в своей сумочке, говорила, что задерживает меня, и боялась, что я уйду… Она выглядела очень волнующей и почти красавицей. «Прошу вас, — внезапно взмолилась она, — выбросьте эту идею из головы, не пишите про Найев! Вы не имеете права!» — «Не волнуйтесь! Хорошее исследование принесет всем пользу. Там, где слишком много славы, серьезная, скрупулезная работа…» Она не дала мне закончить и в отчаянии закричала: «Но из-за нее мы все умрем!»
— Как? — восклицает Следователь. — Эти слова имеют огромное значение!
— Ошибаетесь, — возражает Литературовед. — «Умереть» в ее лексиконе было самым обычным словом, выражающим то отчаяние, то необычайное легкомыслие. «Вы читали книги Розы?» — спросила она. — «Да, и кажется, все». — «А вы заметили, какое значение она придает смерти? Смерть в ее книгах никогда не является результатом чего-то, она никогда не использует ее в качестве литературного приема. В ее романах смерть повсюду, но она бессмысленна. Редко встретишь автора, герои которого все время рискуют умереть. Они живут, но в каждой фразе ты чувствуешь, что они внезапно могут умереть, просто так, без причины, просто потому, что смертны. Финал у нее всегда находится вначале, в каждой строчке подчеркивается, что жизненная драма уже завершилась, любое живое существо уже переживало свою смерть. Обычно считается, что любой сюжет, как и жизнь, имеет начало, развитие и так далее. У Розы — никогда! У нее живые — это умершие, возвращающиеся к жизни по мере чтения книги. На Гаити есть племена, которые живут вместе с мертвецами. Им дают имена, их можно потрогать, с ними разговаривают, танцуют, едят. Мир Розы похож на тот, что царит на Гаити. Это какой-то разрушенный мир. А ее книги оказывают разрушительное воздействие. Во всех ее произведениях, как и в жизнях героев, кроется скрытый смысл, но понять его можно лишь узнав, к чему приведет то или иное событие.
— То, что вы рассказываете, очень впечатляет, — прерывает его Поэт-Криминолог. — Представьте, что, приняв одно недостойное решение, я наметил себе конечную точку в ближайшем будущем. А теперь загадка «Урана» поколебала это решение, и я не знаю, как поставить эту конечную точку, после которой моя жизнь будет разрушена. Как жить, не зная, чем всё закончится? Может, это и есть загадка жизни? Раньше, до того как был найден «Уран», дрейфующий в море без своих таинственно исчезнувших обитателей, я знал, когда должен наступить решающий момент. А потом я дал себе отсрочку и упустил этот момент. И как теперь жить с ребенком, зная, каким будет его угасание и в каких страданиях оно пройдет?! О чем раньше мечтал я? О чем мечтали мы? Слышать смех ребенка в колыбели? Наслаждаться простыми радостями? Конечно, я поэт, я читал Толстого, Тургенева…
— Только не рассказывайте об этом ужасном Тургеневе! — восклицает со смехом Литературовед.
— И однако, он был другом Флобера.
— А чьим другом не был этот льстец, ненавидящий Достоевского!
— Который отвечал ему тем же!
— Волк не может любить собаку.
— Собака завидует волку.
— Ошибаетесь, собака хочет остаться собакой, но ей хочется, чтобы ее считали волком. Посмотрите на Карла Найя, завидующего Юлию…
— Хватит болтать о литературе! Возвратимся к Лоте и Францу, — прерывает их Следователь.
— Вы правы! Как-то она призналась, что пользуется некоторыми заговорами антильских негров, чтобы призывать и изгонять демонов. Вот такими контрастами отличался характер Лоты. О Франце она говорила со смесью любви и… нет, не ненависти, а, скорее, раздражения. Однажды она закричала: «Я люблю его до такой степени, что готова убить!» Вот каким образом я узнал о ее любви.
— А Франц?
— Он отказывался даже произносить имя Лоты. Однако я думаю, что из его сочинений можно понять…
— Что он любил ее?
— Вовсе нет! Он боялся ее и в то же время был одержим ею. Он сам употребляет это слово, описывая свои чувства, даже не столько чувства, сколько раздражение, которое эта женщина вызывала в нем. К сожалению, его почерк очень неразборчив. Франц был болен Лотой до такой степени, что не мог нормально произнести ее имени.
— Странно, — размышляет Следователь. — Послушать вас, так речь идет совсем о другом молодом человеке. Хотя, когда он был в Морском клубе, то очень вольно обращался со своей молодой мачехой. Они сидели рядом, и ничто не давало повода думать, что между ними существуют какие-то разногласия.
— Однако Роза меня предупреждала: «Ни слова о Лоте, когда будете беседовать с Францем. Он не выносит разговоров о ней. У Франца с самого детства было полно секретов. Уверена, что когда вы встречались с ним в Гамбурге, то решили, что это простой и необыкновенно приятный человек». — «Вы правы, — ответил я, — я редко видел таких спокойных людей, как Франц. Даже трудно представить, что он один из Найев». Роза, повернувшись к Курту, расхохоталась: «Ты слышал? Расскажи ему, сколько раз в детстве Франц пытался покончить жизнь самоубийством!» — «Зачем вспоминать об этом?» — пожал плечами Курт. — «Наоборот, — вмешался Зорн, — было бы забавно посмеяться над Францем. Я знаю, Курт ненавидит, когда обижают маленького Франца, но он забывает, что маленький Франц уже вырос. Франц — человек скрытный и неприметный. У него столько секретов, что если вам удастся разговорить его, то он снабдит вас бесценной информацией дня вашей книги!»
— И вам удалось выудить у него какие-нибудь секреты?
— Да, но немного. Самый главный касался свадебной вечеринки Карла и Лоты. «Представляете, — сказал Зорн, — что вечером после свадьбы наш старик Най нигде не мог отыскать свою Лолот. Никто не видел ее. Если бы это случилось на суше, то все только повеселились бы. В конце концов, новобрачная, в три раза моложе своего мужа, не обязана отчитываться перед ним. Но вся семья находилась на борту «Урана». Не помню уже, которого по счету», — произнес он своим насмешливым тоном. Роза и Курт пытались прервать его, но их смущение только возбуждало его. «Вы знаете остров Реюньон в Индийском океане с потухшим вулканом Питон-де-Неж и небольшими бухтами, носящими названия всех святых? Почему именно его старик Най выбрал для празднования своего бракосочетания?» — «Хватит!» — прервал его Курт. — «Но мы обещали помочь этому молодому литературоведу. Ничто не должно остаться в тени из жизни великого человека. Скоро — и этот день не за горами — Лолот будет очень востребована. Когда молодая девушка занимает свободное место в тени великого человека, то следует ожидать, что она еще добрых полвека после его исчезновения будет вести себя как приличная вдова. Знаете, почему великие люди выбирают молоденьких девушек на роль последней жены? Так они умирают уверенные, что молодая жена не даст забыть потомкам об их творчестве. Лолот тоже когда-то была начинающим литературоведом. Только такая женщина могла поддерживать пламя, когда не хватало горючего. Держу пари, что и через полвека Лолот будет вытаскивать откуда-то неизданные…» — «Густав! — закричала Роза. — Ты омерзителен! Прекрати немедленно!» — «Ладно, вернемся к свадьбе. Итак, что происходит? Не успев выйти замуж, новобрачная исчезает. «Уран» в это время стоит на яхте в одной из бухт, носящей имя святого, который защищает остров от спящего вулкана, готового в любой момент выплюнуть свою лаву. Ни Лоты, ни Франца! И это в первый же вечер! Все перерывают яхту вверх дном, но нашей парочки нигде нет!» — «Не слушайте его!» — умоляет Роза. — «Если вам не нравится моя версия, так изложите свою, но вначале дайте мне все-таки закончить! — закричал Зорн. — В общем, ничего ужасного не произошло. Обычно крадут новобрачную, а на этот раз новобрачная украла младшего сына своего супруга».
— И вы поверили в эти россказни? — спрашивает Следователь.
— В тот момент я засомневался, поскольку Роза и Курт были удивлены еще более, чем я, словно впервые услышали эту историю. На самом деле Лота, едва только вышла замуж…
— Как поняла свою ошибку? Но это обычная история. Только Чехову удалось превратить подобную банальную ситуацию…
— Вы имеете в виду…
— Все его рассказы, — говорит Поэт-Криминолог. — Только здесь обычная жизненная история обрастает невероятными романтическими деталями.
— То же самое я сказал Зорну. «Ладно, — ответил он, — не будем искажать факты. Но как быть с богатством Карла Найя и необъяснимыми силами, которые заставляют всех членов семьи держаться вместе? Забудем Реюньон, яхту, возьмем только голые факты: старый мужчина женится на молодой женщине, и во время свадебной вечеринки она исчезает вместе с его младшим сыном. Возьмите эту схему и перенесите ее во времени и в пространстве — и вы получите вечный сюжет. Унижение старика. Паника новобрачной и ее бегство. Так действует Природа. А Лолот — это дочь Природы, ворвавшаяся в неестественную жизнь старика Найя и его семьи», — подытожил Зорн.
24
— «Не верьте ни слову из россказней Густава, — сказала мне Роза, когда мы остались наедине. — Густав способен сочинить все что угодно, особенно о тех, кто мне близок. Он никого не щадит: ни меня, ни Курта, ни вас! Он обожает только самого себя, и только с самим собой ему хорошо. Все, что он рассказал о Франте и Лоте, — чушь! Свадьба на Реюньоне — чушь! Никогда «Уран» не заходил в эту бухту! Неужели вы не видите, что он вас дурачит? Реюньон! Наверное, он находит забавными свои выдумки!» Мы с ней сидели в салоне, напротив горящего камина, и она без конца тревожно поглядывала на двери и окна. Внезапно она прошептала: «У меня такое чувство, что он держит нас под водой, чтобы мы медленно захлебнулись. Он не дает нам дышать, я больше так не могу! Все, что он говорит обо мне, Курте, — полная чушь, не обращайте на это внимания». — «Но почему…» — попытался прервать я ее. — «Вы хотите спросить, почему мы с ним не расстанемся? Могу только сказать, что мы слишком сильно с ним связаны. Не пытайтесь узнать больше. Если вы читали мои книги, и особенно последнюю, то должны догадаться, какого рода узы нас держат и будут держать до самой смерти. Наш секрет находится в моих сочинениях и сочинениях Курта. Нужно только уметь их читать. Мои книги говорят больше, чем я сама могу сказать».
— И что говорили ее книги? — нетерпеливо спрашивает Следователь.
— Именно это я пытался узнать. Она сравнивала свои произведения с плиссе, в котором мы видим только край. «Я кладу складку на складку и максимально прижимаю их прессом. А ваша задача — догадаться, которая из складок самая ровная. Мы навсегда связаны с Куртом. А вот почему?» Роза говорила взахлеб, но урывками; казалось, что какие-то мысли, чувства, жалобы вначале накапливались в ней, а потом выплескивались наружу. При этом она все время крутилась, и бывало трудно понять, о чем она вообще говорит. Вы читали поэмы Эмили Дикинсон?[13]
— Конечно, — отвечает Поэт-Криминолог. — Восхитительная, но безрассудная женщина, жившая в вечном страхе. «Мои стихи похожи на плач ребенка на могиле, потому что я боюсь», — писала она.
— Так вот, Роза испытывала похожий страх. Если бы не было Курта, если бы не было детской любви, охватившей в юношеском возрасте их тела, Роза навсегда осталась бы рабой физической любви, существовавшей только в ее воображении.
— Понимаю, чем она была похожа на Эмили Дикинсон, — говорит Поэт-Криминолог.
— Только Эмили Дикинсон упивалась своими эротическими фантазиями, а Роза, под влиянием Курта, медленно, но упорно продвигалась к недостижимой цели и, скорее всего, получила то, что Эмили, истязая себя, познавала, закрывшись в своей маленькой комнате, на ослепительно белой простыне. И все время в ее разговорах присутствовала Смерть, но совсем не та Смерть, о которой упоминала Лота. Роза жила так, словно уже была наполовину мертва, словно одна часть ее тела уже чувствовала холод земли. «Не понимаю, какую цель вы преследуете своим исследованием? Какую связь можно найти между пафосными книгами моего отца и книгами Курта, Франца, Юлия или моими?» — «Никакой», — ответил я. — «А что вы напишете о Лоте? Я знаю, что вы встречались с ней в Женеве и Париже. Что она вам рассказывала? И как вы относитесь к бреду Густава?» — «Поживем — увидим, — уклончиво ответил я. — Думаю, что использую всю информацию, даже ту, которая не имеет прямого отношения к теме». — «Но разве вы не видите, что Густав ненавидит всю нашу семью и поэтому болтает всякую чушь? Он свалился на нас как падший ангел, вцепился своими когтями и заставил смотреться в кривое зеркало. В этом зеркале мы совсем голые и закованы в цепи. Он держит нас в каком-то подвале, а мы безропотно звеним своими цепями». Она сидела на низком диванчике, подложив под себя ноги, освещаемая неровным светом огня, вспышки которого словно усиливали значение каждой произнесенной ею фразы. «Франца тоже…» — произнесла она и запнулась. — «Франца?» — «Да, Франца тоже… он хотел держать его в руках». — «Кто?» — «Да Густав же!» — «Держать как?» — «Как и всех остальных: отца, Лоту и даже Юлия. Путем шантажа, путем сталкивания друг с другом. Бог послал нам в наказание демона. Очаровательного демона. И за это мы ему благодарны… Ну что? Какая книга может вобрать в себя подобные откровения?» — спросила она со смехом. — «Только моя, — ответил я. — Сегодня можно написать всё что угодно». — «Знаете, что говорил Скотт Фитцжеральд по поводу той удушливой атмосферы, в которой приходится работать писателю? «Задача хорошего писателя заключается в том, чтобы плавать под водой, задерживая дыхание». И нам, кого называют детьми Найя, приходится…»
— Удивительно, — снова прерывает его Следователь, — как мы на каждом шагу натыкаемся на эти метафоры. Неужели писательство похоже на…
— Утопление! Многие так утверждают, — говорит Поэт-Криминолог. — Но, знаете ли, метафоры… они называют водой виски и так далее. Давайте-ка лучше вернемся к вашей Розе Дикинсон и к тому, как они все, задыхаясь от усталости, очутились под водой. Пока вы рассказывали о вашей встрече с Зорном, мне пришла в голову интересная мысль по поводу Лоты и Франца. Я представил прекрасный солнечный день, синие-синие море и небо, серебряные блестки, убегающие вместе с волнами далеко к горизонту, и спокойно стоящий «Уран», вокруг которого плавает все семейство Найев. И вот Франц забирается на борт, а следом за ним — Лота. Скажем так, вместо того чтобы сбежать с яхты, сбежать от своей родни, среди которой они задыхаются, они, движимые одним порывом, наоборот, поднимаются на борт и убирают лестницу. Они ничего не замышляли заранее. Я вижу, как они устремляются к отцовской каюте, бросаются на кровать — этот алтарь, жертвоприношение на котором теперь происходит при свете дня — и сквозь переборки слышат крики отца.
— Забавно, — говорит Следователь. — Но что дальше? Только не заменяйте своими фантазиями наше расследование, в котором мы должны строго придерживаться фактов. Итак, двое — на борту, а пятеро плавают вокруг яхты. Как решить это простое уравнение, чтобы получить ужасающий ноль, то есть объяснить полное отсутствие людей на яхте? Я, конечно, могу представить, какая сумасшедшая страсть охватила эту парочку, совершающую и адюльтер, и инцест, о чем рассказывается в столь дорогих сердцу старика Найя мифах и что запрещается испокон веков. Но что дальше? Допустим, что время, за которое все утонули, равно времени, в течение которого наша парочка занималась любовью. Допустим всё что угодно. Но какой ангел выгнал их из пресловутого Эдема? Они закрывают глаза от слепящего солнца, наклоняются — и больше никого! И что дальше?
— Для меня как криминолога вопрос заключается в следующем: сколько времени понадобится этой дьявольской парочке, чтобы осознать, какое преступление они совершили и в результате покончить с собой? В криминологии эта проблема скрупулезнейшим образом изучалась во все времена. И ответ был всегда одинаков. Адам и Ева не были изгнаны из Рая, они устранили со своего пути самого Бога, — вот что показывает криминологический анализ, — а Эдем был уничтожен в то же время, когда они уничтожили самих себя.
— То есть, по-вашему, — уточняет Литературовед, — без Третьего Глаза нет загробной жизни?
— Именно этому учит нас криминология — наука малоизвестная, но наиболее близкая к поэзии. В чем обвиняли себя Адам и Ева? Они выкинули Бога за борт и оказались одни на палубе «Урана». Без Третьего. И представьте, Бог нашел очень забавным, что его выгнали из Эдема. Он повернулся к Эдему спиной и оставил его людям. И что делали люди на протяжении веков? Они изо всех сил старались вернуть в свой, ставший адским, Эдем изгнанного Третьего. В течение веков они из ничего восстанавливали Бога, и мало-помалу Глаз открылся. Кто-то снова взглянул на человека. Затем Глаз медленно закрылся и человечество стало загнивать и окончательно уничтожило само себя.
— Не понимаю, что вы хотите донести до нас? — нетерпеливо спрашивает Следователь.
— Я говорю о фатальном исчезновении Лоты и Франца, поскольку там не оказалось никого третьего, чтобы их спасти, понимаете?
— Мой друг, но о чем вы нам все-таки рассказываете?
— Да о себе! О своей жене, о нашем ребенке, о нас! Я думаю, что мы были неправы, замкнувшись в себе, что, отвергая посторонний взгляд, закрывшись от всего мира с единственной целью… или, честно сказать, без цели… я пришел к тому… О, извините меня за эту минуту слабости. Да, пока Литературовед рассказывал о Лоте и Франце, я думал, что только третье лицо может удержать, может вас удержать, что только ангел может помешать… А сейчас мы всего лишены. И поскольку не было ни постороннего, ни ангела, им оставалось только одно — тоже броситься в воду. Однако продолжайте, прошу вас. Опять я вмешался со своими глупостями.
— Вовсе нет, — говорит Литературовед. — Роза, кстати, верила в ангелов. Да, именно в таких, каких рисовал и описывал Россетти[14]. «Если бы ни один ангел нас не удерживал, то человечество неизбежно сделало бы роковой прыжок в воду. В своих сочинениях я мечтаю об ангеле, но мне удалось породить только демона, такого же, как я сама и Курт, — демона во плоти. Мы с ним одновременно создатели и хозяева, мы обладаем волшебным кольцом, но не хотим им воспользоваться, чтобы устранить того, кто так крепко держит нас на цепи».
— Мы не должны слишком серьезно относиться к словам этой женщины, — говорит Следователь. — Разве не видно, что ей нравилось разглагольствовать перед молодым мужчиной, каковым вы были в то время? Давайте-ка отбросим всю теологию, ангелов, эзотерические и фантасмагорические объяснения! У нас есть современная белая яхта, одиноко дрейфующая в море, и ни одного человека на борту. Почему?
— Кажется, наш друг Литературовед что-то внимательно читает, — замечает Поэт-Криминолог.
— Да, пока вы говорили, я машинально читал это стихотворение Курта, лежащее на одной из его рукописей. Глазам своим не верю…
— Еще один акростих?
— Да, но этот, кажется, дает нам след. Посмотрите:
Т
Ы
П
Р
О
Ч
Т
Е
Ш
Ь
— У меня мурашки по коже! — восклицает Поэт-Криминолог. — В двадцати шагах от кормы ты прочтешь почему. Если бы это уже не было написано, я бы подумал, что какой-то дух, витающий вокруг нас, дал нам эту подсказку. Может, они все здесь и слушают наш разговор?
— Я предлагаю немедленно отправиться на «Уран», — говорит Следователь.
— Действительно, это лучшее, что мы можем сделать, — поддерживает его Поэт-Криминолог. — Может, там мы найдем другие указания. Я уже даже вижу, как это случилось. Предположим, что все задумал Курт Най. Один. В то время когда все плавают в море вокруг неподвижно стоящего под солнцем «Урана», он поднимается на борт, убирает лестницу и, не обращая внимания на крики, мольбы, отчаянные попытки вскарабкаться наверх, пишет несколько стихотворений, в которых объясняет причины, заставившие его покончить с литературным семейством Найев. Пока я пишу эти строки, я слышу их крики, становящиеся всё тише и тише, так как все уже держатся на воде из последних сил. Иногда я выхожу на палубу и пересчитываю их. Отец, Юлий и Роза утонули первыми. На второй день Франц всё еще находил в себе силы поддерживать Лоту, а Густав пытался затянуть их под воду. Он кричал. Думаю, что он обезумел от бесплодных попыток забраться на борт. Каждый раз, когда я выходил на палубу, Франц и Лота умоляюще смотрели на меня. Если бы Густав утонул раньше них, я бы, конечно, бросил им лестницу. Несмотря на свое твердое решение, я бы их спас. Но безумные крики Густава раздражали меня. Лота и Франц исчезли под водой на исходе третьего дня. Теперь оставался один Густав. Он лежал на воде на спине и молча смеялся. «Давай, — говорил он каждый раз при виде меня, — прыгай!» На четвертый день… или это была третья ночь… нет, четвертая ночь… он все еще плавал, но уже не реагировал. Я светил на него фонариком. Он был бледен, и если бы не его насмешливая ухмылка и широко раскрытые глаза, можно было бы подумать, что он мертв. Но разве мертвец может лежать на спине? Я попытаюсь запустить двигатель и уйти от него, а затем завершить начатое дело…
— Да перестаньте, проснитесь же! — кричит Следователь, дергая Поэта-Криминолога за рукав.
— Зачем вы меня прервали? Я был так убедителен! Вы не представляете, что я пережил. Курт был во мне, он говорил через меня. Я запустил мощные двигатели, и судно, разрезая переливающиеся на солнце волны, начало набирать скорость. Но я не мог отделаться от Густава, чье одеревеневшее тело, увлекаемое в водоворот гребными винтами, плыло за судном. Мне понадобилось почти полдня, чтобы уйти от него. Затем я спустился в свою каюту и, пока не почувствовал, что силы мои на исходе, писал зашифрованные стихотворения, в которых признавался в том, в чем не мог признаться другим путем. Потом я дотащился до опустевшей палубы, сел на пол и стал вспоминать своих родственничков со смесью сожаления, глубокой меланхолии и тайной радости. Собрав последние силы, я перелез через борт и сразу же пошел ко дну. Ну что? Убедительно? — спрашивает Поэт-Криминолог со странной улыбкой. — Ладно, пойдемте на яхту. Мне очень хочется подняться на борт и найти многообещающее стихотворение Курта.
25
И вот они, поднявшись по железному трапу на палубу «Урана», направляются к корме.
— Успокойтесь, — говорит Следователь Поэту-Криминологу, — и перестаньте дергаться во все стороны. От какой метки следует отсчитывать эти двадцать шагов? Я ставлю здесь мелом крест и начинаю считать.
— Нет, не так, — крайне возбужденный, прерывает его Поэт-Криминолог. — Оставьте это мне! Вот! Двадцать шагов от кормы до пульта управления. Это здесь, я уверен! Ну, что я говорил? Посмотрите, здесь что-то есть — бумажка, засунутая за штурвал! Итак, развернем ее.
2х4С 4х1С 9х1П 1х1С 1х2П 4х2С 10x1 Л 2х10П Зх2С 5x11C 5х21С 1х2Л 2х10П 8х4С 1хЗС 9х1С 3x1Л 8x11C 8х4Л 6хЗС Зх5С 3x12345678910111213141516П Зх1С Зх5-6С Зх1С Зх5-6С 1хЗС 1х7С— Прекрасно! — восклицает Следователь. Мы барахтаемся в потемках.
— Кажется, эти цифры должны дать нам ключ, — говорит Поэт-Криминолог.
— Ключ? Сомневаюсь, но может, они подскажут, в сторону кого повернуться.
— Вот бумага и карандаш, — говорит Следователь. — Будем действовать методично. У нас есть пять колонок цифр, перемешанных с буквами.
— Попробуем разобраться вначале со смыслом букв. Уберем «х», остается СЛП.
— Мне кажется, — рассуждает Литературовед, — что если отталкиваться от стихотворения, то ПЛС означают Правый, Левый, Средний, «х» означает «в», то есть в каком столбце стихотворения находится нужная буква.
— Точно! — восклицает Поэт-Криминолог. — Смотрите, получается: Первый сын УБИЙЦА! Теперь нет ничего проще, чем расшифровать всё остальное. Но я не думаю, что преступник Курт. Кто-то другой сделал так, чтобы запутать всё в последний момент. И в этой роли я вижу только Густава Зорна. Что происходит? Стоит полуденная жара. Душно, все спускаются поплавать по лестнице в синее море. Над ними — безоблачное голубое небо. Им весело. И тогда Густав говорит себе: теперь или никогда! Он поднимается на борт и убирает лестницу. «Это ваше последнее купание!» — кричит он. Все смеются и обзывают его смешными именами. «Я не шучу!» — кричит он, раздраженный тем, что ему не верят. Куря сигарету за сигаретой, он смотрит, как они барахтаются в воде. «Эй, Густав, пошутили и хватит! — кричит ему, задыхаясь, старик Най. — Давай, спускай лестницу!» — «Ни за что! — отвечает он, бросая горящую сигарету в воду так, что она чуть не обжигает нос великого писателя. — Пришел конец вашей семейке писак!» Но теперь уже Роза и Курт, не на шутку разозлившись, кричат на него. Роза явно замерзла и цепляется за шею Курта. Юлий спокойно продолжает плавать. Наконец он говорит: «Зорн, хватит! Я приказываю вам спустить лестницу, у меня ногу свело судорогой!» И тогда Зорн берет лестницу и бросает ее в воду. Все кричат в один голос, понимая внезапно, что он не шутит. «Это последний акт моей комедии! — громко заявляет Зорн. — Тот, кого вы называли актеришкой-неудачником, прыгнет следом за вами, когда вы все окажетесь под водой. Но вначале он хочет позабавиться — поиграть с вашими рукописями. «Неудачник» перемешает, спутает все ваши тексты, теперь они в его руках!» Бегут часы. Карл и Юлий кружат на месте, со стоном поддерживая друг друга, — со стороны кажется, что они танцуют. Курт и Франц обогнули вплавь яхту. Курт пытается вскарабкаться на плечи Франца, чтобы дотянуться до края борта, но соскальзывает. «И не пытайтесь, голубки!» — кричит Зорн. И так как они начинают его оскорблять, он возвращается на правый борт. О, Юлия больше не видно. Ах нет, он тонет, но из последних сил выныривает на поверхность, наглотавшись воды. И снова уходит под воду. Навсегда. Пока, Юлий! Спустя несколько часов Зорн замечает Карла. Он медленно, задыхаясь, подплывает к яхте и что-то царапает на корпусе. «Никаких букв, никаких знаков! — кричит Зорн, перегнувшись через борт. — Тот, кого вы презрительно называли актеришкой, спутает все ваши знаки и буквы». Наконец и этот пошел ко дну. Все пошли ко дну. А теперь приступим к фальсификации.
— Да перестаньте же, очнитесь! — кричит Следователь.
— Оставьте его в покое, — говорит Литературовед. — Вполне возможно…
— Нет никакого возможно, — прерывает его Поэт-Криминолог. — Всё так и было! Я это видел. Я был Густавом Зорном, и, если бы вы не возвратили меня к реальности, может, мы узнали бы гораздо больше по поводу рукописей и зашифрованных стихотворений, которые, вероятно, являются еще одной ловушкой на пути нашего расследования.
— Вы действительно верите, что рукописи были сфальсифицированы? Что тот, кто совершил преступление, решил пойти еще дальше…
— Внести изменения, перепутать все тексты, чтобы загадка так и осталась загадкой, — вот в чем он черпал истинное удовольствие. Почему Сфинкс хотел избавиться от Эдипа? Чтобы быть единственным, кто знает разгадку. Все путешественники, давшие неверный ответ, были съедены этим чудовищем. Это так естественно! Разгаданная загадка — больше не загадка! А без загадки — нет ничего!
— И вы думаете, что тот…
— Вот именно! Тот, кто остался на борту, еще больше запутал следы, оставив после себя только последний вопрос: «Почему?» Впрочем, это не помешает вам еще тщательнее изучить рукописи всех членов семьи Найев. И чем больше они будут перепутаны, сфальсифицированы, изменены, тем более глубоким будет их анализ. Малейший отрывок превратится в реликвию, ничто не будет оставлено на волю случая, а со временем все эти сочинения станут философской или герменевтической достопримечательностью. Со временем семейство Найев забудется. А легенды будут гласить: Их было шестеро плюс один. Однажды они отправились кататься на яхте, захватив все свои сочинения. Как-то утром они проснулись и сказали друг другу: «Пора, момент настал!» И они пошли по воде к другому берегу океана. Напрасно три следователя ищут их следы. Море не сохранило в своей памяти отпечатки их ног.
— Вы действительно думаете, что после них должна остаться красивая легенда?
— Если жизнь — это сказка, то несомненно, в противном случае — никаких легенд.
26
— Ну вот, — сообщает Следователь Литературоведу, — сегодня мы спускаем на воду "Уран". Воспользуемся же этим прекрасным солнечным днем, чтобы совершить прогулку по морю. Возможно, нам все-таки удастся понять, что же произошло на борту. «Почему бы нам не провести обычный следственный эксперимент, — предложил вчера наш друг Поэт-Криминолог, — и не отправиться самим на «Уране» в открытое море?» — «Великолепная идея!» — ответил я и незамедлительно отдал соответствующие распоряжения.
Они садятся в шлюпку и направляются к яхте. Море настолько спокойное, что даже движения вёсел не оставляют на его глади никаких следов. «Уран», как огромная белая скала, со всеми своими надстройками отражается в дремотной воде.
— Представляете, в каком отчаянии находились плавающие вокруг яхты! — говорит Следователь. — Ни одной неровности на корпусе, ничего! А вот и веревочная лестница! Поднимайтесь-ка первым, а я — за вами. Скоро к нам присоединится и наш друг Поэт-Криминолог. Держу пари, что он будет не один. Надеюсь, он привезет свою жену с ребенком, а также мою неразлучную подругу, с которой мы неразлучно живем в разлуке. «Давай сделаем сюрприз нашему Литературоведу, — предложил он вчера мне. — Отправимся в путешествие в неизвестность. И когда круг замкнется, когда мы окажемся в центре Вселенной, может быть, мы поймем, в чем заключается сила загадки». Наверное, сейчас они уже садятся во вторую шлюпку и скоро окажутся здесь. Я так и вижу, как мы снимаемся с якоря и, пока я управляю судном, моя неразлучная подруга молча стоит рядом со мной. Ветер треплет ее волосы, и мы оба чувствуем себя совершенно счастливыми. А еще я вижу, как в это время наш друг Поэт-Криминолог стоит на носу судна, одной рукой обнимая жену, а другой держа как можно прямее своего ребенка, чтобы тот мог увидеть море и летающих вокруг яхты птиц.
И в заключение он добавляет:
— Кстати, я приказал отнести назад в каюты все обнаруженные рукописи и положить их по мере возможности так, как они и лежали. Таким образом, мой друг, вы сможете без конца их расшифровывать.
Примечания
1
Браунинг Роберт (1812–1889) — английский поэт. Ввел в английскую поэзию жанр монолога-исповеди и углубленный психологизм.
(обратно)2
Мак-Калерс Карсон (1917–1967) — американская писательница. Трагическая проза о стремлении к любви и пониманию у подростков, увечных, жаждущих утешения в современном мире равнодушия и жестокости.
(обратно)3
Конрад Джозеф (1857–1924) — английский писатель.
(обратно)4
Джеймс Генри (1843–1916) — американский писатель.
(обратно)5
Витгенштейн Людвиг (1889–1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии. Философию понимал как «критику языка».
(обратно)6
Лаури Малколм (1909–1957) — канадский писатель.
(обратно)7
В греческой мифологии божество одноименной реки в царстве мертвых. Клятва водой Стикс произносится во время раздора богов и считается самой страшной.
(обратно)8
Сведенборг Эммануэль (1688–1772) — шведский ученый и теософ-мистик.
(обратно)9
Шелли Мэри (1797–1851) — английская писательница, жена П. Б. Шелли. Автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».
(обратно)10
Арто Антонен (1896–1948) — французский актер, режиссер, художник, поэт. Примыкал к сюрреализму. Выдвинул идею «театра жестокости», воздействующего на психику зрителя.
(обратно)11
Лесаж Ален Рене (1668–1747) — французский писатель. Автор романа «Хромой бес».
(обратно)12
Велес де Гевара Луис (1578–1645) — испанский писатель. Плутовской роман «Хромой бес».
(обратно)13
Дикинсон Эмили (1830–1886) — американская поэтесса. В своей лирике, часто стилизованной под примитив, она, отталкиваясь от пуританства, показывает трагизм бытия.
(обратно)14
Россетти Данте Габриел (1828-1882) — английский живописец и поэт. Основатель «Братства прерафаэлитов».
(обратно)


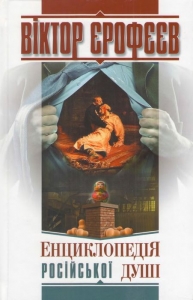




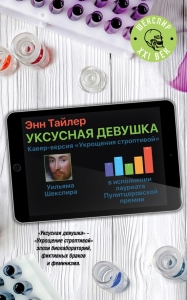

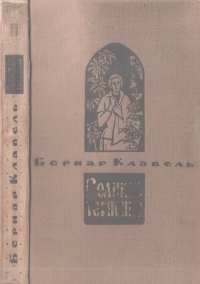


Комментарии к книге «Загадка», Серж Резвани
Всего 0 комментариев