Аарон Аппельфельд На обочине нашего города
Глава 1.
Тель-Авив в июле месяце — липкий город, невозможно прикоснуться к ограде или прислониться к стене. Я купил себе перчатки, чтобы хоть так отмежеваться от гнусного распаренного окружения. Всё покрыто потом, приходится часами торчать в душе. Эта внешняя перенасыщенная испарениями влажность проникает и внутрь, душит, стесняет движения. Я включаю приемник — канал классической музыки — и опускаюсь в кресло. Час-другой классической музыки вызволяют меня из раскаленного котла и дают вернуться к моим размышлениям.
Под вечер я отваживаюсь выбраться из дому. Даже в шесть жара не отпускает. Я устремляюсь к морю в тщетной надежде обрести там спасительный глоток прохладного воздуха — и, разумеется, разочаровываюсь. Только поздно ночью морской ветерок робко проникает на берег, отчасти снимает мучительное напряжение, позволяет телу расслабиться и навевает сонливость. Однажды я так и задремал на песке и проснулся только под утро. С тех пор я веду себя осторожнее: почувствовав, что сон готов вот-вот сморить меня, я собираюсь с силами, подымаюсь на ноги, пересекаю несколько улиц и заползаю в свою берлогу. И тут наваливаются эти вечные неразрешимые проблемы: что лучше — открыть окно, выходящее на запад, в сторону моря, или включить вентилятор? Или кондиционер. Кондиционер — враг моих суставов, я включаю его, только когда мучение достигает крайних пределов. Если бы не существовало зимы, сомневаюсь, что я выдержал бы пребывание в этих местах. В конце марта я начинаю тосковать по зиме.
Зимой я совершенно другой человек. Я смело распахиваю дверь квартиры и выхожу на лестницу с высоко поднятой головой. Шляпа и пальто обеспечивают мне личную неприкосновенность, я чувствую себя огражденным от вторжения внешнего мира. Снующие вокруг, бессмысленно суетящиеся люди постоянно повергают меня в отчаяние, но зимой на улицах гораздо меньше народу, и я шагаю уверенно, ощущение свободы возвращается ко мне.
Еще не так давно, всего несколько лет назад, я любил зимой купаться в море. Теперь я не позволяю себе подобных излишеств. Я брожу по пустынным улицам и наслаждаюсь высоким прозрачным небом и прохладным воздухом. Зимой я возобновляю посещение крохотного кафе «Двора» — «Пчелка». Двора, его хозяйка, помнит меня, приветливо справляется о моем здоровье и не упускает заметить, что я не появлялся всё лето. Мне трудно объяснить ей сложность и тягостность моей жизни. Я ненавижу объяснения и оправдания. Я поступаю так, как считаю правильным, и не собираюсь вступать в обсуждение мотивов моего поведения. Что ж, видно, и в этом плане я редкое исключение в нашем городе. Тут обожают всевозможные доводы, аргументы, домыслы и толкования. По ночам я иногда слышу, как человек идет по улице и объясняет жене, что заставило его воздержаться от важнейшей в его жизни сделки. Невозможно угадать, где тут запоздалое раскаяние, где досадный промах и где просто хвастовство. В любом случае, подобные разговоры утомляют меня.
Случается порой — и такое произошло год назад, — что в середине июля тель-авивское небо вдруг затягивают тучи. Будто сулят дождь. Не следует обольщаться — никакого дождя не будет. Дождь не состоится, но в течение нескольких часов с моря будет тянуть приятной прохладой. Такое чудо происходит раз в три-четыре года, однако и этого достаточно, чтобы я воспрянул духом и ощутил в себе волю к сопротивлению. К действию.
Однако к чему всё время ныть и жаловаться? Я живу той жизнью, которая меня устраивает. У меня есть просторная квартира, благоустроенный душ, мой приемник, транслирующий классическую музыку, хорошая библиотека и сбережения, полностью обеспечивающие мое существование.
Не скрою, женщины вторгались в мою жизнь и нарушали ее течение, но не без того, чтобы оставить несколько приятных воспоминаний. Я, разумеется, не имею в виду мою бывшую жену, от нее остался только зуд в ушах. Со временем я постиг, что терпимы лишь случайные и мимолетные встречи, всё остальное — невыносимая скука и морока. Лучше тосковать по женщине, чем связать себя с ней надолго.
Невозможно не помянуть добрым словом Тину, которая в конце пятидесятых проживала в Яффо, вернее, в Джебалии. Я виделся с ней несколько раз, и каждое мгновение этих встреч запечатлелось в моей памяти. Ее глаза в ту минуту, когда я вхожу в комнату, ее поза, жест, которым она откидывает за спину волосы. Изящество, с которым принимает у меня пальто. Изгиб ее спины в ту минуту, когда ставит передо мной рюмочку. Она не спрашивала, кто я такой и чем занимаюсь, как они обычно это делают, и я не интересовался ее историей — мы оба словно пришли к соглашению, что прошлое, разумеется, имеет значение, но не столь решающее.
Тине было около тридцати, а может, и меньше. В ней присутствовало то благородство, которое уже улетучилось из нашего мира. Каждое ее движение говорило: будем добры друг к другу, покуда это возможно, — кто знает, что готовит нам завтрашний день. Она была, как все мы, беженка, но бездомность и скитальчество не пристали к ней. Она говорила на хорошем немецком и еще по-французски, как всякая девушка из приличной семьи в Черновцах, моем родном городе. Речи ее были немногословны и как-то изящно отрывисты. Как видно, она знала то, что я постиг только с годами: слова лишь сбивают с толку, ранят или надолго оставляют в душе смятение и горечь. Желательно воздерживаться от них.
Однажды вечером она сообщила мне, что намерена отправиться в Африку, чтобы работать там медсестрой в больнице Альберта Швейцера. Она говорила о поездке обычным, спокойным голосом, и это заставило меня ошибочно подумать, что она собирается пробыть там недолго. Много позже я узнал, что она крестилась и поселилась в монастыре, чтобы подготовиться к принятию монашества. Теперь я понимаю, что был недостоин ее. Такую женщину можно встретить лишь раз в жизни. Я, видно, не сумел оценить, что мне выпало.
После этого я искал успокоения у многих женщин. Они оставили во мне, как я еще расскажу, только смутное ощущение досады. Иногда мне кажется, что виноваты не женщины, а город. Город, отданный во власть неутомимого, немилосердного солнца, удушающей влажности и липкого пота, не может произвести ничего, кроме грубых, раздражающих слов, подобных вентиляторам в дешевых кафе, не приносящих утешения или понимания, но лишь создающих жужжание и скрежет.
Всё здесь свербит, зудит и гудит, и не удивительно, что на каждом углу торчат мощные горластые женщины. Толстые мужчины сидят под замызганными истрепанными навесами, и пот ручьями катится по их лицам. Кто они? Как меня занесло сюда? Что я делаю в их соседстве?..
Иногда мне кажется, что все только тем и заняты, что пытаются высвободиться из этой влажной духоты и неумолчного грохота. Липкий пот не просыхает и не рассеивается. Нервозная крикливость нарастает день ото дня. Из окон моей квартиры это представляется попеременно то нескончаемым потоком брани, то неуместным бесстыжим весельем.
Я собираюсь поставить двойные двери и рамы, чтобы раз и навсегда отгородиться от ядовитого пота и изнуряющей толчеи. Наглые слова и липкий пот — убийственное сочетание. Я всё глубже и глубже зарываюсь в свою берлогу. Сознание, что я не принадлежу ко всей этой мерзкой суете и какофонии, сохраняет мне жизнь, как убежище во время войны.
Глава 2.
Тель-Авив в июле месяце — город плавящийся. Всё поддается и расплывается под ногами. Ты в западне, даже когда выползаешь из своей берлоги. Отвратительнее всего та грязь и пакость, которой забиты все углы и щели в каждой подворотне и каждом проходе. В свое время мне казалось, что в этом раскаленном городе скрываются тайные вожделения, я даже воображал, что в один прекрасный день они захватят и меня. Но в последние годы меня окружают и грозят поглотить только монолитная пустота, грубые слова и густая потная мгла. Иногда меня охватывает неудержимое желание распахнуть окно и закричать: грязный город, наглый город, я не могу выдержать твоей удушающей пустоты! Я знаю, мой вопль никого не тронет. Пустота тут крепка, как сталь. Люди ограждены этими непрочными карточными строениями, как железными крепостями.
Чтобы устоять перед жарой и пустотой, я почти не вылезаю из дому, разве что в продуктовую лавку да ночью на берег моря. Я уже говорил: женщины более всего смущают и терзают мой дух. Иногда мне кажется, что они воплощают всю эту пустоту. Тина, где ты? Как я не услышал твоего призыва!.. Я ощущал твою доброту, то понимание, которому ты научилась в гетто и лагерях, но твоего непреклонного стремления бороться с коварными духами пустоты не различил…
Когда мне стало известно, что она приняла христианство и живет в монастыре, я хотел поехать к ней, даже сделал некоторые приготовления. Но намерение мое не осуществилось. Как видно, я слишком привязан к завоеванным мною независимости и уединению, чтобы последовать за любимой женщиной. То, с чем не справился я, сделала Тина. Подозреваю, что она выкорчевала мой образ из своей души. А во мне она только росла и прояснялась год от года. Иногда мне кажется, что она возвышается надо мной, как колокольня.
У меня имеется некий способ преодоления пустоты: я без конца слушаю музыку. Музыка заполняет не только всего меня, но и окружающее пространство. Я знаю теперь, что музыка — это колдовской напиток, заставляющий трепетать в тебе каждую жилку.
Недавно мой приемник испортился. Была уже ночь. Я почувствовал, что не в силах оставаться дома, и начал метаться по улицам в слабой надежде: вдруг найду мастера? Может, смогу одолжить у кого-то приемник или купить новый… Магазины были закрыты. Я сидел у подъезда своего дома и погружался в отчаяние.
Какой-то мужчина подошел, склонился ко мне и спросил:
— Что у вас случилось?
Я мог отделаться от него, но не захотел.
— Мой приемник испортился…
— Приемник? По приемнику не справляют траур, — укорил он меня.
— Я не могу без музыки, — против собственного желания признался я.
— Не можете справиться с этим? — бросил он задиристо.
— Мне тяжело, вы видите, — пробормотал я еле слышно.
— Уму непостижимо! — воскликнул он и покинул меня.
Но другой человек, случайно услышавший наш разговор, проникся моей бедой, подошел и спросил:
— Вам нужен приемник?
— Вот именно, — ответил я, поднимаясь на ноги.
— Я могу одолжить вам, — предложил он с удивительной простотой.
— Только до завтра! Завтра я куплю новый.
— Подождите, я сейчас принесу.
Не прошло и нескольких минут, как он протянул мне приемник, почти новый. Я попытался заплатить ему, он отказался. Записал свое имя и адрес и сказал:
— Я дома каждый день после девяти вечера.
— Вы доверяете мне…
— Да, — подтвердил он с улыбкой.
— Заверяю вас, я верну.
— Я не сомневаюсь.
Я не подозревал, что в этом городе есть такие щедрые люди. Я бросился за ним вдогонку и закричал:
— Благодарю вас!
— Не за что, я уверен, что на моем месте вы поступили бы точно так же.
В эту ночь я не смог уснуть. Сидел в кресле и слушал музыку. Только под утро, оглушенный кофе и сигаретами, наконец задремал.
Следующим вечером я вышел из дому, чтобы вернуть ему приемник. Он принял его в дверях и оказался куда ниже ростом, чем представлялся мне вчера. В равной мере он мог быть и дворником, и государственным служащим. На его лице я не заметил ни малейшей тени изысканности и благородства.
— Спасибо, — воскликнул я растроганно, — вы спасли меня!
— Вы преувеличиваете.
— Я задыхаюсь без музыки. Вы тоже слушаете музыку?
— Иногда.
— Не каждый день?
— Нет.
— А как вы почувствовали, что я в беде? — спросил я и тут же осознал всю нелепость вопроса.
— Я ничего не почувствовал.
— Зачем же вы принесли мне приемник?
— Просто увидел, что вам это нужно.
Бесхитростные и точные ответы этого человека растрогали и взволновали меня. Я хотел вернуться и еще раз поблагодарить его, но удержался. Не в моих правилах обременять людей своей персоной, однако с тех пор всякий раз, когда я включаю приемник, я вспоминаю его и думаю, что не так уж одинок в этом мире. На преданность женщин я не стал бы полагаться. Но на человека, который дает тебе приемник только потому, что он тебе нужен, — на такого человека я безусловно полагаюсь.
Глава 3.
К врагам моего спокойствия и привычек следует причислить мою бывшую жену и моего сына. Не знаю, чья разрушительная сила из них двоих мощнее. У жары и убийственной влажности здесь многие обличья, но у моей жены и сына лица неизменные. Они постоянно подстерегают меня. Конечно, я выработал средства против всех домогательств, но это длительная и изматывающая борьба. Зимой я чувствую облегчение и некоторый прилив сил. Зимой мои враги слабеют, и я обретаю больше дерзости.
Я написал Тине и как бы невзначай коснулся моих страданий в этом городе. Я не люблю распространяться об ощущениях и переживаниях, но всё-таки позволил себе упомянуть изнуряющую жару, разъедающий тело и душу пот и способы, к которым я прибегаю в борьбе с ними. Уверен, она поймет меня. Она жила здесь и знает, о чем я говорю. Я не торопил ее с ответом. Монашеская жизнь, как я догадываюсь, — жизнь отстраненная, исполненная молчания. Если это так, я близок ей и там. Всю жизнь я тоскую о тишине. Не раз случалось мне предаваться сладкой грезе, будто гигантские колеса, день и ночь грызущие и пилящие этот город, вдруг остановились. Нет пробивающей уши музыки, нет визгливых рассуждений о политике. Первозданная немота, в которую я погрузился однажды на юге Италии, — цельная и прозрачная, как воздух на морском побережье.
Это, понятно, лишь наивные фантазии. Пустота этого грохочущего города колотится во мне без передышки. Если бы я был верующим, то обратился бы к молитве. Молитва, говорят люди сведущие, испытанное средство против бессмыслицы и отчаяния. Не знаю. Я полагаю — возможно, ошибочно, — что истинная молитва — это не слова, не надоедливое бормотание, а внимание. Если монастырские правила воспитывают внимание и заставляют душу воспарить, ничего не скажу Тине, но если нет, будет лучше, если она вернется к нам. Арена битвы здесь, а не в далекой Африке. Здесь нужны люди ее масштаба, чтобы воевать с неумолчным гулом и бесплодной суетой.
В последнее время я читаю сочинения Примо Леви[1]. Он пришелся мне по душе. Он излагает факты без сентиментальных рассуждений. Пока я не познакомился с ним, я полагал, что нельзя писать о войне. Я был уверен, что наш опыт не поддается описанию, вернее, его непозволительно описывать. Примо Леви умеет рассказать про то, про что можно рассказывать. Лишь изредка он теряет самообладание и обличает нас. Он представляет вещи такими, как они есть, и делает это с завидной простотой. Когда-то я думал, что теперь уже невозможно пользоваться теми словами, которыми пользовались до войны. Оказывается, я ошибался. Примо Леви говорит тем самым, прежним языком, не исправляет его, не возвышает и не снижает, а между тем открывает нам, кто мы такие и что именно выпало на нашу долю. Пророки вещали о будущем, Примо Леви извлекает из забытья прошлое и превращает его в настоящее. Гетто и лагерь, говорит он нам, не были случайными местами заточения, они были образом, стилем, формой жизни, проглядывающей в каждом слове и поступке.
Я написал Тине: молчание и тишина у меня в крови, но аскетическое отшельничество, прости великодушно, я не могу на себя принять. Я знаю, что многие из лучших сыновей и дочерей нашего народа присоединились, от великого отчаяния, к церкви и монашеству. До известных пределов я их понимаю. Я не хотел задеть ее, но всё-таки добавил: и здесь, в этой пропитанной потом стране, тоже можно взыскать истинной молитвы.
Она незамедлительно откликнулась. Ни словом не отреагировав на мои проповеди и замечания, описала свой порядок дня, начиная с полуночной молитвы, продолжающейся до двух часов ночи. До шести утра сон. В шесть утренняя молитва и легкая трапеза, потом работа в поле. В течение дня находится время для уединения. Три торопливых трапезы и чтение святых книг. Трудно было понять, счастлива ли она. Возможно, понятие «счастье» не соответствует ее положению. Я читал ее письмо, и мною овладевала печаль. Я чувствовал свое бессилие и страх перед будущим и всё-таки возвращался и читал снова. Она писала по-немецки, но кое-где вставляла словечко на иврите. Аккуратный, разборчивый почерк. Тина, всё, что происходит с тобой, вливается в мои жилы и растворяется у меня в крови…
Глава 4.
В конце августа солнце слегка выдыхается, жара немного спадает, запах моря в преддверии сумерек становится отчетливее. В шесть я отправляюсь к морю. Иногда мне кажется, что прохладные дуновения должны смягчить и приглушить шум. Это ошибка. Транзисторы и громкоговорители завывают без устали. Огромные тучные женщины разметались по пляжу, как гигантские ящеры. Я питаю слабость к женщинам, но не таким, позорящим образ человеческий. Я стараюсь держаться от них подальше. На этот раз я не сдержался и крикнул одной из них:
— Зачем ты сокрушаешь тишину моря?
— Я? — подняла она голову.
— Ты!
— Что я сделала?
— На пляже запрещено включать транзистор на полную мощность!
Она засмеялась.
Я собрался подойти и влепить ей оплеуху и уже было направился к ней, но остановился, заметив у нее на лице глубокий шрам. Я никогда не причиняю зла пострадавшим, и всё-таки сказал ей:
— От тебя я мог бы ожидать большего понимания.
— О чем вы говорите? О каком понимании?
— Ты прекрасно знаешь.
Она ничего не ответила, только глянула на меня с наглой усмешкой.
Я простил ей и это. Трудно объясняться с покалеченными людьми. Они заставляют меня умолкнуть.
Однако и в конце августа пляж не окончательно пустеет к вечеру. Люди валяются на песке в обнимку с огромными транзисторами. Звуки того, что они называют музыкой, раскалывают воздух. Я не в силах призвать их всех к порядку, но море не простит им. Однажды я закричал:
— Море еще отомстит вам!
Они накинулись на меня с проклятиями.
Мы должны терпеть. Наше прошлое страдание, как видно, не оправдывает нас. Я не знаю, что делают с человеком монастыри в Африке. Моя борьба, во всяком случае, страшно изматывает нервы. От года к году терпение мое истощается, и стоит мне оказаться на берегу, как руки сами собой сжимаются в кулаки. Я опасаюсь, как бы не наброситься на кого-нибудь. Год назад я попросил одного из этих парней сделать звук потише. Он отказался и принялся задирать меня:
— Я буду делать здесь всё, что мне нравится. Тут никто не может мне указывать, что делать.
Я пригрозил ему расправой, но он не обратил на это ни малейшего внимания. Я отодвинулся от него как можно дальше, но звук гнался за мной. В конце концов я вернулся и еще раз попросил его убавить громкость. Он снова отказался.
Это была тяжелая схватка. Он обрушил на меня несколько мощных ударов. Я вышел из себя и с трудом, но всё-таки сбил его с ног. Если бы он замолчал и не продолжал оскорблять меня, я оставил бы его в покое. Но он извергал ругательства и под конец выкрикнул:
— Жаль, что такие, как ты, выжили!
Тогда я вернулся, хотя и не в моем обычае бить лежачего.
Эту драку, как видно, наблюдали многие — или, во всяком случае, слышали о ней. С тех пор, когда я прошу кого-нибудь сделать звук потише, просьба моя немедленно исполняется. Находятся, разумеется, упрямцы или слабые, презренные создания, которые начинают ныть и клянчить: почему, чем я тебе мешаю, позволь мне слушать радио! Я не выношу этого скулежа, но не трогаю таких, готовых умолять и унижаться.
Моя бывшая жена имела обыкновение провозглашать — надо полагать, она продолжает делать это и сейчас: «Он упрямец, он всегда поступает, как ему нравится, и ни с кем не считается». Большинство из нас страдает узостью кругозора, но она довела свою ограниченность до наивысшей степени, с которой мало что может сравниться. Как и я, она прошла худшие из лагерей, но они не оставили в ней следа. Как будто и не побывала там. Однажды я сказал ей:
— Ведь ты тоже была там, видела и слышала.
— Ну и что? — ответила она мне с непревзойденной наглостью.
Я готов был застрелить ее.
Глава 5.
Облегчение, наступающее в сентябре, порой оборачивается для меня бедствием: я погружаюсь в тяжкий мучительный сон. Продолжительный сон уносит меня в те места, где мне совершенно не хотелось бы находиться, и когда я наконец просыпаюсь, у меня снова нет сил бороться. Следует постоянно помнить, что неумеренный сон изнуряет, от него опускаются руки. Однажды я беспробудно проспал почти весь сентябрь. Теперь я осторожен в этом отношении. Я заставляю себя подняться и отправиться к морю. Жизнь на берегу действительно грубая и докучливая, но это всё-таки предпочтительнее мучительных кошмаров. Не так давно ко мне подошел человек и сообщил с простодушной прямотой:
— Я читаю Примо Леви, это писатель, который проясняет мои мысли. Не знаю, что бы я делал без него.
— Я тоже, — подхватил я обрадованно.
— Благодарение Б-гу, что у нас есть такой писатель.
— Когда вы открыли его? — зачем-то поинтересовался я.
— Недавно. С тех пор моя жизнь совсем не та, что была. Она в корне изменилась. Обрела какое-то странное упование — надежду на исправление.
«Что значит — странное?» — хотел я спросить, но не стал.
Я понял, что он из наших, но не стал докапываться — где, когда и тому подобное. Что делать, мы не отличаемся умением выразить себя, мы только множим и трамбуем избитые фразы и поэтому радуемся, когда один из нас находит верные слова, способные объяснить, что произошло в те годы.
— Какую музыку вы слушаете? — спросил я вместо этого.
Я был уверен, что он, подобно мне, испытывает необоримое влечение к музыке. Он уклонился от ответа и исчез.
После полуночи на берегу можно встретить замечательных людей. В большинстве своем это наши. Море притягивает их. Это, как видно, наш настоящий дом. Я уже натыкался посреди ночи на наших, которые часами сидят на берегу и курят, душой и телом преданные морю.
Иногда мне кажется, что они, как и я, борются со сном, угрожающим завладеть их сознанием. Сон, если я еще не упомянул об этом прежде, один из наших главных врагов. Он захватывает нас врасплох и расслабляет волю. Спать необходимо, но осторожно и не слишком много.
Сентябрь для нас роковой месяц. Если в июле и августе ты сражаешься с жарой и потом, то есть с внешними врагами, то в сентябре тебе угрожает враг внутренний. Ты воюешь, как это ни странно, с порождениями твоего собственного сна, с духами твоего обессиленного сознания.
В прошлом году это было невыносимо. Все гетто и все лагеря, в которых я побывал, сгрудились и наслоились во мне. Как будто боялись, что я позабуду их. И во сне я снова и снова заверял и клялся: не забуду ни гетто, ни лагерей, ни моих родителей, ни брата, ни сестру, — но помнить их беспрерывно, час за часом, я не в состоянии! Мой голос, как видно, не достигал ничьих ушей, поскольку требования и укоры возвращались и повторялись. Сентябрьскими ночами у меня нет выбора — я вынужден бежать из дому. Лучше бродить, чем оставаться во власти кошмаров.
После полуночи берег заселяется нашими людьми. Не все одинаково дружелюбны, многие настолько погружены в себя, что бесполезно обращаться к ним. Есть, разумеется, и такие, кто набрасывается на тебя без всякой видимой причины. Я не осуждаю их. Иногда мне кажется, что мы одна семья, которая по непонятным причинам распалась, разбрелась в разные стороны, но однажды еще соберется вместе. Я сказал «одна семья» и тотчас хочу отказаться от своих слов. В нашу семью не входят ни моя бывшая жена, ни мой сын. Они сами исключили себя из нашего ордена. Бывают дни и недели, когда я вообще не вспоминаю про них, они словно выветриваются из моей памяти. Но в сентябре, только для того, чтобы позлить меня, они возвращаются. Как будто между нами еще существует что-то общее. Более всего раздражают ее заказные письма. Постоянно новые претензии, новые требования. То есть я не могу знать, что в них написано, поскольку не читаю, но тем не менее они выводят меня из себя.
Глава 6.
Несколько дней назад, в поздний ночной час, я подошел к одному из наших и спросил без обиняков:
— Тебе тоже досаждает пустота в этот сезон?
— О какой пустоте вы говорите? — глаза его раскрылись от удивления.
— Разве нужно объяснять?
— Я не понимаю, о чем вы.
— О пустоте. Я не знаю другого слова.
— Извините, — сказал человек, — я живу своей жизнью и не думаю о вещах, которые находятся за пределами моего восприятия.
— Но ночью тем не менее ты приходишь сюда. Почему?
— Прихожу подышать ветром.
— И ничто не досаждает тебе, не пугает?
— Сказать по правде, нет.
— Ты ведь один из нас.
— Да, это верно.
Я знал, что он имеет в виду, и всё-таки продолжал наседать и допрашивать. Мне трудно смириться с тем, что кто-то из наших не понимает меня. Я сообщил, что читаю Примо Леви, а в последнее время и Жана Омри.
— Я ничего не читаю, — отрезал он.
— А что же ты делаешь? — спросил я и тотчас почувствовал, что это уже лишнее.
— Работаю братом милосердия в больнице, — ответил он спокойно и отвернулся от меня.
В ту ночь я долго бродил вдоль берега. Я чувствовал себя как ребенок, которому дали по уху. Несколько человек пытались заговорить со мной, но я увернулся от них, обогнул весь пляж и под утро вернулся в свою берлогу. Усталость моя была слишком велика, чтобы включать приемник. Я сел в кресло и задремал. Был уже полдень, когда я проснулся. Во сне я находился где-то далеко и впутался в какой-то спор, обрывки которого еще клубились в моем сознании. О чем спорили, я не помнил. Знал только, что доводы моего оппонента были блестящими и убедительными, а я лишь твердил, как болван, одно и то же. Уцепился за какое-то слово и повторял его без конца. И чем больше повторял, тем больше расплывалось от удовольствия лицо моего противника. В конце концов он прекратил излагать свои веские доводы, и язвительная насмешка, насмешка победителя, тронула его губы. Я собирался сказать ему: «Не насмехайся прежде времени» — но поперхнулся словами.
Я сделал себе кофе и сел к столу. Крепкий кофе проник в желудок, оживил мои внутренности и вытеснил из головы кошмар. Под вечер я спустился в лавку, купил самое необходимое и вернулся домой с твердым намерением взять себя в руки, встряхнуться и собраться с силами.
Не прошло и часа, как в мою дверь постучал почтальон и протянул мне письмо, отправленное экспресс-почтой. Такие письма, как и заказные, я получаю только от моей бывшей жены. «Счастливого дня рождения, — писала она на розовой поздравительной открытке, — желаю долгих лет счастья и здоровья». Я хотел разорвать открытку и бросить в мусорное ведро. Мысль, что она, после стольких лет разлуки, всё еще помнит мой день рождения, всколыхнула во мне затаившуюся тоску. Я положил письмо на стол и поспешно вышел из дому.
По дороге я вспомнил, что уже много дней мешкаю с ответом Тине. В последнем своем письме она с похвалой отзывалась об одном библейском отрывке, упоминала нашу исследовательницу Танаха[2] Нехаму Лейбович, которая открыла ей глаза на многие важные вещи и прояснила туманные места. Это спокойное деловитое письмо заставило меня расплакаться.
Глава 7.
Сказать по правде, в сентябре случаются и приятные сюрпризы. Всё больше и больше наших людей заполняет берег. Порой они выглядят, как бойцы секретного десантного отряда, только что вернувшиеся издалека. Они всегда бредут в одиночестве, не смешиваясь с толпой, великая тайна пролегает между ними и всеми остальными созданиями. Иногда мне кажется, что они месяцами упражнялись в молчании и теперь уже не нуждаются больше в словах. Речь, даже краткая и сдержанная, претит им. В свое время я полагал, что наглая, сотрясающая округу музыка только меня доводит до бешенства. Я ошибался. В последнее время я всё чаще замечаю одного из наших, втолковывающего со свирепым видом: пробивающая уши музыка — извольте у себя дома, но не в общественном месте!
Несколько дней назад пришло письмо от Тины. Она описала мне систему своего чтения. Каждый день она прочитывает три главы из Ветхого Завета и одну из Нового. Вначале она чувствовала большую склонность к Новому Завету, но теперь научилась ценить точное описание, покой и вдумчивость, исходящие от древних слов. Мне нравятся ее теории и вкрапленные тут и там замечания. Иногда мне кажется, что она отправилась туда не для того, чтобы переменить веру, а лишь для того, чтобы научиться читать Танах.
Я тотчас ответил ей и сообщил, что и тут еще не окончена битва. Ужасающая жара, удручающий гвалт и пустота пожирают всё ценное и доброе, хотя на определенных участках тель-авивского пляжа после полуночи можно видеть наших людей, которые сражаются со всем тем, что терзает и распинает тишину. Не скрыл от нее, что пристально наблюдаю за ними, уважаю их молчаливость и горжусь ими.
На этой неделе в одну из ночей на берегу появился некто из наших с двумя корзинками в руках. В одной лежали бутерброды, в другой — бутылочки с соком. Он шел от человека к человеку, каждому вручал бутерброд и бутылочку и, ничего не потребовав взамен, удалялся. В его щедрости просвечивало какое-то застенчивое благородство, покорившее мое сердце. Я порывался подойти к нему и поблагодарить, но долго не решался, под конец всё-таки подошел и сказал:
— Спасибо за угощение.
— Не за что, — ответил он и улыбнулся, как ребенок.
— Вы не просто одарили нас, вы преподнесли нам урок доброты, — произнес я отчего-то преувеличенно громко.
— Что вы, я никого не собираюсь учить, просто я люблю делать бутерброды — вот такие продолговатые и узкие. Сок я тоже выжимаю сам.
— Вы каждый день приходите сюда?
— Нет, только два раза в неделю — в те ночи, когда не работаю.
— А где вы работаете?
— Сторожу еще не сданные в эксплуатацию здания.
— Хорошее занятие, — одобрил я.
Он пожал плечами, словно говоря: «Мне нравится это делать».
Я хотел выразить ему свою симпатию и умножить похвалы, но в душе понимал, что ему это не требуется и может только смутить его.
В эту ночь я видел во сне свою молодость — те дни, когда после войны я ворочал большими делами в Германии: продавал оружие подпольщикам Африки и католикам Северной Ирландии, а также отдельным группировкам повстанцев Южной Америки. Это было опасное занятие, но оно будоражило омертвелую душу. Если бы не определенные осложнения и мои собственные промахи, я был бы сегодня мультимиллионером. Впрочем, мне и так грех жаловаться: я обеспечен и имею возможность поддерживать других. Иногда я мечтаю о настоящем большом бизнесе, солидных предприятиях, раскинувших свои филиалы на разных континентах. Было время, когда я надеялся, что эту мечту когда-нибудь осуществит мой сын, но он, как видно, не собирается этого делать, и теперь уже сомнительно, чтобы сам я занялся этим.
Глава 8.
В сентябре или начале октября появляется мой сын Эмиль. Он одаривает меня своими визитами два раза в год: в сентябре и в марте. Иногда он звонит, но, если не считать этих двух мимолетных посещений, мы не видимся.
Когда он стучит в мою дверь, я весь напрягаюсь. Мне трудно переносить его. Каждая встреча с ним для меня нож острый. Спешу пояснить: в целом он ничем не отличается от большинства человеческих созданий — ни манерой поведения, ни разговорами. Напротив, можно охарактеризовать его как человека положительного и уравновешенного, вся беда в том, что как личность он полная противоположность мне. Некоторые свои качества, не стану отрицать, он позаимствовал и у меня, но всё прочее в нем от матери: телосложение, жесты, образ мыслей — всё. Когда он был моложе, я еще надеялся, что это как-то изменится. Не то чтобы я жаждал видеть в нем самого себя, но всё-таки хотел, чтобы он не столь явно напоминал мать. Эта надежда быстро рассеялась. Черты матери проступали всё отчетливей. Теперь он — ее полная копия. «Человек не имеет права быть копией!» — хочется мне воскликнуть в каждую из тех минут, когда он рядом. Эти черты, как видно, не подлежат истреблению. Они пустили глубокие корни в каждой его жилке и, что еще страшнее, в мыслях. Таких же мелочных и практичных, как у матери. Тот факт, что мой сын — владелец мини-маркета, казалось бы, не должен удручать меня. Многие достойные люди с развитым воображением и возвышенными устремлениями ведут мелкие дела — по собственному желанию или в силу обстоятельств. Человек может владеть мини-маркетом и быть значительной личностью. Но мой сын Эмиль насквозь, с головы до ног, мелкий торговец. По-моему, он обожает свое занятие и погружен в него с головой. Я мог бы успокоиться и сказать: прекрасно, человек доволен своим положением. Но что делать, если мысль об этом неотступно гложет и пожирает меня — да, систематически гложет и пожирает. Когда я просыпаюсь ночью, перед глазами мгновенно вспыхивает мучительная картина: Эмиль со своим мини-маркетом. И я содрогаюсь всем телом.
Ему было пять лет, когда я развелся с Фридой. Я видел его раз в неделю, иногда чаще. В эти краткие часы, отданные в мое распоряжение, я пытался посеять в его душе мои размышления и стремления. Иногда мне казалось, что он что-то усваивает, но годы, его мать, окружавшие его друзья сделали свое дело. Я не имел никакого влияния на его развитие. Не раз я задерживал его у себя до позднего вечера, чтобы он увидел море и наших людей. Я терпеливо внушал ему, что мы — я, а в силу этого и он — отличаемся от других людей. Отличаемся, потому что видели и слышали такое, чего другие люди не видели и не слышали.
Когда он был мальчиком, мои разговоры занимали и волновали его. Он то и дело задавал вопросы, и я с великим рвением множил и нагромождал слова. Говорил о благородстве, о возвышенном и свободном образе мыслей. Я объяснял ему, что на нас лежит ответственность за сохранение человеческого в человеке. Я любил его вопросы и в глубине души надеялся, что когда-нибудь, в один прекрасный день, он наберется мужества и восстанет против матери, придет ко мне или убежит из дома и станет жить в другом городе. Даже намекал, что, если он надумает поехать за границу, я помогу ему.
Но чем старше он становился, тем заметнее слабел его интерес ко мне. В его вопросах начала проскальзывать тень подозрительности. Это одновременно и бесило меня, и заставляло опускать руки. Но я еще не отчаивался. Одержимый желанием повлиять на сына, я лез из кожи вон, я так старался, что и самому себе начинал казаться выспренним и неестественным.
Год от года он всё больше походил на мать. Однажды, когда ему уже исполнилось семнадцать, он вздохнул и сказал:
— Папа, я не понимаю.
— Даже после того, как я объяснил тебе?
— Да, не понимаю.
— Чего ты не понимаешь?
— Ничего.
— Я готов начать с начала, — произнес я с невольным раздражением.
— Не нужно, папа. — Он улыбнулся, как будто поймал меня с поличным.
Я понял, насколько глубоко засела в нем мать. Топором не вырубишь.
Глава 9.
Когда он явился позавчера, мне вдруг показалось, что он сделался выше. Я знал, что в его возрасте уже не растут, и тем не менее глупейшим образом заметил:
— Ты подрос, не так ли?
Он опустил голову и ничего не сказал.
Мы не стали задерживаться в квартире и отправились в кафе. Отхлебнув кофе, я стал ждать, пока он изложит свою просьбу. Ему, как видно, нелегко просить. «Папа, у меня к тебе просьба», — начинает он обычно, и это слово — «папа» — более всего вгоняет меня в дрожь. На этот раз я откликнулся совершенно спокойно:
— Какая именно?
— Я хочу расширить мини-маркет, — без обиняков приступил он к делу.
— Каким образом?
— Есть возможность приобрести парфюмерный магазин, который примыкает к нему.
— Во что это обойдется? — Он назвал сумму. До сих пор он не отваживался заговаривать о таких деньгах.
— Нужно подумать, — сказал я.
Если бы каждое его слово и каждое движение не так безнадежно напоминало мать, полагаю, мне было бы легче разговаривать с ним. Это сходство, что поделаешь, действует на меня отвратительно.
Сегодня Эмилю тридцать. С годами в нас обоих развилась взаимная недоверчивость. Я, во всяком случае, приучил себя быть немногословным. Иногда мне кажется, что и он неразговорчив не только потому, что ему не хватает слов. Сидит, тупо вперив в меня взгляд или, наоборот, опустив глаза. Из него трудно вытянуть законченное предложение. Удивительным образом я тоже теряю возле него способность нормально разговаривать. С трудом выдавливаю из себя корявые отрывистые фразы, слова путаются, утрачивают смысл и порядок. Если уж быть откровенным до конца, в его присутствии меня охватывает настоящее смятение. Он хорошо сделал бы, если бы вообще не появлялся. Я встречаю его без малейшей радости и поневоле невнимателен к нему.
Внешность Эмиля может ввести в некоторое заблуждение. Он широк и крепок, как его мать, но далеко не так проворен. Реакция его всегда запаздывает. Иногда мне кажется, что все мои объяснения вообще отскакивают от него. Или застревают где-то на полдороге. Из-за этого ощущения я по два или даже три раза повторяю одно и то же — что, по-видимому, утомляет его. Но так же, как мать, он терпелив, бесконечно терпелив, трудно вывести его из себя.
Уже пять лет, как он женат. Детей нет. Я не спрашиваю, почему нет детей. Не люблю, чтобы копались в моей жизни, и не пытаюсь совать свой нос в чужую. Однажды, правда, он как-то мельком намекнул, что его жене не удается забеременеть. Я не стал интересоваться почему. Прежде, впустив его в квартиру, я предлагал ему чашечку кофе, мы сидели в гостиной и неторопливо отхлебывали его. Но постепенно я понял, что эта интимная обстановка не доставляет удовольствия ни мне, ни ему, гораздо лучше сидеть в кафе, в окружении посторонних людей.
Со временем я также понял, что и продолжительное пребывание в одном месте нежелательно. После часа в кафе мы перебираемся в ресторан. Вспомнив, что он хочет расширить свой мини-маркет, я спрашиваю:
— Это твоя инициатива?
— Моя, — говорит он, и счастливая младенческая улыбка озаряет его лицо.
— А ты не думал когда-нибудь о супермаркете? — принимаюсь я за свое.
— Нет.
— Большие начинания расширяют горизонты, не правда ли?
— Правда, — соглашается он и тут же прибавляет: — Если я приобрету эту парфюмерию по соседству, у меня появится дополнительный торговый зал, а это уже настоящий мини-маркет.
— И это всё, к чему ты стремишься?
— Больше мне не требуется.
Я смотрю на него, и сердце мое сжимается от жалости. Но к этой жалости примешивается досада.
Глава 10.
Разделяющая нас стена с каждым годом становится выше. Он окончил армейскую службу, женился и купил себе этот дрянной магазинчик. Я помог ему купить его, но мысль, что мой сын, плоть от плоти моей, всю свою жизнь проторчит в этой мерзкой лавке, терзала меня неотступно.
«Собственная лавка, твоя собственная лавка!» — заветная мечта его матери. В какой-то момент, чтобы угодить мне, он присвоил этой жалкой лавчонке наименование «мини-маркет».
— Почему бы не открыть завод? — пытался я расшевелить его воображение.
Но наставления матери были, как видно, сильнее моих утопий. Она обожала повторять: «У моего деда была лавка, у моего отца была лавка, и все были прекрасно устроены». Тем самым раз и навсегда был положен предел его устремлениям. Она издевалась над любым смелым и значительным замыслом. Утверждала, что подобные выдумки потворствуют авантюрам. Я знал об ограниченности ее взглядов, но не мог поверить, что такое крупное тело, как у нее, удовольствуется столь малыми жизненными масштабами. Во время предыдущей нашей встречи я не удержался и сказал ему:
— Устав нашего ордена не строг, но одно требуется от каждого его члена: стремление к великим свершениям. Ты не обязан владеть большими средствами, но должен быть преисполнен дерзновенных замыслов.
Он глянул на меня так, будто я окончательно выжил из ума, и сказал:
— С меня достаточно того, что у меня есть.
— Я вижу.
— Ты считаешь, что со мной что-то не в порядке?
— С тобой всё в порядке.
Наши встречи, как я уже отметил, становились всё более редкими. Теперь мы видимся два раза в год. Я приглашаю его в кафе, затем в ресторан, как бы между прочим вручаю ему чек, и мы расстаемся без лишних нежностей и церемоний. Каждый следует своим путем. Несколько раз он удивил меня, явившись с женой. Жена постепенно сделалась весьма похожей на него. Увесистая, застенчивая и немногословная. Можно даже сказать, косноязычная — на ней тоже лежит печать лавки.
— Как дела? Как ваши успехи? — бессмысленно повторял я.
Его просьбы всегда были скромными. Новая мебель в гостиную или холодильник для магазина. Трудно уважать и ценить непритязательность, проистекающую от узости взглядов, но я, как идиот, всё еще надеялся, что в один прекрасный день что-то изменится. Что-то прорвется в его душе и выплеснется наружу — раздражение, гнев, бунт, стремление повидать свет, попутешествовать или хотя бы желание поразить меня новой, непривычно свободной одеждой, которая соответствовала бы его габаритам. Никаких изменений не происходит. Напротив, от года к году он всё прочнее укореняется в своем мелочном бескрылом мирке. Лицо его становится всё шире, какая-то красная сыпь идет по щекам, как у существ, обитающих в затхлых помещениях. В последнюю нашу встречу мне почудилось, будто что-то барахтается и колотится в нем, рвется наружу, какое-то запоздалое желание вырваться из клещей матери и жены. Я едва не сказал ему:
«Беги, высвобождайся из этих пут, пока ты еще в силах, — не бойся, я помогу тебе!»
Он, разумеется, тут же струсил, опустил глаза, но грузное тело еще взывало: «Я не знаю, что делать».
«Ты знаешь. Такому сильному человеку, как ты, дозволено однажды повысить голос!» — почти выкрикнул я.
«Я не знаю, что делать», — настаивал беспомощный взгляд, а на лице отразилась неспособность выразить даже эту нехитрую мысль словами.
«Ты знаешь. Если не знаешь ты, знают твои руки!»
Могучее тело сжалось от растерянности и как будто пролепетало: «Зачем ты заставляешь меня делать то, на что я не способен?»
«Я не заставляю, — внушал я ему, буравя его взглядом, — я только прошу, чтобы ты постарался, капельку постарался. Ты — мой сын и поэтому, как и я, принадлежишь к нашему ордену. Наш орден невелик, но, поверь, он очень престижен. Состоять в его членах — большая честь».
«Какой орден?» — едва не раскрыл он рот.
«Наш орден».
«Это тайный орден?»
«Нет. В любую ночь можно увидеть его».
Глава 11.
Мы сидели в ресторане на своем обычном месте, как уже привыкли сидеть дважды в год, и в какой-то момент мне показалось, что всё еще обойдется, как обходилось всегда. Поедим, обменяемся несколькими ничего не значащими фразами, я вручу ему чек, и он отправится своей дорогой, а я — своей. Но он вдруг поднял глаза и спросил:
— Чем ты сейчас занимаешься, папа?
Я настолько удивился, что невольно в свою очередь произнес:
— Почему ты спрашиваешь?
— Просто так.
— Странно… Ты никогда не интересовался.
— Верно, — согласился он.
— Но если уж ты спросил, я скажу. Слушаю музыку, читаю сочинения Примо Леви и брожу ночами по пляжу.
Выслушав мой ответ, он повесил голову и замолчал — как будто я отчитал его за какую-то провинность.
— Но ведь было время, когда ты работал, не правда ли? — снова спросил он, уже с некоторым вызовом.
— Это было давно.
— Чем ты тогда занимался?
Это было произнесено таким тоном, которого прежде я никогда не слышал от него.
— Сложно объяснить, — пресек я неуместное любопытство.
— Я давно хотел спросить тебя, но не решался.
— Жаль, очень жаль… — протянул я зачем-то и добавил: — Жаль, что ты пошел по стопам своей матери.
— Что ты имеешь в виду? — Он вскинул глаза.
— Мне трудно объяснить тебе. Скажу лишь одно: ты погряз в мелочности и ничтожности. Я хотел направить тебя по другому пути. Нашим людям не положено заниматься пустяками, понимаешь?
— Нет, не понимаю. — Мне почудилась в его голосе едва заметная нотка высокомерия.
— Если не понимаешь, я вряд ли смогу объяснить тебе. И всё-таки скажу: долгие годы я ждал, что ты придешь ко мне и спросишь: «Папа, почему ты не такой, как все остальные люди?»
— Я хотел спросить, но боялся.
— Боялся? Меня? Я что, когда-нибудь ударил тебя?
— Нет.
— Так почему же ты боялся?
— Ты всегда молчал, — сказал он и с облегчением улыбнулся, как будто преодолел какое-то препятствие, годами возвышавшееся перед ним.
Я хотел подняться на ноги — в этот час мы обычно прощались, но почему-то не поднялся, а продолжал:
— Все эти годы я надеялся: то, что бьется во мне, когда-нибудь застучит и в тебе.
— Что же это?
— Ты прекрасно знаешь.
— Я не понимаю, — сказал он и дернул могучим плечом.
Мне показалось, что на его непроницаемом и невыразительном лице застыла презрительная усмешка. Как будто он долго взбирался в гору и наконец достиг такого места, откуда ему позволительно насмехаться надо мной и разоблачать мои замыслы, называть их, как выражалась его мать, бредом и манией величия.
— Я не в состоянии объяснить тебе, но запомни: большие дела, подобные тем, которыми заправлял я, совершают не легковесные фантазеры. Тут требуются основательность и размах. Только твердость духа и широта взглядов приводят к высотам. И еще музыка. Теперь ты понял?
Его широкое лицо опять расплылось в снисходительной усмешке, как будто я ляпнул какую-то глупость.
— Можешь смеяться сколько тебе угодно.
— Я не понимаю тебя, — повторил он, снова дернув плечом.
В этом движении заключалось всё, что я ненавидел в нем.
Я поднялся на ноги и сказал:
— Поступай как знаешь. Я не намерен вмешиваться в твои дела и не скажу тебе больше ни слова. В один прекрасный день тебе сообщат, сколько ты унаследовал. Но отныне и впредь, будь любезен, не приходи ко мне.
Глава 12.
Был уже вечер, а я всё еще бродил вдоль набережной. Досадный разговор с Эмилем не шел у меня из головы, но боли я не чувствовал. Мне почему-то казалось, что он вот-вот вернется, и я отдам ему злополучный чек, который позабыл выписать. Тишина становилась всё более глубокой и стылой. Не отдавая себе в этом отчета, я остановился возле кафе «Двора». Хозяйка обрадовалась мне, поинтересовалась моим самочувствием и тотчас принесла чашечку кофе и булочку. Я поблагодарил ее и сел за столик. Однако перед глазами мгновенно всплыло широкое, победоносно улыбающееся лицо сына. Я пытался отогнать от себя это видение, но улыбка неудержимо расплывалась и розовела на его губах. Я поспешно расплатился и вышел.
Молчание вокруг было тугим и мрачным, но издалека моих ушей достиг какой-то тонкий прокалывающий звук — достиг и принялся сверлить мои внутренности. Я попытался не обращать на него внимания, и на какое-то мгновение мне показалось, что он оставил меня. Я ошибся. Звук истончился и с новой силой впился в мои уши. Я изменил направление, но он последовал за мной. Я закричал:
— Хватит! — как будто в моей власти было отогнать и усмирить его.
Я ускорил шаги, как делаю всегда, когда меня преследует наглая музыка, но на этот раз это был не транзистор, а лишь однообразный звук, исходящий непонятно откуда.
После часа утомительной ходьбы я, кажется, напал на источник звука. Какой-то мужчина сидел у кромки воды и слушал музыку. Сама музыка была негромкой, едва слышной, но вместе с ней из транзистора вырывался какой-то тончайший свист, продолжавший терзать меня.
— Господин! — воскликнул я, опускаясь перед незнакомцем на колени. — Я буду весьма признателен вам, если вы уменьшите звук. Я знаю, громкость ничтожна, но что делать, ваш транзистор просверлил мне уши!
— Я не понимаю вас, — ответил он и дернул плечом — в точности как мой сын.
— Я признаю, — продолжал я смиренно, — звук не громкий, возможно, он даже не может быть тише, но голова моя раскалывается. Я понимаю, вы не виноваты, но если вы сжалитесь надо мной и выключите транзистор, я дам вам двадцать долларов. Это просьба — поверьте, не требование, а всего лишь нижайшая просьба!
— Чего ты хочешь от меня? — спросил он, склоняясь ко мне плечом.
— Мне больно, невыносимо больно! Неужели вы не видите, как мне больно? — воззвал я к нему, как к брату.
— Не выдумывай, музыка почти не слышна.
— Но я слышу!
— Так заткни уши ватой! — рявкнул он.
— Смилуйтесь надо мной! — взвыл я, теряя самообладание.
— Убирайся отсюда! — он приподнял правую руку и отмахнулся от меня, словно я был не человеком, а надоедливым комаром.
Это движение окончательно вывело меня из себя, и я ударил его. Человек, выглядевший приземистым и щуплым, мгновение назад расслабленно внимавший звукам транзистора и погруженный в свои думы, упругим спортивным прыжком вскочил на ноги и нанес мне точный жесткий удар. Я очень хорошо ощутил его кулак и кровь, хлынувшую из раны, но тут же пришел в себя и ответил ему градом ударов. Он не сдавался. Я понял, что это один из наших. Возможно, мы сидели с ним в одном и том же гетто или лагере, или шагали рядом в том марше смерти, от которого уцелели очень немногие… Я понял всё это и тем не менее не остановился.
Под конец выдохся не он, а я. Как видно, потерял сознание. Очнувшись под утро, я увидел себя распластанным на песке. Всё тело болело, кровь, запекшаяся на лице, бритвой вспарывала кожу. Я не мог вспомнить черт моего противника, но отчетливо помнил его мгновенный прыжок. Испытанная комбинация на этот раз не удалась, он опередил и превзошел меня во всем.
Наконец я кое-как поднялся на ноги и потащился в свою берлогу.
1999
Примечания
1
Леви Примо (1919–1987) — итальянский писатель, поэт, публицист. В годы второй мировой войны был заключенным Освенцима, выжил и вернулся в родной Турин. О жизни в лагере и об освобождении написал в своих книгах «Человек ли это?» и «Передышка» (вышли в России в издательстве «Текст» соответственно в 2001 и 2002 годах).
(обратно)2
Танах — общее название всех трех разделов еврейской Библии (в христианской традиции — Ветхого Завета): Торы (Пятикнижия), Невиим (Пророков) и Ктувим (Писаний).
(обратно)





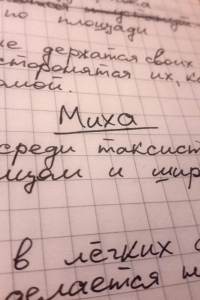


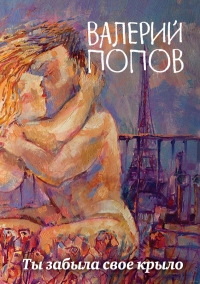




Комментарии к книге «На обочине нашего города», Аарон Аппельфельд
Всего 0 комментариев