Александр Алексеевич Лапин Волчьи песни
© Лапин А.А., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
От автора
«Волчьи песни» – продолжение уже вышедших романов «Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания» и «Вихри перемен», объединенных общим названием «Русский крест». В этом большом произведении я пытаюсь не только осмыслить свой опыт, но и понять, как исторические события в масштабе огромной страны влияют на судьбы людей. Я хочу осознать, что может изменить человека, где его корни и внутренний стержень.
В новой книге я продолжаю рассказывать о судьбах четырех друзей детства. Они через многое уже прошли, многое им еще предстоит. Мои герои – свидетели драматичных изменений и событий, которые затронули Россию и бывшие братские республики после распада СССР. Путч 1993-го, Чеченская война, становление рыночной экономики – в новом мире сложно найти себя, еще сложнее не сломаться. Это время двойственное, как символ волка: для кого-то он – воплощение созидательной силы, защитник, а для кого-то – агрессия и разрушение. В такое время у каждого своя песня. Сохранят ли герои книги себя? Кто из них пойдет против течения, кто подстроится, кого жизнь и время перемелют, разнесут на куски, чтобы дать уйти в небытие или возродиться?
Так и было с моим поколением, которому в «лихие 1990-е» пришлось столкнуться с новой жизнью, подчас жестокой, но полной возможностей и перспектив. И мы, как и герои «Волчьих песен», в это странное время боролись, любили, искали себя.
Часть I Борискино царство
I
В некотором царстве, в некотором государстве жил Иван-дурак. Дурак-то он дурак, но власть любил. И, главное, везло ему. Так уж получилось, что царь-государь этой страны решил все в ней переделать. И позвал он в помощники полудурков со всего света.
Начали они перестраивать все: сносить стены, ломать окна, крушить мебель. Работают, стараются.
Наконец, разломали все, что можно. Сели посередине дворца. И думу думают. Что делать дальше? Плана-то совместного никакого нет.
А Иван-то дурак дураком, а помнит, что в конце каждой сказки он получает в жены царевну и полцарства в приданое. Вот он и говорит остальным полудуркам: а давайте царство поделим. И каждый в своем углу начнет строить, что захочет.
– А как же царь? – говорят остальные.
– А мы все сделаем потихоньку от него! – отвечает Иван.
Сказано – сделано. Съехались они в тайное место. Выпили хорошо. И стали царство делить. Ивану, как инициатору, дали огромный кусок – ровно половину. Остальное разобрали по себе.
Проснулся утром прежний царь. А царства-то и нету. Везде сидят свои князьки. И правят, как умеют.
Народ же чегой-то сумлевается. Говорит: «Конечно, сказки – дело хорошее. Но все они заканчиваются на получении Иваном половины. А вот как дурак потом правит своим полцарством – ни гу-гу! Боязно нам!»
А Иван ездит по городам и весям. И народу обещает:
– Не пройдет и года, как потекут у нас молочные реки, кисельные берега. Все зацветет и запахнет! Есть у меня такие люди, такие советники, что стоит им чихнуть, как прибегает Сивка-Бурка, вещая каурка, да столько капусты приносит, что на всех хватит.
Ну, народ и поверил.
Сказка продолжилась. Стал дурак править. Перво-наперво решил добро, что осталось, раздать своим людишкам. Но не тут-то было! Боярская дума, будь она неладна, захотела его ограничивать. Там-то не дураки сидят. Ты, мол, давай сначала с нами посоветуйся. Да поделись! А уж потом… Но Иван не стал слушать Думу. У него в то время были свои советчики: вампир-кровосос, что все причмокивал, рыжий бес да дядька Черномор. Стали они его подзуживать: «Ты уже от царя-батюшки избавился. Так давай теперь и бояр “к ногтю”. Одним махом. А потом все добро и поделим».
А дураки, они, надо знать, люди падкие на такого рода советы, типа отнять и поделить.
По их советам Иван и сделал. Думу, которая должна была его уму-разуму наставлять, пушками разогнал.
И давай куролесить! Перво-наперво начал своих холопов награждать. Рыжий бес ему подсказывает, а царь-дурак вотчины без счета раздает.
Ну, хитромордые упыри, вурдалаки, вампиры, нетопыри и прочая нечисть к нему начали льнуть. Мы, мол, тебя, батюшка, обожаем. Уж так любим! В обиду народу не дадим.
Дурак радуется. И тем, кто хвалит его лучше всех, отдает нефтепромыслы, рудники, заводы, фабрики.
Только дядька Черномор не дал свою трубу распилить и растащить. Сел на нее, уперся. Не дам. И все тут.
Ну, и бог с ним, пусть забавляется.
Сидит дурак довольный. Правит по-царски. С утра придет на работу. Примет от души. И хоть трава не расти.
А народ-то взвыл. Раньше с этих нефтепромыслов, заводов да фабрик все как-то жили. А теперь упыри да вурдалаки никого не подпускают. Все ихнее. За границу продают. И деньги там складывают. Готовятся бежать вместе с добром, ежели народ пробудится и начнет их на вилы сажать.
Понял царь-дурак, что маху дал. Ан поздно уже. Народ от него отвернулся. Одни хитромордые вокруг. Ужаснулся он такому делу. Проспался с полупьяну. Вылез в окошко-телевизор. И стал просить у народа прощения.
Что ж, народ наш добрый. Незлобивый. Почесали «репу». Вздохнули. Простили. И отпустили дурака с престола. С миром.
Такая вот история получилась. Сказка – ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок…
II
Сладко спится народу в этот ранний час за кремлевской кирпичной стеной. Тишина и покой царят в этой цитадели державности и российского могущества. Дремлет брусчатая Красная площадь с языческой пирамидой Мавзолея и православным храмом Василия Блаженного. Мертвым сном спят в каменных саркофагах в Архангельском соборе великие московские князья и цари. Дремлют сизые голуби на башнях…
…Похрапывают и что-то бормочут во сне бойцы спецподразделения, разместившегося на ночлег прямо в огромном зале Кремлевского дворца съездов. Не спит только он – капитан Казаков. Молча лежит на своем бушлате в проходе между бархатными креслами, ждет позднего осеннего рассвета и думает горькую думу:
«Как такое могло получиться? Еще год тому назад эти ребята – Ельцин, Руцкой, Хасбулатов – были неразлейвода, друзья-демократы. А сегодня грызут друг друга безо всякой пощады. Сцепились, словно бешеные собаки. Делят власть! Да ладно бы занимались этим у себя на съездах и в кабинетах. Нет, они втягивают в драку весь народ! И нас тоже!»
Капитан потихоньку поднимается со своего импровизированного ложа и бредет через просторный холл, мимо спящих офицеров в туалет. Там долго плещет над белой раковиной водою в лицо, прогоняет остатки дремоты и тревоги – что день грядущий нам готовит?
Вчера вечером их собрали по тревоге. Экипировали, вооружили. И привезли сюда, в Кремль, поближе к начальству. Дело в том, что после августа девяносто первого победители сообразили, какую силу они имеют в лице этого спецподразделения и какую опасность оно представляет для власти. И сделали вывод. Надо держать супербойцов поближе к себе. Так группа перешла из подчинения «конторе» под непосредственное руководство федеральной службы охраны.
Для укрепления дисциплины из запаса привлекли бывших командиров. Обласкали их. И поставили задачу – повысить боеспособность до максимума.
Тренировки усилились. Но эффекта не дали. Потому что народ теперь стал больше думать. И, соответственно, лучше понимать, что происходит на самом деле.
* * *
Народ пробуждается в буквальном смысле. Навстречу ему по широкой беломраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, шагает лейтенант Петров в одной майке с перекинутым через плечо белым вафельным полотенцем.
– Доброе утро! – приветствует он боевого товарища, позевывая во весь свой щербатый рот.
– Доброе, коль не шутишь! Ты не сдаваться идешь с белым флагом? – буркает в ответ Анатолий, слегка удивляясь такому вот небоевому прикиду товарища: «Как-никак, а это Кремль, Дворец съездов. А он тут гуляет в неглиже».
– Анатолий Николаевич! – не обращая внимания на недовольный тон капитана, доверительно обращается к нему Михаил. – Тут, кажется, такой сюжет заворачивается, мама не горюй! Наших отцов-командиров пригласили к самому… – и Михаил показывает глазами вверх.
– Бойцы гудят!
– Ладно, иди мойся! Аника-воин! – усмехается, несмотря на холодок в груди, капитан. – А то на завтрак опоздаешь!
– Какой уж тут завтрак, в Кремле-то? – полувопросительно, полуутвердительно добавляет Петров.
– Вот и я говорю! – неопределенно хмыкает Казаков.
А в зале все уже проснулись. Кто сидит прямо в камуфляже в шикарных креслах. Кто лежит. Ждут. Переговариваются. А поговорить есть о чем. Информация поступает разноречивая и разноплановая. Красавец мужчина подполковник Горчаков, молодцеватый и подтянутый, рассказывает сидящим рядом офицерам о своих вчерашних вечерних приключениях по дороге на базу:
– Иду по улице. Сплошным потоком тянутся к телецентру зеваки. С детьми, собаками, семьями… На углу толпа ротозеев. Чуть поодаль горят троллейбус и большой рекламный щит. С той стороны, навстречу, подтягивается зеленая колонна бронетехники. В пламени огня вижу, что от колонны отделяется «коробочка»[1]. Ствол пулемета опускается. И она дает длинную очередь над головами тусовщиков. Небо темное. И трассер прямо расчерчивает его.
Но ротозеи продолжают глазеть… Я чувствую, что следующую бронетранспортер даст совсем низко. Кричу им: «Ложись! Ложись! Детей куда тащите, придурки!» И точно. Только успеваю упасть на землю, как он дает. Крупнокалиберные пули стригут ветки молодых березок, вырубают из стволов куски и щепки… Народ как стая бросается врассыпную…
Анатолий слушает его рассказ и думает: «Да, это не девяносто первый. Тогда стрелять боялись. Теперь все изменилось. Народ озлоблен. И уже готов идти стенка на стенку!»
– Товарищи офицеры! – раздается впереди зычная команда.
Из боковой двери в зале появляются одетые в полевую форму отцы-командиры: Карнухин, Алексин, Мальцев. Они взволнованы. Доносят чудные новости и приказы, которые получили сверху. До Казакова, стоящего в толпе офицеров, долетают и падают в зал, как увесистые камни, громкие слова:
– В Москве мятеж!
Мятежные депутаты Верховного совета заняли Белый дом! Сделали из него штаб по борьбе с президентом. И объявили президента низложенным… Вчера в столице захвачена мятежниками мэрия. Затем они направились в Останкино…
Был бой. Есть убитые и раненые… Ситуация накаляется с каждым часом… Руководство приказывает нам выступить на защиту законной власти…
Мы от имени всей группы уверили президента, что готовы приступить к операции… Может быть, придется штурмовать Белый дом…
Последняя фраза утонула в дружном, недоуменном гуле.
– Опять нас подставили! – злится стоящий рядом с ним усатый, как морж, Степан Михайлович.
– Мы крайние! – громко, чтобы было слышно, басит здоровенный подполковник Грачухин.
– Даже Грачев попросил в ответ на приказание штурмовать, чтобы ему дали письменный приказ… А нас, как всегда, и не спрашивают…
– Подставят, а потом бросят на съедение, – выкрикивает кто-то из середины группы.
Все они грамотные люди. Многие с высшим образованием. И прекрасно понимают, кто кому реально в стране подотчетен и должен фактически подчиняться. И, проще говоря, выходит, что сегодня Россия парламентская, а вовсе не президентская республика.
– Боязно, однако! – шепчет про себя Анатолий. – Как бы не вляпаться. – И добавляет уже погромче: – Кто тут прав? Кто виноват? На одной стороне – Ельцин и его люди, министр обороны, начальник ФСО. Вся исполнительная власть. На другой – опять же вице-президент, спикер парламента, всенародно избранные депутаты. Пойди тут разберись.
– Без бутылки ну никак, – горько смеется Мишка Петров.
Народ угрюмо и упорно молчит.
Казаков не так давно вывел для себя, как ему кажется, простую, но очень эффективную формулу поведения в таких нестандартных ситуациях, которыми сегодня так изобилует их жизнь. Если не знаешь, как поступить, поступай по закону. Но сейчас закона нет. Одна власть поднимается на другую.
И тут ему в голову приходит спасительная мысль. И он озвучивает ее немедленно:
– А пусть конституционный суд даст нам разъяснение по этому поводу!
– Точно!
– Правильно!
– Это будет справедливо! – подхватывают его идею стоящие рядом офицеры.
А там впереди ее уже через минуту передает начальству подполковник Горчаков.
– Что делать будем? – Мальцев, командир группы, Герой Советского Союза, слегка растерян. Он совсем недавно призван из запаса. Его поставили во главе спецподразделения. На него надеются. Ему казалось, что он-то знает каждую мысль, каждое движение душ своих подчиненных. А тут такой конфуз. Народ против. Требует решения Конституционного суда.
Командир в нерешительности обращается к своим заместителям повторно. Карнухин вытирает платком вспотевший лоб. И отвечает:
– Надо звонить шефу!
Это значит: самому Барсукову. Коменданту Кремля.
После по-военному недолгих телефонных переговоров отцы-командиры сообщают кучкующимся в зале спецназовцам:
– Ребята! Кто пойдет с нами на встречу? Давайте отберем людей авторитетных и принципиальных.
* * *
Не проходит и получаса, как они уже шагают по длинным кремлевским переходам и лестницам. И, наконец, всей своей небольшой и молчаливой, только на ходу перекидывающейся односложными замечаниями группой прибывают в зал Совета безопасности России.
Несколько минут стоят в нерешительном ожидании, поглядывая на «советскую роскошь отделки». Все здесь просто и примитивно. Это уже потом, через несколько лет, когда Ельцин окончательно забронзовеет, этот зал, впрочем, как и другие кремлевские покои, будет заново отделан и обставлен – роскошно, по-царски. А пока – спартанская обстановка. И они профессионально осматривают ее, ожидая и не ожидая какого-нибудь подвоха.
Обычно офицеры группы, как и все сильные, тренированные люди со здоровой, отрегулированной психикой, радушны и добродушны. Но сейчас они угрюмы и настороженны.
Появляется Барсуков. В генеральском кителе с большими звездами. Здоровенный, спортивный, щекастый, но уже слегка зажиревший детина. Глаза круглые, навыкате.
Здоровается с этими суровыми, много чего в жизни повидавшими мужчинами:
– Ну что, товарищи командиры? Есть проблемы? – начальник охраны старательно прячет за улыбкой свою тревогу и раздражение.
Но и он как-то тушуется, когда после взаимных рукопожатий, отдания чести, прищелкивания каблуками командир группы, особо не выбирая слов, по-военному докладывает:
– Группа не хочет идти на штурм. Личный состав считает, что все происходящее антиконституционно. И для выполнения приказа нам нужно решение Конституционного суда!
Такого еще не было никогда. Скорее небо упадет на землю, чем советский офицер откажется от присяги. А тут приказ не какого-то абстрактного военачальника, а самого Верховного главнокомандующего.
Но они уже не советские «винтики и шпунтики». За эти годы многое изменилось. В том числе и их взгляды.
Барсуков некоторое время переваривает эту информацию, серея лицом, но быстро справляется и так же официально-сухо говорит:
– С вами хочет поговорить сам президент! Через несколько минут он будет здесь!
И действительно, через какое-то время к ним заходит личный телохранитель Бориса Николаевича Коржаков. Высокий, под два метра ростом, человек необычайной физической силы, с жестким прямоносым лицом. Бросается в глаза зачесанная волосами залысина и тонкие, поджатые губы. Он, в отличие от Барсукова, в штатском. И так до сих пор не приобрел дворцового лоска. И, судя по всему, так и не научится тонким византийским интригам при дворе нового президента.
Следом открываются высокие двери в дальнем конце зала. И входит сам. Борис Николаевич. По мере его приближения к группе Анатолию становится видно, что президент не выглядит свежо и бодро. Он, мягко говоря, слегка помят и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Бессонная ночь и «тяжелые переживания» оставили свой отпечаток в виде набрякших под глазами мешков, неровной походки и трясущихся рук.
Раздается команда генерала:
– Товарищи офицеры!
Все по привычке вытягиваются в струнку.
Ельцин смотрит на них внимательным и холодным взглядом.
«Как кобра», – думает капитан в ту секунду, когда взгляд президента скользит по нему. Понять его можно. Ему сейчас надо переубедить их. Переломить настроение. Потому что на данном этапе от этих мускулистых парней зависит и его личная судьба, и судьба государства. А сегодня уже совсем не те времена, когда люди безоговорочно верили, валом валили за ним и вслушивались в каждое сказанное им слово. Прошли те золотые денечки безграничной власти над толпами. Теперь надо напрягаться и убеждать. А это ох как сложно тем, кто привык просто властвовать. И повелевать.
Бледный и явно не готовый к дискуссии, президент в сопровождении адъютанта движется по залу как сомнамбула. И наконец останавливается перед ними.
– Вы будете выполнять приказ президента?! – суровым, замороженным голосом произносит он то ли вопрос, то ли утверждение.
Вот так, а не иначе. О себе в третьем лице. Ни мой приказ, ни Ельцина. Президента.
Но в ответ – тишина.
И тогда он в буквальном смысле слова с трудом «выталкивает» из себя короткую, не очень внятную речь. Общий смысл ее с большим трудом доходит до собравшихся. Капитан Казаков запоминает только отдельные фрагменты и пассажи. Что-то вроде:
– Советы хотят взять реванш. Они решили развязать гражданскую войну. Как Верховный главнокомандующий я этого не допущу… Товарищи, вы должны спасти демократию… Вы обязаны выполнить приказ. Выполняйте и не мучайтесь сомнениями. Никто за это отвечать не будет. Я за все отвечаю!
И пока он все это говорит, Анатолий смотрит на него и думает: «Странное дело. Мы привыкли верить, что во власти находятся какие-то особенные люди. Не чета нам, дуракам. А что я вижу сейчас? Самого обычного человека. Обычного русского мужика. Слегка одуревшего от свалившейся власти. И от выпивки. Не блещущего интеллектом, не имеющего, собственно говоря, никаких особых заслуг. Так – провинциальный секретарь обкома.
Просто попал человек в струю. Народ искал себе кумира, который поведет его в неведомое царство свободы и блаженства, туда, где будут течь молочные реки с кисельными берегами. И он попался на глаза. Гонимый, обиженный, значит, хороший. И вот он уже президент».
В этот момент Борис Николаевич запинается и, прервав свой монолог, резко развернувшись на каблуках, идет к выходу.
Он удаляется. И удаляется, судя по всему, разочарованным.
Видно, что расстроены и люди его свиты. Особенно главный охранник Коржаков. Он понимает, что после этой явно неудавшейся встречи никто не воспылал любовью и преданностью. Так что, судя по каменным лицам офицеров, выезжать на подавление «мятежа» они не собираются. Огорчение телохранителя еще сильнее от того, что он, как человек умный и предусмотрительный, много сделал для поддержания боевого духа этого подразделения.
И вот теперь такой облом!
Для командира спецгруппы боевого, преданного офицера это, похоже, тоже трагедия.
Он сделал все, что мог, чтобы привести спецназ в боеготовность. Уволил людей с сомнительной репутацией. Запретил заниматься «бизнесом». Увеличил нагрузки на тренировках.
Но сегодня речь идет не о профессионализме. А об убеждениях, о выборе пути. И не только их спецгруппой.
Сам Мальцев за это утро как-то осунулся и поник. Человек величайшей храбрости, простой и понятный, он страшно переживает все происходящее. Задыхается от стыда за себя и своих офицеров.
Казаков, как и другие, видит переживания подавленного и убитого всем командира, лицо которого сначала белеет, как мел, а потом начинает алеть нехорошими пятнами. Но что он может сделать? Труднее всего идти против себя.
Расстроенный Коржаков уходит. Хлопает дверью. Не хотите разговаривать? И не надо! А вот их непосредственный начальник – парень «жох» – остается.
– Ну, вы чё, мужики?! – по-простецки начинает он свою игру. – Огорчаете президента, огорчаете меня! Что вы зациклились на этом Конституционном суде? Кто вас этому надоумил? Наше дело военное… Дали команду – выполняй!
Так начинается разговор как бы между своими парнями. И пусть один из них высокопоставленный генерал, а остальные рядовые офицеры, не искушенные в большой политике, но все-таки все они люди служивые, подневольные.
Барсуков ищет своими нахальными, навыкате глазами их глаза, ловит настроение, нюансы, мелочи, детали. Вспоминает заслуги ребят. Ругается.
В общем, работает, как заправский психолог или… торговец. Ищет контакты с группой. И, наконец, нащупывает.
– Да, мы бы выполнили эту задачу. Но уж больно все туманно, – откликаются на его упреки офицеры. Простые и искренние люди, они чувствуют себя тоже неловко, не в своей тарелке. Особенно молодежь.
И в конце концов, слово за слово, он втягивает их в свою игру. Они соглашаются, делают первый шаг.
– Давайте доедем до Белого дома! Ну и там посмотрим что да как.
– Мы ничего не обещаем заранее. Там решим.
Из Кремля автобусы, нагруженные спецназом в полной экипировке, трогаются в оцепеневший от ожидания ужасов город.
На посту у Боровицких ворот ни одного гаишника…
* * *
Выстрел! Бронированное чудовище выплевывает из ствола стопятидесятимиллиметровый снаряд и, словно живое существо, отряхивается от пыли, дыма, газов.
Это танки, стоящие в ряд на мосту через Москву-реку, ведут огонь по Белому дому, который сегодня уже вовсе и не белый. А серый от пыли, выбитой из его стен пулями крупнокалиберных пулеметов, и почерневший на фасаде от пожара, вызванного рвущимися внутри здания снарядами. Едкий, удушливый столб дыма поднимается вверх, то и дело окутывая закопченные часы на башенке и повисший от безветрия российский триколор.
При каждом танковом выстреле стекла в соседних домах вибрируют и рассыпаются. В здании же парламента они держатся. До последнего. От выстрелов из автоматов и пулеметов покрываются сетью мельчайших трещин. И только когда отверстий становится слишком много, вдруг, не выдержав собственной тяжести, глыбой, как ледяные айсберги, ухают вниз. И со взрывным грохотом рассыпаются на асфальте мелкими осколками.
Становится понятно, что их группа подоспела в самый разгар драмы. Но они не одни. Как и вчера, на месте столкновения полно зевак. Десятки тысяч людей. Их не пропускают. А они лезут, ползут. Прячутся за парапетами, укрытиями. Глазеют, как брызжет под очередями мраморная крошка, летит пыльным облаком штукатурка, рикошетят от бетона трассирующие пули.
У ребят настроение поганое. По дороге сюда от отчаяния чуть не застрелился командир. Едва вовремя остановили. А тут, похоже, события полностью выходят из-под чьего-либо контроля.
Им надо осмотреться. Охватить всю картину целиком. Но уже и так понятно, что конфликт между парламентом и президентом развивается по логике гражданской войны, в которой никогда не будет победителей. Все уже раскушали крови, с каждой стороны есть потери. Все готовы мстить. Пробуждаются звериные инстинкты человека на войне. И эта взаимная ожесточенность берет верх над разумом.
Неожиданно для самого себя Анатолий вспоминает какой-то слышанный в детстве рассказ своего деда, служившего в охране последнего русского царя: «Кто-то с крыши здания в Питере начал стрелять по военному патрулю на улице. Ну а робяты дали в ответ залп из винтовок. Так-то все и пошло-поихало. И дальше – бильше. Не остановить. С того усё и началось тады».
– Хорошо, что мы здесь не с самого начала. Еще не втянулись! – замечает сидящий рядом с Казаковым Мишка Петров.
«Значит, все тоже думают об этом. Тоже боятся», – думает Анатолий.
Они выгружаются из автобусов в непростреливаемом переулке между домами. И начинают изучать обстановку, местность всем знакома еще с августа девяносто первого.
Понятно сразу: тогда основная масса народа вышла на защиту Белого дома. Теперь – просто посмотреть, что будет.
Смотрят и они. Отсюда, если пройти метров четыреста, видно похожее на тюрьму краснокирпичное здание без окон. Американское посольство. На той стороне улицы, рядом с парламентом, Горбатый мост с декоративными стилизованными фонарями и черными металлическими цепями. Правее от него стоит памятник на черном гранитном постаменте.
Анатолий в бинокль долго разглядывает его. Видит словно рядом – рукой подать – мужика, рабочего с ружьем в руках и в фартуке. Бабу в кофте. Рядом с ними полулежит, видимо, раненый, кем-то подстреленный чугунный дед. Вся троица с ненавистью смотрит в сторону парламента.
Он переводит взгляд еще правее. На детский парк. «Красивый, – думает Казаков, мысленно прокладывая маршрут движения бойцов мимо фигурок разного рода сказочных героев. – Укрываемся в тени фигуры дядьки Черномора. Затем через шахматную площадку, минуя “золотого” короля и белую королеву, добегаем до двухэтажного здания – спортзала. Отдыхаем там, где на башенках голуби сидят. Да тут табличка какая-то висит!» Сильный бинокль позволяет ему хотя и с трудом, но все же прочитать надпись на ней: «Уважаемые посетители! На территории детского парка курить, распивать спиртные напитки воспрещается!» Неожиданно додумывается: «Добавили бы еще: и убивать людей тоже! А то снайперы со всех сторон лупят не разбирая. Всех, кто попадет на мушку! Если пойдем открыто, они и нас прищелкают, как уток на охоте».
Это понимают и все бойцы группы. Но с ними начальство. И ему нужен результат. Поэтому генералы так и сыплют предложениями:
– Ребята! Ребята! Давайте попробуем. Давайте выдвинемся!
Молодой офицер Геннадий Сергеев откликается первым:
– Дайте нам хотя бы «коробочки!» Мы согласны, на них продвинуться туда можно. А так идти голопузыми вперед просто глупо. Перестреляют!
Барсуков связывается по рации с министром внутренних дел Ериным. И минут через двадцать зазвенели по асфальту траками, лихо подкатили четыре боевых машины. За рычагами молоденькие тонкошеие пацаны, лихие губастые десантники в танковых шлемах с запыленными, усталыми лицами.
– Ну, ребята! Кто попытает счастья? – обратился к спецназовцам сам Барсуков.
Вместе с Сергеевым набралось восемь человек.
На место пацанов садятся опытные, закованные, как рыцари, в броню спецназовцы. Протискиваются в люки. Хватают рычаги управления. Дернули. И пошли, двинулись колонной к горящему, обгрызанному снарядами и пулями «торту».
Капитан Казаков молча сидит в бронированном чреве БМД. Слушает, как пули изредка щелкают по стали и с гулом рикошетят в воздух. В эти минуты он думает о том, какая такая сила роковая влечет его туда, где стреляют и кипят страсти. Вспоминает, как его когда-то на заре прихода в комитет проверяли на различных тестах. И врач-психолог сказала ему, что он авантюрист по натуре.
«Наверное, так оно и есть. Ну, чего меня понесло сейчас в пекло, под пули?»
БМД резко тормозит. Вся бронированная масса корпуса уходит вперед, а гусеницы встают как вкопанные. Он громко стукается головой в каске-сфере о броню. И осторожно выглядывает наружу через башенный лючок. Оказывается, передняя машина остановилась на улице у лежащего на асфальте тяжело раненного десантника…
В ней открывается задний люк. И оттуда вылезает высокая фигура в шлеме и бронежилете.
«Это же Сергеев Гена! Что он делает? – с тревогой думает Анатолий. – Здесь же все на хрен простреливается снайперами!»
Геннадий подходит к поверженному, истекающему кровью человеку. Чуть поворачивает голову, словно оглядываясь. Наклоняется над раненым, чтобы взять его на руки. И… пуля снайпера бьет его прямо в не прикрытую бронежилетом поясницу. Он, как стоит, сразу рушится на раненого…
– С-с-сука! – как от боли, будто его самого смертельно укусила стальная оса, кричит Казаков. И в бессильной ярости бьет кулаком о броню.
Сделать ничего невозможно.
Сидящий на месте водителя старший лейтенант Кротов дергает рычаги, и их «коробочка», вздыбившись, как конь, с места подскакивает к упавшим.
Они ставят боевые машины рядом так, чтобы под их прикрытием можно было затащить раненых внутрь.
Через некоторое время это удается. Раненый молодой, безусый, смертельно бледный десантник еще подает признаки жизни. А вот их товарищ – нет.
Анатолий знает этот подлый трюк. Снайпер мог запросто добить раненого, но он специально оставил его живым, чтобы стоны и крики привлекли к нему других. Расчет на то, что бойцы не бросят своего. Придут на помощь.
Так оно и получилось. Генка попытался и попал под пулю.
– Подонок! Сволочь! Мразь! Ублюдок! – ругается по рации старший лейтенант Кротов, докладывая обстоятельства гибели товарища. И, «пришпоривая» своего боевого коня, выводит их из зоны поражения туда, где ждут санитары…
* * *
По одному, короткими перебежками они движутся вдоль паркового забора. И скапливаются перед Горбатым мостом у памятника восстанию 1905 года. Отсюда, вблизи, мостик выглядит как-то странно и дико. Речку, над которой он когда-то располагался, давным-давно пустили по какому-то совсем другому руслу. А сам мостик оставили в виде достопримечательности. Так что старинные чугунные фонари, цепи и черная, как бы чешуйчатая, брусчатка над асфальтом составляют полный контраст с окружающим миром.
Впрочем, спецназовцы в бронежилетах, сферических касках, наколенниках и прочей амуниции, похожие на средневековых ландскнехтов, тоже не слишком вписываются в общий пейзаж.
«Не слишком складно!» – думает Казаков, разглядывая их штурмовую группу и ожидая обещанного прекращения огня.
Через несколько минут стрельба по горящему зданию, похожему на разбитое осиное гнездо с выбитыми окнами-сотами, прекращается. Кто-то трогает Анатолия сзади за плечо и произносит просто:
– Ну, теперь пошли!
И перебежками, стараясь не попасть под обстрел, они движутся к ближайшему от Горбатого моста подъезду.
Вместе с первой группой бегут и гражданские. Какой-то парень в модной светло-коричневой тужурке и длинный, здоровый мужик в плаще. Похоже, это люди из федеральной охраны.
Вбегают в пустой подъезд. Видно, защитники парламента после «санобработки» танками и крупнокалиберными пулеметами ушли от греха подальше внутрь здания. Кто-то кричит оставшимся у мостика:
– Тут никого нет!
Через пространство тянутся и остальные.
А «передовики» движутся дальше.
На первом этаже стоит невыносимая вонь.
«Смесь сортира с лазаретом! – замечает про себя капитан. – Похоже, правду говорят, что тут отключили канализацию, воду и свет. А мусора сколько! Кругом какие-то бинты, вата, жратва, коробки, матрасы, пачки от сигарет… Одно слово – помойка…»
Они осматриваются. Шуршат по этажу. И снова вперед. Вперед.
Следующий этаж. Тоже никого. Но вдруг кто-то из-под лестницы по коридору хлещет очередью из автомата. Пули проходят мимо. Впиваются в стену. Анатолий машинально, автоматически стреляет вперед и рывком проскакивает опасное место. Но преследовать стрелявшего и убежавшего им ни к чему.
Теперь они двигаются осторожно, потихоньку, оглядываясь по сторонам и выверяя каждый шаг.
На третьем этаже – неожиданность. Кто-то с улицы лупит по стеклам из крупнокалиберного пулемета. Пули вгрызаются в стенку коридора, поднимая цементную пыль. Они падают на пол. Отползают, хватая воздух раскрытыми ртами.
Наконец, из-под подоконника полковник Грачухин связывается по рации со штабом, теми, кто остался внизу на улице:
– Мать вашу, кто стреляет? Мы на этаже!
– Да это, похоже, новенькие подъехали! – оправдывается штаб. – Сейчас угомоним.
Через несколько минут стрельба прекращается.
«Ну, слава богу! – думает капитан, отряхивая цементно-известковую пыль с амуниции. – Стихло! Кажется, стихло. Очень трудно остановить людей, которые уже привыкли азартно палить во все, что движется. Может, завтра они и пожалеют о том, что делали. Но сегодня…»
По коридору пятого, штабного этажа они скользят беззвучно, подобно теням. Наконец натыкаются на закрытую наглухо дверь. Прислушиваются. Подходят еще несколько бойцов.
– Кажется, там люди! – замечает кто-то.
Их учили при штурме здания надо сначала бросить в помещение гранату, а уже потом врываться внутрь. Молодой боец поднимает забрало каски:
– Я счас рвану дверь. И брошу туда гранату!
У Казакова шальные мысли: «Ни в коем случае! А если там сидят машинистки, секретари, стенографистки, уборщицы. Да кто угодно!»
– Стой! – и он хватает за руку бойца, уже готового выдернуть чеку:
– Ты что, с ума сошел?
Подходит начальник охраны президента Коржаков, а с ним тот самый, одетый в гражданскую куртку, парень. Зычно кричат:
– Кто внутри?
Оттуда слышен дрожащий от волнения голос:
– Мы депутаты Верховного совета. С нами женщины и сотрудники!
– Выходите! Мы ничего вам не сделаем!
За дверью тишина. Затем какой-то говор.
Приоткрывается щель. Оттуда выглядывает чья-то испуганная, озирающаяся физиономия. И дверь распахивается полностью.
Казаков заглядывает внутрь помещения. Там темно и тихо. Окна зашторены для светомаскировки.
Спецназовцы подтягиваются к двери и словно бы образуют своеобразный контрольно-пропускной пункт. Ждут наготове.
Через минуту выходит первый человек. Да не кто-нибудь, а знакомый всем по телевизору известный коммунист Иван Полозков.
Но им некогда разглядывать знатного коммуниста. Надо быстро прохлопать его по карманам. Проверить документы. И отвести в сторону.
Коржаков лично проверяет удостоверения, отбирает их и бросает в спортивную сумку.
* * *
Здание парламента огромно. И у каждого входа идет свой спектакль. Своя постановка. Своя драма. Ближе к вечеру, когда погас пожар и закончилась стрельба, начался последний акт.
Со стороны парадного подъезда собралась гигантская толпа, условно говоря, сторонников президента. Разномастный, пестрый народ глухо гудит и жаждет расправы. И, конечно, реагирует на все происходящее, как в детской игре. Помните: море волнуется – раз! Море волнуется – два! Но это внизу. На улице.
Внутри здания, в парадном подъезде, собираются депутаты, помощники, защитники. Они капитулировали. И теперь ждут своей участи.
Между двумя этими стихиями, на самом верху лестницы, стоит безымянный младший сержант милиции. Без бронежилета, в камуфлированном ватнике и с планшеткой на боку. Сержант – совсем молодой парень. У него круглое, доброе усатое лицо. Но сейчас он – единственная власть на этом пространстве нейтральной полосы. И толпа беспрекословно слушает его. Пока!
– Ребята из группы спецназа! – кричит младший сержант в сторону проталкивающихся вперед, раздвигая толпу, бойцов.
– Поднимайтесь сюда!
Они медленно отделяются от возбужденной толпы. И идут вверх по широким мраморным ступеням. Как же тяжелы эти шаги! Офицеры знают, что кругом полно тех, кто готов выстрелить им в спину.
Их учили штурмовать, стрелять, убивать. Но никогда не было задачи – развести враждующих, спасти от расправы проигравших. И, может быть, таким образом предотвратить братоубийственную гражданскую войну, которая уже маячит впереди, если события пойдут по негативному сценарию.
Сейчас этот одинокий младший сержант и есть та единственная сила, которая противостоит безумию. И они присоединяются к нему.
Николай Денисов, Иван Воронцов, Петр Темсаев, Владимир Сергеев, полковник Проценко – Анатолий понимает: выйдя на площадку перед Белым домом, они взяли на себя всю ответственность за ход событий. Их долг сегодня – не выполнять безумные приказы, а просто предотвратить дальнейшее кровопролитие. Трудная задача.
Они освобождаются от оружия. И проходят парламентерами в подъезд.
На пороге спецназовцев встречает бравый мужичок в берете морского пехотинца и с армейским автоматом в руках. Он ведет ребят дальше по лестнице. В зал заседаний.
Тут полно народа. Все смешались. И все хотят жить. На вошедших смотрят сотни глаз, в которых застыли страх и надежда.
Вперед выдвигается Владимир Сергеев:
– Дорогие отцы и матери! Я из группы спецназа! Мы получили приказ штурмовать Белый дом. Но мы пришли к вам безоружными. Мы не хотим причинить вам зло и смерть. Вы, находящиеся сейчас в зале, обречены. Нам дан приказ вас уничтожить. Но мы не будем этого делать. Нас снова хотят подставить. Я брал дворец Амина в Кабуле, брал Вильнюсскую телебашню, был в Карабахе и Тбилиси. И везде нас подставляли. Сейчас мы не хотим брать грех на душу, а хотим вас вывести живыми. Мы сделаем коридор, и вы проходите по нему наружу в безопасности. Если кто-то попробует в вас выстрелить, мы подавим их огнем. Вам подадут автобусы. И развезут по домам. Слово офицера!
Что тут началось! Народ, доселе молчавший, зашумел, заговорил, задвигался. На сцену выскочил один из депутатов. Военный. Стал кричать:
– Вы честно выполнили свой долг! И теперь с чистой совестью можете покинуть это здание!
Рядом с ним встал гражданский. И продолжил:
– У нас есть два выхода. Мы можем остаться здесь. И, по существу, покончить жизнь самоубийством. Или же выйти наружу. И продолжить борьбу!
После этих слов глухой шум в зале перерос в крики:
– Да, надо уходить!
– Пора уходить!
– Чего здесь ждать!
Но в правом углу женщины, стоявшие на баррикадах вокруг Белого дома. У них другое мнение. И они выражают его в особом истерическом крике, обращенном к депутатам:
– Не уходите! Сложите головы здесь! Столько народа из-за вас погибло! Это будет честно!
В зале, как на новгородском вече, начинает разгораться спор, готовый перейти в рукопашную.
В этот момент мимо стоящего в проходе капитана Казакова проплывает как тень бледный до зелени Хасбулатов. Он выходит вперед. И как-то так спокойно, заторможенно произносит:
– Мы сейчас уходим из зала. Многие из нас в этом случае останутся живы! Мы должны донести до широкой общественности, что с нами произошло. Переворот совершен полностью. Пролилась большая кровь. Вина за это на Ельцине. И его окружении. Давайте прощаться!
Из рядов депутатов выскакивает депутат Сажи Умалатова. Крепко его обнимает.
Начинается исход. Толпа рассыпается. Депутаты тянутся к выходу.
– Идем через первый подъезд! – подает кто-то команду. – На набережную! Там американцы ведут прямую трансляцию по Си-Эн-Эн. И, в случае чего, стрелять по нам на глазах у всего мира они не будут.
Анатолий вместе со своими товарищами двигается с ними. Все спускаются в вестибюль. Ждут чего-то.
Минут через пятнадцать сюда же подходит и генерал Руцкой в сопровождении полковника Проценко из спецназа.
Все и с той, и с другой стороны здесь свои. Все друг друга знают.
Наверное, поэтому вышедший бывший вице-президент каждую минуту с надеждой спрашивает окружающих-сопровождающих:
– Вы в турецкое посольство нас отвезете? Вы везете нас в турецкое посольство? Нет?
Да, это уже совсем не тот Руцкой, который вызывал самолеты.
В эти секунды роковые в вестибюль заскакивает начальник охраны президента. Лицо злое, жесткое, ненавидящее. Желваки играют на щеках.
Плотная человеческая масса в вестибюле стоит тихо, не шевелясь. Лица у всех какие-то посеревшие, глаза направлены вниз. Страх их понятен. Вдруг это западня?
Коржаков подходит к толпе и командует жестко:
– Хасбулатов, Руцкой – на выход!
В ответ ему молчание и тишина.
Проходит несколько секунд. Толпа расступается. И выпускает из своих недр. Двоих.
Хасбулатов – истощенный борьбой, с бледно-болотным цветом лица. Руцкой – подавленный, но не утративший офицерской выправки.
– И этого заберите, – указывает Коржаков на Макашова, упершегося в него ненавидящим взглядом из-под берета.
Ждут несколько минут вещи.
Руцкой и Хасбулатов наконец двигаются по коридору, созданному бойцами спецназа. Идут к автобусу со шторками, подогнанному к самому входу в Белый дом.
Капитан Казаков, стоящий в этом оцеплении, молча кидает последний взгляд на парламент. И неожиданно, словно прозрев, видит, что нижняя часть здания вовсе не белая, а облицована красным, играющим всеми оттенками в закатных лучах осеннего солнца мрамором: «Будто знали, что здесь будет», – отстраненно думает капитан о строителях этого дома.
III
«Какая в Москве всегда поганая зима!» – думает Александр Дубравин, выскакивая из теплых бежевых «Жигулей» на промозглый ветер. И шлепая модными черными ботинками на тонкой подошве по мокрому, быстро превращающемуся в грязную, пропитанную химикатами жижу снегу: «А ведь так было не всегда. Раньше же как-то обходились без химии. Чистили снег лопатами, метлами. А теперь, видно, обленились. Вроде почти центр города, а припарковаться из-за сугробов невозможно. И это только начало. Ноябрь. Что-то еще будет!»
Он спешит в издательство, но вдруг на полпути останавливается. И оглядывается вокруг. Первый пушистый снег как-то преобразил город. Принакрыл голые ветки деревьев, лег сиденьем-покрывалом на скамейки в скверике напротив. Можно сказать, осветлил столицу, дал возможность глазам уловить по-новому размытые контуры зданий и улиц. Слегка приукрасил постреволюционную жизнь.
Рассеянный взгляд Дубравина упирается в парадный подъезд с заснеженными контурами советских орденов. И натыкается на зеленый, грязный грузовой УАЗ армейского образца, стоящий прямо напротив дверей: «Черт его сюда занес! Вроде октябрьские события прошли, особо нас не задев. Мы ни на чью сторону не вставали. Это они там, наверху, делили власть. А мы работали. Нам не до политики. Так чего же армейцы сюда приехали?» – спрашивает он сам себя, обходя грузовик сзади. И проходит к двери. Тут натыкается на заросшего бородою до самых глаз, одетого по-деревенски в шубу до пят и в меховую шапку с ушами мужика. Тот радостно расплывается в искренней зубастой улыбке и тянет к нему длинные руки в рукавицах.
Дубравин секунду приглядывается. И наконец узнает:
– Онегин! Ты откуда здесь? Сукин сын! А мы тебя давно уже списали со счета. Думали, взял деньги и слинял!
– А я вот он, милостивцы! Приехал. Мясца вам привез парного. Да вот не знаю, куда ткнуться. Стою тут. Жду! – радостно, хлопотливо откликается, пожимая руку, «борода». – Рад, рад видеть вас в добром здравии, отцы мои!
– Ты машину отгони туда, в сторону, к воротам. И пошли со мною к Протасову. То-то он рад будет.
По дороге к Протасову, еле поспевая в своей шубе за быстроногим Дубравиным, Онегин все приговаривает на ходу:
– Гостинцы вам. Три бычка в тушках. Гречневую да ячневую крупу – пять мешков. Сметанки – два ведра. И еще кое-что. Спаси господь, еле добрался до вас, милостивцев моих, через всю Москву. Страсть-то какая…
Протасова пока нет на работе. И Дубравин затаскивает фермера к себе в кабинет. Сам кипятит чай. Угощает.
Онегин, аккуратно надкусывая сливочное печенье и прихлебывая горячий чай из блюдца, продолжает неторопливо свой рассказ о сельском житье-бытье.
– На деньги, что у вас взял, я сразу укупил состав соляры. И сбыл уже по двойной цене. Можно сказать, удвоил, обернул капитал. А потом уже начал строить коровник…
Дубравин в это время вспоминает первое появление Онегина у них в редакции. Привел его корреспондент Сашка Киселев. Тонкий, звонкий и прозрачный паренек с чистыми, как слеза, голубыми глазами. Он и сам с чудинкой. Ликом – ангел. Душою – ребенок. Ну и, соответственно, в своих материалах описывает таких же людей. Однажды опубликовал материал о ходящих по Руси странниках.
Оказывается, есть в стране такие божьи люди. Странники-богомольцы. Ходят они от монастыря к монастырю. Живут в обителях. Молятся. Трудятся. Ищут святости или тихого жития.
Ну, а потом, после выхода заметки, пригласил этого чудика к ним на этаж. Познакомил его с Дубравиным. А странник этот возьми да и расскажи тому о своей заветной мечте. Осесть на своей земле. И начать хозяйствовать. То есть, как сейчас говорят, податься в фермеры.
Дубравин отвел его к Протасову. Покумекали они. Все равно сейчас такая инфляция, что деньги обесцениваются мгновенно. И Протасов решил: дадим Онегину кредит. Пусть попробует. Похозяйствует.
Дубравин поехал в банк вместе со странником. Получил там увесистую сумму «налика». И под честное слово и расписку передал их Онегину. Онегин поблагодарил его, перегрузил деньги в рюкзак. И растворился в столичной подземке.
Время шло. От «святого человека» через корреспондента Сашку изредка поступали утешительные вести. А потом Киселев уволился из молодежки. И подался в Африку. Заниматься бизнесом. Стал торговать в этой чудной земле шляпами и галошами. С полгода назад он приезжал оттуда на родину предков. Рассказывал:
– Все идет отлично! У нас в Гвинее богатство и крутость чувака измеряются двумя вещами – блестящими черными резиновыми галошами и наличием шляпы. Так что я со своими товарами попал в точку. Живу на вилле. С прислугой. Женщины там – красавицы. И у них переспать с белым человеком считается за большую честь…
Сашка отбыл в колыбель человечества. А след Онегина окончательно затерялся где-то в лесах.
И вот на тебе. Приехал. С первым снегом и подарками.
– Что пришел, еще денег просить? – с ходу в упор наезжает на фермера-странника Протасов, появившийся у себя в кабинете, где они его уже ждут.
– Нет! Отцы мои! – гордо отвечает, смахивая с бороды крошки, Онегин. – Начинаю рассчитываться с моими милостивцами. Вон у ворот грузовик мой стоит. Загружен продуктами сполна.
– Значит, получилось? – обрадовался и удивился Протасов. – А мы уже махнули рукой на тебя. Тогда давай выгружайся. Народ наш оголодал. Будет ему поддержка.
Они остаются в кабинете. Поговорить. А Дубравин идет в хозяйственную службу. Сообщить о поступлении продуктов. Дать команду на выгрузку.
Когда он возвращается, Онегин, раскрасневшийся и вспотевший от восьми чашек горячего чая, зовет их «в гости».
– А что, приедем! – говорит Протасов. – Заодно проинспектируем, как ты распорядился деньгами. По-хозяйски ли? Правду ли рассказываешь? Или небылицы сочиняешь?
А потом через минуту-другую, когда Онегин уходит, добавляет:
– Надо собрать всех наших. Я давно хочу провести совещание по обстановке в редакции где-нибудь подальше от этих стен, из которых везде торчат уши.
* * *
Чем дальше в лес, тем больше дров. Густые, темные, хвойные леса обступили дорогу. Глухомань-селивань.
Кортежем, кавалькадою, цугом – назовите это как вам нравится, тянутся они на своих «жигулях» и подержанных иномарках по заснеженной трассе в глубь Ярославской области.
Мороз-воевода выводит ледяной узор на боковом стекле дубравинских «жигулей». Мерно и беззвучно приземляются снежинки на лобовое стекло и капот. Проплывают по бокам от дороги приземистые, врытые в снег по пояс избушки русских деревенек. На улицах пусто. Мёрзло. Грустно.
Идущий впереди подержанный, старенький «БМВ» Протасова останавливается у ворот одной из изб. Тормозит и вся колонна. Народ собирается. Совещаться.
– Кажется, здесь нас должен ждать трактор! – говорит, оглядываясь вокруг, Андрей Паратов. – И обращается к выглянувшему за калитку местному жителю: – Дедуля! Это Степаньково?
– Чаго? – протяжно спрашивает небритый, с седой щетиной абориген, приподнимая ухо у потрепанной шапки-ушанки.
– Я говорю, это Степаньково? – кричит ему на ухо подошедший Паратов.
– Оно, оно самое, сынки! – отвечает, кивая головою и шевеля белыми заиндевевшими бровями, старик. – Вы кого ищете-то?
– Трактор должен прийти за нами! Ждать здесь! Был?
– А, Микита, Микита! Он ждал. Но отъехал. Скоро будет. А вы куда собрались?
– Нам к Онегину! – вступает в разговор Дубравин. – Слышали о таком?
– Как не слыхать, – осторожно отвечает дед. – Вы что, комиссия какая? Так туды вам не проехать! Болота там. Топи. Сплошные топи.
– Так потому и трактор ждем, – говорит Дубравин. – У вас тут можно машины оставить? Под охраною, чтоб вы приглядели! Мы заплатим.
– Та оставляйте! Тут никого неделями не бывает. За деревней дорога совсем кончается. Тупик, – дед запахивает замусоленный солдатский бушлат и принимается открывать подпертые снегом ворота. – Заезжайте. Пара машин зайдет! Ну, а эти две оставьте на улице. Никто не тронет. Нет тут никого. Не бывает. Наша деревня крайняя перед лесом. А Онегин там живет. За лесом. Километров десять. – Он машет рукой куда-то вдаль, где темнеет за околицей хвойный частокол.
Через полчасика в лесу раздается треск и грохот тракторного двигателя. Еще минут через пять оттуда вылезает потрепанный «Беларусь» с прицепленными сзади огромными, сбитыми, можно сказать, из бревен санями.
Чумазый, в лыжной шапочке и фуфайке тракторист лихо разворачивается с санями на узком пространстве у дома. И выскакивает из кабины трактора, чтобы «поручкаться» с важными московскими гостями.
– Здравствуйте! Здравствуйте! – приговаривает он, протягивая жесткую, каменную от мозолей, огромную, как лопата, ладонь. Лицо у него доброе, но с огромным вислым красным носом.
И вообще у Дубравина остается впечатление, что у него все, выступающее за контуры собственно тела, громадное: руки, ноги, нос, уши…
– Александр! – представляется во время процедуры знакомства Дубравин.
– Василий Иваныч! – отвечает чумазый, шмыгая носом, и коротким движением левой руки подтирает под носом рукавом фуфайки.
– Ну что, Василий Иваныч! – вступает в свои начальственные права сам Протасов. – Довезешь нас?
– В целости и сохранности! – отвечает тот. И разъясняет диспозицию: – В санях у меня два тюка соломы. Счас я их разложу. А сверху накрою брезентом. А вы наденете тулупы. Расположитесь по-царски.
И действительно, минут через пять сани обретают комфортабельный по здешним меркам вид.
Сам тезка Чапая на несколько минут заскакивает в ворота дедова дома. И выходит оттуда, явно приняв на грудь и что-то нежно и бережно прикрывая полой фуфайки.
«Наверняка самогонкой заправился!» – спокойно думает Дубравин, укладываясь на брезент в громадном тулупе, предоставленном ему трактористом.
Снова трещит мотор. Из трубы «Беларуса» вылетает в мрачное зимнее небо сизая струя дыма. Рывок. И сани шуршат гигантскими полозьями-бревнами по рыхлому снегу.
Тронулись в незнаемое.
На морозе отчетливо пахнет свежеструганым деревом, сеном, соляркой от чадящего двигателя.
И плывет, плывет мимо них дремучий ярославский лес: ели, сосны, березняки.
В тулупе тепло. И Дубравин даже начинает подремывать, размышляя о неустроенности своей жизни. Слюбился он с Галиной. А что дальше? Она молчит. Он молчит. Дома снаружи вроде бы все по-старому. Однако с Татьяной что-то не так. Такое ощущение, что все эти события, перевороты сильно напугали ее, нарушили внутреннее равновесие, и она утратила какую-то волю к жизни. Сидит с утра до вечера у телевизора. Таращится в экран. Смотрит мыльные оперы, сериалы и никуда не двигается. Иногда, правда, заговорит о том, что хотела бы пойти на работу. Он подхватывает: давай помогу устроиться! Но проходит день-другой, и она уже о своем желании не вспоминает. Только кутается в оренбургский пуховый платок и возится на кухне, гремит посудою.
И злится, когда он напоминает ей о разговоре.
А чего бы не пойти – дети в саду, он с утра до ночи в делах. На людях ей было бы веселее. Нет. Видно, появился в ней и живет, грызет ее изнутри страх перед новой жизнью. Боится она ее. И отстает от темпа. Остается на обочине. Не вписывается в перемены!
Невеселые размышления обрываются в то мгновение, когда сани налетают на торчащую из зимника корягу. И пассажиров резко подбрасывает вверх, а потом шлепает на сено.
– Из-за острова на стрежень, на простор седой волны, выплывают расписные Стеньки Разина челны! – негромко, задушевно затягивает с детства знакомый мотив Андрей Паратов.
– На переднем Стенька Разин! – гудит, подхватывает мелодию Юрка Бесконвойный, – Обнявшись сидит с княжной… Свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной!
Андрей распахивает полы своей медвежьей шубы и, хитро подмигивая, кивает в сторону Протасова, сидящего на передке саней, в обнимку со своей гражданской женой.
Трактор идет по зимнику бойко, иногда погружаясь в снег по ступицы колес. В такие моменты, когда в колее появляется вода, становится понятно, что едут они по замерзшему болоту. Но тракториста, наверняка принявшего в деревне на грудь, да еще и прихватившего в дорогу, это явно не беспокоит. Он частенько отклоняется от колеи, смело газует, лихо вписывается в лесные повороты. И, наконец, влетает.
«Беларусь», рычащий на оборотах, сначала неожиданно проседает в полузамерзшую трясину передним маленьким колесом. А потом и большим задним. Тракторист дает обороты. Но машина не выскакивает на поверхность, как он задумал, а, наоборот, зарывается глубже.
Народ горохом ссыпается с розвальней в снег. Юрка Бесконвойный бежит к трактору посмотреть, что да как. Там у них с трактористом начинается бурное выяснение отношений, после которого тот еще несколько раз рвет машину – вперед-назад. Но чем больше он дергает, тем глубже колеса проседают в трясину.
Тут уж весь народ не выдерживает и вступает в их диалог, крича:
– Глуши мотор!
– Утопишь машину!
– Хватит дергать, дурень!
После таких «душевных» увещеваний длиннорукий и длинноногий тракторист покидает кабину «Беларуса». Вылезает на свет божий. Начинает ходить по снегу кругами и, крякая, приговаривать:
– Ах ты, господи! Нешто застрял?! Ах ты, мать…
При этом лицо у него этакое фатальное. Ни раскаяния, ни сожаления. Это для столичных пижонов утопление трактора в болоте – событие чрезвычайной важности. Для него это просто жизнь. Какая есть.
Однако народу надо решать, что делать. Зима как-никак. Холодновато становится. Да и вечереть скоро начнет.
– Надо идтить за другим трактором! Гусеничным! Чтоб он меня вытянул! – наконец произносит приговор Василий Иванович.
– А нам что делать? – резко наезжает на него Протасов, с полуоборота заводясь от такой бестолковщины.
– Можете назад по колее. Или вперед до фермы. Здесь недалеко – километра три осталось. По зимнику!
Начали совещаться. Перспектива заплутать в лесу никого особо не вдохновляет. Но и возвращаться несолоно хлебавши тоже не хочется. Поехали, как говорится, по шерсть, а вернулись стрижеными.
Так стоят они минут десять. Пока Протасов, как старый путешественник, не говорит:
– И где наша не пропадала?! Айда к фермеру! Рискнем!
И вот по снегу, будто отступающие французы в 1812-м, они трогаются вперед. Навстречу светлому будущему в лице бывшего странника-богомольца, а ныне передового сельскохозяйственного труженика товарища Онегина. Идут дружненько, сплоченной группой, ступая в след и стараясь не сходить с зимника, чтобы ненароком не провалиться в трясину.
Кругом ярославские разбойничьи леса. Тишина. Только слышно изредка постукивание дятла да хруст снега под ногами. Морозец начинает поджимать так, что одетый Андреем Паратовым экзотический охотничий комбинезон, привезенный из Таиланда, лопается сразу во многих местах. Прорезиненный камуфляж не выдерживает эксплуатации на морозе. И через полчаса Андрей идет уже в каких-то экзотических ядовито-зеленых лохмотьях.
Из-за туч пробивается на несколько минут солнце. И вспыхивает на заиндевевших ветках, играет бликами на льду застывшей тракторной колеи.
Ать-два! Ать-два! Анабасис бравого солдата Швейка проходил по теплым краям Чешской республики. А тут российская глубинка. Леса и дорога, петляющая в обход топей и болот. И неизвестно, что ждет тебя за следующим поворотом. Вдруг выйдет навстречу лось? Но в руках у Паратова «вертикалка». А посему улетай с дороги птица, зверь с дороги уходи. Освобождай трассу молодому российскому предпринимательству, что только-только нарождается. Из ничего, из пыли и праха, из винтиков и шпунтиков поднимается в России новая, молодая живая поросль.
Вдруг из-за поворота выезжает кто-то. Иль откуда ни возьмись появился… на коне. Они останавливаются. И разглядывают экзотический экипаж – лошадь, запряженную в сани. А в санях мужик.
Все как-то напрягаются. Сбиваются в кучку. Молча ждут, когда подъедет. Разглядывают.
– Да это ж наш Онегин! – наконец различает в деревянных розвальнях знакомое бородатое лицо Дубравин. – Ты откуда?
– А я вижу, вас, милостивцы, чтой-то долгонько нетути. Вот и запряг Гнедка. Дай, думаю, поеду навстречу. Видно, что-то приключилось.
– Приключилось! – отвечает Дубравин. – Трактор в болоте застрял. Василий Иваныч пошел за подмогой. Ну а мы прямиком к тебе, милостивцу, – передразнивает он Онегина.
Народ разглядывает мужика. Делится соображениями. Конь у него гнедой, статный жеребец. Сани новенькие. Шуба знатная, мехом внутрь, крытая сукном. Лицо у фермера круглое, сытое. Борода чесаная.
«Эк, был худющий, когда странствовал по свету, а теперь налился. Разъелся. Одно слово – хозяин. Хозяин земли русской растет, – отчего-то радостно думает о фермере Дубравин. – Справный мужик. Такой потянет!» И тепло Дубравину на душе, что вот и он приложил руку к такому делу. Онегин бодро выскакивает из саней. И, обметая полами длинной шубы придорожный снег, подходит.
– Гости дорогие, пожалуйте! – широко расставив руки, по-русски обнимает он всех. Ласковый такой, говорливый. И с ходу как-то обихаживает их. Протасова и его Ирину усаживает в саночки. Укрывает шубою. Хлопочет, приговаривает:
– А я все ждал, ждал. Уж, думаю, и сроки прошли. А вас все нет, нет.
Лошадь ёкает, тянет сани по заснеженной дороге. Они трогаются, скользят по рыхлому снегу.
– А трактор мы достанем. Это у нас бывает! Дело житейское.
«Да, здесь другая, отличная от столичной, жизнь! – завидует Онегину Дубравин. – Для нас переход – событие, можно сказать, большое приключение. А для него так, пустячок. Подумаешь, “Беларусь” завяз в трясине».
А впереди уже маячат большие бревенчатые ворота, за которыми на поляне разнообразно и вольготно раскинулось хозяйство новоиспеченного фермера: несколько приземленных деревянных сооружений. Жилой, свежесрубленный, бревенчатый дом с сеновалом и двором. Амбар, мехдвор. Дубравин приглядывается к этому подворью. И чувствует, что нечто подобное он уже где-то видел. Вспоминает. Музей деревянного зодчества под Архангельском. Вся жизнь под одной большой крышей. И двор, и хлев, и сеновал. Все в одном архитектурном ансамбле. Все скрыто от людских глаз, а главное, от снегов.
«Да, как только у человека появляется возможность жить свободно, как он считает нужным, – думает Александр, – так он начинает жить тем единственно возможным способом, каким жили на этой земле наши предки, отцы и деды».
Деревянные ворота распахивает широкоплечий, бровастый, востроглазый охранник. И они весело, «всем гамузом» вкатывают во широкий двор. Можно сказать, инспекция начинается.
В доме Онегин тоже вернул старину. Посреди главной комнаты стоит огромная теплая русская печь. Под потолком набиты, навешены деревянные полати. Вдоль стен стоят длинные, голые, ничем не покрытые деревянные лавки. В общем, никакой обстановки в нашем привычном понимании этого слова.
Есть, правда, в отдельной комнате и железная кровать, накрытая каким-то цветастым лоскутным одеялом. В углах везде висят иконы с суровыми ликами. Но каждому вошедшему сюда сразу понятно: это обитель холостяка. Одинокого, бессемейного человека.
Расселись наши семеро по лавкам. Чего-то ждут. А Онегин вместо того, чтобы накормить, напоить людей, заводит длинный, неспешный разговор о хозяйстве:
– Выращиваю бычков. Мясо отдаю перекупщику. А надо бы иметь свое место на рынке…
Протасов невозмутимо спрашивает фермера, видно, чтобы не молчать:
– Дорогу тебе надо сделать. Тогда легче будет сбывать товар!
– И-и, милостивцы мои, какую дорогу? Сделаешь дорогу – сразу из района налетят начальники. Мяса дай, сметаны дай, сена привези. Как вороны налетят. И начнут все растаскивать. А попробуй не дать – кранты! Затаскают. Не отобьешься от них, хищников!
– Так уж и не отобьешься! – бурчит Протасов. – Ты вон какой хитрый. А чего ж бабу-то не завел? Она бы тебе помогала!
– Правда ваша. Да, надо бы! Но бабы нынче балованные, – со вздохом отвечает бывший странник, оглаживая подол длинной русской рубахи.
– Не каждая сюда поедет. Вы бы пособили, отцы… поискали бы, – высказывает он свое пожелание.
Дубравин прыскает в кулак, представляя какую-нибудь столичную щучку здесь, на краю света, в лаптях и с вилами в руках.
Наконец тот же самый небритый охранник, Митяй, приносит откуда-то неприлично закопченный чугунок с похлебкой. Все оживляются. Радуются горячей пище. Но когда Дубравин пробует на вкус отшельнический шулюм, то понимает: готовить его здесь не умеют. Только зря продукты переводят. Но делать нечего. Все хлебают, что подали.
Онегин, однако, есть с ними не садится. И водки у него, «старообрядца чёртова», нету. «С нами, нехристями, ему жрать, наверное, несподручно! – неприязненно думает Александр, с трудом глотая невкусное варево. – А мы-то ехали, думали, небось Онегин угостит жареным свиным мясцом. То-то бороденку свою теребит. В доме ни телевизора, ни радио, ни уюта».
Онегин, мысль которого скачет с предмета на предмет, так, к слову, хвастается своим, как ему кажется, верным слугой:
– Сурьезный мужик он, Митяй-то. Мои тут мужички-работнички как-то напились и забунтовали. Стали выступать. Ты, мол, кулак, мироед. Мы с тобой сейчас по-свойски поговорим. Так он, Митяй, меня оборонил. Как схватил одного за микитки. Да как шваркнул его о землю. Тут-то они его и зауважали. Сурьезный он, Митяй, мужик. Крепкий!
«Только вот кухарка из него никакая», – думает Дубравин.
Гости уважительно глядят на молчаливого охранника, а фермер уже приглашает идти смотреть хозяйство.
Но народу совсем не хочется вылезать на мороз из теплой избы. А посему собираются за Онегиным только двое. Протасов и Дубравин.
На улице холодно. Зимнее солнышко уже закатилось за лесом. Тени растягиваются, тянутся к приземистым постройкам, к окружающим лесной хутор деревьям.
Дубравин бредет следом за фермером и Протасовым в крытый скотный двор, где мирно стоят, пережевывая жухлое сено, крепкие, коричневато-красные бычки. В ноздри ему бьет ядрёный навозный дух. Сразу вспоминаются свое село, детство. Как пас телят, кормил скотину, таская на пузе корзины с силосом, убирая навоз. Эх, где вы, годы безвозвратные?! Он даже слегка взгрустнул. Но, когда вышли из духоты на чистый воздух, вздохнул с облегчением.
Потом прошлись по мехдвору. Заглянули в кладовые…
– Богатое хозяйство, – чешет затылок Протасов. – Но мы с тобою потом поговорим. Надо мне с народом пообщаться.
Вернулись в избу, где оставшиеся развлекаются, как могут. Играют в дурака.
Тут же, за обеденным столом, Владимир и излагает то, зачем, собственно говоря, и потянул он своих соратников в глубь ярославских лесов.
– Я написал Владику Хромцову письмо, – нервничая и сбиваясь, начал он. – Сообщил, что я выставляю свою кандидатуру на выборах в главные редактора. Почему я хочу стать главным? Потому, что мы корячимся, работаем, строим издательский дом, развиваем региональную сеть. Бьемся насмерть за бумагу, цену за печать. Боремся за выживание газеты. Открываем новые проекты, а в редакции в это время все по старинке. Ничего не происходит…
– Тишь, гладь и божья благодать, – замечает Володя Слонов.
И все, дружно соглашаясь, кивают головами.
– Никто особо не зарабатывается, – продолжает свою «филиппику» Протасов. – Проедают тот капитал, который был наработан предыдущими поколениями журналистов. Если не сумеем перестроить газету, то никакие наши потуги на то, чтобы быть изданием номер один на постсоветском пространстве, ни к чему не приведут. А Хромцов то ли устал, то ли сдулся. Сидит тихо. Никаких идей не генерирует. Ничего-то ему вроде как и не надо. Разве это позиция главного редактора? Об этом я ему и написал! Газету надо перевести из большого формата в меньший. Потому, что в наши времена большинство людей читают не дома, лежа на диване, а где придется. В автобусе, в метро, на работе…
Дубравин внимательно слушает Протасова и вспоминает:
«Действительно, Хромцов даже на семинаре регионалов, куда он приезжал недавно, активности не проявил. Заперся у себя в номере. И сидел там, бухал. За все время только раз спустился в бар…»
– Я уважаю Хромцова как человека, – продолжает Владимир. – Но дальше так продолжаться не может…
– Володь! Мы все давно понимаем, – замечает Андрей Паратов, – но есть одна проблема. Она в том, что народ нас боится. Поговаривают, придут к власти коммерсанты…
– Да, хватит одно и то же долдонить! Я думаю, они уже привыкли! – Протасов вспылил и переходит на крик.
«Да, Володя, бесспорно, выдающийся человек, – думает Дубравин. – Но его вспыльчивость, резкость в оценках, колючесть могут выйти ему боком. И не только ему, но и всем нам».
Задушевный разговор не получается.
Протасов, изложив свою позицию, посчитал дело сделанным. Но все прибывшие с ним вместе не получили главного – подтверждения его лояльности к их группе. Обещаний на будущее.
Он был уже далеко от них. Там, в мечтах.
А они думают о своем. При главном редакторе Протасове их будущее кажется им весьма туманным.
Впервые за эти годы команда начинает сомневаться в своем лидере.
* * *
Спать разместились на полатях. Улеглись рядком.
Дубравин долго не может уснуть, разглядывая дощатый потолок. Потом все как-то плывет, качается. И вот он уже в санях. Потом они переворачиваются. Он тонет, захлебывается в болотной жиже. На берегу фермер Онегин. Ласковый такой, все подступает к нему. С ножом в руке. И так ласково протягивает на ноже кусок жареного мяса. И вдруг фермер превращается в Протасова. И что-то кричит ему, протягивая вперед окровавленные руки. Он прислушивается. Пытается понять, но смысл уплывает, уходит…
Дубравин просыпается от боли в желудке. «Чертов охранник с его похлебкой!» – тоскливо думает он. От нестерпимой, все растущей боли он весь сгибается калачиком и, прижав ладони рук к животу, долго-долго лежит в темноте, стараясь не застонать и не разбудить спящих.
Тишина в избе только изредка нарушается шорохом крадущихся мышей.
IV
Слухи. Слухи. Слухи. Сплетни. Интриги. Разговоры. О тех, кто находится на самой вершине власти, говорят все. Начиная с тех, кто рядом с ними, и заканчивая теми, кто живет в самом низу – у подножия социальной пирамиды. Амантай не исключение. Он уже как-то привык к тому, что о нем говорят. И чаще всего такое, о чем он сам и не подозревает. Ему приписываются неведомые слова. Дерзкие замыслы, взятые неизвестно откуда. И поступки, о которых он и не знает. Слухи циркулируют по этажам Дома правительства, где он обитает, с завидным постоянством. Они возникают, словно ниоткуда, и уходят, будто в никуда. Они рождаются из неосторожно брошенного слова, намека, шепота. И тот, кто живет в этих коридорах власти, должен постоянно сканировать их, чтобы понимать и быть в курсе того, откуда и куда сейчас дует ветер.
Он министр. Член правительства. Но должен постоянно быть начеку.
Уже заканчиваются времена, когда людей оценивали по их делам. Амантай кожей чувствует приближение новых веяний. И эти веяния таковы, что важнейшим условием успеха нынче становится близость к нему. К главному в стране. Телу хозяина. А его нынешний начальник – премьер-министр – человек, безусловно, опередивший свое время и сумевший в кратчайшие сроки почти безболезненно провести реформы, словно не слышит поступи времени. Он все продолжает гнуть свою линию. И Амантай понимает, к чему это может привести.
Сегодня после обеда к нему накоротке заскочил родственник президента Рахат Кулиев. Слегка выпили, и Рахат высказался:
– Хозяин твоего шефа поднял. Можно сказать, возвысил. Дал все. А он? Поехал в Штаты и давай там выступать! Чуть ли не как преемник самого «папы». Подумаешь, реформатор года!
Амантай смотрит на красивое, круглое лицо Рахата и думает отвлеченно:
«Странное дело. У простых людей более ярко выражены национальные черты. Но чем выше люди стоят на социальной лестнице, тем меньше в их лицах черт, присущих тому или иному народу. Вот взять, к примеру, его и сравнить с каким-нибудь пастухом. И окажется, несомненно, Рахат больше похож на европейца, чем на своего степного сородича. В чем здесь хитрость? Может, люди у власти все как-то однообразно меняются. А может, те, кто на вершине, уже изначально похожи друг на друга?» Но он прерывает свои размышления, так как слышит в рассказе приятеля новую интонацию.
– И зачем твой начальник Кажегельдин решил тягаться с американским советником президента?! Господин Гиффен – порядочный человек. Помогает шефу решать сложные международные проблемы, а Акежан как-то пришел к «ноль первому» и заявил: «Гиффен – агент ЦРУ. И заслан сюда к нам, в Казахстан, для экономической разведки и шпионажа». Знаешь, что сказал ему «ноль первый»?
«Даже здесь, у меня в кабинете, в здании правительства республики, родственник президента боится произносить его имя. Постоянно шифруется. Ну и времена!»
Но вслух Амантай просто спрашивает:
– Ну, и что сказал сам?
– А вот что! – торжествующе отвечает Рахат, наливая в прозрачный длинный стеклянный стакан боржоми и выпивая залпом:
– Значит, со мною работает правительство Соединенных Штатов!
– Ловко! – вздыхает Амантай, нажимая кнопку на внутренней стороне стола и вызывая секретаря. – Соня! Принесите еще бутылку воды! – командует он мгновенно появившейся бывшей вице-мисс Алма-Аты.
– Видишь, какие у тебя секретари? – провожая взглядом стройную нарядную фигурку, завистливо говорит Рахат.
– Возьми к себе! – делает широкий жест Амантай. – Дарю!
– Не могу, Дарига заревнует! Будет скандал, – лениво отвечает бывший врач, а теперь высокопоставленный чиновник. И возвращается к теме:
– Так что зря Акежан ввязался в эту борьбу. Да и не только с Гиффеном. Он ведь и с Нурланом Баргимбаевым не ладит. А ведь тот – доверенное лицо «папы». Министр нефти и газа. Тут шутки в сторону. Вот шеф по отношению к нему и переменился. Недавно он приглашал его в баню. Ну знаешь, как это он любит делать. И хотел, чтобы Акежан подписал «письмо верности».
Амантай уже слышал эту историю. От самого Кажегельдина. Как-то так получилось, что они вроде сошлись характерами. Понравились друг другу. Поэтому премьер изредка позволяет себе откровенные разговоры с товарищем по правительству. От Амантая и узнал, что у хозяина, видно, еще с советских времен осталась манера требовать от своих людей подписания некоего верноподданнического послания, в котором они признают себя вассалами, получившими власть и богатство из его рук, и клянутся служить ему верно и преданно, не покушаясь на его должность и звание.
По мнению Акежана, эта идея созрела у президента еще в то время, когда он на заре своего существования в качестве председателя Совета Министров Казахской ССР сам то ли в порыве искренней преданности, то ли в расчете на ответную благодарность написал Динмухамеду Кунаеву полное сыновней преданности письмо. Там среди прочего были и такие смелые слова: «Я ваш сын!»
Как бы то ни было, но, ясное дело, «ноги» у этой идеи росли из советских времен. Так вот, из рассказа Кажегельдина складывалась следующая история.
Несколько месяцев тому назад «хозяин» пригласил премьера на дружеский ужин в свое личное охотничье хозяйство «Карачингиль». Акежан приехал не чинясь. Построенные в горах несколько новеньких финских домов, недавно собранных из хорошо просушенного и обработанного бруса, впечатлили его. По дороге Кажегельдин разглядывал их. Чистенькие, беленькие двухэтажные домики с деревянными крылечками. Искусственное озеро, вырытое посреди долины. Гаражи для джипов. Вооруженная охрана. Все чин чинарем.
Челядь встретила приветливо. Быстро разместила в одном из таких домиков. В казахских юмористических народных историях есть такой смешной персонаж – Алдар Косе. Похожий на него управляющий, круглый, как колобок, повел Кажегельдина в баньку, где уже собралась теплая компания во главе с хозяином.
В баньке, что стояла прямо на берегу быстрой и прозрачной горной речки, тепло и весело. Вне, так сказать, официальной, политической жизни президент – хороший хозяин, веселый собутыльник, компанейский человек. Умеет пошутить, любит играть на баяне, распевать душевные советские и русские песни. Короче говоря, вовсе не сухарь. Жизнелюб. Так что обстановка здесь была располагающая. И все оживились, когда на пороге сауны нарисовался и премьер в белом халате и белой войлочной банной шапочке с национальным орнаментом.
Народ на полках подвинулся. Дали место Кажегельдину. Лица все знакомые. Из ближайшего круга. Вот Булат Утепуратов, плотный, с усами человек, который может достать для шефа все на свете. За характерный нос ему в этом кругу дали прозвище Утенок. Рядом на полке потеет, пыхтит, трудится Темирхан Досмуханбетов по прозвищу Чубчик. Из старой гвардии здесь и серый кардинал, бывший правоверный коммунист, а ныне первый помощник президента Нуртай Абытаев по прозвищу Молчун.
А вот и гэбист, генерал Нартай Датбаев. Рядом с шефом – Жук (Шабдарпаев).
Чубчик, красный, весь в поту, говорит:
– Ну, что это за баня у финнов? Сидишь тут, как дурак, потеешь. Только время тратишь.
– Может, надо поддать? – спрашивает компанию генерал.
– Жарайда! О, кей! – только и произносит Молчун.
– Пожалуй, надо! – отзывается откуда-то сзади с верхней полки лежащий Хозяин. – Эй, мальчик! – обращается он к председателю Комитета национальной безопасности. – Поддай! Водичкой!
Тот опрометью бросается к двери парной. Через минуту шипит, закипает на камнях чистейшая горная вода. Пар горячей волной ударяет в стороны. Заполняет пространство. Кидается к потолку. А потом начинает медленно оседать вниз, обжигая обнаженные тела.
– Ты, черт! – первым не выдерживает этой жары сам Хозяин. Он сползает сверху вниз. И выходит из парной. Следом тянутся и остальные.
– Делать пар – это искусство! – наставительно говорит «ноль первый», сидя уже за столом в чайной комнате. – Это тебе не просто взять и плеснуть!
«Почти все здесь!» – думает Кажегельдин, молча наблюдая за «старой гвардией». Лица, не особо отмеченные печатью интеллекта. Но зато свои. Проверенные. Некоторые еще со времен Караганды. Вместе они прошли длинный путь борьбы за власть. Теперь могут и расслабиться. Пошалить. Даже дать друг другу прозвища. Говорят, оно есть даже у самого. Его между собой они зовут, кажется, Бабуин.
«Но зачем же все-таки он позвал меня? Не чаи же распивать…»
Выяснилось это гораздо позднее. После того как хорошо поужинали и выпили немало. После того как сам Хозяин взял баян и спел на бис: «Парней так много холостых на улицах Саратова…» Хорошо так спел. Душевно.
Вот тогда-то, отложив баян в сторону, сам и завел разговор, для которого, собственно говоря, и позвал своего премьер-министра-реформатора. И заговорил он не о приватизации, в которой каждый из здесь сидящих хотел урвать кусок пожирнее. И не о внебюджетных счетах за границей, в Лозанне, на которые поступали взятки за передачу лакомых кусков иностранным фирмам. А заговорил он о грядущих выборах, которые могли подвести черту под этим «пиром во время чумы».
– Акежан Магжанович! – напрямую спросил шеф. – Скажи мне такую вещь! Тут ходят слухи, что ты на выборы собрался? Президентом хочешь стать? А? – Бабуин хитро сощурился, заглядывая ему в зрачки своими сделавшимися узкими, как щелочки, острыми глазами. – Почему? Тебе чего-то не хватает?
– Да нет! Ну что вы! – собирая серебряной вилкой с фарфоровой китайской тарелки конскую колбасу чужук, ответил Кажегельдин, опуская упрямую черноволосую голову. – Какой из меня президент? Это все вранье!
Он знал о том, что шеф еще с советских времен придерживается в таких делах средневековых обычаев. Устроить совместные попойки. И, напоив человека до изумления, слушать, что он будет нести, когда водка развяжет ему язык. А потом делать выводы. Так поступали русские цари. Такие застолья делали генсеки. Так учил его выискивать отступников среди своих и Кунаев. Поэтому Кажегельдин заранее был готов к «душевному» разговору. И не стушевался.
– Ну, если вранье, тогда что нам мешает сейчас договориться? – пьяно ухмыльнулся «ноль первый». И сам себе ответил:
– Ничего не мешает!
Откуда-то из-за спины ему протянул синюю папку Чубчик. «Ноль первый» достал листок белой бумаги.
– На вот, подпиши!
– Это что?
– Почитай! И подпиши! – настаивал визави.
– Сейчас?
– Да, сейчас!
Кажегельдин вчитался в письмо и, мягко говоря, по-русски опешил. Это была такая пионерская клятва. Что он такой-то, верноподданный президента получил от него все, что возможно получить: должности, деньги, звания, награды. И поэтому клянется клятвой верности в том, что никогда в жизни он не замыслит такого, чтобы препятствовать президенту в чем бы то ни было. Никогда не будет покушаться на его место. На его должность, на его звание отца нации… И так далее и тому подобное.
Дочитав до конца изобилующее даже орфографическими ошибками такое чудное послание – клятву верности, Кажегельдин отложил листок в сторону и со свойственной ему простотой и ясностью сказал, мотая упрямой головой:
– Нет, я это подписывать не буду! Это какая-то средневековщина. Я что, раб какой-то? – и еще раз, отодвинув листок, добавил:
– Нет, я это подписывать не буду! Тем более под диктовку.
– Тогда сам пиши! – пьяно настаивал шеф.
– И сам не буду! – упрямо качнул вперед голову, словно собираясь бодаться, премьер.
Видимо, Хозяин понял, что проиграл этот раунд. Он выдохнул перегаром. Налил себе в фужер водки:
– Ну, тогда давай выпьем, Акежан! – как-то даже слегка угрожающе произнес он.
– А вот выпить могу! – Кажегельдин встал. Они со звоном чокнулись хрустальными фужерами. Махнули разом. Кажегельдин аккуратно поставил свой бокал на стол. А президент шваркнул свой на пол так, что осколки полетели по углам. И неожиданно резко пошел, покачиваясь, к двери.
Премьер посидел-посидел в опустевшей чайной комнате, слушая, как гудят за дверью голоса. Понял, что спектакль окончен. И стал собираться на выход…
Вот об этой истории с «письмом верности» и напомнил Амантаю зять Хозяина. И это напоминание отозвалось тревогою в сердце молодого министра. Так что, когда Рахат ушел, он крепко задумался о происходящем. Ему уже намекали пару раз о том, что его непосредственный начальник впал в немилость. Намекал старый аппаратный волк – Чубчик. И так укоризненно, понимающе смотрел на Амантая, что тот кожей чувствовал неладное. Ведь в политике прямо, в открытую редко кто решается говорить. Особенно о том, что ему надо сделать свой выбор. С кем он? С премьером-реформатором? Или с ними? С командой Хозяина. Отсюда и выводы будут делаться.
Амантай Турекулович оделся и вышел на улицу. Вдохнул прохладный осенний воздух. Как хорошо здесь, в самом центре Алма-Аты.
За квадратным кубом Дома правительства прекрасный парк. Деревья самые разные. И хвойные, и лиственные. Все посажено с любовью, все дышит красотой и покоем. Умели люди украшать жизнь. Делать комфортной.
Скоро зима. А пока по осенним асфальтированным дорожкам можно гулять без препятствий.
Откуда-то потянул легкий ветерок. С ближайшего дерева веером сорвались вместе с серой стайкой воробьев сухие листочки.
Он прошелся еще немного. Дождался у выхода из зеленой зоны своей машины. Сел в синий БМВ седьмой модели не на заднее сиденье, как обычно, а почему-то вперед. Рядом с верным Ерболом. Охранник снаружи недовольно захлопнул дверь. Ведь это явное нарушение инструкции. Но ничего не сказал. Устроился сзади…
В этот момент, когда автомобиль, оторвавшись от кромки тротуара, резко рванул вверх по улице, он и принял свое судьбоносное решение.
Часть II Жизнь – борьба
I
Развернулась борьба всех против всех. Богатых – с бедными. Детей – с родителями. Братьев – с сестрами. Революционеров – с реакционерами. Лириков – с физиками. Красных – с белыми. Голубых – с натуралами. Бородатых – с безбородыми. Человека – с природой. Горожан – с деревенщиной. Мужчин – с женщинами. Государства – с народом. Одних народов – с другими. Всё по Марксу: у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Боролись, не понимая главного – что сражаемся сами с собой.
II
Раннее утро. На этаже фактически никого нет. Поэтому тишина. Дубравин любит приезжать на работу пораньше, чтобы неспешно, спокойно посидеть за столом. Обдумать предстоящие дела. Просто разобраться с корреспонденцией, которая накопилась за неделю. Днем все горит и несется. А сейчас можно не торопиться – не бежать.
Он берет с полированного стола, заваленного разного рода бумагами, папку, которую ему с вечера положила секретарша. И начинает неспешно разбирать ее. Вот давно ожидаемый договор на издание новой рекламной газеты в славном городе «Ч». А это, кажется, штатное расписание молодежки, подготовленное отделом кадров: «Надо посмотреть свои отделы. Не обидели ли их с зарплатой. А то инфляция такая, что не успеваешь следить. А это в конце штатного расписания что за отдел? Да это люди Чулева! Он просил взять их на работу. Надо же им где-то числиться».
А вот письмо с иностранным обратным адресом на узком, ненашенском конверте.
Дубравин неторопливо ножницами надрезает конверт. И застывает в недоумении:
– Ёлки-палки! Да это же Франк! Его ответ. Читаем!
«Многоуважаемый господин Дубравин!
Прошу извинить мою неорганизованность и халатность – хочу надеяться, что столь затянувшееся молчание не изменило Вашего отношения ко мне…
Ей-бо, только так, не иначе, начал бы письмо, если бы ты был ну, скажем, министром просвещения (какое министерство в России сейчас самое престижное?) или каким-нибудь там большим депутатом Думы. Однако, зная твой характер, на все 100 уверен, что ты не пойдешь в их шайку. И поэтому – к едреной матери официальные расшаркивания и извинения! Привет, дружище Александр!!! Жму с радостью могучую руку твою!
Когда это было? Давно, когда я сменил адрес, помнится, сразу же отписал тебе. Месяцами тремя-четырьмя позже пришел ответ от тебя, и я, как видишь, до сих пор все еще сочиняю новое послание. Но ты не подумай, я все это время помнил и корил себя: “Надо, надо написать Александру!” И вот – святое время! Отпуск! Шесть недель мичуринства, балконозаседания и пивопития. Времени – хоть удавись. Перебирал вчера свои бумаги (веришь, три года живу на новой квартире, а некоторые коробки с документами, адресами, какими-то записями до сих пор стоят в кладовке нераспечатанные!), и вдруг – глазам своим не верю! Твой конверт с адресом. А я грешным делом уже бабу свою начал долбить: “Это ты, старая, заныкала конверт с адресом, чтобы я не писал, все боишься чего-то…”
Ну вот. Теперь пишу. Гляди, Александр, сейчас спрашивать много буду. Как чукча, любопытный стал – все знать охота.
Но прежде совсем коротко о своем житье-бытье на Неметчине. Купил квартиру – это ты знаешь. Езжу на прежнем автомобиле – это неинтересно. Сменил работу, теперь уже дважды, попёр вроде бы в гору (директор школы). Жена работает в школе, преподает немецкий на курсах для переселенцев из Казахстана, довольна. Сын в школе. Для нормального бюргера – идеальный расклад.
Но все не то, не то. Неудовлетворенность какая-то, пустота. Скоро четыре года, как здесь, а привыкнуть все не могу. Будто срок отсиживаю, считаю месяцы до звонка. Почему так? Хрен его знает. Много уже думал, это как ребус, как шарада. Язык для меня не проблема, об этом нет речи. Знаю не только литературный, а диалекты – как Штирлиц. Это чтобы не раскололи. Колбаса? Тряпки? Это мне до фонаря. “Родина предков”, фатерлянд? Так тут в этом фатер… бляха-ляха, лянде, столько загорелых ребят из Кении, Таиланда, Марокко и Перу, что Казахстану с его “лабораторией дружбы народов” и “планетой ста языков” еще ой как долго надо принимать иностранцев, чтобы выйти на здешний уровень “замагометованности”. Порой задумываешься: где же он, фатерлянд-то?
Часто думаю о Казахстане. Чем бы я сейчас занимался на фоне крепнущей рыночной экономики? Здесь я как-то самому себе на удивление быстро сориентировался – перевожу с немецкого на русский и наоборот, веду курсы для чехов, поляков, англичан, между делом кувыркаюсь в школе. Да, конечно, сейчас интерес Запада к Ср. Азии, в том числе и к Казахстану, растет не по дням, а по часам. Можно было бы приткнуться куда-либо. Но опять же нет гарантий. А дела хорошего и большого – ой как хочется! Не денежного, нет, хотя дойчемарки никогда не помешают, хочется именно ДЕЛА!
Знаешь, пугает информация из Казахстана, Алма-Аты. Люди рассказывают жуткие истории – просто не лезет в башку. Поистине: не войти дважды в одну и ту же реку… Перед отъездом сюда я в 1991 году гостил пару дней в деревне у тетки, где учился до 8-го класса. Конечно, многое изменилось со времен моего октябрятско-комсомольского детства, но изменения-то пошли в лучшую сторону! А тут послушаешь, что творится в Казахстане сейчас, и волос дыбом. Ну да, мне, наверное, хорошо так вот бакланить – сидя за бугром, у компьютера, с кружкой холодного пива… Но куды все котится? Какой конец грядет?
Откровенно говоря, в последнее время не очень-то и много “контактов” с казахско-русской тематикой. Перевожу в основном сугубо научные материалы на заказ, информации из которых много не возьмешь, газет читаю мало, ибо то, что здесь в Хайльбронне предлагают, – барахло, “мадэ ин кружок умелые руки”, типа “Наша газета”, например. Выходит в Ганновере, делают ее ребята-эмигранты евреи. Примерно 50 процентов русскоязычной прессы – с их огорода. А серьезных газет не достать. Но, судя по той ерунде, которую они здесь гонят в своих буклетиках (“Наша газета”, “Мы в Берлине”, “Путь”, “Эмиграция” и пр. дребедень), у них есть что-то общее с казахами. Сначала были ОНИ, потом от них произошли обезьяны, а потом уже все остальное.
Ну да, так я отвлекся. Возвращаясь к теме. Мало информации из России и Казахстана. Информации действительно очень мало. По местному телевидению раз-два в неделю покажут Бориса Николаича с похмелки – всё. Или Лебедь даст “интырвью” с цигаркой в зубах, на этом конец. И потому здесь возникает много-много вопросов. Самых разных и неожиданных. Ученики, например, спрашивают: “Почему сейчас в России или Казахстане нет хороших фильмов, а прет одна дешевка? И где хорошие, знакомые актеры?” Я себя в последнее время тоже часто спрашиваю об этом. Потому как на немецком рынке предлагают на продажу такое видеодерьмо российской марки, что поневоле становится стыдно за русский кинематограф. А книги? Купил как-то раз так называемый “роман”, прочел половину, потом три дня рвало, как после ацетоновой водки.
В принципе с “русскоязычностью” здесь не расстаешься ни на день. Очень много сюда привалило переселенцев, слишком даже много. По последним данным около 1,5 млн. Процентов 85, конечно, от сохи, с заимок народ. Простой и категоричный. “Мы типер здеся, давай нам мирсэдис!” Многие живут месяцев по 6–8 в Германии, не понимая, где они, зачем, что с ними станет. Знаешь, смотришь иногда так, со стороны, и ужасаешься: что система может утворить с человеком!
Кроме “фольксдойче” сюда валом, и с большим притом удовольствием, валят представители как больших, так и малых, до недавнего времени крепко сплоченных вокруг руководящей роли и на незыблемом оплоте восседающих народов бывшего СССР. Армяне, хакасы, ингуши, шорцы, алеуты, туркмены, не говоря уже об украинцах и русских. Это доп. груз так называемых смешанных браков. Этот груз ни слова не понимает по-немецки и, что самое страшное, не хочет учиться понимать. Здоровые мужики просиживают до пролежней ляжки в своих приютах, пьют горькую, курят до одурения дешевые контрабандные вьетнамские сигареты из морской травы и помаленьку-потихоньку трогаются тем местом, где у нормальных людей рассудок.
Вот зачем им-то ехать сюда? Представь, Александр, тебя привезли в Индонезию. Язык непонятный, бабы закутаны в простыни, все жрут сырую рыбу и моются один раз в квартал. Сколько часов можно выдержать в этой хреновине?
Ан нет! Народ прет и прет, и часто бывает так, что одна старая бабка-немка, какая-нибудь там Берта Шмидт, везет в Германию целую обойму разного-всякого. Бабка эта, например, после войны, в ссылке, вышла замуж за крымского татарина, тоже ссыльного. Менять фамилии тогда ссыльным не разрешалось, бабка осталась Шмидтихой, а он – каким-нибудь там Юсуфом Хайруллиным. Родился у них сын. Назвали Аликом. Подумали-подумали и решили: черт с ним, пусть будет Шмидтом, как-то лучше в России Шмидты приживаются, чем Хайруллины. Алик, естественно, кроме фамилии, от бабки ничего другого не унаследовал. По-немецки говорить мог разве что одно слово: “Гут!” Паспорт ему в 16 лет выдали и по дурости влепили туда “немец” – “а как же, Отто Юльич немцем был, это факт!” Ну вот, Алик отмучился в школе, отслужил два положенных кирзовых, там дембель, домой пора, а дома девки, после двух годов тайн под одеялом, зараза, аж масло с них капает! Ну и женился Алик на Зухре: хоть и туркменка, а сиськи – во! Через полгода у них с Зухрой приключился Наиль, потом – Надя, потом – Рустамчик…
А тут как раз перестройка. М.С. границы открыл, и соседки бабке Шмидтихе нашептали: теперь можно “туды”! Сечёшь поляну? Бабка Берта, дед Юсуф, сын их Алик с невесткой Зухрой, Наиль со свежей женой Нюрой и доченькой Ирочкой, Рустам с Таней и с внучком Мироном – все в Германию. Потому как бабка Берта по немецким законам имеет право на въезд в ФРГ как пострадавшая от сталинских репрессий и высылок немка, сын ее – ясно, немец, дети его все это вычислили и переделали давным-давно свои паспорта на “немецкие”…
Какое у них будущее? А вообще – чего я о них забочусь? Какое у меня будущее? Кто это сказал: “Свобода нужна образованному, а тому, кто проще, нужна жратва…” Чего нужно было мне?
Сейчас, наверное, скажешь: во, понесло фраера! Это я с пива. На трезвую голову все больше молчу и размышляю. И если это мое письмо до тебя дойдет (не думаю, что КГБ надумает его вдруг расшифровывать), то не суди меня так строго, дружище Александр!
Ты случаем не встречался ли с Сергеем Подкабанским? Чем он сейчас занимается, вождь наш идейный? Был у меня в Алма-Ате знакомый такой – Владимир Алексеевич Аусман, немец, бывший комсомольский лидер из Кустаная, потом его вынесло в ЦК, завотделом межнациональных отношений. Во идейный был гусь! Он и спал, наверное, только с “Капиталом” под задницей. Интересно бы знать, как он сейчас себя чувствует в руинах лучезарного храма?
Хотя неделю назад мы с женой вернулись с Крита. Встречали там море русских нуворишей. Четко просматриваются две категории – бывшие хранители и ныне пользователи золота партии и их слуги. При Брежневе и Андропове эти слуги либо еще ползали под столом с соской во рту, либо подкармливались в солнечном Магадане. Сегодня они на Крите. И мы не хуже многих! А личики у них, не обезображенные интеллектом…
Вот такой расклад, Александр. Перечитал сейчас только бред свой сивокобыльный. Тебе трудно будет. Не пробиться сквозь это все. Но ты не сетуй, пожалуйста, будет время – дай знать о себе.
Пока все. Ну, да ладно. Привет – и пока. Пиши осторожно, вдруг моя благоверная первая вскроет письмо твое. А там, как в анекдоте про Чапаева, – про ружья написано…
Франк!»
«Коротко и ясно! – думает Дубравин. – Надо бы дать ему ответ». Но в дверях уже появляется Гюзель. Несет чай. Начинается суетной новый день!
III
Письмо Андрея не выходит у него из головы: «Вот как оно все повернулось! Несладко Андрюхе на своей исторической родине. Видно, не только хлеб с маслом нужен человеку, чтобы радоваться жизни. Мужику хочется еще и как-то реализовать себя. Куда-то двигаться…»
В этот момент его размышления резко прерывает вошедшая слегка бледная секретарша. Она как-то странно смотрит на Дубравина. И тихо говорит:
– К вам там пришли…
– А! – неопределенно мычит он в ответ. Мало ли кто заявляется к нему с утра.
А его черноглазая, черноволосая, свежая «конфетка» тихо, видно, для того, чтобы не слышно было в приемной, почти шепотом добавляет:
– Из налоговой полиции!
– Ого! Ну, зови! – говорит он. А у самого сердце в груди ёкает. И сжимается от страха. Каждый советский человек, его друзья, родственники – все общество за годы советской власти на собственной шкуре в течение семидесяти пяти лет познавало доброту и заботу государства трудящихся. И каждый из них на генном уровне боится и ненавидит власть. Дубравин не исключение. Тем более он работает в такой сфере, где все еще не установилось, правил нет, а, стало быть, у властей море возможностей для «импровизаций» над бизнесом.
Гюзель тихо выходит. И вслед за нею в кабинет прошмыгивает маленький, миниатюрный человечек в штатском. Его облик кажется Дубравину странно знакомым. И уже через минуту он вспоминает. Но не фамилию, а историю.
Было это в Алма-Ате. В те времена, когда он работал в автомобильном журнале. И заведующий техническим отделом некто Туманов попал в органы за спекуляцию книгами. Вот тогда и появился у них в редакции этот человечек. Следователь. «Как же все-таки его фамилия? Что-то связанное с камнем. Только у него тогда были длинные волосы до плеч».
– Константин Андреевич Кремень, – представляется человечек. И добавляет: – Начальник отдела налоговой полиции. – Потом он слегка шмыгает носом. Видимо, от простуды. И еще раз, оглядев маленький скромный кабинетик Дубравина, добавляет: – Однако скромно у вас!
Дубравин ничего не отвечает. Он, как и все люди, фактически работающие в бизнесе, в общем и целом представляет себе функции налоговых полицейских. И знает, что в этой организации оседают в основном силовики, ушедшие из других структур – МВД, КГБ, прокуратуры. То есть фактического сокращения таких подразделений почти нет. Кадры, так сказать, перетекают из одной службы в другую. Соответственно, с ними переходят и подходы, методы, менталитет. Советские. Так что от этих ждать чего-то нового не приходится. Все как было в ОБХСС. Поэтому он просто спрашивает:
– А что это вы и к нам? Чем обязаны? Вроде бы как наше агентство «Завтра» не самый крупный налогоплательщик в Москве? Есть фирмы в десятки раз крупнее…
– А у нас плановая проверка. Вы по графику попадаете! – заявляет на «голубом глазу», честно глядя Дубравину в лицо, новоявленный налоговый полицейский, перелицованный и перешитый из бывшего стража социалистической собственности.
– А у вас имеются какие-то документы, приказы на проверку? – все еще сомневается Дубравин, прекрасно знающий, чем сегодня промышляют пустившие новые корни силовики.
Кремень достает из коричневой папки аккуратно сшитые металлической скрепкой листы. Подает. Действительно, это постановление, подписанное начальником и предписывающее подполковнику Кремню и майору Шамшурину «произвести проверку» на предмет… И так далее и тому подобное… Возразить нечего. Тем более что в кабинете через несколько минут материализуется и второй – такой крепенький, спортивный, гладко выбритый до синевы на щеках мужичок. Глядя на него, Дубравин долго пытается разобраться в своих ощущениях. И вдруг его озаряет: «Да, это же гэбист! Как я сразу не догадался! Такие же ребята пасли нас в студенческой юности. Вот откуда ноги растут!»
Дубравин вызывает главбуха по телефону:
– Валентина Петровна! Зайдите ко мне!
Через минуту вплывает на порог, занимая оставшееся пространство, главный бухгалтер. В могучих руках у нее тоненькая папочка на подпись, а в смешливых глазах любопытство.
– Вот к нам! Из налоговой полиции! – торопливо представляет ей визитеров Дубравин. – Говорят, что у них плановая проверка. Товарищам надо предоставить бухгалтерские документы за прошлый и нынешний годы. А также найдите им рабочее место, – говорит он, а сам наблюдает за тем, как меняется выражение ее лица.
Когда неожиданные подполковник с майором уходят, Дубравин призадумывается. Что-то в этой проверке не так. Во-первых, никто никогда не слышал о плановых проверках налоговой полиции – этим занимаются налоговые инспекции. А во-вторых, «Завтра» не такая значительная фирма, чтобы их интересовать. Тут явно какой-то внутренний скрытый смысл, в котором надо бы разобраться. Кто может помочь ему? Ну, конечно, тот, кто связан со спецслужбами. Вращается внутри этого механизма и знает, как в нем работают пружины и шестеренки.
Тем и хороша большая газета, что в ней есть «мастера на все руки». Дубравин направился к ребятам, которые немало писали в последние годы о работе наших спецслужб. Поспрашивать у них, поискать, откуда дует ветер. К его счастью, Игорь Черняховский находится на месте. Когда-то они вместе заседали в общественной комиссии «по лучшим материалам». Определяли, кто достоин редакционной премии за лучшие заметки. Там и подружились. Игорь – черноволосый, черноглазый, немного медлительный, но основательный и надежный – встретил его приветливо и уважительно. Перед ним лежала верстка сегодняшнего номера, но он оторвался, чтобы поговорить.
Дубравин обрисовывает ему сложившуюся ситуацию:
– Понимаешь, ни с того, ни с сего является подполковник с майором в придачу. Заявляют, что у них плановая проверка. А какая она, к чертям собачьим, плановая, если мы о ней в первый раз слышим? Явно что-то не так. Темнят они, голубчики… – горячится Дубравин.
– А бумага у них есть? Ну, распоряжение какое? – задумчиво почесывая высокий лоб шариковой ручкой, спрашивает Черняховский.
– Да, есть, я смотрел!
– А кем подписана?
– Начальником налоговой полиции Северного административного округа столицы.
– Ну, давай, Саня, посмотрим, что да как! – флегматично замечает журналист.
* * *
Через пару дней Черняховский звонит Дубравину и озабоченно просит зайти. Сегодня он более оживлен. И разговор у них получается быстрый.
– Ну вот что удалось накопать через знакомых ребят из органов. Ниточка от налоговой тянется к Гусю, медиамагнату Гущинскому.
– А ему-то до нас какое дело? – удивляется Дубравин.
– Самое простое. Может раздолбать конкурентов! Во всяком случае, в его службе безопасности заправляет бывший начальник управления союзного КГБ Филипп Попков. Вот он и «нанял налоговую полицию», в которой тоже полно бывших, чтобы они пришли к нам с проверкой. Остальное – дело техники. А эти ребята – просто пешки. Им приказали. И они пришли. Сказали – копать. Они и копают. А с чем это связано, я не знаю! Вот такие, дружище, дела!
– Ну, спасибо тебе! Будем думать! Что-то делать…
На душе у Дубравина, однако, муторно и тревожно: «Да, такое время наступило. Были бы деньги – и можно нанять любую государственную структуру для своих целей. Потому как нету больше государства. Есть грязная, вонючая куча мусора. Остатки того, что раньше называли великим советским государством».
Он вернулся к себе. Посидел, подумал. Потом крутанулся в кресле, потянулся к телефону. Бросил трубку обратно. И вдруг! Ох, уж это «вдруг». Отчетливо вспомнил. Две недели назад в молодежной газете была опубликована статья, в которой рассказывалась одна очень темная история. Из нее следовало, что каким-то невероятным образом правительство дало частной конторе господина Гущинского огромный кредит в сотни миллионов долларов. Кредит ушел на закупку и запуск частного спутника для расширения вещания частной телекомпании. В статье делались и кое-какие намеки, объясняющие такую невиданную щедрость. Якобы глава правительства собрался на выборы. И ему нужен свой медийный ресурс. Такая новость, конечно, всполошила кремлевских небожителей…
Ну а дальше все ему более-менее понятно. Те, кто попал, решили заткнуть журналистам рот. Но как? Попробуй напусти своих псов на редакцию. Будет такой скандалище! Зажим свободы прессы. Наезд на крупнейшую газету. Вот, видимо, они и решили газету не трогать. А попытаться разрушить ее экономическую базу. А так как деньги для издания зарабатываются в группе «Завтра», сюда и пришли полицейские. Нарушения искать. Разорить ее штрафами. Запугать. Заставить журналистов заткнуться.
Это какое-то озарение. Но озарение, как говорится, к делу не подошьешь. Надо искать пути нейтрализации этого наезда налоговой полиции. Но как?
Дубравин решает: «Не буду выносить этот вопрос на совет. Пойду посоветуюсь к Протасову. Ну, не идти же с ним к Чулёву. Ведь я только пару месяцев назад заменил его на посту генерального директора группы “Завтра”. То-то он порадуется, что я попал в такую историю».
После яркой встречи с Протасовым он вернулся к себе. И позвонил Анатолию Казакову. Благо тот был в городе, а не в отъезде на задании. Встретились они достаточно быстро. Казаков особо не удивился тому, что поведал ему друг. Он тоже знает, что сейчас творится в органах.
– У меня есть один хороший человек, который может решить это дело. Он раньше у нас работал. Потом в охране у Гуся. А сейчас занялся как раз такими взаимоуслугами. Как говорится, стал «решалой». Вот его телефончик. Скажешь, что от Анатолия Николаевича. Он поможет, чем сможет. Да, я его предупрежу. Зовут его Алексей Пономарев. Действуй!
А действовать надо срочно. Потому что уже через три дня с утра к Дубравину в кабинет является счастливый майор. Он прямо-таки сияет и светится. Через пару минут выясняется причина его хорошего настроения. Он «накопал». Что-то куда-то бухгалтерия «Завтра» не туда «провела». Какой-то платеж. Или налог. И в результате они совместно с подполковником ухитрились насчитать многомиллионную сумму возврата и плюс возможность выжать штраф. Получается немало. Проще говоря, удар ниже пояса по всей экономике группы и через нее по молодежной газете. Так что Дубравин не зря переполошился и искал управу на купленных налоговиков.
Одно только смущает в этом деле. Необходимость давать взятки. Так уж он воспитан в советские времена. Непримиримо. Он все эти дни надеется, что все обойдется. И его минует чаша сия. Ан нет! Не получается! Государство препирает их к стенке. И выбор прост. Либо налоговики разорят до конца их компанию, либо надо отбиваться, используя все средства.
Долго идет внутренний раздрай. А время торопит. Делай выбор! Или – или!
Хорошо оставаться чистеньким, когда ты один. Можешь холить-лелеять свою хрустальную честность. Убаюкивать стонущую совесть. А когда за тобой дело, сотни людей. И им наплевать, как ты решаешь проблемы. Главное, чтобы решал.
В общем, пошел он к Протасову. Рассказал все как есть.
– Эх, Саня, – заметил тот. – То ли еще будет! Тебе что, индульгенцию выписать? Нет у нас права на отпущение грехов. Решай сам.
«Ну что ж, так тому и быть. С волками жить – по-волчьи выть. Возьму грех на душу. Отвечу за всех».
«Счастливый» полицейский, выполнив заказ Гущинского, тут же прекращает проверку и уезжает готовить акт. А Дубравин садится в синюю девятку «жигули» и едет по указанному Анатолием Казаковым адресу. Они долго плутают по восточной окраине Москвы, пока не находят это отдельно стоящее серое бетонное здание. Трудно сказать, что раньше при коммунистах располагалось здесь. Может, какое-нибудь учреждение или узел связи. Может, детский клуб или НИИ. Их было много в Москве. Теперь, судя по обилию вывесок, тут располагаются фирмы и фирмочки, приемные «решал», «Рога и копыта» отечественного криминала, а также «гопы» и «чопы» – расплодившиеся как грибы после дождя охранные предприятия. Внутри в фойе наличествуют деревянный барьер и «вертушка», возле которой маются два молодых здоровенных парня в камуфляже.
«Нынче мода такая пошла, – решает Дубравин, – мимикрировать под силовиков, под военных, чтоб выглядеть повнушительнее. Вот и наряжают хлопцев. А им бы где-нибудь землю на тракторах пахать или на заводе…»
Он спрашивает у ряженых вахтеров, как найти шестьсот двадцатый кабинет. Они долго бестолково машут руками – видно, сами тут недавно. Но наконец он понимает. Пара длинных уныло обшарпанных коридоров, по которым он плывет к цели. И наконец закрытая, хорошего качества дубовая дверь. Он постучал, и дверь открылась. В маленькой приемной сидит хорошо воспитанная черноволосая красивая девушка. Этакая Шамаханская царица. Чем-то похожая на Людку Крылову. Дубравин даже слегка заробел от такой красоты. Но вопрос все-таки задал. Девушка, пахнущая какими-то особыми восточно-пряными духами, оценивающе глянула на него из-под длинных ресниц томными глазами и сообщила нежным голоском, что начальника еще нет, будет с минуты на минуту.
Но дело свое она все-таки знает. Поэтому усаживает Дубравина на черный кожаный диванчик, предлагает чайку-кофейку и разноцветный журнальчик. Через минуту-другую входная дверь снова открывается. И в приемную залетает очень хорошо, даже слегка по-пижонски, одетый рыжий с кудрями и конопушками на лице, длинноногий товарищ в штатском. Это сам. Нужный человек. «Решала» и по совместительству друг Казакова Алексей Пономарев. Царь-девица как-то вся подбирается, розовеет, вибрирует. И Дубравин открывает для себя эту маленькую офисную тайну: «Вот она к кому неровно дышит».
Поздоровались. Пономарев пригласил его в кабинет за двойными деревянными дверями.
«Видно, весь пар у него ушел в свисток», – думает Александр, разглядывая незатейливое убранство самого кабинета и сравнивая его с обставленной с претензией на роскошь приемной. «Хотя, впрочем, все серьезные дела, на самом деле, и решаются в таких маленьких, однооконных офисах», – думает он, вспоминая и свою клетушку.
Присаживаются. Пономарев прибавляет звук уже работающему радиокомбайну.
Дубравин понимающе усмехается:
– Что, могут подслушивать?
Пономарев без тени улыбки отвечает:
– Еще как!
– Понятно! – и Дубравин начинает как можно добросовестнее излагать суть дела, немногословно описывая происшедшее.
Алексей лишних вопросов не задает. И Дубравин понимает, что в общих чертах с делом его ознакомил их общий друг.
– Понятненько! – выслушав рассказ, отмечает Пономарев. – Значит, группу «Завтра» атаковали московские налоговики, где у Попкова все схвачено, – начинает вслух рассуждать он. – И заходить надо в центральный аппарат. К Атласову надо заходить.
Дубравин понимающе-согласно кивает.
– Ну что ж, давайте так договариваться. Мне понадобится неделя, чтобы разобраться, посмотреть, кто из наших осел у Атласова. В общем, надо провентилировать, проработать этот вопрос. А через недельку вы мне звякните вот по этому телефончику.
«Чего уж так, неделя? – думает Александр, проходя через приемную мимо цветущей, улыбающейся секретарши. – Наверняка у него кто-нибудь из бывших сослуживцев трудится в поте лица у Попкова. И он сейчас ему звякнет. И через пару часов будет точно знать, что да как. И кто лично заказал наш бизнес. Потом звонок другому товарищу, который пристроился у Атласова. Поговорят о том, что можно сделать и сколько это будет стоить. Так и сойдутся концы с концами».
После встречи с Пономаревым Дубравин уже ни минуты не сомневается, что вопрос удастся решить. Для него сейчас самое важное – сколько они попросят за свои услуги.
* * *
К счастью, сумма оказалась довольно существенной, но подъемной. При следующей встрече Алексей на вопрос, «сколь дорого обойдется им такая услуга», ничего не сказал вслух, а просто написал на листке бумаги короткую цифру: «20». Что, судя по всему, означало двадцать тысяч долларов.
Это немало. Но и сумма, которую вместе со штрафами насчитали им «радостные» проверяющие, гигантская. И может, грубо говоря, похоронить их бизнес.
Деньги нужно было собрать во что бы то ни стало. А для этого требуется «налик». Точнее, «черный налик». Так что хочешь не хочешь, а совсем по-честному работать не получится.
Через две недели заходит к нему тот самый гладко выбритый майор и, криво усмехнувшись, говорит со смыслом:
– Ну, мы не знали, что у вас есть люди на самом верху! Поэтому штраф мы вам выпишем самый минимальный.
Дубравин, старательно изобразив ответную улыбку, широко разводит руками: мол, рады бы вам помочь, но нечем!
Очень хочется ему сказать пару ласковых слов. Но в конце концов он все-таки сдерживается. Предприниматель в нем самом берет верх над журналистом.
На том и расстаются.
IV
«В тёмно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов-колдунов опадает листва, зайцы в полночь траву на поляне косили и при этом напевали странные слова: а нам…» «Надо закрыть периметр до наступления зимы», – отгоняя назойливую мелодию, которая с раннего утра достает, звучит у него в голове, думает Володька Озеров и шагает по бурелому туда, где раздается совсем нелесной звук вгрызающейся в дерево пилы, шум тракторных двигателей, треск падающих стволов.
Он идет по просеке вдоль неуклонно растущего в чаще высоченного бетонного забора с колючей проволокой наверху. И наконец выходит по этой свежевырубленной полосе к месту работы машин. Выходит как раз в тот момент, когда могучая красавица сосна в два обхвата толщиною прощально вздрагивает верхушкой зеленой кроны в синих небесах и неожиданно падает вниз, приминая зеленую поросль. Володьке жалко дерево. Но он гонит от себя несвоевременные мысли и утешается простым рассуждением: «Лес рубят – щепки летят! Зато какое тут будет великолепие через годик-другой!» Его новая мечта о сафари-парке реализуется прямо на глазах.
Дело в том, что их охотничий кооператив, созданный некоторое время назад и организованный под покровительством «неандертальца» Виктора Федоровича Шекунова, никак не вписывается в размеренную и абсолютно мирную жизнь заповедника. Во время охот зверь постоянно пересекает границы их участка, уходит в глубь леса. Они вынуждены его догонять, заворачивать. И эти нарушения выливаются в постоянные разборки с охраной заповедника. Так что иногда дело доходит до скандалов, а в последний раз дошло и до рукоприкладства.
Выход предложил он – Володя Озеров. Идею позаимствовал в одном из западных охотничьих журналов. Создать сафари-парк. Огородить участок забором. И уже внутри начать хозяйствовать по-новому. Разводить разнообразных зверушек. Водить экскурсии к ним…
С этой идеей пошел к начальнику кооператива Аксёнтову. Тот ухватился за нее обеими руками. И, можно сказать, убедил в ее жизнеспособности самого «неандертальца». Тот выделил «инвестиции». И вот теперь шаг за шагом движется, окольцовывает лес бетонный забор.
А внутри него ревущие бульдозеры копают водоем. Уже заказан в Финляндии роскошный охотничий домик. И даже не «домик» в российском понимании, а целый отель со всеми удобствами: финской сауной, небольшим бассейном и четырьмя номерами, отделанными в разных стилях. По местным понятиям даже роскошно. Скоро «домик» начнут собирать на берегу вырываемого пруда.
Озеров даже сочинил, как положено в таких случаях, бизнес-легенду для этого хозяйства. Якобы в этих местах когда-то, лет двести тому назад, жил помещиком отставной штабс-капитан Дурново. И отсюда пошло название местечка. И был этот Дурново знатнейшим охотником. А в данном лесу водилась огромная стая особенных волков. И вот однажды на лесной дороге волки погнались за санями, на которых ехала с кучером то ли жена, то ли любовница самого бравого помещика…
В общем, история получается очень даже душераздирающая и складная. Так что, когда придет время рассказывать ее доверчивым туристам, она сыграет свою роль в создании нужного имиджа хозяйства.
Это новое слово «имидж» Володька тоже почерпнул из иностранного охотничьего журнала. Оттуда он выцепил и основные принципы ведения охотничьего хозяйства, в котором будет налажен полный цикл, включающий процесс воспроизводства звериного стада, охоты, а самое главное, просветительской деятельности среди российского народа. Привития ему любви и бережного отношения к флоре и фауне.
«Здесь моим друзьям будет действительно хорошо. Мы создадим кормовую базу. Огородим участок, где они будут кормиться и смогут спокойно выводить потомство. И может быть, духи леса вернутся в эти места. Поселятся на берегах озера, русалки освоят здешние воды, а домовой найдет себе пристанище в финском кукольном домике…»
Так он мечтает. И пока он прикидывает, каких зверюшек надо здесь поселить, чтобы создать мир, аналогичный настоящему, живому лесу, Сергей Аксёнтов давным-давно все подсчитал. И решил, что здесь будут обитать только те виды, которые могут дать кооперативу серьезный доход.
Впрочем, это не уменьшает энтузиазма, с которым они все дружно взялись за дело.
– Не так ставишь! – у подъемного крана, опускающего очередную бетонную секцию забора, ругается с крановщиком сам Серега. – Левее опускай, тебе говорю! Левее, ах, твою мать! И что делать с этим народом?
Он оборачивает к подходящему Володьке свою лобастую голову с курносым носом и смешными «гитлеровскими» усиками:
– Здорово! С чем пожаловал? – смотрит испытующе буравчиками глаз.
– Нашел хозяйство, где можно закупить по сходной цене пятнистых оленей! – долго не рассусоливая, сразу переходит к сути дела Озеров. – Понимаешь, сто лет назад одна немецкая принцесса завезла сюда, в наши леса, этих самых оленей. И они прижились здесь. Значит, им тут климатит. Вот и нам бы их завезти в наш сафари-парк… Смотри какие они красивые!
И Озеров показывает своему товарищу цветное фото.
– А сколько они там стоят? – не отрываясь взглядом от работающего крана, отрывисто-резко спрашивает Володьку Сергей.
– Ну, тысяч по десять можно купить, если сразу несколько штук, – отвечает Володька, любуясь статными животными.
– А продать?
– Ну, кому как. Я думаю, тысяч по двадцать пять можно.
– Тогда надо брать! Ты сделай записку на мое имя. Я схожу к Шекунову. Думаю, он разрешит. Если такой навар светит…
Володьку слегка даже коробит такой вот прагматичный подход товарища к его предложению. Но ничего не поделаешь. «Назвался груздем – полезай в кузов». Такой уж он человек – Аксёнтов. Грубоватый, конечно. Упертый. Но зато надежный и крепкий.
Он отправляется писать записку, по пути размышляя о странностях судьбы и сложностях жизни в лесу, наполненном таинственными духами и чудесами.
V
– Глядите! Глядите! Пирамиды! – закричал кто-то в автобусе у правого окна.
– Где?
– Да вот же!
– Это?!
В голосах людей слышалось неподдельное изумление и даже некоторая доля священного, давно забытого страха.
Людка очнулась от дремы и повернула голову к окну, ожидая увидеть в нем знакомые еще по школьным учебникам очертания пирамид. Но ничего подобного. Справа возвышалось нечто невероятное, никак не вписывающееся в привычные представления о мире, сюрреалистически-циклопическое… Рукотворная, серая, каменная гора. Склон горы.
Все ее нынешнее путешествие – это открытие мира. Абсолютно нового, ни на что не похожего мира.
А все началось с Герыча. Со швейцара, который когда-то привел ее в кабинет к Владику – старшему менеджеру ночного клуба. Каждый вечер, когда она приходила на работу, он встречал ее ласковой, смешной, заискивающей улыбкой на толстом лице. А несколько недель тому назад неожиданно взял у входа под локоток и зашептал тихо:
– Я тебе, девушка, добра хочу. Дело предлагаю. Тут один мужик богатый-пребогатый ищет себе спутницу в заграничную поездку. Мужик хороший, интеллигентный, – заметив ее недоумевающий взгляд, торопливо добавил он. – Тебе понравится! Что скажешь?
– Георгий! За кого вы меня принимаете? – искренне решила «поломаться» Крылова. – Обратитесь к девчонкам молоденьким. Они с радостью поедут…
– Нет, нет! – оглядываясь, жарко зашептал Герыч. – Это серьезный человек, директор телерадиокомпании. Возраст у него уже. Ему с девчонками, пигалицами неинтересно. Он умный! Вы бы ему подошли. А там, кто знает, – многозначительно глянул он на нее глазами-пуговками, – может, что и сладится…
Ох, уж эта надежда. Всегда она загорается в девичьей душе не вовремя.
В общем, она согласилась. Посмотреть на него.
Вечером, уже после выступления, Герыч в ливрее скользнул за ней по коридору и предложил:
– Он здесь, в клубе. В вип-ложе сидит. Давай познакомлю, а?
И она как в омут с головой. Махнула рукой:
– Давай!
Мужчина и правда оказался интересный. Лет под сорок пять. Первое, что бросилось ей в глаза, – абсолютно лысая голова с маленькими аккуратными раковинами ушей. Вздымающийся куполом высоченный лоб. Мохнатые брови над внимательными, глубоко посаженными серыми или карими (не поймешь) глазами. Сам широкоплечий, подтянутый, но уже выпирает такой плотный тугой живот. Одет просто, в черную, испещренную «золотыми» узорами иностранную майку и голубые джинсики.
Увидев его, Людка почувствовала странное обаяние этого человека. С одной стороны, от него веет каким-то спокойствием, силой, уверенностью в себе. С другой – она интуитивно чувствует, что человек он непростой, непримитивный, живой и, судя по всему, любящий жизнь.
Герыч вышел вперед, представил ее посетителю:
– Наша «звезда»! Людмила Крылова!
– Рад познакомиться! – встал во весь свой довольно высокий рост клиент:
– Вилен Соловьев! – увидев удивление на ее лице, расшифровался: – «Вилен» – значит сокращенно «Владимир Ильич Ленин». Матушка моя была из революционной семьи.
– Ну, я покину вас? – согнулся вопросительным знаком Герыч.
– Да-да! Спасибо! – вежливо отпустил его Вилен. А ей предложил:
– Может, присядем?
Говорили они недолго. А уже через две недели она, сжимая в правой руке только что полученный вишневый заграничный паспорт с визой, вошла под сотовые своды здания аэропорта Шереметьево-2.
И вот тут-то что-то у них не сошлось, не состыковалось, не склеилось.
Честно говоря, Людка еще в процессе подготовки к этой поездке нервничала и злилась. На себя. На него. На весь белый свет. Ела ее, язвила женская гордость. Как же так, она… и поедет вместе с женатым мужиком на две недели за границу. А уже в аэропорту, увидев его и двух его спутников, с камерами, штативами, кофрами и другим оборудованием, представила, что они думают о ней, психанула, заистерила и повела себя абсолютно неестественно, по-дурацки:
– Мальчики! – манерно, с претензией заявила она. – Что же вы не поможете даме?! – и указала на свой чемодан на колесиках.
Они, конечно, помогли, несмотря на то что сами были загружены, как верблюды. Однако между собой насмешливо переглянулись. Эти длинноволосые, бородатые, похожие друг на друга тридцатилетние «мальчики» – оператор и корреспондент, сопровождавшие Вилена на Ближний Восток. Дальше – больше. Она могла бы запросто вписаться в эту небольшую съемочную группу. Стать своей. Чего она и хотела. Но не получилось. Еще несколько ее брюзгливых замечаний по поводу самолета, кресел, напитков, еды – и между нею и этими троими в общем-то хорошими ребятами образовалась тонкая стеклянная стена. Преодолеть которую оказалось труднее, чем Великую китайскую.
Весь перелет она мучилась мыслями о том, что ей придется ночевать в одном номере с едва знакомым мужчиной. И ей казалось, что все в салоне самолета знают о том, что она занимается сейчас эскорт-услугами. И от этой мысли кровь бросалась ей в лицо. Хотелось встать и вцепиться ногтями в физиономию чернявого турка, то и дело оглядывавшегося на нее с соседнего ряда.
Но до Каирского аэропорта долетели благополучно. И тут все куда-то улетучилось. Потому, что она впервые в жизни оказалась за границей. И открыла для себя другой мир. Удивительный и своеобразный.
…Пирамиды – эти рукотворные каменные горы – даже сейчас, в двадцатом веке, продолжали оставаться чудом света. И на этом чуде местные жители – тощие, сморщенные человечки в длинных рубахах-галабеях, разноцветных чалмах, с верблюдами и без – делают свой копеечный бизнес.
«Смешные! – думает она, глядя на суетящихся арабов. – Не нашли ничего лучшего, как по мелочам обманывать доверчивых туристов. Посадят человека на верблюда. Возьмут деньги. Прокатят. И опять требуют заплатить. Теперь за то, чтобы снять туриста с животного».
Хорошо, что им попался толковый гид-переводчик, внятно говорящий по-русски, – выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Этот смуглый, толстый арабский дядечка сразу объяснил им эту нехитрую уловку своих соотечественников. И она обошла стороной мохнатые, тощие, разукрашенные всякими разноцветными погремушками «корабли пустыни».
Голова идет кругом. И она радуется, как ребенок, тому, что видит вокруг. А вокруг – новый ошеломляющий мир. Мир песков и пальм, богатства и потрясающей нищеты. Древний и одновременно современный. Чужой и знакомый до боли.
И в этом мире неизвестно откуда рождаются, приходят в ее неглупую красивую головку интересные мысли: «Надо же как устроились! Кто-то когда-то в древние времена построил все эти чудеса света. Пирамиды, сфинкс. А их потомки ухитрились жить за счет наследства, показывая и продавая талант, искусство и красоту древних». Так она думает, разглядывая потертую египетскую купюру достоинством в сто фунтов. На одной стороне изображен каменный сфинкс, а на другой – мечеть.
Кто бы мог подумать, глядя на эту белую, в соблазнительных шортиках и разноцветной маечке девушку из эскорта, что она обладает тонкой, ранимой, чуткой душой. И способна не только восхищаться красотой древних артефактов, но и рождать новые смыслы, обобщать увиденное.
А обобщать есть что.
Долго вечером на блокпосту собирали туристические автобусы в колонну. Оказывается, ездить по пустыням в одиночку здесь нельзя. Выскочат из-за барханов лихие люди на верблюдах и со страшными кремневыми ружьями. Остановят. И ограбят до нитки. А то еще и убьют.
Когда собралась колонна, подошли полицейские джипы. В кузовах стоят на станках крупнокалиберные пулеметы с черными воронеными стволами.
Наконец уже в сумерках караван трогается в сторону Долины Царей.
Людке интересно. Ее спутник, оказывается, не только большой телевизионный начальник. Этот лысый, с объемным пузиком «атлет-надомник», как она про себя прозвала его, еще и ведущий какой-то телепрограммы.
Вот они и торопятся, пыхтят, снимая все, что открылось бывшим советским людям за «железным занавесом».
Теперь она более-менее ясно представляет смысл их поездки. И с любопытством приглядывается к работе съемочной группы. Иногда, когда надо «оживить картинку», длинноволосый бородатый юноша-оператор просит и ее, нейтрально-вежливо:
– Людмила, постой вот тут. Пройдись перед камерой!
Что ж не пройтись, когда есть что показать?! Она всегда готова.
Но не ко всему.
Неопределенность статуса в этой поездке гнетет ее. От этого она нервничает и злится: «Небось они думают, что я проститутка, раз согласилась ехать с ним. Как им показать свое фе?»
В первую же ночевку в большой, хорошей, четырехзвездочной гостинице она сама не знает, как себя вести. Все ждет, что вот сейчас он начнет приставать. Готовится к выяснению отношений.
Понятное дело, зачем он взял ее с собою. Чтобы насиловать каждую ночь. В конце концов, он здоровенный мужик. А она тоже не маленькая девочка – все понимает.
И она уже настраивается на то, чтобы дать ему понять: на любовь не рассчитывай.
«В крайнем случае сошлюсь на «женские дела», – решает она, укладываясь в ночной рубашке на одну из двух кроватей.
Но все пошло не по ее сценарию. Он умылся, переоделся, подошел, чмокнул ее, лежащую, в щеку и… завалился спать на другую кровать.
Не прошло и пяти минут, как он захрапел в унисон дребезжащему египетскому кондиционеру.
И это ее почему-то возмутило до глубины души: да как он может так себя вести? Пренебречь ею? Ее красотой, обаянием, шармом! Негодяй. Ну ладно же!
Что «ладно же», она додумать не успела. Уснула тяжелым тревожным сном.
Наутро ее ждала похожая мизансцена. Он проснулся. Умылся. Побрился. Чмокнул ее в щечку. И отправился завтракать.
«Может, он импотент?» – гадает Крылова, торопливо допивая чай в ресторане перед выездом.
Так вот и завязалась между ними какая-то невидимая миру интрига, незримая борьба характеров. Людка, привыкшая к мужскому поклонению, возмущена его безразличием. А он, судя по всему, и в ус не дует: «Я не я и лошадь не моя!»
«Ну, погоди же! – думает она, надевая новые шортики. – Я тебя достану!»
«А дорога пыльною лентою вьется…»
Храм царицы Хатшепсут встречает их зноем и испепеляющим солнцем.
Большой белый автобус, напоминающий слона, с длинными бивнями-зеркалами по сторонам, останавливается на ровной площадке, посреди стада таких же двухэтажных исполинов пустыни. Люди ступают на серый песок. И останавливаются в некотором недоумении. Вокруг барханы, в отдалении серо-рыжие горы. Ни деревца, ни травинки. Только горячий ветер, насыщенный острыми песчинками, рвет полы одежды, слегка кусает оголенные руки и ноги. В отдалении, в долине Дэйр-эль-Бахри, на фоне скалистых гор видно геометрически совершенное, длинное, чуть похожее на речную плотину с многочисленными шлюзами-колоннами каменное сооружение. Это сам знаменитый храм, посвященный уникальной женщине-фараону.
До него расстояние – километр-полтора. И идти к нему по обозначенной металлическими столбиками, так называемой песчаной царской дороге. Все туристы трогаются в путь, поминутно оглядываясь по сторонам. Гиды предупредили их, что в последнее время здесь совсем неспокойно и даже опасно из-за боевиков-исламистов.
От этого, несмотря на солнечный день, как-то становится зябко..
Храм впечатляет. Перед входами стоят бородатые каменные истуканы со сложенными крест-накрест руками. В руках – символы царской власти. Вокруг – загадочные существа-сфинксы.
А разбитной усатый гид, с интересом поглядывая на белых женщин, уже рассказывает им невеселую историю жизни фараонши:
– В Древнем Египте женщин в фараоны не пускали. Считалось, что они обычно влюбляются в жрецов. И от этого страна становится очень слабой. Поэтому сама Хатшепсут выходила к людям в мужской одежде с наклеенной бородой…
Людмила слушает и не слушает его торопливую речь. Это уже не первая история женской судьбы Древнего мира, которую она узнает здесь. Там, на берегу моря, в Александрии, ей поведали о трагической судьбе Клеопатры из рода Птолемеев. Прекрасная, как мечта, женщина-царица тоже из-за слабости окружающих мужчин (отец только и делал, что играл на флейте, братья вообще бездельники) была вынуждена занять трон. Взвалила на себя непосильную ношу управления государством. И погибла, поставив опять же, на недалекого мужчину…
«Ах, как сложно все в этом взбаламученном мире. Неужели и ее судьба так зависит от этих двуногих…»
– А когда ее сын пришел к власти, то он приказал все надписи о ее царствовании немедленно стереть, – продолжает свой рассказ кучерявый гид. – Только здесь, в пустыне, забыли…
«Вот она, мужская благодарность за все, что она сделала для него!»
Крылова ходит по плитам храма между узкими колоннами, заглядывает в каменные глаза истуканов и все пытается понять что-то важное, важное для нее. Для ее будущей жизни и судьбы. Эта поездка-путешествие в другой мир заставляет ее непрерывно удивляться, задумываться, сравнивать и анализировать.
Боги и богини Древнего мира. Сколько их здесь? Ведь в этих краях, понимает она, родились сразу три религии. Иудаизм, христианство и ислам. А до их появления на свет были еще и другие многочисленные культы. Голова пухнет и идет кругом от одного только перечисления богов.
Крыловой интересно все. Вот Иштар – нагая и прекрасная предшественница Афродиты. Богиня со стрелами и крыльями за спиной. Стоящая на львах и с львиными когтями на ногах. Считается покровительницей гетер, проституток…
А вот они уже у другого алтаря. Каменный мешок монастыря Святой Екатерины на Синае. А в нем все чудесно. Неопалимая купина – вечнозеленый куст, когда-то засиявший божественным огнем. Стеклянное хранилище черепов и костей нескольких поколений монахов. Почерневшая от времени икона, изображающая духовную судьбу человечества. Долгий, тяжкий путь вверх по лестнице совершенствования. И стремительное падение вниз, туда, где черти с кочергами ждут согрешившего.
Мощи святой. Череп и десница с желтоватой кожей в ларце под стеклом.
И легкомысленная песенка с вечной женской мечтой: «Святая Катерина, пошли мне дворянина…»
Чернобородый греческий монах с огненным взглядом, подошедший к ней прямо во внутреннем дворике храма, где все они как православные паломники получили серебряные кольца с надписью «Agia Aikaterina» (Святая Екатерина). Монах-художник, вглядываясь в ее лицо, шепчет: «Я напишу ваш портрет».
«С чего бы это?» – сначала подумала она, а потом поняла: запал на нее.
И все бы хорошо в этой поездке, если бы не ее спутник. Он ведет себя по-прежнему странно и непредсказуемо. Будто рядом с ним не прекрасная молодая женщина, а давно опостылевшая, смертельно надоевшая, а главное, абсолютно серая мышь. Он ею явно пренебрегает. И это ее бесит. Ей кажется, он глубоко презирает ее. И она уже сама себя презирает за то, что поехала с ним: «Как же я низко пала! С женатым мужиком! На две недели. Знала бы моя мама!»
Она даже не задумывается о том, что все девчонки из их клуба дико завидуют ей. И, собираясь вечером у стойки, перемывают ей косточки, вздыхая про себя: «Ах, кто бы меня пригласил в такой вояж!» Бедные, бедные девчонки! Им невдомек еще, что клуб «Распутин» – совсем не то место, где серьезные мужчины ищут себе спутниц как в короткое заграничное путешествие, так и в длинное путешествие под названием «Жизнь». И их красота вовсе не является пропуском в другую жизнь. Шансом – да! И что их умная, красивая подруга, которой они отчаянно по-женски завидуют, в эти минуты на другом континенте, можно сказать, даже в другом мире, сидит одна в гробнице у пустого саркофага в Долине Царей. И отчаянно просит неизвестную им богиню древнего народа шумеров о том, чтобы та наставила ее на истинный путь…
…Людка отстала от группы. Задержалась в гробнице на несколько минут, разглядывая красочные барельефы на стене, изображающие процессию жрецов. Присела на каменную тумбу. И вдруг почувствовала течение времени.
Мгновение за мгновением, секунда за секундой пронизывают все ее существо: «Тысячи лет стоит здесь этот каменный саркофаг. Боже мой, какая толща веков! И что такое человеческая жизнь даже рядом с этим? Миг. Секунда. И все одно и то же. Круг замыкается. Одни и те же вопросы. Куда идти? Зачем? Зачем все это? Почему я одна? За что наказана?»
Неожиданно для себя самой она достает белый листочек бумаги, на котором зачем-то позавчера записала перевод древней молитвы богине – покровительнице женщин Иштар.
«Почему я одна? – исступленно повторяет она, вспоминая все свои попытки наладить жизнь, вернуть в нее любовь и нежность. – Ответь мне! – обращается она и к богине, и одновременно ко всем тем женщинам, чьи судьбы прошли перед нею в этом путешествии. – Где вы? Хатшепсут, Катерина, Клеопатра! Вы тоже жили на этой земле. Тоже страдали. Наверное, также надеялись на счастье».
Движимая каким-то внутренним чувством, она начинает лихорадочно читать слова древней молитвы, дошедшей до нас из глубины тысячелетий:
Хорошо молиться тебе, как легко ты слышишь! Видеть тебя – благо, воля твоя – светоч! Помилуй меня, Иштар, надели долей! Ласково взгляни, прими молитвы, Выбери путь, покажи дорогу. Лики твои я познала – одари благодатью! Ярмо твое я влачила – заслужу ли отдых?Спустившийся за ней вниз в гробницу гид-переводчик в своей синей галабее не увидел ее слез. Отставшая и потерявшаяся в каменном склепе, прекрасная белая женщина шла ему навстречу с осанкой и величественностью, достойной дочери фараона.
* * *
Из аэропорта Шереметьево ребята-операторы поехали в Москву на такси. А ее Вилен взялся подвезти до квартиры. Всю дорогу в машине они сидели на заднем кожаном сиденье и молчали. Напряженно молчали. Не сложилось. Как встретились абсолютно чужими, так и расстаются. Людка по дороге вспоминает шумный Каир, отвратительную сцену у Каирского музея, где их остановила целая толпа нищих мелких торговцев, пытающихся всучить им свои сувениры – каменные статуэтки, пергаменты, пластмассовых скарабеев. Один тощий мужик в чалме и грязной длинной рубахе прицепился к ней. В руке черная каменная статуэтка бога Анубиса с головой шакала. Бежит следом, пытается хватать за рукав. А полицейский в черной с ног до головы форме и с палкой отгоняет его. Потому что приставать к туристам, кои являются в Египте «священными коровами», нельзя. Но бедному мужику, видно, надо что-то продать, потому что хочется есть. И он не отстает. Убегает от полицейского в сторону. А потом снова приближается к туристам с другой стороны.
Тогда страж порядка берет с земли камень и швыряет в бедолагу. Удар приходится в спину. И мужика-египтянина просто «разворачивает» от него. Он отскакивает, пытаясь нащупать, потереть место на спине между лопатками…
И от этого воспоминания жалость на какое-то мгновение проникает в душу, растапливает лед, которым покрылось ее сердце. И неконтролируемая, идущая откуда-то из глубин ее существа бабья жалость к людям, страдающим на этой земле, переливается через край и заставляет ее произнести своему спутнику:
– Ты извини меня! За все! Я не хотела! Все как-то так само собой получилось!
И эти несколько простых, человеческих слов что-то ломают в их отношениях. Краем глаза она видит, что в эти последние минуты он размягчается. Разжимаются сжатые челюсти.
– Да, ладно, Люд! Ты позвони мне завтра. Что-нибудь придумаем…
VI
«Опять лжет, как сивый мерин! За ним все время надо следить. Точно по поговорке, которую любит моя матушка: “Как дыхнет, так и брехнет”. И самое главное, он верит в то, что говорит. Лжет вдохновенно, с фантазией, перемешивая правду и вымысел.
И попробуй отдели одно от другого! Лжет всегда и везде, где-то чуть-чуть изменяя смыслы, а где-то прямо сочиняя целые истории.
Но как же я-то ошибся с этим гаденышем?! Где были мои глаза, когда я брал его на работу?! А потом куда я глядел? Ведь у него на роже написано, что он плут и мошенник. Или это мне только кажется? Теперь кажется!»
Дубравин откидывается в черном на колесиках кресле и снова вглядывается в лицо сидящего перед ним человека. Чем-то Володя Сигняк напоминает ему большого черного кота. Черные взъерошенные волосы, такие же усы, бакенбарды. На круглом лице большие, навыкате глаза. Засаленный черный костюм. Но главное – манеры. Убаюкивающие, мягкие движения. И говорит, «словно реченька журчит». Говорит то, что собеседнику хочется слышать:
– Деньги уже перечислены. И должны поступить в ближайшее время! Я сам лично звонил и проверил, – вдохновенно рассказывает финансовый директор историю до сих пор где-то зависшего платежа от крупного европейского рекламодателя…
Дубравин тяжело вздыхает. Он попросил вчера главного бухгалтера позвонить в представительство. И бухгалтерша выяснила, что платеж никуда не уходил. Но спорить и ругаться ему не хочется. Потому, что это повторяется из раза в раз. Он прокричится. А Сигняк тут же, не тушуясь, сочинит новую историю.
«Патологическая лживость! – думает Дубравин. – И главное, не от страха. Вот другие врут, потому что боятся нагоняя, неодобрения. А этот лжет, чтобы выгадать. Так вот он меня тогда и очаровал. В самом начале. Когда я только начинал директорствовать. После Чулева. И видишь, чем оно все заканчивается. Грандиозным скандалом на самом верху. И как-то он еще нам этот скандал “отрыгнется”? То-то и оно. От негодяя надо избавляться аккуратно. Без шума и пыли…»
* * *
Впрочем, эта история для Дубравина началась тоже со скандала, случившегося при выборах главного редактора.
Дело в том, что Протасов их проиграл. Проиграл, потому что команда его не выступила за него единым фронтом, а раскололась. И тот же Чулев предпочел не идти за ним, а договариваться с противной стороной.
В результате проигрыша Протасов обиделся на всех. И решил «хлопнуть дверью». Покинуть сакральное место – шестой этаж. Съехать.
И отбыл на новую точку вместе со своей красавицей секретаршей. А местоблюстителем решил оставить того же Чулева. Ну, то есть сделать его вместо себя генеральным директором не только группы «Завтра», но и собственно молодежной газеты.
Дубравин и Паратов, слегка ошеломленные такой перспективой, возражали ему. Уговаривали остаться. Но мужик – что бык. Втемяшится ему в башку такая блажь. Колом ее оттуда не вышибешь. Протасову втемяшилось, что он, сидя где-то на задворках, будет разрабатывать стратегии развития, общаться с народом, писать мемуары. А верный Петя станет трудиться на него.
Сказано – сделано. Съехал он в палаты, доставшиеся молодежной газете от почившего в бозе Центрального комитета комсомола. И стал там жить-поживать. А поначалу робкий и не очень уверенный в себе Петя стал обретать в коллективе аппаратный вес.
И вместе с этим аппаратным весом сосредоточивать в своих руках всю исполнительную власть. Дела решать единолично. Не советуясь с товарищами по партии. И даже постепенно оттесняя их.
Не прошло и полугода, как стали они чувствовать по разговорам в трудовом коллективе, по тому, как долго им приходится сидеть и ждать аудиенции в приемной, что Петра слегка заносит.
Протасов тоже понял, что дал маху. И стал срочно возвращаться на этаж. К месту, где на самом деле решаются проблемы.
Но не тут-то было. Чулев решил «замыливать» дело: «Нет подходящего кабинета для тебя! Да подожди – вот сделаем ремонт». А сам в это время лихорадочно договаривается с новой редакцией и младшими партнерами: «Изберите меня президентом общества с неограниченными полномочиями!»
В общем, налицо классическая ситуация, описанная Шекспиром в бессмертной трагедии «Король Лир».
Чашу терпения всей команды переполнила одна-единственная, но не последняя капля. В виде новенького синенького «мерседеса». Однажды утром Петя прибыл на нем на работу. И получился большой «Бенц». Потому что вся теплая компания, как это часто бывало в эпоху раннего капитализма, договорилась: зарплату будем получать поровну. Несмотря на разные доли и проценты в собственности предприятий. Ну, а так как у других на «мерседес» не накопилось, Протасов стал спрашивать у Чулева: «Откуда деньги, Петя? Ребята ездят на простеньких “жигулях”. Я сам – на подержанной “вольве”. Что за барские замашки?»
Чулев не очень внятно объяснился с коллективом: мол, в старые времена я персидскими коврами торговал. На них и шикую!
Но коллективный разум подсказал ребятам, что у Петра началось легкое головокружение от успехов. Больно высоко взлетела птичка. Как бы не обожгла крылья. И его надо слегка остудить и опустить на землю. В общем, собрались они в тихом месте. Провели собрание и порешили: «Ввиду большой занятости и загруженности в молодежной газете освободить товарища Чулева от должности генерального директора группы “Завтра”. И направить на эту работу господина Дубравина».
Так их дружная четверка потерпела внутренний раскол. Чулев затаил обиду. И при каждом удобном случае ставил когда шпильку, а когда и подножку Дубравину. И капал, капал на него, «точил ножи».
И вскоре Дубравин на собственной шкуре почувствовал правоту великого безбожника Карла Маркса, что «жизнь есть борьба». Теперь они боролись не только с агрессивной внешней средой, но и между собою. Вступая в зависимости от ситуации то в сотрудничество, то в конфронтацию в разных конфигурациях: три на одного, два на два или один на один.
Оказавшись в кресле генерального, Дубравин понял, что у него нет опыта в финансовых делах. И решил найти себе помощника по этой части. Так на свет божий появился мистер Сигняк.
«Вот это то, что мне надо! – думал тогда Дубравин. – Настоящий финансовый директор. Не то, что эти толстозадые бухгалтера. Что не скажешь им: надо сделать – все нельзя. По инструкции “низзя”. А нам на их инструкции, на их “не положено”, хочется положить… Черт бы побрал эти параграфы…»
Радовался он такому помощнику. И его готовности разгрести дела. Тем более что после Чулева грошей в группе «Завтра» было негусто.
Сигняк обещал найти деньги. Провести ревизии. Упорядочить финансы.
Однако начал он с того, что предложил Дубравину реализовать довольно-таки странный прожект:
– А давайте создадим «Банк молодежной газеты», – как-то на голубом глазу заявил он. – Народ газете доверяет. Понесет денежки. Мы можем очень неплохо заработать на этом деле. И вы лично тоже!
Слегка поразмыслив над чудным предложением, Дубравин ответствовал:
– Ну а если банк лопнет и «эффективные менеджеры» разбегутся с деньгами вкладчиков-подписчиков? Кто за это ответит? Скорее всего, сама молодежная газета. Она потеряет моральный капитал, наработанный десятилетиями. Люди от нее отвернутся. И газета умрет от такого скандала.
– Но деньги-то останутся у кого-то! – парировал его заявление непризнанный финансовый гений, облизывая слегка пухлые алые губы под усами.
Такие интересные заявления заставили Дубравина повнимательнее приглядеться к новому сотруднику. И выяснилась масса любопытного. Работники службы безопасности намекнули ему, что господин Сигняк, выезжая на места для проверок, любит выпить и погулять за счет региональных предприятий. А еще он занимает деньги у сотрудников. И не отдает. И занимает он практически у всех.
…У Дубравина Сигняк тоже занял немаленькую сумму. Пришел, расплакался: моей семье негде жить, надо купить квартиру! И попал точно в цель. Дубравин вспомнил свои студенческие мытарства по съемным комнатам. И дал из собственной зарплаты. Сколько мог.
Прошло несколько месяцев, в течение которых новый финансовый директор изображал бурную деятельность на ниве радения за благополучие холдинга «Завтра». Но никаких зримых плодов его усилия не принесли. Непостижимым образом все договоренности срывались. Как будто злая судьба, рок, фатум вмешивались в деятельность этого человека. Дубравин перестал возлагать на него какие бы то ни было надежды. И остался бы Сигняк в истории молодежной газеты простым болтуном, мелким авантюристом, новоявленным Хлестаковым, если бы не одно обстоятельство.
Вот Дубравин сейчас в разговоре и пытается выяснить, не «слил» ли Володя важную информацию, из-за которой в это время в самых верхах разгорается грандиозный скандал.
И скандал этот связан с репутацией российских приватизаторов.
Дело в том, что их контора «Завтра» тесно связана с экономическим блоком правительства. Она по договору продвигает в массы, а проще говоря, рекламирует на страницах своих газет деятельность Анатолия Борисовича Чибисова. Связи складываются тесные, доверительные. Деньги за продвижение выплачиваются немаленькие.
И вот как-то, по ходу дела, выясняется, что Максим, Дима, Аркаша, Саша, Альфред, Петя и другие мальчишки пожаловались Анатолию Борисовичу: пашем, пашем, а отдачи не чувствуем! Мол, зарплаты у людей, ворочающих сотнями миллиардов, мизерные. И хорошо было бы их труд поощрить.
Но как? Ведь за ребятами все следят. И аппарат, и хищники, жаждущие отхватить хорошие, жирные куски при приватизации.
А в то время с подачи Ельцина появился сравнительно новый способ заработка для чиновников. Издание книг. Заключаешь договор с заграничным издательством на мемуары и получаешь, сколько душенька пожелает, гонорара за целую книгу. Вот Чибисов и предложил через «Завтра» выплатить группе товарищей гонорар за книгу «Приватизация по-русски» в размере ста тысяч долларов. Невиданные в те времена деньги. И не беда, что о такой книге никто и слыхом не слыхивал. Главное, чтобы договор был составлен по всем правилам. Так и сделали. Но не учли одного обстоятельства. Того, что новый генеральный директор «Завтра» господин Дубравин решит проверить свое финансовое хозяйство. И пошлет Володю Сигняка разобраться с бумагами, подписанными его предшественником. В ходе проверки всплывет и этот платеж. Но Дубравин выяснит у Протасова и Чулёва подоплеку дела. И засунет акт в дальний ящик.
Вдруг через полгода история неожиданно всплывает в виде грандиозного скандала в прессе. И у Дубравина закрадывается подозрение. Не продал ли эту информацию проверяющий Сигняк заказчикам скандала. А среди таковых числятся и Борис Абрамович, и Владимир Александрович, и другие очень известные люди.
А пока жена Протасова срочно пишет бестселлер о приватизации, чтобы предъявить его мировой общественности и «россиянам», Дубравин с помощью ребят из службы безопасности копается в связях Сигняка, попутно выясняя, что Володя деньги занимает вовсе не на квартиру, а чтобы играть на бирже и что Сигняка часто ждет у офиса машина с оперативными номерами, принадлежащими Федеральной службе безопасности. И вообще он сукин сын, мелкий жулик и авантюрист. К тому же награжденный медалью правительства одной африканской страны за «особые заслуги».
«Да, накручено с ним немало. И очаровал он меня, похоже, не без помощи некоторых приемов нейролингвистического программирования, которым обучают специальных агентов. Видно, перед тем как внедрять его к нам, с ним поработали неплохие специалисты. Научили простым и эффективным вещам: повторять движения своего собеседника, говорить то, что он хочет услышать. Сбивать его с толку какой-нибудь неожиданной фразой. Втираться в доверие. Вот и получается, что он засланный казачок. И надо с ним расставаться «по-хорошему».
– Однако, товарищ Сигняк, – говорит Дубравин, кладя перед финансовым директором докладную записку. – На, почитай!
И пока Сигняк, ерзая на стуле, перечитывает свежую версию своей биографии, добавляет:
– А ведь ты не финансист!
Тот вскидывает на него пришибленный взгляд.
– Ты, Володя, шпион, к нам присланный. Вот только непонятно кем. Поэтому у тебя с финансами и нелады…
И, чувствуя, что он недалек от истины, Дубравин добавляет:
– А вот представь себе, что я расскажу о той проверке, которую ты проводил по моему приказу. И о твоей находке. Расскажу, кому надо. Да еще и деньги ты не возвращаешь. Ну, деньги ладно, я у тебя из зарплаты буду высчитывать… В крайнем случае продадим твою квартиру. Или ты ее не покупал? В общем, ты, Володя, хорошо подумай о перспективах, которые могут возникнуть у тебя в связи с открывшимися обстоятельствами…
* * *
Через три дня Сигняк исчез. Перестал ходить на работу. Растворился в гигантском мегаполисе. Поиски его с помощью наличных сил и средств результата не дали. Вместе с ним растаяли надежды трудящихся вернуть когда-нибудь одолженные средства. Но Дубравин не заморачивался. Взамен он приобретал нечто более ценное. Опыт жизни в новой стране, где все воюют против всех.
VII
Горы тут не скалистые и не снежные, а сглаженные и покрытые лесами. Их мягкие очертания уходят за горизонт.
Мощенная дорожка под названием «терренкур» то вьется по зеленым склонам, то, пересекая лужайки, снова спускается вниз в парковую зону. Каждый день Анатолий выходит на свою основную длинную прогулку и неторопливо, разглядывая диковинные деревья и подкармливая шустрых белок, бегающих в курортном парке, проходит намеченные врачами километры. Сегодня он, как всегда, остановился посередине маршрута у киоска «Союзпечати», чтобы прикупить свежие газеты. Из обычного набора в киоске только «Комсомольская правда» и «Труд». Поэтому капитан просит показать ему еще и лощеный глянцевый путеводитель-справочник с красочными фотографиями Кавказских Минеральных Вод.
Пролистывает его. И на пару минут вчитывается в описание Кисловодска: «Кислые воды, курорт с названием, созвучным Горячим водам, был основан в 1803 году возле источника нарзана… Оба курорта развивались под пристальным вниманием главнокомандующего на Кавказе князя Павла Цицианова и Императора Александра I…
…Главную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания играет кисловодский курортный парк – самый большой в России (около 10 кв. км). Его история начиналась с небольшой рощицы…
…Погода в Кисловодске обычно малооблачная, солнечная, даже когда в других городах-курортах пасмурная…»
– Беру! – говорит Казаков и протягивает старой, морщинистой, но накрашенной и оштукатуренной бабульке-киоскеру мятую бумажку.
Она радостно подхватывает ее с прилавка «куриной лапкой» и подает ему газеты и справочник уже в цветном целлофановом пакетике.
– Анатолий! – кто-то игриво-зовуще окликает его сзади знакомым нежным голосом. Он резко оборачивается и видит свою соседку по столу – девушку лет тридцати.
– Вы тоже гуляете? – спрашивает она.
– Ну да! – смущается он, как будто застигнутый за чем-то неприличным. – Хожу вот. Врачи прописали.
– Так давайте гулять вместе! Давайте пройдем к собору, вон туда!
– Давайте! С удовольствием! – отвечает капитан и еще раз окидывает ее теплым взором. Соседка ему нравится. Какая-то она вся нежно-женственная, округло-воздушная. Небольшого росточка. Лицо овальное, чистое, глаза со смешинкой, носик-пуговка, губки сердечком. Только одевается не очень. Постоянно в брюках и наглухо застегнутых свитерах. Они у нее, судя по всему, на все случаи жизни.
– А где же ваша спутница? – чтобы поддержать разговор, задает дежурный вопрос Анатолий, памятуя, что обычно его соседка по санаторному столу гуляет с подругой. И подруга эта резко отличается от нее по всем параметрам. Лицо девичье, а подстрижена нарочно коротко «под мальчика». Одета тоже в джинсы и синюю куртку, но из таких грубых индийских тканей, без всяких женских признаков изящности, как будто нарочно. И манеры у этой девахи странные. Она все время курит. Пытается басить в разговоре. А на запястье у нее наблюдательный капитан заметил синюю татуировку. «Как у зэчки», – подумал он тогда.
Но сейчас подружки нет рядом. И Светлана, так зовут эту уже не юную девушку, ловко подхватывает Казакова под руку, чтобы чинно двинуться по обрамленной вечнозелеными кустарниками аллее к виднеющемуся на пригорке белому многокупольному храму. Свято-Никольскому собору.
– Хотите, расскажу анекдот? – щебечет она по дороге.
– Ну да! – подстраивается к ее игривому тону Казаков.
– «Знаешь, дорогой! – говорит невеста жениху, – жизнь так глупо устроена». – «Почему?» – спрашивает он. – «Все, что я люблю, либо безнравственно, либо от этого полнеют».
Анатолий на всякий случай усмехается. Но сути анекдота не понимает. Только догадывается, что смысл тут тонкий, недоступный его солдатскому интеллекту. И, наверное, действительно с намеком.
Но прогулка со Светланой удается. Она так заразительно смеется над его солеными солдатскими анекдотами с портянками и прапорщиками, так нежно прижимается к нему в пустом храме. От нее так пахнет пряными восточными духами, что он просто по-мужски, для себя, все решает сразу.
– А вечером, Анатолий, приходите в кафе! Посидим, выпьем! – на прощание приглашает она его. – Поболтаем о том, о сем.
* * *
«Курортный роман. Знамо дело. Дамочка вырвалась из домашней колеи. Вот и оттопыривается», – думает он, ожидая за столиком санаторного кафе и потягивая красное вино местного разлива.
Но приходит она почему-то не одна. А с той самой, косящей под мужичка, подругой. Ну, что ж делать. С подругой так с подругой.
Все равно весело. Девки прилично шутят. Рассказывают о столичной жизни. И так хорошо набираются красненьким, что он понимает: дело пахнет продолжением. Причем подружка, которую зовут Александрой, так панибратски чокается и трется об него, так заглядывает ему в глаза, что он даже задумывается: «Какую из них сегодня валить?» Но, приглядевшись повнимательней, замечает одну деталь. Обе они как будто во что-то играют. Что-то доказывают друг дружке. Я, мол, могу и вот так.
И в какой-то момент его осеняет, что мужеподобная Александра подбивает клинья не к нему, а к Светлане.
Он, как парень неискушенный во всех этих хитросплетениях столичных штучек, сначала удивляется. А потом его после очередного бокала заклинивает. «Чего эта не мужик, не баба тут сидит? Мешает мне!»
Тем более что в кафе уже никого нет. Все разбрелись кто куда. Остался только их столик. И официантка в белом переднике, похожая на Гурченко, уже не раз недовольно поглядывает на часы.
И он решительно начинает намекать этой второй, что ей пора бы отчалить. А то, мол, я туго соображаю, что к чему, после контузии и еще хуже владею собой после выпитого. Ну, в конце концов, «полумальчик» понимает. Пару раз сигнализирует глазами подвыпившей подруге. И когда та не отвечает, видимо, обидевшись до глубины души, отчаливает в сторону санаторного корпуса.
Тут Казаков проявляет военную инициативу. И как Светлана ни отнекивается, все-таки напрашивается «на кофеек».
Там с шутками, прибаутками Казаков, здоровенный детина, по дороге от лифта подхватывает Светлану в охапку и доносит по длинному, покрытому красной дорожкой коридору до одноместного номера, где она обитает. И, конечно, кофейком все не заканчивается.
Они, лежа одетыми, целуются, сплетаясь языками. И взрослая девушка уже начинает испытывать его терпение, ломаясь неприлично долго. Так что ему приходится применять всевозможные мужские хитрости, так и сяк катая ее по покрывалу. Пока, наконец, не удается расстегнуть ее грубую вязаную кофточку и «взять в работу» оказавшиеся удивительно упругими смуглые, округлые, с возбужденно-торчащими сосками груди. И только он начинает нежно-нежно мусолить их языком, как она тут же обмякает на его руках.
Ну а дальше дело техники. Он ударно трудится. В пьяной голове звучит ритмичная песня: «Я уже давно не молод, но еще могуч мой молот. Наковальня стонет звонко…»
Вместе они дружно набирают темп…
И тут… В двери номера кто-то начинает скрестись. Тихонько так.
И их едва наладившийся дуэт сразу распадается. Светлана, как пантера, выскальзывает из-под него и подбегает к двери. Казаков в некотором недоумении остается лежать на кровати.
А через дверь идет активный диалог:
– Ты зачем пришла? Потом разберемся! Я сейчас не могу! Уходи!
Снаружи укоризненно-умоляющей скороговоркой:
– Кто у тебя? Он у тебя?
Казаков полежал-полежал. И тоже поинтересовался:
– Это кто к нам пришел? Может, ошиблись номером?
– Да, это так! – возвращаясь к нему, отвечает девушка. И, увидев косой шрам на его боку, меняет тему разговора: – Что это у тебя?
Но он не хочет откровенничать:
– Да, это так! След жизни на земле. Когда долго живешь, на теле остаются следы, – говорит нехотя он. А сам все анализирует происходящее: «Черт возьми, знакомый голос там, за дверью. Где же я его слышал?» И вдруг соображает: «Вот оно что! Это же та, ряженая под мальчика подружка. Та, что сидела с нами до последнего в кафе. А чего ей надо-то?»
Затем вся эта вечерняя мозаика складывается в его головушке: «Эван, оно что! Кофточки и брючки. Девочки, как мальчики. Э… Так, похоже, у них любовь однополая», – думает Казаков. И решает: «Теперь уж я точно отсюда не уйду, пока не закончу дело!»
А Света укладывается в кроватку. И ему снова приходится браться за нее. Возни много. А любви ну никак не получается. Теперь она все оглядывается на двери. Нервирует его. Так что проходит немало времени, пока все налаживается…
Стонет она сладко под ним. И он кончает с большим удовольствием.
Обычно, в таком удачном случае, девушка срочно эвакуируется в ванную. Но счастливая Светлана никуда не торопится. Поэтому он на всякий случай с солдатской прямотой спрашивает:
– А ты не боишься того, залететь?
На что она счастливо-понятливо смеется и спохватывается:
– Ох, и правда! Отвыкла уже! – и уходит в ванную. Плескаться.
А он лежит и думает горделиво: «Вот так вот! Супротив настоящего мужика с “инструментом” какой “обмылок” устоит. Суррогат, он и есть суррогат. Тоже мне Александр, недоделанный мужичок». А на следующий день ему приходится наблюдать в парке сцену дикой ревности в этой паре. Светлана пытается все-таки «наладить отношения» и «замолить грех». А партнерша устраивает ей обструкцию. С истериками и слезами.
К вечеру они, кажется, мирятся.
А он коротает этот вечер в бильярдной у зеленого стола. С такими же «холостыми» мужиками. А потом, засыпая, думает о своей судьбинушке.
VIII
Протяжный крик муэдзина на минарете раздается как раз в тот момент, когда Амантай досматривает свой самый сладкий утренний сон.
«Наверняка этот призыв записан у него на пленку и пущен через громкоговоритель», – раздраженно думает помощник президента о неизвестном ему служителе культа, который, судя по всему, не утруждает себя подъемом на минарет пять раз в день, а просто использует доступные технические средства.
Амантай встает с широкой кровати. В трусах подходит к окну. Отодвигает тяжелую штору. И долго вглядывается в панораму просыпающегося Стамбула. Внизу, на улице еще пусто. Ни людей, ни машин. Только светофоры вдоль трассы продолжают неутомимо играть разноцветными огнями, включая поочередно красный, желтый, зеленый.
Через дорогу в рассветной темноте высится громадой купола большая, окруженная четырьмя минаретами мечеть. На каждом минарете символ – звезда, притаившаяся в объятиях полумесяца. Амантай уже кое-что знает об этих османских символах богатства и верховной власти.
– Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ашхаду ан ля иляха илля Аллаху… (Аллах велик! Свидетельствую, нет бога, кроме Аллаха…)
Но сердце его не откликается на призыв к молитве. Потому, что разум его сейчас занят делами сугубо земными.
Он проходит к холодильнику, наливает стакан воды из бутылки. Садится у стола. Все равно теперь не уснуть. А вот готовым ко всему надо быть. Ведь он не просто высокопоставленный чиновник, а лицо приближенное. Ничего что номер у него в отеле простенький. По статусу помощнику президента роскошь не полагается. Спасибо, что есть хоть ковер на полу…
…Тогда он правильно определился. Отчалил от Кажегельдина, когда тот стал неудобен самому. Раскритиковал его в передаче на телевидении. Особенно его книгу «Оппозиция Средневековью». В ней бывший премьер-министр обвинил президента не только в авторитаризме, но и в скатывании в клановость, в привычку управлять страною с помощью друзей и родственников.
Выступление Амантая сразу было замечено и той, и другой стороной. Друзья – он условно назвал их «демократы» – заговорили о предательстве. Да только он так не считает. Долгая жизнь в «аппарате» уже научила его некоторым правилам. И он их хорошо знает. Первое – смотри в зад вышестоящему и клади в рот нижестоящему – к нему не относится. Второе – донеси начальству первым – он тоже игнорирует. А вот третье – падающего вниз подтолкни – соблюл. Ну, а сейчас он проверяет на себе четвертое. Важно, не какую должность ты занимаешь, а как близок к телу «хозяина». И, похоже, так оно и есть. Вроде бы, по официальной табели о рангах, пост министра в правительстве был выше его нынешней должности – помощника президента. А вот по возможностям влиять на ход дел – не сравнить.
Акежан все эти правила игнорировал – вот и слетел. Теперь его преследуют с тем же жаром и пылом, с каким совсем недавно пресмыкались. И, главное, одни и те же люди.
Он, Амантай Турекулов, имеет возможность совсем близко видеть их. Тех, кто составляет ближний круг. И они по ходу дела уже обучают его пятому правилу чиновничьей жизни. «Чем бы ты ни занимался, ищи выгоду для себя». Особенно отличаются в этом деле представители старой, еще «коммунистической гвардии». Видимо, они так долго сдерживали свой аппетит, что теперь буквально «кусками заглатывают» все, что недавно принадлежало государству. Наверное, самый доверенный это Сыздык Атишев – главный казначей «папы». Именно он управляет через западных юристов частными фондами, куда стекаются денежки от приватизации. Его «правая рука» – Булат Утегуратов. У него богатая чиновничья карьера – множество важных государственных постов. И он ни одного дня не работал в частном бизнесе. Но уже умудрился стать миллиардером.
Или Бауржан Мухамекжанов – министр юстиции. А по совместительству крупный инвестор в недвижимость эмирата Дубай. Является лучшей иллюстрацией бессмертной цитаты из «Золотого теленка»: «Представители милиции могут быть приравнены к детям!»
Есть среди ближнего круга партийцев и не казахи. Но все равно очень влиятельные люди. Это управляющий делами президента скромный и незаметный Владимир Витальевич Ни. Отличился тем, что обширнейшее хозяйство бывшей коммунистической партии – партийные школы, резиденции и виллы, гаражи и санатории, рыболовецкие хозяйства и охотничьи угодья – приватизировал в пользу никому не известной алма-атинской фирмочки с копеечным капиталом под названием «Хозу».
Разумеется, и люди президента, и сам удачливый приватизатор оказались в числе учредителей этой внезапно разбогатевшей компании.
Вторая часть близких к телу людей – это родственники президента. И не только семья.
У казахов, понятное дело, и дальний родственник тоже родственник. А посему постоянно надо учитывать в делах кто кому кем приходится. Чья троюродная сестра за чьим дядей или племянником замужем.
Каждый казах знает свою родословную до седьмого колена. Это необходимость. Иначе не выжить. Но сейчас началось такое. Повальные поиски среди своих предков великих ханов, батыров, каких-то выдающихся акынов…
А покопайся в их родословной, и найдешь у тела нашего демократа немало людей из рода Шапрашты.
Ну и третий круг – это молодняк. Ребята чуть за тридцать. Назарбаев, ничего нельзя сказать против, мудро поднял и поставил во главе крупных банков и корпораций образованную молодежь. Приблизил к себе, справедливо полагая, что человек, который стремительно поднялся по социальной лестнице под его покровительством, должен быть по гроб жизни благодарен и лоялен.
К ним принадлежит и Амантай.
С ними ему проще общаться, чем с теми, кто уже в советское время был у руля власти и кто по сей день пытается мериться с «ноль первым» своей родословной и кичится своими заслугами перед «оккупантами». Амантай тоже их знает. Эту старую, еще советскую казахстанскую аристократию. Академики, министры, директора, писатели, их дети, внуки, правнуки – сколько же хлопот они доставляют президенту! Каждый считает нужным прийти к нему на прием. Встретиться, поговорить. А самое главное – дать совет, как управлять республикой. Хотя реально вся полнота власти и вся ответственность лежат только на одном человеке – на самом президенте.
Близость к первому лицу заставляет адаптироваться. С Кажегельдином нужно было показывать свой ум, квалификацию, умение решать проблемы. На новой должности акценты расставляются по-иному. Амантай знает свои недостатки. В частности, вспыльчивость, когда он может накричать на человека, дать волю эмоциям. Идет она от обидчивости. А та опирается на личную гордость. Но здесь он учится скрывать эту гордыню, понимая, что одна такая вспышка может ему очень дорого стоить. Более того, он старается изо всех сил вписаться в местные нравы. На праздниках и вечеринках Нурсултан Абишевич очень даже приятный и демократичный человек. Может взять в руки баян и с удовольствием исполнить что-нибудь из своего репертуара. Особенно удаются ему советские песни: «Подмосковные вечера», «Самара-городок»…
В прошлый раз блеснул своим искусством и Амантай. Он принес с собою на такой праздник любимую гитару. И сыграл. Да как сыграл! Не зря первые уроки игры на инструменте давал ему сам Лёля – любимец жемчужненских девчонок. А потом он неустанно совершенствовался в этом искусстве – и в университете, и в комсомоле.
«Ах, какая женщина!» – звучало призывно и маняще в зале центрального ресторана Алма-Аты.
Он и домру не забыл. Взял. И спел. На казахском. Чем привел в восторг даже своих недоброжелателей.
Нет, он не учит для шефа какие-то специальные песни, чтобы ублажать его слух. Он ощущает реальное созвучие душ. Реальную тягу к прекрасному, в чем бы оно ни выражалось.
Через это прекрасное – будь то музыка, песня, картина, автомобиль – он, Амантай Турекулов, сын правоверного коммуниста, внук «степного разбойника» – барымтача, идет навстречу будущему, чувствует пульс новой жизни.
И, конечно, на фоне всей этой серой массы чиновников, окружающих президента, его таланты выделяются особым блеском.
И, может быть, есть еще нечто, за что президент отметил и приблизил его к себе. За веру, которая еще не угасла. Амантай, несмотря ни на что, верит в свою страну. В то, что казахский народ способен создать государство. Понимает, что впервые, может быть, за тысячу лет у людей есть такая перспектива, такой шанс – жить самим по себе. И этот шанс они должны использовать по полной, только он дает им возможность стать субъектом мировой истории.
От такой перспективы захватывает дух. Они, можно сказать, не только присутствуют, но и сами участвуют в творческом акте. Создании нового государства.
А пока Амантай собирает, пакует вещи перед отлетом у себя в скромном номере. И грезит наяву великими делами, охватывая, словно орлиным взором, просторы страны.
Однако в этот утренний час, в момент его творческого взлета и таких вдохновляющих размышлений он вдруг слышит слабый, но требовательный звонок телефона. Как молния, бросается помощник к аппарату. А из трубки уже доносится раздраженный голос самого:
– Зайди ко мне!
Он спешит по зеленым ковровым дорожкам бесконечных коридоров отеля. Мягко щелкнув, бесшумный лифт с зеркалами внутри доставляет его на нужный этаж. К дверям президентского люкса.
Амантай выдыхает воздух и проскальзывает внутрь мимо стоящих рядом «бодигардов» в черных костюмах.
Пересекает прихожую. И попадает в роскошно отделанную синим бархатом, с вычурной, эксклюзивной белой мебелью гостиную. Посередине стоит полностью одетый в прекрасно сшитый синий костюм, в белой рубашке, при галстуке сам. Всё в порядке. Кроме одного. Президент стоит на ковре… босой.
– Где носки? – спрашивает он помощника.
В груди у Амантая вспыхивает раздражение: «Я, что ли, отвечаю за ваши носки?» Но он гасит его, понимая, что дела плохи. Носки, видимо, вместе с остальным багажом уже уехали на борт самолета. И кто в этом виноват, президент разбираться не будет.
Как стая ворон, поднимаются черные мысли: «Конец всему! Конец карьере!»
Но через секунду спасительное решение приходит откуда-то сверху: «У меня же есть свои носки!»
– Нурсултан Абишевич! По-моему, они у меня в номере!
Словно молодой джейран или олимпийский спринтер несется он к себе. Лихорадочно перерывает вещи в чемодане. Наконец находит то, что нужно для спасения. Пару совершенно новых, черных, хлопчатобумажных с примесью синтетики. И несется обратно, сжимая находку в кулаке.
По мере приближения к президентскому номеру Амантай чувствует, как носки, только что вынутые им из собственного чемодана, вдруг начинают наполняться какой-то значимостью. То были носки, как носки. Черные, гладкие, с полиэфирной нитью. А теперь это «президентские носки».
Он заходит в люкс, где Назарбаев нетерпеливо, как «барс в клетке», расхаживает по ковру, и в полупоклоне, на вытянутых руках подает ему кусочки ткани, окончательно приобретшие сакральный статус. И особую президентскую значительность…
* * *
«Вот так вот! – думает Амантай, сидя в салоне автомобиля, несущегося навстречу церемонии торжественных проводов, в аэропорт. – Казалось бы, какой пустяк! Всего-то навсего носки президента. Но вот от такого пустяка может зависеть судьба. И не только моя судьба. А может, и вся история республики пойдет другим путем. С другими людьми…
Да, в политике пустяков не бывает…»
IX
Служебный роман. Какая банальность!
Бытовали они и в советское время. Но настоящий расцвет, можно сказать, возрождение, ренессанс этого вида любовных отношений, конечно, пришелся на девяностые. Когда все смешалось, страсти кипели. И молодежь, живая, творческая часть ее, пошла в предприниматели.
Тогда еще не было понятия «офисный планктон». Еще не сформировались классы хозяев и наемных работников. И офисы представляли собой сообщество живых, творческих людей, готовое генерировать и воплощать в жизнь самые разнообразные, самые безумные и красивые идеи.
Они были молоды. Жизнь – яркой и насыщенной. Страсти кипели. Офисные романы проходили яростно и красиво. Семинары и совещания превращались в праздники. Душа горела и летела.
«Вот это жизнь! Вот это песня!» – часто восклицал Дубравин, наблюдая очередной всплеск или «фейерверк», выданный влюбленной парочкой.
Сам же он как-то сторонился этих отношений. Может быть, потому, что побаивался сам себя. Боялся растаять, так как мужское его естество, ненасытное и страстное, беспощадно требовало своего. Дубравин с юмором формулировал для себя сложившуюся ситуацию: «У каждого из нас есть слабое место. У кого-то Ахиллесова пята, а у кого-то Ахиллесов…»
А соблазнить его пытались дважды. Особенно запомнилась одна история.
Как-то на вечеринке ему приглянулась совсем молоденькая семнадцатилетняя девчонка. Поговорил он с ней. Такой московский ангелочек. Светленькая, беленькая блондинка с голубыми глазами. Тоненькая, с прозрачной кожей. Оказалось, что живет она с бабушкой. А родители умерли. Может быть, в разговоре в этом проявил он излишнее участие. Так что эта овечка-сиротка привязалась к нему. И началось! Узнала, что Дубравин приходит на работу рано. И явилась еще раньше. Более того, взяла ключ на вахте. Зашла в кабинет к нему. Расположилась на диванчике. Он заходит. И она, как любимая кошка, бросается ему на шею, целуя шефа прямо в губы.
К счастью, за дверями загремела ведрами и шваброй уборщица. И ему кое-как удалось отлепиться от этого нежного создания.
Но теперь у Дубравина другой случай. Некоторое время он мотается в командировку в Тулу. А потом соображает, что им гораздо проще было бы встречаться в Москве. И вот через пару дней он идет из дирекции по длинному коридору и говорит идущему следом исполнительному увальню Синдюкову:
– Синдюков! Хочешь получать на всех советах директоров поддержку своих инициатив и финансирование новых проектов?
Синдюков, конечно, хочет.
– Тогда, Синдюков, тебе задание от меня. Пригласи к себе на работу в службу Галину Шушункину из Тулы. Для начала заведующей отделом по сбору региональной рекламы. Девушка она исполнительная, ответственная.
Проходит месяц. И Шушункина перебирается в столицу. Вместе с мужем.
* * *
Собственное рекламное агентство – голубая мечта Саши Козявкина.
Что в таком случае делают нормальные люди? Собирают коллектив единомышленников. Снимают офис. И начинают работать. Но так как Козявкин из области, жителей которой до революции называли «живоглотами», а после нее «жлобами», то он решает рекламное агентство не создавать, а украсть, увести, «кинув», соответственно, молодежную газету, группу «Завтра» и ее руководство.
За последний год он немало сделал для этого. Выучился бизнесу за счет «Завтра» в ведущих рекламных школах. Прошел стажировку в известном во всем мире рекламном агентстве «Карат». Договорился с ведущими менеджерами по сбору рекламы, что они уйдут из агентства группы «Завтра» вместе с ним и уведут клиентуру. Украл базу данных.
Кажется, все предусмотрел. Не учел только одного. Того, что его непосредственный начальник, которого он считает простаком и растяпой, давным-давно просчитал планы Козявкина. И подготовил сильный ход.
В один прекрасный день Дубравин запрещает всем отделам агентства размещать рекламу и самостоятельно выходить на сторонние газеты, журналы, радио, телевидение. А сам создает по образцу, привезенному из славного города Лондона, единый отдел по размещению и закупкам газетных площадей и эфирного времени. Таким образом, он окончательно организационно оформляет структуру и тем самым не дает Козявкину возможности вывести своих людей из «Завтра» на вольные хлеба.
И афера Козявкина не удается. Но на то он и жлоб, чтобы не успокаиваться. И Козявкин начинает интригу против самого и Галины Шушункиной. Потому что это ее Дубравин поставил на новый отдел, который как кость в горле не дал ему развернуться.
Интрига начинается с попытки столкнуть лбами бывшего и нынешнего генеральных директоров.
Саша нашептывает Чулёву о том, что Дубравин дает некоторым крупным рекламодателям необоснованные скидки. И намекает, что делает он это «не за так». Петя засылает к Дубравину «казачка» под видом важного клиента. Но Дубравин не клюет.
Тогда Саша Козявкин решает зайти с другой стороны.
Весь офис, конечно, знает, что Шушункина попала на «рыбное место» с подачи шефа. Поэтому удар решено нанести по ней.
В один прекрасный день из отделов Козявкина, а затем и от него самого начинают поступать служебные записки о том, что служба размещения работает плохо.
Дубравин вызывает Шушункину к себе. И смотрит на нее другими глазами. Глазами начальника. Что же он видит? На службе девочка-одуванчик превратилась в строгую, деловую офисную даму. Особенно разительно меняющуюся в те дни, когда она одета в брючный костюм. Ее тонкая, девичья фигурка обрела определенные жесткие контуры. Она сильно изменилась и внутренне. Из плавной, неспешной провинциальной девушки стала этакой московской «щучкой». Торопливой, быстрой и, можно даже сказать, несколько суетливой. Видимо, состояние постоянного стресса, страх не успеть что-то сделать или сделать не так выработали в ней эту особенную нервность, которой страдают все, впервые попавшие в беличье колесо деловой жизни.
Сейчас Дубравин внимательно разглядывает дело рук своих. И даже слегка сожалеет о том, что перетащил ее сюда. На эту несахарную должность.
– Ну что, Галь, как у тебя дела в отделе?
Она отвечает оправдывающимся и одновременно возмущенным тоном:
– Да тот макет они сами сняли! Переделывали его целую неделю. А теперь пишут на моих девчонок докладную. Что мы его не там и не так разместили!
Дубравин прекрасно знает, что в ее отделе подобрались самые толковые, самые ответственные сотрудники. И стараются они на совесть. Но, как начальнику, ему надо реагировать на пачку докладных. Иначе Чулёв с подачи Козявкина уцепится за возможность насолить ему. Он и так постоянно бегает к Протасову, утверждает, что Дубравин управляет группой «Завтра» по-варварски.
Александр вздыхает. Берет со стола пачку докладных. Отдает:
– Галь! Держи их. Придется нам с тобою разобраться в каждом конкретном случае. И дать людям Козявкина отлуп. Иначе он не успокоится… Делай объяснительную.
Через пару дней она, как водится, положила ему на стол ответ с подробным перечнем – кто, что, когда.
Дубравин внимательно посмотрел на эти исписанные нервным, быстрым, «медицинским» слогом листы. Прочитал их. И решил позвать Козявкина, чтобы, как говорится, обозначить разбор полетов.
Через час «живоглот» является. Это небольшой юркий человек, очень смуглый, с живыми черными глазами и подвижным лицом, на котором давно застыло выражение непризнанного гения и недооцененного начальством крупного специалиста. Дубравин знает, что Саша Козявкин считает себя выдающимся знатоком рекламного дела. И старательно поддерживает у руководства свое реноме незаменимого. Для этого он постоянно оперирует разными красивыми терминами, как то: медиапланирование, риски, охват аудитории, ребрендинг. На Чулёва, который страстно жаждет «европейства», они производят неизгладимое впечатление.
Дубравин же, погруженный в этот мир, прекрасно знает, что на данном этапе развития рекламного рынка, а также в том состоянии, в котором находится вся медиаотрасль, никакие специалисты и умники не требуются. И в принципе ничего неспособны сделать. Рынок просто растет бешеными темпами сам по себе. И задача каждого рекламщика на данном этапе проста. Сесть возле этого бурлящего потока и успевать вырывать из него объемы и куски. И инструмент для этого есть только один. Не маниловские планы, графики и всякого рода высосанные из пальца рекламные кампании, а тираж, гигантская аудитория и авторитет газет. Такие же, как Козявкин, просто паразитируют на этом, присваивая себе заслуги тех, кто создал и поднял эти газеты.
И еще Дубравин понимает, что в душе Козявкина воплотились и укоренились самые худшие представления о рыночной экономике. Сам Саша, да и его подчиненные каждый чих оценивают в денежном эквиваленте. Жадный и упертый, как все недалекие люди, Козявкин верит только в силу «зеленых», «бабла» и «капусты». Поэтому мысли его вечно заняты расчетами и подсчетами на тему, сколько он заработал и сколько упустил выгоды.
Оттого диалог с Козявкиным у них достаточно своеобразный. Дубравин показывает ему объяснительные Галины Шушункиной, а тот, даже не читая их, принимается, повизгивая от нетерпения, рассказывать Дубравину, что якобы из-за нерасторопности отдела закупок они потеряли громадные деньги:
– Вот на этом региональном заказе, Александр Алексеевич, отдел потерял две тысячи долларов. А если посчитать мои личные потери, то, получается, по процентам я потерял в зарплате семьдесят пять долларов! – и Козявкин торжествующе тычет пальцем в докладную, сфабрикованную им самим.
Дубравин смотрит на Козявкина и думу думает: «Вот так служебные романы сплетаются в тугой узел с офисными интригами. И с этим ничего не поделаешь. Но как же быстро меняются сами люди! Вчера еще этот Саша робко, по-заячьи – лапки кверху, стоял перед начальником цеха у себя на заводе, вымаливая лишнюю тысчонку на зарплату. А сегодня, почувствовав вкус денег, уже готов схватить за глотку каждого, кто не дает ему вырвать свой кусок. Видно, заканчиваются времена, когда все жили некоей иллюзией, романтическими, а может быть, даже утопическими представлениями о рынке, который все сгладит, всех устроит. Ну что ж “жизнь – борьба”, как писал наш бородатый пророк. И если уж с волками жить, то будем и мы по-волчьи выть».
Дубравин понимает, что его позиция сейчас очень уязвима. В агентстве ни для кого не секрет их отношения с Галиной. И поэтому, будь он хоть сто раз прав, у Чулёва и Козявкина всегда наготове оговорка в дискуссии: «Это он свою бабу защищает. И поставил он ее на самое денежное и ответственное место вовсе не за деловые качества, а… понятное дело за что». И ты хоть лоб расшиби – обратного не докажешь. Но и он, честно говоря, сам себе признался в этом же: «Здесь не только интересы дела важны. Какой же я мужик, если ее не поддержу!»
Смуглый, вертлявый, пришибленный рынком, начальник службы ушел, так и не убедив Дубравина в своих чистых помыслах. А Дубравин срочно позвал к себе Фаиля Насреддинова – заместителя начальника отдела из службы безопасности.
Разговор у них получился простой и короткий. Бывший опер, такой зажатый, законченный сыщик, бросивший безнадежную и безденежную службу развалившемуся государству, понял задачу сразу. И немедленно «взял след». Тем более что по старой привычке он давно собирал информацию на всех, с кем общался. Дубравин, кстати говоря, не исключает и того, что у Фаиля лежит заветная папочка и на него самого. Но, видно, «черного кобеля не отмоешь добела». И из мента уже не сделаешь офисного шаркуна. Профессия въелась в душу.
* * *
Проходит неделя-другая. И торжествующий Фаиль приносит докладную, из неё открываются интересные подробности интриги, которая уже зашла достаточно далеко.
Во-первых, выяснились тонкости кадровой работы в службе господина К. «Живоглот» так отстроил систему, что работающая у него в отделах действительно грамотная, амбициозная, талантливая молодежь пашет на него не за страх, а за зависть.
Во-вторых, он в открытую претендует на высокие должности. Критикуя начальство.
«Экий Наполеончик у нас завелся! – думает Александр, читая дальше докладную службы безопасности. – Да. Наш пострел и здесь поспел».
Оказывается, Козявкин охмурил Катю, старую деву, секретаря совета директоров группы «Завтра». И через эту мымру вынюхивает все, что касается повестки дня совета, мнений, настроений его членов. Она даже копирует для него некоторые документы, выносимые на высокое собрание, и сообщает о решениях, принятых по ним.
Так что непрост брат Козявкин. Ох, непрост! Получить должность генерального, а потом вывести, можно сказать украсть, часть бизнеса у группы «Завтра» – такой вполне способен.
Но кто предупрежден, тот вооружен.
– Вы продолжайте собирать информацию! А я пока подумаю, что с ними делать! – предложил Дубравин службисту.
Но думать было особенно некогда. Потому что Козявкин форсирует события. И в открытую провоцирует конфликт с отделом Галины.
«Добрые люди» уже на следующий день рассказывают Дубравину, как Козявкин вчера хвастался, напыщенно рассказывая «соратникам» о своих провокациях.
– Я уже чувствовал, что ситуация назрела. Революция назрела, – витийствовал он за обедом в соседнем кафе, потягивая горький кофе, дирижируя при этом сам себе чашкою. – И можно начинать настоящие боевые действия. Надо сделать так, чтобы она сама попала на крючок, выступила в роли зачинщика, разжигателя войны. А я, Александр Козявкин, казался бы всем потерпевшей стороной. И весь гнев начальства обрушился бы на нее. Но Шушункина по-прежнему избегала прямых конфликтов со мной. Что ж, я начал мелко провоцировать, полагая, что рано или поздно эмоции возобладают над разумом. Капля мысли камень сердца точит. И вот в присутствии подчиненных Шушункиной я ей говорю: «Галина, опять твоя служба не то объявление разместила в газете. Мой клиент в ярости». Или: «Галина, посмотри – вот мои подчиненные записку служебную написали. Из-за твоих горе-работников мы прибыль не смогли собрать до конца… Галина, твои люди перепутали дату размещения заказа… Я начальству сообщу…» Я доставал ее каждый день. И она не выдержала. Написала служебную записку на имя Дубравина. О незначительном промахе одного из вас. Дубравин вчера вызывал меня. Отдал эту записку и предложил разобраться с тем, что у нас творится. И теперь я вам говорю: она попалась. Можно теперь ее не бояться. Она беззащитна. Плохой мир лучше хорошей войны. Но уж если война, то война по-настоящему. Сегодня вопрос стоит так. Либо мы, либо Шушункина!
И, приняв гордую наполеоновскую позу, Козявкин добавил:
– Начинаем операцию «Цунами». Мы должны слить бюрократическим потоком цепляющуюся за Дубравина Шушункину. Смыть ее одну. Или обоих. Фиксируйте каждую задержку, неточность, ошибку в действиях отдела закупок и размещения…
Уже через пару дней работа забурлила. Записки полились рекой: Козявкину от Юрченко: «Прошу обратить внимание…», Козявкину от Мальцева: «Прошу воздействовать…», Козявкину от Турновой: «По вине отдела исполнения заказов…»
Козявкин, не зевая, отправлял эти записки Чулёву, сопровождая их соответствующими приписками: «Прошу обратить внимание… Прошу разобраться…»
Капля точно точит. Чулёв, конечно, образованно ухватился за возможность насолить Дубравину. И принялся таскать эти «письма счастья» Протасову.
А Козявкин не унимается. Распускает слухи. Подсаживается за обедом к Галине и с невинным видом спрашивает:
– А что, правда вашу службу ликвидируют?
– С чего ты взял? – возмущается она.
– Говорят! – жмет он плечами, глядя в тарелку с супом.
– Ерунда! – вспыхивает Шушункина.
Примерно такие же разговоры ведут Кудрявцев, Андрюшин, Зайновский с другими сотрудниками отдела исполнения заказов. Задача – создать такой миф, такой фон, такие трудности, чтобы отдел сам разбежался в разные стороны.
В конце концов забеспокоился и Протасов. Предложил рассмотреть вопрос о работе отдела заказов на дирекции группы «Завтра», что само по себе было уже неординарным событием. Учитывая непредсказуемый, взрывной характер Володи, можно было ожидать, что дирекция закончится чем угодно. Скандалом. Разборками. Уходом Галины…
Дубравин понял, что ситуация сама по себе не рассосется. Должности директора рекламного агентства «Завтра-центр» ему не жалко. Он и так занимает аналогичные еще в трех структурах. Жалко агентство. Он создал его с нуля. Подобрал людей. Выстроил. Это его труд, нервы, кровь. Можно сказать, символ какой-то новой жизни, стремления вперед, развития. А тут такое дело отдать своекорыстному, жадному интригану. Шалишь! В конце концов, Чулёв хоть и обижен на него за то, что он потеснил его в группе «Завтра», но он парень умный и должен понять, для чего Козявкин устраивает эту свару.
И Дубравин отправляется к Чулёву.
Кабинет Петра – в главной редакции молодежной газеты. В приемной кроме его секретаря – разбитной кучерявой Татьяны – сидит краснолицая мымра Катя. Секретарь совета директоров, у которой Козявкин «через постель» получает всю информацию.
«Ну и пусть она ему доложит, что я был у Чулёва, – думает Дубравин. – Пусть теперь повошкается, понервничает!»
И он прямиком шагает в кабинет к Петру.
– Привет, Петя!
– Привет, Саня! – Чулёв сидит за огромным столом, за которым его худенькая невысокая фигурка смотрится особенно комично. Дубравин никогда не придавал особенного значения внешним атрибутам власти. И от этого кажется простоватым, деревенским и, как шутит «острый на язык» Протасов, «похожим на председателя большого колхоза». Чулёв же всегда старался походить на европейских менеджеров. Костюмчик от Brioni, ну, может, и не от Brioni, но что надо. Очёчки Dior. Часы Longines. Мебель из Италии. Старательный английский новояз.
И всегда делает вид, что страшно занят.
«Но будем пробиваться», – думает Александр и начинает с ходу брать партнера «за рога»:
– Что ты думаешь о рекламном агентстве? – спрашивает он.
Петруша ерзает в своем вертящемся на все стороны кожаном кресле с поддувом, в котором вполне можно разместить еще пару таких же некрупных ребят. Но отвечать приходится.
– Думаю, – обтекаемо говорит он, стараясь не обострять, – в чем-то Козявкин прав. Где-то отдел Шушункиной недорабатывает. Не успевает за временем. А время сейчас, видишь, Саня, какое. Дорогое времечко. И летит… Летит…
Но Дубравин пришел не слушать легенды и были о времени и о себе. Поэтому он напористо и горячо, глотая даже окончания слов, принимается излагать свое видение проблемы:
– На вот, почитай записку от служб безопасности!
Терпеливо ждет, пока Чулёв знакомится с произведением сыщика.
– Знаешь, Сань! – вжимается в черную кожаную колыбель Пётр. – Службисты, они, чтобы оправдать свое существование, тебе каких хочешь историй насочиняют. Это их работа. Заговоры искать!
– Ну хорошо, все может быть. Давай я тебе покажу, как на самом деле построена структура рекламного агентства «Завтра-центр», – и Дубравин выкладывает на полированный стол заранее нарисованную схему.
– Вот в центре отдел закупок площадей и размещения рекламы. А вокруг работающие только через него отделы Козявкина, бизнес-контакт твоего родственника, столичной и региональной рекламы. Если Козявкин получает под себя закупки, то он становится хозяином положения. И может спокойно помахать нам ручкой, уведя базу и клиентов. А также большую часть наших людей. Проще говоря, украсть наш бизнес.
– Да, ну ты что? Я даже и не думал об этом!
– Он к этому и стремится. Для этого и затеял всю свару. Так что ты подумай еще раз. Надо ли давать Козявкину такой шанс поживиться за наш счет?!
* * *
К совету директоров противоборствующие стороны готовились основательно. Дубравин заручился поддержкой Андрея Паратова. Можно сказать, посеял сомнения в мыслях Чулёва. Сунулся было и к Протасову, но тот не хотел вмешиваться в эту терку. И как президент огромного холдинга только принял к сведению эту историю. Видимо, затем, чтобы в какой-то момент выступить неким арбитром.
Совет директоров начался как обычно. С длинного перечня вопросов, в котором свара в агентстве была далеко не самым главным. Когда приступили к ней, все основательно подустали.
Чулёв пригласил в кабинет противоборствующие стороны. Юркоглазого, приодетого по такому случаю в костюмчик-тройку Козявкина и смущенную высоким собранием и от этого зажатую донельзя, хрупкую, в деловом костюмчике Галинку. Она присела на краешек стула и сразу же уткнулась глазами в принесенные бумаги.
Козявкин же вольготно расположился в свободном кресле и насмешливо-победительно стал оглядывать высокое собрание.
Дубравин, рассматривая его самодовольную смуглую физиономию, еле сдерживается от хорошей реплики в духе «посади свинью за стол, она и ноги на стол».
Пётр Чулёв оглашает вопрос. В двух словах излагает суть проблемы: вот, мол, в нашем рекламном агентстве не все гладко. Служба Александра постоянно пишет разные записки по поводу работы службы Шушункиной. И нам надо сегодня разобраться, что и как. Принять какие-то решения.
– Слово предоставляется Александру! – неожиданно быстро заканчивает он вступление.
Козявкин, понимая, что Галина готовилась к отражению атаки по фактам, не приводит их в своей речи, а сразу же переходит к предложениям. С фактами, мол, и так все ясно.
– Прошу членов совета директоров разобраться в сложившемся положении и оказать Шушункиной помощь в профессиональном обучении. Или заменить ее на более подходящего работника. При необходимости готов взять ее отделы под свое руководство. В таком случае, – Козявкин не может сдержать торжествующей улыбки, – агентству не надо будет нанимать дополнительного специалиста. Будут сэкономлены определенные средства и одновременно повысится контроль за работой подразделения, а также улучшатся координация и взаимодействие, что неизбежно приведет к приостановлению тенденции понижения прибыли. Не сомневаюсь, что прибыль даже возрастет.
Козявкин прямо сияет и весь лучится, произнося это. Мурлыкает, как кот, собравшийся закусить аппетитной мышкой.
Дубравин смотрит на Галину. Она сидит бледная и подавленная.
Сумей она сейчас ответить, как надо, а он уж разовьет успех. Тут подоспеет и верный Андрюха Паратов. Вместе они заставят Козявкина проглотить язык.
Чулёв официально предоставляет ей слово. Видно, что он тоже слегка смущен беспардонностью заявления Козявкина:
– Ну что, Галина? Что ты можешь сказать по поводу прозвучавших здесь… – он слегка остановился, подыскивая слово, – аргументов?
Но она, по-видимому, никак не может совладать с волнением. Ступор. Просто какой-то ступор.
«Ну, давай же, давай! – мысленно сопереживает, подбадривает ее Дубравин. – Скажи хоть что-то!»
Но она только тихо мямлит:
– Но все совсем не так…
Теперь уже Чулёв подбадривает ее:
– Скажи тогда, как все обстоит на самом деле…
Галина мотает опущенной головой:
– Не сейчас. Я плохо себя чувствую…
– Но мы не можем обсуждать этот вопрос несколько раз! – наседает, нервничая, Петр. И… о, чудо! Видимо, понимая, что сейчас она заплачет, по-быстрому закрывает вопрос. – Так, ладно! Обсуждение работы отдела Шушункиной закончено. Дирекция обязательно примет необходимые меры. Переходим к следующему вопросу…
«Может, ее женская слабость и спасла ситуацию!» – думает Дубравин, получив на следующий день постановление совета, где черным по белому сказано: «Исправить высказанные замечания. Отчитаться через месяц о принятых мерах…»
«Ну, уж нет! Если нам удалось получить передышку, то я ею воспользуюсь, чтобы решить вопрос окончательно», – думает Дубравин, поднимая трубку.
– Гюзель! Вызови ко мне заместителя господина Козявкина, – ядовито нажимая на слово «господин», говорит он секретарю.
Через двадцать минут Кудрявцев появляется в дверях.
– Садись, Вадик! Говорить будем! – замечает, разглядывая зама, Дубравин. А сам думает: «Красивенький. Свеженький, с сахарными устами мальчик. А такой же гаденький, как и Саша. И как же они все подбираются один к одному! Прыщи. Но делать нечего. Будем выдавливать. Хотя бы с помощью этого карьериста».
– Вадим! Скажи мне, почему вот сколько раз я был у вас в офисе, а никогда там не видел Александра Ивановича. Он чем у вас занимается? Он что, на работу не ходит вообще?
– Да, что вы, Александр Алексеевич! – глядя в глаза, врет Кудрявцев. – Он каждый день с утра у нас проводит планерку!
– Кудрявцев, а не надоело тебе сочинять сказки-небылицы? Я же прекрасно знаю, кто на самом деле ведет всю работу. Конечно, не Козявкин. А ты сам! Так вот, у меня, как ни странно, возникает такая простая мысль. А зачем нам Козявкин? Почему человек, который, собственно говоря, и пашет, остается на бобах? И по должности, и по зарплате?
По изменившемуся выражению лица визави он чувствует, что попал в больное место.
И совершенно неожиданно тот откровенно заявляет ему:
– Да мы так договорились! Что Козявкин будет впереди. А я следом. Он займет новую должность. А я – его. Ну, и распределили роли. Я веду всю работу по отделу. А он как бы занимается политикой у вас тут, в дирекции. В верхах. И пишет книги по рекламе…
– Но должностей свободных пока нет! – замечает Дубравин.
– Ну, он рассчитывает занять место директора рекламного агентства.
– То есть мое место! – уточняет Дубравин. – Одну из моих должностей.
– Ну да! – опустил очи долу Вадим.
– Эх-хе-хе! Развел он вас, как, извините за выражение, лохов, – вздохнул Дубравин. – Небось он вам твердит: «Вот-вот съедим Шушункину, а тогда уйдет и Дубравин?»
– Ну да! – опять испытующе, исподлобья глянул на начальника Вадим. – Он займет вашу должность. А я его. И вот-вот это должно случиться. Не сегодня-завтра.
– Ну, и брехло же! – в сердцах восклицает Александр. – Запомни, Кудрявцев! Никто и никогда в дирекции не рассматривал Козявкина в качестве генерального. Для этого он слишком хитрожопый и жадный. Вот вас он развел, – еще раз повторил новое словечко Дубравин. – Заставил работать вместо себя.
– Да вы что? – Кудрявцев впялился глазами в Дубравина, пытаясь понять, не обманывает ли тот его. Но, глянув глаза в глаза, осознает, что тот не врет.
* * *
Вот проходит неделя-другая. Дубравин снова приглашает к себе Вадима. И видит, что не ошибся. Тот полон яда и ненависти к своему непосредственному шефу. Как выясняется из новой беседы, Козявкин для него уже не великий менеджер и не светоч рекламы. А просто жлоб и прохиндей.
И кроме всего прочего, Кудрявцев сообщает Дубравину потрясающую новость. Козявкин, не сумев подмять под себя службу по размещению, не выдержал и открыл на стороне рекламную фирму под названием «Кьюми». И похоже, что первая буква в этом названии взята от фамилии «великого комбинатора».
В холдинге молодежной газеты во избежание конфликта интересов строжайше запрещено топ-менеджерам участвовать в каких бы то ни было личных проектах.
Ну что ж, долг, как говорится, платежом красен. Дубравин с чистой совестью садится писать служебную записку в совет директоров «О неэтичном поведении некоторых топ-менеджеров».
* * *
Еще месяц в терках и разборках. И на этом «блистательная карьера» хитрована и интригана Саши Козявкина в холдинге молодежной газеты заканчивается.
Конечно, никакого нового агентства создать ему так и не удалось. Ведь такие люди творить не умеют. Они умеют только воровать, отнимать и утаскивать. Поэтому он нашел себя в другом – устроился преподавать основы рекламного дела в каком-то институте.
У нас ведь так – кто неспособен что-то делать сам, берется учить других.
Кудрявцев занимает место начальника. Специалист-то он неплохой.
Ну а Дубравина эта история заставила по-новому посмотреть на ситуацию. Он понимает, что его отчаянная любовь не может вечно быть заложницей людей и обстоятельств.
Часть III Танцы-с волками
I
Однажды старик открыл своему внуку жизненную истину:
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность… Мальчик, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старик едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
II
За окном медленно проплывает унылая загаженная лесополоса. Изредка попадаются запущенные домики железнодорожных полустанков, возле которых, нахохлившись, в своих серых брезентовых плащах-накидках стоят стрелочники. В руках у них жезлы со знаками. От густо пропитанных дегтем черных шпал поднимается вязкий запах. И Казаков, который ухитрился на повороте высунуть голову в форточку, чтобы хлебнуть свежего ветерка, морщится от него. Но, прежде чем снова укрыться внутри вагона, он оглядывает весь растянувшийся по лощине состав, собранный из разнокалиберных вагонов и платформ. На платформах едет распятая на растяжках разная боевая техника.
Скользит мимо окон очередной полустанок с изможденной дежурной. Стальная колея начинает постепенно двоиться, троиться, путаться ответвлениями. Верный признак близкой станции-остановки. И действительно, поезд сбавляет свой и так не быстрый ход.
За спиной у капитана возится, ерзает молоденький боец. Пацаны, мальчишки. Что им эта война? У них свое. У таких, как он, – профессионалов – свое.
* * *
Президент Ельцин и высшее руководство по достоинству оценили их гражданскую позицию: то, что тогда, осенью девяносто третьего, они отказались убивать своих сограждан. Их не расформировали. Просто передали в МВД. С глаз долой – из сердца вон.
Это оскорбление. Народ понял. И подает рапорты.
Группа стремительно теряет кадры. Остаются те, кому пока что некуда уйти. Ему поступили предложения. Зовет к себе и Алексей Пономарев. Но он все еще колеблется.
И вот теперь едет. Едет в этом военном эшелоне образца девяносто пятого года. По территории мятежной республики, где уже был новогодний штурм Грозного, захлебнувшийся в грязи и крови. Предательство верхушки. Отчаяние. Позиционные бои с сепаратистами.
Россия-матушка все подбрасывает и подбрасывает в этот нарисованный телевидением на экранах очаг все новых и новых солдатиков-буратин в «деревянных бушлатах». Топка войны, дающей такие дивиденды, не должна угасать…
Сейчас эти мальчишки в одном эшелоне с ним. Едут за своей судьбой. Сводным отрядом, где капитан Казаков – штатный снайпер. Человек из тех, кто за три секунды успевает выхватить, перезарядить пистолет, поразить три раза мишень и кого в МВД решили учить орудовать резиновой дубинкой, разгоняя толпы фанатов и недовольных.
Сводный отряд – это когда «с бору по сосенке». Или «с миру по нитке». Кому как нравится. Сводные отряды – это от безысходности. Когда одной кучей и флотские, и армейские, и десантные, и спецназ.
Едет народ, разговаривает. О том, что начали выдавливать «чехов» из городов. Что кругом бестолковщина и бардак. Большие потери. Особенно от снайперов.
Поминают «добрым словом» какие-то «белые колготки» из прибалтийских республик. Арабских наемников. Президента независимой Ичкерии Дудаева. Начальство. Штабных дураков. Ельцина.
Все как всегда.
И ведет их команду старожил войны – плотный, крепенький, румяный прапорщик Витька Палахов, тульский хлопец, но родом из Казахстана. Земеля. Сейчас они стоят у окошка. Вглядываются в панораму и обсуждают с капитаном достоинства и недостатки личного оружия. И разговор у этих тружеников войны такой простой и задушевный, как будто разбирают они не достоинства и недостатки смертоносных орудий своего ремесла, а параметры тяпок, лопат или граблей для работы в вешнем саду.
– Какой только хреновины не везут наши бойцы! – говорит, теребя белесые «десантные усы», армейский щеголь-прапорщик. – Зацени. Есть вспомогательные боевые винтовки с кучностью, близкой к спортивным. И «бесшумки» – особенно ценные в городе. Жалко, что не очень далеко они бьют…
– Я у одного хлопца, кажется из морпехов, – отзывается от другого окошка длиннорукий и длинноногий, со шрамом на небритой щеке старшина Атрощенков, – видел малокалиберку с оптикой…
– Конечно, моя старушка, – хвастается своей СВД Казаков, – не то, что нам показывали на курсах. МЦ сто шестнадцать – это вообще что-то запредельное. Но зато патроны у меня только высшего качества. Целевые. И прицел новый поставил. Суперский.
Неспешный разговор на секунду замолкает. Потом возобновляется. Обсуждают еще одно чудо техники. Крупнокалиберную ОСВ-96. Но все в конце концов сходятся на том, что «хороша Маша, да не наша». Патронов к ней производится совсем мало. А обычные, пулеметные, будут рассеиваться и эффекта не дадут.
Так они уже давно коротают командировочное время. В разговорах. Иногда за «рюмкой чая». А чаще насухую, закусывая разговор казенным сухпайком. Все молодые, командированные, они привычно подружились, налаживая нехитрый путевой быт и делясь друг с другом кто чем может.
Стальная колея за окном уже путается металлической паутиной шпал и рельсов. Поезд тормозит, грохоча всеми механическими сочленениями и узлами.
Витька Палахов, лихой «гриб-боровик», в голубом берете и тельняшке, непрерывно руководит молодыми бойцами так же шустро, как когда-то верховодил в своем профтехучилище первокурсниками. Он разговаривает, разговаривает, а потом как заорет куда-то в дверь купе:
– Мельничук! А, Мельничук!
– Я! – раздается ленивый голос из соседнего купе.
– Вздумаешь опять ходить на станцию «за кипятком», посажу под арест!
Вроде не смешно. Но Витькина тирада имеет успех у публики. Потому что Мельничук, здоровенный, как качок, украинец, на последней стоянке без разрешения убежал в станционный «бухвет за кипятком». И опоздал к отходу эшелона. «Кипяток» он разбил о рельсы, пока бежал за паровозом. Вот Палахов и напомнил народу всю эту историю. Так сказать, взбодрил бойцов.
Васька Мельничук вяло огрызнулся на шутки, которыми его засыпали бойцы. Но все равно вернулся на свое место в купе, откуда он беспокойно выскочил, как только поезд стал подходить к станции.
Казаков давно заметил, что этот здоровенный контрактник, или, как их теперь называют, «контрабас», сильно нервничает. Постоянно бегает курить в тамбур, выглядывает в форточку, отлучается «за кипятком». А вчера даже поцапался с соседом по купе. Из-за мусора…
«Наверное, боится! Сильно боится! – думает капитан, поглядывая на прильнувших к окнам бойцов. – А я боюсь? Не знаю! Это дело привычки!»
Народ в камуфляже тихо переговаривается:
– Что за станция?
– А черт ее знает!
– Может, это Назрань?
– Не, Назрань уже была…
– Гудермес?
– Держи карман шире!
На обочине, за станцией стоят несколько бэтээров и автобусов. Анатолий подумал: «Наверное, за нами прислали. Эскорт, можно сказать». Он подумал, а старшина Атрощенков, длинный худой мужик, на стриженой голове топорщатся большие круглые уши, рот широкий, а зубы редкие, писклявым голосом озвучил его мысли:
– Коробочки за нами прислали! Видно, допекли их черти. Ждут нас.
Казаков отодвинулся от него, пахнущего потом, табаком и еще черт знает чем. Атрощенков ему активно не нравится. Может быть, потому, что не соответствует стереотипу старшины, который, по понятию капитана, должен быть пожилым, с усами и густым басом.
Затем старшина выглянул в форточку и стал прислушиваться к тому, что творится на улице. Слушает, слушает, а потом тихо говорит:
– Стали! А на станции что-то никого. Почему это?
Постоял с минуту. И вдруг дико обернулся к ним и страшно закатился трехэтажным матом. Анатолий только успел заметить что-то жуткое, нечеловеческое в его остекленевших, бешеных глазах. А старшина заорал:
– Всем из вагона! Разбегайся! – и нервно кинулся к выходу, застучав ботинками по железякам…
Капитан Казаков, недоумевая, смотрит на него: «Чего это приключилось с человеком?» Но на всякий случай движется к дверям.
– Бегом! Мать вашу! – захлебывается в крике старшина, вибрируя всеми суставами. – А, чтоб вас! – и дергает в сторону от станции, в поле.
Народ начинает, недоумевая, нехотя вылезать из вагона. Анатолий краем глаза видит, что и из других вагонов тоже выпрыгивают одетые в шинели и бушлаты люди. И вдруг… не то чтобы слышит, а чувствует какой-то растущий, давящий все живое свист и вой…
Старшина, бежавший где-то впереди, падает лицом в пыль и как-то странно, по-червячьи извиваясь, сползает в ложбинку…
«Что это может быть? Что это?» – успевает подумать Казаков прежде, чем взрывная волна подбрасывает его и впечатывает в траву…
Вздыбившаяся рядом земля заботливо приукрывает его сверху.
Очнулся капитан от того, что кто-то хлещет его по щекам. Он открывает глаза, но перед ними мелькают какие-то красные, зеленые, синие круги. Хочет сказать, чтоб перестали его шлепать по щекам, но из глотки раздается какое-то жалобное попискивание, а потом кашель. Кто-то над ним, словно в вату, еле-еле слышно произносит:
– Живой?!
Второй голос, похожий на голос прапорщика Палахова, добавляет:
– Оклемается. Контузило, наверное!
Анатолий начинает поднимать голову, но она у него тяжелая, словно камень. Чьи-то руки помогают, отрывают его от земли. И сажают. Он сидит на корточках, раскачиваясь из стороны в сторону. Но не удерживается. Падает теперь уже лицом вперед и больно бьется носом. Вот этот удар уже как-то отрезвляет его. Капитан получает возможность снова видеть и сквозь страшный гул и звон в ушах слышать. Теперь он встает на четвереньки и, стоя на дрожащих ногах и руках, туго соображает, что это было. Тяжко. Его выворачивает наизнанку. И он чувствует облегчение.
Снова садится на землю. И оглядывается.
На месте, где стоял аккуратный, покрытый красной черепицей станционный домик, зияет (другого слова и не придумаешь) воронка, из которой идет дымок. Кругом невыносимый запах гари, вывернутой свежей земли. Тепловоз лежит на боку, и из его пробитого брюха, шипя, вылетает горячий пар. Ближайший на дороге бронетранспортер получил такой удар в скулу, что его развернуло в обратную сторону. Вагоны посечены, окон как и не бывало.
Он смотрит на рельсы, шпалы, сплетенные каким-то фантастическим комком рядом с тем местом, где разорвались ракеты, и ему вдруг становится жутко. Он физически ощущает, какой нечеловеческой, чудовищной была сила, направленная против них. Людей.
«Боже мой! И все мы, даже самые сильные, смелые, разве можем противостоять этому?!» В эти секунды он не думает о «чехах», о том, что они ему сейчас враги. Думает просто о том, что человеческое тело, чье бы оно ни было, хрупко и уязвимо.
Анатолий поднимается на ватных ногах и, пошатываясь, подходит к рельсам. Зачем-то трогает скрученные рельсы, щупает теплую, отблескивающую сталь.
– Ну что, капитан, оклемываешься? – раздается сзади голос тощего старшины. – Помочь надо?
Он оборачивается. Грязный, прокопченный старшина, прапорщик Палахов и еще несколько ребят, корячась, напрягаются, пытаясь приподнять звено со шпалами, под которым лежит что-то. Он подходит к ним. Подбирает какую-то железку. И пытается ею, как рычагом, сдвинуть звено.
Все дружно гикают и наконец стаскивают звено с раздавленного тела.
– Василь? – узнавая и не узнавая истерзанное тело Мельничука, бормочет Витька Палахов.
– Бляха, самолет наш был. Ракетами нас же и раздолбал! Что, у них там никто не знает, что происходит на земле? – Анатолий слышит мельком кусок разговора проходящего мимо начальника поезда с приехавшим их встречать подполковником.
– Да, здесь, считай, половина потерь от такого бардака! – раздраженно отвечает ему пропыленный майор в танкистском шлеме.
«Ох, какая же это странная война! – мелькает в голове у капитана. – Такого у нас еще не было!»
III
Кавказ подо мною.
Отсюда, с высоты, видна вся заснеженная горная страна.
Настолько, насколько хватает глаз, тянется хребет, создавая неповторимый, причудливый горный ландшафт с его отрогами и глубокими ущельями. А дальше, дальше на горизонте, словно седой, одетый в белую бурку богатырь, возвышается над этим сверкающим под ослепительным солнцем миром двуглавый Эльбрус. Он величественен, могуч и прекрасен в своем победном одиночестве.
Но если слегка повернуться влево и скользнуть глазом дальше, по хребтам Кавказских гор, можно в такой солнечный день, как сегодня, разглядеть и его соперника. Казбек – угрюмый, серый, островерхий, покрытый каменными расщелинами и осыпями.
Он хмурится туманами и неласково смотрит на пришельцев.
Шурка Дубравин разворачивается, переставляя длинные, горные, красно-синие лыжи по очереди, одна за другою. И принимается разглядывать противоположную сторону. Ту, с которой он только что поднялся на вершину. Красота пейзажа завораживает. Он даже слегка задыхается от этого простора, высоты и величия природы.
Воздух прозрачен. Ветерок тянет в небе перистые облака. Снег на склоне искрится под лучами восходящего солнца.
Противоположная гора покрыта густым хвойным лесом. А внизу, в ущелье, откуда тянется тоненькой ниточкой канатная дорога, сам поселок. Домбай. Легендарное место, воспетое советскими бардами и свято чтимое горнолыжниками.
Он долго собирался сюда. Еще тогда, когда в Алма-Ате в предгорьях Алатау впервые надел свои первые пластмассовые ботинки. Он мечтал о Домбае, когда пешком поднимался от катка «Медео» на Чимбулак. Мечтал, когда учился кататься на лыжах самоучкой. Когда летел по горной дороге кубарем и чуть не переломал себе все кости. Мечтал, когда вырвал из семейного бюджета немаленькие деньги и все-таки купил себе хорошие, подержанные лыжи марки «Соломон».
И все сбылось самым неожиданным образом. Месяца два тому назад он как-то разговорился со ставропольскими регионалами.
– И что нас тянет в горы? – рассуждал Дубравин. – Ведь опасное и трудное это дело. А мне нравится. У нас на Чимбулаке подъемники только бугельные. Тянут быстро. Весь измотаешься, пока он тебя тащит вверх. Склон в снегу. Так что выстраиваемся на нем в цепочку. И утаптываем. Но все равно тяжело съезжать по этой снежной целине. Я раз так покатил. Ну и не справился. Лыжа утонула в снегу. Попала на камень. И я упал. Правая от удара отстегнулась и улетела куда-то. А левая нет. И когда я покатился по склону, она начала скручивать ногу, растягивая сухожилия и надрывая мышцы. Вот тут уж я орал нечеловеческим голосом. В общем, к вечеру нога стала сине-багровой и распухла, как чурбак… Но, судя по всему, переломов не было. Просто разрывы и внутреннее кровотечение. Спас мне ее бассейн. Хромал, но ходил плавать. Через полгода хромота прошла… Но все равно люблю горы…
Рассказал и забыл. А через пару дней позвонил ему Олег Черкесов:
– Александр Алексеевич! А вы знаете, что я родом из Домбая?! И мой отец был первым строителем и директором этого горнолыжного комплекса?
– Да ну?
– У меня есть предложение. Организуем туда поездку. Покатаетесь на лыжах. Я там всех знаю. Сделаем отдых в лучшем виде!
И вот их караван трогается из славного «города креста», то есть Ставрополя, на Домбай. В это время поездка туда – уже приключение.
Дубравин едет вместе с Галиной. Черкесов приглашает ребят из своего предприятия. К ним присоединяется теплая компания из Ростова.
Так что на четырех машинах, с собственным запасом продовольствия двигаются они по разбитым дорогам юга России к горам Карачаево-Черкесии.
Впереди на голубой «Волге» сам – усатый и лысоватый Олег Черкесов. Вместе с ним, на заднем сиденье, в обнимку с красой девицей – важный московский гость. Следом, на вишневых «жигулях» – круглолицый, улыбчивый ростовский парень-жох Андрей Демидов, а рядом с ним – красивый, беленький, как девушка, заместитель Черкесова, просто Миша. Дальше едет зам Демидова – хитроват физиономией, но на самом деле хороший парень Володя Неклюев.
Последняя машина под завязку забита продуктами. Ящиками с водкой, пивом, коньяком, палками колбасы, консервами, мясом, рыбой и другой снедью.
Едут и смеются, пряники жуют. Пробиваются через блокпосты. Преодолевают длинные тягуны, ползут по разбитому асфальту.
А горы все выше, а горы все круче. Над ними огромные черные тучи.
По дороге Олег Черкесов рассказывает о достопримечательностях:
– Вот там находится в горах обсерватория. Ученые наблюдают за звездами.
– Правда? – любопытствует Дубравин. – Может, заедем?
– Туда дороги почти нет! – отвечает Олег. – Да, и не только дороги. Им, ученым то есть, зарплату не платят уже давным-давно. Так что они совсем одичали. И последние годы живут собственным подсобным хозяйством. Наблюдают, так сказать, за звездами по личной инициативе.
– Да, трудно им приходится! – замечает Галинка. – Вот и завезем им колбаски…
– Тогда до ночи не успеем добраться до места, – отметает ее предложение Черкесов. – А тут в горах неспокойно.
– Ну, тогда поехали быстрее! – испуганно озирается на окружающие леса она.
Крепко завязался их с Галиною узелок. Но нет покоя на душе у Шурки. Хорошо, уютно с любимой женщиной мчаться по горной дороге, предвкушая отдых и ночь. Но думает он о семье, оставшейся в Москве, о Татьяне: «Вот не сложилось, не стерпелось, не слюбилось. И чем дальше мы идем по жизни, тем глубже противоречия. Разные мы. Слишком разные. И выясняется это слишком поздно. Она категорически не приемлет эту жизнь. Я вроде нашел себе интересное дело, работаю, зарабатываю. А она, конечно, пользуется всеми заработанными благами. И еще как пользуется! Но в то же время говорит: мне ничего не надо. Странная позиция. И долбит, долбит каждый день. Вы неправильно живете. Работаете ради денег. А надо жить тихо. Никуда не рыпаться… Не опора она мне…»
Невеселый ход его размышлений прерывает восклицание сидящего на переднем сиденье Олега:
– А вот и мой родной Домбай!
Дубравин вглядывается вперед. Но ничего особенного не видит. Там, в самом конце узкого горного ущелья, по которому петляет дорога, несколько домов. А прямо перед ними рисуется остов гостиницы. Как и везде, здесь имеется в наличии свой брошенный недострой.
Одно слово. Разруха.
Но караван в сумерках проезжает мимо поселка. И останавливается у зеленых металлических ворот. Оказывается, кое-кто из бывших руководителей партии и государства тоже не был чужд буржуазных увлечений. А именно председатель Совета министров СССР, блаженной памяти Алексей Косыгин любил прокатиться с ветерком на горных лыжах. Да так любил, что взял и построил здесь, в горах, не только канатную дорогу, но и двухэтажный особнячок. Для себя и своих друзей.
Союз развалился. Пропал. А домик в деревне остался. Все осталось. Прислуга, директор. И поддерживается в полном порядке. Вот только уже три года, как исчезли постояльцы. Не до отдыха новым небожителям. Власть и собственность делят.
Ну, и еще недостаток в том, что с исчезновением совхозов прекратились сюда и поставки продовольственного запаса.
Потому и приехали они с собственными картошкой, колбасой и курами. Но это ничего. Главное, и Дубравин с Шушункиной, и директора разместились по-царски. В отдельных апартаментах. С ванными и туалетом. На белых крахмальных простынях.
Водители и менеджмент помельче сюда не допущены. Их поселили в частной гостинице. Не зря Олег Черкесов бывший комсомольский работник. Субординацию знает.
Утром лихорадочный подъем. Надо успеть на канатку до толпы. Но пока завтракали, умывались и одевались по форме, туристический народ уже потянулся к подъемному механизму. Увидев толпу, Дубравин, облаченный в горнолыжные доспехи, испугался:
«Это сколько же мы тут теперь стоять в очереди будем? Часа два точно! Вагончик-то не безразмерный. А тут уже сотни две».
Но он недооценил Черкесова. Их «чичероне» отошел в сторону. Пошептался с каким-то суровым местным инструктором. А потом сказал своим:
– Ребята, за мной!
Дубравин и вся компания, слегка недоумевая, потащились за ним вокруг дощатого забора, который окружает место посадки.
На обратной стороне от официального входа остановились. Олег постучал палкой по доске. И, о чудо! Доска неожиданно отодвинулась. И оттуда высунулась загорелая щетинистая кавказская физиономия. Она внимательно оглядела их и кивнула: «Заходите».
Через секунду вся их группа оказалась уже внутри, возле красного вагончика, висящего на канате у причальной стенки. Еще через минуту другой бородатый абориген гостеприимно открыл раздвижные двери. И они с дружною толпою ввалились внутрь.
Вагончик качнулся и тронулся. Внизу поплыли заснеженные кустарники, верхушки сосен и елей. С гулом они преодолевают одну пропасть за другой. Мелькает идущий сверху встречный вагон. Проносятся мимо них веселые и испуганные физиономии туристов.
Через несколько минут гонки по вертикали начинается торможение. Впереди станция с огромными колесами, мотающими стальной трос.
Здесь пересадка на кресельник. И опять подъем в гору.
И вот она, вершина, с которой ему предстоит спуститься вниз.
Галина осталась у станции. Ей подыщут инструктора. Возьмут в аренду лыжи. И она будет учиться.
Остальные застряли у кафешек с жирными чебуреками, горячим глинтвейном и чаем. Оккупировав столик в кафе, ребята живо откупорили бутылки и ждут его.
Снег рыхлый, тяжелый. И Шурка «работает» на склоне, разогревая остывшее под черно-белым комбинезоном тело. Десяток минут. И он уже весь мокрый, «как мышь». «Горят трубы» – хочется пить. С непривычки болят мышцы ног.
На середине длинной трассы он останавливается «перекурить». И видит, как рядом, на учебном, «профессорском» склоне ярким цветком – красным по белому – скользит вслед за расхлябанным, расстегнутым инструктором, старательно повторяя его повороты, Галина Шушункина-Озерова.
Он долго любуется ею. И мысленно взывает: «Ну, посмотри сюда! На меня. Обернись хоть на секунду! Я же зову тебя!» Но нет. Видно, сильно занята она склоном. И все мысли ее о том, как бы не упасть, удержаться. А жаль!
Потому что он загадал для себя. Если обернется, сбудется ее мечта о ребенке.
Но нет. Едет мимо девушка в ярко-красном комбинезоне на фоне белого снега и голубого неба.
Спускается. И вдруг неловко падает. Но, когда встает, наконец-то замечает его. И машет рукой в перчатке.
И-и-и-эх! Он снова в движении. Рисует зигзаги. Только снежная пыль из-под канта.
Внизу, у кресельного подъемника, его уже ждет «могучая кучка». Под лозунг: «Пиво без водки – деньги на ветер!» – народ уже кушает водочку и закусывает горячими, с пылу с жару, беляшами. Ребята приветствуют его появление звоном стаканов и радостными кликами. Ему тоже наливают теплого чаю и горячего, согревающего тело и душу глинтвейна.
– Ну, поехали! – поднимает граненый стакан Неклюев.
Деревянная скамеечка холодит задницу, но внутри горит и греет горячее вино с корицею. Дубравину особо не сидится, неймется. Хочется еще и еще раз испытать это чувство. Восторг души от свободного полета.
Он пытается объяснить своим полупьяным спутникам, что это такое – радость жизни. Но им и так хорошо. Здесь, внизу, за деревянными столиками горной кафешки, среди торговцев сувенирами, цветными свитерами, пуховыми платками и разной другой прочей дребеденью, они счастливы.
Так что выгнать на горку ему никого не удается. И они с Галинкой ловят этот кайф вдвоем.
* * *
Вечером после обильного, с возлияниями, ужина из собственных продуктов народ собирается в зале для отдыха гостей правительственной дачи. У Дубравина с собой в плоском чемоданчике западная диковинка – микрофон «Лидзингер» для караоке и целый набор картриджей. Ребята привезли с собой гитару.
И до самой глубокой ночи звучит берущая за душу до слез мелодия: «Лыжи у печки стоят. Вот и кончается май. Вывесил флаги разлук горный красавец Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не можешь уйти?.. Та-та-та-та, ти-ти-ти-ти…»
* * *
Приходит ночь-полночь. И будто не было целого дня изнурительного и радостного катания на морозе, после которого он в громоздких красных пластмассовых ботинках еле-еле дополз до машины. А она словно и не падала, не вставала из снега.
Ненасытная страсть толкает их друг к другу. Где та нежность и осторожность, с которой начинался их совместный сексуальный опыт?
Ненасытная и горячая, она изматывает его, будит к жизни раз за разом его усталое, но могучее тело. Словно от дуновения ее мягких губ разгорается встречный огонь.
А дальше «одноглазый змей» вползает в «нефритовый грот». И битва начинается заново. Они уже давно притерлись друг к другу. Дуэт их слажен и неутомим.
«Она сделана просто под меня!» – думает он, чувствуя каждый изгиб ее тела, каждую выпуклость и понимая каждый ее вздох, каждое движение, как будто они слились в одно целое.
«Наверное, это и есть любовь, когда между тобой и другим человеком нет этого вечного барьера!» И он набирает темп, не забывая наставлений восточных мудрецов, постоянно меняя ритм и ход: «Сначала шесть коротких медленных вводов, словно дразня партнершу. А седьмой сильный, до самого конца, до глубины. А затем «стучит», как воробей собирает семечки с доски. И идет, идет, идет, гоняя то влево, то вправо: «как возничий разворачивает коней…»
Она постанывает от наслаждения. Прижимаясь, обхватывает его руками.
Под утро они засыпают совершенно изнеможенные, измотанные этой скачкой.
Через несколько дней все замечают, что «начальник» худеет и сохнет на глазах. Спадает с личика и Галка. Но окружающие делают вид, что ничего особенного не происходит, хотя отводят взгляд, когда видят их глубоко запавшие, но горящие каким-то диким огнем глаза.
* * *
Утром перед отъездом она проснулась раньше него. Сходила в ванную, посидела, прислушиваясь к себе. И когда он наконец открыл глаза, неожиданно заявила:
– Знаешь, я как-то странно себя чувствую. Что-то со мной не так, как было.
IV
Смерть стала в батальоне такой же постоянной составляющей жизни, как холод, грязь, вши, «сто граммов» для сугрева и вечно недовольная физиономия командира – подполковника Калмыкова. Она стала настолько привычным явлением, что у капитана Казакова чувство опасности как-то притупилось. И он думал о ней, о возможной своей смерти, как-то отвлеченно, словно о чем-то несущественном, имеющем к нему самое отдаленное отношение. И если думал «а вдруг», то думал «только бы сразу». Чтобы не мучиться, не остаться калекой.
«Чехи», чертовы нохчи! До чего довели людей», – мыслит он сейчас, сидя в окопчике и подтыкая расстеленную шинель под свои обутые в тяжелые армейские ботинки с грязными подошвами, тощие ноги. Холодно. Через бушлат так и нижет. Не сохранить остатки тепла.
Только что он заснул, даже не заснул, а призаснул. И снилось ему Жемчужное. А точнее, родной дом в солнечный день. Зеленый сад. Деревья, подбеленные известкой и будто одетые в белые брюки. Теплый густой воздух, настоянный на запахах цветов и вольных некошеных трав. Он играет с другими детьми в «казаки-разбойники». Они с визгом и смехом то лезут на деревья, то таятся за кустами смородины. Или вдруг выскакивают с дикими воплями, носятся по тропинкам. Мелькают в зелени испачканными вишневым соком, разгоряченными мордочками. Стучат в его голове деревянные мечи и сабли.
За игрой, во сне, он не замечает, как по голубому небу пробирается откуда-то из-за горизонта лохматая, похожая на большую черную собаку туча. Она наползает на солнце, и в саду сразу становится темно, мрачно, холодно.
Замолкают птицы. «Казаки» и «разбойники» перестают гоняться друг за другом и прячутся под деревья.
Он по примеру остальных ребят тоже укрывается под раскидистой старой вишней. Ему страшно. В душу заползает и холодит ужас. Томительно бегут мгновения. Слышен только всенарастающий зуд комара, перерастающий почему-то в посвист.
Молния под небосводом разлетается паутиной. Небо трещит, как раздираемая ткань. А затем с грохотом рушится на землю…
Он, проснувшись, с криком вскакивает…
Идет минометный обстрел. Рядом тупо бухает в землю еще одна мина. В окопе вонь взрывчатки. Летит с бруствера смахнутая взрывом пыль, комки грязи и сухие комья земли… Рядом падает смятая взрывом птичка…
* * *
До того как оказаться здесь, под селом Бечик, капитан уже успел повоевать в подвижной группе под Гудермесом. Сводный отряд штурмовал квартал. И их группа, состоявшая из снайпера (он сам), двух автоматчиков, гранатометчика и еще одного парня с огнеметом, тогда сильно отличилась. Бежали от подвала одного большого дома к другому. Перебежками, прячась то в яму, то за дерево. Первым подбежал к окнам подвала худющий, такой меланхоличный белобрысый старшина по фамилии Ермаков. Остановился. Постоял секунду. И так аккуратно – хоп в подвал две гранаты. Взрывы. Грохот. И… он сам, вопреки всему, чему их учили, туда – шмыг. И внутри стрельба: тра-та-та-та! Та-та!
«Ну все, – подумал тогда капитан, сжимая в руках свою винтовку. – Убили парня! Но в подвале тишина. И еще двое из его группы прыгают. Внутрь. А через минуту оттуда дикий ржач. Казаков заглядывает. И видит. Троица обнялась и пляшет. Пляшут и смеются. Нервный такой смех, япона мать! А вокруг пять трупов. Всех Ермаков положил.
Это называется талант. И проявился он в первом же бою.
Капитан и сам почувствовал, как изменился. Что-то такое с ним произошло. Будто переродился он. Внешне похудел, подсох. Глаза запали. И появилось что-то неуловимо звериное в походке. В повадках.
И какое-то чутье на опасность. На добычу.
А теперь он здесь, в штурмовом батальоне под селом Бечик. Прикомандирован, так сказать, пару дней назад. Для выполнения особого задания. Снайпер здесь лютует. Не дает головы поднять, сволочь.
Обстановка в батальоне нервозная. Во-первых, потому, что остановили их здесь неизвестно для чего. И держат, как и всю армию, на месте. Не давая додавить «чехов». Загнать их в горы.
Народ толкует о предательстве в самых верхах. Достается и Ельцину, и Грачеву. Всем, короче.
«Действительно! – думает капитан. – Когда дело уже вроде пошло к концу, начались переговоры. Зачем? И вообще вся эта война какая-то странная. Сволочная война. Начали ее глупо. С январского штурма. Людей потеряли – не сосчитать! Но вроде бы за полтора года добились какого-никакого продвижения. И тут – на тебе. Стоп машина. Переговоры. Не хотят воевать? Ну и оставили бы их в покое. Хотят жить сами по себе? Пусть живут, как могут».
Капитан посмотрел на осыпающийся внутрь окопа пыльный ручеек. Подумал, что надо бы бойцам еще углубить ячейку. Но сам даже не пошевелился. В пустом желудке глухо заурчало. Давно пора бы чего-нибудь поесть.
«Опять же сёла, или, как по-ихнему, аулы. Детишек в каждом доме, как мурашей. А тут мы. С зачистками. Наводим конституционный порядок. Ненужная это, бессмысленная война. За что ребята гибнут?»
По узкому ходу, пригибаясь и цепляя рукавами за стенки траншеи, старшина побежал рысцой на командный пункт.
«А теперь я здесь. И от меня ждут чуда. Найти и уничтожить вражеского снайпера, который разит бойцов откуда-то с той стороны. Из подлеска или аула. В общем, хрен его знает откуда.
Найти и нейтрализовать. Легко сказать!»
Сгибаясь в три погибели, к нему по ходу протиснулись двое бойцов. Сашка Ермаков и «папаша», как Анатолий про себя называет прикомандированного местного.
Казаков с некоторой завистью и невольным уважением смотрит на молодцеватого старшину Ермакова. Ладно одетый и гладко выбритый, с казачьим чубом, выпущенным из-под кепи, он нравится капитану и своей выправкой, и легкой полуулыбкой, застывшей на простом русском лице.
«С ним все ясно. Лихой парень. И как он ухитряется сохранить такой щегольской вид? Я уже три дня щетину не скрёб. А он, как огурец! Даже воротничок чистый успел подшить», – думает он о Ермакове.
А вот «папашу» – Сидора Кравченко, казачьего атамана в возрасте лет пятидесяти с «хвостиком», – он ну никак не понимает. Чего он здесь делает? В своей неизменной, надвинутой на глаза папахе, с седыми моржовыми усами, тяжелым, оценивающим взглядом из-под густых черных бровей. И одет он странновато. Всегда носит под маскировочным халатом синюю гимнастерку с какими-то орденами, медалями, значками и шевронами.
– Ну что, товарищ капитан? – устраиваясь с ним рядом на земле, говорит атаман Кравченко. – Нашли мы вам подходящую позицию. Есть там заброшенная кошара. Оттуда все как на ладони. И аул ихний, и лес просматривается.
– Ну, и давайте будем выбираться! – с готовностью отвечает Анатолий, которому дико надоело сидеть здесь, в окопах и землянках, скрываясь от неожиданного, подлого выстрела неизвестно откуда.
Сборы на позицию у него недолгие. Надел матерчатые гетры, наколенники, черную вязаную шапочку, застегнул бронежилет. «Кираса», конечно, тяжеловата. Но хороший броник. В войсках много разговоров было, что, мол, жилетки ни фига не защищают. Так они как-то опробовали «кирасу». Повесили на дерево. И полоснули. Не пробило. Зауважали. Стали надевать.
Перед выходом насухо протер ствол и патронник. Масло и влага демаскируют при выстреле. Дают дым и копоть. Чтобы в ствол не попадала пыль или мусор, надел на него презерватив.
Теперь важно незаметно покинуть расположение части. Так что они обошли ее сзади и сразу углубились в кустарник. В небольшой ложбине, за зеленью стоит БМП. Их боевой конь. Он похож на какой-то пиратский, средневековый челн. На броне – разномастные сиденья от автомобилей, подушки, цинки с патронами, чей-то броник. Из переднего люка торчит конопатая, чумазая, мальчишечья голова в танкошлеме.
Водитель приветствует группу приглашением:
– Эх, прокачу!
– Здорово, воин! – сурово отвечает ему Кравченко. И начинает объяснять задачу: – Ты нас по ложбинке, по балочке отвези километра на три вправо. Там у леска ссадишь. Но так, чтобы «чехи» из аула нас не засекли…
Казакову понятен замысел. Они уйдут из зоны видимости тех, кто сидит сейчас где-то там, в этом еще не зачищенном ауле. И высматривает их. И уже оттуда, пешим порядком, по-охотничьи пройдут, проползут в сторону намеченной позиции в кошаре.
Заскочили внутрь под броню. Взревел движок. Лязгнули гусеницы. Качнулись на месте. БМП рванула, как пришпоренная лошадь.
Ух, как быстро они едут на войну…
Едут. Но недолго. Машина, как тронулась, так же неожиданно остановилась.
Оглядываясь, вылезли наружу. Прямо в леске. Пошли. На БМП-то быстро. А вот назад пёхом – медленно, с оглядкой, с остановками. Шаг за шагом по ложбинке. Впереди – старшина, позади – «папаша».
Пройдут, пройдут шагов сто. Остановятся. Присядут. Оглядятся. От ходьбы согрелись до пота.
Прошли еще с полкилометра. Остановились на дне балки. Присели передохнуть. Да и перекусить. Еда самая немудреная. Черный хлеб, сало да сухой концентрат перловой каши.
Ермаков посидел-посидел, а потом потихоньку полез на четвереньках по склону вверх. Чуть приподнялся над краем ложбины, чтобы осмотреться, и сразу, охнув, кубарем покатился вниз.
«Убили? Такого парня! – молнией мелькнула мысль. – Неделю назад он их покрошил. А теперь вот так…»
Капитан подполз к лежащему и потащил его вниз. Сашка глухо застонал:
– Ох, хо-хо.
– Живой? Ранен? – прошептал Сидор Кравченко, помогая Казакову.
– Хрен его знает. Щас посмотрим.
– Да живой я! – скорчившись на траве, наконец вздохнул и пробормотал Сашка. – Похоже, жилетка выручила.
– Да ты что?
Сидор быстро-быстро дрожащими руками расстегнул бронежилет у лежащего. Задрал рубаху.
Всё пузо старшины – огромный лиловый синяк, краями разлившийся к ребрам.
– Повезло тебе, паря!
– Ему-то да! – заметил капитан. – Надо уходить отсюда. Тут не мы охотники. Опоздали слегка. А ты не заметил, откуда стреляли?
– Похоже, они как раз на этой самой кошаре лёжку себе и оборудовали. Эти чурки с глазами! – вслух размышляет Сидор, пальцем вороша обвисшие усы.
– Ночью пойдем. Вернемся. Не могут они там, на позиции, сидеть вечно, – решает Казаков.
* * *
Расчет оказался верным. Они вернулись ночью. Под самое утро. Жутковато было пробираться в ночной темноте, опасаясь каждого шороха, каждого куста и ожидая каждую минуту удара или выстрела. Не раз в эти минуты вспоминал капитан свою боевую юность, учителей, которые во время спецподготовки гоняли их по горам и лесам. Теперь вот пригодилось. И его даже охватила некоторая ностальгия, волнение от воспоминаний. Но он быстро отбросил ненужные мысли. И сосредоточился только на ощущениях, стараясь обострить свое обоняние, осязание, слух. Они долго лежали, прислушивались к тому, что делается в заброшенной кошаре. Только окончательно убедившись, что в ней пусто, вошли. И сразу поняли, что попали туда, куда надо.
– Точно, здесь у них лёжка была! – прошептал ему на ухо Сидор. – Вот, смотри! У окошка примятая солома. Сено подстелено. И обзор отсюда шикарный!
– Ты не чувствуешь, тут запах какой-то не такой, – ответил также шепотом капитан. – Чем пахнет, не пойму. Вроде везде соломой прелой, навозом овечьим. А здесь непонятно. Еле-еле.
– Ну, что? Бум ждать? – спросил Сашка, расстилая плащ-палатку.
– Бум ждать! – ответил Казаков. – Проверим пословицу «Кто рано встает, тому Бог подает».
– А еще, – встревает Сидор, – «Ранняя птичка носик набивает, а поздняя только глазки протирает».
– Хватит вам! Тоже мне, знатоки, – бубнит в нос Ермаков, укладываясь калачиком на сено к своему сектору.
Стали ждать. Светает. Из темноты начинают прорисовываться контуры гор, леса. Казаков лежит у чердачного окошка, обращенного в сторону аула. «Папаша» залег у входа. Сашка наблюдает с торца.
Получился почти полный круговой обзор.
Анатолий достает из кожаного жесткого чехла сильный морской бинокль. Разглядывает картину чужой жизни аула. На первый взгляд, в эти ранние часы он кажется безжизненным. Капитан видит в окуляры пустую улицу, заборы, чугунную водную колонку.
Открылась калитка в воротах, вылезает на улицу черноголовый подросток. Оглянулся. И – шмыг вдоль забора. К соседям.
И снова тишина.
А вот вышел старик с металлическим кувшином. Огляделся вокруг. Зашаркал в черных остроносых галошах к чугунной колонке. Казакову ясно, что не за водой он идет. Старикам в Чечне почет и уважение. За водой ходят женщины и дети. Старик только делает вид, что набирает ее в кувшин. Из-под папахи он зорко, соколом, оглядывается вокруг. К старику из другого двора выходит старуха с палкой, а за ней почему-то гончая собака. Такая тощая, высокая борзая.
Они перекидываются несколькими словами. И расходятся по своим делам.
Снова улица пустынна.
«Выйдет он сегодня или не выйдет на работу?» – думает Анатолий безо всякой злости и раздражения о вражеском снайпере, который вот уже неделю наводит ужас на батальон, а вчера на его глазах едва не убил напарника.
Злость и ненависть в его деле противопоказаны. Здесь в первую очередь нужны хладнокровие и расчет. Как на охоте.
Он уже не думает о том, нужна ли Чечня России. Не ищет смыслов своего пребывания здесь. Он весь в спокойном ожидании. В работе.
Вот, кажется, мелькнуло что-то там, за оградой. Или показалось? Ветка качнулась? Может, птица села?
А солнце уже высоко. Начинает вжаривать. Хочется пить. И он тянется к фляжке. На войне вода – большая ценность. Ее постоянно не хватает. И тут не то что постираться, помыться. Напиться бы вдоволь чистенькой, холодной.
Откуда-то из своего угла, из глубины кошары подползает на четвереньках Сашка. И молча показывает два пальца. Что на языке охотников-снайперов и означает – на горизонте две цели. Два человека.
Он переползает следом за ним, мысленно чертыхаясь, когда из старой соломы поднимается пыль. Приникает у окошка к окуляру прицела. Так и есть – медленно, как в кино, на их позицию пробираются двое в маскхалатах.
Снайперская пара идет занимать позицию.
«Опоздали, голубчики, – даже жалеет их про себя Анатолий как-то вообще отстраненно, без азарта. – Мы пришли с ночи, а вы проспали».
Рядом шевелится Ермаков. «Ему не терпится закончить. А потом похвастаться. Горит. Солдаты вообще ненавидят снайперов. Считают эту профессию подлой!»
Он дает глазам отдохнуть. Крепко жмурит их на пять секунд, а затем держит открытыми столько же. И, выдохнув, прикладывается к резиновому окуляру прицела…
Два выстрела один за другим негромко раздаются в соломенной кошаре. Он видит в прицел, как второй несколько раз дергает ногами и затихает. Шепчет лежащему рядом Сашке:
– Все, ребята! – и почему-то по-казахски добавляет: – Аяк талды! – и освобождает от курка.
Теперь надо уходить. В любую секунду на них может обрушиться шквал огня.
Подползает Кравченко. Шепчет:
– Мы посмотрим, кого ты завалил!
– Вы что, охренели, что ли? А если кто сзади шел? Или наблюдает сейчас?
Однако любопытство сильнее страха.
Еще часок они сидят, выжидая. Но селение так и живет своей собственной, внешне абсолютно спокойной жизнью.
А эти, наверное, матерые волки лежат рядом. Так что они все-таки рискнули…
* * *
В растерянности он стоит рядом с убитыми. Нет, все здесь правильно. Он попал точно. Уничтожил вражеского снайпера на подходе. Так в чем же проблема? А она есть. Дело в том, что этим стрелком был, вернее была… деваха.
Белокурая женщина лежит, уткнувшись лицом прямо в сухую траву.
«Папаша», крякнув, переворачивает легкое тело. Красивая, молодая, даже слегка накрашенная. Кудряшки слиплись на белом лбу. По лицу ползают крупные муравьи. Деловито снуют во все отверстия.
Кто она? Откуда? Зачем здесь? Теперь уже никто не ответит. Хотя почему же. На этой странной войне ходит много слухов о так называемых «белых колготках» – снайпершах из бывшей советской Прибалтики. Об их точности и беспощадности.
– Ну шо, посмотрим? – спрашивает Сидор, наклоняясь над телом.
На что Сашка, сорвавшись, пинает ногой, грубым солдатским ботинком под девичью грудь. И неожиданно смачно, в приступе ярости плюет на труп:
– С-с-сука! Тварь! Паскуда! За деньгами приехала! – и отходит в сторону, ко второму убитому.
– Давай обыщем! – говорит Кравченко.
И тут… женщина чуть слышно стонет. И открывает синие глаза, упираясь взглядом прямо в лицо капитана.
– Гляди! – говорит удивленно Сидор. – Какая живучая гадюка.
Казаков видит в этих глазах что-то похожее на мольбу и почему-то думает виновато-отвлеченно: «Может, ее в госпиталь надо? Там вылечат!» Потом ловит себя: «Какой госпиталь? Кто ее будет лечить? Где он, этот госпиталь?»
– Чего стоишь? – грубо говорит Сидор. – Добей!
«Как добей? Почему?»
– Добивай! Так не оставляй!
Казаков машинально поднимает винтовку. В эти секунды у него в животе, в груди такое ощущение, будто он собрался прыгать с самолета без парашюта.
Сначала он хочет выстрелить в голову, а потом понимает, что это выше его сил. И, отворачивая взгляд, направляет ствол в сердце.
В сумке документов или чего другого нет. Что в общем-то правильно.
«Хоть что-то правильное на этой абсолютно бессмысленной и странной войне», – в шоке, как сомнамбула, думает капитан.
Сидор ловко шарит по карманам. Достает пудреницу с зеркальцем. И Анатолий неожиданно понимает, чем пахло там, на сеновале: бабой, духами! И от этого понимания ему становится так тошно, что он спешит быстрее отойти в сторону, ко второму убитому, с которым возится Ермаков.
Этот тоже не кавказец. Молодой пацан, явно европеец: то ли славянин, то ли прибалт. Кто теперь откроет эту тайну? Да никто. Лежит он на спине, откинувшись. И смотрит в небо остекленевшими серыми глазами. Документов и у этого нет. Только в сумке находится толстенный потертый блокнот в твердом переплете. Анатолий открывает его, видит записи, выведенные корявым, размашистым почерком. Читает первую. Понимает, что это дневник, и машинально сует его к себе в подсумок.
В это время Ермаков возится с трофеем.
– Вот это вещь! – шепчет он, любовно поглаживая аккуратно упакованную новейшую снайперскую винтовку с прицелом.
– МЦ сто шестнадцать, – узнает ствол капитан и добавляет: – В войсках таких еще нет!
На душе его нет никакой радости от победы. Только едкая горечь и тоска. Анатолий чувствует, что случилось нечто неправильное. Более того, что-то непоправимое. Такое, от чего сжимается сердце и хочется выть волком.
Ребята тоже подавленно молчат всю дорогу назад.
* * *
Вернувшись в расположение, они неожиданно обнаруживают, что там идет повальная разгульная пьянка, кои периодически случаются в частях, долго не отводимых для отдыха с передовой.
* * *
Ввечеру Казаков при свете армейской лампы раскрывает потертый доставшийся ему трофей. И открывает его на первой странице.
«Дни летят, как птицы…» – что-то знакомое он улавливает в тоне и смысле записей. Это дневник влюбленного мальчишки. Мальчишки такого же, каким был и он сам несколько лет тому назад.
«И любовь уходит медленно, как бы нехотя. Но ей надо уходить, т. к. она безответная, она мучает и подавляет, хотя, полюбив, чувствуешь себя счастливым. Но я этого не испытал, потому что остался один. Мне не везет, я ходил со многими красивыми девчонками, но не влюблялся в них так, как в Маришу. И сейчас мне больше, чем когда-либо, чем много месяцев назад, когда я впервые услышал “нет”. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но эта пословица не для меня, потому что Марина со мной не будет никогда».
* * *
«23-го первый экзамен. К зачетам совсем не готов. И неохота учить. Совсем не пойму, почему она ходила со мной? Трудный и невозможно глупый вопрос. Но и на него есть ответ: ей было интересно, чем влюбленный отличается от обычного человека. Но скоро Марина разочаровалась, хотя и не совсем. По-моему, она выделяет меня среди других только тем, что уважает за мою любовь и сочувствует за свою нелюбовь. Если б она знала, как мне было трудно. Хотя и сейчас не легче, ведь разлюбить сразу может только волшебник».
Чем дальше Казаков читает этот простой мальчишеский дневник, который от страницы к странице рассказывал историю неразделенной любви, тем яснее он понимает, что все, что здесь написано, – это о нем самом. О его жизни. О его любви. И тем тревожнее и тоскливее становится у него на душе.
«Все-таки хорошо, когда есть с кем поделиться пережитым – легче и радостнее становится на душе. Все самое плохое – пополам, а самое хорошее – себе. Конечно, это немножко эгоистически, но что поделаешь. Он и тем доволен. Мой друг – этот ежедневник. Откроешь, когда плохо, и пишешь, пишешь. То, что накипело в душе, надумано мозгом, прочувствовано сердцем…
Сядешь, и рука сама побежала по строчкам, до тех пор пока не иссякнет воодушевление. Иногда получается красиво, иногда нет. Но главное – что становится легче и лучше. У меня есть неиссякаемый источник вдохновения – моя любовь. Она заставляет руки двигаться, голову – думать, сердце – чувствовать все сызнова. Хочется писать обо всем, но мысли сами по себе возвращаются к тому, что больше всего волнует сердце сейчас, – к любви. Писать о ней немножко глупо и неоригинально. Ведь о ней говорили и Пушкин, и Толстой, и Тютчев, и Есенин, и Гамзатов. Поэтому вряд ли мое сочинение будет лучше, чем у них. Но все-таки лучше. Лучше для меня, т. к. любовь, как и человек, неповторима и единственна во всем мире. Она у каждого своя, и нет в мире двух одинаковых…»
«И на кой черт я взял этот дневник с убитого?! – думает Казаков. – В чем здесь смысл?»
А смысл был в том, что как солдат он уже много раз в своей жизни стрелял по врагу. Целил когда в голову, когда в сердце. Разил наповал. И никогда не задумывался о том, кто там у него на мушке или в окуляре оптического прицела. И это было правильно. На войне как на войне. Либо ты, либо тебя. Так уж люди поставлены на грань. И то, что ты стреляешь по перебегающим фигурам, – это что-то вроде азартной игры. А тут. Надо же такому случиться. Снайпер – деваха! И ее напарник, сентиментальный мальчишка, пишущий в своем дневнике о любви. И, может быть, даже от этой самой любви приехавший сюда, в Чечню, на войну. Поддавшийся то ли романтическому порыву: вот, мол, я, как Байрон, бьюсь за свободу другого народа. То ли пытавшийся убежать от этой самой тоски по своей Марине… Хрен его знает. И здесь, под селом Бечик, в предгорье попавший к нему, капитану Казакову, на мушку. Попавший для того, чтобы ужалить его прямо в сердце. Разбудить его уставшую душу, разбередить в ней чувство вины. И может быть, даже разорвать это самое зачерствевшее солдатское сердце.
Тридцатилетний капитан не заплакал, не зарыдал. Он никак не мог оторваться от этого бесхитростного дневника. Пролистал несколько страниц:
«Не могу без тебя, не могу без аромата твоих губ, дыханья, теплого блеска твоих волос, без искристой… (Казаков долго пытается разобрать следующее слово, но, так и не сумев, сплевывает на землю и продолжает) твоих глаз, без нежной свежести твоей кожи. Хочу быть рядом всегда. Не расставаться ни на минуту, хочу хотеть тебя, жить одной тобой, хочу дарить тебе всю страсть, наполняющую душу и сердце».
Что-то тут не так. Видно по последующим страницам дневника, что он уже не разочарованный мальчишка. И уже не о некоей Марине, отказавшей ему в любви, он пишет. Он говорит о другой. Вот он называет ее имя. Лена. Казаков перелистывает несколько страниц, испачканных чем-то розовым. И читает дальше.
«Как хочется засыпать под твое дыхание, будить тебя словами: “Леночка, пора вставать! Сегодня чудная погода, и я люблю тебя”. А потом целый день ждать, пока ты вернешься, мечтать и скучать вновь, как в первый раз хотеть увидеть тебя, услышать твой голос и чудесный смех.
Хочу, чтобы часы ожидания казались минутами, а минуты с тобой рождали дни воспоминаний. Хочу целовать и обнимать, хочу, чтобы ты научилась плакать от счастья, от того, что ни слова, ни руки, ни губы не могут передать твое чувство и счастье. Хочу, чтобы теплые соленые слезы капали ко мне на грудь, чтобы волосы путались в руках, а губы с губами и чтобы жить хотелось нам пылко больше, чем дано природой. Жить ради другого человека…»
«Мама родная! Это что же такое?» – Казакову показалось, что вокруг все поплыло, начало переворачиваться и крутиться вокруг. Он схватился за голову и застонал. В эти секунды он вдруг снова увидел всю картинку охоты на снайперов. И в мгновение инстинктивно осознал все происшедшее: «Расслабленные они были. От любви. Как глухари. Небось трахались всю ночь. Потому и проспали… Вышли поздно. Поэтому он и не побежал. Не залег в сторонку. А кинулся к ней».
– И… с-с-с-с-су-к-и-и-и! – стонет он. – Что же вас, падлы, сюда занесло? И как мне теперь с этим жить? Как я теперь смогу детям в глаза посмотреть?!
Он чувствует, что внутри него, в душе, что-то ломается, корежится от осознания случившегося.
– Капитан?! – в палатку вваливается слегка выпивший, но крепко держащийся на ногах Сидор Кравченко. Он в своей неизменной кубанке, синей гимнастерке с многочисленными орденами и шевронами и новых, скрипучих берцах. – Именинник! Шо ты тут спрятался? Давай к нам! К народу!
Увидев убитую физиономию черноволосого, черноглазого Анатолия, он останавливается, растопырив руки, в одной из которых бутылка водки, а в другой стакан:
– Ты шо рассупонился? Человека убил? Душа стонет? Брось ты это. Давай лучше выпьем.
– Не хочу! Не могу! Всего ломает меня, – хрипло бормочет Анатолий, вжимаясь в угол палатки. – Вот, – кивает головою на лежащий рядом дневник, – любились они тут.
Сидор сразу серьезнеет. Присаживается по-татарски рядом с ним. Ставит стакан и початую бутылку. Долго вглядывается сбоку в лицо Казакова. И говорит:
– Нравишься ты мне, капитан. Шо-то в тебе есть от наших кровей. Ты, братец, случаем не болдырь?[2]
Казакова заедает его бесцеремонный тон. И он резко так, запальчиво отвечает:
– На себя оглянись! Я потомственный казак! Оренбургский!
– Ой ли? – пьяно гнет свою линию Кравченко. – Дед, может, и был казак. Отец – сын казачий. А внук, – он усмехнулся в усы, поддевая Анатолия, – хрен собачий!
– Но-но! – капитан угрожающе набычивается и мечет на атамана огненный взгляд.
– О-о! Теперь вижу, шо и ты казак! Так какого хрена ты квасишься, капитан? Убил деваху, видишь ли. Душа стонет. А вот смотри, шо я у нее нашел, – он привстает с корточек, шарит по карману и достает наконец мятый белый листок, – на почитай!
Казаков берет его, вчитывается, не понимая.
«Ильзэ – 120 тысяч рублей. Оксана – 100 тысяч. Лена – 50 тысяч (за двух убитых разведчиков)».
– Что это?
– Это расчетный листок за убитых ею и другими гадюками наших товарищей. Видишь, с ними рассчитываются поголовно. Вот твоя голова, капитан, стоит восемьсот баксов. А солдатская – двести.
Казаков очумело, уже ничего не соображая, смотрит на Сидора. А тот, понимая, что говорить уже ничего не надо, молча наливает ему полный ребристый двухсотграммовый стакан «с краями».
– На выпей! Полегчает!
Казаков дрожащей рукой берет водку. Выдыхает:
– Хэх! – и хватает через зубы, закидывая голову назад так, что виден только двигающийся в такт последним глоткам кадык.
Действительно, через минуту легчает. А Сидор сует ему ломоть черного сухого хлеба.
– Закуси! – и чуть обождав: – Пойдем к нам. Нельзя тебе одному быть в таком случае.
Они выбираются из палатки. И переходят к костру в ложбинке. Там с опаскою, но уже не с той, что была прежде, сидят Сидоровы дружбаны. Среди них он замечает и своего боевого напарника Сашку Ермакова. Тот, слегка оттопырив мизинец, как раз выпивает свою порцию. Крякает с чувством исполненного долга. Потом вытирает губы рукавом. А на устах его играет все та же благодать и легкая улыбка.
Народ слегка подвигается, давая место Кравченко и «имениннику».
У костра человек семь из примкнувших к батальону охотников-добровольцев, казаков и «вольных людей». Все в общем-то в армейском камуфляже, но выглядят не так, как обычные солдаты этой войны.
Глядя на походный быт нашего войска, на грязных, чумазых ребятишек, одетых в замасленные бушлаты, кирзу, на их оружие, зачастую запущенное до ржавчины и давно не чищенное, капитан сравнивает его с этими ладными парнями. Есть в них какая-то особенная собранность, ловкость во всем. Вроде и одежда, и форма такая же, а сидит по-другому. Все на них подогнано, подтянуто, подшито. Видно, что оружие у них не обуза, а любимая игрушка. И хранится не абы как. В чехлах. Вычищено, смазано, закутано. И в хозяйстве их казачьем, нехитром, какой-то особый порядок.
Казаков, конечно, со стороны себя не видит. Но он тоже слегка похож на них. И тянет его к этим ребятам.
Поэтому сейчас он сидит, выпивает, помалкивает и приглядывается: «Что их роднит? Вот Сашка Ермаков. Сегодня уже можно точно сказать: он принадлежит к “людям войны”. От Афганистана до многочисленных конфликтов на обломках Союза встречаются они – профессионалы и одновременно любители этого дела. На войне они у себя дома. Здесь они в своей тарелке. Востребованы. Чувствуют себя значительными, важными.
Возвращаясь домой, они тоскуют и скучают. Вечно попадают в какие-то передряги: то ввяжутся в драку, то ограбят кого-нибудь. И очень даже часто оказываются в тюряге. А при первом же удобном случае едут на войну, в места, где разгораются конфликты. Их полно сейчас в Карабахе, Абхазии, Приднестровье, теперь вот в Чечне. Взять того же Ермакова или хоть Витьку Палахова – у них только и разговоров, «как мы бежали, куда стреляли». И все с таким азартом. Чувствуется, что они этим живут. Как живут со своей страстью охотники и рыбаки. Чаще всего эта страсть их и убивает. Сколько их, в ком живет дух воинов, уже закопали. А сколько закопают. Из них и вербуются наемники, легионеры, бойцы частных армий. Ну а если дело по душе, то они и бесплатно, ради идеи, готовы воевать. Потому что им нужен адреналин. Кайф».
«Ну, с ними-то понятно. А вот эти откуда? – прислушиваясь к разговору, думает капитан, поглядывая на казачков. – Родственнички! Каким ветром, каким духом занесло их сюда из станиц Дона, Кубани, Ставрополья? Им-то какое дело? Их что толкает?»
Разговор идет как раз о Кавказе. Выступает Сидор. Хрустя зеленым огурцом, он толкует:
– Выселение народов в сороковые годы? Можно подумать, шо тогда все и началось. Чушь это! Здесь война идет без малого два века.
– Как же два века? – удивляется один из казаков. – А в советское время вроде как тихо было.
– Да ты шо! И в советское время не все было гладко, – возражает Сидор. – Всегда борьба шла с ними. Это такой разбойничий народ. Они в советское время ездили из Грозного на нашу сторону по пятницам – скот воровать, машины угонять. А шо они сейчас делают? Спаси Бог! Из республики выгнали двести тысяч русских! Это как?!
Все примолкают. Казаки разливают спиртное по зеленым металлическим кружкам.
– Давайте вздрогнем! – просто говорит один смуглый, носатый, гунявый, со странными погонами, на которых изображена корона. – За ваш успех!
Все тянутся чокнуться к нему, снайперу.
Разговор продолжается, теперь уже о казачестве.
– Капитан тоже наш человек. Из казаков!
– Да?
– О!
– Земляк!
– Я из оренбургских! – сдержанно, но все-таки с ноткой гордости замечает Анатолий. – Мой дед служил в охранной сотне последнего царя. А прадед в середине прошлого века основал станицу Верную, что теперь называется Алма-Ата. И вместе с генералом Перовским ходил на кокандского хана и бухарского эмира. Мой прадед, – голос его уже пьяно гремит, – есаул Серов с сотней бился против десяти тысяч. И выжил. Пробился к своим. Поэтому давайте выпьем за них! За наших дедов!
Сидор выпил, ловко перекрестился. И заговорил снова:
– В каждом месте, где русские граничили с диким полем – в Сибири ли, на Кавказе ли, – везде появлялись такие люди, которые стояли на рубежах, охраняли их, а если надо, то шли по своей воле или воле царя-батюшки все дальше и дальше. Казаки – это соль земли Русской.
– Сидор! А я слышал другое, – возразил ему гунявый. – Что казаки произошли от одного народа. И это отдельная нация. Не то что кацапы.
– Да брось ты сочинять! Отдельная нация… Нация у нас одна – русские. А противостоим мы многим племенам. И родам. И воюем всю жисть с ними. Нехристями!
Анатолий слушал эти речи. Советский человек, еще сидевший в нем, все хотел возразить. Но, в сущности, возражать ему было нечего. Потому что здесь он видел другую правду этой войны: «Там, в столицах, среди толчеи и сутолоки, вовсе непонятно, что здесь происходит. Вот и выдумывают политологи “борьбу за целостность государства, антитеррористическую операцию, сепаратизм”. Здесь этим ребятам все понятно как дважды два. Они бьются за свою жизнь. За право жить на этой земле. Детей растить, внуков нянчить».
И, словно слушая его мысли, Сидор Кравченко продолжает развивать тему:
– Нам эту войну проиграть никак нельзя! Уйдем – полыхнет весь Кавказ! Слышали, Дудаев объявил нас, казаков, врагами чеченского народа. А себя – новым Шамилем. Нам проиграть никак нельзя. Надо упереться рогом. Они нам все припомнят. И тут, и на Кубани у нас много чего было. Ведь в старые времена там столько племен и народов жило! Тьма. Вот кто скажет, откуда пошли такие нерусские названия, например Сочи, Дагомыс, Адлер?
– Ну и откуда? – заинтересовался Анатолий.
– А оттуда! Потому шо там, где теперь курортники пузо на солнышке греют, еще двести лет назад жило великое множество племен и народов. Шапсуги, бжедухи, натухайцы, хатукайцы, абадзехи, убыхи, темиргоевцы, махошевцы, бесленеевцы, абазины, егерукаевцы. А всех вместе обобщенно их называли черкесами. А где они теперь, племена? Все заселено русскими. Осталась только маленькая Адыгея.
– Ну и где они? – спросил кто-то из притихших казаков.
Сидор выматерился в рифму и, сдвинув шапку на затылок, добавил:
– Поперли мы их оттуда. В прошлом веке. Большая часть их убралась в Турцию. Половина вымерла. Остальные там осели. Зубы точат. Мечтают создать Великую Черкесию. От Черного моря до Каспийского. Так шо, извините-подвиньтесь, нам отступать никак нельзя. И ты там, в Москве, кому надо скажи: казаки будут биться.
Капитан слушает. Напитывается. Но признать эту правду до конца не может. Образование, воспитание, жизнь среди других народов мешают до конца признать эту правду своей. Не может он так вот просто из капитана Казакова стать есаулом. Но песню, которую ему в детстве напевал дед, он все-таки вспомнил. И потихоньку затянул:
В степи широкой под Иканом Нас окружил кокандец злой. И трое суток с басурманом У нас кипел кровавый бой. Идем, идем, друзья, на бой. Мы смерть врагу несем с собой. Мы шли, ряды у нас редели. Геройски умирал казак…V
Семь миллионов долларов в рублях – это два огромных полотняных мешка с деньгами. Они спрессованы полиэтиленом в плотные, очень похожие на кирпичи пачки. В каждом таком «кирпиче» по десять заклеенных крест-накрест фирменной сине-белой банковской лентой упаковок с купюрами разного достоинства. Это целое состояние. И Дубравин, сгибаясь под тяжестью мешков, тащит их через всю площадь к автомобильной стоянке, где в синей вазовской «девятке» ждет его водитель.
Он тащит эту обрывающую руки ношу. И оглядывается вокруг. Потому что ему каждую секунду этого скорбного пути кажется, что за ним вприщур смотрят десятки глаз. И мысли от этого у него тревожные и опасливые: «Нынче бандиты грабят, не стесняясь, инкассаторов, банки, кассы и проникают за любые запоры. А я, похожий сейчас на мураша, нагруженного сверх меры, представляю собой ну просто идеальную цель. С миллионами в мешках. И безо всякой охраны. Дурень! Это с одной стороны. А с другой? Сам не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Сообщи я нашим чоповцам, что повезу такие деньжищи… Не дрогнут ли они? Не проснется ли у них самих такое желание поживиться?»
Короче, идет он эти метры, оставшиеся от банка до машины, и сам не знает, дойдет ли.
Но дошел. Оглянулся. Вокруг на площади пусто. Серое, длиннющее, на весь квартал, здание банка, облицованное мрамором, стоит прочно. В советское время тут, наверное, было какое-то союзное министерство или главк. А теперь новые хозяева поставили черные зеркальные окна и двери с бронированными стеклами, за которые не заглянешь. И оно стало «Эксилбанком».
Андрюха читает газету. Увидел его, согбенного под мешками, выскочил. Открыл дверцы салона.
Запихнули-затолкали холщовые мешки с твердыми денежными кирпичами на заднее сиденье. Огляделись вокруг. И по газам.
«Девятка» вылетела из ряда на стоянке как пуля. А он все оглядывается назад. Не тянется ли кто за ними по улице, нет ли хвоста.
Кое-как заталкивают они себя с мешками в лифт. Тащатся по коридору шестого этажа.
В кабинете он открывает свой большой железный ящик. Вынимает оттуда все папки с бумагами. И забивает его под завязку, сверху донизу, этими денежными кирпичами.
Уф! Экспедиция, кажется, удалась. Но это только малая, самая малая часть предстоящей ему работы. Теперь главное. На эти деньги он должен выкупить акции газеты у трудящихся журналистов.
Так наступает финал борьбы за власть над «молодежной газетой». Борьбы, которая то разгоралась, то затухала все эти годы. Но не заканчивалась никогда. Очередной ее раунд начался год назад. Когда бородатый нахал Федя Пыжий «снюхался» на почве издания «делового листка» с крупнейшей в стране газовой монополией. И предложил ей выкупить акции молодежки.
«Группа четырех» была неприятно удивлена: на этаже появился сам глава «Газдома» – коротышка Бем Бахиров – в сопровождении длинного, чернобородого, глаза навыкате Федора. Срочно собралось совместное заседание редколлегии и дирекции. А как иначе – пришел инвестор! Но разговор получился какой-то слегка странный. Бем маленького роста (метр с кепкой), лицо круглое, обветренное, красное. Простой как сибирский валенок. Будто он и не государственный человек, глава крупнейшей компании, а мужик «от сохи», точнее «от трубы».
Протасов рассказывает:
– Вот есть у нас инвестиционная программа. Надо закупать компьютеры, построить типографию…
А Бем ему в ответ:
– А у нас есть газ и огромное количество ненужных труб, старых автомобилей, буровых установок, цемента. Мы готовы внести их в уставной капитал вашей газеты. А там уже сами решайте, как и каким способом вы будете использовать это добро. Можете продать…
Редколлегия после этого визита решила: «Надо продаваться!» И журналисты, которые еще несколько лет тому назад кричали о независимости, уже готовы отдать контрольный пакет и присягнуть на верность новому хозяину.
У деловых другое мнение. Как-то под вечерок Володя Протасов передал из уст в уста Дубравину:
– На соседней улице, в здании номер пять, жду тебя через час.
Александр явился. И узрел в небольшом уютном офисе всю честную компанию в составе четырех человек. То есть самого Протасова, Чулёва, Паратова и примкнувшего к ним Володьку Слонова, представителя прогрессивных журналюг из Забайкальской корневой системы. Состоялась «тайная вечеря», на которой они решили: «Газдому» молодежку не продавать. Потому что с его приходом придет само государство. И независимость газеты на этом закончится. А самое главное – все их труды и старания по созданию новой газетной экономики станут ненужными. Зачем что-то менять, если можно сидеть на шее у богатого хозяина и ничем не заморачиваться. Ну, соответственно, при таком раскладе они тоже окажутся лишними на этом празднике жизни. И вынуждены будут покинуть родные пенаты. А плодами их труда воспользуются победители. И халявщики. Но не партнеры.
Решили дать бой на первом же совете директоров, который и должен принять постановление о продаже акций. Стали считать голоса. И тут открылось, что при голосовании, если до него дойдет, они разделятся поровну. И решение может просто зависнуть в воздухе. А это очень опасно при таком нестабильном настроении акционеров-трудовиков. Ведь в любой момент сторонники «Газдома» могут начать организованную скупку акций. И тогда никто из руководства холдинга уже не сможет контролировать процесс перетекания власти в народном предприятии. В этот момент общей растерянности Протасов, словно Архимед из ванны, выкрикивает со своего места:
– Эврика! – и лицо его расплывается в хитрющей улыбке. – А ведь у меня как у председателя совета два голоса! Так когда-то было записано в уставе. Теперь эта уловка и сработает. Только не в пользу сторонников продажи газовому монстру.
– Ну хорошо. Отобьемся мы от этой участи, – замечает Дубравин. – Но ведь и сами мы выкупить контрольный пакет не можем. Нам нужна не просто власть. Нам нужны инвестиции, чтобы продолжить модернизацию. Причем проводить ее надо быстро. Значит, газете все равно нужны партнеры-инвесторы. Может, надо поискать не среди сырьевиков, а среди младореформаторов?
На эту его тираду «старшие акционеры» Протасов и Чулёв сначала переглядываются, а затем заявляют:
– Да, мы уже ищем таких. И почти нашли…
Далее под страшным секретом они рассказывают о своем плане. Он одновременно прост и гениален. Кредит можно взять в дружественном банке. Но так его не дадут. А вот под залог своих акций – можно. И договоренность почти достигнута.
Расходятся заговорщики по одному. Оглядываясь по сторонам.
* * *
Все в общем-то так и произошло. Как планировалось. В решающий момент на совете голоса разделились поровну. И Протасов, державшийся за демократию, устав общества и регламент, метнул на стол свой козырь:
– Решение о продаже пакета акций «Газдому» не принимается!
– Как?
– Почему?!
– Этого не может быть! – полный агрессии, вскакивает с места главный сторонник продажи «ридной неньки-молодежки», бывший львовский собкор с незалежной ныне Украины Федор Пыжий. – Да, я вас, б…! – Глаза его мечут молнии, а голос подобен грому. Но рядом с ним из кресла встает Дубравин. И отвечает агрессией на агрессию:
– Сядь, Федор! Не ори! А то я не посмотрю, что тут высокое собрание. Заеду в рыло!
Веский аргумент, произнесенный к месту и вовремя, производит нужное воздействие. Федор плюхается в кресло. Теребит себя за бороду. А в это время Володя объясняет недоумевающим членам совета свою простую, очень похожую на фигуру из трех пальцев комбинацию:
– По уставу у председателя совета два голоса. Я голосую против. Значит, счет пять-четыре в нашу пользу.
Народ требует устав. Документ, как положено проштампованный, подписанный и сшитый, немедленно извлекается из глубины сейфа. И изумленный совет убеждается, что все вышесказанное есть сущая правда.
Пришибленный ею народ тихо расползается по кабинетам. А Протасов, Чулёв и Дубравин уже готовят второй раунд. Большой выкуп.
На следующий день его синяя «девятка» стремительно мчится с мешками денег в салоне к подъезду, украшенному еще советскими орденами. Наступает время «Ч».
* * *
Упаковав в сейф казенные миллионы, Александр Дубравин выходит на этаж. И направляет стопы прямиком к своему корешу еще по временам совместного собкорства Олегу Шатовалову. Теперь он «боссует» в отделе. Дубравин знает, что Олегу нужна квартира в столице. А грошей у него негусто. Вот его и надо охмурить. Предложить ему подписать договор, по которому некая цифирка в реестре акционеров превратится в толстую пачку или даже в брикет из денежных знаков. А те, в свою очередь, могут стать хоть чем – холодильником, детской коляской или той же квартирой.
Как это заманчиво! Поставь подпись-закорючку и получи взамен права голосовать и горлопанить на собраниях настоящие российские денежные знаки.
– Олег, привет!
– Привет, – медленно, основательно отвечает заведующий корсетью. Он все такой же простой, надежный, но никогда не упускающий своей выгоды здоровенный малый. – Зачем пришел? – Олег вопросительно смотрит на Дубравина поверх роговых очков. Видимо, понимает, что вечно занятый большой начальник и его старый товарищ вряд ли зайдет просто так – попить чайку.
– Слушай! У меня к тебе деловое предложение!
– Ну!
– Не хочешь ли продать свои акции?
– Зачем?!
– За деньги! За о-о-очень приличные деньги!
Дубравин решает про себя: «Мелочиться не буду. Тут важен почин. Чтобы колесо покатилось, его надо раскрутить. Нужен толчок, который бы преодолел инерцию. Требуется дополнительное усилие. Или вливание. Так что накину на каждую, сверх оговоренной с товарищами цены, долларов по сто. И тогда уж он не отвертится. Сыграет свою роль».
И он сыграл.
– А сколько?
– Шестьсот долларов. За штуку! – наблюдая за реакциями приятеля, Дубравин медленно произносит цифру.
Называет в долларах. Потому что так звучит солиднее. А еще потому, что в это время, когда рубль пляшет гопака, они привыкли все переводить в «зеленые».
– Семьсот! – сжимает губы в куриную гузку Олег. – Тогда мне хватит на квартиру!
«Ну, оказывается, рынок уже давно поглотил и эти с виду очень далекие от него души. Он только с виду тугодум. А считает очень даже быстро!» – удивляется про себя Александр. И произносит:
– Продашь все. Десять! И по рукам!
– Все десять? Ну, давай я себе одну оставлю!
– Да на кой ляд тебе одна акция?
– Ну, – медленно подбирая слова, тянет Олег. – Буду ходить на собрания. Узнавать, что происходит. Голосовать!
– С одной акцией. Ой, не смеши меня! «Снявши голову, по волосам не плачут»… Давай все. Семь тысяч «зеленых»! Ты хотя бы это понимаешь? У тебя какая зарплата? Долларов триста? А тут целое состояние. И еще неизвестно, будет ли такой шанс заработать.
Действительно, в те далекие девяностые были совсем другие деньги. И, кстати говоря, другие цены. Так что квартира в московской новостройке уже вырисовывалась в воображении бывшего собкора.
И он рискнул. Через пять минут он сидит в кабинетике у Дубравина и, морща лоб, пишет расписку: «Я, Олег Владимирович Шатовалов, продаю принадлежащие мне 10 (десять) акций молодежной газеты ООО «Группа Завтра» по цене… Деньги в сумме, эквивалентной семи тысячам долларов США, получил сполна…»
А Дубравин, глядя на него, корпеющего над текстом, решает: «Надо сделать и размножить стандартный текст договора и расписки. Чтобы человек не мучился над формулировками, а сразу зашел, подписал и вышел. Быстро. Особо не раздумывая».
Дубравин сам себе инкассатор. И сам себе кассир. Отсчитывает пачки. Олег аккуратно, бережно складывает их в потертый рыжий чемодан. И удаляется.
Дубравин ждет. И не зря. Уже через пятнадцать минут на пороге его кабинета рисуется фигура бесшабашного, спортивного обозревателя Кости Бубликова. Энергично поводя широкими плечами под синей олимпийкой, Костя сразу берет «быка за рога»:
– А где мои деньги?
Видимо, Олег (по секрету всему свету) уже рассказал на этаже о своей удачной сделке – обмене «совершенно бесполезных бумажек», которые целых четыре года ничего не давали, на настоящие деньги. И Костя поспешил, чтобы не опоздать.
Не успевает Дубравин закрыть на ключ дверцу своего несгораемого сейфа, как прискакивает начальник отдела писем Рита Квочкина…
И пошло. И поехало. Не заросла народная тропа. Образовалась даже небольшая очередь из желающих сиюминутно разбогатеть. К вечеру глянул Дубравин в сейф и опешил: «Денег-то всего полмиллиона осталось!»
* * *
Две недели народ приходит к нему с пустыми руками. И удаляется отягощенный драгоценным грузом.
Дважды за это время Дубравин «подвозит из банка снаряды».
Затем поток начал редеть. Но теперь пошли люди солидные, серьезные. Эти, прежде чем зайти, долго думали, консультировались с самим Протасовым и Слоновым. Чаще всего такие консультации заключались в успокоении кипящего разума. Заходит полный сомнений и страхов член редколлегии к Протасову и заявляет:
– Володя! Никому не верю! Только тебе. Скажи! Надо продавать или нет?
Частенько после беседы с таким крупным акционером Протасов пишет Дубравину записочку с эксклюзивным текстом: «Прошу выдать подателю сего мандата тридцать тысяч долларов США. То есть по тысяче долларов за акцию».
Доверие, оно обязывает. Тем более, когда в руки идет такой крупный пакет.
За этой денежной вакханалией настороженно наблюдают сторонники продажи «молодежки» «Газдому» во главе с главным редактором. Они понимают, что с каждой проданной акцией уплывает их надежда с помощью нового хозяина оттеснить доморощенных коммерсантов от штурвала управления газетным авианосцем.
В штабе «коммерсантов» тоже каждый божий день подсчитывают свои шансы. И ждут, когда же наберется искомый контрольный пакет.
Наконец, активные сторонники «Газдома» дрогнули. И первой продает свои акции любимая женщина редактора Диана Уржумова. Не выдержав напряжения и, видимо, осознавая, что боевые ребята из группы «Завтра» вот-вот доберут до пятидесяти одного процента, а тогда оставшиеся акции полностью обесценятся, она сдается на милость победителей. И решается на отчаянный шаг. Сама приходит к Протасову.
Глупенькая, она не знает, что как раз ее пакет в двадцать пять штук и является той самой «золотой акцией», которая решает все.
Протасов слегка «кочевряжится». Но предлагает ей достойную цену. Когда она уходит в «кассу», он неожиданно для себя соскакивает с кресла и пускается вприсядку вокруг стола. Так, что его красавица секретарша, слышит из кабинета топот и гиканье. И, с удивлением заглянув за дверь, чуть не давится карамелькой во рту. Она видит, что ее обычно язвительный, колючий и хмурый шеф «гоголем» – руки в боки – кружится в танце.
Дубравин встречает Диану приветливо. Много воды утекло с тех давних пор, когда они вместе проводили время на первом семинаре регионалов.
Сейчас Дианка связана накрепко с новым редактором. И Дубравин никак не может понять, зачем расчетливая и много чего повидавшая светская женщина крутит роман с женатым и не слишком удачливым в делах Мишаней. Зачем терпит эту двойственную ситуацию, которая уже сказалась на отношении к ней их товарищества.
Долго гадает он. И наконец понимает: «Это роковая любовь заставляет ее терпеть такое свое вот незавидное положение». Сообразив это, он вспоминает Галинку – свою страсть. И даже сопереживает Уржумовой, чувствуя в ней родственную, мятущуюся душу. Одно слово «любовь зла…»
Отсчитывая деньги, Дубравин тоже осознает, что в данный момент окончательно решается судьба молодежки. Но ему не радостно, как Протасову. В глубине души он понимает, что «хрен редьки не слаще». И зависимость от «Эксилбанка» тоже не лучшее решение проблемы инвестора-владельца. По его понятию, газета должна быть зависимой только от читателей и рекламного рынка. И самое лучшее было бы для них – самим выкупить ее у трудового коллектива. Но как генеральный директор он отлично знает ее финансовое положение. Все деньги уходят в развитие. Свободных нет. И с этим ничего нельзя поделать. Приходится мириться с приглашением в молодежку совладельцев-инвесторов. Все-таки эти ребята-финансисты будут продвинутее тех, на кого поставили в редколлегии. Из двух зол они выбрали меньшее. И это хоть как-то утешает его. Но слабо.
* * *
Дома его ждет помятый конверт. Дубравин вертит его, не понимая, откуда ему пишут. Потом догадывается по почтовому штемпелю: «Из Казахстана! Надо же, а я думал, почта вообще не ходит». Открывает. Знакомый почерк отца.
«Добрый день! Сынок Саша, жена Таня, ваши дети Алеша и Никитка, с приветом к вам мама и папа, дедушка и бабушка. Сообщаем, что живем мы все по-старому. На месте. Но вот решили написать вам, а то вы нам не пишете. Саша и Таня, у нас лежат ваучеры, посоветуйте, что нам с ними делать? А еще мама вырвала все зубы, они шатались, и теперь их надо вставлять. Два моста – надо две тысячи. Мы все деньги переводим на сахар и хлеб, еще купили сена 2 тонны, угля купили 4 тонны, вот сейчас уже денег нет на зубы. Бесплатно теперь не вставляют, и очередь через 2 года. Просим, если можно, вышлите нам на частную вставку зубов сколько можно.
Газ в этом году не проведут еще. А уже заплатили 360 рублей за составление плана, а так один котел стоит 9 тысяч. Не знаем, как и проводить. А еще у меня новость. Поехал я в контору на почту деньги получать. Оставил велосипед около лестницы. Вышел с почты – велосипеда нет. Увели. Теперь совсем без велосипеда, кругом надо пешком ходить. Раззяву поймал. Что делать? А еще оба болеем. Особенно что зубов нет. У меня тоже. Передавай, Саша, всем поклон от нас. Свату и сватье. Их детям.
До свиданья. Целуем всех и ждем ответа, ваши дедушка и бабушка. Дубравины».
Пахнуло на Дубравина домом. Задумался. Пошел ужинать. А голова занята стариками: «Надо помочь. Выслать переводом тысяч двадцать. С получки. Сейчас в кармане пусто. Дотянуть бы до квартальной премии. А то жена ворчит: на зиму детям шубки нужны. Главное, чтоб перевод дошел. Теперь везде границы понатыканы».
VI
Красный «Мустанг» с откидным верхом, белыми кожаными сиденьями и хромированным бампером, урча мощным двигателем и шурша шинами «Гудиер», уносит их вверх по извилистой горной дороге, окруженной вековыми соснами. Все выше и выше. Амантай в кожаных стильных перчатках без пальцев крепко держится за оплетенный руль. Каштановые волосы его красивой подруги развеваются на ветру. Они едут к горному бирюзовому озеру. А на заднем сиденье и в багажнике раритетной машины сложено все для роскошного пикника на обочине.
Маленькие радости красивой жизни. Они теперь доступны помощнику президента. И одна из таких радостей – красивые дорогие антикварные автомобили. Кто бы знал, что любовь к красоте может так зовуще пробудиться в душе бывшего сельского паренька, приехавшего в Алма-Ату из глухой казахстанской деревни.
«Мустанг» – это уже второе его приобретение. Первое – черная советская «Чайка», на которой ездил бывший первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев. Амантай случайно узнал, что старая машина до сих пор стоит в гараже ЦК и ее вот-вот продадут за бесценок. Он посмотрел, вмешался. И выкупил ее для себя. Год ушел на восстановление и реставрацию у знакомого механика. А когда ее выкатили на свет божий, все окружающие ахнули. Стремительный, черный, отполированный лимузин потряс его совершенством формы и благородством линий. А когда Амантай устроился на заднем сиденье представительского авто, он понял, что такое символ имперской власти в автомобильном эквиваленте.
Недавно это было. Американский «Мустанг» – другая философия жизни, другой стиль вождения, другая концепция отношения к миру. Стремительность, свобода, скорость – вот параметры, на которые он нацелен. И машина вполне оправдывает свое название, ускоряясь буквально за секунды и не давая обгоняемым «Жигулям», «Москвичам», «Запорожцам» ни малейшего шанса.
На такую прогулку, да на таком автомобиле, конечно, он пригласил и соответствующую женщину. Женя Ткачук – восходящая звезда казахстанской журналистики. Внешне раскованная, интеллектуально подкованная тридцатилетняя барышня с большим бюстом и полнеющим крепким телом. Евгения – девушка не только с претензиями на интеллигентность, но и с амбициями на светскость. В друзьях у нее писатели, художники, музыканты, поэты. Одно слово – «богема». И Амантаю страшно нравится собираться с ними в ее доме и вести душевные беседы об искусстве и красоте.
Круглолицая, с курносым носиком Евгения слегка морщит полные губки на покрытом ровным искусственным загаром личике и рассказывает по дороге исторический анекдот о фаворитах Екатерины Второй. Подразумевая, конечно, общих знакомых:
– Как-то встречаются на дворцовой лестнице, ведущей в спальню Екатерины, Алексей Зубов и Григорий Орлов. Зубов и говорит: «Здравствуйте, граф! Вижу, ходим мы с вами по одной лестнице!» – это он ему намекает. На что Орлов ему с солдатской прямотой отвечает: «Ходим-то мы, батенька, по одной лестнице. Только, как видите, я спускаюсь вниз, а вы вон как резво бежите вверх». Какая прелесть, правда, Аманчик? Это мне вчера рассказал Миша Гринштейн. Вспомнил Кажегельдина…
Амантаю не надо дважды объяснять, о чем идет речь. Он и так в курсе всех событий и интриг, происходящих при дворе. В некоторых случаях он даже может похвастаться тем, что сам «руку приложил».
Ему, Амантаю, все равно, кто сейчас у власти. Как тому крестьянину из фильма «Чапаев»: «Белые придут – грабят. Красные придут – тоже грабят». Время такое – грабительское. Для него важно другое. Быть у кормила власти. Он даже себе присказку придумал: «Чем ближе к телу, тем лучше делу!»
И она пока себя оправдывает. Выпасть из кадровой обоймы – вот что страшно.
– Видела случайно на улице бывшего твоего шефа Кондыбаева, – рассказывает по дороге Ткачук. – Совсем опустился! Бредет еле-еле. А помнишь, как взлетел тогда, в декабре восемьдесят шестого?
Как же ему не помнить тот трудный год, который, с одной стороны, развел его с друзьями, а с другой – помог двинуться вверх. Он тогда вовремя уловил ветер перемен. И правильно поставил парус. А потом был девяносто первый. И тогда он понял одну простую, но очень важную истину. Революции происходят не потому, что приходит какая-то неведомая неодолимая сила и захватывает власть. А потому, что все отворачиваются от власти. И ее некому защищать. Так было в семнадцатом с царем. Так было в девяносто первом с генсеком. Так будет еще много-много раз. Всегда!
Главное, чтобы этого не случилось с ним. Когда он добьется своей мечты. А пока жизнь и так хороша.
* * *
«Какая она аппетитная, спелая вишня! – думает он о своей подруге, плотно сидящей рядом. – Интересно, так ли она хороша в постели? Молодая, а уже в третий раз замужем. Нынешний ее избранник – бизнесмен средней руки, торгующий разного рода поделками народных промыслов. От глиняных горшков до картин. В общем и целом подходящая партия. Женя обеспечивает ему связи в верхах. Так сказать, подгоняет клиентуру».
А вот и водоем. Охваченное кольцом хвойных деревьев, которые отражаются в чистейшей горной воде, озеро расположено в укромном месте. Не каждый доедет сюда. Да и не каждого пустят через кордоны в эти заповедные места, где на горных склонах бегают олени и лани, а на капот его красного «Мустанга» садится огромная бабочка невиданной расцветки.
Они располагаются на бережку. Достают из багажника дорожный сундучок, в котором есть все необходимое для пикника – от полосатой скатерки до ножей и вилок из нержавейки. Но перед завтраком решают искупаться.
«Ну что ж, купаться так купаться – спешить нам некуда», – думает Амантай, раздеваясь и с интересом поглядывая на Евгению, в черном закрытом купальнике спускающуюся к воде: «Почему в черном?» Потом соображает: «Просто, видимо, начала полнеть. Оттого и черный. Чтобы выглядеть стройнее».
А она заходит в прозрачную, прохладную воду до пояса, поворачивается, призывно глядя на него: чего, мол, давай заходи!
Он, чтобы не ежиться и не пожиматься, просто молча рванул с берега в воду. И сразу, подняв столб брызг, нырнул. Вынырнул. Мощно поплыл, загребая «саженками». Так, как делал это когда-то у себя на речке Гульбе.
Она постояла, понаблюдала и потихоньку опустилась в воду, стараясь не замочить прическу. Плыла не торопясь, «по-собачьи».
Амантай первым выскочил на твердую землю. Обтерся мохнатым полотенцем. И стал ждать ее на крутом бережку, с которого было намного проще зайти в воду, чем выйти. Она подплыла. Он подал руку, наклонившись к воде. И вдруг она неожиданно для него, поднявшись из воды, повисла на нем, обхватив плечи Амантая руками, а торс – ногами. От такого он чуть не грохнулся прямо с берега в озеро. Но удержался. С трудом выпрямил свой стан.
Тело у нее мокрое, плотное, тяжелое. Как будто вырезанное из прохладного мрамора. Груди под купальником крепкие, твердокаменные.
С трудом переставляя ноги, он поднялся с этой ношей на берег.
«Надо же! – думает он. – Встретить такую жрицу любви матери богов Кибелы в наше время. Как в романе Ивана Ефремова “Таис Афинская”: “Тело из камня, душа, как природа”».
– Изнасилуй меня! – шепчет она с вызовом, не разнимая рук.
Широченное заднее кожаное сиденье «Мустанга» и сидящий в гнезде одинокий коршун стали свидетелями этой долгой борьбы двух тел. Сколько ни пытался Амантай заставить ее сдаться, снять купальник, ничего не получалось. Ее сильные руки упорно держали оборону. Брыкаясь и изворачиваясь, она довела его до полного исступления. Когда уже оставалось только два выхода – признать свое бессилие или начать всерьез избивать ее, – она сдалась. Обмякла и снова, обняв «насильника», прижалась к нему…
…Закусывая французский коньячок финской колбаской, он молча смотрит на заходящее за белую вершину солнышко. И чувствует всеми фибрами души быстролетную, уходящую красоту этого мира, этого дня. И еще он чувствует благодарность к этой женщине, которая своей нехитрой игрой пробудила в нем давно забытую страсть, дала возможность хоть на время освободиться от этого вечного бремени долга. Почувствовать себя снова молодым, сильным, желанным. Почувствовать себя зверем, самцом. Забыть обо всем том, что снова ждет его там, внизу. У подножия гор.
С этого дня Амантай начинает коллекционировать не только раритетные машины, эксклюзивные вещи, но и необычных женщин.
Часть IV Путь к себе
I
Лазарь заболел. Сестры его – Мария и Марфа – послали человека к Иисусу, чтобы известить Его об этом: «Тот, кого Ты любишь, болен».
Услышав весть, Христос не обеспокоился, а просто заметил: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией».
Уж Он-то знал, что будет дальше. И потому никуда не торопился.
Прошло два дня. И Он с учениками тронулся в Иудею. По дороге апостолы уговаривали Мессию не рисковать, не приближаться к Иерусалиму, где еЕо могли арестовать. Но Сын Божий был непреклонен.
Пока они неспешно двигались по дороге, Лазарь скончался. И, как сообщила им сестра умершего Марфа, уже четыре дня лежит в гробу.
– Воскреснет брат твой! – сказал ей Спаситель.
Но она не поверила, а решила, что воскреснет он в день последний, когда все будут воскрешены для Божьего суда.
Но это было не так. Потому что должно было случиться величайшее чудо.
Собрались все у пещеры, где лежал погребенный Лазарь. Собрались как верующие в него, так и настроенные враждебно.
Шепчутся меж собою. Лицемерно плачут. И ждут, что же он будет делать в такой ситуации.
Иисус же велел:
– Уберите камень, закрывающий вход.
Сестра умершего Марфа предупреждает:
– Господи! Уже смердит: ибо четыре дня, как он во гробе.
– Не сказал ли Я тебе, что, если будешь верить, увидишь славу Божию!
И тогда они решились. Камень откатили в сторону. И стали ждать. А Христос возвел глаза к небу и громко сказал:
– Отец Мой Небесный! Благодарю, что Ты услышал меня.
Видно, пришла к Нему та сила, которой Он должен сотворить это чудо. Сила жизни.
Потом, подойдя ближе ко входу в пещеру, Он громким голосом позвал:
– Лазарь! Выйди вон!
И на глазах у огромной толпы случилось непостижимое уму человека. Чудо!
Встал из гроба. И вышел вон! К новой! Вечной жизни! Новый Лазарь!
Ко славе Божией. И людям в назидание.
Аминь!
II
«“Дура, дура, дура я, дура окаянная”, – вспомнились ей слова частушки. – Зачем гнала волну? Зачем гоняла его по врачам? Вот теперь и расхлебывай эту историю!» – Галина молча слушает доктора, а сама в эти минуты пронырливым женским умом ищет выход из создавшегося положения.
А доктор, Иван Петрович, такой веселый, моложавый, белозубый добродушный малый в очках, продолжает свой монолог. И что ни скажет, все похохатывает. Как будто ему, доктору, очень весело:
– Вы, понятное дело, девушка, беременны! – говорит он, разглядывая снимки. – И уже давно. Так что могу вас обрадовать. Что ж не приходили?
Не приходила, потому что боялась сглазить, спугнуть свое счастье. Это ему, доктору, весело. А она вся в страхах и сомнениях. Ибо ребенок-то есть. Цель достигнута. Проблема решена. Но как сказать об этом Владу? Ведь он знает о своем диагнозе.
– Иван Петрович! – наконец решается она. – То, что я беременна, это и к гадалке не надо ходить. Но ребенок этот мой. И только мой! – так она пытается намекнуть доктору, что муж к этому ребенку никакого отношения не имеет.
Доктор, он хоть хохотун и юморист, но в курсе дела и все понимает с намека:
– Это что значит? Что он у вас от святого духа появился? Ребенок-то?
Она как в омут с головой:
– От святого, не от святого, но не от Влада.
А доктор даже не удивился. Видно, за свою практику много чего повидал при общении с женщинами.
– Ну! – доктор опять белозубо улыбнулся и глянул на нее поверх очков, чем взбесил ее до глубины души. – Это такая, я бы даже сказал, самая обычная история. Я слышал, что у нас в стране каждый третий ребенок рождается совсем не от тех мужчин, что записаны отцами.
«И где он такую цифру нашел? Дурачина! В каком-таком статистическом управлении? Сказала бы я ему! Ну, да Бог ему судья, этому смешливому, дурашливому доктору. Надо высказать главное. Предложение».
– Понимаете, – замямлила она, – я бы хотела, чтобы вы моему мужу, скажем так, подтвердили, что бывает такая вот вероятность, одна на миллион, что вот один такой его сперматозоид мог, смог, ну, это самое, – она долго подыскивает подходящее слово…
И доктор ей помогает:
– Оплодотворить вашу яйцеклетку!
– Ну да, что случилось чудо!
– Великое чудо Маниту. Зверь с двумя хвостами, – заржал Иван Петрович. Но вовремя успокоился. И даже слегка призадумался. – А ведь это дело не очень здорово выглядит. И не очень здорово пахнет. А что мне за это будет, если я расскажу вашему мужу Владу-Иосифу?! – не удержался, чтобы не сострить. – О таком чуде…
Галина достала из сумочки и молча положила на стол перед ним плотный конверт. Доктор недоумевающе, а может, просто сделал вид, смотрит на нее.
Тогда она осторожно тянет конверт обратно. Но он с другого конца накрывает его пухлой белой ладонью с рыжими волосинками на пальцах. И тянет его к себе.
– Ладно. За роль архангела Гавриила, кажется, это он сообщил плотнику Иосифу о Божьей воле, мне что-нибудь да полагается. Но только ради ребенка. Он-то, как говорится, ни сном, ни духом. Стало быть, я отцу сообщу, что с точки зрения медицины такое в общем-то может быть вполне. Правда, в одном случае на миллион. А то как-то неудобно говорить о чуде. Я все-таки врач. И в чудеса не верю.
Посчитали они с доктором все сроки. Припомнила она совместные супружеские отношения. И поехала прямиком домой.
Надо же обрадовать мужа.
Обрадоваться-то он обрадовался. Но к доктору все же съездил.
* * *
Хоть и утверждают все врачи в один голос, что беременность – это не болезнь, а естественное, природное состояние женщины, но это ныне не совсем так. Может, лет сто или двести тому назад расхожая формула «босая, беременная и на кухне» и была актуальна, ведь тогда рожали по десятку детей. Теперь же беременность – событие со всеми вытекающими последствиями. Огромной радостью. Ожиданием чуда. Заботами. И, увы, неизбежными проблемами со здоровьем. Тут колет, там тянет. Вдруг портятся зубы. А вот и анемия.
Помчались по консультациям: «Надо есть побольше мяса. Принимать кальций. Пить красное вино».
«А как же фигура? А что же работа?»
Только пережили это. Следом токсикоз. А за ним варикоз…
Надо ложиться в больницу. На сохранение. Делать уколы.
Сохранили кое-как.
Вот шевельнулся. Стукнул ножкой в стенку живота. Боже, какое чудо!
А доктора свое: «Не раскармливайте плод!»
И так изо дня в день. Все девять месяцев. И мысли о ребенке. Аж задыхаемся от счастья. Где мысли, там и разговоры: кто будет – мальчик или девочка? Опять консультация:
«Девочка!»
«Ах, девочка! Какое счастье!»
Доктор:
«Что я, по вашему мнению, мальчишку не могу узнать, что ли? Конечно, мальчик!»
«Ах, мальчик! Радость-то какая! Покупаем голубенькое одеяло».
* * *
И вот после всех хлопот и забот наступает этот день. Режущая боль внизу живота:
– Ой, мамочка, помираю!
Началось. Ребенок просится выйти в мир божий.
Срочно в машину. Влад торопливо запрыгивает за руль. Она заползает на заднее сиденье. Охает. Ахает. Теперь уже и не от боли. Боль отпустила. Скорее от страха.
Тронулись от дома. На улице зима. Огромные сугробы на обочинах. И раскатанный, заснеженный асфальт. Влад торопится. Дергает во дворе. Заднеприводные «Жигули» заносит, заносит, заносит. Разворачивает. И боком прямо в сугроб. Бух! Только снег в разные стороны. Боже мой! Какой ужас. Он выскакивает в одном кашне, без шапки и пальто из автомобиля на мороз. Заглядывает снова в салон.
– Ты цела?!
– Жива еще! – бормочет Галина. А самой отчего-то так смешно становится.
Влад бежит по улице к остановке автобуса, где собрался народ на работу ехать.
– Люди добрые! Жену везу в роддом. Вот занесло на повороте. Помогите, вытолкайте из сугроба!
Образовывается дискуссия. Потом группа сочувствующих. Наконец трое мужиков отделились. Взялись толкать.
Влад снова за руль. Газует. Вырвались из снежного плена. И теперь уже не торопясь, а как положено, потихоньку поползли в родильный дом.
В приемном отделении строгая дородная сестра учиняет допрос:
– Документы! Карта!
Но все давно наготове.
Для Влада пошло время томительного ожидания. Выходит другая сестра в халате, еще более дородная, но добрая:
– Поздравляю! У вас мальчик!
Правду доктор говорил. Не зря покупали голубое одеяльце.
Пошла гулять губерния по случаю настоящего чуда. Новый человек родился.
* * *
Забрать женщину из роддома – целый ритуал. Высылается записочка – что надо собрать. Какие пеленки, распашонки, одежку, туфли, чулки. Ей и ребеночку. Куда передать. Куда явиться к выписке. Да, главное – не забыть подарки. Бутылку шампанского. Букет цветов. И всякие прочие мелочи.
Владик оказался хорошим отцом. А главное, старается. Изо всех сил. Быстрее Галины научился менять подгузники. Кормить из бутылочки. Готовить смеси. А новая жизнь, ох непростая. Ночь, полночь надо быть начеку.
– Кха-кха-кха! Га-га-га! – заплакал ребенок. В кроватке или коляске. Проснулись оба сразу. Ждут. Может, замолчит.
Опять захныкал. Теперь уже требовательнее, сильнее. Мол, что же вы? Я тут описался. Или есть хочу.
Надо вставать. А это уже третий раз за ночь.
– Ты лежи! Спи! Я сам, – Влад поднимается с кровати и как ночная тень бредет к кроватке, где уже орет, заходится в крике новый жилец.
А сыночек уродился непростой. Ну, вовсе непростой. Нервный, странный ребенок. Как родился с воплем, так и вопит с небольшими перерывами на обед и сон. Измотал он их. Родителей.
Вот, казалось бы, с вечера она его укачивала, укачивала. Еле утрясла. Только положила. Ну, и спи до утра. А он уже через полчаса завякал. И так настойчиво. Так требовательно.
То ли есть хочет? То ли какать? Попробуй угадай. Утром встаешь. Надо на работу идти (она вышла через три месяца), а голова как чугунок. Звенит.
Утром Влад бежит на молочную кухню. С бутылочками. Потому что доктор сказал, что ныне продаваемые молочные смеси, как бы это помягче, а не так, как доктор, – не совсем то, что нужно маленькому.
Обычная семья. Вроде бы все хорошо. Только…
Однажды она застала Влада за таким вот занятием и подслушала. Стоит он около кроватки. Смотрит на крохотного ребенка. Так это внимательно смотрит. И приговаривает:
– Неужели же нет ни одной моей черточки, ни одной?
Она так и застыла, глядя на эту картину: «Значит, он верит и не верит в то чудо, о котором ему поведал веселый доктор».
III
Рейс задержали. Но его дождались.
Стеклянное, запыленное здание областного аэропорта встретило его пустым залом ожидания и унылой физиономией начальника. «Закопченного» на солнце, дочерна загорелого молодого казаха в потрепанной синей форме с галуном на рукавах. Он, раболепно изогнувшись в полупоклоне, протянул навстречу «акиму», так теперь называется должность главного областного начальника, обе руки и доложил:
– Абеке! Самолет ждет вас!
Амантай милостиво подает ему руку. Но не благодарит за то, что для него на полтора часа задержали вылет рейсовой машины. Великий человек! По-старому, по-советски, он председатель облисполкома. Да какой там председатель! Бери выше! Первый секретарь обкома партии! Хозяин области – вот какая его должность. И он не обязан благодарить никого за такие мелочи.
Он быстро идет к машине, где у трапа ждет его стюардесса.
Лето. В полупустыне жара. Трава вокруг пожухла, пожелтела.
Начальник семенит сбоку за ним, как верная собачка, что-то приговаривая на ходу. Поднимаясь по трапу, он краем глаза замечает, что стюардесса в этой своей форменной блузке симпатичная и стройная.
Но ему сейчас не до нее.
И он молча проходит в салон старенького, еще советского производства Ан-24 – «Аннушки», как зовут его летуны.
Натужно гудят моторы. Вертятся пропеллеры, набирая обороты. Самолет начинает, неторопливо покачиваясь, разбегаться по взлетной полосе, уходящей куда-то в степь. До самого горизонта.
Взлет. И крылатая машина движется сквозь черные грозовые облака на юг, в сторону столицы суверенного Казахстана.
«Поближе к солнцу!» – думает Амантай, вглядываясь через круглое окно иллюминатора вниз, в порыжевшую, засыхающую степь, которая раскинулась на сотни километров вокруг.
«Все есть на нашем флаге: “Голубое марево неба и желтое солнце на нем!”»
Тревожные мысли не покидают его всю дорогу. И он корит себя за вспыльчивость: «Уж сколько раз я говорил себе: язык мой – враг мой! И опять сорвался. А главное – не вовремя!»
А проблема, которую он везет с собой, проста. У него теперь большая должность. Но он удален от тела. От столицы. И враги его, интриганы, пользуются этим.
Вчера на большом совещании в акимате по ЖКХ и приключилась с ним эта история. Перед заседанием прокурор области доложил ему, что один из родственников «ноль первого», владеющий здешним обогатительным комбинатом, выводит выручку предприятия в офшор. Уклоняется от налогов. Амантай разозлился. И на заседании язвительно прошелся по этому делу. Попутно заявив в запале:
– У нас тут, в акимате, нет денег на элементарный ремонт теплосетей, которые со времен СССР уже сгнили целиком и полностью. А какие-то «негодяи», прикрываясь родственными связями, наживают миллионы, завладев ресурсами, принадлежащими всему народу Казахстана!
Сказал. И глянул в зал. А народ там притих. Все участники совещания пригнули головы. Косят глазами друг на друга.
Посмотрел он тогда на них. И подумал: «Ничего! Проглотите! Привыкайте!»
Но в душе, где-то в глубине, пожалел о сказанном. И о своей вспыльчивости.
И не зря пожалел. Уже утром следующего дня у него в кабинете раздался звонок «вертушки». Системы прямой связи для первых лиц, оставшейся еще с советских времен.
Звонила Светлана Ганиева. У него с этой симпатичной метиской (мать русская, отец татарин) был небольшой роман в бытность министром, перешедший в дружеские отношения. И с той поры она, работавшая в секретариате президента, скидывала ему конфиденциальную информацию о происходящем на самом верху. На олимпе.
На этот раз голос ее звучал в трубке фамильярно, но не ласково, а тревожно:
– Аманчик! Тут буря!
– Какая буря! – недоумевал он.
– Ты вчера выступал на своем облсовете в акимате?
У него тревожно заныло под ложечкой, у сердца.
– Твой зам Бергей звонил вчера Рахату. Короче говоря, настучал на тебя. Якобы ты высказался против «папы». И вообще ведешь себя чересчур независимо там, у себя в Атырау. Тот, конечно, насвистел Дариге. Так что шорох идет большой. Завтра дочка будет у папы. И что тогда? Так что давай…
Господи! Как все недавно было. Еще вчера ему казалось, что они все герои, первопроходцы, борцы за идею. Все вместе, дружной командой строят новое, молодое национальное государство. Немного проехали. Власть укрепилась. И уже идут заговоры, интриги, подметные письма, доносы, наветы. Проявились все родимые пятна советской школы управления. Или они и не исчезали? И их воспроизводит сама система власти?
А может, дело в людях? В их менталитете, в привычках, в характере народа? В самом уровне развития? Скорее всего, и в этом тоже есть частица правды.
Впрочем, ему некогда сейчас заниматься самоедством и самоанализом. Тем более в такое время, когда под ним горит. А ведь как хорошо начиналось!
Шеф вызвал его тогда, перед назначением. Поговорил. Сказал, что надеется на него. Словом, намекнул на то, что он член его команды. И предложил эту должность главы области. Он горячо взялся за дело. Наводить порядок. Но прошло совсем немного времени. И… Заела рутина. Чувствуешь себя, словно в какой-то банке с пауками. За каждым твоим шагом внимательно и чаще всего недоброжелательно наблюдают десятки глаз. И вот очередной навет. На него. Что делать? Можно, конечно, действовать по русской поговорке: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится!» А можно не сидеть, не ждать. Самому идти на грозу.
Что сейчас и сделал. Сел в самолет. И – к шефу в Алма-Ату. Напрашиваться на прием. Чтобы там при разговоре «налить ему меду в уши».
Самолет летит, а Амантай думает. О природе казахской государственности:
«Конечно, говорить о том, что мы ведем свою государственность со времен хана Аблая, как это делают сейчас, по крайней мере смешно. Мы выросли из советской традиции. Вылупились, как бабочка из кокона. А та вышла, в свою очередь, из имперской – российской. А если заглянуть дальше, то там проглядывает византийская. А по ней, только основатель государства безгрешен. В данном, конкретном случае таким основателем является великий гений Владимир Ленин. А все последующие вели себя неправильно. И их, соответственно, развенчивали. Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев. Так что в скором времени сбросят и Ельцина! Мы тоже, скорее всего, не уйдем от этого правила. Кто власть потерял – тот уже не прав. И его надо растоптать, высмеять.
Сначала раболепствуем, пресмыкаемся, восхваляем. А стоит ослабеть вожаку, начинаем топтать и проклинать. Все по Пушкину, как там у него? “Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых”.
Президент это знает не хуже меня. У него перед глазами пример Кунаева. Так что есть только один путь, если он хочет остаться великим. Объявить себя не продолжателем, а основателем. Началом казахской государственности, всего и вся!
Но это, ой бай, как непросто!»
Мысли снова прошлись по кругу и возвратились к сегодняшней ситуации: «Конечно, лучше сразу оказаться на глазах. И если уж так получилось, то надо испытать гнев хозяина сейчас, чем сидеть у себя в Атырау и ждать, пока вызовет. Ведь мои враги будут там, в Алма-Ате, накручивать его, сочинять разные небылицы. А он начнет накапливать страхи. Про заговоры, интриги».
В просторном, шумном зале ожидания столичного аэропорта его встретил верный Ербол. Он уже так раздобрел на мясных харчах, что Амантай, глядя на его широченное, круглое лицо, даже удивился: «Эка, как его разнесло. И куда дальше? И так уже поперек себя шире». Подумал, но поздоровался ласково.
Уже в роскошном, красивом, отделанном кожей и красным деревом салоне новенького, эксклюзивного «мерседеса», чувствуя «опорной точкой» мягкость сиденья, вспоминает любимую школьную туристическую песню: «Я на пятой точке съехал, как лавина, прямо вниз! Надо мной смеется эхо: “Не печалься, альпинист!”»
«Смеется тот – кто смеется последним! Поймет ли хитрец, что на самом деле я приехал не просить денег для ЖКХ, а отвести удар клеветников? По формуле: “Я здесь. Я ничего не замышляю против вас. Я лоялен”».
В такой ситуации как у людей, так и у волков безотказно действует «закон стаи». Провинившийся самец второго эшелона падает на спину перед вожаком. Всем своим видом выражая покорность и преданность.
И, видя такую готовность служить, вожак, готовый задать трепку, милостиво прощает его.
Несмотря на тревожные думы, на породистом, красивом лице акима Атырауской области Амантая Турекуловича не проявляется ничего, кроме гордости и уверенности в себе.
IV
Каждый раз одно и то же. Он сидит в засаде и, крепко прижав приклад винтовки к плечу, ищет врага в окуляр прицела. Ищет до тех пор, пока не обнаруживает впереди что-то аморфное, жуткое, чудовищно безобразное, непереносимое, такое, что душа стынет и холодеет. И это что-то быстро приближается. Тогда он пытается укрыться, спрятаться от него в окопчике. Но оно неумолимо приближается, обретая облик то грозового облака, то густого тумана, то гигантской пыльной бури. Облако это обнимает, охватывает все вокруг. И вдруг каким-то непостижимым мистическим образом превращается в красивую, обнаженную женщину, ласкающую его. И он с ужасом понимает, что это «она». Та самая снайперша – «белые колготки», которую он сразил у старой кошары. «Ну вот! – шепчет она ему. – Глупенький мальчик. Сейчас тебе будет хорошо! Иди сюда!»
Холодея от ужаса, он понимает, что это вовсе не женщина – это смерть тянется к нему алыми, хищными губами. И сейчас случится что-то ужасное…
В это мгновение он со стоном просыпается. Выныривает из небытия.
А потом долго лежит в темноте, прислушиваясь к шорохам и звукам, наполняющим старый дом офицерского общежития.
Теперь впереди самое трудное – надо снова уснуть. Иногда это получается. Иногда нет. И тогда он до утра лежит с закрытыми глазами, пытаясь не думать о тревожном и тоскливом. Недавно, пытаясь обмануть природу, он взял за правило – выпивать. Граммов сто – сто пятьдесят дают возможность успокоиться, отрубиться, провалиться в сон, как в колодец. И, наконец, доспать до утра…
Сегодня это не удалось. В шесть раздался звонок. К девяти его вызвал к себе командир группы генерал Герасимов.
С тяжелой головой и сердцем Казаков отправился к начальству.
В казенной приемной он не один. На поставленных в рядок стульях, у стеночки, уже сидел «старый», опытный спецназовец Петр Сидоренко.
– Чего вызывают? – спросил расстроенного товарища Анатолий.
Тот в ответ только пожал широченными плечами. Мол, не знаю. И добавил:
– Хотел в воскресенье с сыном в цирк сходить. Да, видно, не судьба.
Из кабинета генерала вышел молоденький, весь как новенький, адъютант. Пригласил:
– Заходите, товарищи!
Командир – грузный и весь седой, с высокими залысинами на лбу – встретил тянущихся в струнку офицеров ласково. Но долго не рассусоливал:
– Нам поступило распоряжение усилить работу девятого управления. Помочь товарищам в одном серьезном деле, – генерал откашлялся, взял со стола какую-то бумагу. Надел старомодные очки в роговой оправе и наконец объяснил уже без пафоса в голосе суть проблемы:
– Речь идет о личной охране секретаря Совета безопасности Александра Ивановича Лебедя. Выбор пал на вас. Двоих. Потому что вы на сегодняшний день, – он внимательно посмотрел на них поверх оправы, – наиболее опытные и закаленные работники. Короче, направляю вас в распоряжение Борисенко. Он введет в курс дела!
Казакову понятно, что командир что-то недоговаривает. Но задавать вопросов он не стал. Не принято. Да и ни к чему. Он уже давно знает о сложившейся практике привлечения бойцов группы к охране первых лиц. Время такое. Террористы активизировались. А сил у государства с гулькин нос. Вот и бросают их туда, где тонко. То в Буденновск, то в Кизляр. А теперь вот начали «дербанить» группу на спецзадания.
Через полчаса ему позвонил начальник охраны секретаря Совбеза Александр Борисенко. Анатолий лично не знает его. Но мир тесен. И они знакомы через других ребят. Тем более что Александр бравым старлеем тоже был в Афгане, где командовал разведротой отдельного триста сорок пятого гвардейского парашютно-десантного полка.
Борисенко сообщил майору Казакову, что ему надлежит прибыть в Совет безопасности на Старой площади.
Старая площадь – название нарицательное. На самом деле это целый правительственный квартал, где сосредоточена российская власть в лице тысяч чиновников.
Казаков доезжает до центра на метро. А потом пешочком, мимо угрюмых зданий серо-стального цвета шагает к упрятанному в глубине, между зданиями контрольно-пропускному пункту. Здесь, у высоченной решетки, часовой долго и придирчиво проверяет документы, сличает их со своими внутренними списками.
Молодой, серьезный, симпатичный гэбист с голубыми, со времен шефа жандармов Бенкендорфа, погонами вызывает у Анатолия легкую иронию. И он, пока ждет, вспоминает слова генерала Ермолова о том, что в России у каждого есть или синий мундир, или «синяя подкладка», или хотя бы «синяя заплатка».
Наконец дежурный указывает ему, в какую сторону от калитки идти. И он направляется к Совету безопасности, расположенному в новом, видно, не так давно отстроенном здании.
Здесь, в просторном вестибюле, Борисенко его и встречает. Молодой, рослый, пропорционально сложенный, с заметной офицерской выправкой вихрастый парень, он странно смотрится на этих потертых красных дорожках, в длинных коридорах с глухими дверями и изредка попадающимися штатскими чиновниками. Порядочный и удивительно приятный, мужественный во всех отношениях человек. Он с Афганистана тянулся за генералом Лебедем. Был с ним и в Приднестровье. Он приводит Казакова в свой кабинет с табличкой на двери: «Советник по внутренней политике». И здесь коротко вводит его в курс дела:
– Александр Иванович завтра вылетает в Чечню. Вы прикомандированы к нему по распоряжению руководства. И поступаете под мое командование. Мы обеспечиваем охрану генерала, – и, переходя на «ты», добавляет: – Миссия сугубо секретная. Если хочешь, можешь отказаться!
Анатолий игнорирует его предложение и просто спрашивает:
– А зачем едем-то?
– Генералу Лебедю поручено с президентом вести переговоры. О мире.
Анатолий присвистнул:
– Когда вылет? И откуда?
– Машина подберет тебя в городе! Оружие и все, что нужно, получим на месте.
– О, кей! – не удерживается от модного словечка майор.
Анатолий шагает к метро и по привычке анализирует поступившую вводную. Что он знает о Лебеде? Генерал! ВДВ! Был в Афгане. В девяносто первом склонился на сторону Ельцина. Потом проявил себя в Приднестровье. Участвовал в президентских выборах в качестве спарринг-партнера. И во втором туре призвал своих сторонников голосовать за президента. А после выборов стал секретарем Совета безопасности России.
Но это внешняя канва биографии харизматичного бравого военного. А вот что происходило на самом деле за кулисами такого возвышения простого генерала – об этом можно только догадываться. Как-то друг Алексей Пономарев разоткровенничался и намекнул Анатолию, недоумевавшему по поводу постоянного присутствия генерала на телеэкране: «Ты что, не знаешь, что ли? У нас в телевизоре случайных лиц нет. Значит, готовят его для чего-то. Борис Абрамович наверняка что-то задумал. Какую-то комбинацию! – А потом добавил: – Этот прощелыга, обворовавший пол-России, зря ничего делать не будет. Видно, нужен ему свой, карманный Бонапарт, если что-нибудь с Ельциным случится!»
Как бы там ни было, а сейчас генералу предстояла трудная, но благородная задача. Поставить точку в затянувшейся войне. И Анатолий, сам побывавший и пострадавший в чеченской мясорубке, готов ему способствовать. Так что приказ в данном случае был ему по душе.
* * *
Они на машинах за двадцать минут пролетели пол-Москвы и помчались в сторону аэропорта Внуково. Но поехали не в правительственный терминал, а в обычный – конспирация. Выгрузились. И прошли в депутатский зал. Подождали несколько минут, пока все соберутся. И дружной кучкой двинулись прямо на летное поле.
Частный самолетик маленький. Такой маленький, что они ввосьмером еле влезли в тесный, но роскошно отделанный дорогим деревом и кожей салон.
Большому Сидоренко места в салоне не хватило. И пришлось весь этот необычный рейс сидеть в туалете, на толчке.
Компания подобралась хорошая. Сам Александр Иванович Лебедь, его заместитель Сергей Харламов, пресс-секретарь Александр Бархатов, начальник охраны Александр Борисенко, прикрепленный из «девятки» Алексей Воробьев и они, «простые офицеры из спецназа».
В салоне быстро сняли свои цивильные гражданские костюмы и натянули на себя пятнистую камуфляжную форму. Из огромной доставленной в самолет сумки достали «стволы». Распихали оружие по карманам и кобурам.
Анатолий, как только переоделся в привычную для себя одежду, сразу успокоился. И поймал себя на мысли: «Как будто натянул звериную шкуру. Не зря нас учили в школе КГБ – обнажить скрытые инстинкты и рефлексы, перестать думать и начать чувствовать. Иначе не выжить!»
Короткий разбег. Взлет. Перелет, как прыжок через пропасть. И уже внизу бетонная дорожка махачкалинского аэропорта.
Перед самой посадкой Лебедь достает из черного дипломата пистолет и «сажает» его сзади под брючный ремень.
У взлетной полосы их ожидают. У нескольких больших джипов небритые братья Хачилаевы в традиционных каракулевых папахах и нетрадиционных черных костюмах.
Отсиделись они в богатом гостеприимном родовом доме у братьев. А вечером в путь. К границе с Чечней. Пять машин. Четыре джипа и «Мерседес».
У первой машины на выезде бабахнуло колесо. Запаски нет. Оставили на дороге.
При переезде через пограничную речку застрял легковой «Мерседес». Оставили. Потом догонит.
Оставшиеся гонят по разбитой дороге. Вперед! Вперед!
Чечня. Пошли блокпосты русской армии. Угрюмые сооружения из бетонных блоков, деревянных настилов и еще черт знает из чего. Палатки. Непролазная грязь. Замурзанные «глиняные» солдаты. Шлагбаумные трубы медленно поднимаются только тогда, когда вынимается удостоверение секретаря Совета безопасности России.
Навстречу колонне джипов прет колонна возвращающихся с задания бронетранспортеров. Они упираются друг в друга. С бэтээров требуют, чтобы «нохчи» уступили дорогу. Видимо, решили для себя, что встретили «парадный выезд» какого-то богатого чеченского тейпа. И для пущей убедительности «шпарят» очередями поверх крыш.
Через минуту осознают ошибку.
«Старшой» колонны, весьма навеселе, выскочил к начальству. И даже попытался подойти строевым. Но ноги выдали. Заплелись.
Тронулись дальше. Заблудились. Проскочили на скорости поворот на Шали.
Уткнулись наконец в «Ниву», которая приехала их встречать.
Из «Нивы» вышел… знакомое лицо! Вахид Сулбанов! Анатолий профессиональной памятью отметил изменения в его облике. «Весь в хаки, перепоясан пулеметной лентой. И борода. Как положено моджахеду. Такой он более естественный. Не то, что в Москве…»
Но рассусоливать некогда. Все по машинам. И снова дорога. Как качели. Вверх, вниз. Гигантские колеи грязи. Лужи форсируются почти вплавь. Волна идет впереди. И перехлестывает на капот.
Из темноты выстрелы. Автоматные очереди. Кто стреляет? Зачем? Непонятно! Прибавили газку. «Нива» отстает. Теряется.
Подождали.
Лебедь дает команду:
– Вернуться!
«Правильный генерал. Своих не оставляет!» – думает Анатолий, сжимая приклад поставленной между ног винтовки.
К счастью, отставшая машина все-таки всплывает на пригорке.
В Атагах оказались ближе к полуночи. Дом Резвана в селе – это такая признанная всеми сторонами нейтральная территория.
Высоченный забор. Железные ворота. Просторный внутренний двор, в котором есть где встать машинам. Во всем основательность. Видно, что хозяин – бывший директор цементного завода союзного подчинения. Стало быть, на стройке не экономили. И получился дом-крепость с двумя крылами.
Вошли дружно. Большая комната – по-нашему «зал» для переговоров. Делегация расселась там. Охрана села в соседней комнате. Им подали чай, сахар, лепешки.
В комнату «на огонек» заглянул и Сулбанов.
Поздоровались, как старые знакомые.
– Здравствуй, Вахид! – окликнул его Казаков.
Тот удивленно вскинул брови. И узнал:
– Здравствуй, Москва!
Анатолий с интересом, и даже некоторой долей доброжелательности, рассматривает бывшего казахстанского, потом московского, а ныне идейного «нохчу». Рыжего, щетинистого, могучего, воинственного.
– Помнишь наш разговор в офисе? – спросил Анатолий, подразумевая спор о «чеченском бизнесе». – Теперь ты вот здесь… оказался.
– Сейчас каждый порядочный чечен здесь! – с легким вызовом отвечает Сулбанов. – Идет борьба за независимость нашей страны. И мы должны быть здесь.
– Ну-ну! – майор не хочет «дразнить гусей», но говорит это «ну-ну» так скептически, подразумевая: «Если бы вас не выдавили из Москвы, были бы вы здесь. Сомнительно». Но, чтобы продолжить разговор, просто спрашивает:
– У кого служишь?
– Мой командир Масхадов!
– И на что надеетесь?
– А что? Теперь войска ваши выведут. Будет подписан мир. И мы будем жить, как нам нравится. Сами. – И громко, чтобы все слышали, добавляет: – Пришло наше время побеждать!
В общем, Анатолию возразить нечего. Не будет же он распинаться о том, что, если бы не предательство высшего начальства, не воровство, не усталость армии, не пятая колонна в Кремле, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Неохота ему спорить. Он в общем-то согласен, что с войной пора кончать. И этого достаточно.
Впрочем, это не его дело. Его послали охранять переговоры. Он и охраняет. Об остальном пусть думают те, кто затеял эту войну.
Сулбанов ушел проверять посты. А он стал думать о России. Вспоминать разговор с казаками там, у аула Бечик:
«Страна наша расширялась толчками. Сначала было Владимиро-Суздальское княжество. И граница проходила на юге, под Рязанью. Второй рывок. И русские в степях под Воронежем. Дальше двигались уже осознанно. К морю. По рекам к Азову. И на Крым. Так, расширяясь, и оказались перед необходимостью «переварить» Кавказ. Вот и «переваривали» столько лет. А теперь Лебедь приехал. Пусть так! Плевать! Пусть живут как хотят! С Дубравиным поспорили последний раз. Тому надо додавить, добить. Не понимает он, что люди устали. На пределе».
Бегут часы. Перед рассветом подали короткий ужин. Или завтрак. Холодное мясо, лепешки, зелень. Анатолий ест понемногу. Желудок уже не тот, что раньше. Сказывается походная жизнь.
Ширвани Басаев, брат того самого Басаева, террориста номер один, раздает всем пачки сигарет «Ичкерия». Вроде как символ независимости. Вот, мол. Сами производим. Без России.
Первая встреча закончилась неожиданно. Из переговорной вышла вся делегация. За ними чеченцы.
Коротко попрощались. И по машинам.
Идут с включенными фарами. Кто-то бьет по колонне из минометов. Мины провыли, прошелестели и рванули где-то в поле.
Неожиданно вспыхивает луч прожектора. Пошарил по полю. И уперся прямо в лобовое стекло передней машины.
Впереди ударил выстрел. В воздух. Пока.
Охрана выскочила из машины. Заняла позиции. Анатолий присел у крыла, приник к окуляру прицела, чтобы в случае необходимости с ходу погасить прожектор.
Генерал вышел из джипа. И прямо по дороге пошел к палаткам поста. Метров сто.
Пресс-секретарь хотел остановить его. Куда там!
Все напряглись. Ждут. Что будет?
Но и в этот раз обошлось. Узнали своих.
Простояли у блокпоста часа два. Начало светать. Ждали обещанных вертолетов. Но они так и не прилетели.
Продолжили путь по той же раздолбанной дороге. Но только теперь им дали в сопровождение пару боевых машин пехоты.
В самолетике все спали как дети.
Так закончился первый контакт.
* * *
Прошел всего месяц. Теперь они летают в Чечню «как на уик-энд». Вертолетами.
Вот и сегодня две вертушки медленно движутся вдоль протянувшейся внизу высоковольтной линии электропередач, пересекающей проселочные дороги, лесополосы, мелкие ручьи и речушки.
Казаков сидит у круглого иллюминатора и, несмотря на грохот, стоящий в этой «железной колеснице», пытается размышлять. За это время, пока они мотаются туда-сюда, он сначала из любопытства, а потом из проявившегося интереса стал читать книжки по истории Кавказа. По официальной версии получается, что все республики присоединились к России добровольно. Грузия, Армения, Кабарда. Взял Иван Грозный в жены кабардинскую княжну Марию Темрюковну. И все в порядке. А откуда тогда повести Толстого «Кавказский пленник» и «Хаджи-Мурат»? Проза и стихи Лермонтова?
Из кабины пилотов вышел штурман. Стал показывать на пальцах – «будем приземляться».
Охрана изготовилась. Приникла к окнам.
Оттанцевав на трех ногах, вертолет стал на разбитый асфальт перекрестка двух дорог. Они, один за другим, выскакивают из машины, которая еще продолжает крутить лопастями, гнать воздух и гнуть жухлые придорожные травы. Залегли вокруг.
Вторая «вертушка» зависает в воздухе, обходит место посадки кругом и тоже плюхается невдалеке.
Вокруг никого. Только пугающая тишина. А в голове мысли: «Может, ошиблись? Или засада?!»
Анатолий лежит в придорожном кювете, крепко упершись локтями в землю. И ищет цель.
Вдалеке на дороге слышен нарастающий гул мотора. Впереди показывается автомобиль. Это белая «Нива». Подъезжает, тормозит. Все напрягаются. Дверь открывается. И из «Нивы» выглядывает бородатая физиономия старого знакомого. Ба! Да это опять он! Ваха. Вахид Сулбанов.
– Привет! – встает из травы и подходит к нему Борисенко. – Что случилось? Почему нет никого? Нет встречающих?
Сулбанов отвечает по-русски, но с каким-то взлаивающим, гортанным звуком. В чеченском языке нет смягчающих, ласкающих слух звуков. А также нет формы вежливого обращения к окружающим. Поэтому и кажется, что чеченец всегда груб. Хотя это зачастую совсем не так.
– Поздно пришла информация! Поэтому я срочно сейчас примчался. Остальные сзади.
– А мы уж совсем собрались обратно! – замечает, подходя, Казаков. – Подумали, переговоры сорвались. Сейчас много на свете людей, которым мир в Чечне, как серпом по яйцам…
– Нам мир нужен, – неопределенно отвечает Вахид на их немой вопрос.
Через несколько минут на шоссе показывается целая колонна больших джипов.
Усаживают генерала. Делегацию. И садятся сами. Казаков залезает в белую «Ниву» Вахида. Сейчас охраны намного больше, чем в первый раз. Так что он может немного расслабиться.
Эх, карета мчится, карета мчится! Эй-хо-хо! Вся кавалькада со свистом, гиком и скрежетом несется вперед.
«Нива», трясучая, гремя всеми своими металлическими потрохами, на предельной скорости идет по давно не ремонтированному шоссе, пролетая над ямами, выбоинами и заплатами из асфальта.
Всё как всегда. Приехали. Разгрузились. Генерал Лебедь «ледокольной походкой» шагает на переговоры.
Идет работа. Уже созданы совместные комендатуры. Пошло разведение войск. Напряжение спадает. Не сегодня-завтра будет мир. Война догорает, как костер, в который перестали класть дрова.
А им сидеть. И ждать. Ждать. И сидеть.
Они уже знают всех переговорщиков. Вот пошли по одному в зал: молодой парень Удугов, муфтий Чечни. А вот и сам Масхадов. Казаков теперь понимает, что он не просто бывший полковник советской армии, а еще и представитель крупнейшего и богатейшего рода Аллерой…
К Казакову пристает Сулбанов. То ли от безделья, то ли очень уж ему хочется похвастаться. Приглашает в гости. Он тут недалеко живет.
За это время, которое они коротали то в комнате для охраны, то в просторном дворе, они пообтерлись, привыкли и даже начали слегка симпатизировать друг другу:
– Покажу тебе свой дом! С отцом познакомлю! Покушаем. Тут недалеко.
Пристал да пристал. Еще пару недель назад об этом не могло быть и речи. Сегодня, когда люди в совместных комендатурах патрулируют улицы, общаются, даже иногда играют в футбол… Да и у Казакова такой характер. Не зря ему когда-то при тестировании поставили диагноз: осторожный, но авантюрист.
Он обращается к Борисенко:
– Саша! Тут меня приглашает в гости на часок старый знакомый. Еще по Казахстану. И Москве.
Тот сомневается. А потом говорит:
– Думаю, сегодня долго заседать будут. Текст вылизывать. Чего уж там! Сходи! Но только ровно в шестнадцать ноль-ноль. И возьми с собой еще кого-нибудь из ребят.
– Ивана Подопригору!
– Ну, хоть его.
Они понимают друг друга с полуслова. Гость в доме – «священная корова». И мир близок. Но по одному лучше не ходить.
Сели в ту же самую «Ниву», которая привезла их сюда. На подходе Казаков замечает, что у машины нет запасного колеса: «Своим раздолбайством, надеждой на авось мы с ними очень даже похожи!»
Гремя подвескою, машина срывается «с места в карьер». И начинает петлять по улочкам, рыскать по закоулочкам. Через минуту выскакивает на площадь, прямо в центр поселения. Вокруг люди. Толпою двигаются к центру. Сулбанов останавливает машину. Ждет, пока пройдет народ. Русские с интересом вглядываются в происходящее.
В центре слышен бой барабанов. Звучит глухой и ритмичный речитатив. Народ собирается в огромный круг. Разные мужчины – бородатые и совсем молодые, одетые в камуфляж и цивильное, в чеченских шапочках и папахах.
Под бой барабанов люди кружатся, резко, рывками двигаясь всем телом. Ноги дружно бьют о землю. Потом все вместе дружно, одновременно подпрыгивают, машут одновременно руками, дергают головами. И самое главное, повторяют ритуальную фразу:
«Ла-иллаха-иллалах,
Ла-иллаха-иллалах». (Нет бога, кроме Аллаха.)
Майор вглядывается и наконец понимает. Это священный танец зикр.
– Что танцуют? – спрашивает с заднего сиденья изумленный Подопригора.
– Молятся! – коротко отвечает Сулбанов. А потом добавляет для ясности:
– У нас так молятся. Это называется «зикр».
Казаков кое-что все-таки нашел в библиотеках об обычаях Ичкерии. Поэтому, глядя на танец-молитву, он сравнивает: «Характер народа накладывает отпечаток на все. Когда-то имам Шамиль проповедовал тут другой способ единения с Богом, прославления и поминания его имени. Он считал, что оно должно проходить в тишине и каждым человеком отдельно. Да и проповедники этого суфийского, продвинутого ислама держались его точки зрения. Это одно из течений ислама, берущее свое начало аж в одиннадцатом веке. Основатель его – шейх Абдул Кадири. А ввел его в обиход в прошлом веке великий чеченский святой шейх из Илсхан-Юрта, святой хаджи, сын Киши.
Настоящее его имя Кунта-Хаджи. И появился он как ответ на все невзгоды, что претерпели нохчи в ходе продвижения России на юг и восток».
«Невзгоды и поражения привели к тому, что мирная проповедь сына Киши нашла благодатную почву здесь, на чеченской земле. Хаджи выступал против газавата, объявленного Шамилем. Предрек ему поражение. И призвал отказаться от войны в пользу благочестия и личного очищения. Осудил жестокость. И утверждал, что истинный мусульманин не воюет, не пьет, не ворует. Не участвует в разбойничьих набегах. И тогда: “Маленькая толпа победит большую”. Его за это выслали из Чечни».
Барабаны стучат. Ноги дружно бьют о землю. Дыхание учащается. Некоторые участники зикра начинают впадать в транс. Мистический транс. Закатываются глаза. Речь становится бессвязной…
Но их «Нива» уже рыскает по улице аула туда-сюда, объезжая вольготно разбросанные ямы.
Машина подъезжает к глухим высоченным воротам усадьбы. Вахид сигналит. И ворота широко распахиваются. «Нива» тормозит под деревом на просторном дворе, увитом виноградом и вьюном. Дом новый, кирпичный, большой. Это даже не одно здание. Это два дома, соединенных большой пристройкой. За ними сад. Все хозяйство обнесено забором.
Настоящая крепость.
Во двор выходит на зычный зов Вахида крепкий, бородатый, суровый мужчина в папахе и накинутом на плечи пиджаке. Похоже, отец.
– Ассалам алейкум! – церемонно здоровается с ним Сулбанов-младший.
– Валейкум салам! – коротко отвечает тот. И спрашивает, кивнув на вооруженных гостей Казакова и Подопригору, но уже по-русски, видимо, чтобы не подумали чего: – Кого привез?
– Это мои гости! Из охраны Лебедя. Хочу показать им наш дом, – и кивает на Казакова, – он тоже из Казахстана. Земляк… – И по-чеченски кличет еще кого-то.
Странное для русских это знакомство. Вахид, тяжело ступая впереди, сначала водит их по комнатам. Показывает: «Вот тут мы с семьей. Это гостиная. Здесь дети спят. Тут молельная».
Потом выстраивает в большой комнате вдоль стены всю свою родню. Жену с двумя детьми. Проживающую с ними сестру жены. Своего младшего брата с женою. Двоюродного братишку – молодого пацана. И еще одну молодую женщину – сестру. Одетую во все черное по мусульманскому обычаю.
Представляет первую в ряду, одетую в длинное платье и закутанную в платок фигуру:
– Это моя жена Зайдат!
Молодая женщина кивает головой и с хитрой улыбкой любопытства смотрит на гостей.
– Мои сыновья! Джамалуддин и Газимагомед!
Мальчишки – двухгодовалые близнецы – жмутся к ногам матери.
– Сестра моей жены Фатима!
Одетая в черное «сухая килька» удостаивает русских только презрительным взглядом.
– Мой брат Муса! Его жена Минат… – так всех по очереди Вахид представляет им своих многочисленных родичей.
После церемонии ведет гостей к столу, который уже накрыт в пристройке. Старшие мужчины – отец, неизвестно откуда появившийся седенький дедушка Ахмат, сам Вахид, русские гости – присаживаются на длинные скамейки. Женщины и дети растворяются в усадьбе. Молодые мужчины подают блюда. Набор их небогат. Два вида овощных салатов, яблоки, виноград. Бутылка водки.
Казаков замечает, что во дворе младший брат Вахида с двоюродным братишкой тащат под навес овцу.
«Наверное, резать будут! – как-то отстраненно думает он. – А это процесс небыстрый. Как бы мы не подзадержались. Наши будут беспокоиться. Сказать, что не надо?!» – но вслух ничего не говорит. Еще обидишь хозяев. Сморозишь что-нибудь не так.
Рюмочки совсем маленькие. С наперсток размером. А застольные речи длинные-длинные. И по-восточному витиеватые.
Слово дают по старшинству. Первым говорит дедушка:
– Мы собрались здесь, чтобы выпить за мир, который наша родина – свободная Ичкерия – заслужила всей своей историей, чтобы жизнь на нашей земле цвела и расцветала, чтобы дети наши и внуки наши жили долго и счастливо, чтобы не знали войны… Были мир и дружба между всеми народами…
Опрокидывают по «наперстку».
Дают слово Казакову. Он в ответ, взяв в руки «наперсток», говорит:
– Чечня теперь, скорее всего, будет независимым государством в составе России. Так дай Бог чеченскому народу счастья и возможность построить здесь, у себя, мирную, спокойную жизнь. Чтобы дети ходили в школу, учителя учили, все росло и расцветало… Был мир…
Так дипломатично, стараясь не касаться трудных вопросов и больных тем.
С тостами прошли по кругу. Говорить разрешили даже младшим. Но пить им – ни-ни. Возьмет в руки «наперсток». Слово скажет. И поставит на стол.
Мало-помалу завязался разговор. О том о сем. Оказалось, что седой, благообразный дедушка Ахмат очень по местным меркам образованный, грамотный человек. В советские времена был директором школы в Казахстане.
Вот он поправил папаху на бритой голове, потеребил бороду, взглянул на всех из-под бровей и образно, чеченской поговоркой сказал о том, что он думает о происшедшем в большой стране под названием «СССР»:
«Бык подох – мясо, арба поломалась – дрова». То есть получается у него, что Советский Союз превратился просто в кучу мусора. Ну а дальше он высказывается в том духе, что Россия вряд ли теперь поднимется как империя или сильное государство. А после того, как Ичкерия станет независимой, уйдут и другие республики Северного Кавказа.
Анатолий, конечно, не может согласиться с таким видением ситуации, показанной «большим человеком». И старается вежливо, без эмоций ему возразить.
– Чечня – это, извините меня, уважаемый, отдельная песня. Кабарда, Осетия присоединялись добровольно. Так что тут процесс несколько другой…
– Разве только мы обижены на Россию? А татары, башкиры? – возражает ему собеседник. – Мы уцелели потому, что сопротивлялись всегда до конца. И от этого страдали больше других. До сих пор в наших мифах и легендах существует злой дух Ярмуль. Людоед огромного роста. С зычным голосом. Он уничтожает наших людей, разрушает аулы. В Грозном в советское время стоял на высоком месте памятник ему – генералу Ермолову. Так каждую ночь этому памятнику что-нибудь отбивали. Такая вот история…
– У нас общая история, уважаемый, – примирительно говорит Анатолий.
– Нэт! У нас разные истории, – сухо, даже слегка раздраженно возражает дедушка Ахмат, выбирая морщинистой, старческой рукой помидор покраснее и отправляя его целиком в рот. – Есть такой русский писатель Приставкин. Он написал повесть «Ночевала тучка золотая». Вот он знал нашу историю. И рассказал, как с нами обошлись во время войны. Страшная история. Прошлое никуда не уходит. Оно живет с нами. И определяет будущее.
В эту минуту в комнату, где сидят мужчины, заходит сестра Вахида Фатима. Она из-под черного платка, целиком закрывшего всю голову, зло зыркает на русских и подает Вахиду какую-то бумажку.
Казаков, глядя на нее, ее бледное лицо-маску с прорезями для глаз, рта, думает: «Вот еще одна жертва ваххабитской пропаганды!» И молча провожает ее взглядом до двери в пристройку. А тихий дедушка, слегка захмелев, все еще буровит:
– Мы, нохчий, – свободный народ! У нас даже имам Шамиль не смог стать царем. Хотя пытался. А это был такой человек! Отчаянно сражался он с русскими. С казаками. Рассказывают, что, когда его родная мать по просьбе одного из племен пришла к нему и передала их слова, что они больше не могут сопротивляться натиску «белого царя» и хотят перейти в русское подданство, рыжебородый Шамиль приказал дать ей плетей. За то, что она осмелилась передать ему эту просьбу. Вот какой это был человек!
– Но в конце жизни он находился в плену, в Калуге. И преспокойно жил там. Его Россия приняла как героя…
– Это правда! Он был герой!
Барашек созрел. И младшие мужчины стали подавать жареное, пахнущее дымом мясо. Простое, не слишком изысканное угощение. Но среди проголодавшихся людей оно пошло на «ура».
* * *
Возвращались они другой дорогой. Майор Казаков, сидя на переднем сиденье «Нивы», думает о разговоре: «Трудно нам будет с ними ужиться. Ермолов – Ярмуль. Надо же такое придумать! Барятинский, Воронцов, Толстой, Лермонтов. Какие люди тут побывали! Сложное чувство испытываешь, когда все это слушаешь. То ли дело американцы. У них похожая история. Они тоже продвигались на запад через леса и прерии, уничтожая и загоняя в резервации целые племена. И философия их проста: “Хороший индеец – мертвый индеец”. Где они теперь, эти могикане, сиу, дакота? Остались только в легендах. Вот тебе “Песнь о Гайавате”. Мы так не можем. Но и у нас есть о чем задуматься. Не зря нохчи спрашивают: “За что наш народ выслали в дикие степи? В Сибирь и Казахстан? Немцы же не дошли до Чечни”.
Это ведает только сам Иосиф Виссарионович. Это он со словами: “Я этот народ знаю!” подписал приказ на проведение операции под кодовым названием “Чечевица”. И пошло. И поехали вагоны для скота с деревянными скамейками. Буранные полустанки. Трупы вдоль всей дороги…
Ну а что, с русскими не так было? Логика истории. “Лес рубят – щепки летят”».
Они едут. А вокруг площади ликует народ. Чеченцы танцуют. Приплясывают. Палят из стволов вверх. В небо. Как сумасшедшие носятся на машинах, показывают друг другу два рогатых пальца. Что-то орут на своем языке. Вахид останавливается. Спрашивает у проходящего, в чем дело. Потом небрежно, скрывая радость, кидает в салон попутчикам:
– Договорились! Завтра в Хасавюрте будут подписывать мир!
«Ну-ну, – скептически думает майор, – посмотрим!» И хотя он вроде тоже как-то участвует в процессе, на душе у него погано и горько: «Мир, конечно, – это хорошо. Но какой-то он сомнительный!»
V
На бульваре Гоголя опадают клены, На бульваре Гоголя соловьи поют. Девочкам и мальчикам, по уши влюбленным, Дворники проклятые встречаться не дают.Навязшая на зубах мелодия дворовой песенки и раздражает, и смешит Дубравина. Какие уж тут «девочки и мальчики» – они, взрослые, состоявшиеся люди, вынуждены скрываться и прятаться от чужих глаз, чтобы снова увидеть друг друга и объясниться.
Вчера, в пятницу, к нему в кабинет заглянула приехавшая с периферии бой-баба Варвара Чугункина. Рассказала о делах на предприятии, выпросила кредит на развитие розничной торговли. А потом так хитро зыркнула своими черными недобрыми глазами и фальшиво-умильно проговорила:
– Была у Шушункиных! Виделась с Галиной!
– Ну и как? – спросил Дубравин, тоже изобразив на лице умильность.
– Собирается выйти на работу. Мальчишечка уже подрос. Но очень сложный, я скажу вам, ребенок. На Влада совсем не похож, – и так посмотрела на него, что и дураку станет понятно, на кого похож Георгий Шушункин.
Недолго думая, после ее ухода Дубравин набрал номер Галины. Ответа ждал долго. И облегченно вздохнул, когда она наконец подняла трубку:
– Здравствуй, солнышко мое! – так взволнованно произнес приветствие, что на том конце даже послышался смешок. – Слушай, тут ко мне сейчас заходила твоя бывшая начальница Варька Чугункина. Поговорили о том, о сем. А потом, ты ее, курву, знаешь, она мне заявила, что ребенок твой ну так на меня похож. Так похож! Ну прям вылитый я! Так что давай встретимся. Я хочу посмотреть на сына!
– Вот сучка! – единственное, что нашлась ответить она.
Машину с водителем он оставил подальше, а сам пешим ходом двинулся навстречу ей по бульвару Гоголя. Встретились почти у памятника великому писателю.
Он, честно говоря, страшно удивлен, когда она выходит из тени со складной колясочкой, на которой сидит уже «готовый» смуглый мальчишечка с соской во рту, одетый в крошечные джинсики, туфельки и рубашечку.
«Господи! Как быстро летит время! – думает Александр, вглядываясь в детское личико. – Кажется, еще вчера мы с нею миловались в Домбае, и вот налицо плод нашей любви».
Галина достает ребенка из коляски, берет на руки и прижимает к себе, словно опасаясь, что вот сейчас он выхватит Георгия у нее и унесет.
Дубравин протягивает к нему руки. И мальчишечка, улыбаясь, тянется с маминых рук к нему.
– Ходит? – спрашивает Дубравин, усаживая маленького поудобнее.
– Две недели как пошел! – с гордостью заявляет она.
Он чмокает ее в подставленную щеку.
– Надо же! – как-то странно замечает она. – Обычно он ни к кому не идет. Дичится. А тут!
– Ну, здравствуй, сынок! – говорит Дубравин, поднимая Георгия на вытянутых руках перед собой.
Это, видно, ее как-то задевает:
– «Здравствуй, сынок», – раздраженно говорит она. – И ты туда же! Сынок, сынок! Влад так же распинается, как и ты. А меня как будто и нет! А я столько пережила!
Он удивленно вскидывает глаза на нее: «Чего это баба взбеленилась?»
Невдомек ему, что с тех самых пор, как родился ребенок, страх гложет ее вдвое сильнее, чем раньше. Страх потерять его, страх потерять мужа, разрушить то хрупкое счастье, которое ей с таким трудом удалось выстроить. И вот сейчас все его заявления она рассматривает как покушение на тот относительный покой, который она обрела.
– Что ж ты его так назвала? – спрашивает Дубравин, чтобы сгладить неловкость. – Георгий – это что, Жорик, что ли, он будет?
– В честь Георгия Победоносца!
– А-а!
– Ты знаешь, Саня, – наконец решается она высказать свои мысли, – мы с тобой столько времени находимся рядом друг с другом. Вместе, – поправилась она. – Но что-то у нас концы с концами не сходятся!
– Да? Странно! А я думал, все так хорошо сходится! – пытается шутить он.
Но ей не до шуток, и она торопится сказать ему то, что уже давным-давно вынашивает.
– Теперь у меня ребенок! Влад с ума сходит. Я ему говорила, что это чудо. К доктору водила. И вижу, что он верит и не верит. Трудно нам. Когда Георгий родился и я приехала из роддома, он его так разглядывал. Так разглядывал! Все искал. Неужели нет ничего моего. Неужели нет? И мне его так жалко стало. Я долго над этим думала. Думала. Знаешь, ночью лежишь и думаешь. Как быть? Как быть? Ты! Я! Влад. Я даже не знаю, где выход.
Дубравин видит, что она как бы готовится к чему-то. Хочет, что ли, что-то от него услышать? Но у него на сегодня ничего такого за душой еще нет. Есть только знание, что с ребенком все меняется. Но в какую сторону?
Может быть, это ей надо сделать первый шаг? Объяснить, чего она хочет, в конце концов.
Постояли. Помолчали пару минут.
– Ну, мне пора! – вздохнув, промолвила она. – Пора Жорке кашу давать!
Постояла немного, раскатывая коляску. Взяла у него ребенка. Посадила. И, вздохнув, неожиданно сказала:
– Давай, Саня, завяжем наконец нашу историю!
Дубравин так и поперхнулся:
– Как завяжем? Совсем?
– Я хочу какой-то ясности уже! У меня теперь полная семья. Муж. Сын. Дом. Хочу просто жить дальше. Растить сына. И не думать вот так вот каждую ночь. Что все откроется. И рассыплется. Не надо нам больше встречаться…
Дубравин криво усмехается. Его это задевает: «Как же не встречаться, если ты работаешь у меня?» Но промолчал. Сама решила. Чего он будет навязываться.
Он едет на работу и мысленно разговаривает с нею: «Значит, так. Мавр сделал свое дело. Мавр должен уйти! Хотя еще пока не вечер. Это сегодня ты считаешь, что у тебя все сложилось. А что будет завтра… Ведь ты пытаешься вывести за скобки главное. Нашу любовь! Нашу страсть, из которой все и выросло. Куда, интересно, ты денешь при расчетах ее?»
* * *
Она катила колясочку по засыпанному листвой асфальту. И повторяла про себя: «Так надо! Так надо!» На подъезде к дому ребенок, потеряв соску, захныкал. Забил ножками. Надоело сидеть. Она наклонилась к нему поправить. И в это мгновение заметила, как за соседними кустами мелькнуло что-то знакомое. Знакомая фигура. Влада.
«Ах так! Он за нами следит! Подкрадывается. Трусливо высматривает. Выслеживает. Вынюхивает! Как она встречается с Дубравиным. А подойти не посмел. Права свои заявить не может. Боится скандала. Боится всего! Жалкий человек!»
Но сиюминутный гнев ее снова сменяется страхом: «Что же это будет? Сейчас начнет».
Впрочем, пройдя еще пару десятков шагов, она успокаивается: «Да что он может сделать? Ничего не будет. Сдулся один раз, сдуется и второй. И третий. Ребенок-то у меня!» И в эту секунду она понимает, что ребенок – не просто маленький, тепленький комочек у сердца. Это сила. Это ее сила в любой ситуации, связанной с этими мужиками. И ничего ей теперь не страшно. И никуда ни этот, ни тот не денутся. Некуда им деваться! И это ей решать, куда дальше идти!
VI
Ресторан «Бухара», что на Ленинградском проспекте, заведение помпезное. Украшенное с фасада голубыми среднеазиатскими орнаментами, оно и внутри поражает Казакова роскошью отделки, коврами, дастарханами и вышколенными, по-восточному любезными официантами.
Несмотря на дневное время, в залах не пусто. «Деловые» обедают и одновременно «перетирают» свое. Народ солидный, уверенный в своих возможностях. Многие с дамами. Одно слово – модное место, где можно вкусно поесть, выпить, а заодно и встретиться с нужным человеком.
Его уже ждут. У небольшого черного дерева стола в креслах с мягкими подушками сидит Алексей Пономарев, а напротив – «шамаханская царица». Анатолий знает ее уже давно. Жена не жена, но живут и работают вместе они с Алексеем достаточно долго. Зовут ее, кажется, Светлана. Это имя никак не вяжется с обликом черноглазой царь-девицы.
Судя по тому, как любезен и старательно кланяется одетый в халат и тюбетейку официант, Леха тут завсегдатай. Любит он восточную кухню. Все эти шашлыки, манты, лагманы, пловы и прочие яства охочего до обильной пищи восточного люда.
Леха раздобрел. В девяносто первом был он поджарый спецназовец, сухой и крепкий, как герой голливудского боевика. Теперь располнел, расслабился так, что вряд ли его можно засунуть в прежний бронежилет. Застежки не сойдутся. Но он все такой же огненно-рыжий и компанейский парень. Одно слово: старый друг – лучше новых двух.
Поручкались. Обнялись.
У Казакова работает «синдром оглядывания». Он рассматривает диковинную обстановку роскошного ресторана. Леха же заказывает то, что они оба любят. Особый, без мяса, наманганский плов с кишмишем и «чук-чук» – салат из мелко нарезанных узбекских помидоров.
Официант растворяется в заботах о заказе, а ребята пропускают «по маленькой».
Завязывается разговор. О том о сем. В частности, об очередной волне приватизации. И, появившемся в связи с этим новом словечке.
– Как тебе нравятся наши олигархи? – спрашивает Анатолий своего старого друга, вставляя в разговор такое словечко.
Леха, судя по всему, как и все, чувствует недоумение и глухое раздражение от того, что происходит в стране.
– Никак не могу понять, – отвечает он, – для чего это государством делается?! Ясно, когда продают убыточные предприятия. А тут нефтепромыслы, никель, сталь, золото. Чем они там думают? Хотя чего уж тут лукавить! Просто тырят все, что плохо лежит. Рассовывают по карманам народное добро, прикрываясь красивыми словечками. Я многих из этих ребят знаю. В основной массе своей это пронырливые молодые люди с красивыми фамилиями. Сделают несколько финтов ушами, пошепчутся, с кем надо и где надо, и ошалело выскакивают с аукционов, потрясая бумажками, по которым они оказываются владельцами нефтяных компаний, промыслов, заводов и шахт. Да еще и фактически бесплатно.
– Что-то ты не в восторге от рыночной экономики? – подкалывает друга Казаков. – А раньше числил себя в сторонниках!
– Потому что это «беспредел»! – употребляет новое словечко Алексей. – Ну, да ладно. Не об этом сегодня речь. Ты в Чечне давно был?
– После Хасавюрта пару раз был. Там, конечно, полный бардак. Чечня – теперь такой бандитский анклав, одно слово – «черная дыра»
– Да! Нравы там теперь суровые! По старой памяти нохчи принялись за разбойничьи дела. В Грозном даже появился свой рынок рабов. Воруют людей…
– Так это у них исконное, историческое занятие. Вспомни Толстого. В школе проходили. Жилин и Костылин. Колодки, зинданы. Мы как-то во дворе одного богатого чеченского дома, точнее в подвале, нашли цепи, старинные кандалы. Они их хранили еще с прошлого века. Ждали, когда можно будет снова людей воровать! Промысел у них такой. Ну, вот и дождались!
Подцепляя кусок мяса вилкой, Алексей добавляет:
– Воруют всех! И своих, и чужих. Богатых и бедных. Русских и чеченцев. Журналистов и врачей. Сплошная вакханалия…
– Это точно! Вакханалия вседозволенности и безнаказанности.
– Ну, ты ешь! Ешь! – заметив, что Анатолий остановился и внимательно уставился на него, поощряет друга Алексей. И, поворачиваясь к молчаливой спутнице:
– Подложи ему еще плова. Видишь, он стесняется!
– Вот я и говорю, – продолжает он, – воруют всех. Технология простая. И примитивная. На этой технологии погорел тут один советник президента. Заманили его в Чечню предложением наладить сотрудничество. Ну, он и поехал. Из Осетии. На джипе. На улице одного аула из-за поворота выскочил КамАЗ. И загородил дорогу. Сзади их уазик подпер. И «Нива» без номеров. Из кузова КамАЗа выскочили бородатые люди в турецкой униформе. Из уазика – двое, вооруженные ручными пулеметами. Дали длинную очередь. Будто полили поверх крыши из шланга. Ну а дальше толпа вытаскивает из джипа водителя и пассажиров. Бьют несколько раз для острастки в живот и по хребту. Чтобы сразу поняли, с кем имеют дело. Можно сказать, поприветствовали… Потом отвезли с завязанными глазами куда-то в свою нору…
– Леха! Ты мне-то это все зачем рассказываешь? Колись, чего надо?
– Да, тут дело такое. Один наш олигарх по примеру Берёзы тоже решил кого-нибудь выкупить у нохчей. Ну, чтобы показать себя благодетелем. Обратились по старой памяти его люди ко мне. Естественно, не бесплатно. Это, конечно, не группа ОРТ. Но Дзудзоев, советник президента, тоже звучит.
– А я тут при чем?
– Деньги есть. Двести миллионов. Похитители вышли на связь. Договариваемся. Сам знаешь, что да как. Но есть одна закавыка. У меня такое ощущение, что это вовсе не те люди, что украли Дзудзоева. Просто хитрые халявщики. Разводят нас. А на самом деле советника у них вовсе и нету. И надо бы проверить, так ли это! А то как бы не лохануться!
Анатолий ловит себя на мысли: «Сегодня у нас лингвистический вечер. Словечек новых нахватаемся. Алексей сильно изменился».
– Я-то что должен сделать? – нетерпеливо спрашивает он, раздражаясь, что друг никак не доводит до сути.
«Царь-девица», видя его раздражение, улыбается, наливая ему коньячку:
– А вот еще по рюмочке! Давайте, ребята!
«Хорошая девка, чувствует человека», – отмечает Казаков и вдруг снова вспоминает: «Добивай, чего стоишь! И голубые девичьи глаза в упор. Вот, что ему осталось от этой войны. Разбитая душа. И смертная тоска на сердце».
– Короче, я бы хотел, чтобы ты через кого-то проверил, на самом ли деле он у них. Или они ваньку валяют в надежде что-то с нас получить за так.
– Угу! – отвечает Казаков, закусывая коньяк душистым, только что поданным наманганским пловом.
Возвращаясь «под крышу» на метро, он долго и тоскливо думает обо всем случившемся с ним самим и со страной.
«Как так могло получиться, что великая держава в одночасье превратилась в ничто? И мы вынуждены мириться с беспределом?
С той же Чечней, или, по-ихнему, теперь Ичкерией. Жили, жили. Не без проблем. И вдруг. Такой всплеск бандитизма, какое-то средневековье! Значит, что-то таилось в душах, в сознании народа. У всех этих землемеров, актеров, мелиораторов, мирных пастухов. И выплеснулось.
Ведь после Хасавюрта республика фактически стала независимой. И что же? Сумели чеченцы создать то, о чем мечтали? Воспользоваться плодами своей так называемой победы? Построить собственную, пусть и маленькую, страну? Нет! Более того, они скатились вниз, до первобытно-общинных отношений. И если в составе России хоть и медленно, но двигались к цивилизации, то теперь…
А почему? А потому, что для создания государства народу нужно дорасти. Согласиться с тем, что надо поступиться какими-то своими правами. А у них что? «Каждый чеченец – генерал» Все хотят руководить. И никто не готов подчиняться. Итог: президента никто не признает. Закона нет. Порядка тоже. И разбой. Один разбой! Интересно, как там себя чувствует Вахид? Сбылись его мечты?»
* * *
Ожидая, когда его соединят с Чечней, Казаков думает: «Странное дело. Мы с ними расстались. А свет подаем, газ качаем, телефонная связь работает. Будто живут они не в разбойничьем анклаве, а в какой-нибудь губернии России».
На вахте, в общежитии, где он ждет звонка, наконец тренькает телефон.
– Аташ на проводе! – глухо вещает в трубке телефонистка.
– Вахид! Вахид! – несколько раз подряд вызывает он своего визави на том конце провода. Пока наконец не слышит в ответ знакомый рык:
– Слушаю!
– С тобой говорит Анатолий Казаков!
– Здравствуй, дорогой! Слушаю тебя!
– Как у тебя дела? – вслушивается в голос на том конце линии и пытается понять, что произошло за это время с Вахидом и уместно ли просить его о такой помощи.
– Харошие у нас дела. Живем в сваей республике, – глуховато, с несомненным прононсом отвечает визави.
«А что он может сказать другое? – думает Анатолий. – Грабим, воруем, воюем между собой?»
– У меня к тебе просьба одна есть!
– Какая просьба? Для друга все здэлаю!
«И когда это мы только успели стать друзьями такими закадычными? Впрочем, он парень неплохой. Хотя в нынешнее время слова ничего не значат».
– Тут вот какое у меня к тебе дело! Там у вас одного человека взяли, – он хотел сказать «в плен», но в голове мелькнуло: «Какой же это плен? Это рабство!» Но сказать такое у него тоже не хватило духу. Еще обидится! И Анатолий нейтрально так добавляет: – В заключение. Теперь вот они, те, кто взял, хотят за него получить деньги. А те, кто хочет, – он хотел сказать «выкупить», но опять не рискнул, – освободить за деньги, не очень верят, что с ними разговаривают те люди, у которых этот человек. И меня попросили, чтобы я помог узнать. Там ли этот человек? У них ли он на самом деле? Жив? Здоров? Тогда они будут разговаривать дальше. Или нет. Вот какая моя просьба к тебе. Ты можешь это сделать? Узнать наверняка?
– Да, конэчно, наверное, могу! – отвечает Вахид. И, помолчав, добавляет: – Но с тебя бакшиш. Только как фамилия этого человека? Кто его держит?
«Надо же, даже не удивился такой моей просьбе. Все это, видно, у них в порядке вещей».
– Дзудзоев у него фамилия. А держат братья Кежоновы.
* * *
«Господи, до чего же я докатился? До чего мы все докатились?! – тоскливо думает Казаков, сидя у себя в комнате. – Служить этому государству, беспомощному, гнилому. Гнить самому? Зачем? Надо бросать это дело! Стыдоба. Уволюсь я отсюда! А куда идти? Я ведь ничего другого не умею. Хотя выход есть. Недели две назад был разговор с Амантаем. Они там решили создать собственное спецподразделение. Набрать людей. Нужны инструкторы в их «Арыстан». Два наших шефа, Алексеев и Герасимов, собираются ехать.
А что меня здесь держит? В этой стране? Пошли они, все! И я уеду! Не нужна мне такая Россия! И я ей не нужен… А Казахстан вроде поднимается. Может быть, там я окажусь действительно востребованным. На своей первой Родине…»
Чтобы поправить настрой, он уже привычно достает из шкафчика бутылку. Наливает полстакана. Выпивает, не закусывая. Чувствует, как откуда-то появляется и разливается по телу покой. И энергия. Теперь можно и на службу.
VII
Их старенькие, потрепанные «Жигули» с табличкой «Телевидение» на лобовом стекле остановились у небольшого одноэтажного здания. В нем, судя по всему, раньше располагался типовой детский сад. Людмила по дорожке, обсаженной деревцами, пошла на поиски нужной двери. По ходу дела она думает о превратностях судьбы. Мысли скачут обрывистые, дерганые, с одного предмета на другой:
«В советское время государство беспокоилось о рождаемости. Вот и строило детские сады. А теперь женщины не рожают. Так эти “дерьмократы” пустили детские сады под офисы. Распродали. В аренду посдавали…»
«Жизнь, кажется, налаживается. Вилен – мужик надежный. Устроил на студию. Помощником режиссера. Не “за так”, конечно…»
«Где же все-таки эта “рейки” сидит? Тут столько разного рода контор, что запутаешься в одних названиях…»
Сегодня она впервые самостоятельно выехала делать сюжет. Для передачи «Инструкция по потреблению». Их совсем новый телеканал экспериментирует. Ищет возможности привлечь зрителя самыми разными способами.
Конкуренция высокая. Приходится соответствовать, чтобы, как говорит Вилен, «пипл хавал».
Она решительно толкает закрытую дверь с прилепленной бумажной вывеской «Рейки. Обучение руколечению». Эту тему подсказала ей подруга – черноглазая молдаваночка Вика, с которой она вместе работала в стрип-баре ночного клуба. Шустрая донельзя. Невысокая, смуглая, как цыганка, разбитная деваха с густыми, кучерявыми, жесткими и черными, как смоль, волосами оказалась неожиданно продвинутой по части разного рода магии, оккультизма и всякой другой прочей чертовщины.
Людка представила, как здорово такой необычный сюжет будет смотреться у них в передаче. Рассказала Вилену Соловьеву. И тот дал добро.
Сейчас она ступает через порог. И оказывается в большом зале, в котором когда-то, наверное, проходили детские утренники. И ребятишки вместе с воспитателями под взглядами умиленных родителей танцевали и пели. Зал занят взрослыми тетями и дядями. Они сидят за столами и внимательно слушают стоящую у доски невысокую, полную, одетую в брюки и вязаную кофту женщину. Простым желтоватым лицом, прической, круглыми очками она весьма похожа на сельскую учительницу. Женщина что-то увлеченно рассказывает. Людмила прислушивается. И понимает: речь идет о том, как реализуются человеческие желания.
– Высшие силы, – говорит ораторша с простым русским именем Марья Степановна Бобрина, – формируют там, в космосе, на небесах, определенную мыслеформу, которая постепенно начинает опускаться в наш мир. И проявляться в виде каких-то, зачастую даже неожиданных, событий… Но это не значит, что ваши желания начнут сбываться в том, буквальном виде, как вы их себе представляете… Сначала вам делают намеки…
Людке интересно. Она впервые воочию видит человека, которого можно назвать экстрасенсом.
Но, к сожалению, лекция о необычном прерывается самым банальным образом. Бобрина замечает ее, стоящую у порога. И распевно так спрашивает:
– Здравствуйте. Вы, наверное, с телевидения?
– Да-да! – торопливо и почему-то волнуясь, отвечает Людмила. – Мы с вами вчера договаривались!
– Я помню, помню! – так слегка величественно говорит «мастер рейки», – я все помню. – А потом, обращаясь к залу:
– Давайте прервемся на несколько минут!
Народ поднимается. И рассасывается. Они остаются. И Крылова, стараясь говорить как можно короче и толковее, объясняет Бобриной свою задачу:
– Мы бы сделали с вами интервью. Сняли бы общий план. Лица нескольких ваших слушателей.
– Ну хорошо. Давайте так. Сейчас запишем интервью, а потом я их позову!
«Пиар нужен всем! – думает Людмила. – А уж тем более пиар на телевидении!»
Оператор Лёня, такой круглолицый, вальяжный, в профессиональном жилете со множеством карманов, застежек, молний, заносит в зал на плече камеру. Тощий, с длинными волосами мальчишка-ассистент тащит треногу. Начинается процесс установки и настройки оборудования, выставления света. Пока они занимаются своими делами, Людмила, как учили, помогает разговориться объекту интервью:
– Марья Степановна, а откуда пошло такое странное название у этого метода лечения – «рейки»?
И в ответ выслушивает небольшой лубочный рассказ о японском монахе, который долго-долго, а точнее двадцать два дня, медитировал, сидя в горном лесу. И когда наконец достиг просветления, то обрел и дар лечения руками. Точнее, он как-то поранил ногу, а так как бинтов в лесу нет, то закрыл рану рукой. И остановил кровь очень быстро. Это обнаружила себя божественная целительная сила – «рейки».
– А чем ваш метод лечения отличается сегодня от японского? – задает провокационный вопрос Людка.
– А у нас православное рейки! – на голубом глазу, ничуть не смущаясь, отвечает Бобрина.
– Это как? – недоумевает интервьюер.
– Я, прежде чем начинаю лечить, произношу молитву Богородице. Прошу ее о помощи!
– И помогает?
– Конечно! Богородица и помогает!
– А как вы это делаете? Можете показать?
– Конечно, могу!
Людка загорается таким чудом. Хочет попробовать сама. Побыть в роли пациента. Ей предлагают стул. Она садится.
Бобрина делает несколько пассов руками в воздухе и начинает шептать про себя: «Богородице Дево, радуйся… Заступница…» И накладывает теплые, сухие, полные ладони ей на лоб и затылок.
Сначала ничего. Но уже через несколько секунд Крылова чувствует удивительное тепло от этих прямо-таки маминых рук. Потом легкое покалывание в висках. И почему-то радость в душе…
Много чего интересного она узнала в этот день…
* * *
Передача ее пошла «на ура». Тем более что еще совсем недавно «на больших» телеканалах витийствовали и повально лечили народ Кашпировский и Чумак, оживлял мертвых неутомимый чародей Лонго, пророчествовала Ванга и призывала к спасению белое братство Марии Дэви.
После дебюта она встретилась с Виленом у него на квартире. Полежали. Отдохнули. Выпили слегка. И он, предварительно похвалив ее за удачное начало, предложил возглавить новый проект.
– Тебе, конечно, надо взять какую-то сценическую фамилию. Крылова – это не звучит, – слезая с раскладного дивана и оборачиваясь в цветастую простыню, замечает он. – Для такого шоу нужен звучный псевдоним. Что-то типа Малиновская, Успенская, Соколовская, Распутина.
– Ну, Малиновская уже есть, – замечает она.
Лысый черт ржет во все горло:
– Хе-хе-ха! Она такая же Малиновская, как я папа римский!
– Ну, давай я буду Котовская, – с легким вызовом и тонким намеком на его абсолютно лишенный растительности череп заявляет она.
Он намека не понимает:
– Во, точно! С сегодняшнего дня ты будешь Маша Котовская! А что? Красиво! Сразу говорит о романтике революции. О порыве! Слушай, зайка, в чем суть новой программы, – продолжает он развивать новую идею. – Мы собираем молодых людей. В одной квартире. Ставим везде камеры. Микрофоны. И они оказываются как бы под рентгеном. За стеклом.
– А что в этом интересного? – недоуменно спрашивает она. И кривит губки.
– Как ты не понимаешь? Я эту идею на Западе стыбзил. Людям всегда интересно подглядывать за другими в скважину, в окошко. А потом обсуждать, сплетничать…
– Ну, это же стыдно!
– Точно, ты не в тренде! Не понимаешь гениальности замысла…
В конце концов она прозрела и усвоила для себя новую мораль профессии. Если раньше, в советское время, что-то постыдное, грязное и подлое люди прятали от других, скрывали и старались выглядеть, по крайней мере, прилично, а журналисты искали героев, то теперь настало новое время. Каналу нужен успех и зрительский рейтинг. И не важно, на чем они делаются. А самый большой рейтинг дают убийцы, подонки, скандалы. Значит, ее задача – вытащить все дерьмо на потребу миллионов обывателей. И уже на экране или в студии «герои» и зрители должны смаковать грязь, подлость, уродство, мошенничество. И этим услаждаться. А канал – зарабатывать.
Как только она поняла, что нужно, то сразу попала «в струю», или, по-новому, «в формат».
Народу хочется копаться в дерьме? Мы это обеспечим! И она отыскивала такие экземпляры, что конкуренты стонали от зависти.
«Исповедь плечевой» – история придорожной проститутки, обслуживающей дальнобойщиков. «Радость некрофила» – Людке удалось найти подход к начальнику колонии, и он слил ей та-а-акой экземпляр! Пальчики оближешь! «Ласковый убийца» – о серийном маньяке.
– Как ты смогла добиться таких откровений? – спрашивал на планерке Вилен. И рекомендовал другим:
– Учитесь. Без году неделя человек в профессии, а накопал такое г… И пипл хавает. Рейтинг зашкаливает!
* * *
Душевное отдохновение Людка находила в другом. Она записалась в группу «рейки» и еженедельно ходила на занятия. Шаг за шагом открывала для себя новые высоты духа. Душа ее, ищущая счастья и покоя, радовалась новым открытиям. И Бобрина отмечала ее старания и рост почти на каждом семинаре.
VIII
На недельку до второго мы поедем в Текирова…
Текирова – это вовсе не Россия. Это Турция. Тут, где пляжное Анталийское побережье заканчивается, начинаются прибрежные живописные, покрытые соснами горы. А у самого синего моря расположены роскошные белоснежные отели.
В одном из них Галина и решила организовать рандеву отца и сына.
Дело в том, что намеченное расставание, как и следовало ожидать, не состоялось. Месяца два они держались подальше друг от друга. Но люди работают бок о бок, и страсть снова толкает их друг к другу.
И все идет как прежде. Короткие встречи на съемной квартире. И потом – бегом-бегом. По семьям.
Эта жизнь уже не устраивала их обоих. Особенно мучилась она. Так как поняла, что несчастлива.
Вообще-то Влад молодец. В Гошеньке души не чает. И кормит, и нянчит. Только не мужик он. Мямля. Размазня. И в постели никакой. А неудовлетворенная женщина – потенциальная «атомная бомба».
И в конце концов ей в голову пришла простая мысль. Создать новую ячейку общества. Втроем. С Дубравиным и сыном.
Действовать она начинает через ребенка. Несколько встреч отца и сына показывают, что, во-первых, они очень похожи внешне, во-вторых, имеют тяготение друг к другу.
И вот теперь следующий шаг. Совместная поездка на отдых.
Приходится торопиться еще и потому, что Георгий начинает «входить в разум». Процесс «вочеловечивания» он как идет? Поэтапно! К году ребенок ходит на двух ногах. К двум садится на горшок. И говорит. К трем уже «все понимает».
А Георгий недавно еще и задал ей вопрос: «А ты папу любишь?»
Дальше ехать некуда. Пора действовать. Но мучают сомнения. Дубравин прочно женат. У него двое. Уйдет ли он из семьи?
На все эти вопросы она и ждет ответа в Текирова, куда он вслед за ними должен прилететь сегодня.
Ночь. Тишина. Ребенок, раскидавшись, спит на приставной кровати. А ей жарко. Не спится. В соседнем номере скрипит кровать. И так монотонно постанывает женщина. Потом вскрикивает. Галина закрывает голову сверху подушкой и думает о своей судьбе.
«И что еще надо для счастья мне? Вроде бы все сложилось! Семья. Ребенок! Но, оказывается, этого мало. Для какой-то особой полноты нужен мужик. Чтобы командовал. Брал на себя ответственность. В конце концов начинаешь понимать, что такое “жить как за каменной стеной”. А тут стоишь одна на ветру жизни. А это неправильно».
Она знает много семей, где нет любви. И женщины мирятся с этим. И даже убеждают себя, что любят или в крайнем случае «жалеют мужа». Так уж устроена русская баба. Если чувства нет, то надо его придумать. Саму себя обмануть.
А она не хочет. Да, как говорится, «суженого и на коне не объедешь». Надо что-то решать!
* * *
Дубравин приехал в отель ночью. Поселился. Кинул вещи. И улегся спать. Но ему тоже не спится. Думается о семье: «Чем дальше в лес – тем больше дров! Мы с Татьяной расходимся во всем. И самое гнусное в этой истории то, что она категорически не приемлет мою жизнь. По ее понятиям, я живу «не так». Слишком много работаю. Куда-то лезу. А надо сидеть тихо. Никуда не высовываться. Для нее идеал – ее папа. Он умеет все делать своими руками. Гвозди вбивать. Огород сажать. Ямы копать. А я – только деньги зарабатывать. А как она обрадовалась, когда я ей рассказал о неудачном опыте с фаст фудом, где компаньон обворовал нас! “Вот-вот! Не надо было ничего делать!” – радовалась она.
После этого случая Дубравин просто перестал рассказывать жене о том, что у него происходит на работе.
Да и отдых с семьей у него не получается. Пару раз с нею и сыновьями он выезжал на море. Однажды даже ухитрился поселиться на «Даче Сталина», как называют престижный бывший санаторий ЦК в Сочи. Ну и что в итоге? Посмотрел он на незатейливый быт «отца всех народов», на его ванную, туалет, посидел на диване рядом с восковой фигурой генералиссимуса, а отдохнуть не смог. Двое мальчишек с утра до ночи сломя голову носятся по номеру, визжат, дерутся, спорят. В конечном итоге от этих двух недель осталось одно ощущение: будто рядом с ним кружится по комнате какой-то непрекращающийся, все сметающий на своем пути вихрь.
С тех пор он ездит на отдых один. И вот теперь такое предложение от Галины.
«Ну что ж, попробуем себя на совместимость…»
* * *
Ранним утром, когда весь отель еще спит и только сонные работники в форменной одежде ковыряются в газоне, поливают пальмы и гиацинты, они вышли к морю. Проскользнув мимо бассейна и бросив резиновые черные шлепанцы на зеленом газоне, Георгий по черному вулканическому песку рванул к воде. Она же остановилась в восторге от величия природы. От такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Синева неба сливается с синевой моря. Желтое солнце на горизонте едва-едва согревает шальную волну. Никого. Тишина. Только если посмотреть вдоль береговой линии, то можно увидеть на самом краю пляжа, где каменная гора наступает на песок, согбенную человеческую фигуру. Это Дубравин. Он сидит у воды и что-то такое там делает. Она с сыном идет прямо к нему. И видит, что Александр строит домик из песка. Вернее, даже не домик, а замок с многочисленными башнями, стенами, мостами. Он набирает в руку песок, смачивает его в набегающей волне. А потом, капля за каплей, сливает его на песчаный фундамент. Песок застывает в причудливой ажурной форме. И чудная постройка стремится ввысь.
Герка вырывается из руки матери и мчится к нему.
– Саша! Саша! – кричит он на бегу. – Я ждал тебя! Вот ты приехал!
– Здорово! – отстраняясь от работы, оглядывает его Дубравин. – Я тоже торопился к вам! – А сам отмечает: «Долго, видно, она искала эту форму обращения для ребенка. Не папа. Не дядя Саша. Просто Саша. Ну, ладно. Пусть будет, как ты хочешь. Пока».
Обнялись слегка. Перекинулись парой слов. Ребенок принялся незамедлительно помогать в строительстве.
– Покажи мне, Саша, как ты делаешь!
Два мужичка завозились в песке.
Она присела в сторонке на полотенце. Смотрела на них. Герка – маленькая копия Дубравина. Лопочут о своем:
– Саша, давай еще вон ту башню поднимем!
– Бери ведерко, неси песок!
О ней как будто забыли. Почему-то это ее задевает. И она пытается ввязаться в их игру. Но безуспешно. Тогда она идет купаться…
Вечером она, как женщина наблюдательная и сообразительная, замечает перемену в отношении к ней со стороны персонала в ресторане. Вчера, когда она одна, с ребенком, пришла туда, на нее даже как-то не обратили внимания. Метрдотель лениво отвел их в самый дальний угол и посадил за пальмою. Сегодня, только они втроем показались на входе, турецкий персонал, видно, почувствовав большого босса, заулыбался, почтительно задвигался им навстречу.
И место им дали самое лучшее.
«Стоило появиться с мужиком, как они сразу заелозили. Видно, здесь, в традиционном обществе, статус женщины невысок. А уж без мужа – вообще никакой».
* * *
На следующий день они подались на экскурсию. В Памуккале.
Большой комфортабельный автобус с туристами бойко и весело бежит по просторам Азии. Дубравин молча вглядывается в расстилающуюся перед его взором равнину: «Когда-то по ней двигались верблюжьи караваны. И огромные армии. Надо же!» И он силится представить себе, как где-то там, вдали, на этой бесконечной равнине, идут по чахлым травам войска Александра Македонского, римские легионы Цезаря, полчища персидского царя Дария. «Господи! Сколько здесь всего было. А сколько еще будет! Теперь вот все отдано на откуп туристам. И имя им – легион. Бродят по заброшенным городам и амфитеатрам. Лезут в гробницы и туалеты. Галдят, глазеют, жуют. Потребляют историю».
Сегодня у них снова нелады. Началось с того, что Герка категорически отказался сидеть в автобусе рядом с нею. И перебрался к Дубравину. Потом она отругала его за то, что он стал собирать на остановках разноцветные пробки от бутылок. В ее представлении о благопристойности такая страсть достойна только какого-то мусорщика.
Дубравин заступился за ребенка. Досталось и ему.
А виды все прекраснее. Само Памуккале поразило белыми водопадами, фонтанами и розовыми ваннами, в которых якобы купалась сама царица Клеопатра. И правда, когда они, раздевшись, спускаются в радоновую, почти горячую воду, то их ноги то и дело натыкаются на сваленные в источник древние мраморные колонны. В общем, на первый взгляд, сплошная идиллия. Дубравин, поддерживая ребенка под мышки, водит из бассейна в бассейн. Выходя из воды по гранитным ступенькам, оба улыбаются. А она нервничает и дергается почему-то.
Когда ребенок замешкался с одеванием, Галина резко дернула его за руку и зашипела:
– И что ты за увалень! Перестань баловаться!
Георгий заплакал. Дубравин вступился:
– Что ты на него кидаешься? Видишь, он мокрый, трудно ему!
Она вскипела и выдала себя:
– Я тут с ним ночей не сплю! Мучаюсь! Постоянно в заботах. А тут являешься ты. И все! Мама уже не нужна. Прилип. Ходят тут чуть ли не в обнимку!
Дубравин наконец догадался: «Она просто по-бабски ревнует! Черт бы ее побрал. Вроде бы сама хотела, чтобы мы с ним сошлись. А тут устроила концерт».
Вечером, после поездки, они прогуливались по парку, состоящему из вкусно пахнущих южных растений и выходящему прямо к мерцающему и фосфоресцирующему морю. В небе уже появился серпик Луны. Летучие мыши, взявшиеся неизвестно откуда, шуршат крыльями в полумраке. Хорошо. Тишина объемлет пространство.
Ребенок как одержимый носится по аллеям. И постоянно теряется. В конце концов Дубравин ловит его. Сажает себе на шею. В таком виде они возвращаются к Галине, сидящей на парковой скамеечке. Дубравин снимает ребенка. И ставит рядом, впереди, держа за плечи.
И тут неожиданно Герка хватает его тяжелую руку. Прижимает к щеке и так трогательно, глядя с мольбой на мать, произносит:
– Я люблю Сашу!
Дубравин поднимает его на руки и прижимает крепко к себе. Что тут скажешь? Все и так ясно.
* * *
Перед их отъездом состоялся разговор. Дубравин долго размышлял о сложившемся положении: «Не буду же я вечно работать в молодежке. Я и так пожертвовал своей журналистской карьерой ради ее спасения. И газета процветает. А я все занимаюсь не слишком интересным делом. Наверное, надо думать о будущем. Может быть, продать свои акции? И открыть собственное дело? А затем взять курс на воссоединение? Почему бы не помечтать? Ведь это такая радость. Быть вместе. Да, наверное, пора сменить курс!»
Стоя уже у отходящего автобуса с их чемоданом на колесиках, он чувствует, что она ждет от него каких-то важных слов. И он спонтанно формулирует:
– А что если нам сделать так. Собраться вместе. И куда-нибудь уехать из Москвы. Мне, тебе и Герке. Начать заново! Новую жизнь! На новом месте. Только надо хорошо подготовиться…
Она благодарно смотрит на него своими огромными глазами. И в этом взгляде, в теплом поцелуе губ он видит согласие. Дубравин ликует. Наконец-то, наконец-то начинает сбываться заветная мечта его юности! Вместе! А дальше ничего. Только счастье.
IX
Они сидят в небольшом грузинском ресторанчике недалеко от молодежной газеты. Грубая деревянная мебель, керамическая расписная посуда, носатая, отмелированная официантка с крепкими спортивными икрами ног – вся обстановка создает впечатление, что они не в центре Москвы, а где-то то ли в Аджарии, то ли в Кахетии. Бутылка хорошего «Цинандали» подняла настроение до нужного градуса. Дубравин, пережевывая пахучий бараний шашлык и запивая его «Хванчкарой», рассказывает о том, что уже удалось сделать:
– Я вчера разговаривал с Протасовым. Сказал, что хочу продать свои акции. Просил найти покупателя. Он загорелся. Пообещал подумать. Завтра даст ответ.
Галина ерзает на стуле, но предусмотрительно молчит, поглядывая по сторонам. А господин Дубравин все продолжает рассказывать ей о своих планах. И не только о планах, но и о том, что он сделал за полгода, прошедших со времени их турецкого вояжа.
– Надо решать нашу проблему капитально. Перебираться из Москвы в Россию. Я уже выкупил акции одного нашего регионального предприятия в городе «Ч». Деньги от продажи акций вложу в него. Создам собственный издательский холдинг.
То, что он рассказывает сейчас, она уже знает. На прошлой неделе он свозил ее в этот большой областной город. Посмотреть квартирку, которую он купил для них. И город ей активно не понравился. Разочаровал по всем статьям. Когда-то он был центром большой агломерации, крупной промышленности, а теперь обветшал, запылился.
– Буду дом строить, – уверенно продолжает он, просматривая счет. – Это надо делать сразу. Я уже заказал проект одному архитектору. Громадный, красивый домище получается. Хочу, чтобы в моих окнах солнце всходило на востоке и заходило на западе.
Она уже видела эскиз, и он восторга у нее не вызвал. Она просто представила, что значит убирать этот домище без домработницы. Ведь это, на самом деле, не дом, а целая усадьба. Такая, в каких жили дворяне в дореволюционные времена.
«Как у него все легко и просто! – поддаваясь и не поддаваясь очарованию его энергии, думает она. – Захотел – живет здесь. Решил – переезжает в областной город. А я? Надо это мне? Я сама только что выбралась из такого же, правда гораздо меньшего, областного центра. И знаю, какая там провинциальная жизнь. А он снова зовет меня назад. Разве можно эту перспективу сравнить со столицей? Нет, Москва – это Москва. И зачем нам отсюда уезжать? Остаться бы здесь. Работать и работать. Я только начала пользоваться ее возможностями…»
Но она продолжает слушать его разглагольствования по поводу ждущего их в провинции блестящего будущего. И благоразумно помалкивает. После ресторана они едут на квартиру. И тут уж все ее сомнения развеиваются. В пыль и прах. Утомленная и удовлетворенная, сытая самка в ней начинает благодушно мурлыкать: «Да и бог с ним! Поеду, рискну. Не зря же говорят: с милым рай в шалаше. К тому же он ведь не шалаш предлагает, а новую жизнь. Вместе. Как здорово!»
Но уже в машине, по дороге домой, ее начинают грызть сомнения: «Здесь Дубравин – важный начальник. Один из отцов-основателей крупнейшего медиахолдинга. А кем он будет, когда перестанет быть частью хорошо отстроенной системы? И еще одна вещь постоянно мучает ее. Кем будет она? Судя по всему, он хочет сначала просто покинуть Москву. Не сжигая мостов. Не разводясь с Татьяной. А уж потом разбираться с женой. Так сказать, постфактум. А ей что делать? Статус – дело в женской среде нешуточное. Кем она приедет?
Ну, и отношения в паре с ним очень уж сложны. Она уже привыкла к тому распределению ролей, что существует у них с Владом. Она лидер, она главная. Он на подхвате. Это очень удобно. А Дубравин, тот с первых минут уже сейчас заявляет: “Галя, я в нашей паре главный”. И сможет ли она сама смириться с таким подходом, переломить себя? Это тоже вопрос. И просто страшно! Ой, как страшно. Вот так вот, как в воду, прыгнуть за ним. И плыть неизвестно куда…
А тут, как ни крути, у нее карьера. Она – начальник отдела региональной рекламы во всероссийском масштабе. Зарплата! Куда там провинциалам!»
* * *
Влада дома не было. Герка сидел у телевизора. Смотрел мультики. И она, повинуясь какому-то безотчетному порыву, решила: «А спрошу-ка я у ребенка. Не зря же говорят, что устами младенца… Сделаю, как он скажет!»
– Гера, сыночек! – обратилась она к нему. – Ты хочешь, чтобы мы сейчас поехали к Саше?
Его реакция потрясла ее до глубины души. Он ничего не сказал. А просто встал. Пошел в прихожую. Снял куртку с детской вешалки. И начал одеваться…
Еле она его остановила. Отговорила. Но себя все равно убедить не смогла. Только почувствовала раздражение: «Надо же, характер! Весь в Дубравина. Встал и пошел».
И призналась сама себе, что в глубине души рассчитывала на другую реакцию.
Вернулся Влад из магазина. С покупками. Стал возиться на кухне. Готовить ужин.
Она повела сына в ванную. Раздела. Стала купать перед сном. А мысли все вертелись вокруг этих двоих, отца и сына: «Быстро они нашли общий язык. И внешне похожи. Всем», – обливая его теплой водой, усмехается она.
Влад дождался, пока она уложит Герку спать, и позвал ее на кухню. Открыл бутылку красного сухого французского вина. Предложил посидеть.
В последнее время отношения их окончательно разладились. Они почти не разговаривают. То есть каждый живет в каком-то своем собственном мирке. Как чужие. Молча она приходит поздно вечером с работы. Молча ест то, что приготовил Влад. Молча ложится спать. Молча встает. И так каждый день.
Напряжение в семье нарастает. И, по-видимому, законный муж чувствует, что она готова совершить какой-то поступок.
Недавно Дубравин подарил ей машину. Со словами: «Надеюсь, в один прекрасный день ты сядешь в нее. Посадишь ребенка. И мы уедем!» А сегодня в конце разговора он назначил срок. Через месяц.
Ох, как тяжело ей. Но надо что-то решать и здесь. И она подумала. А почему бы не сейчас. Сын спит. Мы столько лет прожили с ним вместе. Столько пережили.
Пришла на кухню. Села. Он налил в бокал красного. Выпили дружненько. И поговорили. Хорошо поговорили.
– Давай, Галя, поговорим откровенно! Ты думаешь, я ничего не чувствую?! – после долгого молчания и разглядывания на свет бокала, сказал он ей. – Я же вижу, что ты что-то задумала. Я думаю, ты хочешь уйти от меня? С этим… – он поперхнулся, не зная, как назвать Дубравина.
Она продолжает молчать, обдумывая свое положение.
А он, уже поднимая тон почти до истерики, продолжает:
– А обо мне ты подумала?! Что со мной будет? Я ведь тебя люблю! И Герку люблю больше всего на свете. И если ты уйдешь с ним, я не знаю, что буду делать. Жить мне больше будет ни к чему!
Она в общем-то собиралась сама все сказать. Но сейчас он ее опередил. Взял инициативу в свои руки, чего она никак не ожидала от обычно лояльного, покладистого, интеллигентного и безобидного «Влада – Иосифа». Судя по всему, он переживает эту ситуацию тяжелее даже, чем она. И вот не выдержал. Сорвался.
– Я покончу с собой, если ты уйдешь! – почти плача выкрикивает он.
«А вдруг он и правда с собой что-нибудь сделает? – с медленно доходящим смыслом-ужасом понимает она. – То-то будет скандалище! Ведь у него и правда никого в этой жизни, кроме нас, нет». И ей становится жалко его, такого услужливого, безропотного.
А Влада словно прорывает. Он говорит и говорит без остановки. Видно, немало накопилось в душе за все эти годы «совместной жизни». Жизни, полной обманов, каких-то тайн, недоговоренностей. Рыдая, он рассказывает о своих страхах и подозрениях. О том, как он счастлив жить с нею в семье, как он любит ее. Тоскует по ней. И она постепенно, шаг за шагом втягивается вместе с ним в совместные воспоминания. И переживания. А среди них есть и счастливые моменты.
– А помнишь, как мы ехали с тобой в роддом? И нашу машину занесло? Мы слетели в сугроб…
Конечно, она помнит этот смешной и трогательный эпизод их совместной жизни.
И, о чудо! Ей уже кажется, что она любит Влада, как в молодости, когда он был тренером в их бассейне. Красивый. Фигуристый. Он – ее судьба.
Ах, как молоды они были! И не было тогда всех этих заморочек, проблем, необходимости выбирать, принимать какие-то суровые решения. Круто менять свою жизнь.
В соседней комнате заворочался, заплакал Георгий. Видно, что-то ему приснилось. Они вскочили вместе из-за стола. И бросились к нему.
Но он уснул снова, что-то забормотав, зачмокав во сне.
«Господи! Какая же я дура! Как я чуть не разрушила всю свою с таким трудом собранную жизнь! У меня есть семья. Есть ребенок. Есть все. И это я собиралась бросить, чтобы ринуться куда-то в неизвестность?! Ну нет. Надо что-то придумать, чтобы остановить ситуацию. Неужели я не смогу это сделать? Нет! Я это сделаю!» – думает она, засыпая в супружеской постели.
X
С охоты, как с работы, пришел домой Володя Озеров. А дома беда.
Вся растрепанная, Надежда – жена – рассказывает:
– Антошка заболел. Ничего понять не могу!
– А что с ним?
– Не знаю. Не может ходить. Болят ноги, руки. Лежит. Встать не может.
Володька, не снимая своего охотничьего снаряжения, только ружье – в угол, сразу в комнату к сыну. В комнате – раскардаш. Семилетний мальчишка лежит, одетый, поверх цветастого покрывала.
На лице гримаса боли. Ребенок как-то сразу осунулся. Постанывает.
Сзади Надька с пояснениями:
– Он по дороге из школы домой упал. И подняться не мог. Его ребята донесли. Положили на кровать…
– Что с тобой, сынок? – трогая нежный лоб прокопченной от дыма костра рукой, спрашивает Володька.
У того слезы на глазах. И такое отчаяние. Шепчет:
– Больно!
– Что болит? – трогает его за руку отец.
– Ноги болят. Сильно-сильно, не могу пошевелить.
Да… Тяжело, когда сам болеешь. Но ты взрослый, сознательный человек. А когда маленький ребенок – вдвойне, втройне тяжелее на душе. Но надо что-то делать и в такой ситуации. Первый вопрос, естественно, к жене:
– Ты врача вызывала?
– Ну какой у нас здесь врач? Приходил наш фельдшер Иван Петрович. Посмотрел, покачал головой. Дал таблетки на всякий случай. Она пошла на кухню, принесла прописанное.
«Анальгин», «Но-шпа», – прочитал Володька на упаковках. Подумал: «Да, негусто». И жене:
– Ерунда это, а не лекарства. Они ему помогут, как мертвому припарки, – сказал и сам испугался такой присказки. Исправился, добавил:
– Как слону дробина!
Посидели, подумали на кухне. Надо вести ребенка в район. В поликлинику. Жена собрала Антона. Укутала в одеяло с головой. Только нос торчит. Он отнес его в кабину уазика. Положил на сиденье.
Тронулись потихоньку от дома. Машину качает на ухабах. Ребенок постанывает. Надежда поддерживает малыша. Плачет.
Едут по разбитой дороге долго. Наконец показывается из-за поворота одноэтажное, облупившееся здание – районная поликлиника.
В регистратуре толпится народ. Володька кое-как приткнулся с ребенком на руках на стульчике в углу. Надежда встала в очередь. Надо взять карточку.
На их счастье, в этот момент в фойе нарисовался знакомый – заместитель главного врача. Молодой спортивный парень лет двадцати восьми. Он как-то охотился у них вместе с главврачом. Подошел, поинтересовался, что привело их к ним.
Озеров, не спуская ребенка с рук, рассказал о своем несчастье. Василий – несуразно длинный, одетый в белый халат и шапочку – посочувствовал и помог. Через пару минут их провела внутрь к докторам пожилая медсестра с изможденным лицом блокадницы.
К терапевту попали без очереди.
Доктор – этакая пожилая близорукая тетенька в домашних тапочках, не очень свежем халате, с коротко обстриженными седыми волосами – сразу приступила к священнодействию. Положив Антошку на кушетку, принялась ощупывать, осматривать, обстукивать, обслушивать и опрашивать.
Володька, как мог, подробно объяснил все происшедшее.
Докторша подумала-подумала. И позвала на помощь еще одного эскулапа. Такого огромного, широкого, как шкаф, мужчину с круглым, как сковорода, лицом. Но по лицу видно, что добрый. Наверное, детский врач.
Тот тоже осмотрел, ощупал ребенка. Видно, что оба понять ничего не могут. Все цело. Руки, ноги, голова. Стал допрашивать Антошку:
– Мальчик, что у тебя болит?
– Все болит, – прошептал ребенок.
Доктор то ли пошутил, то ли сыронизировал:
– А пятки болят?
– Нет! Пятки не болят, – ответил ребенок.
– Ну вот. А ты говоришь – все. Значит, не все!
Посоветовались они, решили направить ребенка на рентген.
В рентгеновском кабинете положили на специальный стол. Под аппарат. На простыню. Ребенок шепчет отцу:
– Мне холодно. Холодно!
– Потерпи, сынок. Сейчас я тебя заберу, – с жалостью шепчет в ответ Володька.
Сделали снимок. Большой. Все кости целы. Никаких патологий нет.
Позвали третьего врача. Заведующего отделением. По-ихнему – собрали консилиум. Долго сидели за закрытой дверью. Совещались. Наконец пригласили родителей. Завотделением – старичок-боровичок с розовой лысинкой и белыми седыми бровями – выразил общее мнение:
– Мы, конечно, диагноз поставим. Но, если честно, сами ничего понять не можем. Везите ребенка в область. Может, там разберутся…
Несолоно хлебавши поехали они домой. Дома положили Антошку на кровать. А что делать дальше – не знают.
Хорошая мысля приходит опосля. Наутро как толкнуло Володьку. Трясет сонную Надьку за плечо:
– Надюха! Поехали к бабке Мамлихе!
– К какой еще бабке?! Ты что, с ума сошел?
– Нет. Вовсе я ни с какого ума не сходил. Помнишь бабку – божий одуванчик? Она тогда мне бородавку свела!
– Ну, так то – бородавку. Глупости ты говоришь! Антошку в область везти надо…
Потихоньку от жены Озеров все-таки поехал к старухе. Мамлиха – старенькая совсем. Глаза запали. Слезятся. Рот беззубый. Волосы все белые. Без единого темного пятнышка. Внимательно посмотрела она на Володьку васильковыми выцветшими глазами. Построгала палочку ножичком. А потом сказала свой приговор:
– И-и, милай! Что тут говорить. О чем думать-то? Лешак на тебя обиделся. Вот и напустил злую болесть на сыночка твоего. Ведь это ты Коргово-то поставил! И зверей там собрал! Вот он и обиделся. Да, и не только он. Духи леса тоже тобой недовольны. Вместе и напустили мороку-хворь. Отняли у Антона твоего силу жизни. Надо тебе, милай, жертву им принести. Угодить им всем. Пусть хворь заберут…
– Какую-такую еще жертву? – опупел Озеров. – Как это сделать?
– Ну и неучи же вы, темные люди! – заворчала старая. – Возьми самую тебе дорогую вещь. Лучше новую. И зажги ее на огне. Очисти воздух. В это же время проси лешего, задабривай духов. Чтобы хворь ушла…
Поехал Озеров домой, призадумавшись: «Дичь, конечно. Но хуже не будет. Вернее, и так уже хуже некуда. Сделаю, как старуха велела».
Ушел утром в лес, прихватив любимые, почти новые торбаза из оленьей шкуры. Сам шил этот предмет зависти всех приезжавших охотиться гостей.
В лесу, на широкой поляне, под вековыми соснами разложил костер. Весело затрещали дровишки. Искры заскакали, запрыгали, как огненные бабочки, вверх.
А Володька, по-медвежьи, косолапо притопывая, стал ходить вокруг него и в такт напевать что-то вроде: «Леший, леший, брат мой, забери ты хворь домой…»
Бросил он в огонь оленьи, расшитые бисером торбаза…
И на пятом круге ударил его морок. Что-то такое случилось. Почувствовал он, что поплыла земля вокруг. И как будто он приподнялся над нею, над костром. И плывет. Плывет. Поднялся его дух в верхний мир. И обозрел оттуда леса и луга, озера и реки.
А радость-то какая! Господи! Так и поет душа. Разливается. Чувствует полет. И плачется ему. И смеется…
* * *
Дома Надюха спросила с надеждой:
– Ну, что бабуля тебе сказала?
– Велела собрать в огороде крапиву. Самую ядреную. Истопить баню. Крапиву эту запарить в шайке. И в этой запаренной крапиве парить ребенку ноги.
– Что за дичь? – заволновалась жена.
Поругались-поругались они, а сделать сделали как надо.
В деревне баня-то хороша. Только ребенка жалко. Как он кричал! Тоненько, как зайчик:
– Ой-йо-йой!
А Володька, сам чуть не плача:
– Надо, миленький! Надо, маленький!
После бани с крапивой красного, распаренного Антошку отнесли в кровать.
Ночь проспали, слушая постанывания мальчика. Наутро начались чудеса.
На ногах и теле стали проступать багрово-красные пятна. Через день они сделались сине-багровыми.
– Это простуда выходит! – немедленно заявила приехавшая на зов теща.
А ребенок продолжал оживать. На третий день сам сказал:
– Мама! Я кушать хочу!
На четвертый уже вставал на ноги. На пятый ходил…
Так Володька стал шаманить.
XI
Ранним московским утром, когда солнечные лучи только-только позолотили шпиль речного вокзала, что расположен недалеко от Ленинградского проспекта, на причале началась интенсивная движуха. Прямо к белому трехпалубному теплоходу с гордым названием «Михаил Светлов» стали подъезжать и подходить экскурсанты. Кто на такси, кто на личном автомобиле, а основная масса пешим порядком.
Палубная команда, вся в белом, состоящая из молодых и симпатичных стюардов, приветствует ступающих на хлипкий трап и направляет поток пассажиров во внутренние помещения чудесного речного судна.
Прямо к трапу, разбрызгивая лужи, подъезжает зеленая иномарка Volkswagen. Это прибывает сам генеральный директор группы «Завтра» господин Дубравин. Широкоплечий, загорелый атлет в легком летнем пиджаке, энергично шагая через две ступеньки, сразу поднимается на третью палубу. Здесь ему, как члену дирекции, отведена каюта-люкс. Это две комнатки. В одной стоит двуспальная кровать. В другой – диван, стол, стулья, шкафчик с посудой. И еще есть невиданная советская роскошь. Персональный сортир.
Дубравин быстро распаковывает сумку с вещами. Переодевается в голубые джинсы и черную с золотом майку. И ходу в коридор. Он ищет Галю Шушункину, которую наверняка поселили палубой ниже.
Сегодня он полон страхов и сомнений. А все дело в том, что они давно не виделись, хотя и работают вместе. С одной стороны, приближается день, который они назначили для отъезда. А с другой – он чувствует, что все идет не так. И, похоже, Галина в последние дни избегает его общества.
«Так Озерова она? Или Шушункина?» – образно думает он, шагая по длинным коридорам теплохода и вслушиваясь в голоса за переборками. «Вроде мы все уже проговорили. А все равно есть какая-то недосказанность. Что-то она таит от меня. Видно, есть у нее какая-то своя, особая думка. И черт ее знает, что она может выкинуть в последний момент».
И вот эти мысли, эта недоговоренность злят и раздражают его больше всего. Так что Дубравин сегодня взвинчен и раздражен.
Обход корабля ничего не дает. Ее нигде нет. Видно, где-то, с кем-то она затаилась.
Беспокоит его и еще одна вещь. Разные подходы к жизни. Дубравин – парень простой. И привык довольствоваться немногим. А вот она неожиданно для окружающих и него самого открылась другой стороной. Он попросил ее купить мебель для квартиры. Она долго тянула с этим. В конце концов они повздорили. И она купила. Но, бог мой, что это была за мебель! Очень странная. Модная. И дорогая! Когда он ее рассмотрел, то понял, что на самом деле он ни черта о ней как о человеке не знает. Он помнит ее в юности как скромную советскую девушку. А теперь это совсем другая женщина. И ее художественная натура требует вещей красивых, эксклюзивных. А оригинальность и погоня за последними «писками моды» стоят дорого. И еще не факт, что он сможет удовлетворять ее большие запросы.
Впрочем, он этими несвоевременными мыслями старается не заморачиваться. Ему некогда. Надо работать. Обустраивать их будущую жизнь. Ведь через неделю – отъезд.
А сегодня можно, что называется, напоследок оттянуться. И он идет в бар, где кучкуется готовый к «разврату» народ.
Ее нигде нет. И посему, чтобы убить время, он выпил пару коктейлей с трудящимися. А потом, в расстроенных чувствах, удалился к себе в каюту.
Наконец теплоход сделал «ту-ту» и начал отходить от стенки. Земные берега двинулись. И поплыли мимо них. Заиграла бравурная музыка. Народ запил, загулял окончательно.
Дубравин достал из буфета коньячку. Добавил еще. И как-то так задремал, задумался о странностях судьбы, которая толкает его вперед, но никак не дается в руки. Мерный гул двигателя, легкая дрожь корпуса начали убаюкивать. Он разделся, прилег на кровать. И… отрубился.
Где-то через час он убедился в истинности восточной мудрости, которая гласит: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе».
Щелкает замок двери каюты. Неслышно, тенью проскальзывает кто-то. Он просыпается от того, что она быстро и точно запускает руку к нему под одеяло. Нежно берет его в руку. И начинает разминать. Он лежит ни живой ни мертвый. А она как-то странно так, по-деловому, забирается наверх. Садится на него. И начинает качать. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз.
И так забрал его этот неожиданный секс, что через минуту он уже забыл, о чем хотел с нею поговорить. Только стиснул зубы. А она все набирает темп…
Потом соскакивает на пол. Торопливо одевается. И не успевает он опомниться, как открывает дверь. Оглядывается по коридору, не видит ли кто-нибудь. И выскальзывает наружу.
Он остается лежать на кровати. Начинает приходить в себя: «Черт-те что! Так была она здесь? Или это ему только что приснилось в эротическом сне? И что это значит?»
В душе просыпается обида. Он, как институтка, ждет от нее важных слов. А она решает вопрос просто. Тебе надо? Так на! Не жалко. И я пошла дальше. И ни слова о главном. Готова ли идти с ним? Подала ли заявление на работе? Поговорила ли с Владом? Можно сказать, уклонилась, ускользнула от разговора и на этот раз. Ну, так нет же! «Я пойду, добьюсь ответа на эти вопросы!»
И Дубравин наливает себе еще двести «для храбрости». Потом начинает одеваться.
А на палубе идет гулянка. Надрывается музыкальная установка. Гремят советские хиты. Короче, дым коромыслом.
Нашел. Настиг он ее. Стоит у бара как ни в чем не бывало. Смотрит на него бесстыжими глазами: «Что тебе еще надо? Дала ведь уже!»
Тут-то его и заело. Начал он наседать «буром». Требовать ответов. Она понимает, что от него просто так не отделаешься. И утаскивает его подальше от людей и музыки. На корму, в заднюю затемненную часть палубы, где на данный момент никого нету. Там и идет рваный, напряженный диалог. Он, пьяный, огненный, злой, начинает допрос с пристрастием:
– Почему ты от меня бегаешь? Найти тебя не могу! – облизывая сухие губы, грубо спрашивает он.
– Да некогда мне. Вся в делах. Занята, – с досадой отвечает она.
– Чем ты занята? – он с ходу набирает оборот и повышает градус разговора. – Я тут измотался. Все распродаю, обмениваю акции, а ты?
Он крепко берет ее за руки:
– Мы собрались вместе жить, а ты чего-то крутишь, хитришь! Смотри, Галка, – уже впадая в пьяную истерику, шипит он, – тебе некогда со мной поговорить?
Таким она не видела его никогда. И ей становится страшно.
– Пусти, мне больно! – ледяным тоном отвечает она. – Люди слушают, как ты, пьяный, еле шевелишь языком.
– Это не от того, что я пьяный. Просто я нервничаю и губы меня плохо слушаются.
– Пусти меня!
– Сиди! Будешь вырываться, я тебе такой скандал устрою, что чертям тошно станет. Я тебя вместе с этим стулом выкину в реку. Как Стенька Разин поступлю с тобой.
– Пусти меня! Ты пьян!
– Не-ет! Давай поговорим! Давай спокойно так поговорим, – с нервной дрожью в голосе, но удерживая себя в руках, снова приступает к делу Дубравин. – Что случилось? Почему ты бегаешь от меня? Мы через пять дней договорились тронуться отсюда! Так?! Я тебе звоню и не могу дозвониться. Ты должна была подать заявление на увольнение. Ты сама говорила об этом. Подала?
– Нет! – не глядя на него, в сторону проплывающего на берегу темного леса отвечает она.
– Почему?
– Потому что меня вызвал Протасов. И у нас с ним был разговор. И на этой беседе он предложил мне другую интересную работу.
– Какую такую работу? Почему я об этом ничего не знаю? – Он действительно удивляется такому вот повороту событий.
– Я буду теперь заниматься политической рекламой.
– Ты?! – Его удивление не знает границ.
– Я! А что тут такого в общем-то странного? Когда он спросил, почему я решила уйти, то, конечно, я ему сказала, что устала от этой своей работы…
Дубравин, который привык к тому, что она – это произведение его рук, слушает и не верит. Не верит, что она сама, без его поддержки может представлять ценность как специалист. А главное, он не верит, что из-за этого она отказалась ехать с ним. А может быть, и не из-за этого?
Заныло сердце нестерпимой болью. И ревностью. А потом обидой. Значит, у него все уже готово, а она и не собиралась. Вот как!
Но он пока сдерживается. Надо кое-что еще выяснить. И он вклинивается в ее торопливый говор:
– А с мужем ты говорила?
– С Владом? – переспрашивает она. – Да! – и торопливо отводит глаза в сторону.
– И что? – холодеет он, чувствуя, что и здесь облом.
– Ты знаешь, мы до этого почти не разговаривали. Тяжело было. А тут я пришла домой поздно вечером с работы. А он, бедный, сидит один. Ждет меня. С бутылкой вина. Ну, я и присела. В общем, поговорили. Душевно. Он вспомнил, как мы вместе ребенка ждали. Как растили. Как страшно ему остаться без нас. Он меня так любит. Так любит! Сказал, если я уйду, то он убьет себя… Жить не будет. Вот так вот. Не могу я от него уйти…
– Ты же говорила, что не любишь его? Живешь, как в клетке. Что ж ты врала мне?
– Я не врала! – с отчаянием в голосе почти выкрикивает она. – Я не знаю! Я и тебя люблю, и его люблю!
«Значит, она обманывала меня. Лгала все время. Юлила! Крутила! – Горечь и гнев душат Дубравина. – Сволочь!»
– Я пойду! – она пытается приподняться. Видно, что понимает и боится его.
Он в бессильной ярости и гневе от боли, как зверь, попавший в капкан, рычит на нее:
– Сиди!
А сам все силится, пытается понять все происшедшее до конца. А в голове как камни ворочаются мысли: «Значит, все было ложью. Всё! От начала до конца. Она использовала меня, чтобы получить ребенка. Перебраться в Москву. Устроиться на должность. Гадина! Сука! Сволочь!»
Гнев душит его.
– Сиди, мерзкая! – повторяет он еще раз. А сам чувствует, что всё. Сорвалась его жизнь, как скорый поезд с рельсов. Рухнуло здание, которое он строит.
И что делать? Что делать? Он поставил всю свою жизнь, всю судьбу на эту любовь. И так ошибся!
В бессильной ярости он рычит сквозь сжатые зубы:
– Сейчас возьму и выкину тебя вместе со стулом в реку!
И она, такая из себя вся самостоятельная, деловая, независимая, вдруг неожиданно тонким, детским голоском кричит:
– Помогите! Спасите!
Впереди на палубе гремит музыка. И, конечно, ее крик не слышен из-за гула динамиков. Но краем глаза Дубравин видит, что несколько человек, похоже наблюдавших за ними, начинают переглядываться, видимо, не решаясь подойти.
И в эти же секунды вспоминает. Недавно он подарил ей машину. И при этом сказал: «В какой-то момент, я надеюсь, ты сядешь в нее и приедешь ко мне с ребенком». Вчера он увидел, что на этой машине ездит Влад. И это открытие, которое он вспомнил сейчас, обжигает душу.
И уже не соображая, что делает что-то непоправимое, он рычит напоследок:
– Вот тебе мой последний подарок! Сука! – и ударяет ее ладонью по лицу так, что голова ее дернулась в сторону.
Удар был ошеломляющ. С минуту она сидит оглушенная и потрясенная.
Потом вскакивает. И, пошатываясь, идет к музыке. Навстречу ей выскакивает пара наблюдателей. Окружают. И уводят с палубы вниз. В каюту.
Дубравин, опустошенный, долго сидит один.
Потом встает с места и медленно-медленно идет к трапу. Спускается на нижнюю палубу. В бар. Тут пусто. Шустрый белобрысый мальчишка-официант с прилизанными волосами приносит ему еще полстакана водки. Он втягивает водку сквозь зубы, как воду. Не чувствуя ни вкуса, ни запаха.
Самое страшное для него сейчас – остаться один на один со своими жуткими мыслями. Он боится, что не совладает с ними. Боится самого себя. Ведь с каждой минутой осознание краха всех надежд, всей жизни становится все невыносимее. И выход видится. Такой. Простой и ясный. Осталось только чуть-чуть: переступить что-то внутри себя в душе… И не будет больше страдания.
Нет, ему надо быть с людьми! Там, где люди.
Дубравин выскакивает из бара. Бежит по лестнице на палубу, где гремит залихватская музыка. Где разряженная толпа пляшет под зажигательные мелодии.
По ходу дела он подскакивает к диджею. Швыряет ему на пульт двести рублей. И кричит:
– Давай! «Стюардессу Жанну»!
* * *
И как только закрутила, запела, завыла мелодия, он ринулся, как подбитый самолет, кружиться по палубе, выкидывая все новые и новые диковинные коленца.
Стюардесса по имени Жанна, Обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, Стюардесса по имени Жанна…В порыве пьяного безумия вся толпа ринулась «летать» за ним.
«Ты, ля-ля-ля, милый человек, пусть небесный наш роман, ля-ля-ля-ля-ля, длится целый век…» – неистовствует над притихшими берегами мелодия. А на танцплощадке бурлят и вскипают, бьются в диком экстазе люди.
Как только эта мелодия стихает, Дубравин подскакивает к диджеям. Бросает на столик очередную порцию денег. И снова влетает в круг, мечется по палубе, изображая танец, бьется о нее, как раненая птица, старается излить из себя все, что копится в нем темное, едкое, как кислота. Та, что сжигает изнутри его душу.
Мелодия ревет над рекою, над лесом до самого утра…
…Восход солнца застает его на палубе. Почти одного. Вся толпа давно уже рассосалась, разбрелась по каютам. Дубравин остался на пару с едкой, прокуренной, тощей молодой корреспонденткой, готовой лечь под каждого, кто позовет. У нее и прозвище в редакции Зойка-давалка. Она, видно, с самого начала поняла, что с шефом что-то не то. И старается держаться рядом. Приглядывать, чтобы он чего с собой не сотворил.
Дубравин шарит по карманам. Находит последнюю сторублевку. Однако музыка не заводится. Усталый, курчавый, как баран, диджей говорит:
– Сгорел предохранитель!
Сгорел не сгорел. Хто его знает. Теперь это уже не важно. Важно, что перегорел он сам.
Светает. Теплоход идет, протискивается по узкому каналу. На берегах идиллия. Серые деревеньки в золоте осенних садов. Разноцветные дачки. Пятнистые коровки на лугу. Покосившиеся кресты церквушек. Русь в вековечном покое.
Дубравин успокаивает спутницу. Говорит:
– Ты не бойся. Иди отдыхай. Я с собою теперь уже ничего не сделаю. Просто посижу.
Пошел. Присел в пластмассовое креслице. Лицом к восходу. Руки висят, как сломанные крылья.
Но и прокуренная Зойка не уходит. Пристраивается рядом. Словно верная собачонка. Дубравин сбоку смотрит на ее изможденные щеки, тощие руки с длинными желтыми ногтями. На то, как она судорожно затягивается вонючим дымком от сигареты. И вдруг, неожиданно даже для самого себя, понимает всю ее незамысловатую жизненную философию. Понимает, почему она ложится с каждым, кто позовет: «Она просто неуверенная в себе. Сомневается в своей привлекательности, в женских возможностях. И хочет каждый раз самой себе доказать, что она еще хорошенькая».
Странно, наверное, со стороны выглядит их диалог, когда он, обращаясь словно в никуда, вдруг произносит:
– А ты, в общем, красивая баба! Ты всем не давай! Успокойся на этот счет.
Она, прочитав его мысли, отвечает так, как будто они только о ней и об этом говорили всю ночь:
– Не-е! Я все поняла. Больше не буду!
Яркий диск солнца медленно поднимается над лесом. Дубравин, даже не морщась, широко раскрытыми глазами смотрит на него:
– Сечёшь?! Я научился смотреть на солнце. Не моргая! Как орёл! – гордо говорит он, глядя в пустоту…
XII
«Беда не приходит в одиночку». И уж «если пришла беда, открывай ворота!» Истинность этих пословиц и поговорок Дубравин испытал на собственной шкуре, когда после бурного объяснения на теплоходе вернулся в постылый дом.
Случилось страшное. Разгоряченный, он встал под холодный душ. И его скрутил радикулит. Прострелил. Да как! Просто сломал! Не повернуться, не пошевелиться.
Так вдарило, что часа два, беспомощный, он лежал в ванной, прямо на полу. И кричал криком при каждой попытке пошевелиться.
Потом чуть отпустило. И он смог кое-как на четвереньках переползти на диван. И там уже залег надолго.
Короче, наступил «крах босякам». Дала о себе знать старая-старая травма. Еще в ранней юности Сашка баловался в школе на турнике. Пытался крутить «солнышко». Да сорвался. И упал. Спиною на камень. Тогда притерпелся, расходился. А теперь вот, видно, все и вылезло.
На несколько дней завис он дома. И стал думать о своей незавидной участи. Первое время о Галке: «Почему она так поступила со мною? Предала нашу любовь? Нашу мечту? Почему? Нет ответа!»
Выкинутый болезнью из жизни, он часами лежит на кровати и раз за разом прокручивает все происшедшее в собственной памяти. Огненные картины проносятся в голове. И сцену за сценой он заново переживает события того дня.
Ночь тоже не приносит успокоения. Лежит, лежит часами и никак не может уснуть. Только задремлет, забудется и словно кто-то толкает изнутри. Проснись!
Глаза нараспашку. И снова все поедающий кошмар. Тоска несусветная. И он мечется, прикованный к кровати. Туда-сюда. Туда-сюда. Может, на людях при делах было бы легче? Кто знает. А самое трудное – не с кем поделиться. Жене не скажешь. Детям тоже. Они и так переживают батькино бессилие.
Дни идут за днями. Тело поворачивается на поправку, а вот душе покоя нет. Дубравин и раньше чувствовал, что с ним происходит что-то неладное. Вроде бы как он рос, рос и дорос до какого-то потолка. А теперь уперся в него головою или тем, что называют умом. И не знает, как быть дальше. Куда идти? А самое главное, зачем? До этих дней им двигала и его грела надежда. Вот уедут они с Озеровой и сыном из Москвы, и начнется у них совсем новая необычная жизнь. Откроется новый мир. Другая страница жизни. Более счастливая, осмысленная.
Теперь эта дверь захлопнулась. Он в ловушке. Надежда, которая, как известно, умирает последней, покидает его. Впереди пустота. И будет он неделя за неделей, как замученная лошадь, бесцельно крутиться в этом колесе жизни, не двигаясь никуда.
Исчерпались смыслы. Некуда идти. Не с кем.
«Для чего все это надо? – думает он, ковыляя в трусах по квартире. – Все. Аллес капут! Как говорят братья-немцы. Жизнь пошла коту под хвост. Зачем ехать куда-то? Для чего работать?»
В таком вот душевном раздрае лежит он у себя в комнате. И чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых дум, решает что-нибудь почитать.
Доползает до книжной полки. Кое-как, преодолевая опоясавшую спину боль, тянется к книгам. Под руку ему попадает исторический роман.
Читает на твердой обложке: «Генрик Сенкевич. Камо грядеши».
Прилег. Раскрыл. Начал читать. «Э, да это что-то церковное, – думает он разочарованно. – Что тут откроешь для себя?! На кой ляд мы живем? Вся эта цепочка лет под названием жизнь – бессмысленна. Родился, женился, помер? Вот и весь цикл. Из земли выходим, в землю и уходим. Одно мучение только. И себе. И другим приносим».
Его отношение к подобного рода литературе, как и у большинства людей атеистического воспитания, абсолютно скептическое. А верующих он просто не понимает. Жизнь несколько раз сталкивала его с ними. И каждый раз оставляла ощущение непонимания и недоумения.
В детстве мать крестила его. Тайно. В станице у казачьих родственников. Он уже большой мальчишка был. Только приняли в пионеры. И от этого ему было неловко и стыдно. Запомнилось долгое стояние. И купол маленького сельского храма, расписанный яркими-яркими картинками. Ну, очень странными картинками. Например, там была отрубленная голова на большом блюде. Чудно. И страшновато.
Батюшка тогда долго пел. Махал кадилом.
Потом еле-еле поднял его. И окунул ногами в купель…
После обряда мать, счастливая и радостная, надела ему на шею желтый пластмассовый крестик. И велела носить его на шнурке. Но он, как только выходил за ворота, крестик немедленно снимал. И прятал в карман. Чтобы ребята не задразнили. А через пару недель тот вообще потерялся. И о нем забыли.
Вторая встреча с верующими была на стройке. Работали с ним в бригаде одно время брат и сестра. Говорили, что они баптисты-пятидесятники. Брата он не помнит. А вот сестра-крановщица запала в душу. Дубравин долго тогда приглядывался к ней. Никак не мог понять, чем она отличается от других девчонок. Но так и не понял. Разве что более серьезная. Да не позволяла монтажникам материться. Так, стоило внизу кому-то выразиться «по матери», как она сразу – «стоп-кран». Прекращает работу. И начинает спускаться вниз. Действовало это на мужиков отрезвляюще. А так девчонка, как девчонка. Аккуратная. Симпатичная. Но сильно строгая. И непонятная. Одно слово – баптистка.
Да, в армии он видел пару-тройку верующих призывников. Эти запомнились тем, что отказывались брать в руки оружие. Мол, нам Бог запрещает. Тоже чудики. Им его и так не давали. В стройбате оружие солдата – лом да лопата. Народ к ним относился неприязненно: «Надо же! Не как все! Не как люди!» Так что дурковатый барнаулец Дорофей даже пару раз срывался и принимался орать: «Это что получается? Мы, значит, если что, кровь проливать пойдем! А эти гады отсиживаться будут за нашей спиной?! Им, значит, Бог не позволяет. Ох и получат они у меня по мордасам!» Но в целом народ к ним не лез. Ну, живут и пусть живут себе. Со своими заморочками в башке.
Слышал еще Дубравин о каких-то йогах да разных там «экстрасенсах». Но считал, что это все фокусники да хитроумные мошенники. Напускают люди на себя туман. Сочиняют небылицы, чтоб выглядеть необычными, важными.
Вот, пожалуй, и весь его религиозный багаж. Ан нет!
Хранились у них дома две пожелтевшие от старости ветхие книги на полупонятном странном языке. С чудными картинками. Назывались они коротко – Библия и Евангелие. По мальчишескому любопытству он пробовал их читать. Возьмется. И отложит. Трудно понять.
Ну, а тут, брат ты мой, не Библия на старославянском. А роман о жизни первых христиан. Интересно для него. «Терра инкогнита» – неведомая земля. Зачитался. Увлекся. Что-то новое. И совершенно необычное.
И так он его захватил, так затронул чувства, что Дубравин незаметно для себя ощутил, как эта древняя история о любви и вере что-то начала трогать в его собственной душе.
Уже много лет назад Александр заметил за собою такую вот интересную особенность. В каждый период времени, по мере хода жизни, у него вдруг появляется книга, которая, словно путеводная звезда, помогает ему разобраться в себе. С героями которой он созвучен и на которых хочет быть похож.
Началось это с повести о суворовцах. Продолжилось романами Стендаля и Толстого.
Ах, это время безвозвратное, когда они были влюблены в Печорина и Болконского. Но те герои канули в Лету, в реку времени. Канули безвозвратно. А новых он в последние годы не обрел. И вот первые христиане с их неистовой верой в Сына Божьего, с желанием пострадать за веру, а главное, со смирением и любовью к человеку.
«Что же? Что же заставляет их идти на смерть? На муки? Ведь, с точки зрения простой логики, если что-то угрожает твоей жизни, отбрось это. Сама жизнь – главная ценность. А они не хотят. Значит, есть у них что-то, от чего нельзя отказаться. Даже во имя сохранения жизни. Так что же?» И он, читая, мучительно размышляет, пытаясь понять героев Сенкевича. И при этом в душе его шаг за шагом, час за часом нарастает какое-то напряжение. Всплывает все, что случилось с ним в этой жизни, все, что накапливалось все эти годы. Вся боль. Обиды. Страдания…
Для чего-то же это все нужно? Есть же в этом какой-то смысл? И он чувствует, что разгадка где-то рядом. Она заключена в этой книге.
Вот христианин по имени Урс, отданный на растерзание зверям в цирке, хватает за рога огромного разъяренного тура. Дубравин сам, читая эту сцену, чувствует, как напрягаются все его мышцы. Он как будто сливается в героем Урсом. Как будто это он сам держит за рога, голыми руками останавливает пружинящую, полную ярости, нетерпения груду мускулов.
«Верую!!!» – читает он дальше. И… слово это будто молния бьет его. Словно электрический разряд, от макушки до пяток, по позвоночному столбу пронизывает его. В ужасе он чувствует, как все его тело дугой изгибается на кровати. Будто по нему пропустили высоковольтный ток. Еще удар! Еще! Он бьется в конвульсиях, не в силах совладать с этим столбняком. В улетающем, уходящем сознании мелькают калейдоскопом мысли: «Все! Конец! Умираю!»
И чувствует, как сердце его не в силах преодолеть, вместить заливающую организм энергию, бьется в лихорадке. А затем падает, проваливается куда-то. И… останавливается. Он летит в пустоту, задрав подбородок кверху…
Но сознание не уходит. Очищающий, все смывающий поток энергии заполняет пространство необычайной силой. А грудь заливает что-то такое, какая-то волна радости, с которой он уже не может совладать. И радость эта заставляет его плакать. Слезы текут по щекам, попадают в рот. И он чувствует эту соленую влагу на губах…
Глянуть со стороны – подумаешь, что человек сходит с ума. И плачет и смеется одновременно…
А следом и вместе с этой радостью в душу его приходит что-то такое, не объяснимое словами. Но очень важное. И это любовь. Любовь без начала и конца. И без предмета. Ко всему этому миру. Она просто струится внутри него, смывая всю горечь, все накопленные обиды, недоумения, все пережитое. Омывает сердце, душу. Зовет его к жизни. К вечности. Блаженству.
Ему необычайно легко. Чисто. И спокойно. В эти секунды он наконец ясно осознает, обнаруживает: «А ведь это ко мне пришел Бог! Пришла Вера!»
И почему-то все, что казалось бессмысленным, непонятным, неразрешимым, – все стало ясным и простым. И нет уже вечного страшного вопроса: зачем?
Затем! Потому что есть Бог! Есть Господь! И он знает, зачем все это!
Дубравин постепенно успокаивается. Он снова вспоминает обо всем, что случилось с ним, с Галкой. Но думает об этом как-то отстраненно, легко. Как будто было это давным-давно. И даже не с ним. А с кем-то другим.
Он думает об этом спокойно, буднично и в общем-то даже радостно: «Значит, так надо. Значит, так Господь управил!»
И в эти секунды, когда случилось перерождение человека, он наконец обрел то, что искал, наверное, всю жизнь. Веру. Ту несокрушимую опору внутри себя. Ту самую точку опоры, которой ему так не хватало в этом прекрасном, бушующем и вечно меняющемся мире.
Он встает с кровати. И… о чудо! Понимает, что его спина мокра, но она прошла. Не болит. Нет этой тянущей дикой боли. И он может двигаться свободно, а не по стеночке, приволакивая ногу и прихрамывая. И он идет. Сначала робко. А потом все смелее и бодрее.
От издательства
Дорогие друзья!
Со времени выхода первой книги романа-эпопеи Александра Лапина «Русский крест» прошло почти два года. За этот срок издательство получило множество писем и откликов. Мы были рады убедиться, что история героев романа не оставила вас равнодушными. И это, безусловно, не случайность. Пять книг – «Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания», «Вихри перемен» и «Волчьи песни» – повествуют о жизненном пути четырех друзей детства. Судьба разводит их и снова сводит, все они по-разному преодолевают выпавшие на их долю непростые испытания на рубеже двух тысячелетий, а мы через их судьбы вспоминаем и осознаем еще сравнительно недавние события нашей страны, сегодня ставшие уже историей.
Да и, по словам самого Александра Лапина, в этом большом произведении он пытается осмыслить не столько личный опыт и собственные переживания, сколько те события, которые радикально повлияли на судьбу его поколения. Мы можем сказать, нашего поколения. Ведь каждому из нас близка новейшая история России, и мы все, хотим мы этого или нет, уже стали частью ее.
Книга написана и прочитана. Но остались вопросы. Они звучат в ваших письмах. Что будет дальше с героями «Русского креста»? Уедет ли Александр Дубравин из Москвы и что для него означает духовное возрождение? Извратит ли Амантая Турекулова власть, устоит ли он под переменчивыми ветрами на верхушке казахской элиты и сможет ли при этом остаться верным идеалам своей юности? Получится ли у офицера Анатолия Казакова найти себя в новом мире? Наконец, куда приведет мистический путь Владимира Озерова? Что станет с другими героями романа? Чем стало начало нового века для них и для нас? Что вообще значат «нулевые» для России? Эти вопросы задаем себе не только мы, читатели «Русского креста». Сам автор тоже задает их себе.
И поэтому Александр Лапин принял решение – книгу продолжить! А вместе с ним мы решились еще и на определенный эксперимент.
Мы предлагаем вам, читателям, подсказать нам, что должно произойти в шестой книге романа. Ведь его герои – это мы все.
На сайте www.rus-krest.ru и в специальных социальных группах вы можете оставлять свои идеи, пожелания и мысли. Лучшие из них на конкурсной основе будут использованы при написании новой книги романа «Русский крест».
Победителей ждут призы – 5 денежных премий по 20 000 рублей!
Книга о нас и о нашей жизни не может быть написана без нашего участия!
Примечания
1
Коробочки – боевые машины десанта, сокращенно БМД. (Примеч. автора.)
(обратно)2
Болдырь – потомок казаков только по материнской линии.
(обратно)




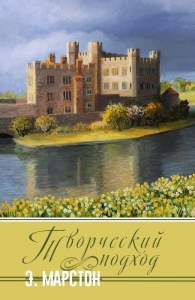
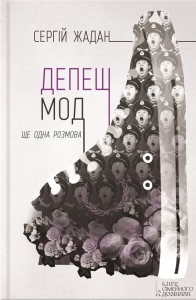
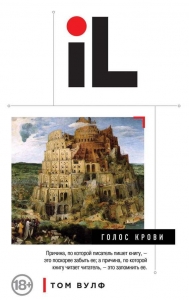






Комментарии к книге «Волчьи песни», Александр Алексеевич Лапин
Всего 0 комментариев