Виктор Казаков Соло на баритоне
Глава первая Перелет
1.
Уже пожилой человек Василий Егорович Дорошкин вечером 24 мая 2007 года (эта дата на некоторое время запомнится близким Василию Егоровичу людям) лег спать и, в ожидании сна, задумался над прожитой им жизнью. Задумался без какой-либо ясной цели и даже без заметного желания в этот поздний час предаваться бесполезному занятию, но… так уж получилось. И, человек скромный и честный, к тому же совсем не глупый и способный обобщать факты, через некоторое время наш герой пришел к выводу, о котором смутно догадывался и раньше: жизнь свою он прожил не так.
В отличие от ученых мужей, которые, служа в академиях, зарабатывают себе на хлеб поисками смысла жизни (до сих пор этого смысла они не нашли, но поиски продолжаются), Дорошкин смысл своей жизни сформулировал давно: смысл вовсе не в честолюбивом желании оставить след в истории человечества или хотя бы в отечественной истории, – след оставляют единицы, миллионы же, среди которых было много людей умнее и талантливее его, Дорошкина, незаметно навсегда ушли из памяти людей. По Дорошкину, смысл жизни – в деле, результаты которого приносили бы ему радость.
Простим герою эгоистичность этого кредо; формулируя его, он, действительно, мало заботился о человечестве и думал в основном о себе. И старался жить, по мере сил приближая ту личную жизнь, которая представлялась ему правильной.
И вот вывод: не так…
Пожалев себя и вздохнув, Василий Егорович почувствовал, что сон, подобравшись, наконец, к его подушке, утяжелил веки и стал путать его и без того запутанные мысли. Он еще раз вздохнул, протянул руку к стене у изголовья, потушил висевшее над головой бра и укрылся легким одеялом. И тотчас же заснул.
И не проснулся.
2.
Трое крепких парней, как близнецы похожих друг на друга (крутые плечи, узко расставленные черные глаза, длинные носы, над глазами мохнатые, будто свисавшие края черных кавказских папах, брови, широкие азиатские скулы), молча связали Дорошкину руки, при этом один из них не зло предупредил:
– Сопротивление бесполезно.
– Да я и не буду, – дрожа от испуга, жалким выдохом прореагировал на те слова Дорошкин, но уже через минуту, слегка приободрившись, все-таки спросил:
– А вы кто, господа?
– Много будешь знать…
– Быстро состарюсь? Да я и без вас уже…
Настаивать на ответе на свой вопрос Дорошкин на всякий случай поостерегся и, подчинившись жесту одного из стражников («наверно, старший»), молча пошел по заросшей эдельвейсами круто поднимавшейся вверх тропинке.
Старший шел впереди, и его можно было хорошо рассмотреть. Голову стражника покрывал шлем, похожий на «буденовку», только цвет шлема был не мышиный, а серо-серебристый, – такого цвета была палатка, которую в молодости Дорошкин брал с собой в путешествия по горам; на ногах были тяжелые черные ботинки (в последние годы армия в похожую обувь обмундировывала своих воздушных десантников; приобрести такие ботинки Дорошкин давно мечтал, потому что цивильные штиблеты на нем всегда быстро изнашивались); остальную часть широкоплечей фигуры стражника укрывал просторный черный плащ, небольшим горбом выпиравший возле лопаток. «Наверно, под плащом рюкзак», – подумал Дорошкин.
«Двое младших, кажется, одеты так же», – шагая, старался вспомнить Василий Егорович, но оглядываться побоялся.
Извиваясь между большими камнями, тропинка поднималась прямо к вершине горы; Дорошкин тяжело дышал и слышал хриплое дыхание шедших сзади стражников.
Часа через два все были на вершине, и старший объявил привал. Один из его помощников молча развязал Дорошкину руки и жестом разрешил сесть рядом с остальными, возле большого плоского камня.
На камне через минуту появились три алюминиевые миски с дымящейся в них перловой кашей. Когда Дорошкин (молодым, еще плохо обученным военному делу) служил в артиллерийском полку, блюдо это, в солдатской среде именовавшееся «шрапнелью», было главным в армейском меню… Дорошкину вдруг сильно захотелось есть, но на камне стояли только три миски, и наш герой скромно отвернулся от камня и стал рассматривать ландшафт.
В природе Василию Егоровичу больше всего нравились горы. Степи казались ему скучными и однообразными, долго смотреть на них было неинтересно. Впрочем, море нашему герою тоже нравилось, а больше всего он любил, когда рядом были и море, и горы.
Место, где стражники остановились пообедать, Дорошкину понравилось. Вершина горы была сплошь завалена огромными валунами, здесь уже ничто не росло; метрах в ста ниже зеленел заросший высокой травой и разными цветами альпийский луг, за ним чернел еловый лес, а справа и чуть выше слепили глаза снег и ледники; ледники даже ярче снега блестели на солнце, и было видно, как по уже проложенным водой руслам вниз бегут, серебрясь, ручьи. «Вода в ручьях несоленая; такой она на протяжении нескольких километров будет и в речках, истоки которых – вот в этих ручьях… На Тянь-Шане я не мог такой водой напиться»…
Размышления Дорошкина прервал голос старшего:
– Ну, а ты что бы поел?
Василий Егорович вопросу обрадовался, но с ответом суетиться не стал, сначала покосился на перловую кашу в мисках и неожиданно для самого себя сказал:
– Борщ.
Никто из стражников заказу не удивился, только старший стал уточнять:
– Со свининой? Сметаной?
– И хлеба. Бородинского.
Старший обернулся к одному из подчиненных и подал тому непонятный Дорошкину знак. Дорошкин проследил за движением подбородка старшего, а когда опять посмотрел на камень, там уже дымилась керамическая миска с горячим борщом, издававшим знакомые пряные запахи. Рядом лежали деревянная ложка и большой кусок черного хлеба.
За все удовольствия, которые случались в жизни, Дорошкин привык расплачиваться сам. Вот и сейчас он осторожно ощупал себя, чтобы убедиться, что кошелек, куда он вчера на почте положил пенсию за последний месяц, не потерялся и, как всегда, лежит во внутреннем кармане куртки. В это время старший, как видно, догадавшись о возникшей у Василия Егоровича заботе, успокоил:
– Деньги не понадобятся. У нас все бесплатно.
Ели молча; стражники, по наблюдению Дорошкина, – без особого аппетита…
Пока длится этот недолгий высокогорный обед, познакомим читателя поближе с нашим героем.
Дорошкин, каким мы его сейчас видим с миской борща в руках, одет по-летнему и буднично – на нем легкая, но непромокаемая серая куртка, тонкий свитер из черной натуральной шерсти, джинсы, на голове – сетчатая, тоже серая, шапочка с длинным козырьком (летом такая шапочка предохраняет от слишком щедрого солнца), на ногах – недавно купленные в фирменном магазине «Саламандра» мягкие коричневые туфли. Василий Егорович среднего роста, круглолиц, курнос и, как уже знает читатель, немолод. Время постепенно вылепило его новый портрет, и тот, кто знал нашего героя, например, в студенческие годы (строен, гибок, худощав, черный густой чуб, прикрыв широкие брови, навис над карими глазами), сейчас не узнал бы его. На огрубевшем, скуластом лице – сетка морщин, на голове – редкие седые волосы, глаза, цвет которых уже трудно угадать, часто слезятся, там, где когда-то от лишнего веса защищал мощный брюшной пресс, вырос небольшой животик, впрочем, малозаметный сейчас под серой курткой…
К концу обеда Дорошкин все-таки решился задать вопрос, который давно вертелся у него на языке, но так и не смог обрести нужной дипломатической формы:
– Куда вы меня ведете, господа?
Пряча ложку за пазуху, старший, глядя на облака в небе и, как видно, думая о чем-то своем, равнодушно ответил:
– Сам знаешь…
Дорошкин ничего сам не знал, пожал плечами и отдал ложку и пустую миску одному из стражников.
И стал ждать, когда ему опять свяжут руки и поведут дальше.
«Теперь, наверно, вниз, под гору».
Спускаться по камням Дорошкину всегда было труднее, чем подниматься. Подумав об этом, он посмотрел на свои недавно купленные заграничные коричневые туфли. «Что-то останется от них, когда мы будем у подножья?»
Но вниз не пошли. И руки Дорошкина остались несвязанными.
Недалеко от камня, где только что был обед, старший укрепил вытащенную из-за спины деревянную вешку, потом подошел к Дорошкину, слегка и недолго помассажировал ему плечи, потом, взяв за руку, отвел на несколько шагов назад. И, указав на вешку, вдруг громко скомандовал:
– Прямо! Бегом! Марш!
Дорошкин мигом очутился на краю горы, которая («о, ужас!»), обрывалась бесконечно уходившей вниз каменной стеной. Понимая, что жить ему осталось совсем недолго, он инстинктивно расставил руки и… могучая сила вдруг стремительно понесла его куда-то вверх, мимо неожиданно загоревшихся на небе звезд.
В ушах засвистел воздух, но Василий Егорович все же услышал, как с правого бока подлетевший к нему старший приказал:
– Расстегни куртку и сбрось туфли!
Дорошкин куртку расстегнул, но туфли сбрасывать не стал – пожалел.
Минут через двадцать сели на зеленую, украшенную разноцветными клумбами, ровную каменную площадку. Приземлившись, Дорошкин первым делом хотел было поинтересоваться, куда это они прибыли, но старший опередил его, объявив:
– Конечная остановка.
Вправо и влево уходила длинная, сложенная из больших гранитных камней стена. Ее прерывала высокая арка, похожая на те, что строили древние люди, когда хотели сохранить в памяти потомков свои триумфальные победы над соседями. На фронтоне арки Дорошкин увидел крупную блестевшую на солнце («похоже, сделана из нержавейки») надпись «Главный Суд», ниже красными кирпичами было выложено слово помельче: «Канцелярия». Прочитав надписи, Василий Егорович заробел, потому что всегда боялся судов, хотя и жил, стараясь не нарушать государственные законы, – и те, которые считал не вполне справедливыми, и те, которые было справедливыми, но никогда никем, кроме Дорошкина, не исполнялись.
Заметив на лице нашего героя тень робости, старший подбодрил его:
– Главное, ты там не ври.
– Да я никогда не вру.
Стражник посмотрел в глаза Дорошкина, и тому показалось, что губы старшего дрогнули.
«Наверно, не поверил, что не вру. Никто не верит».
Глава вторая Последнее слово. балалайка
1.
За столом сидел крупный, совершенно лысый, одетый в незнакомую Дорошкину форму мужчина. На нем были голубая мантия и белая рубашка, а там, где полагается быть галстуку, висели яркие, как видно, прошитые золотой нитью желтые тесемочки; на столе лежала похожая на матросскую бескозырку черная шапочка, тоже увенчанная блестевшим желтым кантом. Дорошкин подумал, что это, наверно, судья, и ощутил в коленях легкую дрожь. Но мужчина в мантии на стоявшего посреди кабинета Дорошкина посмотрел без злобы и раздражения (без тех как бы по долгу службы полагающихся выражений на физиономии, с которыми встречают клиентов наши отечественные должностные лица). Кивнул на стул, стоявший рядом со столом:
– Снимай куртку, Василий Егорович, проходи, садись.
«Знает, как меня зовут… Кажется, вежливый…»
Дорошкин снял куртку и шапочку с длинным козырьком (они тотчас же куда-то исчезли) и, сев, осмотрелся. В просторном кабинете стены были каменными, а потолок деревянным. С потолка свисала небольшая, но хорошо освещавшая кабинет люстра. На столе судьи, кроме уже упомянутой нами шапочки, лежали только две толстые папки, на одной из которых (серой) Дорошкин, покосившись, прочитал «Жизнь», на второй (черной), она была потоньше, – «Грехи».
Дрожь в коленках усиливалась.
Судья, пошевелившись, поудобнее устроился в кресле.
– Как видишь, Василий Егорович, – он кивнул на папки, – мы о тебе знаем все.
«Зачем тогда привели?» – несильно обидевшись, пожал плечами Дорошкин.
– Поясню: документов, которые содержатся в этих папках, – судья обеими руками приподнял, но тотчас же вернул папки на место, – достаточно, чтобы вынести тебе Справедливый Приговор. Но по нашему регламенту, прежде чем объявить Окончательное Решение, мы обязаны (бюрократическая формальность, Дорошкин!) выслушать твое последнее слово.
– О чем? – дрожь в коленках, кажется, начала утихать.
– О твоей жизни, Василий Егорович.
– Факты?
– Не только.
– О душе?
– Можно и о душе.
Дорошкина успокаивала корректность интонаций и слов судьи.
«Будь что будет…»
– Как мне обращаться к вам? Ваша честь?
– Да, так.
2.
Первый вопрос, подобно параграфам в известных Дорошкину официальных анкетах, здесь, как видно, давно сложился и согласно регламента изменениям не подлежал.
– Каждому человеку, – лицо судьи оставалось серьезным, но не строгим, – Верховной Силой определено Высшее Предназначение. Знал ли ты, Дорошкин, что тебе Предписывалось, и если знал, то как исполнил Верховную Волю?
Обдумывая ответ, Дорошкин вспомнил последнюю ночь и сказанное тогда себе: «жизнь прожита не так»… Но при чем тут Предназначение или чья-то, пусть даже и Верховная, воля? Василий Егорович не верил в Высшую Силу и Предназначение, однако вслух признаваться в этом сейчас побоялся и вместо ответа тоже задал вопрос:
– А как, ваша честь, человек может знать о предназначенном ему?
– Надо слушать Голос.
Смысл этих слов Дорошкин понял приблизительно, впрочем, догадался, что имел ввиду судья.
– Я, кажется, ничего не слышал.
– А мы это сейчас проверим.
Судья склонил голову к лежавшей на столе папке – той, что была потолще, открыл ее и взял в руки лежавшую сверху сложенную в гармошку полоску плотной, желтоватой бумаги. Это был документ, когда-то («о, век назад!») выданный Дорошкину при отъезде из пионерского лагеря.
– Да, это – твоя лагерная книжка. Вот что о тебе писали тогда твои пионерские начальники: «Вася – мальчик умный, хотя и любит прихвастнуть, добрый, хотя и драчливый. Во время военной игры был разведчиком и проявил мужество и находчивость».
Судья вернул документ в папку.
– Военным, Василий Егорович, ты стать хотел, но эта мечта у тебя быстро пропала. Не догадываешься, почему?
– В детстве много легкомысленных желаний.
– Есть желание, которое, возникнув, уже никогда не покидает человека. А та твоя мечта оказалась пустой потому, что подсказывалась она тебе не Голосом, а собиравшейся со всеми воевать властью.
Судья, вздохнув (очевидно, он не одобрял власть, которая пыталась направить Дорошкина по ложному пути), достал из папки еще одну страницу.
– Это – записка врача-психиатра Ефрема Володарского (на записке есть дата 25 октября 1977 года), – еще один совсем не лишний документ для оценки твоей, Василий Егорович, личности: «Пациент Дорошкин все еще нездоров. На днях рассказал мне: «Однажды в детстве я увидел на Луне картину Авилова «Приезд товарища Сталина в Первую Конную армию»: слева снег, санки, на санках будущий генсек в длинной шинели и шапке-ушанке, а справа, поднимая белую пыль, мчатся кавалеристы с саблями над головами. Вчера ночью из окна палаты посмотрел на Луну, а там – опять генсек в шапке-ушанке».
– Дурил я голову старому доносчику, – сердито сказал Дорошкин.
Судья отложил документ на край стола.
– Но тебе, Василий Егорович, и в самом деле что-то там виделось на Луне?
– Да, приезд товарища Сталина…
Судья сделал карандашом отметку в блокноте, который неожиданно появился на столе рядом с папками.
– А теперь, Василий Егорович, вспоминай сам, без документов. Не отвлекайся на постороннее, – нас, помни, интересует Голос. Начни с детства, с истоков.
Дорошкин молча стал опускаться к истокам – будто перебирал в ладони густо засоренные злаковые зерна (или, если хотите, будто ныряльщик, облаченный в защитный костюм, осторожно шевелил ластами и медленно устремлялся к таинственному океанскому дну). Судья не торопил…
Причудлива память человека! На всю жизнь запоминается иной ничтожный бытовой штришок и, бывает, напрочь забывается событие поворотное… Что помнит человек из пережитого? Что, будто генетически несовместимое, отторгает память? По каким законам в памяти человека просеивается его жизнь? Кто дирижирует этой способностью человека?..
Дорошкин помнил себя лет с пяти.
– В детстве, ваша честь, со мной случались разные истории… Как-то я прицепился к полуторке и держался за какую-то железку возле колес, пока машина не стряхнула меня в пыль; в только что купленном мне белом костюмчике, примерив, но не сняв обновку, убежал с мальчиками на болото ловить лягушек; однажды отец купил катушку тонкой струны для гитары, я расколупал начало катушки, и струна пружиной размоталась в бесполезный клубок… Видите, был я, ваша честь, в детстве шкодлив – был из тех, кто, как говорится, ходит не в калитку, а через калитку.
Судья сделал движение рукой, будто смел со стола только что услышанное.
– Все это, Дорошкин, к главному не относится.
…Наконец, Василий Егорович стал вспоминать эпизод, уже начало которого заметно заострило внимание судьи.
– Было мне тогда, наверно, лет шесть-семь. Ночью во сне я вдруг услышал музыку, – не видел ни музыкантов, ни инструментов, только мелодия, которую исполнял оркестр (который я тоже не видел), показалась мне знакомой. Музыка была и приятной, и страшной… Мокрый от холодного пота, я проснулся, разбудил родителей, пересказал им сон и свои страхи. «Будешь музыкантом, сынок», – склонившись над моей кроватью, пошутил тогда отец. Мама же перестелила мою постель, сменила простыни, укрыла одеялом, но никаких прогнозов тогда высказывать не стала… Тот сон, ваша честь, в детстве повторился несколько раз.
Судья подал Дорошкину знак помолчать, встал из-за стола и бесшумно и медленно прошелся по толстой красной дорожке, которой был застелен пол кабинета. Потом вернулся за стол.
– Итак, ты услышал музыку. Вот об этом, пожалуйста, – подробнее.
3.
Миновав Курск, Киев, Смоленск, оставив за собой дымящиеся пепелища и большое число братских могил, война медленно продвигалась на запад.
Небольшой сибирский город, где развернутся события этой главы, повинуясь режиму военного времени, круглосуточно добывал высококачественный коксовый уголь (в городе было двадцать две шахты), шил обмундирование, производил порох, артиллерийские «самоходки», стрелковые автоматы, делал еще много такого, о чем таким жителям города, как, например, Дорошкин, знать было необязательно.
Вася учился теперь в мужской средней школы номер девять (к тому времени школы в стране разделили на мужские и женские – эксперимент продолжался десятилетие) – большом трехэтажном здании из красного кирпича. И, как и большинство воспитанников этой школы, считал, что ему крупно повезло, потому что возглавлял школу Петр Николаевич Андреев – самая интересная в городе педагогическая личность (Дорошкин тогда еще не знал о второстепенной роли личности в истории).
Директор все время что-то придумывал сверх предписанного учебными программами: в школе был кружок «Стихи и споры о любви и дружбе», издавался «Литературный альманах», были вечера-диспуты, например, на тему «Ум и эрудиция», вечера танцев – на них приглашались ученицы соседней женской школы (мы ниже еще вспомним об этом); летом по таежной реке (тайга начиналась в тридцати километрах от города) школьники ходили в походы на лодках – руководил походами сам директор… В других школах ничего такого не было, и директора тех школ, конечно, понимали полезность инициатив Петра Николаевича, но при этом, оказывается, их смущало, что Андреев «заигрывает с детьми», проявляет «непозволительный либерализм», «злоупотребляет детским доверием», и именно эти свои опасения они подчеркивали в выступлениях с трибун учительских совещаний, а также в доверительных разговорах с начальством.
Петр Николаевич на все это не обращал внимания и продолжал смущать коллег очередными выдумками.
В начале нового учебного года, когда Дорошкин пошел учиться в седьмой класс, директор решил создать в школе струнный оркестр.
Когда-то он окончил местное музыкальное училище и часто выступал в концертах – особенно удачно исполнял на домре «Турецкий марш» Моцарта. Но мысль об оркестре возникла у Петра Николаевича не только из-за любви к музыке; идея окончательно овладела им, когда он узнал, что на складе городского клуба без дела пылится полный комплект струнных инструментов.
…Уже несколько раз Андреев побывал в клубе, где теперь были только кружки вышивания, перелицовки старой одежды и шитья брезентовых тапочек, уже по-всякому – и лестью, и намеками на старую дружбу, и грубыми, в сердцах высказанными упреками, и заведомо невыполнимыми обещаниями – убеждал он заведующего клубом Ивана Михайловича Веткина на время отдать ему струнные инструменты, которые, «не используемые по назначению, рассохнутся на складе, потеряют звук и будут съедены если не мышами, то пылью». Но Веткин был неумолим и продолжал стоять на своем.
– Все мои музыканты – на фронте, – устало повторял он. – Победят, придут в клуб, а инструменты – тю-тю… А за расхищение государственной собственности… Я тебя, Петр Николаевич, очень уважаю, но отдать оркестр не имею права. Боюсь.
– Больно труслив ты, Иван Михайлович! Поэтому тебя и на фронт не взяли!
Веткину (как, заметим к слову, и самому Андрееву) было уже шестьдесят шесть лет, и за лишние слова Петру Николаевичу в конце визитов приходилось извиняться.
Договор был заключен, когда Андреев предложил силами школы побелить фасад клуба, а также бесплатно привезти в клуб три подводы угля – в школе с довоенных лет для хозяйственных нужд была лошадь. В тот день в ответ на свои назойливые домогательства директор, наконец, услышал не пустой глубокий вздох, а и (правда, сказанные через силу) слова:
– Пиши расписку, Петр Николаевич: «обязуюсь в целостности и сохранности…»
Покачивая седой головой, Веткин в ту минуту, наверно, думал: «Какое там «в целостности и сохранности»! Эти бесенята из мужской школы за неделю порвут на инструментах все струны, а через месяц расколотят деки даже у контрабаса!»
Но решение им было принято, и передумывать Иван Михайлович не стал. «Дары» Андреева тут никакой роли не сыграли. Клуб и без побелки фасада простоял бы еще не один год, угля же в хозяйственном сарайчике оставалось тонн пять с прошлой, не очень холодной, зимы. Отдать инструменты Веткин решил потому, что сам равнодушный к музыке (у него не было музыкального слуха), он порой до боли в своем добром сердце жалел детей, которые еще недавно приходили в его клуб с нарядными родителями, были чистенькими и причесанными, ели мороженое, смотрели кукольные спектакли, учились рисовать, метко стрелять, рассказывали со сцены стишки, а теперь носились по улицам босыми, неухоженными и голодными.
1В тот день школьная лошаденка подвезла к клубу телегу, на которую был погружен полный комплект струнных инструментов.
Инструменты сложили в маленькой комнатке в конце коридора (кто-то на военный манер прозвал комнатку каптеркой). Домры, мандолины, балалайки, две гитары, контрабас и пр. Петр Николаевич сам протер влажной мягкой тряпочкой.
4.
– …сижу на скамеечке посередине нашей землянки, упираюсь спиной в столбик, подпирающий потолок, держу на коленях балалайку и, дергая за ее нижнюю струну, подбираю мелодию популярной среди нас босяцкой песни «Гоп со смыком». Знали мы, ваша честь, конечно, и другие песни – «Катюшу», «Дан приказ…», но почему-то часто и с особым удовольствием пели босяцкие.
Дорошкин вдруг прервал последнее слово, чтобы поделиться внезапно озарившей его догадкой.
– Всякий человек, – наклонившись к столу, доверительно сообщил он судье, – появившись на свет, делает сначала что-нибудь разрушительное. Научившись ходить, дети вовсе не кидаются что-то по их силам и уму созидать – кидаются ломать, шкодить, хулиганить, и все это – ради куража, удовольствия. Такова природа…
Судья не сердито, однако настойчиво перебил:
– Каким появляется человек на свет и чего в нем от природы больше, а чего меньше, знает только Всевышний. Не об этом у нас разговор, Дорошкин. Вернемся к балалайкам.
Дорошкин не стал спорить.
– Сижу на скамеечке посередине нашей землянки…
Он закрыл глаза и вдруг увидел эту самую землянку – даже на почерневшем от времени столбике, подпиравшем потолок, была хорошо заметна знакомая трещина.
Поселок был построен на окраине города. Ровной цепочкой, слегка приподнявшись над землей, метров на сто тянулось несколько параллельных полос бараков – по пять-шесть в полосе. Строились бараки дешево: бульдозер выкапывал широкую траншею, потом каждой семье вдоль траншеи отмерялось несколько метров, забивался колышек и выдавалась бумажка на право купить на складе строительные материалы. Новоселы сами возводили стены землянок – для этого со склада отпускались старые, подгнившие и просмоленные, железнодорожные шпалы – и из приобретенных на том же складе горбыля и рубероида сооружали крыши, которые укрывали толстым слоем земли. На крышах за лето вырастала высокая трава…
В поселке жили спецпереселенцы – раскулаченные крестьяне. Лет десять назад первыми сюда привезли с Волги татар и башкир, башкир, наверно, было больше, потому что район назвали Башпоселком. Со временем появились здесь и русские семьи. В начале войны в землянке, где уже два года жила Васина тетя Аня (жила с двумя дочерьми, без мужа и работала в бригаде, которая ремонтировала железную дорогу), поселились еще и трое Дорошкиных, эвакуированные из Белоруссии, где наступали немцы (об отце Васи, командире Красной армии, семья к тому дню уже получила извещение: «пропал без вести»).
Поселок располагался на земле, под которой шахтеры выбирали уголь; бараки были обречены со временем провалиться, что и случилось вскоре после войны.
Открыв глаза, Дорошкин вспомнил о своем обещании «не отвлекаться» и продолжил рассказывать:
– Сижу на скамеечке, дергаю за струну балалайку. Мама и тетя на работе, брат и двоюродные сестры ушли в школу, мне тоже пора укладывать портфель, но я уже решил в этот день на уроки не ходить, потому что у меня не было сил оторваться от балалайки.
В школу пришел на другой день.
С середины первого урока вызывают к директору.
На пороге кабинета Петр Николаевич жестом останавливает меня и, не терзая предисловиями, зло приказывает:
– Балалайка через два часа должна быть тут! – стучит пальцем по своему столу.
5.
Встрече Дорошкина с директором предшествовало такое событие.
Руководить оркестром Петр Николаевич сначала намеревался сам; он еще помнил уроки, полученные в молодости в музыкальном училище, и, пожалуй, еще и сейчас сумел бы по памяти сыграть на домре «Турецкий марш» Моцарта. Но месяц назад забрали на фронт «физика», и Андреев, учитель географии, стал еще и «физиком»; потом тяжело заболел «ботаник», и директор взял на себя и его уроки; много оставалось и административных, хозяйственных забот. Так что с некоторых пор Андреев все яснее стал понимать, что времени для оркестра у него не будет и без профессионального музыканта ему, пожалуй, не обойтись.
Пока он искал специалиста-струнника, в школе и произошло то самое событие, которое тертый жизнью Петр Николаевич, конечно, мог бы и предусмотреть и не допустить, но, закрутившись с повседневными делами, не предусмотрел, хотя и требовалась мелочь – обыкновенный замок.
С быстротой, свойственной всем невероятным известиями, в один прекрасный день по школе распространилась информация, которую, по слухам, первым в свой класс принес второгодник Мотька Чалый:
– В незапертой каптерке – балалайки!
И инструментов в каптерке к концу уроков не стало.
На следующий день во время чрезвычайного (в коридоре школы) построения директор (естественно, после пересказа последних сообщений Совинформбюро о событиях на фронте) обсудил вопрос о грабеже в каптерке, сказав в заключение (речь его на этот раз была не вполне дипломатичной, учитывала сугубо мужской контингент слушателей, хотя, конечно, и не выходила за рамки дозволенной педагогикой лексики):
– Снимаю с уроков всех, кто взял инструменты; к вечеру уворованное должно быть в каптерке!
К вечеру в каптерку не вернулась только одна балалайка.
Директору нетрудно было установить, что на построении не присутствовал Вася Дорошкин из «седьмого-А».
– Мне, ваша честь, конечно, не хотелось возвращать инструмент; я уже считал балалайку своей. Понимаете…
– Отдавать, Дорошкин, всегда трудно, – судья, кажется, позволил себе легкую иронию. – Давай-ка на этом разговор о струнном оркестре закончим. Балалайку ты больше не видел. Через два дня к Андрееву пришел заведующий клубом, – судья подтянул к себе папку, взял в руки исписанный лист бумаги, – сказал (цитирую дословно): «Вези, Петр Николаевич, оркестр обратно, у меня завтра на складе ревизия». Так было?
– Так.
– Директор вернул инструменты и больше о них не вспоминал. Знаешь, почему?
– Знаю. У него возник новый музыкальный проект.
В это время за спиной судьи каменная стена кабинета вдруг нешироко раздвинулась и в образовавшейся щели появилась пошевеливавшаяся тень. Наверно, там было какое-то существо, но ни лица, ни одежды существа Дорошкин не разглядел – в щели было мало света.
– Обеденный перерыв, – объявила тень и тотчас же исчезла, после чего исчез и судья, а Дорошкин очутился в наполненном светом помещении, убранством и уютом походившем на московский ресторан центрального Дома литераторов.
6.
Сел за стол. У края стола поверх серой скатерти лежало меню; на тяжелой коричневой обложке золотыми штрихами была нарисованная гора, которая показалась Дорошкину похожей на ту, где в компании стражников он сегодня обедал. На первой странице были написаны названия блюд, однако столбика цен не было, и это удивило нашего героя, но тотчас же появившаяся возле стола высокая блондинка в голубом платье («похоже, официантка»), улыбнувшись, объяснила:
– У нас все бесплатно.
Дорошкин потыкал пальцем в названия блюд – есть ему не хотелось, и официантка через минуту принесла бокал пива и несколько небольших голубых тарелочек, на которых лежали свежие овощи и сыр. «Пожалуй, это я съем, – подумал Василий Егорович и потянулся к бокалу светлого пива, которое он, оказывается, случайно, но очень кстати тоже указал в заказе.
Большинство столов в зале были заняты. Перед обедавшими стояли тарелки с едой (присмотревшись к содержимому одной из тарелок за соседним столом, Дорошкин брезгливо поморщился: «похоже на советский бифштекс рубленный с яйцом»), бутылки с водкой, коньяком, виски, а также полные бокалы пива. Судя по всклокоченным шевелюрам, расстегнутым воротникам рубашек, потным лицам, суетно бегавшим глазам и слишком громким разговорам, люди здесь бражничали давно.
Из разных концов зала до слуха Дорошкина долетали громкие реплики.
– Ты – холостой патрон: звук от тебя, может, и будет, а в цель не попадешь!
– …Ни одного философа за весь университет не прочитал. Все пять лет изучал сталинское учение о языке и выступление Лысенко на сессии ВАСХНИЛ.
– Алка – холоднокровное животное! Температура ее тела зависит от температуры окружающей среды, а самая низкая температура в этой среде, как известно, ночью!
Из левого угла пропищал восторженный детский дискант:
– Дед, у нас две сенсации: во-первых, в Бангладеш переворот, во-вторых, дядя Боря будет членом нашей семьи!
Василий Егорович внимательнее присмотрелся к соседнему столу, где торопливо дожевывал бифштекс пожилой человек – строгая черная «тройка», белый накрахмаленный воротничок над приспущенной «бабочкой», ухоженная, острым клинышком бородка, пенсне, темно-коричневая кожа на шее… «Похож на профессора», – подумал Дорошкин, а в это время тонкая женская рука «профессора», часто подрагивая, подняла рюмку водки. Дожевав еду, «профессор» продолжил, как видно, начатый им еще до прихода Дорошкина разговор:
– Думать – серьезный и очень тяжелый труд, – он вытер салфеткой рот. – И чем умнее человек, тем труднее ему думать, потому что его мысли углубляются к истокам истин, – он опрокинул в рот рюмку, после чего наклонил голову к широкоплечему низколобому собеседнику с золотой цепью на шее:
– Не кажется ли вам, молодой человек, что в последнее время вокруг нас стало меньше ума?
«Молодой человек», похоже, почувствовал в вопросе некий лично его касающийся обидный намек, и в его глазах мелькнуло агрессивное желание отомстить ученому соседу. Морща лоб, он минуту искал для этого подходящие слова, наконец, сказал:
– Если ты будешь ставить меня в тупик своими вопросами, я буду ставить тебя в тупик своими ответами.
Ответов, однако, не последовало; широкоплечий замолчал, а «профессор» склонился над тарелкой и молча стал доедать бифштекс.
В ресторан вошли двое низкорослых мужчин. Их окладистые черные бороды густо опускались почти до пояса (такие бороды в последнее время отрастили себе московские писатели-патриоты). Вошедшие сели за близкий к Дорошкину стол и сразу же заспорили:
– Скажу тебе, старик, так, – горячился патриот, что был, судя по ярко пылавшему на лице румянцу, помладше, – перестройка всем нам была проверкой, экзаменом – надо было понять, какими стали советские люди в результате коммунистического воспитания.
– Я со школы не люблю экзамены, – спокойно возражал тот, борода которого была подлиннее. – А перестройка – это полный развал страны, бандитский передел общего добра и абсолютное обнищание народа!
– И все-таки нужен был такой торжественный парад, смотр, оценка качества кадров!
– Кому нужен?
– Русскому народу!
Перебивая друг друга и то и дело хватаясь за собственные бороды, они стали обсуждать итоги смотра и еще до того, как официантка принесла им водку и закуску, пришли к согласию, что (как сформулировал один из бородачей) «этот смотр в нашем самом передовом в мире обществе выявил много дерьма».
Дорошкин одобрил мысль, однако, разговор патриотов, становившийся все более банальным, дальше слушать не стал и переключил внимание на стол справа.
Здесь какую-то обидную истину обдумывал молодой, но, судя по хмурому лицу, уже сильно уставший от жизни человек. Через минуту он поднял голову к потолку и, стукнув кулаком по столу, самому себе твердо сказал:
– Дуня живет одной завистью!
«Не завидуют только те, у кого есть все», – подумал Василий Егорович, а хмурый человек вдруг резко опустил голову, нацелил на Дорошкина подозрительный взгляд и зло погрозил пальцем:
– Не скажи! У кого есть все, тот больше всех и завидует!
«Кто такая Дуня? Жена? Любовница? И как можно жить одним? Впрочем, зависть – это не одно, это – болезнь всего в человеке»…
На минуту задержавшись в размышлениях о тех, кто живет одной завистью, Василий Егорович стал прислушиваться к беседе за спиной.
– Даже госпожа Кеннеди, – скрипел там обиженный высокий тенорок, – обманывала нового мужа Онассиса: по кредитной карточке покупала наряды, а на другой день возвращала их в магазин и получала живые деньги.
В ответ гудел добродушный бас:
– Меня не волнуют материальные трудности госпожи Онассис. Ты лучше скажи мне, как бросить курить.
– А я хочу подчеркнуть, – гнул свое тенорок, – лгут все женщины и лгут из-за денег!
В это время за столом у дальней стены, будто с трибуны, зазвенел молодой голос:
– Все народы гордятся своим прошлым, некоторые – настоящим, а мы все последние десятилетия гордились своим будущим!
«Эту мысль я, пожалуй, записал бы в дневник…» – подумал Дорошкин.
И, повернув голову, увидел, как за стол, стоявший неподалеку от него, усаживались двое мужчин средних лет. Один из них, лохматый, в очках и потертом сером свитере, заказал официантке бутылку водки и стакан минеральной воды, другой – он был в модном белом костюме, бабочке и тоже носил на носу очки, – попросил жареного цыпленка с макаронами и тоже бутылку водки. После этого лохматый достал из заднего кармана штанов мятый блокнот, быстро перелистал его до середины, наконец, оторвавшись от блокнота, поднял глаза на компаньона:
– Если, коллега, внимательно присмотреться к тому, как складывалась история человечества за известные нам последние пятнадцать веков…
– Ого!.. А нельзя ли покороче?
– В смысле?
– В смысле веков.
– Нет, коллега! Запомните цифру: пятнадцать; здесь – эпицентр моего открытия! Итак, следите за моей мыслью: если присмотреться к тому, как складывалась история за пятнадцать веков, заметим очевидную закономерность: все народы (в Новом Свете, в Европе, в России, Японии – во всех частях земного шара!) в одно и то же время пережили одно и то же состояние: три первые века были темными, три века длилось феодальное средневековье (расцвет культуры и постепенное ее увядание), столько же – эпоха возрождения, сменившаяся (опять же на три века!) эпохой смуты, после чего наступила и три века продолжалась эпоха империализма. На глазах нашего поколения пятнадцативековой цикл завершился – все империи распались, мир возвращается в эпоху варварства…
– Культура исчезает, по земле бродят дикие племена…
– Именно так! И наша страна тому – яркий и убедительный пример!
Тот, что был в белом костюме, улыбнулся:
– Я правильно вас понял, коллега: жизнь на шарике начнет улучшаться только через три века?
– Не раньше!
Официантка принесла водку, и разговор за столом замолк.
А Дорошкину уже надоели чужие разговоры, к тому же пиво и овощи с сыром кончились.
«Не об этом здесь надо думать».
Впрочем, Дорошкин и сам не знал, о чем здесь надо думать.
От размышлений его отвлек негромко прозвучавший над самым ухом голос:
– Конец обеденного перерыва.
Через мгновение Василий Егорович оказался в уже знакомом ему кабинете с каменными стенами и деревянным потолком, где за столом, освещенном лампой с большим синим абажуром, сидел, листал папку «Жизнь» судья.
Глава третья Последнее слово. «на сопках маньчжурии»
1.
– Понравилось пиво, Дорошкин? – судья, видно, тоже отдохнул и был в хорошем настроении – улыбался.
– Главное – бесплатно, – пошутил и Василий Егорович.
– У нас все бесплатно.
– А что это за люди, ваша честь, обедали там?
– Это – очередники. У них для Окончательного Решения не хватает некоторых документов, и наши сотрудники сейчас ищут те бумаги. Тебе, Дорошкин, повезло: все твои документы в порядке, и мы можем продолжить беседу.
– Я готов.
– На чем мы остановились?
2.
Возвратив в клуб инструменты, Андреев, действительно, вскоре перестал думать о балалайках. Способствовали тому два обстоятельства (исключим импульсивную натуру директора, который быстро увлекался всем новым и не оставлял в себе места для неудачного старого): во-первых, Петр Николаевич так и не нашел специалиста, который мог бы руководить струнным оркестром (все знакомые музыканты воевали – были моложе Андреева); во-вторых, по поведению заведующего клубом, суетно и как-то уж слишком многословно и не впопад благодарившего за возврат инструментов «в целостности и сохранности», директор понял, что во второй раз Веткин рисковать не станет и инструменты из рук больше не выпустит.
Но Андреев продолжал думать о музыке в школе.
О новом проекте школа узнала на очередном построении. Коротко пересказав последнюю сводку Совинформбюро, Петр Николаевич объявил:
– В школе будет духовой оркестр. К семи вечера в учительскую приглашаю всех интересующихся музыкой; придет капельмейстер.
В семь вечера всем «интересующимся» места в учительской не хватило – некоторые сидели на подоконниках. Когда в дверях появились директор и с ним высокий, худой, в темносиней полувоенной форме пожилой мужчина в очках, неизбежный при большом скоплении праздной пацанвы галдеж мгновенно стих и десятки пар любопытных глаз, без внимания пропустив хорошо знакомую фигуру директора, нацелились на незнакомца.
– Михаил Михайлович Леонтьев, – представил гостя директор, а гость навстречу школьникам слегка склонил свое длинное тощее тело («похож на циркуль», – решил сидевший на подоконнике Вася Дорошкин).
Наверно, в ту минуту будущий наставник школьных «духовиков» и был окрещен «Михалкой», – под этим именем он на долгие годы займет место в благодарной памяти нескольких поколений школьных музыкантов…
– Михаил Михайлович – профессиональный музыкант, дирижер; участвовал в боях под Москвой, был ранен… – директор говорил неинтересно, как будто читал холодный чиновничий документ, – он еще плохо знал Леонтьева и, видимо, опасался неосторожных слов.
– В городе, ваша честь, никто не знал, как Петр Николаевич нашел Леонтьева и где достал духовые инструменты. Рассказывали, будто однажды на нашем вокзале остановился воинский эшелон, который вез на восток пленных немцев. Среди них был и музыкальный взвод, и пока эшелон стоял, Петр Николаевич с разрешения охраны за несколько ведер картошки успел выменять у немцев все трубы. Рассказывали еще, что по поводу той сделки Андреева вызывали в горком партии, правда, «дело» там оставили без «оргвыводов».
Судья полистал папку.
– Документы не опровергают этих фактов.
Представив капельмейстера, директор, «чтобы не мешать знакомству», ушел, а Леонтьев встал из-за стола и, неторопливо пробежав глазами по присмиревшей аудитории, сказал (его ясный низкий голос ребятам сразу понравился):
– Я охотно возьму в оркестр всех, у кого окажется музыкальный слух.
Сидевшие за партами заёрзали. Никто из них не знал, что такое музыкальный слух, но каждому было бы обидно обнаружить в себе его отсутствие.
– К проверке слуха мы сейчас и приступим, – продолжал капельмейстер. – Это для вас не самый трудный экзамен, но выдержать его будущим оркестрантам надо обязательно. Сейчас все ступайте в коридор, ко мне будете входить по одному.
Дорошкин для проверки слуха вошел в учительскую одним из последних. Михаил Михайлович сидел за стареньким черным пианино.
Экзамен оказался простым: «Михалка» нажимал клавишу пианино, а Вася, прослушав ноту, должен был ее спеть. Потом Леонтьев нажимал другую, затем еще одну клавишу, в заключение сыграл небольшую музыкальную фразу, которую Вася, как и все предыдущие ноты, спел безошибочно и с удовольствием.
Маэстро пожал вспотевшую ладошку Дорошкина:
– У тебя, Вася, абсолютный музыкальный слух; природа одаривает им только избранных!
Дорошкин тогда еще не знал, кто такие избранные, но, догадавшись о похвальном смысле слова, обрадовался и даже на минуту загордился.
3.
Для оркестра во дворе школы отремонтировали бывший небольшой склад. Поставили там парты, на одну стену повесили обычную черную доску, на другой укрепили длинную вешалку – для инструментов.
На первое занятие (вечером, после уроков) пришли все, кто сдал экзамен по музыкальному слуху, – человек двадцать. К этому дню, как и вся школа, ребята уже перешли на зимнюю форму одежды – надели довоенные фланелевые рубашки, курточки выросших из них старших братьев, старенькие свитера, на ногах у многих были ботинки с двумя парами носков. Леонтьев пришел в белой сорочке, темном костюме и больших белых валенках – серое небо в тот день впервые над городом потрусило снегом.
Все чинно уселись за парты и стали нетерпеливо ждать, когда «Михалка» раздаст инструменты («кстати, где он их прячет?») и покажет, что и как там надо нажимать. Но Леонтьев занятие начал с переклички, и только прочитав в своем списке последнюю фамилию, только посмотрев в лицо каждому новому воспитаннику и сделав в тетради понятные только ему пометки, капельмейстер, наконец, заговорил об инструментах.
– Знаете ли вы, – спросил он, – как называются инструменты, на которых играют, как вы говорите, «духачи»? Мне, между прочим, больше нравится «артисты духового оркестра» – конечно, если речь идет о профессионалах.
Ребята кое-что знали об инструментах – в шахтах случались аварии и погибших шахтеров хоронили с духовой музыкой.
– Трубы… барабаны…
– Тарелки!
На тарелках исчерпав знания предмета, аудитория скромно замолкла.
«Михалка» поднялся со стула.
– Добавляйте: корнеты, – на левой ладони капельмейстер загнул мизинец, – альты, – загнул он еще один палец и вдруг посыпал горохом: – баритоны, теноры, басы, кларнеты большие, кларнеты малые, флейты альтовые, флейты басовые, пикколо-флейты, валторны, тромбоны, саксофоны… В духовом оркестре, если это большой оркестр, может быть свыше пятидесяти исполнителей!..
Капельмейстер сделал короткую паузу, после которой вдруг сообщил неожиданную и очень огорчившую будущих артистов духового оркестра новость:
– К сожалению, я не могу вам сегодня показать наши инструменты – их пока нет в школе…
Заметив, что лица за партами поскучнели, Михаил Михайлович снял очки и, кажется, впервые за последние дни улыбнулся:
– Да они нам, ребята, пока и не нужны. Сначала будем изучать теорию…
– В тот вечер, ваша честь, «Михалка» многое рассказал нам о духовой музыке, – говорил, примерно, так:
– В бою, когда стреляет артиллерия, рвутся снаряды и свистят пули, хорошо будет услышан только духовой оркестр, который удвоит силы поднявшихся в атаку солдат… Музыка духовых оркестров помогала побеждать древним египтянам, ассирийцам, вавилонянам, палестинцам, вдохновляла на успех в войнах античных греков и римлян. …Но духовая музыка способна не только воевать; ее увертюры, симфонии, танцевальные произведения рассказывают о самых тонких человеческих переживаниях и способны пробудить в человеке нежные чувства…
Мы, ваша честь, в тот вечер впервые услышали имена Гендель, Госсек, Бетховен, Берлиоз, Вагнер, Алябьев, Аренский, Римский-Корсаков… «Михалка» приоткрывал нам окошко, за которым был таинственный, волшебный мир, созданный этими великими композиторами; и нам захотелось побыстрее самим прикоснутся к этому миру!
«Михалка» начал учить ребят читать ноты.
И вскоре все уже знали, где на нотном стане располагается нота «до» и уверенно на второй линейке рисовали ноту «соль», различали «диезы» и «бемоли», скрипичные и басовые «ключи»; понимали, что такое «легато», «стокатто».
Ваня Кузин на одном занятии спросил:
– «Диез» повышает звук на полутон, «бемоль» – понижает на столько же; а если надо повысить или понизить звук всего на четверть тона – как это обозначить в нотах?
«Михалка» тяжело вздохнул – будто Ваня вынуждал его высказать истину, которую вообще-то он хотел скрыть:
– Обычное человеческое ухо, к сожалению, не улавливает четверть тона, поэтому разница в «четверть» никак не обозначается.
Директор школы Андреев (видимо, хорошо запомнивший урок с балалайками) все еще хранил духовые инструменты в только ему известном месте, когда капельмейстер виртуально стал распределять их:
– Коля Азарников, Витя Прашников – трубы-корнеты, Леша Попков – бас, Ваня Кузин – баритон. Вася Дорошкин – пикало-флейта…
4.
– И тут, ваша честь, в моей жизни случилось два несчастья.
На этих словах Дорошкин на несколько секунд прервал последнее слово, чтобы прислушаться: не пробудились ли в нем потревоженные воспоминаниями те давние горькие чувства? Нет, не пробудились; подобно умершим в океане моллюскам, они уже крепко заизвестковались и, не волнуя душу, опустились на дно памяти.
– Когда привезли в школу инструменты, пикало-флейты среди них… не оказалось. Был лишний альт, маленький (меньше были только трубы-корнеты) медный инструмент. И Михаил Михайлович, повздыхав, тогда решил: «Пока, Вася, будешь играть на альте».
И жить мне, ваша честь, стало невыносимо тяжело!
В оркестре, ваша честь, – свое социальное неравенство: есть первые инструменты – у нас это были три трубы-корнета, баритон, большой и малый кларнеты – и вторые («Михалка» называл их секунда, с ударением на «е», мы, конечно, говорили с ударением на «у»), у нас – бас, четыре «альтушки», два тенора. Партия секунды – всего две-три ноты: басы, исполняя, например, марш, подают низкий звук «там», альты и теноры отвечают примитивным «та»: «там-та», «там-та»; когда исполняется вальс, секунда играет: «там-та, та», «там-та, та»… И вот, ваша честь, Василий Дорошкин, человек с абсолютным слухом, карьеру артиста духового оркестра начал с этого простенького «та-та»!
Я завидовал Ване Кузину, игравшему на баритоне. Этот инструмент сильнее остальных запал мне в душу. Сольные и проходящие мелодии баритона волновали меня даже больше, чем первые партии труб и кларнетов.
Через месяц мы уже играли туш, «Егерский марш» и разучивали «Интернационал». Я, кроме своих «та-та», выучил на «альтушке» некоторые баритоновы пассажи и однажды в перерыве репетиции сыграл их; все стали смеяться, а Ваня Кузин высокомерно надул нижнюю губу:
– Не по Сеньке шапка.
Конечно, он имел ввиду «альтушку»…
5.
Вторая беда к Дорошкину подобралась тоже неожиданно.
В каждую зиму в городе обязательно выпадали дни, когда голубой цвет неба сменялся густо-серым, солнце пряталось за низкими, быстро бежавшими по небу тучами, а из туч без конца сыпался и сыпался на землю густой мокрый снег. Большие белые хлопья толстым слоем быстро укрывали все вокруг. Под холодным белым колпаком в такие дни оказывался и Башпоселок, и утром, чтобы выйти из землянки, надо было, открыв дверь, лопатой выкапывать в снегу тоннель.
Снег тихо падал несколько дней, но потом из поднебесья вдруг налетал шквальный ветер, он начинал остервенело рвать и кружить в воздухе мокрые хлопья, зло залеплял снегом глаза пешеходов, силился сбить их с ног и тут же засыпать тяжелым саваном. Несколько дней, будто ватага захмелевших и от дури разгневавшихся на все земное ведьм, над Сибирью гудела пурга.
Жизнь в городе в пургу, несмотря на некоторые дополнительные бытовые неудобства, продолжалась обычным распорядком: взрослые, поверх обычных платков приспособив еще одни, а то и кухонные полотенца, поплотнее застегивали фуфайки и уходили на работу, не опаздывали (за опоздание тогда отдавали под суд); одетые тоже по погоде (Дорошкин: поверх фуфайки – старенький серый плащик, на шее – довоенный, не доеденный молью мамин шерстяной шарф, на голове – солдатская ушанка, на ногах – из кусков старого сукна и ваты пошитые мамой черные бурки, всунутые в чуни – шахтерские колоши из толстой резины), подростки шли в школу.
У Васи к школе было две дороги: длинная – через Башпоселок, потом через небольшой пустырь, потом вдоль главной улицы города; и короткая – узкая тропинка, то круто опускаясь, то почти вертикально поднимаясь, шла через обвалы – по местам, где внизу уже был выбран уголь и земля обвалилась в глубокие воронки. В пургу Дорошкин ходил в школу только коротким путем. Ему нравилось испытывать себя, а еще он при этом любил воображать – полчаса придумывал рассказ, в котором были война, немецкий тыл и бесстрашный советский разведчик Дорошкин, успешно (конечно, рискуя жизнью) перевыполняющий приказ командования. И гордость по поводу смелого подвига в рассказе по силе не уступала тому победоносному чувству, которое Вася испытывал всякий раз, когда кончались обвалы и сквозь пургу становились видны дома городской улицы.
…Аккуратно закрыв за собой дверь землянки, Дорошкин вышел из снежного тоннеля, втянул носом влажный воздух. Пурга продолжала скулить, стегала по лицу мокрым снегом, но за ночь заметно ослабилась, и дела ее, кажется, шли к концу.
На окраине поселка Вася догнал Лену Васнецову, девочку из соседнего барака, которая училась в школе номер десять (располагалась по соседству с Васиной школой) тоже в седьмом классе и сейчас, как и наш молодой герой, спешила на уроки. На ней была черная шубка, такого же цвета и тоже из меха шапочка; в руках Лена держала портфель.
Подростки были знакомы, но дружбы меж ними не было: у Васи была своя, мужская, компания, у Лены не было никакой компании – в свободные от школы часы она обычно далеко от дома не отходила, потому что должна была ухаживать за больным отцом. Как-то летом Вася и Лена со сверстниками ходили купаться в один из наполненных водой обвалов, и голые лопатки девочки в тот раз никакого впечатления на Дорошкина не произвели.
Но в тот зимний день, в пургу, Вася, догнав Лену и зашагав с ней рядом, пристальнее всмотрелся и в Ленины широкие черные брови, и в чуть раскосые, но большие, с длинными ресницами, тоже черные глаза. И, положительно оценив увиденное, неожиданно для самого себя предложил:
– Пойдем, Лена, через обвалы.
Девочка подняла аккуратными скобочками окаймлявшие глаза брови:
– Я там боюсь.
Дорошкин стал горячо уверять, что ничего страшного там нет; Лена на его слова откликнулась неопределенного смысла улыбкой, и Вася догадался, что на самом деле Лена вовсе не боится идти с ним через обвалы, а не соглашается только из-за женского кокетства (Дорошкину казалось, что он уже знает, что это такое).
Они свернули на тропинку к обвалам. Когда были на середине пути, пурга ненадолго усилилась, и в одном месте, чтобы Лена, неловко споткнувшись, не скатилась на дно глубокой воронки, Дорошкин поддержал спутницу за руку. И хотя рука была в вязаной варежке, Вася почувствовал ее приятное тепло… И захотелось вдруг Дорошкину, чтобы пурга продолжалась еще долго, чтобы стала она еще злее и опаснее, чтобы на их с Леной общем пути через обвалы в дни пурги почаще случались всякие страшные ситуации, требовавшие мужества и смелости.
Но пурга на другой день совсем сникла.
А через неделю в школе был вечер танцев. Как всегда, пришли нарядные гости – ученицы-соседи.
Районное начальство вообще-то не рекомендовало проводить такие вечера, на них, как излагалось в одном из рекомендательных писем, «в неофициальной обстановке неизбежны встречи разнополых школьников», а это «мешает подготовке подрастающего поколения к труду и обороне», ослабляет мужской дух (например, в школе номер девять) и способствует преждевременному появлению нездоровых женских склонностей (например, в школе номер десять). Петр Николаевич Андреев эти взгляды не разделял, встречи разнополых разрешал, в школе к вечерам танцев выпускались специальные стенные газеты, рисовались смешные карикатуры и лозунги, репетировались концерты…
А с некоторых пор, потеснив славу баяниста из «девятого-А» Миши Галкина, гвоздем вечеров стал школьный духовой оркестр!
– Вальс «На сопках Маньчжурии»! Соло на баритоне – Иван Кузин!
Вспыхнув восторгом, десятки юных лиц повернулись в оркестровый угол зала, где, уже поднятые музыкантами, блестели медные и серебряные трубы. «Михалка» же, объявив номер, повернулся к оркестру.
Сейчас он взмахнет рукой, и зал наполнится громкой и нежной музыкой.
Что в тех звуках?
Иная музыка человеческому сердцу прибавляет радости, иная печалит, иная вдруг пробуждает частицу необъятной памяти предков, и вместе с их памятью вдруг затревожатся в душе человека вековечные вопросы… Школьники всё свое в музыке услышат позже, через годы, а сейчас им просто хорошо и весело – как в красивой, доброй сказке!
Ваня Кузин играл наизусть, прикрыв глаза и чуть наклонившись вперед вместе с большим медным баритоном на коленях.
Старательно и легко кружили дам ученики старших классов; неловко выделывали танцевальные па школьники помоложе…
Ваня уже заканчивал свою партию, уже, готовясь взять на себя главное в вальсе, поднесли к губам медные мундштуки Витя Прашников (труба-1) и Коля Азарников (труба-2), когда альтист Вася Дорошкин, оторвавшись от пюпитра и мельком взглянув в зал, увидел сидевшую у стены в белом с синими горошками ситцевом платье Лену Васнецову. Смуглое лицо Лены раскраснелось, блестели, увлажнившись, большие черные глаза… – она зачарованно смотрела на Ваню Кузина, видела только его и слышала только баритон.
И совсем забыла о существовании Васи Дорошкина, который в это время, как попка, на «альтушке» поддакивал басу: «та-та», «та-та»!..
– В тот вечер, ваша честь, я поклялся научиться играть на баритоне. А еще я дал клятву никогда не иметь дело с женщинами.
Судья в очередной раз склонил голову над раскрытой папкой.
– Играть на баритоне ты, Василий Егорович, научился. Так?
– Так.
– Даже, кажется, играл на инструменте на школьных вечерах.
– Увы, не довелось. Я только очень хотел этого. Больше всего хотел сыграть соло в вальсе «На сопках Маньчжурии». Но кончилась школа, мы передали инструменты уже подготовленному «Михалкой» второму составу и разъехались – кто куда. Я – в Н-ский университет.
Судья полистал папку, потом, что-то подчеркнув карандашом в блокноте, лукаво прищурился:
– А вот клятву «не иметь дело с женщинами» ты не сдержал, Дорошкин. У меня много изобличающих тебя по этой статье документов.
На секунду он поднял над столом одну из папок – Дорошкин не успел разглядеть, была то папка «Жизнь» или «Грехи».
– Почитаем, например, – на столе появились мелким почерком исписанные листы бумаги, – ну, хотя бы вот этот эпизод. Длинновата, правда, историйка… – судья глянул на часы.
Дорошкин обиделся:
– Вы торопитесь, ваша честь?
Судья, подумав, коротко махнул рукой:
– Ладно, прочитаем историйку; она, кстати, не отвлечет нас от главной темы.
6.
В то лето тридцатилетний Дорошкин закончил работу над большим очерком и решил поехать отдохнуть – дикарем. Изучил карту юга страны, выбрал черноморское побережье на западе Одесской области – здесь длинная песчаная коса от места, где днестровский лиман, вдруг сузившись, впадал в море, на многие километры тянулась на запад.
Через два дня сошел с поезда в маленьком южном городе, который за свою историю поменял много имен, а теперь назывался Белгород-Днестровский. Остановился в гостинице, вечером пошел посмотреть древнюю крепость. Вдоль одной из крепостных стен к морю едва заметно плыл широкий лиман, на противоположном берегу зажигал огни поселок Овидиополь, в котором никогда не жил древний Овидий, но в это не хотелось верить, напротив, хотелось думать, что опальный римский поэт отбывал ссылку именно на том берегу днестровского лимана (почему-то же назвали поселок Овидиополем!), и о нем, Овидии, сидя вот на этой крепостной стене, думал когда-то Пушкин, приезжавший из Кишинева в Белгород-Днестровский, который тогда назывался Аккерманом.
На другой день утром Дорошкин был на пристани и садился на паром – огромную, чуть покачивавшуюся на воде платформу, во главе которой жизнерадостно тарахтел мотором ржавый катер. Через несколько минут катер издал низкий трубный звук, и паром поплыл вниз по лиману к приморскому поселку Бугаз. И с началом этого медленного путешествия Дорошкин забыл все московские неурядицы, его теперь волновало только огромное белое солнце, взобравшееся высоко в небо и припекавшее так, что почти все мужское население парома сбросило с себя рубахи и даже майки; волновала ширь лимана, по которой, устремив в небо серые паруса, в сопровождении стай ненасытных чаек медленно перемещались черные рыбацкие фелюги; волновал воздух, напоенный запахами подгнивших водорослей, огородов, садов и ароматами раскинувшихся вблизи берега сухих степей.
На пароме завтракали – хлебом, помидорами, брынзой, луком; дети ели яблоки, груши и огромные, запотевшие на влажном воздухе темно-синие сливы; мужчины иногда открывали пластмассовые канистры и разливали в стаканы сухое виноградное вино. Рядом с ними молодой лейтенант-артиллерист, в полной военной форме, что-то рассказывал кучке деревенских женщин, сидевших прямо на палубе рядом со своими прикрытыми полотенцами кошелками, – наверно, они плыли на Бугаз торговать.
Недалеко от Дорошкина на краю скамейки, у самого борта парома, читала книгу молодая женщина в легком платье и большой соломенной шляпе; ее плечи прикрывали густые черные волосы. Читала она невнимательно, часто опускала книгу на колени и, улыбаясь своим мыслям, подолгу рассматривала фелюги, чаек над водой и берега.
Они встретились взглядами, и на ее круглых щеках обозначились две очаровательные ямочки. (Наш герой об этой минуте через месяц напишет в дневнике: «…и меж нами поселилась понятная только нам двоим тайна»). А вскоре он уже сидел рядом с ней, знал, что зовут ее Наташей, и они говорили друг другу «ты».
Вблизи Дорошкин подробнее рассмотрел попутчицу. Ее серые широко расставленные большие глаза смотрели открыто, но при этом казалось, что где-то в их глубине постоянно пульсирует некая лукавинка; чуть-чуть сужавшееся к подбородку лицо, открытые солнцу плечи и руки Наташи уже хорошо загорели – тем загаром, который приобретается не столько разумным пребыванием на солнце или с помощью специальных кремов, сколько нормальным здоровьем смуглого от природы тела, когда это тело само берет от природы в нужном количестве то, что ему полезно. Наташа не была красавица (и рот ее показался Дорошкину великоват, и нос широковат у ноздрей, и родинка на гладкой шее была явно лишней), но она, как героиня античных мифов, была великолепно сложена!
Весело болтали два часа, пока паром тащился к морю. И – вместе сошли на берег.
Бугаз оказался небольшим поселком с железнодорожным вокзалом и маленьким базаром. Они купили на базаре буханку крестьянского белого хлеба, несколько больших красных помидоров, соленой домашней брынзы и большую бутылку сухого шабского вина. Сложили все в дорожную сумку Дорошкина и направились на песчаную косу.
Море в тот день было спокойным. Темно-синяя стихия медленно и почти бесшумно накатывалась на песчаный берег и так же медленно, уволакивая за собой ракушки и мелкую гальку, возвращалась в свое логово, чтобы через минуту снова напомнить о себе.
Они с жадностью кинулись в море.
На песке лежали десятки разомлевших от солнца тел, и они решили уйти от них.
И долго шли по берегу, а когда остановились, вокруг уже никого не было, солнце стояло в зените; рядом продолжала мелко волноваться, острым воздухом дышала голубая стихия, белыми барашками щекотала их голые лодыжки…
Наташа пальцами ног ковырнула мокрый песок, потом, громко засмеявшись, вдруг сбросила с себя купальник и, быстро пробежав мелководье, на мгновение скрылась под водой… Стоя по пояс в воде, умыла руками лицо, потом, не стесняясь наготы, вышла на берег и, упруго отталкиваясь от песка стройными ногами и поблескивая на солнце мокрой спиной, неторопливо пошла по кромке вспененной воды.
Дорошкин не мог оторвать глаз от ее высоких красивых ног; с неба, показалось, полилась музыка… «Не есть ли это одно и то же – музыка и то, что пробуждает в мужчине женщина?»
…Длинный жаркий день сменила темная ночь, когда, утомленные солнцем, морем и друг другом, они уснули прямо на песке. Ночь была теплой, и ничто не помешало им проспать до нового восхода солнца.
В середине следующего дня они покинули косу. Надеясь где-нибудь невдалеке отыскать погребок с кухней, пошли по узкой и кривой улице поселка.
– В этих местах, Наташа, мясо готовят на гратаре. Знаешь, что такое гратарь?
– Это… какое-то оружие?
– Гратарь – открытая маленькая печка, в ней горят древесные угли, а над углями укреплена решетка. Если баранье мясо с косточкой, заранее замаринованное (для этого годятся лук, помидоры, чеснок, разные перцы, вино, лимонный сок) положить на раскаленную решетку…
– Я сейчас начну грызть забор!
…Небольшой ресторан оказался в древнем подвале. Вниз вела лестница, сложенная из уже сросшегося гранями камня-ракушечника; камни почернели и заметно поистерлись – ноги не одного поколения любителей мяса, приготовленного на гратаре, прошли здесь по следам предшественников.
Внизу было прохладно, пахло сыростью и тем особым запахом мяса, когда его жарят на древесных углях. Сели за небольшой стол, оглядели стены подвала и висевшую на них старую крестьянскую утварь: хомуты, вилы, серпы…
– Первые камни в фундамент этого памятника древней культуры положили римляне в годы императора Трояна, – серьезно сообщил Дорошкин.
Наташа поддержала игру:
– Открыл таверну хитроумный грек, предки которого – конечно, из династии Одиссеев – приплыли сюда в лодке через Босфор.
– Не знаешь, сколько лет проработал здесь грек?
– Мало. Ушел на войну и погиб за свободу и независимость.
– Жаль, хорошее вино умел делать.
– Красное и белое.
– Сейчас мы попробуем… красное?
– Красное!
На маленькой сцене, что была рядом с буфетом, появились четверо, как видно, музыкантов. На них были легкие летние одежды. Они молча положили на стулья скрипку, гитару, флейту, позади стульев поставили цимбалы и бесшумно скрылись в каменной стене – в ней, оказывается, была еще одна, сразу не увиденная Дорошкиным, дверь.
Через полчаса официант принес коричневый керамический кувшинчик с вином и две, тоже керамические, тарелки, на которых лежали большие куски жареного свиного мяса. Костица, только что снятая с раскаленной решетки, еще пузырилась соком и жиром.
Дорошкин налил в бокалы вино. Пламя свечи, на медной ножке стоявшей посередине стола, едва заметно трепетало, и от этого красный цвет напитка в бокалах становился то гуще, то светлее.
– Счастья тебе, Наташа.
Бокалы прозвонили тихим серебристым звуком.
Музыканты вышли из той же двери в каменной стене, через которую они уходили несколько минут назад. На этот раз все были в черных, из грубого сукна, брюках, охваченных вверху широкими красными поясами, в белых рубашках с широкими рукавами и в темных, тоже из грубой ткани, жилетках, расшитых цветными толстыми нитками.
Пристроив к подбородку инструмент, скрипач поднял смычок…
И под каменными сводами зазвучала печальная музыка.
Дорошкин прикрыл глаза.
…По осенней, уже пожелтевшей степи, уже склонившемуся к земле завядшему разнотравью мчится, догоняя убегающее за горы солнце, беспокойный табор; до зеленых гор у белого горизонта слышна его многоголосая песня про волю и счастье быть вдвоем… но… только холодный серый пепел остался на месте потухшего у той поляны костра, и уже ничто не остановит резвых лошадей, не повернет назад время, не повторит улетевшие в небытие минуты счастья, не возвратит сердцу лукавую черноокую Замфиру… Пыльный след оседает к земле за укрытыми рваным брезентом кибитками, все дальше уходит табор, все тише песня…
«Это сочинил и на самодельной деревянной дудке сыграл (горам и овцам – других слушателей не было) одинокий пастух… Сколько веков прошло с того дня! Почему до сих пор это живо?»
Тихо переговариваясь, оркестранты уже несколько минут отдыхали, а Дорошкин продолжал думать о музыке.
«Чтобы объясниться с миром, человеку мало одних слов, ему надо что-то рассказать о себе еще и музыкой… Почему нельзя пересказать музыку? Есть в человеке (в душе? что такое душа?) нечто, может быть, самое человеческое, что не выражается словами. Словами можно обмануть, музыка простодушна… Музыка – о глубинном нечто, Бог этим выделил нас из остального живого мира»…
Вечером они прощались на перроне маленького вокзала. Наташа уезжала в Одессу, Дорошкин, проводив ее, должен был возвращаться в Белгород-Днестровский, в гостиницу. Весело болтали, пока ждали поезд, а когда он прибыл, когда Наташа поднялась в вагон и поезд уже заскользил вдоль перрона, Дорошкин, до той минуты вовсе не думавший делать это, вдруг схватился за поручни вагона, запрыгнул в еще открытые двери, и в тамбуре они пробыли вместе до следующей станции.
Глава четвертая Калейдоскоп
1.
В каменной стене скрипнула дверь.
– Слушаю, ваша честь.
Голос показался Дорошкину знакомым; он обернулся и, как и ожидал, увидел в дверях старшего, одетого, как и во время перелета, в черный плащ и серебристого цвета шапку-буденовку. Очевидно, и стражник узнал Василия Егоровича – встретив обращенный на него приветливый взгляд, он смягчил лицо и скромно улыбнулся.
Судья поднялся из-за стола и взял в руки шапочку-бескозырку.
– Отведете подсудимого в комнату отдыха. Режим – три.
– Будет исполнено, ваша честь, – старший щелкнул каблуками тяжелых ботинок и, подойдя к столу, положил на плечо Дорошкина большую теплую руку.
Шли по слабо освещенному каменному тоннелю. Через несколько минут остановились возле коричневой дубовой двери, которую стражник открыл большим ключом – он его уже давно держал в руках.
– Комната отдыха.
Старший внезапно исчез, а за переступившим порог Дорошкиным дверь медленно и тихо закрылась.
Апартамент был похож на обычный номер в средних европейских гостиницах.
Василий Егорович вдруг почувствовал себя сильно уставшим. Захотелось побыстрее раздеться, принять душ и лечь в кровать. Он так и поступил, и, укутавшись легким одеялом, тотчас же заснул, успев, однако, заметить, что бумага, прикрывавшая вентиляционную решетку в потолке, чуть подрагивает.
Через решетку, согласно режиму три, в комнату закачивался специальный газ.
2.
И увидел Дорошкин… сон? снятый скрытой камерой фильм? видения? Назови, читатель, изложенное ниже словом, какое тебе больше нравится (потому что совсем неважно, как мы это назовем), а мы ограничимся фразой «и увидел Дорошкин», разве что добавим: «будто в калейдоскопе»…
Из густой, но быстро светлеющей тьмы выплыла… маленькая тесная комнатка. В углу стопка старых лыж, на полках зеленые рюкзаки, спальники, на стене разноцветные карты, фотографии… Да ведь это же школьный клуб туристов! То самое помещение, которое он придумал тогда выгородить в коридоре! А вот и сам Василий Егорович (походив вдоль дальней стены, остановился возле угла, где лыжи); на нем легкая белая рубашка с закатанными рукавами, на глаза, прикрыв высокий лоб, падает сбитая набок черная челка.
– И Новый год мы встретим в горах! – встряхивается челка. – Поднявшись на перевал, мы увидим бескрайнее заснеженное пространство. Лес останется внизу, здесь он уже не растет, здесь – высокогорные луга, где летом – сочная трава, цветы, а сейчас – только снег, снег и снег. По просеке-серпантину на лыжах спустимся на одну из красивейших полонин Закарпатья – на полонину Драгобрат. У края леса стоит рубленый домик-приют, он почти не виден в сумерках…Утром проснемся, за окном приюта – совсем темно, а двугорбая вершина Близнецы уже блестит серебряным боком. Это будет утром в первый день Нового года; накануне вечером мы принесем в приют елку, она пахнет смолой, на ее ветках – настоящие, данные ей от рождения шишки…
«Неужели это мой голос?!»
Через распахнувшееся окно в комнатку вдруг врываются клубы серого тумана, все тонет в его густой массе, но вот туман рассеивается, и на пороге пропахшей сыростью и мышами комнаты («этот подвал, ваша честь, я за двадцать рублей снимал, когда учился на третьем курсе»), стоит… Мишка Плотный! («он же недавно умер…»). На нем, как тогда, в студенческие годы, бесцветный потертый френч и черные хлопчатобумажные брюки; улыбаясь, он пытается вытащить из кармана френча книгу, наконец, машет рукой и звонко («я помню и тот сборник Луговского, и твой голос, Мишка!») наизусть читает:
Так давай, как тогда… Не сдаваться, бороться, влюбляться порой В книгу, в музыку, в девушку, в пенный прибой, В звезды утра, что в бездне встают голубой…Сильный ветер с шумом вламывается в двери подвала.
Цепочка лыжников медленно по снегу продвигается к перевалу. К Дорошкину на лыжах подкатывается мальчик – как видно, из местных.
– На Драгобрат не пройдете, в лесу просеку завалило деревьями; недавно тут сильно дуло.
– А другой просеки к полонине нет?
– Есть. Через Великий Менчул.
Лыжной палкой мальчик нацеливается на вершину, что белеет слева.
– Далеко до Менчула?
– Километров семь.
Экран вдруг гаснет, но тотчас же светится многоцветными узорами, узоры, покружившись и несколько раз рассыпавшись, наконец, собираются в багровый лес.
Легкий шелест падающей листвы. Женский голос:
– Спи.
(«Это Зойка, ваша честь…»)
Мужской:
– С деревьев падают листья.
(«Это…», – «узнал, узнал, Дорошкин»)
– Спи.
– Деревья мешают мне.
– Спать? Ты выдумываешь.
– Выдумай и ты.
– Дарю тебе… осень.
Ветер с хрустом ломает, швыряет в небо сухие ветки деревьев. Дорошкин – в зеленой штормовке, лицо, укрытое черной бородой, раскраснелось на холоде – рубит топором упавшую елку. Сережка («это мой новый друг, ваша честь; как и я, рабочий-геолог»), присев на корточки, протягивает к костру задубеневшие на ветру ладони:
– Околеем за ночь.
Дорошкин бросает в костер охапку лапника:
– Осенью?
Ветер вырывает у костра красные языки, над головой – зеленое небо.
– Ночью пойдет снег.
– В тайге всё ещё осень…
Не выдержав порыв ветра, падает на снег огромный черный кедр.
Опять голос Мишки:
Мне ничего не надо. Я хочу Лишь права сказки, права распадаться На сотни мыслей, образов, сравнений, На миллион осмысленных вещей…Сгущаются сумерки; лыжи тонут в глубоком снегу; мороз ощупывает нос, пальцы ног, рук.
Тонкий голос («кажется, это Паша Ангелопол»):
– Дойдем до полонины?
– Будем идти, пока видна просека.
Через несколько минут лыжи упираются в ствол ели. Дорошкин с трудом различает впереди чистую площадку, но это, увы, не полонина Драгобрат.
– Ночевать будем здесь.
На снегу – костер. Трещат, стреляя искрами, смолистые дрова. На небольшой площадке на лыжных палках растянуты палатки. Двое пилят на дрова сухой ствол дерева.
Выплыв из облаков, луна повторяет себя в лениво отдыхающей после дневной жары реке. Над рекой туман. У кромки воды на вышке – силуэт Зойки. Подняла руки, сейчас прыгнет вниз.
Задрав голову вверх, смотрит на Зойку… судья.
Дорошкин дергает судью за рукав:
– Вчера ночью, ваша честь, я сочинил музыку.
Судья неохотно поворачивает к Дорошкину освещенное луной лицо:
– Да, да, Василий Егорович, это – главное.
3.
Висевшие над кроватью часы громкими ударами вернули Дорошкина в комнату отдыха. Ему еще хотелось поспать, но вошел старший и попросил поскорее собраться в обратный путь.
– В канцелярии нас ждут.
Глава пятая Последнее слово. грехи
1.
– Продолжим, Дорошкин…
Судья взял в руки лежавшую справа от него на столе черную папку, аккуратно завязанную толстыми красными тесемками.
– Здесь, Василий Егорович, твои грехи.
Кровь больно толкнула в затылок. «Неужели там все?».
Дорошкин знал за собой не один греховный поступок. Некоторые из них, слегка поволновав, со временем забывались; но были и такие, что жалящим укором то и дело всплывали в памяти. Когда умирал последний свидетель такого, тяжкого, греха, Дорошкин наивно надеялся, что теперь-то можно спокойно забыть о нем, никто не спросит. Но что-то внутри всю жизнь назойливо продолжало терзать душу.
«Сейчас, похоже, состоится увлекательный стриптиз».
– Там – все? – Василий Егорович поднял глаза, осторожно кивнул на черную папку.
Судья успокоил:
– Стриптиза не будет, Дорошкин. Грехи за тобой, конечно, числятся, но по их количеству и качеству ты, Василий Егорович, не в первых рядах.
– Да я и не претендую…
– Мы, – добавил судья, – пока не создали на земле такой порядок, чтобы человеку можно было жить без грехов. Грехи, увы, пока неизбежны.
– Вы правы, ваша честь, – охотно согласился Дорошкин.
Волнение его постепенно ослабевало, хотя виски все еще барабанили мелкой дробью.
Судья развязал черную папку.
2.
Разговор… неожиданно вернулся к началу: судья повторил уже знакомую Дорошкину сентенцию:
– Каждому человеку Верховной Силой определено Высшее Предназначение. Тебе, Дорошкин, как мы сегодня установили, не раз подсказывалось: твое Предназначение – музыка.
– Имеете в виду тот детский сон, духовой оркестр?
– Ты часто плакал, когда слушал музыку…
– Музыка, ваша честь, переносила меня в другой мир, этот мир был острее, откровеннее, ярче, чище повседневного. Это, конечно, фантазии; извините, что перебил вашу справедливую речь.
– Слезы были тебе еще одной подсказкой… Почему, Василий Егорович, ты не стал серьезно учиться музыке?
– В консерватории? Науки, которую нам преподал «Михалка», для консерватории было мало. А университет…
Судья сердито перебил:
– К Предназначенному надо идти, не теряя времени на второстепенное.
Василий Егорович (читатель, надеемся, помнит), в первый раз услышав от судьи о Предназначении, тогда побоялся сказать, что он по этому поводу думает. Но теперь, уже пообвыкнув в новой обстановке и несколько осмелев, решил своих убеждений больше не таить, хотя и не знал, для чего здесь и сейчас ему это нужно.
– Я, ваша честь, не верю, что некая потусторонняя Сила определяет Предназначение человека; не верю и в существование Верховной Силы (или как там она называется). Человек рождается зверем и на «зверском» уровне пребывает до тех пор, пока с помощью наук, искусств и полезной работы не поднимается с четверенек…
Судья снисходительно улыбнулся – так старшие выслушивают умствования еще незрелого, но уже заметно наглеющего подростка.
Дорошкин же продолжал храбриться:
– Допустим, ваша честь, что вы правы: человеку нечто Предназначено на роду. Но если Всевышний все видит и лучше всех знает, как должно быть, почему Он сразу не поставит всех на свои места? Почему так много людей всю жизнь заняты делом, которое не приносит им радости?
Судья вздохнул:
– Всевышний предназначает, но Он вовсе не требует, чтобы человек следовал предназначенному. Он только подсказывает, как лучше. Его подсказки – это, если хочешь, добрый совет. Всевышний дал людям право самим выстраивать свою судьбу, право самим свободно выбирать.
– Люди выбирают то, что полегче.
– Не все, Дорошкин, не все. Иначе на земле не было бы ни искусств, ни наук, ни хлеба, ни заводов. Многие, конечно, выбирают то, что полегче, а потом всю жизнь ноют и жалуются.
– И это – их Предназначение?
– Нет! Это их выбор. Предназначение Всевышнего требовало усилий, воли, энергии, может быть, жертв, но они предпочли жить спокойнее и ленивее…
– Всевышний, ваша честь, высоко, а моему поколению правила жизни устанавливало начальство, которое квартировало пониже. Строгим, между прочим, было начальство. В царской «тюрьме народов» в 1913 году за решеткой сидели 183 тысячи человек; а в «самой передовой в мире» стране к тому году, когда я учился на третьем курсе университета, на «островах» ГУЛАГа «перековывались» миллионы граждан!
От волнения вдруг забеспокоившего сердца последнее слово стало складываться плохо, речь Дорошкина будто запрыгала по каменистым порогам:
– Мизерная зарплата, ваша честь… после университета распределили на работу в сельскую школу… Тогда вообще любили распределять и посылать – на работу, на воскресники, на освоение целины, на стройки коммунизма, на трудные участки… несогласных посылали сами знаете куда… Шесть лет без квартиры… не на что купить то да се; детей кормить, одевать, учить надо… А с трибун заклинают: жить, товарищи, надо будущим, о себе думайте в последнюю очередь, в нашей лучшей стране все – лучшее!.. Государство, чтобы существовать, все время лгало… Жили с завязанными глазами, перепеленатыми ложью душам, только в последние годы вдруг обнаружили, что существовали во лжи, верили в ахинею, воспитали в себе противоестественные свойства, исказили себя. Эти обстоятельства…
Судья строго возразил:
– Обстоятельства, Василий Егорович, – не ровный гладкий автобан с указателями, куда надо ехать. Обстоятельства – это многократно возникающий перед человеком трудный экзамен: ответишь по билету – проходи на следующий курс, не ответишь – оставайся на второй год, а то и вообще всю жизнь топчись на месте или меняй место на более легкое, но не свое.
– Но мы, ваша честь, верили…
– Верили не все. Верили те, кому жить так было удобно: кто-то там думает и решает за нас, живем бедно, но с голода не пухнем, друг другу не завидуем, потому что все живем одинаково… – соблазнительный, скажу тебе, общественно-политический строй!
Поставил в блокноте птичку.
– Тебя, Василий Егорович, всю жизнь сильнее всего звала к себе музыка, но ты не захотел услышать Голос, потому что жить слабее тебе казалось удобнее.
3.
Из черной папки судья достал тетрадку, которую Дорошкин легко узнал, – он называл тетрадку дневником, хотя это и не был в строгом смысле дневник: тетрадка содержала заметки о некоторых современных событиях, а еще в ней были записаны кое-какие мысли и цитаты.
– Тебе, Дорошкин, многое в жизни казалось не таким, каким было на самом деле, – потому что ложным было общее понимание жизни (вы это называли мировоззрением).
Судья открыл страницу, на которой была сделана закладка.
– Прочитай помеченный абзац, – протянул через стол дневник, оставив, однако, в руке закладку, на которой Дорошкин успел прочитать сделанную шариковой ручкой надпись: «Смысл жизни».
Эту страницу Дорошкин хорошо помнил – на ней он когда-то размышлял о том, с чем человек подходит к своему последнему акту жизни:
«Если предположить, что существует некое Разумное Начало, которое все, что создает в природе, создает целесообразно, потом взаимно увязывает целесообразности в некую единую гармонию, то, наверно, мы вправе спросить у этого Разумного Начала: во имя чего в детстве, отрочестве, юности и т. д. прожитые годы добавляют человеку предопределенное природой количество клеток, усложняют человека духовно, делают его умнее, углубляют чувства, дарят новые интересы? Во имя какой целесообразности это делается? Для того, чтобы к последнему акту человек пришел потеряв все – здоровье, ум, интерес к жизни?.. Дети? Взрослые, надежно вставшие на ноги дети? Но они – уже другая жизнь, а твой удел – лишь достойно, без страха и паники, умирать? Природа же, как мудрый анестезиолог, еще и облегчит процесс – ослабит память, сузит интересы, мозг не взволнует сердце новой мыслью… Если предположить, что жизнь разумна, такой конец кажется нелогичным. Да, умирают клетки, медленнее работает ум, сужаются интересы, но все это должно же чем-то компенсироваться – естественные потери должны же заполняться чем-то не менее ценным – тем, что не было дано человеку в прежних актах жизни! Так чем же компенсируются потери?.. Ничем не компенсируются. Прожил человек жизнь – и ушел. И все. За спиной – новое поколение».
Подрагивавшей от волнения рукой Дорошкин вернул тетрадку судье.
«Что не так я подумал в тот вечер?»
– По-твоему, Василий Егорович, жизнь человека не имеет смысла – она замыкается в порочном круге, в ней, как путь белки в колесе, без конца повторяется все, что было всегда, и заканчивается, как всегда, ничем – смертью… Если искать смысл жизни там, где ищешь его ты, то так оно и есть. Но искать надо там, где этот смысл существует.
– Там? – Дорошкин поднял вверх указательный палец.
– Здесь! – сердито напомнил судья, после чего стал охотно (и даже, как показалось Дорошкину, излишне горячась) разъяснять, почему человеку здесь надо искать смысл жизни.
В его длинном монологе Дорошкин узнавал знакомые словосочетания (он когда-то пробовал читать книги философов-богословов): «вопрос о смысле – вопрос о Боге», «победа на кресте», «полнота жизни вечной», «отказ от собственной воли», «беззаветная отдача себя Богу», – но, как и раньше, он не понимал смысла тех слов, не понимал систему, в которую их выстраивал судья.
– Если человек, – закончил судья, – живет так, как ему написано на роду, он не думает о компенсациях, а к последнему акту подходит наполненным радостью от исполненного на земле Предназначения.
Дорошкин много раз видел, как люди уходили из жизни, но что-то ему не запомнился ни один из тех, кто бы, уходя, радовался.
4.
Судья открыл в дневнике еще одну страницу, поля ее были густо усеяны разноцветными вопросительными знаками.
– А вот эта запись, Василий Егорович, может быть, самая серьезная против тебя улика. Грех, о котором ты тут сам сознательно свидетельствуешь, по нашим меркам, самый тяжкий. Давай вспоминать…
Было время, когда Дорошкин жил… стихами. Стихи он всегда любил, часто читал их вслух (конечно, Пушкина, конечно, Блока…), но сам стихов до того времени не сочинял, считал себя к этому делу неспособным.
Стать поэтом заставили обстоятельства (а также, как потом признавался сам наш герой, «трусость, корысть и завышенное честолюбие»).
Однажды Василия Егоровича (жил он тогда с семьей в провинциальном городе С., преподавал в местной средней школе) пригласили в горком партии и попросили выполнить «важный социальный заказ» – написать… текст гимна города. Дорошкин стал было отказываться («нет у меня, товарищи, к этому таланта»), но когда «товарищи» пригрозили осложнениями «по партийной линии» и тут же в качестве пряника пообещали «скромное вознаграждение», Василий Егорович робко согласился: «попробую». И на другой день утром он уже сидел в приемной «первого» с рукописью гимна. Были в тех стихах и «трубы заводские» (в городе работали два завода – камышитовых плит и завод «Металлоизделий» – делал крышки к банкам, в которые закручивались овощи), и «чистый воздух», и «самое голубое небо» и, конечно, не раз упоминалась та общественная организация – «ум, честь и совесть», – благодаря которой жизнь в городе становилась все краше и краше.
Дорошкин стыдился написанного. Когда ночью, закончив сочинять гимн, он разбудил жену Светлану и, кривя рот, прочитал ей рукопись, та, выслушав, посоветовала: «Повесь, Дорошкин, свой опус на гвоздик в городской общественной уборной». Но когда муж робко намекнул на некоторую сумму, которую, возможно, его уже завтра попросят написать прописью, она перечитала гимн и, со свойственной всем женщинам гибкостью ума, смягчила оценку: «Не хуже, чем у Ж.» – назвала имя известного всей стране поэта-песенника, сборник стихов которого был в домашней библиотеке Дорошкиных. (Василий Егорович много раз выбрасывал его – в помойное ведро, через окно на улицу… – но какими-то неведомыми путями маленькая книжечка в твердом синем переплете всякий раз благополучно возвращалась на книжную полку).
Текст гимна в горкоме утвердили; баянисту дома культуры поручили сочинить музыку.
Жена Светлана за «сумму прописью» купила небольшую электрическую духовку.
На этом Василий Егорович свою карьеру поэта считал благополучно завершенной, но… После дня, когда «Гимн города С.» был исполнен на межрайонном слете ударников коммунистического труда, к поэту «заводских труб», «голубого неба» и «совести нашей эпохи» стали поступать «социальные заказы» из соседних районов – там, оказывается, тоже хотели иметь собственные гимны. Дорошкин добросовестно выполнил все заказы, за что, кроме нескольких почетных грамот, получил еще и «скромные вознаграждения», позволившие обзавестись в доме отечественной стиральной машиной.
И все это в биографии Дорошкина сохранилось бы только как семейный, предназначенный для узкого круга друзей анекдот, если бы… если бы «Гимн города С.», подобно предательски пущенной отравленной стреле, не поранил нашего героя в самое слабое и незащищенное место: к тому дню, когда Василий Егорович закончил сочинять последний «социальный заказ», он («приглушив стоны заметно сократившейся совести», – напишет Дорошкин в дневнике об этом периоде своей жизни) уже по своей воле рифмовал строки, которые охотно публиковали газеты, а стих «Рулевые нашего счастья» напечатал даже московский толстый ежемесячник.
– Мое, ваша честь, имя замелькало в журналах, сборниках… Приняли меня в Союз писателей, стали приглашать на «творческие» мероприятия, по удостоверению Союза я свободно проходил мимо дежурного в московский дом литераторов, мог заказать столик в писательском ресторане…
Однако, жить мне становилось все тоскливее. Все чаще стали вспоминаться школа (которую я, став писателем, конечно, бросил), мои ученики, наши туристские путешествия, самодеятельный театр… Стал я, ваша честь, потихоньку попивать; когда приезжал в Москву, с друзьями по перу бражничал в писательском ресторане…
Однажды в ресторане я увидел поэта-песенника Ж. – того самого, чья книжечка в синей обложке много лет назад (и, как оказалось, навечно) поселилась в моей библиотеке. Он сидел за столом в компании «инженеров человеческих душ» и громко витийствовал по поводу политического момента (было, ваша честь, время горбачевской «перестройки», а тогда о моменте говорили все). К той минуте я уже был хорош, но, прислушавшись, понял, что классик гнет чуждую мне линию. Захотелось внести в тот разговор ясность – я подошел к столу, где сидела компания, взял со стола наполненную коньяком рюмку поэта-песенника и… смачно плюнул в ту рюмку.
С того дня я стихов больше не писал.
Но надо было на что-то жить, и я вспомнил наш школьный оркестр, «Михалку», свою альтушку…
– С голоду не помрем, – сказал я жене Светлане, к тому дню от безденежья впавшей в депрессию.
И пошел наниматься на работу к Фимке Голованову.
Фимка в городе был человеком популярным. Он здесь родился, кончил школу, учился в ремесленном училище, но училища не закончил, потому что, во-первых, на втором курсе женился, во-вторых, побывав на практике на заводе «Металлоизделия», окончательно убедился в том, что делать что-то руками он совершенно не способен да и не хочет. К этому времени он, по его словам, уже «ощущал в себе сильный интеллектуальный зуд» (при этом Фимка честно добавлял: «направленный исключительно на удовлетворение личных материальных потребностей»), и «зуд» этот часто подводил Голованова к самому краю дозволенного законами. Фимка продавал украденные строителями пиловочник и горбыль; продавцам недвижимости находил «самых выгодных» покупателей; завел знакомства с одесскими «делашами» и армянскими «цеховиками», и с некоторых пор в магазинах города из-под прилавка можно было купить «заграничную» бижутерию, дамские мягкие сапожки, «французские» джинсы и даже «голландские» рубашки. Иногда «делаши» и «цеховики» сами приезжали к Фимке. В такие дни они вместе обедали в городском ресторане «Дружба» и сидевшие за соседними столами могли слышать, как гости в разговоре почтительно называли Фимку Ефимом Борисовичем.
Когда на исходе своей истории советская власть позволила открывать частные кооперативы, Фимка откупил у райисполкома подземный общественный туалет, вычистил его, обставил кое-какой мебелью и организовал там производство дешевых хозяйственных сумок, «заграничных» штанов и «антикварных» поделок из дерева. А когда государство повысило налоги и дело стало убыточным, Фимка бывший туалет продал заезжим кавказцам (которые вскоре открыли там ресторан с грузинской кухней – «У Лаврентия»), а сам организовал издание каких-то (как он говорил, «нужных народу») справочников, потом – рекламное бюро, потом – контору по продаже путевок на зарубежные курорты…
Ко дню, когда Дорошкин решил встретиться с местным «олигархом», у того уже был… собственный духовой оркестр – по словам самого Голованого, «со специфической целенаправленностью».
Год назад Фимка заключил договор с городским бюро ритуальных услуг – обязался: а) купить инструменты и создать играющий духовой оркестр; б) выполнять все заказы бюро; в) в будние дни обслуживать только похороны. Со своей стороны бюро обещало Фимке платить достойные деньги и не вмешиваться в его репертуарную политику (предполагалось, что в выходные дни оркестр будет играть и на стороне). Последняя запись в договоре оказалась лишней, потому что: а) поскольку музыкантов в городе не было, Фимка набрал в оркестр бывших своих сотрудников; б) публика эта музыкальную науку осваивала с трудом, хотя преподавателем был профессиональный музыкант – бывший капельмейстер военного духового оркестра (уволенный со службы за пьянство); в) через месяц оркестр мог играть только одну «вещь», но Фимка решил времени на расширение репертуара больше не тратить и пошел в бюро докладывать об успешном выполнении первого параграфа (после чего, согласно договора, должна была последовать выплата денежного аванса).
Оркестр «освоил» только похоронный марш Шопена. И хотя капельмейстер, мобилизовав весь свой многолетний опыт и педагогический потенциал (в особо тяжелые моменты не брезгуя и крепким словом), добился-таки, что оркестранты играли вроде бы точно по нотам и не фальшивили, интерпретация марша в их исполнении отличалась от традиционной (это была загадка, которую никто не мог объяснить): когда Фимкин оркестр исполнял Шопена, лица провожавших покойника в последний путь вдруг просветлялись, а мальчишки хором начинали петь:
Умер наш дядя, как жалко нам его, Он нам в наследство не оставил ничего…Но бюро аванс выплатило.
– Фимка, ваша честь, был лет на пятнадцать меня младше. До той встречи мы с ним не были знакомы, хотя до меня, конечно, доходили кое-какие разговоры в городе о фимкиных «капиталистических» успехах, а Голованый заочно знал меня как «известного поэта», «из стихов которого (позже признался мне) читал только напечатанный в районной газете «Гимн города С.». Поэтому принял он меня не холодно, но и без особого почтения. Тогда было время, когда все наши удачливые люди подозревали остальных не только в зависти (что отчасти было справедливо), но и в желании если не войти любым путем в долю, то хотя бы часть этой доли украсть.
С Фимкой мы встретились в коморке, выделенной оркестру в хилом домике, стоявшем в углу городского кладбища, – остальную часть домика занимало бюро ритуальных услуг. Расспросив о моем музыкальном прошлом, Фимка без восторга предложил:
– Есть у меня одна вакансия.
Я почему-то сразу догадался, какая это вакансия.
– Альт?
– Ага.
Мне тогда было все равно, на чем играть…
Так я, ваша честь, влился в коллектив, с которым у меня был общий интерес только к заключительной части наших мероприятий, – когда, отыграв Шопена, мы возвращались к себе в коморку и расставляли на столе бутылки.
– А теперь, Василий Егорович, вернемся к той записи в дневнике, – судья протянул Дорошкину документ с разноцветными вопросительными знаками на полях. – Прочитай.
Василий Егорович быстро пробежал глазами хорошо знакомые ему строки:
«Уже две недели, как я болею… Бесконечные пьянки, пустые разговоры, ежедневные похороны – все это привело к тому, что стал я как старый выеденный орех – оставалась только отравленная алкоголем оболочка, а душа опустела. Мне уже ничего не хотелось… Я стал думать, как поставить точку. Принять яд? Накинуть на шею петлю? Написал записку в оркестр, попросил: когда мой гроб станут опускать в землю, сыграйте мой любимый вальс «На сопках Маньчжурии» (к тому времени мы уже играли танцы). Записку не отправил, решил, что не сыграют, посчитают, что теперь-то уж мне все равно, а чтоб не удивлять собравшийся народ (я почему-то был убежден, что кой-какой народ на мои похороны все-таки придет), исполнят, как всегда, умер наш дядя…»
– Спасла меня жена. Вошла в комнату – нарядная, надушилась. «Зарегистрировала, говорит, фирму – сует мне под нос какие-то гербовые бумаги, – будем теперь записывать мемуары ветеранов войны. Назвала фирму «У Василия».
Я, всхлипнув (жалко стало Светку!), впервые за две недели улыбнулся:
– Лучше будет: «У Василия Ивановича, Петьки и Анки-пулеметчицы»!
Не ахти, конечно, какой был юмор, но в тот день я встал с постели.
А фирма «У Василия» не заработала ни рубля и через месяц закрылась – мало, ваша честь, ветеранов войны осталось в отечестве.
Судья забрал тетрадку из рук Дорошкина.
– Добровольно уходить из жизни – самый тяжелый грех.
Закрыл папку и аккуратно завязал тесемки.
Потом накрыл папку широкой ладонью:
– Ты, Василий Егорович, был второразрядным журналистом, второразрядным учителем, второразрядным поэтом, а мог бы быть первоклассным музыкантом – мы это хорошо знали.
Часы в это время мелодичными многократными ударами объявили о наступлении нового часа, и судья поднялся из-за стола.
– Времени у меня, Дорошкин, осталось только на то, чтобы написать тебе приговор.
Глава шестая Приговор
1.
Приговор оглашался в большом зале, похожем на концертный зал Московской консерватории (где в последние годы, приезжая в столицу, любил бывать наш герой: покупал билет в часто пустовавший задний ряд, садился в кресло и, закрыв глаза, слушал оркестр). Сцену закрывал ярко-синего цвета занавес, на нем золотом была вышита арка, напоминавшая ту, через которую Дорошкин вместе со стражниками утром входил в канцелярию Главного Суда; на просцениуме стояли укрытый голубым сукном небольшой стол и недалеко от него – жесткий стул, на котором, склонив голову к коленям, уже сидел подсудимый.
Зал был полон.
Трижды под потолком прозвучал колокол.
За столом на просцениуме появился судья.
Парадная одежда судьи почти не отличалась от той, в которой он выслушивал последнее слово Дорошкина. Только широкие рукава голубой мантии на этот раз были украшены широкими серебряными галунами, а черную шапочку, похожую на матросскую бескозырку, посередине увенчивал большой золотой помпон. Галуны и помпон ярко светились, исходившие от них лучи были заметнее лучей многочисленных прожекторов, освещавших зал.
Минуту назад в зале еще слышны были негромкие шепоты, нервные покашливания, но когда появился судья, наступила абсолютная тишина.
Судья открыл голубую папку.
…Его баритональный бас хорошо был слышен залу:
– А сейчас, господа, я покажу вам фотодокумент.
Погас свет, на верхнюю половину занавеса выплыл белый экран, на экране в маленьких валеночках на венском стуле на еще неокрепших и потому кривоватых ногах стоял черноглазый кудрявый мальчик. Целую минуту демонстрировалось это кривоногое существо, потом мальчик и экран исчезли, а в зале снова зажглись прожекторы.
– Таким Дорошкин был в раннем детстве. На обороте фотографии, господа, есть надпись, сделанная, как подтвердили наши эксперты, рукой отца Василия Егоровича, Егором Николаевичем Дорошкиным, – человеком, к словам которого можно отнестись с полным доверием.
Судья склонил голову к лежавшей перед ним пачке бумаги:
– «Вася уже ходит; походка у него степенная и, как мне кажется, ленивая. Позовешь его, конфету покажешь, другой бы со всех ног, кувырком бы побежал, а он подумает, поднимет ногу, сделает шаг, опять подумает… Совет тебе, Васька (на всю жизнь!): двигайся быстрее! Страна вон какие темпы набрала в коллективизации и индустриализации, скоро построим жизнь, когда у каждого в груди будет стучать счастливое сердце. Ленивые отстанут, а отстающих у нас, как учит товарищ Сталин, бьют»… Не стану, господа, заострять ваше внимание на политическом аспекте надписи, хочу только обратить внимание…
«Издалека начали, ваша честь», – не поднимая головы, под нос себе проворчал Дорошкин.
Ему не нравилось такое начало – не потому, что что-то делалось не так, ему не понравилось бы любое начало, потому что он ничего хорошего от Главного Суда не ждал и поэтому трусил.
«Зачем судья показал фотографию? Показал бы еще и мои детские пеленки… Какое это имеет отношение к тому, каков я сейчас? У человека за каждые две недели обновляется вся кровь. Сколько раз за жизнь обновились у меня и мозги, и характер… Понятно, судья по приказу Верховного шьет обвинительный приговор…»
Прошло несколько минут, в течение которых напряженную тишину зала нарушал только низкий голос судьи.
– Отец Дорошкина, полковник Красной армии…
«Зря теряем время, – продолжал сердиться Дорошкин. – Вместо того, чтобы побыстрее со всем покончить, судья, как садист, тянет резину… Что он рассказывает об отце?.. Отец, наверно, был убит в первые часы войны. Если попал в плен, его, командира, немцы все равно не пощадили… Наверно, перед смертью он что-то говорил мне, маме, но мы не слышали его, были далеко… Отец мною почти забылся – еще один мой тяжкий грех…»
– Мать Дорошкина, Людмила Петровна…
«Что он знает о маме? Факты, факты… Факты – не главное… Главное – невидимая пуповина (общая кровь?), которая всю жизнь связывает родных людей, позволяет им понимать друг друга на расстоянии, без слов».
На минуту Дорошкин все же прислушался к словам Приговора.
И неожиданно вспомнил… тоже факт.
В начале войны Людмила Петровна Дорошкина и ее два малолетних сына жили в небольшом белорусском городе (полковник Дорошкин был уже на границе). «Мне, – мог бы рассказать сейчас Василий Егорович, – девять лет, в лунные ночи, разбуженный сиреной воздушной тревоги раньше, чем мамой, выхожу, укутанный в одеяло, на крыльцо дома и вижу длинные яркие стрелы военных прожекторов – они ищут в небе немцев, прилетевших сбросить на наш город бомбы. Замечаю один самолет, вижу спускающийся на белых парашютах десант. Диверсанты уйдут в леса (сколько раз мы ходили в эти леса по грибы, ягоды!), и если я им попадусь… Но я думаю не об этом! Знакомый нашей семьи, друг отца, небольшой районный начальник, сейчас – командир истребительного отряда, вылавливает в лесах немецких парашютистов. До меня доходят разговоры, что фашисты наступают и отряд нашего друга сам скоро уйдет в леса – партизанить. И мне хочется одного – уйти вместе с отрядом! Командир, узнав от меня об этом желании, повесил мне на плечо сумку с противогазом и коротко приказал: «Жди!». И я терпеливо ждал – до того дня, когда мы с мамой и братом, собрав кое-какие вещички, чуть ли не на ходу запрыгнули в последний уходивший на восток товарняк».
– …Дорошкин, господа, был трижды женат…
Эти слова ненадолго вернули Василия Егоровича в зал, но уже через минуту перед его глазами опять замелькали картины пережитого – то ясные, как хорошо сохранившиеся фотографии, то с трудом узнаваемые – будто прикрытые густым матовым туманом. Иногда, лишь на миг остановленные сознанием, долетали фразы из Приговора: «никого не предал…», «школьный оркестр», «стал жертвой обстоятельств…», «не врал, но…», «не изжитое простодушие…», «лживая идеология…», «был доверчив, даже…», «не исполнил главного…»
2.
И, наконец, зал услышал:
– …на основании… во исполнение воли…
Сейчас судья скажет главные слова.
Дорошкин поднял голову. Не видя зала, обреченно всмотрелся сквозь ряды.
Оторвавшись от бумаг, судья на несколько секунд задержался на лице Дорошкина, потом голосом, в котором для этой минуты баритональный бас подкрепился заметной дозой звонкого металла, произнес:
– Учитывая – Милость – Божью, приговаривается…
И в этот миг вдруг исчезли судья, стул с Дорошкиным, стол с голубой скатертью; голубой занавес медленно скатался вверх, свет в зале погас, а на ярко освещенной сцене…
На ярко освещенной сцене в строгих концертных костюмах сидели артисты огромного духового оркестра! В их руках под лучами сильных прожекторов блестели инструменты – басы, баритоны, теноры, альты, корнеты, флейты, валторны, разные гобои, кларнеты, разного вида саксофоны, фаготы, смычковый контрабас и даже арфа.
Но не на инструменты и не на одетых в белоснежное оркестрантов обратил сейчас главное внимание зал. Посреди оркестра, выдвинувшись вперед, почти к тому месту, где еще недавно закрывал сцену занавес, с ярко начищенным медным баритоном на коленях сидел Василий Егорович Дорошкин!
Широкая красная шелковая лента густым бантом обвязывала накрахмаленный белый воротник рубашки. Черный фрак охватывал стройную талию, почти касался фалдами устеленного голубым ковром пола. Лицо было чисто побрито, на скулах, как бывало в юности, алел румянец, смело смотрели в зал глаза. Дорошкин часто притрагивался губами к мундштуку инструмента, а, отстранившись от мундштука, улыбался залу.
Оркестранты время от времени поправляли в руках инструменты, но невидимый залу дирижер медлил с решающей командой.
Отставив баритон на одно колено, Дорошкин вдруг стал внимательно всматриваться в кресла первого ряда. Протер пальцем заслезившиеся от напряжения глаза, прищурился, все еще не веря увиденному… И вот – узнал! всех! В первом ряду зала были… мама, отец, брат, жена Светлана, Мишка Плотный, Ваня Кузин! В смуглой девочке легко угадалась совсем не изменившаяся Лена Васнецова, а из кресел слева внимательно смотрели на сцену Петр Николаевич Андреев и «Михалка» в очках. В конце зала бесшумно открылась входная дверь; в летнем наряде, том самом, что был на ней тогда, на днестровском пароме, в зал вошла, скромно села в кресло… Наташа!
Будто колотушка барабана, громко застучало сердце.
В это время из-под высокого потолка торжественно, как при открытии важного парада, прозвучало:
– Вальс «На сопках Маньчжурии»! Соло на баритоне – Василий Дорошкин!
Давным-давно (читатель, наверно, помнит) Дорошкин тяжело переживал, что ему тогда выпало играть на второстепенном инструменте. А через годы, очевидно, в минуту очередной тревоги совести, он записал в дневнике: «Конечно, скучно было бы всю жизнь играть на альтушке, но имел ли я тогда право на главные инструменты? Что я в ту пору знал о жизни? Что мог рассказать даже баритоном? Мог, не фальшивя, воспроизвести звуки, обозначенные в нотах, но это были бы холостые звуки, потому что наполнить их мне тогда еще было нечем».
Сейчас за плечами Дорошкина была длинная, разная и непростая, жизнь, и ни один в мире баритон, наверно, никогда еще не звучал в оркестре так, как в те минуты.
После «Сопок…» были и марши, и фокстроты, и танго, и, конечно, опять вальсы – «Амурские волны», «Дунайские волны»… – все пьесы репертуара маленького оркестра, когда-то выпестованного «Михалкой».
Не отрываясь от баритона, Дорошкин будто слышал знакомый голос:
– piano… pianissimo, мальчики, здесь – нежно…
– forto! Убрать сурдинки!
– fortissimo! – тут, ребята, как команда «в атаку!»
Когда, раздвигая звуками стены зала, гремел марш «Прощание славянки», «Михалка» – Дорошкин, скосив глаза в зал, видел его, – снял очки и поднес к глазам белый платок.
«Вы не ошиблись тогда, маэстро, у меня и вправду – абсолютный слух!»
Конец






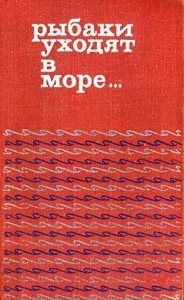

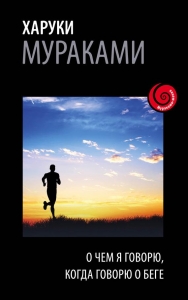
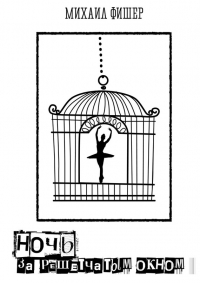


Комментарии к книге «Соло на баритоне», Виктор Григорьевич Казаков
Всего 0 комментариев