Патрик Бессон Закат семьи Брабанов
Посвящается Ришару Дюкоссе
~~~
1
Роман, который вы держите в руках, любой французский читатель — даже не удосужившийся прочитать одну-две страницы — сходу отнес бы к жанру семейного. «Закат семьи Брабанов» (в подлиннике «Les Braban», «Семья Брабан») легко и органично становится в бесконечный ряд семейных эпопей, в течение всего уходящего столетия убедительно продемонстрировавших нам блеск и нищету этого жанра: «Семья Тибо», «Семья Паскье», «Семья Буссардель», «Семья Эйглетьер»… Начиная с «Ругон-Маккаров» Эмиля Золя «ячейка общества» виделась французским романистам идеальной моделью всего общества, ибо в ней, как в лабораторной пробирке, на простейшем, почти одноклеточном уровне, читатель мог разглядеть все, что, с точки зрения традиционной реалистической поэтики, находилось в сфере его интересов: социальную иерархию, состояние нравов, соприкосновение и взаимодействие характеров, конфликт идей и мнений.
Впрочем, обо всем по порядку. Романное повествование искони отождествлялось с «рассказыванием историй», причем таких, которые, с одной стороны, побуждали бы читателя делать определенные выводы, и, следовательно, были бы наделены максимальной степенью жизнеподобия, с другой — присутствием конфликта, неординарной фабулы и захватывающего сюжета провоцировали бы его, читателя, интерес — интерес к развитию событий, к судьбе персонажей, к оценке их поведения автором, наконец (ради последней, собственно, и создавался любой классический роман, особенно семейный). Развитие сюжета и разрешение конфликта и в литературе, и в реальности требует времени, потому и вырастали, как на дрожжах, многотомные эпопеи, эпизод за эпизодом, день за днем, абзац за абзацем кропотливо воссоздававшие жизнь героя или группы героев на протяжении десятилетий. Потому и была уготована прозаику роль летописца, хроникера, несущего «зеркало романа» по «дорогам жизни» и бесстрастным взглядом демиурга озирающего орбиты, по которым движется им же измышленный мир. Жизнеподобие требовало детализации, и персонажи обретали «носы с красными прожилками» и «серебряные пуговицы на штанах», над которыми впоследствии вдоволь поехидничали Натали Саррот и прочие «новые романисты». Настоящий, добротно, то есть сделанный по рецептам мастеров-классиков роман был невозможен без мелочного бытоописания, а быт, как известно, засасывает, и теряющийся в мнимоправдоподобных пейзажах и интерьерах, диалогах и ситуациях читатель поневоле отбрасывал книгу, находя ее скучной и перекочевывая из библиотеки в кинотеатр или к телеэкрану.
Семья куда более консервативна и закрыта для внешних влияний, нежели общество в целом. Не потому ли семейный роман куда дольше прочих романных жанров сопротивлялся любой новизне, тем более привносимой откуда-то извне, из жизненной сумятицы, вечно стремившейся перечеркнуть литературную традицию? Не только читатель, но и сам писатель, засасываемый трясиной тщательно отбираемого житейского материала, начинал скучать и осознавать, что теряет время: скажем, даже такому могикану семейного романа, как Филипп Эриа, понадобилось целых три десятилетия, чтобы завершить четырехтомную «Семью Буссардель». Как и любое замкнутое сообщество, семья стремится к автаркии, к самодостаточности, и потому любой семейный роман можно прочесть как энциклопедию литературных клише и общих мест, пускай и поданных автором под иным (по сравнение с предшественниками) углом зрения. Даже произведения таких мэтров, как Роже Мартен дю Гар, Анри Труайя или Эрве Базен не вполне свободны от этого почти неизбежного недостатка: родился, рос, влюбился, женился — из чего еще состоит семейное бытие? На фоне медлительного произрастания генеалогического древа все прочее, происходящее вне рамок семьи, в окружающей действительности, поневоле начинает казаться призрачным и мимолетным. Короче, семейный роман «буржуазен» — не в социологическом смысле этого термина, а в смысле большей, по сравнению с иными жанрами, патриархальности и тяги к условностям. Во французской литературе XX века до сих пор были явственны три варианта решения этой проблемы: во-первых, закрыть на условности глаза или даже возвести их в абсолют (не в этом ли секрет успеха масскульта вообще и «мыльных опер» в частности?), во-вторых, попытаться слегка модифицировать жанровые клише, не изменяя, однако, их сути (именно так и поступали все вышеперечисленные классики вплоть до Базена), в-третьих, отказаться от условностей напрочь — а, значит, и расстаться с самим жанром. Патрик Бессон выбрал четвертый путь: он блистательно продемонстрировал условность условностей, создав семейный роман о крахе семьи.
2
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Тезис, с равной степенью доказательности подтвержденный и русскими, и французскими романистами. Так и хочется добавить: «Все смешалось в доме Брабанов…»
Между тем, знакомство с этим семейным кланом на первых порах оставляет двойственное впечатление. Вроде бы, все, как положено, «как у людей»: отец — рассудительный отставной военный, дающий уроки йоги опять-таки отставным полицейским и посещающий редакцию «Летр де ла Насьон», ностальгически вздыхающий по временам де Голля и готовый часами анализировать политическую обстановку на островах Тонга; мать — вполне порядочная женщина, без устали напоминающая о своем воспитании в швейцарском пансионе и объясняющая недостаток страсти к своему мужу тем, что тот ест чересчур много сырого лука. Сарказм Бессона, язвительно нанизывающего все эти детали одна на другую — от нелепых уроков йоги до пугающе-правдоподобного запаха сырого лука, — на первый взгляд, лишь подчеркивает заурядность, буржуазность воссоздаваемой им семейной идиллии: бытие целиком состоит из быта, поглощающего индивидуальность, деформирующего ее, обращающего в карикатуру. Так и хочется повторить пламенную инвективу Андре Жида: «Семьи! Я ненавижу вас!»
Однако нормальная, даже слишком нормальная семья на поверку оказывается ящиком Пандоры, сгустком разрушения, безумия и патологии. Благообразно собравшись в День взятия Бастилии у телевизора, Брабаны с плохо скрываемым волнением следят за трансляцией выступления президента, тревожась по поводу традиционной праздничной амнистии, которая может вернуть свободу их приемышу Бенито. Дело не только в самом Бенито, прошедшем путь от отрубания хвостов питбулям до изнасилования собственной матери; да и на страницах романа этот персонаж присутствует заочно, от случая к случаю напоминая о своем существовании цитатами и воспоминаниями родственников. Дело, скорее, в том, что на детях природа отдыхает, в том числе и на приемных, и именно судьба Бенито, «нежного и сентиментального азиата», проторившего дорогу в дом Брабанов для Стюарта Коллена, таит тот сгусток разрушительной энергии, которому предстоит вдребезги разнести мнимую идиллию.
Печать неотвратимой семейной катастрофы лежит не только на приемыше Бенито, но и на остальных отпрысках семейства Брабанов — дочери, от лица которой ведется повествование, и, конечно же, на маленьком Бобе, слишком позднем ребенке, дальнейшая судьба которого задана неутешительным осознанием того факта, что его отец «много старше других отцов». Героиня-повествовательница, которая вплоть до последних страниц романа никак не могла определиться со своей половой принадлежностью и сексуальной ориентацией, вместо имени предпочитает представляться по фамилии, и это отстранение — бесполое «Брабан», возникающее, когда она (или он?) появляется в обществе, лишний раз подчеркивает «ненормальную нормальность» всего многострадального семейства.
Неудивительно, что Синеситта, старший ребенок в семье, давно уже перестав быть ребенком, по-прежнему живет с родителями. Подчеркнутый рационализм этой героини ничуть не мешает ей броситься навстречу гибели, олицетворяемой бесшабашным, бесчувственным и беспринципным прожигателем жизни Стюартом Колленом. Отставного разведчика Брабана-старшего может прикончить прослушивание полного собрания сочинений Моцарта, его супруге для ухода из жизни достаточно известия о том, что зять гол как сокол и собирается жить на средства жены, Синеситту же убивает любовь. Стерильная душа старой девы из благополучного семейства («В ее жизни ничего не происходило и вряд ли в этом была ее вина»), так и не нашедшей к тридцати шести годам мужа (якобы потому, что Синеситта всю жизнь ездила на одном автобусе и одной линии экспресс-метро с матерью!), двадцать лет не спавшей с мужчиной и просто «уставшей быть блондинкой» при появлении Коллена срабатывает как детонатор, и призрачный покой семейного очага Брабанов, восстановленный после ареста Бенито, разлетается в клочья. «Я люблю этого человека так, как никого не любила. А это не трудно, ведь раньше я вообще никого не любила,» — с обезоруживающей откровенностью признается героиня. И в это трудно не поверить. Вспомним, что ее дебют во «взрослой» жизни стал итогом сговора двух семейств: когда на настойчивые просьбы посетить заболевшего от любви к ней Ивана Глозера Синеситта ответила: «Я не люблю его», в ответ прозвучало повелительное родительское: «Тогда обмани его». Стюарт — единственное острое ощущение за всю жизнь Синеситты, заполненную буднично-бытовой шелухой и книжками «Франс-Луазир», и, как устами младшей из Брабанов отмечает всевидящий автор, «если бы Стюарт не был чудовищем, она не полюбила бы его, что было бы еще хуже выпавшей ей судьбы».
В чем секрет парадоксального сочетания заурядности и патологии, воплощенного Бессоном в семье Брабанов? «Мои родители не просто умели лгать, они обожали это делать,» — отвечает на этот вопрос безымянная двуполая повествовательница. Профессиональная привычка бывшего разведчика? Форма самозащиты его спутницы жизни, мнимой воспитанницы швейцарского пансиона? Не только. Солгать — значит сохранить хрупкое спокойствие внутри семьи, в доме, где во избежание эксцессов на окнах установлены решетки, где домочадцы радуются, что их сын и брат покамест сидит в тюрьме, а не у семейного очага, где жизнь познается по книжкам «Франс-Луазир». «У Брабанов ничего не объясняют, но все чувствуют,» — глубокомысленно замечает рассказчица. Между реальностью и благопристойностью, между тем, что люди видят, и тем, что они должны увидеть, такая же граница, как и между нормой и патологическим отклонением от нее. Одно не может существовать без другого, и аномальность членов рядовой буржуазной семьи и создаваемых ими ситуаций лишь подчеркивает их тривиальность.
Даже Бенито и двуполая рассказчица-художница с ее «периодом сгнивших цветов» и «периодом мертвых лошадей» — персонажи, которые в любом произведении, построенном по законам жанра, выглядели бы как заспиртованные уродцы в кунсткамере, — среди отпрысков семейства Брабанов смотрятся вполне органично. Бенито, которого из-за его крайней жестокости отвергли и военно-воздушные войска, и принимающий в свои ряды отребье со всего мира Иностранный легион, разругавшись с заключенными в тюрьме, неожиданно берется за перо, чтобы весь отпущенный ему срок присутствовать на страницах романа со своими эпатажными по форме, но вполне резонерскими по духу комментариями. Первоначально в его планы входит лишь объяснительное письмо приемным родителям, и тюремному священнику приходится исправлять орфографические ошибки в его писаниях. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и из полусумасшедшего заключенного годы делают модного писателя, властителя дум, популярного интеллектуала, раздающего интервью налево и направо. Образ приемного Брабана-сына несет несколько функций: коль скоро Бенито — усыновленный ребенок, к тому же азиат (стало быть, ребенок вдвойне), а именно дети вносят в дом Брабанов дух разрушения и катастрофы, цепочка постигших семейство несчастий должна начаться именно с него. Кроме того, Бенито-писатель — довольно злой шарж на обобщенного левого интеллигента, умника и модника, посвящающего свою первую книгу «Ад мне лжет» целому сонму знаменитостей — от историка Холокоста Леона Полякова до создателя эпистемологии Мишеля Фуко. Обращение в христианство и облачение в сутану — тоже карнавальное действо, делающее еще более поучительным финал этой карикатурной судьбы: даже принятие духовного сана и обретение статуса властителя дум не мешают полу-Брабану вернуться на круги своя, к тому, с чего он начинал, — к отрубленному собачьему хвосту.
3
Там, где другим литераторам понадобились многотомные эпопеи, Патрик Бессон обошелся одним небольшим романом, заплатив за это отказом от нормативной поэтики жанра, а местами — и ее остроумным пародированием. Кстати, именно в юморе наиболее явственно проявляется сила автора «Семьи Брабан» как повествователя, рассказчика «историй». Палитра комического в романе поразительно широка — от непроглядно-черного юмора до убаюкивающе-мягкой иронии.
Еще интереснее композиционная структура «Семьи Брабан». Семейный роман всегда тяготел к линейному повествованию, неизбежные отступления от этого канона строго дозировались и сопровождались массой пояснений. У Бессона же описываемые события рассматриваются и в перспективе, и в ретроспективе: момент, когда наконец-таки определившаяся с половой принадлежностью и вышедшая замуж за Ивана Глозера рассказчица берется за перо, вообще отнесен в будущее — куда-то в 2056 год, до которого нам, читателям, еще довольно далеко, а хроника краха добропорядочного состоятельного семейства восстанавливается Брабан-художницей фрагментарно, по крупицам, часто с чужих слов, благодаря информации, почерпнутой из разных источников и обильно сдобренной цитатами из произведений Бенито. Мощная динамика повествования ни в коем случае не означает его прямолинейного, поступательного развития, тем более, что о неминуемой катастрофе дома Брабанов мы узнаем чуть ли не с первых страниц книги, и нам остается только познакомиться с обстоятельствами этой катастрофы.
Скорость, с которой развивается сюжет, специфически выстроенная фабула (ряд смертей и угасание рода), обилие особого рода деталей (от оторванной головы англичанки, с которой пытается не расстаться Стюарт, до точного подсчета ударов, нанесенных им же дочерям от первого брака) заставляют говорить об этом романе как о романе-триллере. Действие, действие и еще раз действие — пусть даже остающееся за скобками или не удостоенное авторского комментария. Несомненно, это роднит «Семью Брабан» с массовой литературой, однако не настолько, чтобы причислять роман Бессона именно к ней. Не будем забывать о сугубо французской литературной традиции — от бутафорских кровопусканий маркиза де Сада и философии «немотивированного поступка» Андре Жида и его героя Лафкадио до Камю и Жене. Жестокость, преступление, убийство, патология, тщательно выписанные и заботливо упакованные в рамки едва ли не самого невинного и патриархального жанра, отнюдь не противопоказаны «серьезной» литературе и не являются непременным атрибутом масскульта. Захватывающий сюжет, строящийся на динамичном действии с криминальной подоплекой, вовсе не обязательно читать как очередную версию голливудского кинематографического «экшн», благо есть еще и французский литературный «аксьон», ничуть не отличающийся от него в латинской транскрипции, зато исполненный чисто галльского остроумия и изящества. Эта традиция особенно актуальна для французских романистов последнего десятилетия, нисколько не брезгующих криминальными сюжетами и шокирующими сценами.
Между прочим, вписанный в чужеродные жанровые рамки триллер становится еще более захватывающим: обстоятельное жизнеподобие семейного романа сообщает сюжету дополнительное ускорение.
4
Ломка жанровых канонов была бы неполной, если бы ограничилась только стенами дома Брабанов. В конце концов, какой добротный семейный роман обходится без пресловутой «социальной среды», функция которой, если верить традиционной поэтике, в том и состоит, чтобы предопределять поступки персонажей, придавать их действиям определенную мотивацию? Не будем забывать, что классический роман — это хроника нравов, не более и не менее.
И тут впору схватиться за голову и посетовать на эти самые нравы, равно как и на породившие их времена. История упадка дома Брабанов сопровождается и иллюстрируется еще двумя семейными сагами, выписанными пунктирно, но четко. Семьи Колленов и Глозеров при всем различии между собой обнаруживают поразительное сходство с Брабанами. Все три клана внешне добропорядочны, социально адаптированы и материально обеспечены, все три испытывают определенные проблемы с отпрысками, на которых, как мы уже убедились, природа отдыхает, все три готовы идти на сомнительные сделки с совестью и правосудием ради сохранения и поддержания общественного статуса и незапятнанной репутации. Чем лучше или хуже Брабанов чета Глозеров, с маниакальной настойчивостью не останавливающаяся ни перед чем, устраивающая семейное счастье своего сына, бисексуала-плейбоя Ивана? Или Коллен-старший, от избытка отцовской любви даже на смертном одре пытающийся избавить своего сына от порочных наклонностей не менее порочными средствами — организованными при помощи спецслужб заказными убийствами?
Немного о Коллене-младшем. Это чудовище, ломающее человеческие судьбы, словно спички, хладнокровно убивающее первую жену и обеих дочерей, а затем методично стремящееся загнать в могилу Синеситту и ее детей, на самом деле является наименее загадочным персонажем романа. «Сложные люди предпочитают любить людей простых, а нет ничего более простого, чем ровное, голое место,» — констатирует наблюдательная рассказчица. Эта пустота, собственно, и составляющая содержание души Стюарта, судорожно пытается заполнить себя самое чем угодно — ресторанными яствами, выклянченными деньгами, соблазненными женщинами, сломанными судьбами. Поглощая все и вся вокруг, Стюарт обезоруживает своих жертв откровенностью — ему нечего скрывать, поскольку ничего, кроме оголенного, беззастенчивого желания, у него нет. Его смерть — итог его же собственной ненасытности и ненасытимости, и, если взять на себя смелость вымысла, то можно предположить, что при отсутствии достойной добычи Коллен имел все шансы уничтожить себя самого.
Прочие персонажи — рожденные на задворках Европы белокурые манекенщицы, экзальтированная кинозвезда, богемный гомосексуалист, — не менее аномальны, хотя порою более сложны. Впрочем, что может быть более чуждым среднему семейному роману, чем столичная богема, по большей части чурающаяся семейных уз? Паноптикум носителей душевных и сексуальных девиаций, кучка удачливых, но пресыщенных жизнью бездельников также изображена язвительно и пародийно. Однако Бессон не уничтожает ни одного своего персонажа до конца: правда характера — залог его жизнеспособности, да и вряд ли писатель на исходе второго тысячелетия имеет полное право однозначно осуждать сотворенного им же самим героя. Зато мифы светской хроники и бульварного чтива о «красивой жизни», клиповое разноцветье индустрии развлечений и масс-медиа оказываются объектами осмеяния и разоблачения, выдержанных в той же стилистике, что и они сами. Не слишком умная, мягко говоря, кино-дива Кармен Эрлебом, путающая явь со съемками, ненароком признается: «Я не часто смеюсь». Тридцатилетняя модель из Исландии Вуаэль (возраст, более чем критический для подиума или фотостудии) озабочена поиском мужа, вся функция которого, скорее всего, будет сводиться к тому, чтобы скрасить ее угасание и стать бесплатным приложением к заботливо припасенным для беспечальной старости сбережениям. Иван Глозер, похоже, весь состоит из сексуальных проблем: прочное положение в бизнесе — еще не повод для уверенности в том, что можно надеяться на взаимность, даже со стороны восточноевропейских манекенщиц или преподавателей гимнастики. Наконец, сама польская манекенщица Марина Кузневич. При ее характеристике не обойтись без цитаты из Бенито: «Женщины из Центральной Европы, купающиеся в деньгах, чувствуют себя грязными».
Но роман Бессона — не только летопись упадка буржуазной семьи или сатира на парижскую богему, совокупляющуюся и уходящую из жизни одинаково вяло и бессмысленно. Все-таки это роман о любви, о ее всесокрушающих парадоксах: «Если вы будете любить меня просто так, то ваша любовь может исчезнуть в любой момент по любой причине, а если вы будете любить меня за мои деньги, то ваша любовь будет продолжаться до тех пор, пока они у меня не кончатся». Или еще: «Изменить тому, кого не любишь, — нереально, потому что, когда мужчину не любишь, его просто бросаешь». Список бессоновских афоризмов можно продолжить, но их объединяет одно ощущение жизни, одна идея, красной нитью проходящая через все повествование: мир непредсказуем, готовые рецепты судеб и чувств отсутствуют, грани между диаметрально противоположными состояниями и понятиями — фантомы нашего рассудка, не способного ни обуздать эмоции, ни подменить их.
5
Мир «Семьи Брабан» непредсказуем, и точно так же непредсказуем его создатель Патрик Бессон.
Бессон родился в 1956 году в Париже, а дебютировал в 1974 г. двумя повестями сразу, причем и «Любовные страдания», и «Я столько могу рассказать» немедля были оценены по достоинству: достаточно заметить, что пробу пера восемнадцатилетнего прозаика сравнивали с фурором, произведенным в литературе начала века Раймоном Радиге. Безукоризненный стиль — вот что объединяет все произведения, написанные Бессоном на сегодняшний день. Это рассказы, романы, повести, эссе, пьесы, и всего их более сорока. Варьируются жанры, формы, стилистические доминанты, но их блистательное воплощение остается неизменным. Будь то трогательный дневник обретшей первую любовь отроческой пары («Дом одинокого молодого человека», 1986), забавный конфликт двух американских евреев-коммунистов, пришедшийся аккурат на времена маккартизма («Юлий и Исаак», 1992), детективная история о мужчине, инфицированном СПИДом и сознательно заражающем этой болезнью женщин, рассказанная в манере «грязного реализма», если не неонатурализма («Богатая женщина», 1993), или замаскированное под расследование повествование о судьбе югославской эмигрантки («Дара», 1985), Бессон всюду неподражаем в своей точности, ироничности, парадоксальности, в рано обретенном и осознанном мастерстве.
У Бессона сегодня не только целый набор литературных премий, но и стойкая репутация литератора, независимого в мнениях и оценках, способного одновременно публиковаться в правой «Фигаро» и в левой «Юманите», да еще высказывать неординарные, хотя и небеспристрастные (у писателя есть югославские корни) суждения о недавней войне в Югославии. Неангажированность и непредсказуемость заставляют критиков возводить литературную родословную Бессона к поколению «гусаров», незадолго до его рождения (в начале 50-х) покусившихся на незыблемый авторитет левых интеллектуалов в лице Сартра памфлетом Жака Лорана «Поль и Жан-Поль» и поставивших под сомнение черно-белую идеологическую оценку итогов второй мировой войны романом Роже Нимье «Голубой гусар». Отечественные литературоведы времен социализма «гусаров» не жаловали, однако нельзя не отдать должное этим литераторам, ныне уже увенчанным лаврами Академии: уходом от ложной многозначительности и запрограммированной политической конъюнктурой глубины они оживили литературный процесс, а их эксперименты с традиционной реалистической поэтикой, не означавшие, однако, ее полного отрицания, дали новый импульс развитию романного жанра, причем, пожалуй, не меньший, нежели куда более радикальные искания «нового» и «нового нового романа».
…«Новый гусар» Бессон, балансирующий между традицией и нетрадиционностью, триллером и семейным романом, иронией и сарказмом, предстает перед русскоязычным читателем во всей своей непредсказуемости. Остается только открыть книгу на первой странице и закрыть ее на последней.
Константин Михеев1
В этот предвечерний час городок Карл-Маркс выглядел издалека оранжевым. Я возвращалась домой первой, особенно с тех пор, как Бенито посадили в тюрьму Флёри-Мерожи. Суд присяжных приговорил его к пяти годам заключения. Мы бы предпочли, чтобы дали больше, особенно мама.
В моей комнате на втором этаже, раньше принадлежавшей моему брату Бенито, которую после его ареста мы отремонтировали, продезинфицировали, а священник из Бобиньи освятил ее, лежали новая коробка с красками, подаренная мне папой на Рождество, несколько игрушек Боба и боевой цеп Бенито — единственное оружие, которое нам удалось спасти во время обыска. Из окна я видела нашу вишню, улицу Руже-де-Лиля[1] и особняк Глозеров. Предвечерняя тишина казалась прозрачной и игристой, напоминая шампанское, которое пьют во время свадеб или дней рождения.
Мой отец возвращался из редакции журнала «Летр де ла Насьон» где-то через час после меня — кроме вторников, когда он давал уроки йоги отставным полицейским. Он заезжал за покупками в супермаркет и по пути забирал Боба из яслей. Припарковав у дома «Пежо 106», папа относил пакеты с продуктами на кухню, возвращался к машине, поднимал Боба, с трудом выпрямляясь из-за радикулита, — он утверждал, что заработал его потому, что они с мамой редко занимались любовью, а мама, оправдываясь, заявляла, что он ест слишком много сырого лука, — и, задрав голову, нежно и робко улыбался мне.
Мама и Синеситта возвращались домой вместе, так как обе работали в парижском квартале Мадлен. Каждый день они ездили на одном автобусе и одной линии экспресс-метро. Мама говорила, что по этой причине моя сестра в тридцать шесть лет все еще не нашла себе мужа. Синеситта семь месяцев прожила одна в комнатушке («однокомнатной квартире», если придерживаться точного термина в контракте о найме) на Больших бульварах, приезжая домой на выходные. Она купила подержанный «Фиат», чтобы, возвращаясь в Париж поздно вечером по воскресеньям, не бояться, что на нее нападут хулиганы из Карл-Маркса. Затем стала уезжать на работу в понедельник утром прямо из дома, оставляя машину во дворе и садясь вместе с мамой в пригородный автобус. Возвратившись в понедельник вечером, чтобы забрать машину, она обычно оставалась на ужин, засиживалась допоздна и решала переночевать в своей бывшей комнате; во вторник все повторялось, а через несколько дней наступали выходные. В конце концов Синеситта предпочла снова жить вместе с нами, а папа занялся ее комнатушкой: расторгнул контракт о найме и перевез в наш дом кое-что из колченогой подержанной мебели, которой сестра обзавелась на улице Ришелье.
Рост Синеситты был метр восемьдесят три. Бенито мечтал о том, чтобы она стала манекенщицей и он сопровождал бы ее в кругосветных путешествиях. Когда он рассказал ей о своем плане, она, смерив его ошеломленным и нежным взглядом раненой антилопы, заявила, что работа бухгалтера ее вполне устраивает и она не собирается ее менять. Все же моя сестра отличалась строгой красотой, которая произвела бы фурор в женских журналах. Ее карие глаза выражали легкую грусть по поводу того, что они не голубые. В те редкие моменты, когда она улыбалась (а моя сестра почти никогда не улыбалась), за ее розовыми полными губами открывались ровные белые зубы, которые она чистила каждый раз после еды и с которых каждый год снимала камни; зубы, которых ни разу не коснулся сигаретный дым; зубы, не подвергавшиеся воздействию алкоголя — юношеские и сияющие — и за которые, как мне казалось, можно было ее полюбить. Нежные уши с продетыми в них крошечными бриллиантиками прятались под спокойными волнами волос. Синеситта относилась к тем женщинам, которые, устав быть блондинками, после тридцати лет перекрашиваются в шатенок. По мнению мамы, у нее не было талии. Но разве этим можно объяснить, почему Синеситта не нашла мужа? Она одевалась как бухгалтерша или, скорее, как бухгалтер. Ее кокетство заключалось в обуви. У нее были зеленые туфли с золотыми заклепками и красные со стразами. Второй ее страстью, насколько мы знали, был белый шоколад.
Наша семья, как и многие другие, любила лето, но с тех пор, как Бенито попал в тюрьму, мы со все возрастающей тревогой ожидали приближения каждого 14 июля[2]. Борясь с этим чувством, мама погружалась в изучение каталогов морских круизов, взятых в туристических агентствах; папа стирал и гладил все белье, попадавшееся ему под руку; Синеситта утраивала ежедневную дозу белого шоколада; я рисовала днем и ночью — это был мой период мертвых лошадей, за которым последовал период сгнивших цветов, — а Боб, кстати, никогда не видевший Бенито, так как родился через несколько недель после его заключения, спал дольше, чем обычно, словно испытывая потребность от чего-то укрыться во сне; днем же орал по неизвестной причине до тех пор, пока кто-нибудь из нас — чаще всего мама — не брал его на руки и не уносил на прогулку в сад.
Ночь с 13-го на 14-е мы проводили в молчании, оцепенении, разбредясь по разным углам дома, но мысленно прижавшись друг к другу. А в это время все вокруг развлекались: одни мчались на мотоциклах или мопедах на бал, другие поджигали петарды на улицах Руже-де-Лиля, Поля-Вайян-Кутюрье или Луи Одрю. Наше беспокойство достигало апогея на следующий день во время военного парада, который мы смотрели по телевизору. Мы заключали абсурдные пари. Если президент улыбнется премьер-министру до того, как мы сосчитаем до пяти, Бенито отпустят. Если президент заговорит с мэром Парижа до того, как они подойдут к Политехнической школе, наш брат останется в тюрьме. Если мэр Парижа почешет нос — или, быстро добавляла моя мать, пригладит волосы ладонью, — президент помилует Бенито только в будущем году.
В ужасном настроении мы съедали изысканный обед, который папа, терзаемый бессонницей, с маниакальным старанием готовил ночью (устрицы в мускате «Бом-де-Вениз», суфле из крабов под соусом из моллюсков или цыпленок в шампанском с жареными шампиньонами), затем, храня молчание, слушали пресс-конференцию президента. В комнате слышалось только дыхание Боба. Казалось, что он старается дышать как можно тише. Когда президент, наконец, начинал перечислять бесстрастным и скучным голосом — так как его это, конечно же, не увлекало — список помилованных: мелких правонарушителей, проштрафившихся профсоюзных деятелей или злостных неплательщиков налогов, — мы обменивались взглядами, не решаясь вздохнуть с облегчением. Но как только президент с видом добропорядочного и рассудительного человека присоединялся к своим гостям, участвующим в приеме под открытым небом, мы выключали телевизор и с оптимизмом начинали обсуждать интервью, прекрасно зная, что Бенито был не мелким правонарушителем или проштрафившимся профсоюзным деятелем, а крупным парижским бандитом, который никогда не работал, не платил налогов и ни разу за всю свою сознательную жизнь не располагал законно полученными деньгами. В последующие дни мы старались меньше двигаться и говорить из страха потревожить ангела-хранителя всех извращенцев или языческую богиню — хромую и психованную девицу, которую Посейдон и Афродита зачали втайне от Гефеста и которая защищала Бенито и, может быть, все еще защищает, где бы он сейчас ни находился. Если в конце месяца у нас не было никаких известий от мэтра Друэ, это означало, что мы выиграли и что наш брат будет освобожден не раньше следующего года. Чтобы отметить это событие, мы устраивали праздник, назвав его «днем начала каникул», но наши гости, особенно те, кто имел возможность познакомиться и пообщаться с Бенито в период между его двадцатидвухлетием — возрастом, когда он, по словам папы, свихнулся — и его арестом на стадионе Парк-де-Пренс четырнадцать лет спустя, знали, что именно мы отмечаем.
Синеситта подавала приглашенным блюда и напитки, как всегда скованная, улыбающаяся и мечтательная. Солнечные зайчики скользили по ее платью то в одном, то в другом направлении, словно им больше нечем было заняться. Моя сестра всегда излучала какое-то необычное сияние — сверхъестественное, почти божественное. Когда кто-нибудь из мужчин приглашал ее танцевать, она согласно кивала, ставила блюдо или бутылку на стол и решительно становилась перед своим партнером. Рок, танго или пасодобль — она все танцевала с натужной старательностью, словно изучала для французского, итальянского или бельгийского суда счета тулонского филиала банка «Лионский кредит». Когда музыка заканчивалась, Синеситта благодарила своего партнера самой безликой улыбкой из своего арсенала обескураживающих гримас и, словно ничего не произошло, возвращалась к своим обязанностям. А в самом деле, разве что-то произошло? Вот что было самое странное: в ее жизни ничего не происходило, и вряд ли в этом была ее вина. Словно какие-то неземные силы уготовили ей роль девушки, с которой ничего не происходит, превратили ее в стену равнодушия, о которую разбивались и умирали безответные чувства; в перекресток, где ничего не пересекается; в пикник без музыки, на который никто не явился, так как музыкантов и гостей забыли предупредить о том, где он будет проходить.
2
Папа намазывал вафли эмментальским сыром, а мама пыталась отделить кость от окорока, который накануне принесла с работы, когда у входа в сад появился какой-то мужчина. Вначале мы испугались, что это Бенито, но потом увидели, что незнакомец не похож на него. Мой брат был небольшого роста, темноволосый, поджарый и мускулистый, тридцати восьми лет, а мужчина — высокий блондин с дряблым телом и вихляющей походкой — выглядел лет на пятьдесят. Он оглядел моих родителей с каким-то молчаливым вызовом. Я почувствовала, что мама сжалилась над ним. Жалость — основная черта ее характера, которая иногда заводила ее так далеко, что она была не способна полюбить человека, если не находила в нем ничего, достойного жалости. Синеситту она любила за то, что та была одинока, моего отца — за то, что он был старым, Боба — за его беззащитность. Во мне ей не нравилось все, особенно то, что я рисовала, но она выкручивалась, жалея меня как нелюбимого ребенка, и при помощи этой уловки все-таки умудрялась меня любить.
— Это дом Брабанов? — спросил мужчина.
Я подумала, что если бы на нем была кепка, он бы снял ее сухим, резким, злобным жестом.
— Да, — ответила мама, любившая говорить «да» так же, как Синеситта — «нет».
Это «да» было круглым, слащавым и теплым, как поцелуй, который посылают порту Марсель с мостика корабля, отплывающего в Измир или Александрию.
— Я сидел в тюрьме с вашим сыном Бенито, — сказал мужчина. — Он попросил меня зайти к вам, когда я выйду. Я — один из помилованных ко дню Бастилии.
— Мелкое преступление? — участливо поинтересовался папа.
— Неуплата налогов, — ответил мужчина, униженно и стыдливо опустив голову, что понравилось всей семье, кроме Синеситты, находившейся в тот момент на кухне.
Мама предложила ему войти, и незнакомец принял приглашение с неестественно важным видом, словно желая показать, что вполне осознает, какую честь ему оказывают, какое проявляют милосердие, и как он благодарен за это полнейшее отсутствие предрассудков по отношению к бывшему заключенному.
Калитка открылась со своим обычным скрипом, который теперь, много лет спустя, кажется мне неприветливым и удрученным. Мужчина вошел в сад, принюхиваясь к дому и его обитателям, как тигр принюхивается к свежему мясу. Он поднял голову, посмотрел на синее небо с явной жаждой славы и с какой-то фривольностью прикоснулся к стволу вишни. Заметив мой подозрительный взгляд, он поспешно отдернул руку.
— Это чей день рождения? — спросил он.
— Ничей, — ответил папа. — Мы, как и каждый год, отмечаем наш отъезд в отпуск.
Мои родители не просто умели лгать, они обожали это делать. От них невозможно было узнать правду. Папа долгое время утверждал, что его дед был кузнецом, пока я не обнаружила в мемуарах генерала Гольени, что Виктор-Эмманюэль Брабан (1812–1901) заседал в Государственном совете. Мама уверяла, что была медсестрой французского экспедиционного корпуса в Индокитае, где и встретила папу. Однако папа оспаривал эту версию, утверждая, что они впервые увиделись на вокзале в Шамони, когда работали организаторами горного отдыха пенсионеров. Когда у папы появлялась любовница, а у мамы — любовник, что в свое время случалось часто, им ни разу не удавалось подловить друг друга, настолько тщательно каждый из них фабриковал свое алиби. Может, именно из-за этого Бенито сошел с ума; и не потому ли моя сестра в тридцать шесть лет так и не нашла себе мужа, что слишком много слышала в доме лжи?
По приглашению мамы мужчина сел. Несмотря на его черные брюки со стрелками, как у подвыпившего продавца хотдогов, и бежевую куртку небогатого «черноногого»[3], в нем сохранилось что-то от того человека, кто до тюрьмы был бизнесменом с розовыми щеками, напомаженными волосами и слишком толстым задом, не умещавшимся на табурете в пивной на площади Терн, с оттопыренными карманами пиджака, потерявшими форму из-за счетов ресторанов и такси. Тюрьма высушила его и избавила от жира, — «Тюрьма — это учреждение по отсасыванию жира», — признается он мне позднее, во время одного из своих многочисленных приступов нежности к самому себе, в то время как моя сестра будет психически агонизировать в соседней комнате, — но его жесты и улыбка сохранили слащавость и искренность, которые когда-то соблазняли кредиторов. Он со взволнованным видом гурмана смочил губы в аперитиве, предложенным ему папой. Мои родители обожали спаивать гостей, так как не могли представить, что кто-то может сказать правду до того, как напьется или подвергнется пыткам.
— Шесть месяцев не брал в рот ни капли спиртного, — сказал мужчина. — Даже забыл, как это бывает холодно в стакане и тепло в животе.
Он с удовольствием вытянул ноги и выплеснул на землю остаток «Рикара».
— Этот стакан хорош, но я боюсь следующего.
— Понимаю, — заметила мама.
Самой большой маминой страстью, не считая жалости к людям, было желание их понимать. День, когда она никого не поняла, был для нее потерянным, особенно в том случае, если ей не удалось никого пожалеть.
Мужчина поинтересовался, почему на окнах третьего этажа установлены решетки, а на окнах первого — нет. Неужели грабители в нашем предместье летают на вертолетах?
— Бенито прыгал с третьего этажа, а не с первого, — объяснил папа.
— Это было в то время, когда он хотел завербоваться в парашютисты, — добавила мама.
— Но Совет офицеров посчитал его слишком жестоким и посоветовал завербоваться в Иностранный легион.
— В Легионе его продержали три дня и демобилизовали. По их мнению, его место было в психушке.
— Никто не собирался помещать нашего сына в психушку.
— Через несколько месяцев это все-таки пришлось сделать. Он пробыл там десять недель. В тот день, когда его выпустили, он приехал повидаться с нами. Это было 12 августа 1978 года.
Мужчина, поворачивая голову то в сторону моего отца, то в сторону матери в зависимости от того, кто говорил, был похож на зрителя Ролана Гарроса[4] — зрителя без гроша в кармане, но тем не менее сохранившего спесь «лидера», который когда-то имел свою ложу, зарезервированную на год.
— Мы провели вместе всего минут пятнадцать, но это было ужасно, — вздохнул папа.
— Я знаю вашу историю во всех подробностях, — сказал мужчина.
Мамины глаза от стыда затуманились слезами.
— Ваш сын сожалеет о своем поступке, — произнес мужчина. — И просит прощения. Сейчас он пишет письмо с извинениями. Он сказал мне, что пошлет его в конце лета, когда священник исправит в нем орфографические ошибки.
— Он видится со священником? — удивилась мама.
— Священник — единственный человек, который навещает его. Бенито переругался со всей тюрьмой, кроме меня.
Последнее уточнение должно было нас насторожить, но оно показалось нам доказательством того, что у бывшего бизнесмена доброе сердце; хотя нам следовало сказать себе, что коль он единственный во всей тюрьме, с кем Бенито поддерживал хорошие отношения, то это как раз означало, что у него нет сердца.
— Бенито знает, что просит слишком многого, но он хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас проведал его. Он мечтает, чтобы это были вы, мадам. Увы, ему кажется, что это невозможно!
— Невозможно, — подтвердила мама.
— Я тоже не слишком горю желанием навещать его, — сказал папа, хмуро разглядывая под полуденным солнцем свои голые ноги в матерчатых тапках и трогая через хлопчатобумажную рубашку шрам, который оставил нож моего брата на его груди.
Шестнадцать лет назад Бенито целился отцу в сердце, но, будучи левшой, второпях ошибся стороной.
Синеситта, наконец, вышла из кухни, неся поднос с тостами, намазанными икрой пинатора[5]. Она поставила его на стол и спросила у гостя, кто он. Друг Бенито, ответил мужчина. Она сказала, что у Бенито нет друзей. Мужчина заверил ее, что Бенито в тюрьме изменился. Она поинтересовалась, знал ли месье ее брата до тюрьмы. Он ответил, что нет. В таком случае, заявила Синеситта, как он может знать, изменила тюрьма Бенито или нет? Мужчина, побежденный, опустил голову. Я иногда говорила себе, что если бы мужчины были львами, Синеситта великолепно могла бы их укрощать. Она спросила, как его зовут. Он сообщил, что его зовут Стюарт, Стюарт Коллен. Распространяя вокруг себя невероятной силы ударную волну, последствия которой я не перестаю ощущать, моя сестра пригласила его на наш маленький праздник.
3
До сих пор в жизни моей сестры было трое мужчин, двое из которых, по ее мнению, оказались лишними. Хватило бы и одного. Незадача заключалась в том, что она не знала, кого именно. Первым был Иван. Они дружили с подготовительного класса до шестого. Я не знала Ивана в детстве, так как еще не появилась на свет, но мне о нем много рассказывали, особенно мама. Маленький, белокурый, мечтательный мальчик с большими серыми глазами. Позднее фотографии Ивана в зрелом возрасте часто появлялись в экономической прессе, так как до пенсии он руководил международной сетью крупных отелей. Иван был сыном Глозеров. Каждое утро он заходил за Бенито и Синеситтой, чтобы вместе идти в школу, находившуюся в трехстах метрах от нашего дома. В то время Бенито только приехал из Чиангмая (Таиланд). Он был робким и ласковым ребенком, экзотическая и спокойная красота которого очаровала весь квартал. Иван стал его лучшим другом, и, поскольку мальчики всегда влюбляются в сестер лучших друзей, особенно в семилетнем возрасте, влюбился в Синеситту. И написал ей письмо. Она прочитала его несколько раз, не понимая, о чем идет речь. У нее не было никакой склонности ни к любви, ни вообще к чему бы то ни было. Письмо ее даже не взволновало. Единственное, что заботило Синеситту по возвращении из школы — как бы поскорее приступить к домашним заданиям. Если она заканчивала их до ужина, то открывала книжку из «Розовой библиотеки», считая, что это чтение для ее возраста. Позднее она перешла к «Зеленой библиотеке», потом к коллекции «Красное и золотое», а став взрослой, старательно прочитывала по две книги, которые клуб «Франс-Луазир» присылал ей каждый месяц, и поэтому ей не приходилось покупать их самой в книжном магазине. Она читала, полагая, что это необходимо. И читала главным образом то, что читали все, будучи убежденной, что если все что-то читают, значит это что-то полезно всем. После ужина она принимала ванну и, поцеловав родителей, убегала к себе в комнату, ложилась в постель и сразу засыпала. Бенито же с наслаждением продолжал сидеть на коленях у мамы, которая показывала ему фотографии нашей семьи, рассказывала какую-нибудь старую австрийскую легенду или молча гладила по голове, не подозревая, чем закончится эта нежная идиллия.
Только раз в день Синеситта проявляла оригинальность, приводя в порядок свой пенал под обеспокоенным взглядом Бенито, который видел в этом, как он написал в своей первой книге «Ад мне лжет», признак разлада и ненормальности в нашей семье. Она начинала заниматься своим пеналом перед приходом Ивана, и это продолжалось так долго, что оба мальчика часто уходили в школу одни, оставляя расстроенную Синеситту со своими резинками и ручками. Чего-то недоставало или что-то было лишним, но она не могла решить, что именно. Синеситта была уверена, — хотя за все школьные годы этого ни разу не случилось, — что, увидев ее пенал, преподавательница накричит на нее и даже выгонит из класса. В конце концов она закрывала пенал и укладывала его в портфель, чтобы тут же вынуть и убедиться в том, что ничего не забыла. Она снова выкладывала пенал на стол, начинала плакать, но услышав торопливые шаги матери со стороны кухни, запихивала все назад, неслась по лестнице и бежала вдогонку за мальчиками.
Синеситта дала брату письмо Ивана, как дают резиновую игрушку пуделю, чтобы тот поиграл с ней. Бенито прочел послание и понял его смысл, так как в то время был нежным и сентиментальным азиатом, всякий раз благодарившим небо за то, что нашел новую семью, усыновившую его. Первая — чета испанцев, — глава которой работал инженером в шведской телефонной компании «Эриксон», — погибла в авиакатастрофе над Куала-Лумпуром. Бенито показал письмо маме, которая показала его папе, и когда на следующий день, в среду, Иван появился в дверях нашего дома, чтобы поиграть с моими братом и сестрой, вся семья, кроме Синеситты, была в курсе его чувств.
Прошло несколько месяцев, в течение которых ребенок, видя безразличие Синеситты, хирел, отказывался, когда был у нас, от шоколада и тартинок с маслом, дома съедал на обед лишь неспелый банан, а в школьной столовой отдавал свою порцию говядины по-бургундски с картофельным пюре Бенито, который был безмерно счастлив побыстрее набраться сил, чтобы расстаться с детством и опустошить всю землю. Когда наш маленький сосед заболел, Синеситта, казавшаяся огорченной, заявила, что Ивану следовало бы побольше есть, иначе он перестанет расти, затем закрылась в своей комнате, чтобы, как представлял Бенито, без конца вертеть свой пенал, точить карандаши, чистить резинки, укладывать ручки, выворачивать все обратно на стол и начинать сначала.
Состояние Ивана ухудшалось. К Глозерам то и дело приезжали специалисты, все более именитые, на все более дорогих машинах. Мама, посовещавшись с папой и Бенито, который участвовал в то время в семейных советах, пока не стал все чаще отсутствовать и не превратился в единственную тему для разговоров, приняла решение поговорить с Синеситтой. Как-то в среду, в июне, когда предсмертная тишина царила на улице Руже-де-Лиля и даже листва на деревьях казалась свернувшейся и застывшей, словно в ожидании траура, мама поднялась на второй этаж и постучала в комнату моей сестры, что каждый раз требовало от нее усилия, так как Синеситта или не отвечала, или говорила, что занята и, следовательно, не может открыть, или добавляла, что если мама хочет ее чему-то научить, то может сделать это во время обеда. По общему мнению, это был тяжкий период в истории отношений между мамой и Синеситтой, и, без сомнения, он затянулся бы надолго, если бы характер Бенито не превратился в сплошной кошмар, вынудив Брабанов первого поколения — урожденных Брабанов — прижаться друг к другу, объединив свои силы в борьбе против тайской Горгоны, азиатского Аргуса, каковым отныне, казалось, хотел стать наш брат.
Мама в тот день вела переговоры минут двадцать, заявив в итоге, что для Ивана это вопрос жизни или смерти. Наконец Синеситта решилась впустить ее в комнату, где царил монашеский порядок. Только пресловутый пенал на письменном столе портил всю картину.
Мама сказала, что Иван болен. Синеситта ответила, что знает об этом и жалеет его, но она не врач.
— Причина его болезни в том, — объяснила мама, — что он влюблен в молодую девушку, но не знает, любит ли она его.
— Он мог бы ее об этом спросить, — сказала моя сестра.
— Он спросил, но она не поняла вопроса.
— Пусть задаст его еще раз.
— Может, он боится, что она ответит «нет». Девушка, в которую он влюблен, это ты.
Синеситта приложила указательный и средний пальцы левой руки ко лбу — жест, который она делала будучи взрослой, когда колебалась между двумя парами обуви, просматривала папину квитанцию о налогах («За уроки йоги ты получаешь зарплату, гонорар или ничего?») или разговаривала по телефону с мужчиной, который хотел пригласить ее на уик-энд в Нуармутье или в Монако, а Синеситта желала одного: пойти с ним в кино (она вечно не успевала посмотреть все фильмы), а затем съесть ванильное мороженое с орехами на Елисейских полях. Она бросила взгляд на свои лакированные туфельки отличницы, плиссированную юбку прилежной ученицы, выглаженные рукава белой блузки девочки-чистюли и сказала без особого волнения, что она не девушка, а маленькая девочка. Кстати, в книгах «Розовой библиотеки» не было любовных историй и, насколько она знала, их не было и в «Зеленой библиотеке». Любовь начиналась в серии «Красное и золотое» с историй Сисси и «Ночей принцев» Кесселя, а эти книги предназначались для старших — по меньшей мере, от двенадцати до тринадцати лет.
— Вопрос в том, — сказала мама, — готова ли ты спасти чью-либо жизнь.
Она поняла, что не стоило давить на женское начало Синеситты, которое развивалось у нее очень медленно и закончило свое развитие катастрофой со Стюартом Колленом, и поэтому воззвала к ее качествам скаута, так как, не любя никого, Синеситта была вынуждена любить всех, иначе она сочла бы себя монстром.
— Что я должна сделать? — спросила Синеситта резким тоном, означавшим, что она решила уступить.
— Повидать Ивана.
— Ладно, увижу, и что я ему скажу?
— Что хочешь.
— Я ничего не хочу ему говорить.
— Скажи, что ты его любишь.
— Но я его не люблю.
— Тогда обмани его.
Мама произнесла эту фразу, если верить такому надежному свидетелю, как Бенито, узнавшему об этой сцене от самой мамы, — хотя я не пожелаю ни одному генеральному прокурору иметь его свидетелем защиты или обвинения в процессе об убийстве, — с улыбкой победительницы, увидевшей, наконец, в том факте, что можно спасти человеческую жизнь с помощью лжи, оправдание фальсификациям, вымыслам, недоговоркам и фантазиям.
— Врать — плохо, — отрезала Синеситта.
Взгляд мамы стал темнеть, переходя от легкой голубизны Кикладских островов до темной синевы Черного моря в районе Босфора, что являлось у нее признаком крайнего раздражения.
— Кто тебе это вбил в голову? — спросила она или, вернее, зарычала, словно львица в африканской саванне, видящая, как у нее на глазах ускользает аппетитная газель, которую она обещала принести своему ленивому и закомплексованному супругу.
— Никто. Я это чувствую.
— Ты предпочитаешь, чтобы Иван умер?
— Нет, я сделаю то, что ты просишь, но мне это не нравится.
— Потом тебе это понравится.
— Мне никогда не понравится врать.
Мама припоминала ей эту фразу всякий раз во время бесконечных споров, критических нападок, полемических дискуссий, которыми моя сестра досаждала ей с тех пор, как стала в состоянии досаждать. Но, как я обнаружила позднее в отношениях с собственными детьми, любить сына или дочь — значит с любовью принимать и удары от них, начиная с брыкания младенца в материнской утробе, — впрочем, самого безболезненного из всех.
Бенито из кухни, где помогал готовить папе обед, увидел, как Синеситта с решительным видом пересекла сад, резко распахнула калитку и зашагала, не оборачиваясь, по улице Руже-де-Лиля, окрашиваемой постепенно в романтические расплывчатые вечерние тона. Она позвонила в дверь Глозеров. Ей открыла седая и сморщенная Мириам Глозер. У Ивана была старая мать, что сближало его с Синеситтой, у которой был старый отец. Бенито заметил, что мадам Глозер отрицательно покачала головой, словно говоря, что уже слишком поздно и ее сыну ничем нельзя помочь. Синеситта — семилетняя медсестра, прямая как палка, с белокурыми волосами, озаренными заходящим солнцем, решительно настроившись спасти человеческую жизнь, так начала настаивать, энергично жестикулируя и мотая головой, что мать Ивана уступила ей дорогу.
В семь часов вечера Эли Глозер позвонил нам, чтобы сообщить, что Синеситта останется у них поужинать, если родители не против. Разрешение было дано папой, а мама в это время танцевала от радости вокруг телефона, чувствуя себя счастливой не столько от того, что Иван Глозер пойдет теперь на поправку, сколько от того, что Синеситта ее послушалась. Через три часа Эли позвонил снова и спросил, нельзя ли моей сестре остаться у них на ночь. Маленький Глозер не хотел спать один. На этот раз с Эли говорила мама. Она уже надела перед сном свой халат. Да-да, она спала в халате — привычка, которую она приобрела в швейцарском пансионате, хотя никто в доме не верил, что продавщица из «Фошона» училась в Швейцарии.
— Чем мы рискуем? — спросила она приглушенным голосом. — Анорексия — это не заразно.
Вот так в возрасте семи лет моя сестра оказалась в одной постели с тем, кто через два с половиной года стал ее первым любовником — а не любовью, как некоторые из нас в то время ошибочно полагали.
4
Она возвратилась домой на следующее утро и сказала, что уже умылась, но еще не завтракала. Никто не решился спросить, как прошла ночь у Глозеров. Перед уходом на работу мама все-таки не удержалась и сдавленным голосом задала ей невнятный вопрос о здоровье Ивана. Бесстрастным тоном хирурга-косметолога, опаздывающего на партию в гольф, Синеситта ответила, что мальчику стало лучше. И правда, состояние Ивана Глозера улучшалось с каждой неделей, так что можно считать, что Синеситта спасла ему жизнь. Кстати, к этому аргументу решила прибегнуть мама, когда, узнав, что единственный сын Глозеров стал заместителем генерального директора фирмы грамзаписи, отправилась к нему попросить место посыльного или кладовщика для Бенито, который должен был выйти в то время из тюрьмы в первый раз. «Из-за того, что Синеситта спасла мне жизнь, вы не имеете права приговаривать меня к смерти», — возразил наш бывший сосед с широкой, расслабленной улыбкой, свойственной, как говорят, мужчинам, потерявшим девственность до наступления подросткового возраста. Взамен он предложил маме место пресс-атташе, папе — шефа службы маркетинга, Синеситте — администратора, а мне, которой только что исполнилось восемь лет, — помощника осветителя на съемках фильма, который собиралась снимать его компания, о начале карьеры певца Николаса Кинга. Иван Глозер сказал, что всегда обожал нашу семью и разобьется в лепешку, чтобы прийти нам на помощь, но не стоит просить у него невозможного. А взять Бенито на работу было невозможно.
Мама, питавшая тогда слабость к Бенито, потому что, с одной стороны, он ее еще не изнасиловал, а с другой — из всех детей она больше всего жалела именно его, ушла рассерженная и до самой смерти не разговаривала с Иваном Глозером.
В детстве Иван и Синеситта казались идеальной парой. Они почти все делали вместе, пока во время одного посещения Венсенского зоопарка мама случайно не узнала, что они делали вместе абсолютно все, и не положила конец этому союзу, показавшемуся ей тем более противоестественным, что она сама была его создателем. Они ходили в школу под руку. Бенито плелся позади, как брюзжащий паж Тристана и Изольды, а потом, преисполнившись отвращения к этой идиллии, лишившей его друга и сестры, стал уходить из дома в школу раньше них. В классе Иван и Синеситта сидели за одной партой, что никак не мешало их учебе, так как они по очереди каждый месяц занимали первое и второе места среди лучших учеников. Во время перемен они играли в шары и бабки, никогда не проигрывая и не выигрывая, поскольку выступали единой командой. В столовой они садились друг напротив друга, и Иван следил за тем, чтобы стакан Синеситты был всегда наполнен водой, а моя сестра позволяла Ивану доедать ее мясо с жареной картошкой и шпинат. Они делали задания то у нас дома, то у Глозеров, расставаясь только на время, когда каждый обедал со своей семьей. Случалось, что кто-нибудь из них звонил другому в середине обеда, чтобы посоветоваться по поводу сочинения или задачи по математике. «Они походили, — рассказывает Бенито в своей книге „Ад мне лжет“, по-прежнему злясь на них спустя тридцать лет, — на парочку мелких коммерсантов, подсчитывающих свои хорошие отметки так же, как подсчитывали бы выручку; взирая па внешний мир подозрительным взглядом, будто им угрожала опасность, и разговаривая друг с другом приглушенными голосами, словно боясь, что налоговый инспектор или какой-нибудь мошенник подслушает их разговор». Но больше всего моему брату не нравилось то, как осторожно и тщательно Иван и Синеситта, похожие на двух старичков, готовились ко сну. Они застегивали пижамы на пуговицы до самой шеи, желали друг другу спокойной ночи поцелуем в щеку, таким же громким, как «плюх» неопытного прыгуна в бассейн, выключали свет каждый со своей стороны и засыпали, прижавшись спиной друг к другу. Мой брат, впрочем, как и наши родители, не подозревал, что Иван и Синеситта, начиная с третьего года их дружбы, стали расстегивать свои пижамы, а иногда прибегали к эротической уловке и оказывали друг другу эту услугу, исполняя затем партию «ноги вверх», детали которой мне так никогда и не рассказали, но которую Синеситта, стоя в зоопарке перед прудом с гиппопотамами, старательно описала маме не только для того, чтобы подразнить ее, но и потому, что уже девочкой все привыкла описывать самым тщательным образом.
«Развод» Ивана с Синеситтой, спровоцированный моей перепуганной матерью, прошел по-дружески, без особых травматических последствий для кого бы то ни было, кроме, пожалуй, педиатра, который, осмотрев нашу сестру, констатировал, что она и в самом деле уже не девственница. На семейном совете, собравшемся в тот день в матримониальной палате Дворца правосудия в Париже, последнем в своем роде, где Бенито присутствовал не в качестве обвиняемого, Синеситта заявила, что, когда четыре года назад отдала всю себя Ивану, то всего лишь подчинилась приказу матери, и если теперь с ним надо расстаться, она от этого не заболеет — главное, чтобы мальчик не заболел тоже. Понятно, что если она и испытывала к Ивану некоторую спокойную симпатию, то со временем эта симпатия поиссякла, а вот его здоровье, хранительницей которого она себя считала, продолжало ее беспокоить. Что касается Ивана, то, как он объяснил мне спустя годы в бюро «Палас Отель Интернасьональ Инк.», в двенадцать лет он уже чувствовал необходимость в новых знаниях.
У Глозеров осталось множество вещей Синеситты, а у нас — Ивана. Они обменялись ими во время того достопамятного обеда, когда Бенито, задушив без всякой причины нашу кошку Дюпликату, впервые переступил порог Зла. Не сомневаюсь, что этой бессмысленной жертвой он хотел отблагодарить Сатану или какого-то другого ангела смерти, положившего конец союзу, который приносил ему одни страдания. Бывшие любовники стали видеться все реже и реже и окончательно расстались, когда Иван уехал в Америку и поступил в Гарвардский университет. Синеситта регулярно справлялась о его здоровье, которое, судя по числу его побед у женщин, было как нельзя лучше. В возрасте от двенадцати до восемнадцати лет Иван соблазнил: одинокую эстетичку из Каэна; жену продавца книжного магазина на Сен-Жермен-де-Пре; актрису Брижит Сендришен; мужеподобную медсестру из Авийон-су-Буа, которая бросила его, предварительно сообщив, что ждет от него ребенка, но не став уточнять, намеревается сделать аборт или нет; наследницу владельца компании по производству мыла «Ле Ша», с которой познакомился во время баскетбольного матча юношеских команд в Кубертене, и телеведущую, ставшую позднее певичкой варьете. В те годы он был великим подростком-соблазнителем, чем-то вроде детонатора для женской педофилии, получившей впоследствии такое блестящее развитие.
Глозеры часто приглашали Синеситту к себе, предпочитая делать это в отсутствие сына. По их словам, такие визиты напоминали им добрые старые времена. Они угощали ее белым шоколадом, а на пасху она получала то огромное желтоватое яйцо, снесенное, можно было подумать, гигантским желтушным страусом; то книги из серии «Красное и золотое», так как им было известно, что Синеситта уже считает их подходящими для своего возраста, — впрочем, они обсуждали их в недалеком прошлом во время очаровательных семейных обедов, которые Иван и Синеситта проводили в их особняке; то синие джинсы, купленные по оптовой цене, и даже украшения — к примеру, массивный серебряный браслет, принадлежавший Эстер Немировски — матери Мириам. Мои родители только через некоторое время поняли, что на самом деле это был своеобразный «продовольственный паек», которым Глозеры, чувствовавшие себя обязанными из-за своего сына, «подкармливали» Синеситту. А может, они просто сожалели о неудавшемся идеальном союзе, которым мог бы оказаться брак Синеситты с Иваном; союзе, объединившим бы наши две семьи в счастливое сообщество, «компанию», в которой наш брат олицетворял бы злого гения, а их сын — доброго.
Вторым мужчиной в жизни Синеситты стал знаменитый певец варьете, имени которого я не назову, поскольку он сыграл не слишком красивую роль в этой истории, хотя до нее долгое время был любимым певцом моей матери. Он участвовал в знаменитом туре, организованном радиостанцией «Европа 1». В конце концерта в Ланьоне мама уговорила Синеситту подойти к нему и попросить автограф. Они приехали на концерт вдвоем, оставив папу в Плестене. С тех пор, как умер генерал де Голль, он больше не слушал ничего, кроме классической музыки. Что касается Бенито, то он находился в лагере отдыха у священников, где царила, как заверили моих родителей, железная дисциплина.
— Почему бы тебе не пойти самой? — спросила моя сестра.
— Потому что я — не женщина, а беременная женщина.
Она, действительно, была беременна мной.
— Он не любит детей? — с коварством спросила Синеситта, так как моя сестра и я это признаю — часто бывала коварной, особенно когда задавала какой-нибудь вопрос маме.
— Речь идет не о том, что он не любит детей, а о том, что он любит женщин.
— Я не женщина, а молодая девушка.
— Мне не надо, чтобы он тебя полюбил, я просто не хочу ему не понравиться.
Вот так Синеситта несколько минут спустя оказалась перед певцом.
— Автограф для моей матери, пожалуйста.
Это был высокий блондин, измотанный фотографами и ожесточенный беспрерывными интервью. Его глаза по обе стороны острого носа демонстрировали свою небесную голубизну с наивной и исступленной гордостью. Он взглянул на ноги моей сестры. На ней была мини-юбка. Она надела ее не потому, что горела желанием выставить напоказ свои бедра (впрочем, она не собиралась их прятать) или следовать моде, просто в то лето стояла такая жара, что даже в купальных трусах — узкие плавки еще не существовали — создавалось впечатление, что ты задыхаешься.
— Я хочу подарить свой автограф и вам тоже.
— Не утруждайтесь.
Он поднял голову и увидел лицо Синеситты, показавшееся ему еще моложе, чем ее ноги.
— Сколько тебе лет?
— Пятнадцать с половиной.
Певец почувствовал под своим белым льняным пиджаком дрожь и томление. Он обвел взглядом хрупкие голые плечи и покачивающуюся грудь Синеситты и поинтересовался, почему она такая бледная. Она ответила, что никогда не загорает. На солнце ей было скучно — впрочем, в тени тоже, но там было прохладно. Певец спросил имя мамы и на цветной фотографии, которую хранил для исключительных случаев, поставил свой автограф. Синеситта, растроганная, прижала снимок к груди. Тихим, почти умирающим голосом певец приказал ассистентам, гримерам, фанам и журналистам покинуть ложу. Оставшись наедине с моей сестрой, он спросил, можно ли ее поцеловать. Синеситта решила, что этот поцелуй станет подарком ее матери, не задумываясь, конечно же, о том, что мама вряд ли придет в восторг от такого подарка.
— Если желаете.
Губы певца в тот же момент оказались на ее губах, которые он нашел широко раскрытыми, совершенно безразличными, а язык — неповоротливым, удивленным и ленивым. Певец принялся за работу, покусывая зубами, посасывая губами, раздувая щеки и без устали вертя языком вокруг языка Синеситты, словно безнадежно влюбленный плющ, обвивающий древнегреческую колонну. Его руки одновременно пробегали по ее телу, которое показалось бы ему менее обнаженным и менее желанным, если бы было менее худым. Он затащил Синеситту на диван и спросил, девственница ли она.
— Нет, — ответила Синеситта.
— Я тебе не верю.
— Вам остается только проверить.
Что в тот момент происходило в голове моей сестры? Когда она рассказывала нам эту сцену, то уверяла, что только собиралась доказать певцу, что не лгала. А может, она все-таки немного хотела его? Однако, по ее словам, у нее было одно желание: как можно быстрее вернуться к маме и покончить с этой глупой историей с автографом. Больше она не дала никаких подробностей о своей единственной сексуальной связи с певцом — даже после того, как несколько лет спустя тот выбросился с девятого этажа отеля «Каравель» в Афинах вместе с обложкой «Или… или» Сёрена Кьеркегора[6] в качестве прощального письма, которую он вырвал и зажал между зубами перед тем, как броситься в пустоту.
— Как все прошло? — спросила мама, когда Синеситта встретилась с ней в паркинге.
Моя сестра показала ей цветной снимок с автографом и сказала, что все прошло хорошо, не считая того, что ей пришлось заняться любовью с певцом, чтобы доказать ему, что она не девственница. Мама смотрела на снимок, не видя, что на нем. Она разорвала его, бросила клочки на землю и села в машину. Моя сестра, сев рядом с ней, посетовала, что только зря старалась. Мама не слишком уверенно дала ей пощечину, ударив руку о зеркало заднего вида.
Синеситта выскочила из машины и побежала в темноту. Мама бросилась вслед за ней, но долго бежать не смогла, так как я ей мешала.
— Синеситта, вернись!
Молчание.
— Синеситта, ты же не убежишь, когда я должна родить через месяц!
Она услышала насмешливый удаляющийся голос и несколько слов, прозвучавших в ночи, как первые аккорды фуги Баха:
— Я не отец!
5
Мама полтора часа ждала возле машины, скурив полпачки сигарет с ментолом, что было вредно для моего здоровья. Она уже собиралась возвратиться в Плестен, задаваясь вопросом, какую ложь ей придумать на этот раз, чтобы успокоить папу, когда в конце паркинга возник высоченный, худой, романтический силуэт Синеситты. «Любящие люди знают, где и сколько времени они должны ждать человека, которого любят, и где и сколько времени человек, которого они любят, будет ждать их» («Ад мне лжет», с. 7). Мама решила, что Синеситта специально возвратилась к певцу, чтобы переспать с ним. Но моя сестра ограничилась тем, что прогулялась по Ланьону, и эта прогулка ей не понравилась. Она сказала, что если во Франции есть город, в котором она никогда не согласится жить, даже если ей заплатят за переезд большие деньги, то это Ланьон. Пусть жители Ланьона не обижаются на это замечание, сделанное почти век назад, под которым я, впрочем, не собираюсь подписываться.
Затем появился женатый мужчина. Женатый мужчина — это персонаж, вызывающий тревогу, особенно если он гуляет с вашей сестрой. Жан-Луи Трюбер заведовал отделом игрушек в магазине «Прентан» на бульваре Османна. Этот гигант еще ни разу не встречал женщин своего роста, хотя был женат три раза. В общем, это был не просто женатый, а трижды женатый мужчина. Увидев впервые мою сестру, он испытал к ней признательность за то, что может смотреть ей в глаза, не наклоняя головы. За месяц эта признательность превратилась в восхищение молодой одинокой женщиной, а лучшим способом выразить свое восхищение, было возжелать ее — и Трюбер возжелал Синеситту. Он уже представлял, как переспит с ней и бросит, хотя Синеситта воспринимала его всего лишь еще одной расчетной ведомостью среди сотен других. В один ноябрьский вечер Жан-Луи дождался ее у выхода с работы и предложил пропустить по стаканчику в «Кафе де ла Пэ». Синеситта ответила, что не страдает от жажды, что было правдой. Кроме того, она должна была встретиться с мамой у магазина «Фошон». Трюбер сказал, что проводит ее до площади Мадлен. Он рассчитывал на эти несколько сотен метров, чтобы убедить мою сестру, что они предназначены друг для друга, по крайней мере, на несколько недель. Действительно, Синеситта, идя рядом с Жаном-Луи, испытала удовольствие, природу которого поначалу не смогла ни определить, ни объяснить, пока не увидела перед магазином маму в ярко-красном костюме и не поняла, что причина кроется в том, что Жан-Луи выше нее. Синеситта видела с высоты своего метра восьмидесяти трех сантиметров — метра восьмидесяти семи или восьмидесяти восьми с каблуками, а она любила, как все высокие женщины, носить каблуки — мир, где было мало мужских голов и ни одной женской, сероватый экран, на котором появлялись лишь водители автобусов за огромными рулями, рекламные плакаты нижнего белья и киноафиши.
— Расстанемся, пока мама нас не увидела, — сказала Синеситта.
— Она все еще не позволяет вам прогуливаться с мужчиной после восемнадцати часов?
— Наоборот, но вы не поймете.
Синеситте уже исполнилось тридцать два, и после ее короткого приключения с певцом из Ланьона у нее больше не было ни одного мужчины, в чем она сама сознавалась, повторяя, твердя, заявляя одно и то же по нескольку раз в неделю во время шумных семейных обедов. Это объяснялось ни осознанным выбором с ее стороны, ни невезением, ни даже отвращением, которое она вызывала у французских мужчин, — а также у югославских, греческих и турецких летом в 81-м, 83 и 85-м годах, — а непреодолимым и стойким отсутствием интереса ко всему, что составляло мужскую сторону жизни: спорт, еда, машины, ночные клубы и, конечно же, секс. Она отдавала себя работе и семье, то есть мне, так как Бенито, изнасиловав маму и чуть не убив папу, навсегда покинул дом, — во всяком случае, мы на это надеялись, — а Боб еще не родился.
Женатые мужчины избегают матерей, зная, что те вначале посмотрят, есть ли у них обручальное кольцо. Матери предпочитают, чтобы их дочери встречались с посредственными холостяками, а не с блестящими женатиками. Они верят, что это заставит их дочерей меньше страдать, а значит, и их страдания будут не такими сильными. Кроме того, матери скорее отождествляют себя с обманутыми женами (поскольку любая мать — это обманутая супруга, брошенная своей дочерью), чем со счастливыми любовницами. Они брюзжат, как первые, вместо того чтобы просто посмеяться, как вторые. Они не любят вдовцов и разведенных, поскольку у тех есть прошлое, а матерям хорошо известно, что прошлое, как и мужчины, способно к предательству.
Трюбер мило махнул рукой Синеситте и устремился в ночь, как военное вражеское судно с потухшими огнями устремляется в праздничный порт. Земля немного уменьшилась. Моя сестра вновь очутилась одна на фоне деревьев, антресолей домов и знаков «стоянка запрещена».
В последующие дни Жан-Луи засыпал ее милыми знаками внимания, ласковыми словами и маленькими подарками. Через несколько недель такого деликатного ухаживания моя сестра решила, что следует отблагодарить заведующего отделом игрушек, и все, что сумела придумать не слишком скучное для себя, это еженедельные прогулки по берегам Сены. Каждую субботу после обеда они отправлялись с моста Аустерлиц на левый берег, доходили до моста Мирабо, переходили его и возвращались по правому берегу на мост Аустерлиц.
— Когда я иду, с Жаном-Луи, — рассказывала Синеситта, — мне кажется, что я иду вдоль стены.
Трюбер возвращался к себе усталым и сияющим, так что его третья жена — а третьи жены всегда подозрительны, слишком хорошо зная, что происходило до них в жизни мужа — предположила, что он ей изменяет, и решила его выследить. В первую субботу она отправилась тем же маршрутом, что ее муж и моя сестра, издали наблюдая за двумя гигантами, которые шли так быстро, что ей иногда приходилось бежать, чтобы не потерять их из виду. Когда они возвратились на мост Аустерлиц, и она увидела, как ее муж пожал Синеситте руку и сел в такси, то поняла, что Жан-Луи всего лишь ходил пешком с незнакомкой. Это показалось ей странным, и на следующей неделе она возвратилась на свой пункт наблюдения на мосту Аустерлиц, чтобы еще раз в этом удостовериться. Дотащившись до площади Сен-Мишель, она решила сойти с дистанции. Это была молодая женщина с лицом ребенка и маленькими ногами, которая не могла тягаться с Синеситтой в плане физической выносливости. Трюбер был вынужден дождаться восьмой прогулки, — он находился теперь в прекрасной физической форме, и комитет сети магазинов «Прентан» предложил ему место крайнего нападающего в футбольной команде в следующем матче против «Галери Лафайет», — чтобы затащить Синеситту в отель «Интерконтиненталь» на улице Кастильоне. Моя сестра задала ему в этот день такой темп, что он, выпив бокал шампанского и сняв кроссовки «Рибок», в которых его толстые шерстяные носки промокли от пота, заснул одетым на кровати, а Синеситта, вооружившись дистанционным пультом, перескакивала с одного кабельного канала на другой. Она разбудила Трюбера в восемь вечера, полагая, что жена ждет его к ужину. Смущенный, он заключил мою сестру в объятия и начал ее раздевать. Она заявила, что это несерьезно, так как им предстоит долгая дорога домой.
Трюбер, разъяренный, надел кроссовки, а Синеситта флегматично застегнула блузку «Лакост». Выйдя из отеля, — у него не оказалось двух тысяч трехсот франков наличными, и, запихивая в карман квитанцию, которую дал ему кассир «Интерконтиненталя», он молил небо, чтобы его жена первой не сделала выписку из счета, — Жан-Луи поцеловал мою сестру в щеку. Люди, которые на нас злятся, часто стараются, расставаясь с нами навсегда, сделать вид, будто не собираются этого делать. Почему-то они полагают, что нам будет труднее с этим смириться, если при последней встрече мы не будем уверены, что они не хотят видеть никого, кроме нас.
Через полгода Жан-Луи прекратил с Синеситтой всякие отношения, кроме профессиональных. А за это время команда «Прентан», усиленная Трюбером, выиграла у «Галери Лафайет» со счетом 2:0 и должна была сразиться с «Бон Марше» — командой «убийц», как называли ее в «Гран Магазен», и, кстати, выигравшей у «Труа Картье» со счетом 5:0. Когда мы спрашивали Синеситту, недостает ли ей долгих субботних прогулок, она отвечала «да». Ей было приятно ходить по красивому городу с высоким мужчиной, умевшим вести беседу и обладавшим некоторой деликатностью, но ей недоставало столько всего, что эти прогулки были лишь небольшим дополнением к огромному списку того, что она любила, но никогда не могла или не сможет осуществить. Какие же это вещи, слащавым и саркастическим тоном спрашивала мама. Стать великой балериной, отвечала Синеситта ошеломленным присутствующим. А также: переспать с Авой Гарднер во время съемок «Босоногой графини», получить золотую медаль на летних Олимпийских играх, жить в Ванкувере, иметь в своей комнате темно-синий ковер, прыгать с парашютом, родить ребенка, читать Кафку, выйти замуж за эмира, есть капусту со сметаной и не бояться растолстеть, и так далее.
Незадолго перед началом летних отпусков Трюбер вошел в бюро Синеситты и сообщил, что его жена ждет ребенка.
— Мои поздравления, — произнесла Синеситта.
— Вы можете со мной пообедать?
— Да, — без особого волнения или удивления ответила она.
Их связь началась в тот же вечер, после быстрого обеда в ресторане, во время которого они вначале говорили о магазине. Моя сестра все думала, поведет ли ее Трюбер снова в «Интерконтиненталь». Кстати, узнала ли мадам Трюбер о счете из отеля в две тысячи триста франков?
— Да, — сказал он. — Если ей было суждено наткнуться хоть на одну выписку из банковского счета за год, то она наткнулась именно на эту.
— Как она отреагировала?
— Позвала своего адвоката. Чтобы ее утихомирить, мне пришлось сделать ей ребенка.
— Счастливы?
— В бешенстве.
— Вы решили отомстить ей, изменяя со мной?
— Только если вы согласны.
Он повел ее в отель «Лотти», у которого, как заметила моя сестра с каким-то странным предчувствием, было на одну звездочку меньше, чем у «Интерконтиненталя», хотя он тоже находился на улице Кастильоне. Жан-Луи ушел домой около полуночи. Оставшись одна, как забытая куртизанка, Синеситта позвонила маме, чтобы спросить, что ей делать: переночевать здесь или вернуться домой. Наша мать посоветовала ей остаться в номере, который оплатил ее любовник, чем брать такси, которое он не оплатит. Она поинтересовалась, надевал ли Трюбер перед сношением презерватив? Моя сестра ответила, что нет, зато он показал ей свой анализ на вирус СПИДа.
— Ты посмотрела дату?
— 12 мая.
— Какого года?
— Этого.
Мама сказала, что тип, прогуливающийся с результатом своего теста на СПИД в бумажнике, не внушает ей никакого доверия; кроме того, он сам доказал, что раньше занимался любовью без презерватива с девицами, в которых нельзя быть уверенными на все его процентов. Синеситта напомнила ей, что не спала с мужчиной почти двадцать лет. Мама ответила, что Трюберу не обязательно об этом знать, и с гневом и упреками повесила трубку, так как если она и делала все, чтобы Синеситта не осталась старой девой, то в тех редких случаях, когда она этого не делала, предпринимала все, чтобы та ею осталась.
Затем Жан-Луи повел Синеситту в трехзвездочный отель «Ле Кастий» на улице Камбон. Позже они ознакомились с «Реле дю Лувр» на улице Претр-Сен-Жермен-л’Оксерруа. Еще одной звездочкой меньше. Это исчезновение звездочек, не беспокоившее мою сестру в плане комфорта, поскольку она обладала умеренным темпераментом и спартанскими вкусами, тем не менее огорчало ее и приводило в отчаяние, как человека, поднявшегося на крышу Парижской Оперы полюбоваться небом и увидевшего, как одна за другой гаснут Большая Медведица, Андромеда, Альфа Центавра, Береника, словно давая ей понять, что она недостойна восхищаться ими. Когда Трюбер в начале июля привел ее в однозвездочный отель «Вивьен» на улице Вивьен, где одна комната стоила в десять раз меньше, чем в отеле «Интерконтиненталь», Синеситта спросила, означает ли это, что он желает ее в десять раз меньше, чем вначале? Раздевшись догола, он сказал, что она прекрасно видит, что это не так. Однако в следующий раз он сухим тоном попросил ее оплатить отель. Дельфина Трюбер хотела рожать в американской клинике, а на свою зарплату в «Прентан» он был не в состоянии оплачивать американскую клинику жене и отель любовнице. Синеситта повела его в «Капуцин» на Монмартре — ноль звездочек, — где они спокойно порвали свои отношения.
Кто-то может подумать, что Синеситта спала с Трюбером потому, что он оплачивал отель, а порвала в связи с тем, что он перестал это делать. Однако Синеситта не до такой степени держалась за деньги, чтобы отказаться от любви; впоследствии она доказала это, отдав Коллену не только все, что имела сама, но и все, что имели мы. Думаю, что после Глозера и певца из Ланьона Трюбер был для нее последним этапом в эстафете перед Колленом и что в ее представлении этот этап был бесплатным, чем-то вроде площадки для отдыха у автострады. Ей лишь оставалось продолжить дорогу, в конце которой ее ожидал самый ужасный человек в мире — и, что уж точно, в парижском предместье.
Сегодня, когда большинство героев этой истории умерли, а я — единственная оставшаяся в живых из Брабанов, мне кажется, что если бы Стюарт не оказался таким чудовищем, моя сестра, вероятно, никогда бы его не полюбила, а значит, не полюбила бы никого, что было бы еще хуже выпавшей ей судьбы.
6
Больше всех Бобом занимался папа. В Плестен-ле-Грев никаких других забот у него не было. Сходив в булочную за хлебом, он готовил Бобу завтрак, а затем отправлялся с ним на пляж. Папа нес Боба на спине в синих с металлическим отблеском ходунках северо-американского производства. Мой маленький брат пытался делать первые шаги на песке там же, где когда-то их делала я. Это был милый малыш-проказник, у которого иногда появлялось непонятно откуда взявшееся трагическое выражение лица. Может, он осознавал, что его отец намного старше других отцов, ходивших без палочки и не водивших машины со скоростью шестьдесят километров в час, и что видеться им остается недолго. Мой отец, вероятно, тоже предчувствовал что-то подобное, иначе он бы не привязался к своему последнему ребенку, как тонущий пассажир на «Титанике» или «Брайтоне» цепляется за свой спасательный жилет, не найдя места в последней шлюпке. Папа боялся умереть. Он говорил, что это неправильно, что он не понимает, как это может случиться, и что никто не имеет права, даже сам Бог, лишать человека всех существующих на Земле приятных вещей, которых он за одну жизнь, пусть даже богатую и насыщенную, вкусил лишь незначительную часть. Он считал, что Бог прогневался на людей с тех пор, как они убили его Сына. Он сердился уже тогда, когда съели его яблоко. Но потом Бог взял себя в руки. По мнению папы, Богу стоило большого труда брать себя в руки, но когда он изо всех сил старался, Ему это удавалось. И он даже послал нам своего Сына, чтобы показать свои благие намерения, говоря, что забыл историю с яблоком и поставил на ней крест. А мы, неблагодарные, убили его Сына! Впрочем, если бы папа был Богом и у него убили Боба, он тоже поступил бы как Бог: убил бы всех мужчин и женщин, изготовил бы новых, послал бы им в наказание душевные и физические муки, особенно физические, а затем снова всех уничтожил бы и начал бы все сначала. Папа считал, что в день распятия Бог сошел с ума («Он взорвался как порох», — говорил он, словно настоящий вандеец), впрочем, и любой другой отец стал бы сумасшедшим на его месте. Бог хороший и старается нас простить, но ему это не удается. И тогда, злясь на самого себя за то, что не может быть достаточно милосердным, Он еще сильнее наказывает нас. «Однако он не будет биться головой о стенку! Там, наверху, нет стенок! Во всяком случае, достаточно больших для его головы!»
Во время обеда папа помогал Бобу есть, вытирал ему рот, если тот выплевывал пюре, вытирал стол, если мой маленький брат опрокидывал стакан с молоком, и заставлял его доедать овощи (Боб, как все дети в этом возрасте, ненавидел все полезное для здоровья), а в это время на другом конце стола мама и Синеситта, храня подолгу молчание, следили, наблюдали, присматривали друг за другом, а затем с тайным наслаждением, скрываемым раздраженными вздохами и презрительными ухмылками, заводили бесконечный душераздирающий конфиденциальный разговор, который вот уже тридцать пять лет объединял их, разъединял, воссоединял, истощал и питал. Это была их вселенная, круглая и хаотичная, куда не было доступа никому, особенно мужчине, и особенно в том случае, если он не принадлежал к нашей семье.
В тот день, когда папа стоял на полу на четвереньках и искал подставку для яиц Боба, Синеситта сказала:
— Я получила письмо от Стюарта Коллена.
Наш отец высунулся из-под стола, с веселым видом потрясая подставкой, отдал ее Бобу, и тот сразу же запустил ее через всю комнату.
— Большое письмо? — спросила мама.
— Нет.
Моя мать скривилась, прищурив глаза, и я думаю, что если бы в тот момент понаблюдала за ее ушами секунд десять или двадцать, то увидела бы, как они шевелятся.
— Что он пишет?
— Что у него все хорошо. Он передает привет тебе и папе.
Она повернулась в мою сторону.
— А тебе — нет. Кажется, он и не заметил твоего присутствия. Зато он пишет о Бенито. Он ходил повидать его во Флери. Наш брат продолжает писать свое письмо с извинениями.
Меня не удивляло, что люди замечали существование Бенито, а мое нет — я же ничего не украла, никого не побила, не изнасиловала и не убила.
— Что с Бенито? — разволновался папа, не следивший за разговором, так как продолжал бегать за подставкой, которую Боб, получая назад, бросал в разные стороны комнаты, умудряясь даже закидывать ее в сад и поздравляя сам себя за такой удачный бросок хлопаньем руками и топаньем ногами.
— Синеситта получила письмо, — сказала мама.
— От Бенито?
— Нет, — объяснила Синеситта. — От Стюарта Коллена. В постскриптуме он заявляет, что хочет на мне жениться, когда заработает первый миллион франков.
— Сколько это будет в сантимах? — спросил папа, принадлежавший к отставным военным, простившим де Голлю сдачу Алжира, но не старых франков.
— Сто миллионов, — ответила мама.
— Это займет вечность, — заметил папа.
— Он думает, что к концу месяца его получит, — сказала Синеситта.
— Что ты ему ответишь? — медоточивым тоном спросила мама, натянутая, как тетива лука.
— Я уже написала. И бросила письмо в почтовый ящик около половины двенадцатого утра.
— В этом письме было «да» или «нет»?
Синеситта улыбнулась. Кроме новых туфель и белого шоколада, ее самой большой страстью в жизни было поиграть у мамы на нервах. Это было заманчиво, поскольку мамины нервы были на пределе.
— Так ты ответила «да» или «нет»? — настойчиво спросил папа.
— Да.
— Да? — закричала мама.
— Нечего кричать, — сказала Синеситта. — Если только ты кричишь не от радости, что меня удивило бы.
— Это не от радости!
— Ты должна быть довольна, что я выхожу замуж. По крайней мере, меня больше не будут обзывать на этой вилле старой девой.
— Кто обзывал тебя старой девой на этой вилле?
Синеситта не нашла, что ответить, поскольку никто никогда не называл ее старой девой ни на вилле в Плестен-ле-Грев, ни в нашем доме в пригороде Парижа.
— Это написано в ваших глазах, — сказала она.
— В наших глазах, — произнесла мама теплым, дрожащим голосом школьного психолога, голосом, против которого никто из нас — кроме, конечно, Бенито — не мог устоять, — в наших глазах можно прочесть только любовь к тебе.
— То, что я в моем возрасте еще не замужем, противоречит вашим принципам. Будьте довольны: вашим принципам больше ничто не угрожает.
— Ты не знаешь этого мужчину!
— Поскольку мужчины, которых я знаю, мне не нравятся, остается только выйти замуж за мужчину, которого я не знаю.
— Он сидел в тюрьме!
— Это случалось и с приличными людьми: Манделой, Валенсой, Гавелом…
Почему она перечислила только президентов республик, а не таких писателей, как Достоевский, Бальзак, Верлен, Аббат Прево, Гитри, Жене, Селин, или певцов, как Джеймс Браун или Айк Тёрнер?
Боб, демонстративно начал шуметь — это означало, что он устал и будет отказываться спать. Папа повел его в детскую, где, как обычно, он уснет раньше ребенка, который будет следить за ним осуждающим взглядом, пока и сам с сожалением не погрузится в сон. Они проснутся в опустевшем доме около семнадцати часов и, перекусив пирожными, йогуртом, тартинками с вареньем и апельсиновым соком, присоединятся к нам на пляже.
Мама купалась по несколько раз подряд, так как считала, что морская вода избавляет от целлюлита и успокаивает ревматические боли. Она предлагала Синеситте поплавать вместе, но каждый раз моя сестра находила предлог, чтобы отказаться: то она еще не закончила переваривать пищу, то вода была слишком холодной, то ей хотелось бы дочитать роман, присланный ей домой «Франс-Луазир» и переправленный сюда Глозерами вместе с небольшим письмецом и пакетом от Леонидас. Больше всего моя сестра любила плавать в то время, когда семьи возвращались в кемпинг или в снятые квартиры, чтобы приготовить обед; молодые, как я, — то есть, на самом деле, не как я, — катили на мопедах в бары Роскоффа, а старики устраивались в своих любимых ресторанах с комплексными обедами и, завязав клетчатые салфетки вокруг шеи, ожидали, когда им подадут закуски или дежурное блюдо. И вот на пляже остаются один-два одиноких подростка, несколько еще молодых, как моя сестра, старых дев и парочка благовоспитанных влюбленных, очаровательных и загорелых в темно-синих тонких пуловерах, смеющихся и целующихся на фоне древней скалы. Синеситта торжественно поднимается, скованная и робкая, как человек не злоупотребляющий ни спортом, ни любовью. Она предлагает мне присоединиться к ней. Я отрицательно качаю головой, зная, что ей нравится оставаться наедине с океаном, скользить по волнам в собственном ритме, заплывать далеко-далеко и разговаривать с самой собой под розовым бретонским небом. Разбросанные по всему пляжу в маленькой бухте в Плестене последние отдыхающие не могут глаз оторвать от этой неожиданно появившейся богини, присутствия которой они до сих пор не замечали, и которая теперь зачаровала их, сделав лишь несколько шагов по направлению к морю. Они выглядят такими же ошеломленными, как если бы увидели ненакрашенную Нефертити, покинувшую свой саркофаг, чтобы принять ванну.
Синеситта входит в воду нерешительно, как ребенок, трогательно и наивно смачивает плечи и шею, а затем отдается океану, который заглатывает ее, уносит вдаль, рыча, как усталый огромный доисторический зверь. Потом мы теряем ее из виду. Ее лицо больше неразличимо среди тысяч золотых монет, которые солнце небрежно бросает на морскую поверхность перед тем, как отправиться спать со своей кубышкой. Когда моя сестра выходит на берег и берет полотенце, она всегда вытирает вначале волосы.
— Стоит окунуться — и вода уже не кажется холодной.
Она объясняет, что лучше всего купаться вечером, когда вода как следует прогреется за день солнцем. Единственное неудобство — слишком прохладно, чтобы обсыхать в купальнике.
В тот день Синеситта, одевшись, попросила меня остаться с ней еще ненадолго. Она не хотела возвращаться на виллу и отвечать на вопросы мамы, которую весть о ее предстоящем замужестве с Колленом вывела из себя. У лжецов очень развита интуиция. Кстати, покер — игра обманщиков — основан именно на ней. Наша мать почувствовала, что с этим браком в ее жизни чему-то придет конец, еще не подозревая, что это будет конец ее жизни.
— Ты действительно написала Стюарту, что согласна выйти за него замуж? — спросила я.
Синеситта бросила на меня благодарный взгляд, словно целый день ждала этого вопроса.
— Я люблю этого человека так, как никого не любила, — ответила она. — А это не трудно, ведь раньше я вообще никого не любила. Только для того, чтобы успокоить маму, я сказала, что выхожу замуж, потому что не хочу оставаться одинокой. Если она догадается, что я влюбилась впервые в жизни, то сойдет с ума от беспокойства.
— Она и так сходит с ума от беспокойства.
— Если она узнает правду, будет еще хуже.
— Зато теперь и я готов сойти с ума от беспокойства.
— Ты уже говоришь о себе в мужском роде?
— Извини.
— Мне не за что тебя извинять. Это твой выбор.
Когда мы возвращались на виллу, я спросила у сестры, что ей нравится в Стюарте. Не смущало ли ее, что он дружит с Бенито? Она отрицательно покачала головой с внутренним удовлетворением, выдавшим себя чуть заметной и хитроватой складкой у губ, первым появлением у нее так называемой ионийской улыбки Коры[7], запечатленной в камне в VI веке до нашей эры. Словно нарочно для усиления сходства ее левая нога немного ушла вперед, руки сомкнулись внизу живота, а полотенце оказалось прижатым локтем к боку.
— Я не могу сказать тебе, что мне в нем нравится. Я даже не помню, как он выглядит.
— Но ты же помнишь, что он друг Бенито?
— Когда я думаю о том, что через три года наш братец выйдет на свободу, у меня кожа покрывается мурашками.
— Это ведь много, три года.
— Не так уж и много. Три года назад мне исполнилось тридцать три, а я помню об этом, словно все было вчера. Ко мне пришла уйма подруг. Они танцевали сальсу[8] и пили мескаль[9], дорогая сестричка, о, прости, дорогой брат.
— Можешь звать меня, как хочешь. Я еще сама не решила.
Она впилась взглядом в мои глаза, словно хотела прочесть в них ту дату, когда я смирюсь со своим настоящим полом, перестану блуждать между двумя характерами, метаться между несколькими личностями. Затем тень ностальгии пробежала по ее лицу, и она сказала:
— Теперь они замужем и делают кучи детей, словно взбесившиеся ксероксы, выдающие все время один и тот же неполный и мятый документ.
7
Он уселся под вишней, положив куртку на колени, держа в руке стакан оранжада, который моя сестра наполняла через равные промежутки времени. «Никогда в жизни не пил столько оранжада», — говорил он, рассказывая впоследствии об этом первом дне, проведенном у нас дома. Его лицо, казалось, кричало об одиночестве, а рассеянные жесты делали похожим на человека, сомневающегося в реальности происходящего. Гостям, присутствовавшим на нашем празднике и сидевшим рядом с ним, он признался, — по наивности, решили мы, но, как оказалось, из зловредности, — что был другом Бенито в тюрьме, в результате чего все предпочли держаться от него подальше; и он остался один под вишней, в тени, такой бесценной в этот жаркий день. В конце концов к нему присоединилась Синеситта. Она спросила, не скучает ли он.
— Здесь, конечно же, не так забавно, как в тюрьме, но было бы преувеличением сказать, что все, что происходит, меня не развлекает.
— Мама сказала, что вы сидели за уклонение от уплаты налогов.
— Я думал, что не попадусь.
— Вы мошенник?
— Я просто слишком хитрый.
— Если бы вы были слишком хитрым, то не попались бы.
— Эта мысль изводила меня в первые недели заключения, поэтому позвольте мне выбросить ее подальше из головы.
— Нужно быть не слишком хитрым, а достаточно хитрым. Это вам говорит бухгалтер.
— Вы бухгалтер?
— Вы разочарованы?
— Очень.
Синеситта спросила, почему он ведет себя так обезоруживающе с ее родителями и так воинственно с ней.
— Потому что я не боюсь ваших родителей.
— Почему вы боитесь меня?
— Не знаю.
Он действительно всегда испытывал страх, — прикрывая его улыбочками, иронией, наигранностью, — настоящий страх перед моей сестрой, даже когда бил ее, унижал, топтал ногами. Он чувствовал ее превосходство над собой и тогда, когда она корчилась у него в ногах от душевной боли и умоляла ее прикончить.
— И чем вы собираетесь теперь заняться?
Обычно незнакомым людям Синеситта не задавала личных вопросов, так как в одном учебнике хороших манер, присланном «Франс-Луазир», прочла, что это невежливо. Но на этот раз она так была увлечена Стюартом, что хотела знать о нем все.
— Любовью и состоянием, — ответил он.
— С сегодняшнего дня?
— Вначале мне нужно переодеться. В таком виде у меня практически нет шансов завоевать хоть одну женщину или заработать денег.
Стремясь узнать, женат ли он, но не желая создавать впечатления, будто сама заинтересована в браке, — так как не была в нем заинтересована, — Синеситта поинтересовалась, нет ли у него детей.
— Нет, — ответил он. — Была когда-то собака, но она умерла.
— Как ее звали?
Стюарт улыбнулся.
— Я пошутил, — ответил он.
— Вы шутите над смертью собаки?
Скоро она обнаружит, что он шутил и над смертью людей. А иногда только этим и занимался.
— Никогда не имел собаки. Просто ваш вопрос о детях показался мне забавным.
— Что в нем забавного?
Стюарт не ответил. В тюрьме он усвоил, что есть моменты, когда лучше всего промолчать, главное — распознать их. А в это время мама показывала гостям Боба.
— Это ваш ребенок? — спросил Стюарт у Синеситты.
— Нет, мамин.
— А кто отец?
— Мой, — произнесла сестра, показывая пальцем на папу.
— Ему по меньшей мере лет восемьдесят.
— Восемьдесят два.
Стюарт засмеялся изумленным и доброжелательным смехом, который ее очаровал.
— Они хотели этого ребенка, — объяснила Синеситта. — Их так беспокоило отсутствие у меня детей, что они сделали его для того, чтобы мне было о ком заботиться после их смерти.
— Неужели ваши родители так прямо все объяснили?
— У Брабанов ничего не объясняют, но все чувствуют.
— Мне очень нравится ваша семья. К сожалению, я уже ухожу.
— Почему?
— Тот, кто только что вышел из тюрьмы, боится привязываться.
Стюарт жестом попрощался с родителями. Его глаза цвета абрикосового варенья остановились на мне, и он, казалось, заколебался, стоит ли прощаться со мной тоже, словно я была для него не из этого мира. Он направился к калитке в сопровождении Синеситты, еще более напряженной и задумчивой, чем обычно. Вдруг ее лицо осветилось, словно она нашла решение важной физической или метафизической проблемы.
— Я провожу вас до метро, — предложила она.
— Никогда в жизни не ездил на метро и уж, конечно, не в тот день, когда вышел из тюрьмы, начну это делать.
— Тогда я провожу вас до вашего дома.
Она говорила испуганным и умоляющим голосом маленькой девочки, готовой вот-вот расплакаться от унижения, потому что впервые в жизни почувствовала необходимость в ком-то, кроме матери, то есть в человеке, не собирающемся сразу выполнять все ее капризы.
— Вы очень любезны, Синеситта, но я на машине.
— Отвезите меня куда-нибудь.
— Куда?
— Вы знаете сады Багателя?
— Да: это Люксембургский сад молодых рантье, Булонский лес жен ювелиров, парк Монсо авторов модных песен, парк Монсури художников-миллиардеров. Когда меня арестовали, входной билет туда стоил один франк.
Из этого случайного признания в том, что он был арестован не шесть месяцев назад, когда билет в Багатель стоил шесть франков, а, по меньшей мере, лет двадцать, Синеситта могла бы догадаться, что он совершил проступок намного серьезнее, чем уклонение от неуплаты налогов — но у нее голова была занята другими мыслями, кроме того, она находилась в кухне, когда Стюарт сообщил нам, что просидел в тюрьме полгода. Таким образом, никто не мог уличить его во лжи: ни Синеситта, не знавшая, что он нам сказал, ни мы, понятия не имевшие, что он сказал Синеситте.
— Поехали, — попросила она.
— Вы предупредите родителей?
— В этом нет необходимости: я им сегодня больше не нужна, кроме того, я уже давно совершеннолетняя.
— Синеситта, скажите правду: вы в меня влюбились?
Сама она об этом даже не задумывалась — любовь для нее была не мыслью, а чувством, предназначенным для кого-то безымянного; чувством, в котором она одиноко блуждала с самого детства. Задав такой вопрос, Стюарт напомнил ей, что любовь выражается в чувствах к конкретному человеку.
— Да, — призналась она.
— Вы знаете почему?
— Нет. А вы знаете?
— У всех женщин, когда-то влюблявшихся в меня, были проблемы.
— У меня тоже есть проблемы.
— Со мной их не станет меньше.
Он скрестил руки на груди и прислонился к капоту своей старой «BMW», впрочем, блестящей, как новая. Если бы моя сестра потрудилась запомнить номер этой машины и передать его одному из многочисленных папиных знакомых в полиции, с которыми он подружился благодаря своим курсам йоги, то она узнала бы, что Стюарт купил эту машину два десятилетия назад и, без сомнения, вскоре был арестован. Машина была в прекрасном состоянии, а это означало, что с тех пор на ней не ездили. Коллен внезапно приобрел умиротворенный вид, словно устроился в любимом кресле в глубине огромной библиотеки со старинным изданием «Кандида» или «Илиады» на коленях и с виски без льда под рукой. Синеситта влюбилась в эту старую машину, которая, подобно ей, почти никому еще не служила. Ей показалось, что машина была их старой союзницей, что они со Стюартом уже сотни раз возвращались в ней из Довиля, Оверня или с обедов в городе, что они спали в ней, играли в карты, читали воскресные газеты, пили теплую «Столичную», занимались любовью или перекусывали.
— Вы мне не нравитесь, — произнес Коллен таким интимным и мягким тоном, который доказывал противоположное.
— Пусть у меня нет талии, зато я могу похвастаться красивыми ногами, — не растерявшись, заявила моя сестра.
— Не выношу работающих женщин. Они целыми днями скрывают свою красоту, а вечером уже не в состоянии ее показать.
— Я брошу работу.
— Не делайте этого, Синеситта, умоляю вас! Я уже разрушил жизнь многим женщинам, и все начиналось точно так же.
— Мне безразлично, что вы ее разрушите! Я даже хочу этого. Уничтожьте меня! Кто сказал, что я уже создана, а если это и так, то кто сказал, что я создана хорошо? Может быть, меня стоит разрушить и построить заново, как здание?
Впоследствии Стюарту нравилось вспоминать эту сцену, доказывая нам каждый раз, что он предупреждал Синеситту, какая жизнь ожидает ее с ним; однако она не только не прислушалась к этому предупреждению, а наоборот, сочла его дополнительным аргументом, чтобы броситься ему на шею.
— Не искушайте меня, Сине.
Никто не называл мою сестру этим уменьшительным именем. В нашей семье такое никому даже не приходило в голову. Что касается мужчин, то в ее жизни их было немного, и, кроме Ивана Глозера, ни один из них ни разу ее так не назвал. Когда я спросила об этом Ивана (которого моя сестра, когда они состояли в своеобразной внебрачной связи, — о чем все еще говорят на улице Руже-де-Лиля, — любовно прозвала Ван-Ван), он ответил, что единственный раз назвал ее Сине незадолго до того, как они впервые занялись сексом, но она взглянула на него с таким холодом, что с тех пор навсегда превратилась в Синеситту Брабан, дочь Жильбера-Рене и Летиции Брабан, бывшей в свою очередь дочерью Женевьевы де Жюрке, урожденной Флагштадт…
— Я не желаю больше прикасаться к душам! — взревел, рявкнул, изрыгнул, застонал Стюарт. — Они крошатся у меня между пальцами. То ли они очень хрупкие, то ли мои пальцы слишком сильные и неловкие. В тюрьме я пообещал себе: «Выйдя отсюда, ты будешь иметь одну проститутку в неделю и все». И даже не в комнате: в баре, за занавесом. Когда я встречаюсь с женщиной, хотя бы и с проституткой, я хочу, чтобы вблизи были люди, свидетели, которые могли бы прийти ей на помощь в случае необходимости. Я выбрал свой день, — в тюрьме было время подумать, — понедельник, потому что воскресная толпа уже схлынула, девицы расслаблены, любезнее, у них полно свободного времени. Я подсчитал свой бюджет: тысяча пятьсот франков в неделю. Это цена моего спокойствия, то есть моей невиновности. Она просчитана так же точно, как план побега или ограбления, хотя, — спохватился он, — я никогда не совершал побегов или ограблений. Уклонение от уплаты налогов — вот в чем моя вина. Уклонение от уплаты налогов, — повторил он, словно хотел вбить себе эту мысль в голову.
Увидев, что Синеситта вышла на улицу вместе со Стюартом и не возвращается, а мама поглядывает в мою сторону, намереваясь заставить разносить очередную порцию прохладительных напитков, что мне совсем не понравилось, я поднялась на третий этаж и через решетку, предназначенную для защиты Бенито от него самого, — сколько раз я слышала, как мои родители сожалели, что установили эти решетки, ведь без них мой старший брат был бы теперь, вероятно, мертв, — я обнаружила свою сестру и Стюарта, вытанцовывающих какой-то странный балет вокруг светло-серого «BMW». Стюарт, что-то говоря, приближался к Синеситте почти вплотную, затем отдалялся, иногда переходил улицу и кричал с другой стороны тротуара, после чего снова возвращался, целовал ей руки, обнимал за шею, словно хотел в чем-то переубедить или разубедить. Она казалась парализованной, а он выглядел ненормально подвижным — Минотавр, свободно прогуливающийся в лабиринте своих расстроенных чувств и больного воображения.
— После шести месяцев воздержания, — сказала Синеситта, — вы должны хотеть женщину.
Если бы она знала, что это были не шесть месяцев, а двадцать лет воздержания, которые Стюарт провел не в обычной камере с заключенными, рядом с которыми он мог бы поддерживать пламя сексуальности, осмеянное «допотопной тюремной системой процветающего капитализма», как написал Бенито в своей книге «Ад мне лжет» (труд, посвященный Леону Полякову, Эдгару Морину, отцу Карре, Мишелю Фуко и Ги Дебору), а в блоке для особо опасных преступников, она, конечно же, лучше бы поняла его сомнения и нерешительность. Несмотря на его пятьдесят лет, ему нужно было «обкататься» — так же, как он должен был обкатать свою старую «BMW».
— Я вам позвоню, — пообещал он, открывая дверцу.
— Когда?
— Я вам напишу.
— Так вы позвоните или напишете?
— Напишу.
— Когда?
— Синеситта, смилуйтесь…
Она взяла его за плечи.
— Мы будем вместе, — заявила она. — Незачем сопротивляться.
— Неужели вы не понимаете, что я хочу защитить вас?
— Я достаточно большая, чтобы защищаться самой: метр восемьдесят три.
Вот что получалось, когда Синеситта шутила. К счастью, это случалось редко. Теперь можно было быть спокойными год или два. Стюарт сел в машину. Синеситте показалось, что будет романтично проводить его взглядом. И хотя он уехал, она была счастлива, потому что влюбилась и призналась в этом. Вполне достаточно, чтобы оказаться наверху блаженства. Наверное, если бы он увез ее или остался сам, это был бы перебор. А сейчас она ощутила то самое томление, — о котором ей часто рассказывали во время обеденных перерывов продавщицы из «Прентан», — с которым влюбленный человек входит в цветущий сад. Это чувство взволновало ее настолько сильно, что она потеряла сознание. Наши гости сразу решили, что она беременна, и задались вопросом, кто же отец, поскольку чаще всего они как раз обсуждали, чем объясняется почти полное отсутствие интереса у Синеситты к мужчинам, браку и материнству. И когда тридцать месяцев спустя моя сестра родила первого сына Октава, все были уверены, что во время праздника она уже ждала его; хотя с медицинской точки зрения это был чистейший абсурд. «Люди воображают, что время затрагивает только их, каким-то чудом обходя соседей» (Бенито, пролог к его второму произведению «Золото под названием нация»).
8
Кроме йоги и Боба, еще одной папиной страстью была международная политика. Когда наш маленький брат оставлял его на минуту в покое, мой отец прикладывал к уху ультрасовременный радиоприемник «Сони», по которому слушал на коротких волнах новости из всех столиц мира. Папа говорил на английском, немецком и португальском и имел понятие о русском, японском, испанском и греческом. Короткая, но блестящая карьера в бельгийских спецслужбах приучила его понимать людей с полуслова. Уже несколько дней он, казалось, был озабочен ситуацией на островах Тонга — монархии короля Тауфа Ахау Тупу IV, правившего с 1965 года. Эти острова находились к востоку от острова Фиджи и к западу от островов Кука, в трех тысячах миль от Сиднея.
Я еще не описывала внешность моего отца. Он был высоким, но не таким, как моя сестра. Он говорил, что большинство стариков — маленького роста, потому что высокие умирают в молодости.
Высокие болеют чаще, чем низкие. Вирусы и микробы охотнее выбирают первых, где у них больше места, чтобы развиваться и размножаться. Если какой-нибудь предмет, например, балка или цветочный горшок, сваливается сверху, то падает на голову высокого, поскольку она ближе к небу. Высокий, обладая более крупным телом, первым попадает под пули в перестрелке. Он раздражает низкого, закрывая тому горизонт. В итоге в один прекрасный день низкий мстит высокому. Высокий же не видит низкого, и тому нечего бояться. Мы спрашивали у отца:
— Как же так вышло, папа, что ты еще жив?
— У меня хватило ума жениться на маленькой женщине.
Он усмехался в свои седые усы и добавлял, озорно поблескивая глубоко посаженными голубыми глазами:
— Маленькие женщины посланы на Землю, чтобы управлять большими мужчинами.
Замечания папы нашли подтверждение в смерти Жана-Луи Трюбера через несколько недель после разрыва с моей сестрой. Заведующий отделом игрушек выходил из американской клиники, где навещал свою супругу и дочь Мари, которая никогда не узнает (если только, пребывая еще в этом мире, не прочтет мою книгу), что обязана своим рождением банковскому счету из отеля. Шел дождь. Трюбер колебался: то ли взять такси, то ли поехать на автобусе. Он выбрал автобус. Новая роль молодого отца заставляла его экономить, кроме того, он считал, что в автобусе больше места для его больших ног. И тут какой-то голландский грузовик занесло на бульваре и он врезался в крытую автобусную остановку, где стояли Жан-Луи Трюбер и молодой невысокий мужчина, не получивший в этой переделке ни единой царапины. Трюбера похоронили через два дня на кладбище Пер-Лашез среди других гигантов, умерших, как и он, слишком рано. После траурной церемонии Синеситта возвратилась в «Прентан» пешком в память об их еженедельных прогулках с Трюбером год назад.
Лицо моего отца, которое мы видели все реже и реже, — так как оно почти постоянно было скрыто то за радиоприемником, то за головой или рукой Боба, то за газетой «Суар», на которую он, хотя и уехал из Брюсселя пятьдесят пять лет назад, все еще подписывался, — было длинным и впалым. Глубокие морщины на лбу, «гусиные лапки» у глаз, изрытые впадинами щеки говорили о том, что папа в своей жизни много думал, видел и смеялся. В отличие от меня, сестра унаследовала от него грациозные и воздушные руки — руки пианиста или дирижера, — которые дружелюбно дотрагивались до всех предметов и изящество которых подчеркивали даже старческие пятна. Мама часто говорила, что влюбилась в папу из-за его рук и ног. Правда, мне редко доводилось видеть его в плавках, — когда я родилась, ему было уже шестьдесят, и на пляже в Плестене он сидел в обычной одежде, соглашаясь закатать рукава рубашки только при температуре воздуха выше тридцати пяти градусов (редкое явление на Северном побережье), — но я заметила, что в брюках с безупречными складками, которые он носил и зимой и летом, его ноги производили неизгладимое впечатление на женщин. А на нашем последнем празднике мадам Глозер даже сделала ему комплимент по поводу его ног. Ноги моего отца были под стать его облику: элегантные, ухоженные, безупречные. Они не опускались на землю — они едва ее касались, ласкали.
— К чему приведет оспаривание Конституции 1878 года — вот большая загадка островов Тонга. По моему мнению, ни американцы, ни тем более австралийцы не допустят, чтобы демократы, получившие шесть мест из девяти на последних выборах, свергли короля Тауфа Ахау IV. Интересно, удастся ли ему избавиться от барона Вайа оф Хума?
— Кто такой этот барон? — спросила Синеситта.
— Глава тонганского правительства. На островах Тонга проживает девяносто семь тысяч жителей: там нет ни одного солдата, ни одного военного судна и военного самолета.
— И что это означает? — снова спросила сестра, единственная из нас, кто пытался следить за папиными рассуждениями о геополитике.
— Как всегда, прекрасный вопрос, моя девочка. Это означает, — послушайте-ка и вы, вас это тоже касается! — что в случае серьезного конфликта между королем и демократами иностранная держава будет вынуждена вмешаться и применить военную силу, чтобы не допустить в некотором роде хаоса, то есть массовых убийств.
Заходящее солнце томно скользнуло по столу, издевательски задержалось на застывшей лужице из масла с уксусом в пустой салатнице, куда Синеситта регулярно макала чайную ложку, слизывая с нее эту микстуру, обожаемую ею чуть ли не с младенческого возраста, ослепило тарелки и объяло пламенем все столовые приборы. Клеенка с крошками хлеба — вот картинка, которая будет всегда олицетворять для меня семейное счастье и которая, кстати, вполне могла бы стать названием этого романа.
— Думаешь, это будут Соединенные Штаты? — продолжала засыпать папу вопросами Синеситта.
— Конечно, Соединенные Штаты, но это может быть и Австралия, почему бы и нет? Что сделает тогда французское правительство? Не будем забывать, что и у нас есть интересы в Тихом океане. Новая Каледония не так уж и далека оттуда.
Затем папа объяснил, что с распадом Советского Союза основной расклад в международной политике изменился.
— Отношения между двумя противостоящими, равномогущественными лагерями последовательны, поучительны и продуктивны, — сказал он. — Иметь противника — значит задаваться вопросами о самом себе и отвечать на них. Борьба между Востоком и Западом — это урок хладнокровия и смелости в политике. В этой всемирной игре в домино все настолько старались соблюдать правила игры, что победила сама игра. Восток заставлял Запад считаться с ним, и когда Восток перестал быть врагом Запада, то Запад начал сомневаться в самом себе, терять свое лицо и выдержку. Что касается Востока, то он, как бы это выразиться, полетел к чертовой матери. И теперь на земле есть один только лагерь, объединяющий племена, ненавидящие друг друга, обвиняющие друг друга с помощью видеорепортажей, сотрудничающие с дьяволом. Из-за исчезновения Востока и Запада, которые с помощью холодной войны успокаивали — охлаждали — игроков, сегодня в мире раздаются оглушительные крики беспредметной ненависти. Это как в футболе, когда двадцать два игрока решают объединиться в одну команду. И что тогда происходит с матчем? Сразу же нужно раздать несколько мячей, снять футболки, избавиться от арбитров. Публика, ничего не понимая, покидает трибуны. Вскоре уже не хватает мячей, игроки скучают и все хотят наносить удары. Вначале они пытаются вести мячи по всем правилам искусства, потом один ловкач находит, что проще взять мяч под мышку, другой делает то же самое. В ход идут кулаки. Поскольку больше нет ни матча, ни правил, арбитры — ООН, ОАЕ, ЮНЕСКО — остаются в стороне от заварухи. Только секунданты — Красный Крест, ЮНИСЕФ — пытаются делать свое дело. В драке игроки снова группируются по странам, регионам, городам, деревням, семьям. Они наносят друг другу все более ощутимые удары: один из типов находит железный прут, забытый каким-то болельщиком во время предыдущего матча; другой вытаскивает огнестрельное оружие. Конец футболу. Конец игре. Конец жизни в обществе. Конец искусству. Два лагеря — вот секрет мира и процветания. Афины и Спарта. Рим и Константинополь. Лондон и Париж. Москва и Вашингтон. Больше того, как часто говорил генерал, два крупных лагеря превращают маленькие страны в игроков, один же лагерь делает из них рабов. Конкуренция в XX веке между Востоком и Западом оживила нас, преобразила, возвысила. Мир никогда еще не был столь процветающим, созидательным, элегантным, как во времена холодной войны. А затем, в 1968 году, пришел конец коммунизма: Прага.
— До Праги, — заявила Синеситта решительным тоном, которым охотно пользовалась в подобных разговорах, — в 1956 году был Будапешт.
— Разница в том, что в Будапеште убивали, а в Праге нагнали страху. Прага возвестила о конце коммунизма, о том, что он уже царствует не благодаря силе, а опираясь на страх среди людей, которые презирают его, но не сопротивляются. Коммунизм в Чехословакии — впервые за всю историю — выставил сам себя на посмешище, как старикашка, который пытается поцеловать девушку, но не может, хочет дать ей пощечину, но не осмеливается, потом все-таки замахивается, ударяет рукой о стену и… ломает запястье.
— В нашем пансионате в Лозанне нам это все не так объясняли, — сказала мама.
Мы никак не могли понять, почему она так настойчиво вешает нам лапшу о своей учебе в Швейцарии. Невозможно поверить, будто она надеялась, что мы проглотим такую невероятную, шитую белыми нитками ложь. Если бы мы имели дело с начинающей и неопытной лгуньей, то ограничились бы снисходительными и вежливыми улыбками. Но мама была профессионалом лжи, мастером двуличия, Великим магистром в искусстве маскировки, извращения истины, небылиц и выдумок. Поэтому мы пришли к выводу, что она сочиняет такие нелепые вещи специально, чтобы ей не поверили, но, с другой стороны, какой в этом был смысл? В результате мы стали задаваться вопросом, а не говорит ли она нам правду, и, наконец, решили, что она явно добивалась одного: запутать нас с помощью абсурдной лжи, а потом утверждать, что говорила правду!
— На островах Тонга, — продолжал рассуждать папа, — внешний долг достигает пятидесяти одного миллиона долларов, а на островах Кирибати с почти такими же площадью и населением — семнадцати миллионов. На Кирибати — демократический парламент. В Тонга миллионы долларов, скорее всего, исчезают в карманах Тупу IV, что не может нравиться Международному валютному фонду. Поверьте, что об островах Тонга в ближайшие годы еще заговорят. Конечно, меня уже не будет, чтобы прокомментировать будущие серьезные события, но я надеюсь, вы вспомните, что я говорил о них, пока был жив.
Папа часто затрагивал в разговорах тему смерти. Мысли о ней, по его признанию, омрачали ему старость. Все остальное: радикулит, расстройство пищеварения, сердцебиение — его не беспокоило. Он считал, что старики сожалеют о молодости не потому, что тогда были счастливы, поскольку и у молодых есть все причины быть несчастными, а потому, что в то время не думали о смерти. Большинство даже воображало, что ее и вовсе не существует. Старики испытывают ностальгию по этой беспечности, и им кажется, что если они избавятся от мыслей о смерти, она никогда их не настигнет. Они убеждены, что если, как в молодости, вновь обретут ощущение вечности, то превратятся в бессмертных, какими, по их мнению, были между своим рождением и тридцатью годами; но поскольку они не сберегли, не поддержали, не сохранили это чувство, то теперь умрут. Старики уверены, что умрут только потому, что им не удается не думать о смерти, и это их вина. Они чувствуют себя виноватыми в том, что должны умереть, как алкоголик ощущает вину, когда пьет после года воздержания. Им стыдно умереть точно так же, как стыдно упасть с велосипеда перед детьми. Они злятся, что должны умереть, как злится человек, забывший бумажник на станции техобслуживания на автостраде.
Второй вещью, омрачавшей в глазах папы старость людей, период, который должен быть самой благодатью, изысканной прихожей Рая, поскольку любовь и дружба уже в прошлом, а кредиты розданы, — слава Богу, говорил отец, старикам больше не одалживают денег, — был груз минувшего. Прошлое человека — это огромный чемодан, в котором долгие годы скапливаются предметы разной ценности. Когда тебе восемьдесят два, этот чемодан становится таким тяжелым, что его невозможно поднять. Целыми днями ты смотришь на него, ходишь вокруг да около, открываешь, вынимаешь предметы, рассматриваешь их, трогаешь и грустишь над ними. Прошлое зачаровывает тебя до такой степени, что в конце концов ты полностью погружаешься в него. Смерть наступает, по словам папы, когда минувшее захлопывается над нами, так как — и это было одним из его излюбленных выражений — «чемодан с прошлым не открывается изнутри». Но, даже умирая, ты чувствуешь себя виноватым. Даже перед тем как отдать Богу душу, ты ругаешь себя за то, что все время думал об этом чемодане, смотрел на него, открывал; нужно было пытаться жить без него, как раньше, в молодости, когда он был маленьким и легким, небрежно поставленным рядом с сиденьем в пивной или забытым в коридоре квартиры родителей любовницы; чемоданом, тяжести которого ты не ощущал, форму и цвет которого не различал, — столь безобидным и нематериальным он выглядел. Время от времени ты испытывал почти удовольствие, восхищенно поглядывая на эту скромную, неприметную вещицу, которая, казалось, улыбалась тебе. Она была довольна твоим коротким прошлым, в котором насчитывались одно-два любовных переживания, удачно сданные экзамены, поездки в Голландию или Люксембург, подержанная машина и первые деньги, дававшие ощущение богатства, поскольку теперь ты мог купить пластинки и книги. «Что произошло, — спрашивали себя каждый день, по мнению папы, все старики на земле, — с элегантным, практичным, небольшим чемоданчиком, превратившимся за несколько лет в старый черный неудобный чемодан, готовый нас проглотить?» Когда минуешь определенный возраст, говорил в заключение папа, нужно Постоянно ломать голову, чтобы вспомнить хоть один момент в своей жизни, когда время казалось еще бесконечно долгим, — настолько теперь его бег представляется тебе таким же неуловимым, как дуновение ветра или взмах ресниц.
9
В понедельник в воздухе запорхали редкие снежинки. Не успевая упасть на траву в саду, они таяли, постепенно превращаясь в мелкий дождь, прекратившийся к одиннадцати часам, как раз во время моих занятий по философии с мадам Бертран (главным преподавателем). Когда утром во вторник я открыла в своей комнате ставни, сад выглядел белым, но в пять часов, когда я возвращалась из лицея Мориса Тореза, он уже стал коричневым. В среду — ничего, хотя в глубине неба можно было различить пятно, веселое и беспокойное, предвещавшее нежданные и абсурдные события. В четверг наконец выпал снег, да такой, какого не было уже много лет. Он обрушился на нас, набросился как татарская орда, навалился, ошарашил. Это был средневековый снег, то есть доисторический. Он замел автомобили, захватил в плен деревья, проглотил дома, разбросал прохожих. В конце дня снегопад прекратился, и город замкнулся в ошеломленной и обиженной тишине.
Я сидела дома, ожидая возвращения папы и Боба. Зазвонил телефон. Я решила, что это папа, который из-за снегопада застрял в своем журнале и теперь хочет, чтобы я забрала брата из яслей. Я сняла трубку и услышала вялый, полный сомнения и плохих мыслей голос:
— Привет. Это Стюарт Коллен. Я хотел бы поговорить с Синеситтой.
Я сказала, что Синеситты нету, но он может найти ее в «Прентан». Он ответил, что звонит с вокзала и ему не хочется возвращаться в Париж. Не будут ли возражать мои родители, если он подождет мою сестру у нас дома?
— Их тоже нет, — ответила я.
Единственным человеком, который возражал против его присутствия в нашем доме, была я, но в глазах Стюарта я вряд ли имела право на место среди людей; правда, позднее он отведет мне роль статиста при том условии, что я не стану слишком мешать ему, когда он будет третировать мою сестру.
— Напомни-ка мне ваш адрес, пожалуйста.
Внезапно я почувствовала себя Красной Шапочкой, легкомысленно сообщившей путь Злому Волку, и, прежде чем ответить, несколько минут колебалась, злясь на саму себя и борясь со страхом:
— Улица Руже-де-Лиля, 9.
Сегодня я знаю, что должна была дать Стюарту неправильный адрес, закрыть дом, забрать Боба из яслей, пойти за папой в журнал, за мамой в «Фошон», за Синеситтой в «Прентан», убедить их спрятаться в отеле «Ибис» за окружной дорогой, пока Коллен не прекратит поиски. А он, как и все порочные люди, легко отступался и заранее впадал в уныние из-за трудностей. Именно поэтому Добро побеждает Зло: оно более выносливо. Но мы всегда сомневаемся, стоит ли передвигать горы. Мы убеждаем себя, что это очень трудно — и следующая за этим катастрофа ломает нам руки. Вот два любимых папиных примера: Сталин, который в 1941 году был неспособен поверить в германское нашествие, потому что ему было страшно лень изменять свои планы; и Гитлер, который в 1944-м не желал признавать возможности высадки американцев в Нормандии, потому что ему до чертиков не хотелось перебрасывать тридцать дивизий с юга на север.
— Как там у вас дела на улице Руже-де-Лиля?
— Вы на машине?
— Нет, пешком.
— Что, сломалась?
— Нет. Я ее продал. Я потом все расскажу твоей сестре. Давай говори быстрей, как добраться — на моей карточке осталась одна единица.
Не имея ни достаточного нахальства, ни смелости, чтобы принять меры, которые могли бы спасти мою сестру, я повела себя как неудачливый игрок в покер, страшно долго ищущий чековую книжку, чтобы отсрочить момент, когда победитель воспользуется моей слабостью.
— А как вы добирались в прошлый раз?
— Бенито нарисовал мне план, но я его потерял.
— Сюда ходит автобус.
— Какой номер?
— Что?
— Автобус, какой номер, пожалуйста… и где выходить?
— Это моя сестра, а не я, обычно ездит автобусом.
— Как называется остановка?
— Не знаю, спросите у водителя.
— Какой автобус, черт побери? Какой авт…
Разговор прервался. Стюарт Коллен больше не перезвонил. Было очевидно, что у него не было денег купить новую карточку.
Через час с четвертью — это подтверждало, что он шел пешком, путая улицы, пять или шесть раз сев не на тот автобус, а также выпив для успокоения несколько рюмок кальвадоса в окрестном кафе, пока какой-то добрый малый из пригорода не показал ему улицу Руже-де-Лиля — он толкнул нашу калитку и, посиневший от холода, остановился посреди сада, увязнув по щиколотки в снегу. Он переминался с ноги на ногу, еле сдерживая ярость. В этот момент я еще могла спасти нашу семью от Стюарта Коллена: к примеру, сказав ему через дверь, что вызвала полицейских и описала его им как опасного бродягу, или что Синеситта только что вышла замуж за инспектора налоговой полиции; но превратности судьбы, о которых рассказывают с античных времен, наверняка имеют смысл, потому что я вдруг почувствовала, что именно мне суждено открыть дверь Стюарту, что ему суждено войти в наш дом, а моей сестре — переносить все страшные последствия этих двух внешне невинных действий.
— Извини, — сказал Коллен.
Он снял туфли и носки. Сел на марокканский сундук в коридоре и начал растирать ноги. Потом спросил, где гостиная. Я ответила, что у нас ее нет. В нашей семье принято собираться не в гостиной, а на кухне. И я отвела его в кухню. Он повесил носки сушиться на радиатор, а туфли поставил под него. Он был одет так же, как и во время первого визита 31 июля. Переодевался ли он хоть раз с тех пор?
— Ты не дашь мне чего-нибудь выпить?
— Кофе или чай?
— Кофе.
Пока я грела воду, он сказал, дуя на свои пальцы:
— Твои разъяснения не слишком удачны.
Он спросил, как чувствует себя Синеситта. Я ответила, что никто никогда не знает, как себя чувствует моя сестра. В тот момент я даже не подозревала, что Стюарт вскоре исправит такое положение дел. В последующие годы мы всегда знали, чувствует ли она себя ужасно плохо, чрезвычайно плохо или просто плохо. А тот, пока еще очень далекий день, когда ей ценой невероятных усилий удалось почувствовать себя не слишком плохо, стал для нашей семьи — или, вернее, для тех, кто от нее остался — огромным праздником.
— Она на меня рассердилась?
— Она никогда не произносит вашего имени.
Это была неправда: она никогда не называла его имени, но у нее было столько других способов прокричать его, воспеть, прошептать, что мой ответ не был честным. Последние пять месяцев моя сестра провела в задумчивом ожидании, за чтивом и молчаливыми обедами, над которыми витала тень Стюарта. Самое ужасное в страданиях Синеситты было то, что она умудрялась так «хорошо» их скрывать, что кроме них ничего не было видно.
— У меня была ужасная работенка, — сказал Коллен.
— И она принесла свои плоды?
— Да, но они не попали в мой карман.
— Неприятности с налогами?
— Налогами? Ах да, налогами…
Позднее я узнала, что Стюарт Коллен не просто уклонялся от уплаты налогов, но и вообще ни разу в жизни не заполнил налоговую декларацию, так как единственные три года перед своим арестом, когда он занимался легальным бизнесом, то есть должен был сообщать о своих доходах государству, он поручал это бухгалтеру.
— Я связался с одним типом, а он смылся со всей кассой.
Есть, без сомнения, страна, населенная исключительно нечестными компаньонами, учитывая то, сколько раз они смываются с кассой. Может, это остров в Тихом океане — один из островов Тонга?
Правда, в случае с Колленом речь шла не о компаньоне. Стюарт ограбил ювелирный магазин в городке Коломб, и его сообщник во время этой операции был убит полицией. Сам он чудом спасся, застрелив по ходу ювелира и ранив в лодыжку продавщицу. Об этом он рассказал во время своего процесса — первого судебного процесса, на котором я присутствовала вместе с Синеситтой, беременной второй дочерью Виржинией.
— Продавщицу, господин судья, я только ранил, так как уважаю простых людей…
Никогда не видала подобного двурушничества.
Я налила ему кофе.
— Мерси, my friend. Кстати, ты парень или девчонка?
— Не знаю.
— Твоя мать тоже не знает?
— Я не спрашивала. В любом случае, никто в семье ее россказням не верит.
Он позволил себе роскошь — этот жулик, этот мошенник, этот душегуб — взглянуть на меня с сожалением и с отвращением вздохнуть, словно говоря: «Ну и в помойную яму я попал!»
— И врач тоже не знает?
— Я никогда не болею.
Он отхлебнул глоток кофе, не сводя с меня глаз.
— Если я пересплю с тобой, то узнаю, парень ты или девчонка.
— Это зависит…
— От чего?
— Соглашусь я переспать с вами или нет!
— Если не согласишься, я тебя изнасилую.
— Если вы меня изнасилуете, то узнаете не только то, парень я или девчонка, но и то, что никогда не будете жить у Брабанов.
Он улыбнулся. Как описать улыбку Стюарта Коллена? Думаю, некоторым сентиментальным проституткам и одиноким адвокатшам она показалась бы проникновенной и потерянной.
— Маленькая стерва, — произнес Коллен чуть ли не с уважением.
Кстати, я никогда не внушала ему страха, как моя сестра, но он всегда испытывал ко мне уважение, а также желание — и, конечно же, полнейшее безразличие.
Я посмотрелась в кухонное зеркало, которое в других семьях обычно висело в столовой, а у нас, Брабанов, — на кухне. Да, я была маленькой стервой. Однако, доказывало ли это, что я девушка?
10
Чтобы соблазнить ее, ему ничего не нужно было делать. Синеситта презирала соблазнение и соблазнителей или, как она говорила, «претендующих ими быть». Она считала, что любовь заключается не в том, чтобы соблазнять и быть соблазненной, а в том, чтобы распознать предназначенного тебе судьбой человека. Только дьявол прибегает к соблазнению. Мужчины и женщины, какими бы разными ни были, выбирают друг друга с первого взгляда. То, что в дешевых романах и сериалах на ТВ называется любовью с первого взгляда, было для нее лишь естественным — нормальным и почти банальным — началом любовных отношений. Если до этого дня она и оставалась одна или почти одна, то лишь потому, что в толпе мужчин — пусть даже кто-то из них ей и понравился бы, а после нескольких свиданий соблазнил бы — ей не встретилось ни одного, которого бы она сама выбрала, выделила, невольно полюбила. Как только она чувствовала себя соблазненной, ей казалось, что она обманута, что ею манипулируют и злоупотребляют. И соблазнитель тут же оставался с носом. Ежедневно звоня к нам по вечерам, он получал от меня неизменный ответ: «Синеситта дома, но разговаривать с вами не желает». Коллен добился успеха у моей сестры лишь потому, что ему и в голову не приходило ей понравиться; и это послужило для нее доказательством его честности и искренности.
В тот вечер, задержавшись в «Прентан» из-за дополнительных ежемесячных выплат, она вернулась из Парижа последней. Папа уже помыл, накормил и уложил Боба, возле которого, как обычно, заснул; а в это время мой плутишка брат, вместо того чтобы спать, методично наносил удары в подвешенную над кроватью игрушку. Мы со Стюартом и мамой сидели на кухне. Пока Коллен надевал носки и туфли, она попыталась отправить меня в мою комнату, но я притворилась тугой на ухо, считая, что если не стану свидетелем второго тет-а-тет между ней и Колленом, никто мне потом не расскажет, как все прошло. Конечно, мое присутствие, каким бы незаметным, прозрачным и бесполым оно ни было, должно было повлиять на характер встречи, но я предпочла остаться и изменить действие пьесы, чем уйти и удовольствоваться потом фантастическими мамиными версиями. То, что произошло с ней в конце этой встречи, на все сто процентов, как будет видно из дальнейшего, оправдывает мое неприкрытое и нахальное упрямство.
Кухня была нашим любимым местом. Мы, Брабаны, очень неохотно покидали ее, и самые приятные и нежные воспоминания о жизни нашей семьи связаны у меня с тем периодом, когда судебные исполнители отключили у нас газ и электричество и все мы: я, Боб, Синеситта и ее пятеро детей (Октав, Марсо, Элиан, Виржиния и Патрик) — спали на кухне. Мы с сестрой устроили спальное ложе перед камином и всю ночь поддерживали в нем огонь. Мы накрывались спальными мешками и одеялами, а утром все сворачивали и складывали в бретонский шкаф. Затем начиналось вальсирование бутылочек с сосками, баночек с детским питанием, тартинок «Нутелла», яичницы и апельсинового сока. Между бретонским шкафом и небольшой печкой, которая нам очень пригодилась для приготовления горячей пищи, когда уже не было денег оплачивать счета, стоял телевизор. Правда, после освобождения Бенито он всегда был выключен. Кухонный стол некогда был столом для переговоров; папа привез его из Женевы, где занимался организацией безопасности принца Брольи — главного участника переговоров со стороны Франции в Эвианских соглашениях (1962). Это был овальный сосновый стол. За него могло усесться человек двадцать. Два окна кухни выходили в наш сад, а третье — на сад Рошеттов, наших соседей. Зеркало, о котором я говорила выше, папа приобрел за счет бельгийского правительства, когда служил в Риме во времена фашизма. Это было большое венецианское зеркало в позолоченной раме. С конца весны до середины лета оно ловило лучи заходящего солнца и меланхолично бросало их нам в глаза. На стенах висело несколько фотографий: мой отец, пожимающий руку главному крупье казино в Перрос-Гиреке; мама, подающая кусок копченой семги жене президента республики; десятилетняя Синеситта перед большим бассейном в Шампиньи-сюр-Марне, победившая в соревнованиях по плаванию баттерфляем; я в наряде Клеопатры в пародии на «Антония и Клеопатру» — представлении, которое мы давали на ежегодном празднике в Эгьен-д’Орв; наконец, Боб в роддоме Обервиля в день своего рождения. И ни одного снимка нашего брата-бандита. Впрочем, один раз папа сфотографировал нас всех вместе на пляже в Плестене. Получился красивый портрет, но папа сорвал его примерно через час после того, как Бенито изнасиловал маму прямо на плиточном полу в кухне. Бенито, хотя и не был урожденным Брабаном, тоже беззаветно привязался к нашей кухне, и ему было трудно покидать ее даже после того, как он совершил такой ужасный поступок. Стюарт Коллен, прекрасно разыгрывая роль будущего зятя, переходил от одного снимка к другому с удивленным и задумчивым видом.
— Я могу вам помочь? — спросил он у мамы, чистившей картошку.
— Расскажите мне лучше, какие чувства вы испытываете к Синеситте?
С тех пор, как моя сестра объявила, что собирается выйти за Коллена замуж, мама перестала его понимать, а также испытывать к нему жалость. В идеале она хотела бы, чтобы Синеситта нашла мужчину, но, по мнению мамы, для Синеситты ни один мужчина не представлял собой идеала.
— Вы должны это легко понять, ведь вы чувствуете то же самое.
— Между нами есть разница: вы видели Синеситту только раз прошлым летом, а я вижу ее каждый день вот уже тридцать шесть, а скоро и тридцать семь лет.
— Вы считаете, что если бы я лучше узнал вашу дочь, то на ней не женился бы?
— Вышла ли бы она за вас замуж, если бы узнала получше?
— Я не платил налоги, это верно. Но разве за это меня следует навсегда лишить любви?
Мама поставила картошку под струю воды из крана. Сад уже погрузился в темноту. В кухне царила угнетающая и тяжелая жара, иногда рассекаемая струйкой ледяного воздуха.
— Я знаю свою дочь, — сказала мама. — Она вас искрение любит. Если вы причините ей зло, я вас убью.
— Убив меня, вы убьете и ее.
— Я предпочитаю видеть ее мертвой, но только не несчастной.
— Родители всегда так думают. Но что они знают о счастье и несчастье? У родителей слишком много забот. А счастье и несчастье предназначены для детей и для людей, у которых детей нет.
Мама посмотрела на него с глубоким затаенным страхом, думая, что теперь из-за неслыханного выбора Синеситты ей придется жить в тесном соседстве с этим непонятным и темным человеком, нарочитая непоследовательность которого, без сомнения, скрывала тайную и неуловимую логику, приводившую ее в ужас.
— У вас есть какое-нибудь хобби? — спросила она лишь бы что-то спросить, поскольку молчание между ними становилось слишком жутким — разгорающимся костром, вокруг которого их трагические судьбы начали свой танец смерти.
— Да: я отдаю свои долги.
— На что вы собираетесь жить с моей дочерью?
— Я намереваюсь войти в попечительский совет предприятий.
В какой древней книжонке по экономике или управлению, которую он пролистал в темном и зловонном углу тюремной библиотеки, откопал он это устаревшее выражение?
— И что же вы собираетесь советовать предприятиям?
— Не увольнять людей. Безработица — невыносимая вещь.
— Как бы там ни было, — произнесла мама все более отрывистым и задыхающимся голосом, — содержать Синеситту вам не придется, она сама зарабатывает себе на жизнь.
— Этого и мне бы хотелось, — заявил Стюарт покорным и слащавым тоном, который употребляют нищие, жалуясь на плохую жизнь.
Зазвонил телефон, и я бросилась к нему. В нашем доме трубку всегда снимала я, хотя мне никто не звонил: в лицее, да и в других местах меня считали слишком странной, чтобы разговаривать со мной еще и по телефону. Я передала трубку Стюарту и подошла ко второму аппарату. Коллен показался удивленным. Он не знал, что второй телефон установили исключительно из снисхождения ко мне — поскольку мне никогда не звонили, я могла слушать чужие разговоры.
— Я зашел к вам, чтобы рассказать новости о Бенито, — сообщил Коллен моей сестре.
— Как он себя чувствует?
— Хорошо. Продолжает писать письмо с извинениями.
— Я надеялась, он его уже закончил.
— Бенито сказал, что еще никогда не сочинял такую длинную вещь и к тому же с сентября по ноябрь у него был кризис. По его словам, текст, который он пишет, может испугать точно так же, как нацеленный на вас пистолет.
— А как вы, Стюарт, в порядке?
— У меня железное здоровье. А что у вас?
— Моя лодка дала течь.
— Неприятности?
— Мой жених не давал о себе знать целых пять месяцев.
— Сожалею, но я вкалывал как негр. Хотел, чтобы вы мною гордились.
— Вы снова разбогатели?
— Нет, стал еще беднее, чем когда вышел из тюрьмы.
— Это не имеет никакого значения. Вы начнете новое дело.
— Я разорен, Синеситта.
На протяжении всего их разговора я видела, как мамины жесты становятся все более медлительными, неуклюжими, тяжеловесными, пока ее руки, лицо и глаза совсем не застыли, скованные холодным ужасом, как лед или свиное желе.
— На самом деле разорен? Или как кинопродюсер, который отказывается заплатить за занавески, купленные его женой, а сам проводит Рождественские каникулы во дворце на мысе Антиб?
— Разорен, это правда. Я даже был вынужден срочно продать свою «BMW».
— Почему срочно?
— Чтобы сохранить целым мизинец.
— Карточный долг?
— В тот вечер я был в ужасной депрессии. И спустил десять штук в покер.
Мама бросила на Стюарта ненавидящий взгляд, вытерла передником руки и принялась за сервировку стола. Она не просила меня помочь, надеясь, что позже я подробно перескажу ей все, что говорила ее старшая дочь.
— У меня есть сбережения, — сказала Синеситта.
Теперь мамино лицо стало мертвенно-бледным. Она мелкими шагами засеменила от буфета в стиле Генриха II — который я опустила в своем описании, как и шведские часы, английскую гладильную доску, маленький индийский шкаф, а также другие вещи, купленные папой во время его командировок за границу, поскольку здесь находилось слишком много мебели и предметов, чтобы перечислить их все за один раз, и я оставляю за собой право по своему усмотрению привносить по ходу повествования то или иное уточнение, касающееся обстановки и украшения нашей кухни — к столу из смолистой сосны, стоявшему в трех с половиной — четырех метрах от буфета, и при этом несколько раз сильно покачнулась.
— Я хочу, Стюарт, чтобы вы любили меня за мои деньги, даже если сочтете, что у меня их недостаточно.
— Почему?
— Тогда я буду уверена, что вы любите меня хоть за что-то.
— Вы не хотите, чтобы я любил вас просто так?
— Если вы будете любить меня просто так, то ваша любовь может исчезнуть в любой момент по любой причине, а если вы будете любить меня за мои деньги, то ваша любовь будет продолжаться до тех пор, пока они у меня не закончатся.
— Синеситта, — произнес Стюарт со вздохом, полным порочности и низменного удовлетворения, — у вас нет денег, во всяком случае того, что я называю деньгами.
Мама зашаталась, и на этот раз я поняла, что обязана броситься ей на помощь, временно отложив свою работу шпиона. Я помогла ей сесть в кресло в стиле Луи XIII, купленное папой на аукционе в Монако во время распродажи имущества проходимца Стависки. Задыхаясь, с бешенно бьющимся пульсом, мама приказала мне тем не менее вернуться к телефону. Я дала ей стакан воды и направилась к Стюарту.
Он уже повесил трубку и повернулся ко мне с таким умиротворенным, спокойным и почти женственным выражением лица, какое бывает у человека, только что взятого на содержание.
— Синеситта просила передать, чтобы ее не ждали к ужину. Она вернется поздно и сразу отправится со мной спать.
Мама упала с кресла — мертвая.
11
Кладбище Монтерей-су-Буа, как сказал папа, когда мы остались вдвоем перед маминой могилой, — простым и красивым черным памятником, выбранным Стюартом и Синеситтой, — похоже на семь холмов Рима, покрытых сказочным снегом.
Гигантское желто-голубое небо над посмертными жилищами могло бы, по мнению паны, нависать над Форумом или Ватиканом. Между могилами изящно вились аллеи. Кипарисы окаймляли главную из них — Аппиеву дорогу[10] смерти.
Нужно ли было брать Боба на похороны? После долгих дебатов мы все же решили, что это не причинит ему никакой боли — сейчас он еще ничего не поймет, а позднее, когда осознает, что его мать умерла, не сможет нас упрекнуть, что мы скрыли от него эту новость и не взяли на траурную церемонию. Он прижимался к груди моей сестры, обхватив ее за шею руками. Рядом с ней в новом костюме — купленном второпях на сбережения Синеситты — стоял Стюарт, преображенный, расслабленный, аккуратный и привлекательный. На похоронах мамы его наконец представили нашему окружению — с торжественной скромностью в виду обстоятельств. На него смотрели, обхаживали, поглядывали украдкой и восхищались. Люди, видевшие его прошлым летом в нашем саду, с трудом его узнавали. Он казался мужественным, серьезным, любезным и хорошо одетым женихом, которого Синеситте пришлось ждать слишком долго. Даже Глозерам он пришелся по душе. Во всяком случае, они шепнули это на ухо моей сестре, когда приносили ей свои соболезнования.
Пока человек не погребен, он еще не исчез. О нем заботятся, посылают приглашения от его имени. Только по возвращении с этого грустного и неудавшегося «приема», которым являются похороны, начинаешь осознавать, что один из приглашенных отсутствует и будет отсутствовать всегда. Вернувшись домой, мы окончательно поняли, что мама умерла. Боб дал старт печали, как дают старт скачкам, и неуверенным голосом стал требовать свою мать. Он уселся за письменный голландский столик для детей между бретонским шкафом и индийским книжным шкафом и начал раскрашивать альбом, замкнувшись в себе и не желая ни с кем разговаривать. Он не хотел ничего знать, ничего слышать, и мы несколько недель боялись, что он будет страдать аутизмом. Смерть мамы он начал оплакивать только в тот день, когда его жена родила их первую дочь. В этот момент ему показалось, что мама сдвинула надгробный камень, под которым лежала двадцать пять лет, и появилась возрожденная и необычайно помолодевшая, словно в течение четверти века проходила курс талассотерапии. Когда он взял на руки ту, которой предстояло стать Аделью де Семене — знаменитым офтальмологом, — все слезы, сдерживаемые им с детства, сдавили ему грудь (он даже подумал, что задыхается), затем обильным потоком хлынули наружу, заливая рубашку, кровать жены и Адель, чей первый душ на земле оказался душем слез. Боб так сильно напугал акушера, что тот предложил его госпитализировать. Вначале Боб отрицательно покачал головой, но, увидев кровать на колесиках, сразу улегся на нее. Его поместили в отдельную палату, где он проплакал целую неделю. Его уже собирались перевести в больницу Святой Анны, но директриса родильного отделения — дипломированный психолог — считала неправильным разлучать его с женой. Та с Аделью в руках порой заходила его проведать, но вряд ли сквозь беспрерывный поток слез он различал силуэт дородной женщины и неподвижного, удивленного ребенка. Когда она вместе с сыном Синеситты Октавом, которому уже исполнилось двадцать четыре, приехала его забирать, Боб, похудевший на десять килограммов, вышел к ним навстречу, держа под мышкой бутылку минеральной воды Виши. Врачи нашли его организм настолько обезвоженным, что предписали ему выпивать по стакану каждые полчаса. Позднее он перешел на виски и не трезвел одиннадцать лет. Когда жена его бросила, он начал посещать психоаналитика, обрел внутреннее равновесие, нашел стабильную работу и возвратил — не без труда — свою семью. С тех пор он стал осмотрительным. Нужно было видеть его, затянутого во фрак, как в смирительную рубашку, с бритой головой, как у турецкого полицейского, терзаемого угрызениями совести из-за своей буйной молодости, в день бракосочетания Адели с Альбером де Семене в церкви Сент-Оноре-д’Ейло.
Декабрьская ночь, словно большая овчарка, ищущая места для сна, неспешно опускалась на наш сад и улицу Руже-де-Лиля. Папа молча гладил волосы Боба, который тоже молчал. Стюарт и моя сестра поднялись на третий этаж, якобы посмотреть письма и фотокарточки мамы.
— Я решился завести детей с твоей матерью, потому что она была на тридцать лет моложе меня, — сказал отец, — и я был уверен, что умру раньше.
— Если случится такое несчастье, мы с Синеситтой позаботимся о Бобе.
— Ты даже не знаешь, парень ты или девчонка.
— Когда-нибудь узнаю.
— Когда?
— В этом году или в будущем.
— Чем раньше, тем лучше.
Папа уже стал говорить, как мама. Наверное, в любой семье всегда должен быть человек, который заботится обо всех и обо всем. Маме удавалась эта роль, и папу, конечно, теперь мучил вопрос, не выбрал ли его божественный режиссер ей на замену. В этот момент он, конечно, не подозревал, что пока всего лишь проходит пробы и кое-кто другой будет взят на эту роль.
— Ты чувствуешь себя больше парнем или девушкой?
— А ты кого бы хотел?
— Мне все равно. Главное, чтобы ты кем-то стала, вот и все.
— Но у тебя же есть предпочтения.
— Если ты хочешь пойти в армию, то лучше быть парнем.
— В армии есть и девушки.
— Они печатают на машинках и делают уколы. И кстати, делают все очень плохо. Я, например, только когда ушел из десантников, — правда, должен заметить, не по своей воле, — только тогда смог читать то, что сам написал, и избавился от синяков на заднице.
— Между прочим, среди летчиков-истребителей есть одна девушка.
— Ты правильно сказала: одна. А знаешь, сколько парней среди летчиков-истребителей?
— Нет.
— Сотни.
— В любом случае, я быть летчиком-истребителем не хочу.
Он встал, сочтя тему исчерпанной. А может, просто устал от беспредметного разговора? Когда через час моя сестра, в просторном темно-синем пуловере и черных обтягивающих джинсах, которые молодые женщины, прозанимавшиеся любовью всю вторую половину дня, любят быстро натягивать, не помывшись, появилась в кухне, она спросила меня, почему Боб все еще не спит — и это она-то, которая еще неделю назад не могла назвать второе имя нашего маленького брата или его астрологический знак, не говоря уже о светиле, под которым он родился. Я ответила, что он еще не в постели, потому что не обедал.
— Почему он еще не обедал?
— Он хандрит из-за смерти мамы.
Она присела рядом и положила голову мне на плечо. Потом потерлась лбом о мою спину, как часто делала, когда я была ребенком и просила ее почитать перед сном одну-две страницы из какой-нибудь сказки. Тогда она обнимала мою тощую грудь своими мускулистыми руками бывшей чемпионки среди юниоров по баттерфляю, и мы вместе катались по постели.
Она открыла холодильник и вытащила картошку, очищенную мамой во время второго и последнего разговора с Колленом.
— Поджарить или сделать пюре? — спокойно спросила Синеситта.
— Жарить, — закричал Боб, — жарить!
Ребенком он всегда повторял конец слова дважды, подобно тому, как заметил папа, Дон Жуан, умирая, кричит два раза подряд «Ах» в предпоследней сцене оперы Моцарта.
Синеситта крутилась по кухне точно как мама, хотя раньше передвигалась по ней с подозрительным и скованным видом, словно все время боялась какой-то ловушки, заговора или засады. Сходство стало полнейшим, когда она, вытаскивая стаканы и тарелки и расставляя их на овальном столе, спросила меня, как прошли занятия. Обычно этот вопрос мама задавала не мне, а Синеситте. Но поскольку моя сестра стала теперь моей матерью, не должна ли была и я превратиться в мою сестру? Это сняло бы раз и навсегда вопрос о моем поле.
Если бы в тот день, когда я впервые увидела Стюарта Коллена, у меня спросили, что я о нем думаю, я бы ответила, что он из тех типов, которые входят в кухню со словами: «Тут вкусно пахнет». И, войдя в тот вечер в кухню, он именно это произнес:
— Тут вкусно пахнет…
И добавил:
— … жареной картошкой.
Он взял кусок хлеба в корзинке, сжевал его, глядя на наш заснеженный сад, и, предложив самому себе аперитив, спросил, где стоят бутылки «Рикара», «Мартини» и «Чинзано». Стюарт Коллен мог быть одновременно чудовищно грубым и деликатным, ужасно вульгарным и утонченным, что, по моему мнению и мнению многих психиатров и криминологов, является признаком извращенности — причина, по которой эта черта характера, без сомнения, соблазняет стольких женщин. «У женщин есть одно наваждение: испытать оргазм, и если им это не удается, они начинают думать, что смогут испытать его только с извращенцем». (Бенито, интервью журналу «Эль»).
— Какое будет мясное блюдо?
— Никакого, — ответила Синеситта.
— Это еще почему?
— Брабаны — вегетарианцы.
— Я не Брабан.
— Теперь ты один из них.
— В нормальных семьях девушка, выходя замуж, берет фамилию парня, а не наоборот.
— Мы — не нормальная семья.
— Значит, это правда — то, что мне рассказывал Бенито во время прогулки?
— И что же он рассказывал? — равнодушно спросила Синеситта, принявшись чистить лук и сладкий перец для салатного соуса.
— Что у вас ненормальная семья.
— Потому что Бенито сам себя считает нормальным?
— По меньшей мере, таким же нормальным как и остальное семейство, если не больше.
— Значит, изнасиловать свою мать — это, по-твоему, нормально?
— Все зависит от матери.
Когда мы с Синеситтой с тем интересом, который можно себе представить, будем читать «Ад мне лжет», эта последняя фраза Стюарта Коллена, показавшаяся нам в тот момент загадочной, приобретет для нас подлинный смысл.
— Папа, — объяснила Синеситта, — дал обет, что не проглотит ни кусочка мяса, пока произведения генерала де Голля не опубликуют в «Плеяде». Из-за того, что он ел только овощи, мы тоже перешли на них и чувствуем себя прекрасно. И потом, действительно, почему этого бедного генерала не опубликовали в «Плеяде», как Эсхила и Цезаря — тоже военных, между прочим.
Еще одна мамина фраза. Раньше Синеситта находила папин обет абсурдным и делала все для того, чтобы он от него отказался, и даже нарочно съедала бифштекс за каждым обедом.
— Я вам скажу, кто вы такие, Брабаны…
— И кто же? — спросила Синеситта ошеломленным и легкомысленным тоном девицы, испытавшей оргазм впервые в жизни.
— Фашисты. Именно это сказал Бенито во время прогулки.
— Так это нас или Бенито с винтовкой и гранатами арестовала полиция на стадионе Парк-де-Пренс во время футбольного матча Франция — Израиль?
— Нито! — завопил Боб. — Нито!
— Не волнуйся, — произнесла Синеситта. — Бенито просидит в тюрьме еще три года, а потом мы найдем способ отделаться от него навсегда.
— Бенито не такой, как вы, — заявил Коллен. — Он любит футбол.
— Он играл в футбол, когда учился в лицее Мориса Тореза, — уточнила Синеситта. — Это было через год после смерти нашей кошки Дюпликаты. Он был вратарем. Игроки команды-соперника боялись даже приблизиться к его площадке. Они били издали и никогда не попадали по воротам.
— Вот это я называю хорошей защитой!
— Незадача в том, что его не меньше боялись и собственные защитники. Они старались держаться от него подальше, в итоге матч проходил в той части поля, где наш брат не играл.
— Прекрасно! — воскликнул Коллен, наливая себе «Чинзано».
Он уже не боялся не только следующего стакана, но и следующей бутылки.
— Футбол, — сказала Синеситта, — был придуман не для того, чтобы играть на одной половине поля.
— В футбол играют, чтобы одна из команд выиграла. Ладно, схожу за мясом.
— В такое время?
— На обед мне всегда нужно мясо.
— Интересно, как ты обходился без него в тюрьме?
— Теперь я не в тюрьме. Дай мне ключи от машины — если это можно назвать машиной.
Она дала ему ключи, и он быстро опустошил второй стакан «Чинзано». Я поняла, почему умерла мама: в тот момент она, конечно, увидела эту сцену своими провидческими глазами лгуньи, способными различить все как в прошлом, так и в будущем.
— Возьми все мои деньги, — предложила Синеситта.
— Чтобы купить отбивную, мне не нужны все твои деньги. Я понимаю, что вы, Брабаны, — вегетарианцы, но ведь нужно иметь хоть малейшее представление о том, сколько стоит отбивная!
— А если ты ее не купишь?
— Почему это я ее не куплю? Я специально за ней и иду.
— А если ты идешь не за ней?
— Тогда за чем? Просто ради удовольствия? Ты видела, какая погода?
Он обнял ее за талию, прижал к себе и прошептал:
— Удовольствие у меня внутри.
Лицо моей сестры было мрачным и упрямым, как в день экзамена. Картошка на сковороде подгорала, но она не обращала на это внимания, доказывая тем самым, что не стала нашей матерью, а осталась Синеситтой — бесплотной и неземной, — которую я обожала. Если я еще не выбрала пол, то не потому ли, что не решила — стать ли своей собственной сестрой или вступить с ней в связь?
— А если, — сказала она Коллену, напрягшись в его объятиях, — ты идешь и не ради удовольствия?
— За чем же я тогда иду?
— Чтобы уйти.
— Уйти куда? Теперь это мой единственный дом.
Он снисходительно усмехнулся. Что я больше всего ненавидела в жизни, так это видеть свою сестру в объятиях снисходительно усмехающегося мужчины, и думаю, многие люди обоих полов чувствуют в отношении своих сестер то же самое.
— Тошка! — безнадежно кричал Боб. — Тошка!
Стюарт поспешил к плите, выключил газ, переставил сковороду и вывалил картошку. У меня появилось подозрение, что моя сестра не долго будет заниматься кухней. Боб с любовью посмотрел на будущего шурина. Нет больших предателей, чем дети. У моего отца, служившего во Внутренних войсках Франции, было твердое мнение по этому поводу: французы, сотрудничавшие с немцами во время последней войны, просто еще не достигли зрелого возраста, и по этой причине история коллаборационизма более невероятна, поэтична и захватывающа по сравнению с историей Сопротивления, так как коллаборационизм — это история детей, а Сопротивление — история взрослых.
— Я куплю эту чертову отбивную и вернусь, — пообещал Коллен.
— Возьми мою сумку, — сказала Синеситта.
— Я не роюсь в дамских сумочках.
— Не знаю, не знаю.
— Чего ты не знаешь?
— Того, что тебе захочется сделать, когда тебе захочется это сделать. Я не желаю, чтобы ты в чем-то себя обделял, заставлял себя, и вообще, изменялся. Я хочу, чтобы ты оставался самим собой — ведь я люблю только тебя.
Коллен покачал головой — ошеломленно, насмешливо, гордясь величиной тех разрушений, которые всего за несколько дней произвел в сердце моей сестры. Он вышел, так и не взяв сумочку. А Синеситта осталась сидеть в полной прострации на стуле. Вот так неожиданно тяжкое бремя кормить Боба картошкой свалилось на меня. Коллен возвратился через полчаса. По его выражению, он обрыскал всю округу. Пока его не было, моя сестра ни разу не шелохнулась, и мне пришлось самой помыть тарелку Боба, вытереть его стул, а потом и его самого, потому что от него до неприличия воняло жареной картошкой.
— Я купил говяжий бифштекс, — сказал Стюарт, разворачивая пакет.
И Синеситта снова засуетилась, словно одного появления Коллена было достаточно, чтобы вырвать ее из того холодного и тревожного сна, в котором она пребывала на протяжении тридцати шести лет. Она поджарила Стюарту мясо, и мы смотрели, как он ест, дожевывая сами остатки картошки.
12
Они остановились в отеле «Эбери Корт» в Кенсингтоне. Стюарт спросил, свободны ли апартаменты «Медовый месяц». Администратор проверила по компьютеру. Апартаменты «Медовый месяц» оказались заняты, но должны были освободиться через день.
— It let us the time to get married,[11] — сказал Коллен на кухонном английском или, скорее, на тюремном, поскольку сдал экзамен по английскому языку на девятом году заключения.
Администратор — курносая блондинка с круглыми розовыми щеками, поддельным платком «Гермес» вокруг маленькой шеи и настоящей майкой «Шанель», обтягивающей пышные груди, — улыбнулась и поинтересовалась у Коллена, желает ли он зарезервировать апартаменты, о которых идет речь. Он повернулся к моей сестре, и та на гораздо более чистом английском, который я, к сожалению, не могу воспроизвести, поскольку мой английский не намного лучше, чем у Коллена, спросила, сколько это стоит. Стюарт пронзил ее взглядом, сочтя, что она выставляет его сутенером, хотя она вела себя как экономная и простая женщина, и это прекрасно видел гостиничный персонал. Люди часто забывают, что гостиничные работники живут не там, где работают, а в удаленных пригородах и маленьких квартирках на окраине города. Администратор назвала цену, и моя сестра согласно кивнула, не глядя на Коллена. Он же воспринял этот жест за желание показать, что платит она, хотя Синеситта просто хотела как можно скорее доставить ему удовольствие. Она подсчитала, что они смогут провести в апартаментах «Медовый месяц» шестьдесят одну ночь при условии, что будут съедать один салат на обед и обедать раз в день, что, зная Коллена, ей казалось невозможным.
Их первая комната была зеленой и треугольной. Такое — если верить Ивану Глозеру, который много времени проводил по делам в Лондоне и, кроме того, был специалистом по гостиничному делу, точнее, по англо-саксонскому гостиничному делу — часто встречается в британской столице, где также нередко можно увидеть номера, расположенные в шахматном порядке или по кругу, словно лондонские архитекторы хотели опробовать все геометрические фигуры в пространстве. Даже я во время своего третьего свадебного путешествия, остановившись в «Сидней отеле», жила в комнате, которая образовывала почти равнобедренную трапецию.
Толстый буклированный ковер с желтоватыми и серыми узорами заглушал шаги двух любовников, чувствовавших себя неловко из-за того, что им нечего было класть в шкафы. Они не взяли с собой багажа, поскольку Стюарт считал, что путешествовать с багажом слишком обременительно. Он спустился в холл поменять пятьсот швейцарских франков и, возвратясь, дал Синеситте сто фунтов.
— Сто — тебе, сто — мне. Баш на баш. Я всегда поступал так со своими курочками, когда платил сам.
— Курочками?
— Моими женщинами, ну, невестами, то есть женой.
— Ты был женат, Стюарт?
— Да, разве я тебе не говорил?
— Нет.
Стюарт представился нам как холостой мужчина, без прошлого, без привязанностей — и эта пустота, которую он нес в себе, засосала мою сестру. Коллен произвел в своем роде эффект воронки. Сложные люди предпочитают людей простых, а нет ничего более простого, — чем ровное, голое место. Если бы Стюарта не окружала пустыня, Синеситта вряд ли бы осталась с ним. Кстати, несколькими днями раньше Стюарт упомянул, что у него есть брат Ален — банкир в Сити.
Синеситта вернула ему сто фунтов.
— Зачем ты хочешь делить деньги, которые принадлежат тебе так же, как я?
Удивившись, Стюарт засунул в карман сто фунтов и посмотрел на мою сестру так, как восточные немцы в 1989 году после падения Берлинской стены взирали на витрины Курфюрштендамма: остолбенев от изумления и страха, словно прилетели с какой-то пустынной планеты и сразу попали в Капую или на Кеферу. Мир, в котором Коллен жил с детства, был, как мы узнали позднее во время процесса, жестоким и черствым, а весь процесс представлял собой потрясающее путешествие в прошлое, вроде того, которое описано «В поисках утраченного времени», где судьей был Пруст, а обвиняемым — Марсель; это был мир дипломатов и финансистов, из которого он все время стремился вырваться: сначала с помощью преступного мира, затем — брака, потом — убийства, но который, если верить судебному психиатру, заморозил в нем почти все чувства уже на третьем или четвертом году жизни. Синеситта предложила ему совсем другое: теплоту и великодушие, и, скорее всего, именно это его испугало.
Они решили пообедать в ресторане «Кен Ло’с Меморис оф Чайна», находившемся в тридцати домах от их отеля, и Стюарт заказал столик по телефону. Моей сестре показалось, что имя Коллена произвело на администратора ресторана некоторое впечатление, так как вначале тот сказал, что мест нет, а когда Стюарт представился, столик освободился словно по волшебству. Их усадили в нескольких метрах от принцессы X, одетой в короткое черное декольтированное, сексуальное платье, какие носят тридцатилетние женщины, когда выходят по вечерам без мужей. Ее сопровождало несколько друзей, утопавших в ее славе и робко, но с восхищением взиравших на нее в те моменты, когда приносили новое блюдо — горстку салата или кантонского риса.
— Она приходит сюда из-за ностальгии, — заметил Стюарт. — Виндзоры — завсегдатаи этого китайского ресторана.
Моя сестра обожала обедать и ужинать со Стюартом в городе. Пять лет, что они провели вместе, — я, естественно, не считаю те несколько дней, когда Стюарт, сбежав из тюрьмы, прятался с Синеситтой в подполье и когда они умудрились зачать своего пятого и последнего ребенка Патрика, — они не вылезали из ресторанов, проев (в полном смысле этого слова) сбережения Синеситты, ее и мое наследство, а также сбережения папы. В ресторане Стюарт сиял, расцветал. За столом он вел себя как летчик «Миража IV»[12]. Сперва он получал наслаждение от меню, которое изучал медленно и тщательно. Он утверждал, что большинство людей не умеет читать меню в ресторане. Они нервничают, пугаются, перепрыгивают через закуски, пропускают вторые блюда и останавливаются на десертах, не понимая, что с ними происходит, впадают в отчаяние, закрывают меню, закуривают сигарету, заказывают аперитив, начинают разговор. Когда приходит метрдотель, они снова быстро открывают меню, узнают несколько слов — всегда одних и тех же: спаржа, курица в горшочке, мясо с рокфором или, если это меню в китайском ресторане, пирожки, цыпленок с карри, кантонский рис, утка в желе — и, в результате, едят одно и то же всю жизнь. Но если бы они потрудились изучить меню, то питались бы изысканной и разнообразной пищей. Стюарт сразу же устанавливал личный контакт с официантами, считавшими его особенным, исключительным клиентом.
Затем начиналась церемония с винами, в которой Стюарт особо не блистал, а слово «одежда»[13] напоминало ему доступных женщин с Пигаль или Сен-Дени, которых он был лишен в течение двадцати лет. И вот начинался сам обед, во время которого глаза Коллена округлялись каждый раз, когда приносили новое блюдо. Его челюсти стучали, как флаг на сильном ветру. Он извивался от наслаждения на своем стуле. Это был час, когда он расслаблялся, откровенничал, не боясь, что его раскритикуют, обнаружат, арестуют. В ресторане у Стюарта возникало необъяснимое чувство защищенности, превращавшее его в изысканного собеседника. Все женщины, с которыми он переспал, были соблазнены им в ресторане — кроме Синеситты, потому что ее он не соблазнял.
Уходя, они прошли мимо X. У нее был отсутствующий взгляд женщины, на которую слишком много смотрят. Когда они очутились на улице, Синеситту вдруг охватили мысли о маминой смерти — она почувствовала себя словно в лихорадке или как попавший в капкан заяц. Лондон пах дождем и каменным углем, и моя сестра неожиданно вспомнила, что одну зиму мама работала раздельщицей рыбы на кухне в Лондонской резиденции архиепископа Кентерберийского, и это позволило ей следующим летом совершить трехмесячное путешествие в Таиланд, куда позднее она возвратилась уже с моим отцом и именно тогда усыновила Бенито, за что не переставала кусать себе локти до самой смерти. Синеситта искала в силуэтах молодых девушек, прогуливавшихся по Эбери-стрит, какую-нибудь деталь, которая хотя бы мимолетно напомнила ей маму. Но Стюарт затолкал ее в такси и повез на Оксфорд-стрит, 100, в дискотеку, куда, по его словам, он ходил со своим братом в юности, когда они учились во французском лицее. Сидя за столом, Синеситта потягивала оранжад, а Стюарт разошелся на танцплощадке. Она не сводила с него глаз — грузного, запыхавшегося, с длинными жирными волосами, с грубым лицом, черты которого казались незавершенными, словно какой-то скульптор вытесал их, но не обтесал. Ей нравилось, как он широким жестом заказывал апельсиновую водку, как приставал к девицам, хватая их за талию своими огромными потными лапами и нашептывая на ухо сальные фразы, заставлявшие их зеленеть от отвращения. Она привезла его в отель около пяти утра. У него больше не было денег, чтобы оплатить всю выпитую водку, и Синеситта была вынуждена расплатиться своей кредитной карточкой.
На следующее утро, когда Стюарт еще спал, она поменяла двадцать тысяч швейцарских франков в ближайшем банке и из телефонной кабины позвонила домой. Как обычно, трубку сняла я. Она сообщила, что они в Лондоне. Я сказала, что если она заболеет, то пусть возвращается во Францию, но только не идет в Вестминстерский госпиталь, где мама когда-то чуть не умерла от тахикардии, которую дежурный врач принял за отравление алкоголем.
— Я перезвоню тебе через несколько дней, — пообещала Синеситта. — Мы в отеле «Эбери Корт» в Кенсингтоне. Прощаюсь: мне нужно зайти в аптеку и купить тест на беременность.
— Ты беременна?
— Узнаю через полчаса.
— Если результат окажется положительным — перезвони.
— Хорошо.
Поскольку она не перезвонила, я решила, что она не беременна, и очень удивилась, когда спустя восемь месяцев, папа, найдя парочку в пресвитерианском госпитале в Глазго, сообщил мне по телефону, что Синеситта родила великолепного ребенка весом четыре сто, «круглого и белого, как сын норвежского хоккеиста и голландской коровы».
Проснувшись, Коллен увидел на ночном столике чуть меньше десяти тысяч фунтов, а на стуле — Синеситту, смотревшую на него не как на отца, а как на мужчину, или, вернее, на часть — маленькую, уже изношенную часть, которой когда-нибудь предстояло исчезнуть — ребенка, которого она ждала от него.
— Почему ты на меня так смотришь?
— Я беременна.
— Тогда это я должен так смотреть на тебя.
— Ты бы хотел мальчика или девочку?
— Чтобы сделать аборт?
Синеситта встала и сказала ему, что он ее не любит. Седой, растрепанный, с недружелюбным и мутным с похмелья взглядом, он ответил, что да, он ее не любит, никогда не любил, что находит ее скучной за столом и зажатой в постели, и что он уже слишком стар, чтобы иметь детей. Синеситта подумала, что он шутит, — и неожиданно он тоже это подумал, — и предложила пойти к Хэрродсу, чтобы купить одежду.
— Ты считаешь, я пойду к Хэрродсу не позавтракав? Ты представляешь, сколько водки я вчера выпил?
— Четырнадцать стограммовок.
— Четырнадцать?
— Это мне стоило сто двадцать три фунта.
Синеситта, хотя была и всегда будет беспредельно щедрой со Стюартом, не забывала, что умеет считать, и никогда, кстати, не переставала считать, даже когда не было чего считать, кроме долгов, дефицита и ажио[14].
В общем, они пошли к Хэрродсу и накупили там всякой одежды на семьсот восемьдесят два фунта — эту цифру сестра сообщила мне (хотя я ни о чем ее не спрашивала), когда заболела раком. Затем эти легкомысленные растратчики материнского наследства, оставив пакеты в отеле и переодевшись во все чистое и новое, пошли гулять по Лондону. Город гудел, роясь вдоль унылой и наводящей тоску Темзы. Коллен показал ей окна квартиры в Челси, где жил с девяти до девятнадцати лет. Затем они словили такси и поехали в Хайгейт, где Синеситта, будучи подростком, провела две недели вместе с другими детьми из нашего города, изучая язык. Эту поездку организовал и финансировал муниципальный совет, большинство в котором составляли коммунисты. Потом некоторые родители жаловались, что их дети дважды посетили могилу Маркса. В свою защиту муниципалитет в лице самой молодой и самой робкой из всех воспитательниц, ставшей спустя много лет членом национального бюро Французской компартии, утверждал, что во время первой экскурсии дети ничего не увидели из-за дождя, чего никто не мог проверить, а ни один ребенок не мог подтвердить или опровергнуть, поскольку все они дурачились между могилами.
В полдень Синеситта предложила пойти пообедать.
— Куда? — спросил Коллен.
— У нас есть выбор: здесь полно ресторанов, а у нас полно денег.
Коллен поцеловал ее в губы. За несколько дней она поняла, как должна с ним обращаться и что говорить, чтобы стать необходимой для его счастья, душевного равновесия и даже жизни. Он еще не осознавал, до какой степени привязался к ней — он, который с первого дня их знакомства заявил, что никогда ее не полюбит. Когда они сели в такси, она взяла его за руку, и ему захотелось ее убить. Ему казалось, — как рассказывает Бенито в своей третьей и последней книге, получившей премию Союза литераторов, — что это желание возникло из-за того, что он ее ненавидит. Хотя, не без лукавства подчеркивает мой старший брат, причина была в обратном. Они пересекли Лондон, прижавшись друг к другу в глубине салона машины. «Юбер, — пишет Бенито, — наткнулся своим отяжелевшим от грехов и проклятий лбом на чистую и цельную любовь, в которой свято поклялась ему Мари-Шарлотта, и теперь его лоб стойко переносил удары». Эта книга действительно является романом с реальными прототипами, где Бенито изменил все имена и где я появляюсь под прозрачным моцартовским псевдонимом Керубино[15].
Лондон раскрывал перед ними мрачные улочки, заполненные гуляющими мужчинами и женщинами, которым, казалось, всем до единого удалось избежать чего-то ужасного, и теперь они мирно проводили свои дни и восхитительные вечера рядом с замечательным и близким человеком. Стюарт и Синеситта остановились пообедать в «Айви». Он взял цыпленка по-индийски, а она — салат «Цезарь». Оба заказали «Шабли». Они выложили последние фунты, оплатив счет, и двинулись в отель пешком по Стрэнду и вдоль Гайд-парка. По дороге Синеситта поменяла пять тысяч швейцарских франков, что составило чуть меньше двух тысяч фунтов, и отдала их Стюарту. Тот, как обычно, принялся делить деньги моей сестры с моей сестрой, но она попросила, чтобы он оставил все у себя, так как не хотела заниматься счетами. В отеле они поспали минут десять, потом заказали в номер шампанское. Стюарт посмотрел по телевизору хоккейный матч на льду, а моя сестра прочла страниц пятьдесят «Силы возраста» Симоны де Бовуар, чью книгу купила перед отлетом в аэропорту Шарля де Голля. Тревога поднялась в ней около шести вечера.
— Ну вот, — сказала она, закрывая книгу. — В это время мы с мамой обычно садились в экспресс-метро.
— Пойдем прогуляемся в Гайд-парк, — предложил Стюарт.
Сент-Джеймс-парк, Грин-парк, Гайд-парк и Кенсингтон-гарден — четыре шутника, развлекающихся хитроумными играми в перспективу, заставляя туристов и иностранцев заблудиться. А Риджентс-парк, Холланд-парк и Хэмстед-Хит с наигранным осуждением издали наблюдают за этими ежедневными проделками. Вы входите в Кенсингтон-гарден с Кенсингтон-хай-стрит и, идя совершенно прямо, не бегая в поисках пропавшей собаки, не разговаривая на животрепещущую тему, оказываетесь в Гайд-парке. Перейдя через Серпентайн, вы надеетесь вскоре увидеть Гайд-парк-корнер, от которого, думаете вы, можно дойти до площади Пикадилли. Но чуть перепутав направление после пересечения моста, вы оказываетесь у Мраморной арки — триумфальной арки из белого итальянского мрамора, — которую вначале принимаете за Гайд-парк-корнер. Вскоре вам приходится признать очевидное: это не Гайд-парк-корнер. Где же тогда Альберт-холл, Эспли-Хауз, площадь Пикадилли, Букингемский дворец? У вас нет ни малейшего представления. Вы потеряли все ориентиры. Но вот вы замечаете несколько деревьев в конце Харли-стрит, а дома XVIII века и эдуардовские и викторианские здания заставляют вас подумать, что Букингемский дворец, а также все туристические достопримечательности, как-то: памятник королеве Виктории, «Конная гвардия», собор святого Павла — находятся поблизости. Но эти деревья оказываются иллюзией. За ними нет ни Гайд-парка, ни Грин-парка. Вы на Бейкер-стрит, но слишком обезумевшие, чтобы искать в доме № 221 Шерлока Холмса, хотя он вам и нужен, чтобы найти дорогу. В этот момент в глубине души вы осознаете, что нужно свернуть направо, чтобы попасть в ваш любимый цивилизованный Лондон: Лондон антикваров и театров, парфюмерных магазинов и клубов, Лондон королевы и принца-консорта. Однако, зачарованные несколькими деревьями, виднеющимися в конце Бейкер-стрит, вы вопреки всякой логике сворачиваете налево, думая, что за ними найдете часть Гайд-парка или Кенсингтон-гардена. Вы идете быстро, очень быстро, так как эти деревья далеко, очень далеко, намного дальше, — начинаете вы говорить себе, — чтобы быть деревьями Гайд-парка или Кенсингтон-гардена, но вы не собираетесь сворачивать с полпути. Вы пересекаете Мериле-Боун-роуд, Парк-роуд — и вдруг вам кажется, что с неба льется божественный свет, тогда как это всего лишь солнечная ухмылка какого-то сатанинского светила. Теперь вы уверены, что нашли Серпентайн. Он перед вами, сине-золотистый, окруженный плачущими ивами. Вы говорите себе, что пойдя вдоль него и не занимаясь поисками более короткой дороги, которая привела бы вас прямо в Грин-парк, попадете в Гайд-парк-корнер. Там вы сядете на автобус, идущий на площадь Пикадилли, потому что вы уже устали, не чувствуете под собой ног, вам хочется всего лишь съесть двойной гамбургер, запив его стаканом колы в «Хард-Рок-кафе», хотя кусок говядины с оливками и стаканчик бургундского в «Линдсей-хаузе» были бы еще лучше. Увы! В конце Серпентайна, который оказался не Серпентайном, а Лодочным озером, расположен не Гайд-парк-корнер, а Планетарий, а дальше — Королевская академия музыки. Гайд-парк-корнер находится в километре к юго-востоку от места, где вы стоите, но вы об этом не знаете и вообще не хотите знать. У вас есть лишь одно желание: поймать такси, где вы сможете вытянуть ноги, согреть руки и вернуться в отель, скрывая свой стыд.
Лондон весь состоит из изгибов, ломаных линий, неправильных прямых и сомнительных перпендикуляров. Город образует кривую. Люди думают, что Оксфорд-стрит и Пикадилли идут параллельно, хотя на самом деле они отдаляются друг от друга настолько, что Оксфорд-стрит оказывается над Гайд-парком и под Пикадилли. Стрэнд кажется прямым бульваром, честным, упорядоченным — но если вы проявите неосторожность, он уведет вас на юг, прямо к Темзе. Лондон вертится вокруг самого себя как одинокая планета. Этот город без конца пытается оторвать вас от себя, как отрывают этикетку от баночки с горчицей или жвачку от шортов цвета хаки. Он постоянно наклоняется в сторону, но никогда не знаешь, в какую; и если вы хотите в нем остаться, вам следует цепляться за все, что попадается под руку: театры на Шефтсбери-стрит, китайские бары в Сохо, кафетерии в Гайд-парк-корнере, дом Генри Джеймса в Чейн-вок. Понемногу вы выпрямляетесь, находите шаткое равновесие, начинаете различать в этом скоплении ловушек правильные направления, и тогда, считайте, город поймал вас в свои сети и вы никогда не сможете из него вырваться, поскольку отныне все другие города мира будут казаться вам запутанными, непонятными и, как следствие, непригодными для жизни.
В Кенсингтон-гардене Стюарт и моя сестра сели на скамейку. Стюарт сразу же обнял Синеситту и стал ласкать ее грудь. Моя сестра растрогалась: мужчина в пятьдесят лет вел себя так, словно ему было пятнадцать, а ей — двенадцать. Ее грудь под пуловером была по-новому мягкой, теплой, что удивило Коллена, и он сразу же вспомнил, что это грудь будущей матери. Он моментально отдернул руку.
— Теперь ты ждешь ребенка. Для меня это свято.
— Ты не дотронешься до меня, пока я не рожу?
— Да.
— Тысячи людей занимаются этим.
— Но не я.
— Я не собираюсь девять месяцев оставаться без секса.
— А вот и останешься! Девять месяцев. Пояс целомудрия. Диета. Пост. Рамадан.
— В таком случае я предпочитаю сделать аборт!
Огонек надежды вспыхнул под серыми бровями Коллена. Моя сестра решила, что Стюарт отказывается заниматься с ней сексом, чтобы заставить сделать аборт, но во время своих четырех последующих беременностей она поняла, что отвращение Коллена к беременным женщинам было настоящим. Она прислонила голову к его широкой груди радушного мужчины, привыкшего за многие годы любовных похождений выслушивать откровения женщин о всех их мелких неприятностях. Синеситта посмотрела на воду, подумала, что будет скучать, и сказала, что будет скучать, потому что всегда говорила то, что думала. У Стюарта это сразу вызвало раздражение и агрессивность, словно трудности Синеситты были тяжкой проблемой, угрожавшей удовольствию, которое он получал — или не получал — от жизни.
Он почесал макушку ногтями, которые Синеситта обрезала ему раз в неделю. Кроме того, она мыла ему ноги. Сестра жаловалась, что мужчины не умеют этого делать. Стоя под душем, они только смачивают их, будто надеются, что ноги отмоются сами, словно по волшебству. Хорошо еще, если выйдя из душа, они их вытрут. То же самое было в ванне. Они подставляли ноги под струйку горячей воды, смешанной с холодной, ни секунды не задумываясь о том, что эти ценные и, в некотором роде, незаменимые приспособления, хотели бы, как и подмышки, промежность, подколенные впадины или руки, чтобы их намылили, потерли мочалкой, поухаживали за ними. «Даже у аккуратных и следящих за собой мужчин грязные ноги», — говорила Синеситта. Лично она никогда не встречала мужчину с чистыми ногами. Конечно, певец из Ланьона не снимал туфель, занимаясь с ней любовью, но у Жана-Луи Трюбера ноги были отвратительные, а у Ивана Глозера не лучше — что я после тридцати лет совместной с ним жизни охотно могу подтвердить.
— Ты бы хотела встретиться с Аленом? — поинтересовался Коллен.
Он задал этот вопрос нежным голосом, в котором, однако, сквозила угроза. Синеситта, как обычно, не увидела в этом опасности и в некотором смысле оказалась права, поскольку предстоящая встреча была опасна не для нее, а для Коллена — после нее моя сестра могла его бросить. Но он, понимая, что рискует, все-таки считал, что, если даже потеряет все, Синеситта все равно будет страдать больше.
Ален Коллен жил в Мэйфере, районе, где когда-то родилась Елизавета II. Окна его квартиры выходили на Беркли-сквер. Стюарт и Синеситта, пришедшие пешком из Кенсингтон-гардена и уже несколько раз заблудившиеся на темных и мокрых улицах, окаймлявших задний фасад Букингемского дворца (словно собиравшихся привести в смятение ирландских террористов при атаке сзади), промокшие и заляпанные грязью, наконец очутились на Беркли-сквер. Стюарт позвонил в дом № 15 на Бартон-стрит. Приблизительно через минуту тяжелая черная дверь с золотым молоточком, которым, естественно, никто не пользовался с тех пор, как установили звонок, отворилась. В проеме стоял высокий человек с седыми волосами и зелеными глазами. Синеситта подумала, что он намного старше Стюарта, и удивилась, почему два брата не обнимаются, не пожимают друг другу руки.
— Месье Стюарт! — воскликнул мужчина.
— Салют, Спенсер! Я возвращаюсь в башню!
Моя сестра поняла, что этот человек был дворецким. Коллен толкнул дверь, но безуспешно.
— Что с этой дверью? Она слишком стара, как, впрочем, и ты, Спенсер, пора бы ее поменять!
— Месье Стюарт, вам лучше не входить. Не сегодня. У вашего брата гости.
— Он принимает каждый вечер. Давай, Спенсер, не валяй дурака, впусти меня.
— Прошу вас, месье Стюарт. Ваш брат будет очень шокирован, увидев вас после всех этих лет…
Синеситта подумала, что братья перестали встречаться задолго до того, как Стюарт попал в тюрьму. Действительно, они не виделись двадцать лет, так как один находился в Сити, а другой сидел во Флёри-Мерожи, о чем в нашей семье никто, кроме Бенито, еще не знал. Дверь ходила взад-вперед, поскольку каждый мужчина толкал ее со своей стороны. Слуга старался захлопнуть ее под носом у Стюарта, а тот пытался силой войти в дом брата. Он бросил быстрый, косой взгляд на Синеситту и закричал:
— Помоги мне, дура!
— Послушай, Стюарт, в этих условиях, может, не стоит… пойдем лучше в Сохо, вьетнамский суп будет как раз то, что надо…
Нажатие с внутренней стороны двери, казалось, усилилось, поскольку розовое лицо Коллена превратилось в багровое, и бывший заключенный со всей силы сощурил глаза и сморщил нос.
— Помоги же, твою мать! Мы возьмем этих сволочных англичан!
Патриотические струны взыграли в сердце Синеситты. Забыв о своем смущении и статусе иностранки, она бросилась на дверь со свирепостью галльского петуха. Спенсер, чувствуя, что долго не продержится против Стюарта, закаленного тюрьмой и получившего подкрепление, в последнем патриотическом порыве отчаянно закричал старое название хита «Битлз»:
— Help![16]
Какая-то субретка уже была готова к нему присоединиться, когда французы — если можно так выразиться, потому что в Синеситте текла четверть австрийской крови, а Стюарт был наполовину испанцем по своей матери — в блестящем групповом усилии, примеры которого наша нация, увы, дает не слишком часто, особенно в спортивной области, одержали победу. Сияющие, запыхавшиеся, они очутились в просторном, светлом, отделанном лепниной холле частного особняка Алена Коллена. Стюарт похлопал по плечу разгневанного и растерянного слугу.
— Не хмурься, Спенсер, ты хорошо защищался.
Француз повернулся к перепуганной субретке, которая в своем черном платье дрожала от страха так, словно любовник бросил ее без пальто на паперти собора святого Павла во время снежной бури.
— Вам, мадмуазель, следовало быть более быстрой… В любом случае, с Синеситтой вам не тягаться.
Субретка посмотрела на метр восемьдесят три моей сестры с холодным ужасом и бросилась в буфетную. Стюарт взял под руку слугу.
— А теперь, Спенсер, сообщи о нашем приходе.
— Это невозможно, месье Стюарт. Ваш брат мне этого не простит. Я потеряю свое место. Вот уже десять лет, как он запретил нам произносить ваше имя в этих стенах.
— Это из-за Жюстины, его бывшей жены. Она училась в Эльзасской школе с моей супругой. Теперь этой проблемы уже нет.
— Вы зря так думаете, месье Стюарт.
— Если ты не сообщишь обо мне, я сообщу о себе сам.
— Помилуйте, нет!
— Я сделаю это!
— Ваш брат дает большой обед. У него мадмуазель Эрлебом.
— А вот этого не стоило говорить, — заявил Коллен, устремляясь к лестнице. — Я посмотрел все фильмы с ее участием, когда сидел во Флёри.
13
Ален Коллен сидел между двумя дамами напротив какого-то мужчины. Синеситта узнала в нем Робера Этесса — писателя и бывшего банкира, одну из книг которого она прочитала. Увидев Стюарта и мою сестру, вошедших в столовую, Ален Коллен встал. Салфетка, которую он держал на коленях, упала на пол, и следующие минуты Синеситта провела, задаваясь вопросами: стоило ли ее поднимать, и которая из женщин была Кармен Эрлебом.
— Что ты тут делаешь? — спросил Ален у Стюарта.
— Пришел поужинать.
— Мог бы и позвонить.
— Я не хотел, чтобы ты неожиданно отправился на уик-энд в Уимблдон. Кроме того, нам уже пришлось приложить силу, чтобы проникнуть за твою дверь, не правда ли, Синеситта? Кстати, вот Синеситта, моя невеста, мать моего ребенка.
— У тебя есть ребенок?
— Будет. Тебя это удивляет?
— Я поражен.
Стюарт, несносный со своими насмешками, бессмысленно продолжая упорствовать, повернулся к моей сестре.
— Он поражен. Хотя на то нет причин. Эти банкиры из Сити — ничтожные людишки.
— Мадмуазель, — спросил Ален, показывая на Стюарта, — кем бы вы ни были и что бы ни делали до того, как войти в мой дом, ответьте прямо на мой вопрос: вы собираетесь иметь ребенка от этого человека?
— Да, — ответила Синеситта.
— Вы ударились головой, бедняжка. Вы не имеете ни малейшего представления, в какое осиное гнездо сунулись. Пройдемте в мой кабинет. Ты позволишь? — обратился он к Стюарту.
— После такого приема разве я могу тебе отказать?
Ален Коллен властно взял мою сестру за руку. Она стала вырываться.
— Не понимаю, зачем мне идти с вами в кабинет? Я не ищу работу.
— Могу поспорить, что вы уже потеряли голову из-за моего брата!
— Так точно! — подтвердил Стюарт.
— Я уволилась из «Прентан» Османна по собственному желанию, — заявила моя сестра.
— Скоро, — заметил Ален Коллен, — у вас не будет желаний, ничего не будет, кроме живота. Идемте, не стесняйтесь!
Стюарт, ухмыляясь, сел на место брата напротив Этесса. Он поставил локти на стол и в два счета доел кусок паштета, к которому Ален едва прикоснулся. Справа от него сидела высокая блондинка с короткими волосами и таким количеством морщин на лице, что у людей, находящихся с ней за одним столом, возникало искушение пересчитать их. Стюарт спросил у нее, где Эрлебом.
— Она говорит по телефону, — ответила женщина.
Потом украдкой взглянула на маленькие золотые часики, украшенные бриллиантами, и добавила с мягкой, неуловимой и меланхоличной иронией женщины, которая тоже много звонит по телефону:
— Вот уже двадцать семь минут.
— Итак, вы решились? — настойчиво переспросил Ален Коллен, пытаясь снова схватить мою сестру за запястье, но она продолжала вырываться.
— Давай, — сказал Стюарт Синеситте, — иди, раз он так настаивает. Спенсер, выпить!
Робер Этесс с поблескивающими глазами за слишком большими для него очками — на книжке «Франс-Луазир» на нем были маленькие очки, поэтому моя сестра подумала, что они в починке — встал, заявив, что тоже должен позвонить, и Стюарт очутился один между морщинистой женщиной и белолицей подружкой Этесса с волосами цвета соломы.
— Здорово! — воскликнул он. — Обожаю женскую компанию.
Синеситта засмеялась, увидев его таким воинственным и непринужденным в этом светском обществе, в котором он потерпел полный крах, явившийся естественным итогом всего его существования. Она пошла за Аленом в кабинет, хотя сразу поняла, что тот пытается ее поцеловать и это без труда ему удастся.
— Чем вы так тяжко провинились, что об этом нельзя говорить за столом? — игриво спросила подруга Робера Этесса, словно девочка, привыкшая к невинным, дружеским, оживленным разговорам в Фонтвейе, Гордах, а также в красивых поместьях Гатине.
Ничего не ответив, Стюарт схватил то, что, без сомнения, было тарелкой с паштетом Кармен Эрлебом, и поставил ее на пустую тарелку Алена Коллена. Подруга Робера Этесса, чуть не потеряв дар речи, все-таки предположила, что актриса, когда вернется, возможно, захочет это съесть. На что Стюарт с полным ртом возразил, что актриса, вполне вероятно, никогда не вернется — замечание, погрузившее молодую женщину в задумчивость, из которой ее вывел вернувшийся за стол Этесс. Они зашептались и, смерив Стюарта боязливыми и возмущенными взглядами, встали и вышли из комнаты без малейшего объяснения, видимо, считая, что иначе Стюарт силой вынудит их остаться за столом.
— Можно спросить, — обратился Стюарт к своей морщинистой соседке, — почему вы не ушли?
— Я ухожу.
Она встала и исчезла в свою очередь. Стюарт опустошил все тарелки и все стаканы, очевидно, посчитав, что прислуга решила ничего не подавать до нового распоряжения Алена Коллена, а это распоряжение вряд ли поступит. Хрустя последним куском хлеба, Стюарт подумал, что в этом мире все его бросили. Он стоял посреди своего жизненного пути, как Эдип с выколотыми глазами, найдя в Синеситте Брабан коварную Антигону и понимая, что она приведет его к смерти, если сама она и не есть смерть. Именно по этой причине, подумал он с яростью, она так любезничала с ним. Стюарт верил, что женщины, которых он убил, были самой смертью. Ему нужно было, если он хотел жить. — а он этого хотел, так как если не жить, то как посещать рестораны? — покинуть этот дом, этот город, эту страну. Он должен был ускользнуть от Синеситты, державшей его в плену своих ласк, как французское правосудие — «французское беззаконие», написал Бенито в книге «Ад мне лжет» — держало его в тюрьме. Любовь — единственная стена, которую женщины умеют строить, чтобы удержать мужчин, а деньги — всего лишь изгородь, которую мужчины легко преодолевают. Что касается моей сестры, то она умудрилась воздвигнуть свою стену из бетона. Стюарт поднялся в тот момент, когда вошла Эрлебом. На ней было короткое фиолетовое вечернее платье с черными рукавами с буфами и поясом, инкрустированным разноцветными камешками.
— Где мой паштет? — спросила актриса.
— Я его съел, — сказал Стюарт. — Я был голоден.
— Я тоже голодна.
— Вы разговаривали по телефону, а я был здесь. Мне повезло.
— Я разговаривала с самого начала обеда, и это была моя тарелка, а не ваша.
— Если бы я мог предвидеть, что вы так расстроитесь, то не притронулся бы к вашему паштету. Просто я решил, что вы уже достаточно съели его в своей жизни, а я — нет.
В какую-то долю секунды Стюарт хотел сказать, что провел семь тысяч пятьсот пять дней в тюрьме, где не подают паштет даже в праздник святого Сильвестра, но не сказал. Он, как все сумасшедшие, очень тщательно готовил свои провокации. «Сумасшедшие осторожны. Именно поэтому они и стали сумасшедшими» (Бенито в третьем и последнем интервью «Ла Стампе» за несколько недель до своего исчезновения).
— Что вы знаете обо мне, о моей жизни? — воскликнула актриса.
— Поскольку паштет имеет для вас такое значение, — произнес Коллен безмятежным тоном фаталиста, хотя уже и начал ощущать любовное волнение, — пойдемте в «Гаврош» и съедим по кило.
Он чувствовал в заднем кармане своих новых брюк две тысячи фунтов в новых купюрах, которые дала ему Синеситта утром.
— Вы бывали в «Гавроше»? — удивилась Эрлебом. — Это любимый ресторан моего жениха.
— У вас есть жених?
— Нет. Может, лучше пойти в «Бержер Кинг» на Лейстер-сквер?
— Там вас все узнают.
— Англичане меня не знают, а французы забыли.
— Почему вы так говорите?
— Просто жалуюсь.
— Вы хотите, чтобы я вас пожалел?
— Вы не собираетесь жалеть меня, толстая свинья!
Она расхохоталась и взяла со своего стула сумочку, чтобы проверить, не стянул ли у нее Робер Этесс все наличные деньги и кредитные карточки. Потом заявила, что возвращается в Челси, в свою ужасную квартиру. Стюарт спросил, нельзя ли ему ее проводить.
— Вы декоратор?
— Нет, советник на предприятии. Мое имя Стюарт.
— Стеворт?
— Нет, Стюарт.
— Так вот, Стюарт, проводите меня до выхода, а там посмотрим.
Спускаясь по лестнице, Стюарт сказал, что видел все ее фильмы. Актриса достала из сумочки темные очки в синей оправе и нацепила их на нос.
— Это для того, чтобы вы меня не узнали, Стеворт.
В лондонской ночи лицо Эрлебом необыкновенно сияло, словно у нее был собственный осветитель, взобравшийся на одно из зданий в Мэйфере, чтобы постоянно освещать ее с помощью прожектора.
— Вы желаете взять такси? — спросила она Коллена.
— Я? Один?
— Нет, вы желаете, чтобы мы взяли такси вместе? Впрочем, не понимаю, почему я об этом спрашиваю. Кажется, я схожу с ума. Прощайте, месье. Приятных снов!
— Подождите, Кармен!
— Что, Стеворт?
— Если вы желаете пройтись пешком до Челси, я буду счастлив проводить вас.
— Зачем вам надо меня провожать?
— Потому что я вами восхищаюсь.
Она улыбнулась и решительно устремилась чеканным шагом по Керзон-стрит, а за ней — оробевший, добродушный и покачивающийся Коллен, на душе которого заскребли кошки при воспоминании о Синеситте. Она, конечно же, встревожилась из-за его отсутствия, а он встревожился из-за нее; и это показалось ему дополнительным подтверждением того, что она захватила его ум, завладела сердцем, посадила в клетку душу, чтобы, дрожа от возбуждения в ожидании первого приза, принести их Богу Смерти или Небытия. Он должен отделаться от нее, если хочет остаться живым; и Эрлебом, видимо, появилась на его пути, чтобы помочь избавиться от этого балласта в наиболее подходящих условиях и даже с примесью розыгрыша и волшебства.
Через двести метров актриса, задыхаясь, остановилась.
— Несите меня, — приказала она Коллену.
Он подставил ей свою широкую и тяжелую спину, которую ненавидел, когда видел ее на фотографиях. Ему казалось, что она выдает его ужасающее положение в жизни: тупую и злобную покорность, сопровождаемую вспышками жестокости.
— Я пошутила, — заявила Эрлебом. — Еще далеко до Челси?
— Мы должны найти Мраморную арку — а это всегда нелегко, когда ее ищешь — и спуститься по Парк-лейн до арки Веллингтона.
— Сколько времени это займет?
— Если мы заблудимся или не заблудимся?
— Если заблудимся.
— Если заблудимся… предположим, мы решаем пойти по Оксфорд-стрит, думая, что это будет более приятно и укоротит наш путь, затем путаем Кенсингтон-хай-стрит с Кенсингтон-гарден — о, это может занять два-три часа.
— А если не заблудимся?
— Это невозможно. Вы совершенно не умеете ориентироваться, а я слишком занят, любуясь вами, чтобы следить за дорогой.
— В это время еще есть самолеты?
— В Челси?
— Нет, в Париж.
— Вы не хотите возвращаться в Челси?
— Нет, квартира слишком уродливая. Я вернусь туда, когда кто-нибудь — но кто? — изменит интерьер.
Она словила такси, похожее на огромного шмеля с влажными, сверкающими крыльями.
— Я не предлагаю вам ехать со мной в аэропорт, — сказала она Стюарту.
— Почему?
— Хорошо, я предлагаю вам поехать со мной в аэропорт.
— Согласен.
Последний рейс на Париж — самолет «Эйр Индия», прилетевший из Москвы — был в 23 часа 48 минут. Актриса едва успевала купить билет. У окошка она спросила Коллена:
— Может, вы тоже хотите купить билет?
В такси Стюарт, которого она упрямо продолжала звать Стевортом, взял ее за запястье, но она сразу же перевернула его руку, как переворачивают блин, и с ироническим вниманием хирурга в отпуске исследовала ее, в некотором роде прощупала, сделала вскрытие, словно это была мертвая рука, скелет руки; чувствуя сильный холод внутри, а точнее, в своей кисти, Коллен отдернул ее и засунул в карман, чтобы она немного согрелась. Перед приездом в Хитроу он попытался поцеловать актрису, но она зашлась от смеха, увидев, как на нее надвигается его крупное, с красными пятнами лицо.
— Что вас так рассмешило? — спросил он.
— Ваш нос.
— Благодарю вас.
— Не сердитесь на меня, Стеворт. Я не часто смеюсь.
Актриса купила два билета до Парижа, сказав, что теперь он может проводить ее в зал для посадки, поскольку его функция на земле, как ей кажется, состоит в том, чтобы повсюду сопровождать ее этой ночью. Когда нужно было садиться в самолет «Эйр Индия» (сари, запах благовоний, многочисленные семьи из Бомбея и Калькутты, угрюмые французские дипломаты, усталые немецкие туристы, путешествовавшие автостопом), актриса сказала, что чувствует приближение приступа спазмофилии и попросила Коллена, дувшегося на нее с тех пор, как она рассмеялась ему в лицо, проявить любезность и подняться вместе с ней в самолет, а если она увидит, что все нормально и она сможет перенести полет, выйти из самолета. Он схватил ее за плечо, как хватают тряпку. Мягким голосом она попросила:
— Поласковее, пожалуйста.
И в этот момент Коллен влюбился. Он проследил, чтобы она удобно устроилась в первом классе, нашел ей подушку, плед, принес стакан воды, чтобы она запила свои гомеопатические таблетки против спазмофилии. Бледная и притихшая, она говорила:
— Спасибо, Стеворт.
В результате другие пассажиры, приняв Коллена за настоящего стюарда, которого еще не видели, потому что сели в Лондоне или потому, что тот до сих пор обслуживал туристический класс, стали просить его оказать им мелкие услуги: принести скотч, газету, сказать, какая погода в Лондоне или Париже, уточнить время прилета в Париж, температуру на земле и так далее, — задания, которые мой будущий шурин выполнял с той любезностью, которую проявлял, находясь в абсурдных ситуациях. Он мог быть в гармонии с самим собой лишь тогда, когда его жизнь не имела смысла. В конце концов, настоящий стюард спросил у него, кто он такой и чем тут занимается.
— Я сопровождаю мадмуазель Эрлебом, возвращающуюся во Францию.
Поскольку Кармен Эрлебом была известна в Индии, а также во многих провинциях азиатского полуострова, стюард захлопал ресницами и пригласил Коллена сесть, так как самолет должен был взлететь. Стюарт сел рядом с Эрлебом и застегнул ремень безопасности.
— Вы все еще тут? — спросила актриса.
— Вам это мешает?
— Нет, наоборот.
Он провел весь полет, разрываясь между этим «Нет, наоборот» — фразой, застрявшей в его мозгу, в которой он пытался обнаружить скрытый смысл и определенные обещания — и подарками, любезностями, знаками внимания, которыми засыпал его персонал самолета из-за невозможности лично оказать почести актрисе, поскольку она уснула или, скорее всего, делала вид, что уснула. Слух о том, что французская актриса Эрлебом находится на борту, распространился по салону, и, к большому неудовольствию пассажиров первого класса, пассажиры из туристического группами по четыре-пять человек в сопровождении стюардов и стюардесс стали ходить любоваться спящей актрисой. Когда Стюарт поправлял плед Эрлебом или легонько похлопывал ее по запястью, чтобы проверить, жива ли она, за ним наблюдали восхищенные почитатели, а одна индианка в сиреневом сари и белых сандалиях встала на колени перед его креслом и поцеловала ему руку. Актриса сняла свою маску за несколько минут до посадки. Они вышли из самолета под восторженные крики пассажиров и экипажа, и шофер такси, который повез их в Париж, спросил у Кармен Эрлебом, не она ли Кармен Эрлебом.
— Давайте вернемся в Лондон, — предложила актриса.
— Больше нет рейсов, — ответил Стюарт.
— Но туннель под Ла-Маншем открыт.
— Прокат машин не работает.
— Зачем брать напрокат машину, если мы уже в машине?
Эрлебом высадила Коллена у отеля на Эбери-стрит на следующее утро в восемь часов. Почти все время актриса проспала, и Стюарт в конце концов тоже уснул. Они позавтракали в Брикстоне с шофером. Тот купил поляроид у уличного пакистанского торговца и сделал двенадцать снимков Эрлебом, поклявшись на Новом Завете, что никогда не продаст их прессе. Это, конечно же, был шофер-католик, так как до сегодняшнего дня, насколько мне известно, эти фотографии нигде не появились. Впрочем, замечал Коллен, рассказывая по меньшей мере раз в неделю эпизод в Брикстоне, если бы шофер такси не был католиком, разве он хранил бы в машине Новый Завет? Коллен оставил себе один снимок, сохранившийся у меня до сих пор и составлявший, кроме пяти детей Коллена, мизерное наследство Синеситты. На нем мой шурин запечатлен перед гигантской тарелкой яичницы, бекона и сосисок, не зная, на что смотреть: на тарелку, на Эрлебом, с ироничной улыбкой прислонившуюся к его плечу, или же в объектив. На этом снимке у него радостное и потерянное лицо мужчины, который переживает самый романтический момент в своей жизни, но еще не знает об этом и верит, что за этим эпизодом последуют и другие, много других, еще более романтичных, сменяющих друг друга в бешенном темпе до тех пор, пока не придет время безболезненно перейти в мир иной, где жизнь окажется еще романтичнее.
Перед приездом на Эбери-стрит Коллен спросил у актрисы, увидятся ли они когда-нибудь снова. Она ответила, что, вероятно, нет, так как все, что они могли бы сделать после этой ночи, покажется им не имеющим значения.
— Даже если бы мы занялись любовью? — спросил Стюарт.
— О, это невозможно. Вчера я вам солгала: у меня есть жених, и через десять минут он задаст мне головомойку.
Надеюсь, вы венчаетесь в церкви? — поинтересовался шофер такси, что утвердило Коллена в мысли, что это был не просто добропорядочный, а ревностный католик.
— Я уже замужем, — сказала Эрлебом.
Перед отелем она предложила Стюарту:
— Пожмем друг другу руки.
— А почему бы нам не поцеловаться?
— Потому что это оригинальнее — пожать друг другу руки.
Когда он вошел в свой номер, Синеситта, стоя у окна в той же одежде, что и накануне: бежевом кашемировом пуловере и зеленых велюровых брюках, — спросила, почему он вышел из парижского такси и пожал руку Кармен Эрлебом.
— Ты следишь за улицей? — удивился Коллен.
— Я слежу за улицей с часа ночи.
— А что ты делала до часа ночи?
— Разговаривала с твоим братом, ужинала с твоим братом, пила с твоим братом, танцевала с твоим братом.
— Спала с моим братом?
— Нет.
В этот момент моя сестра солгала впервые в жизни. Интересно отметить, что она начала лгать только тогда, когда познала любовь благодаря Стюарту Коллену. Отсюда можно прийти к выводу, что именно любовь заставляет нас лгать. Нужно сделать всего лишь шаг, и Синеситта радостно его сделала. Кстати, она с радостью вступила и в связь с Аленом, который был второй частью — в музыкальном смысле этого слова — ее страсти к Стюарту.
— Что мой брат рассказал обо мне?
— Правду.
— Если он сказал тебе правду, ты не должна находиться здесь.
— Как видишь, я — здесь и хотела бы знать, спал ли ты с Эрлебом?
— Если бы я спал с Эрлебом, — ответил Стюарт, снимая туфли, — я бы не пожал на прощание ей руку.
— А что бы ты ей пожал?
— Представь себе, ничего. Я бы облобызал ее как следует, чтобы было потом что вспомнить. Но она не захотела, чтобы я поцеловал ее хотя бы раз. Она нашла это не слишком оригинальным, а Эрлебом любит только то, что оригинально.
— Именно поэтому она берет в Лондоне парижские такси?
— Парижское такси мы взяли в Руасси.
— Руасси-Шарль-де-Голль?
Стюарт кивнул и рассказал, как провел ночь, потом потребовал, чтобы Синеситта сделала то же самое, но поскольку она не спала двадцать четыре часа, то задремала в кресле, предварительно с трудом выговорив несколько слов по поводу Алена Коллена: он сказал: «Если вы его любите… не селитесь никогда выше третьего этажа… и никаких молотков в доме». Стюарт отнес ее в кровать и лег рядом с ней. Прижавшись в одежде друг к другу, они уснули, просыпаясь каждые полчаса, рассказывая обрывки снов, целуя друг друга в спину или руки и снова погружаясь в сладостный, лихорадочный и одновременно тревожный сон, который бывает после бессонных ночей, В десять часов утра им позвонила дежурная и сообщила, что они могут переселиться в апартаменты «Медовый месяц».
14
Моя сестра позвонила нам в начале февраля. Она сказала, что вышла замуж за Коллена в консульстве Франции в Лондоне, и попросила денег. Она перезвонила в конце апреля. Заявила, что они уезжают из Лондона и что ей снова нужны наличные (новое слово в ее лексиконе). В первый раз мы ее поздравили и послали остаток ее сбережений: немногим более семидесяти тысяч французских франков. Во второй раз мы спросили, куда они собираются ехать. Она ответила, что еще не знает, и мы послали ей перевод на одиннадцать тысяч швейцарских франков — почти все мое материнское наследство.
— Свое я сохраню на черный день, — решил папа.
Ему не пришлось хранить его слишком долго. Тринадцатого июля того же года раздался телефонный звонок и мы страшно запаниковали, решив, что мэтр Друэ звонит нам из своего кабинета, чтобы сообщить об освобождении Бенито. Никто из нас не решался снять трубку. В конце концов, Боб схватил ее двумя руками и заорал:
— Ло! Ло!
Это было утром в пятницу. Папа в нарукавниках лущил горох, а я кисточкой мазала цыпленка маслом с солью.
— Сита? — спросил Боб. — Сита?
— Это твоя сестра, — произнес папа.
— Дай мне трубку, — сказала я Бобу.
Мы купили радиотелефон, и Боб частенько развлекался, бегая с ним по всему дому. Он вылетел из кухни как ракета. В тот день я надела черную узкую юбку, мешавшую мне бежать, и словила Боба только на втором этаже, боясь, что моя сестра уже повесила трубку. Боб прижался к моим голым бедрам. С тех пор, как я начала носить женскую одежду, он стал со мной более нежным.
— Синеситта?
— А, это ты. Привет!
Голос смутный, дрожащий.
— Откуда ты звонишь?
— Из Англии. Семь месяцев в Англии. Это долго.
— Где именно в Англии?
— В Ливерпуле.
— Где в Ливерпуле?
— Я не имею права говорить тебе.
— У тебя есть на это все права.
— Нет, дорогой брат или дорогая сестра.
— Дорогая сестра в данный момент.
— А, сестра, это хорошо. Мне нравится иметь сестру.
— У тебя она есть.
— Я могу довериться ей?
— Я тебя слушаю.
— В общем, мне надолго опротивели все мужчины.
— А Коллен?
— Он играет в бинго на берегу моря.
— Дай мне телефон отеля.
— Я тебе сказала, что не имею права. Ты оглох? Извини, оглохла? Нужно, чтобы вы прислали нам денег.
— Я отправила тебе все, что имела.
— Дай мне папу.
— Ты уверена, что у тебя все в порядке?
— Нет, не в порядке. Особенно у меня.
— Коллен тебя бьет?
— Иногда. Это моя вина, я раздражаю его своими вопросами. Я спрашиваю, кем мы станем. Он отвечает, не отрывая взгляда от «Глазго Геральд»: трупами. Я плачу. Он впадает в депрессию и бьет меня. Затем ему становится стыдно. Он говорит, что любит меня, думая, что лжет. Но я знаю, что он говорит правду. Мы идем в ресторан. Он расслабляется. Берет несколько закусок, кучу блюд, море вина. В конце обеда он становится нежным, томным, отяжелевшим, вульгарным, действуя на меня так, — как девушка, ты понимаешь, что я хочу сказать, — что мои трусики становятся влажными, «склеиваются», как говорили мои коллеги в «Прентан». А потом я думаю лишь об одном: оказаться под ним, как половая тряпка под шваброй.
Вернувшись в кухню, я включила громкую связь для папы.
— Он отказывается, — продолжала моя сестра. — Я плачу. Это его раздражает. Он снова бьет меня. Затем ему опять становится стыдно и он напивается. Я пью вместе с ним. Но у меня нет привычки к спиртному, и я засыпаю. Он бьет меня, когда я сплю. Я просыпаюсь от ударов. Предлагаю ему заняться любовью. Он говорит, что я вся в крови. Делает мне повязки. Ему стыдно. Он плачет. Я должна его утешать.
— Передаю тебе папу.
Отец, никак не комментируя услышанное, поскольку его понятие о дипломатии заключалось в том, что чем меньше комментариев, тем меньше двусмысленности и тем быстрее улаживается проблема, спросил, сколько денег ей нужно и куда их послать.
— Пятьдесят тысяч французских франков телеграфным переводом на Центральный почтамт в Ливерпуле через полчаса, — сказала она ясным и твердым голосом, как бродяга, получивший милостыню у черного входа.
— Хорошо, — произнес папа.
Он повесил трубку, что было героическим поступком, поскольку у нас больше не было никакого способа связаться с Синеситтой, и мы не знали, когда она позвонит снова и позвонит ли вообще. И действительно, больше из Англии она никогда не звонила.
— Нельзя, — объяснил папа, — дать ей почувствовать, что мы на нее нажимаем. Это наш единственный шанс спасти ее.
— Спасти ее?
— Разве ты не видишь, идиотка, что она в смертельной опасности? Я иду на почту отправлять деньги.
— Если она в смертельной опасности, поезжай в Англию!
— Когда она получит пятьдесят тысяч франков, то больше не будет подвергаться опасности.
— Ты должен предупредить полицию.
— Чтобы сказать, что моя дочь неудачно вышла замуж?
Когда, на следующее утро, мы с папой сели перед телевизором посмотреть военный парад и пресс-конференцию президента, то не могли избавиться от мысли, что 14 июля прошлого года, когда мама была еще жива, а Синеситта не вышла замуж, мы образовывали сплоченный семейный фронт перед лицом агрессора. Теперь же мы пребывали втроем в таком отчаянии, что я была вынуждена превратиться в женщину, чтобы привнести веселье в наше трио, без чего оно походило бы на унылый мужской клуб со спагетти на каждый обед и пылью под кроватями.
Экономическая и политическая ситуация в стране была слишком тяжелой, и президент не успел сказать о помилованных 14 июля. Мне показалось, что в этом году он выглядел не так, как в прошлом, но, может, это я сильно изменилась за несколько месяцев и перестала видеть людей под прежним углом зрения. До долгожданного звонка мэтра Друэ, сообщившего нам 30 июля, что Бенито останется в тюрьме, мы жили с навязчивой мыслью об освобождении моего брата. Затем, как и каждый год, отметили «день начала каникул». Все наши знакомые, желая показать свою солидарность с нами после смерти мамы, а также надеясь что-либо узнать о бесконечном свадебном путешествии моей сестры и Коллена, явились по первому зову. Стол был не таким богатым, как в предыдущие годы, но это, казалось, никого не волновало. Глозеры пришли со своим сыном Иваном и его невестой — польской манекенщицей, отзывавшейся на пушкинское имя Марина. Она сказала, что наш дом напоминает ей о ее детстве, прошедшем в окрестностях Кракова. Положив свои длинные белые руки на каменный выступ фасада, она сделала мне комплимент по поводу моей юбки и манеры одеваться. Я объяснила ей, что это временно: я оделась девушкой потому, что иначе у нас было бы трое мужчин в доме, а это, по моему мнению, не слишком хорошо. Марина, похожая на птицу с тонким профилем, нагнулась надо мной, будто собиралась клюнуть в голову. Из моего объяснения она заключила, что я предпочитаю носить брюки, и сказала, что тоже любит брюки, но в такую жару юбки лучше. Когда я резко и раздраженно ответила ей, что проблема не в юбках или брюках, а в том, что я точно не знаю, парень я или девушка, она закачалась, и ее взгляд зацепился за лицо Ивана Глозера, как пьяный человек цепляется за фонарный столб. Я поняла, что если она уехала из Польши, то лишь потому, что там было слишком много домов, похожих на наш, где жило слишком много непонятных людей, неуверенных в своем поле. Она пересекла толпу приглашенных с той отчаянной и решительной поспешностью, с которой тайно пересекают границу, прилипла своим крупным и гибким телом к первому любовнику моей сестры и уткнулась головой в его шею, чтобы вдохнуть нежный и ободряющий запах гетеросексуала. Я испортила вторую половину дня Марины Кузневич, напомнив, что в любое время дня и ночи Польша может снова возникнуть перед ней. Но она не подозревала, впрочем, я тоже, что однажды сломаю ей жизнь, без труда уведя у нее Ивана Глозера, и он пойдет за мной, словно всю свою жизнь только этого ждал.
Рошетты по старой привычке сидели в углу. Рошетт-отец был инженером, мать — домохозяйкой, дочь — студенткой факультета права, а брат специализировался в математике. У всех у них были каштановые волосы, светлые глаза и крупные, приветливые и сметливые лица. Вначале я подружилась с их дочерью, но когда, в шестом классе, стала приятелем их сына, Рошетты-родители положили конец отношениям их детей со мной и порвали с нашей семьей. Впрочем, эти отношения уже были сильно испорчены различными выходками Бенито. Например, как-то посреди ночи он отрубил топором хвост Рангуна, — хвост, а не член, не переставал твердить он в свою защиту на семейном совете, — их первой собаки породы питбуль. Я подошла к Рошеттам с тарелкой пирожных. Мадам Рошетт с облегчением глянула на мою юбку, подумав, что я решила стать нормальной. Я сделала не слишком удачный комплимент по поводу Мандалея — их нового питбуля, в результате чего между нами возникло неловкое молчание. Кто-то положил руку мне на талию, и я подумала, что это папа, пришедший на помощь, чтобы вытащить меня из затруднительной ситуации. Но это оказался Иван Глозер, бросивший польку на Эли и Мириам. Впоследствии, вынужденная вести светскую жизнь с Иваном, — в отличие от него мой третий муж, иранский физик Раду Перахиа, предпочитал покой, — я заметила, что мужчины, которые появляются в обществе с самыми красивыми женщинами, спешат побыстрее ускользнуть от них, оставить их на других, забыть, чтобы потом с усталым безразличием забрать в конце приема. Это наводит меня на мысль, что мужчины не любят красоту, а только верят в нее, и хотя они в ней нуждаются, она их истощает; поэтому при первой же возможности они делают все, чтобы от нее избавиться, как «находят покой, забыв Бога» (Бенито, «Золото под названием нация»). Мы отошли от Рошеттов, и Иван шепнул мне на ухо:
— У меня неудержимое желание засунуть свой член в твою девственную, миленькую попку.
— Что?!
— Разложить тебя на постели, поднять твои руки, заставить выгнуть спину, проглотить твой лоб, твои глаза, уши, твой ротик, и ударить своим мужским органом о твою интимную и секретную стенку.
— Послушай, Иван…
— Ты поверила, да?
Он выпрямился и улыбнулся — такой важный в обжигающем свете солнца, умнее всех присутствующих, в оксфордской светло-голубой рубашке с расстегнутым воротничком. Действительно, я ему поверила. И теперь подумала про себя, что девушки все-таки слишком глупы.
— Что, кстати, ты вытворяешь в таком наряде?
— Раздаю пирожные. Хочешь?
— Это ты испекла?
— Да.
Он взял одно пирожное, проглотил его с радостью дельфина, заглатывающего сельдь после исполнения серии акробатических водных трюков, и обтряхнул руки, как обычно делают люди, съев пирожное.
— Неплохо, — сказал он.
— Спасибо.
— У тебя красивый наряд.
— Ты находишь?
— Ты почти вызываешь во мне желание, но, видишь ли, я не педераст.
— Почему ты так говоришь?
— Почему я так говорю?
Я почувствовала, как слезы наворачиваются мне на глаза. Поставив поднос на стол, я побежала через сад и бросилась в дом, полумрак и свежесть которого показались мне идеальным убежищем для захлестнувшей меня женственности, игрушкой и жертвой которой я себя ощущала. В тот момент, когда я задавалась вопросом, а не подняться ли мне в свою комнату и не вытянуться ли на животе на кровати, — что было бы чересчур, подумала я с мимолетной иронией, — Иван Глозер тоже вошел в дом и, увидев, что я плачу, обнял меня, сказал, что извиняется, что не хотел меня обидеть, что я чертовски привлекательна и что, скорее всего, это он педераст. Я стала вырываться, но его объятия были такими крепкими, что я просто принялась бить кулаками в его мускулистую грудь. Он поцеловал мой лоб, мои опущенные веки, затем его губы впились в мои, как сластолюбивая бабочка в цветок, напоенный солнцем; и я, переполненная стыдом, безумным любопытством и особенно тем, что следует назвать моим первым оргазмом, — «утробный взрыв, после чего Керубино чувствовал себя мужчиной только в своих ночных кошмарах», написал Бенито в своем ключевом романе, немного изменив факты, — приоткрыла губы. После глубокого и почти объяснительного поцелуя, походившего на подпись на брачном контракте, Глозер опомнился, стал совершенно белым, хотя несколько минут назад был самым загорелым из всех присутствующих здесь и, несомненно, в городе. Я прислонилась к стене, неспособная сопротивляться волнам удовольствия, которые поднимались от коленок до самого мозга и прокладывали в моем теле до сих пор неизведанные дорожки.
— Кажется, мы сделали глупость, — сказал Иван.
Мои глаза были полузакрыты, но я различила в проеме двери, которую никто из нас не подумал закрыть, высокий силуэт и профессиональное покачивание бедер польской манекенщицы. Марина в своих черных, обтягивающих ноги лосинах казалась голой ниже талии. Она ринулась на Ивана и ударила его ногой под зад, осыпая по-польски ругательствами. Это означало, что она вошла еще до поцелуя. Они обменялись несколькими ударами. Иван был не из тех, кто прощает человека, ударившего его ногой под зад. Не забывайте, что он уже два месяца был генеральным директором «Палас Отель Интернасьональ Инк.». Полька дралась, как мужчина, больше кулаками, чем ногтями. Она даже не удержалась и укусила Ивана за ляжку, после чего генеральный директор залепил ей такие две сильные пощечины, что она рухнула на пол. Он помог ей подняться, и они, взявшись за руки, вышли из дома: он — слегка прихрамывая, она — прикрывая щеку дрожащей от волнения, усталости и злости рукой. Я вышла вслед за ними через минуту и наткнулась на Эли и Мириам Глозеров, которые стояли на верхней ступеньке крыльца и смотрели на Марину и своего сына, удалявшихся по улице Руже-де-Лиля. Эли повернул ко мне свое морщинистое лицо, напоминавшее яблоко, слишком долго пролежавшее на подоконнике.
— Между нашими семьями есть что-то магнетическое. Мы ничего не можем поделать.
— Вы тоже, — заметила Мириам.
— Все закончится хорошо, — заверил Эли, — свадьбой.
— Моя сестра уже замужем.
Мириам взглянула на меня с материнской улыбкой.
— У тебя на пальце еще нет кольца, насколько мне известно.
Глозеры всегда были убеждены, что я девушка, несмотря на мою мальчишескую одежду, уроки французского бокса, которые я брала от девяти до пятнадцати лет, и даже несмотря на то, что дочка булочника из Роменвиля утверждала в первой половине 1990 года, что ждет от меня ребенка. Они обменялись хитрым взглядом, полным взаимопонимания. Это была пара, такая счастливая в браке, что они хотели переженить всех на свете. Они были готовы помочь своему сыну и Марине, если бы те решили остаться вместе. Однако, стараясь не разлучить Ивана с полькой, они в то же время пытались сблизить меня с ним. Они были настолько способными и старательными в области сватовства, что могли женить одного мужчину на нескольких женщинах и наоборот.
Рошетты собрались уходить. Я меланхолично махнула рукой на прощание их детям, с которыми мы когда-то хорошо проводили время. Мандалей тащился позади них, гордо подняв свой целый хвост. Перед калиткой питбуль резко остановился и повернул свою приплюснутую черноватую морду в мою сторону, словно догадался, что я подумала о бедном Рангуне, хвост которого после многочисленных скандалов — так как Бенито хотел хранить его в своей комнате и даже в кровати под одеялом — закончил существование в нашей мусорке. Мандалей бросил на меня мрачный и угрожающий взгляд, словно говоря: «Я прекрасно знаю, что это вы, Брабаны, отрезали хвост у моего предшественника, но хочу вас предупредить, что со мной вы должны вести себя более учтиво и вежливо. Я дорожу своим хвостом и буду драться, чтобы сохранить его». Я кивнула ему, чтобы выразить свое одобрение и даже солидарность, но не могла не думать, что когда Бенито вернется, — а он когда-нибудь будет освобожден, несмотря на все наши мольбы, чтобы этого не случилось, — первое, что он устроит вечером во время попойки, или ночью, полной тревоги, или ранним утром, беснуясь и демонстрируя полное безразличие к жизни, — это отрежет хвост новому питбулю Рошеттов. Отрежет без злости и даже без радости, движимый методичным умом, находя комизм в повторении ситуации и удовольствие в завершении работенки, начатой очень давно.
Когда ушел последний гость — мадам Бертран, моя преподавательница философии, восхищенная тем, что я получила шестнадцать баллов из двадцати по ее предмету на экзамене на степень бакалавра, но удивленная, как она выразилась, моим «нелепым нарядом», ведь она никогда не сомневалась, что я парень, потому что девчонки не думали так, как я, и, вообще, по ее мнению, не думали (мадам Бертран была немного женоненавистницей, как это часто случается с феминистками, особенно когда им перевалит за пятьдесят), — я все убрала и почистила, как в прежние времена это делала Синеситта. В какой дешевой гостинице, в какой сырой комнате держал ее в плену Стюарт Коллен, пропивая последние швейцарские франки в пивной?
Папа сидел на крыльце в босоножках и майке и, покусывая старую трубку, смотрел, как я убираю, даже не предлагая мне своей помощи. Я была уверена, что если бы надела брюки — или даже шорты — вместо этой юбки, а также не подкрасила немного ресницы и не напудрила щеки, он бы мне помог. Мужчины любезны только с мужчинами. С женщинами, которых желают, они грубы; с женщинами, которых не желают, они ведут себя как хамы; с женщинами из своей семьи — по-свински. Единственный присутствующий здесь мужчина, который мог бы мне помочь, был Боб. Увы, у него не было способностей. Он попытался отнести печенье на кухню, но уронил его в коридоре и начал танцевать на нем. Я дала ему подзатыльник — обнаружив, что если женщины более суровы с детьми, чем мужчины, то это потому, что дети изводят женщин, а не мужчин — и приказала идти играть в другое место, что он побыстрее и постарался сделать. В восьмой или девятый раз возвращаясь из кухни в сад, я спросила у папы тоном выведенной из себя супруги, тянущей на себе уже полвека весь домашний груз, чего он ждет.
— Курьера из министерства юстиции, — ответил он.
На этот раз я ему поверила. После смерти мамы он стал врать намного меньше, будто все то время, что длился их союз, они просто соревновались во лжи, устраивая своего рода конкурсы по придумыванию небылиц или состязания мифоманов. Точно так же, как люди воруют, чтобы не быть обворованными, они лгали, чтобы не быть обманутыми. Теперь, когда папе никто не лгал, он испытывал потребность говорить правду. И если еще изредка врал, то, скорее, по привычке или ради развлечения. Например, он шел в Росни посмотреть фильм с Аленом Делоном, а, вернувшись, говорил, что видел фильм с Бельмондо в Монтерей-су-Буа. Баскский ресторан в седьмом округе, где он обедал с бывшим агентом Генеральной дирекции внешней безопасности, в одном случае из двух превращался у него в каталонский ресторан в двенадцатом округе, где он обедал с новым начальником Управления транспортом. Штраф за неправильную парковку он объяснял тем, что обогнал такси в зоне для автобусов и, конечно же, пересек непрерывную желтую линию. Но когда речь заходила о маме, Синеситте, Бенито или генерале де Голле, папа придерживался фактов.
— Что он должен привезти?
— Судебное досье Стюарта Коллена. Я вдруг подумал, что мы ничего о нем не знаем — кем он был и что делал до женитьбы на Синеситте.
Мотоциклист с Вандомской площади приехал около девяти вечера. Безнадежно облизываясь, он украдкой поглядывал на мои ягодицы. Невероятно, насколько мужчины больше интересуются женщинами, чем женщины мужчинами. По всей логике это означает, что женщины лучше мужчин. Но в таком случае почему же мужчины их угнетают? «Как глупо!» — подумала я. Папа, устроившись за сосновым столом, вскрыл конверт и вынул оттуда напечатанный на десятке страниц документ, а я в это время продолжала размышлять, что если мужчины притесняют женщин, то именно потому, что женщины лучше них, а не наоборот! Моцарт лучше Сальери, поэтому Сальери притеснял Моцарта, Пушкин лучше Булгарина, поэтому Булгарин притеснял Пушкина, бывший товарищ Черткова в книге «Гоголь в жизни» лучше Черткова, поэтому Чертков притеснял его. Если бы посредственные люди не находили способов угнетать, а иногда даже уничтожать хороших людей, их жизнь стала бы невыносимой, и Бог этого не захотел. Если бы женщин, Моцарта, Пушкина и бывшего товарища Черткова не притесняли соответственно: мужчины, Сальери, Булгарин и Чертков, мы жили бы не на земле, а в аду, где царствует Лукавый, который для придания себе большего веса, собирал бы вокруг себя добрых гениев и сбрасывал бы в глухой омут своего темного царства всех других живых существ.
Поставив тарелки, бокалы и столовые приборы в посудомоечную машину, я выбросила мусор и прошлась пылесосом по первому этажу. Затем приготовила Бобу на ужин рубленого мерлана с морковным пюре и заставила его это проглотить, проявив терпение, вызванное усталостью. Время от времени я поворачивала голову в сторону папы, перечитывающего в пятый или шестой раз документ из министерства юстиции. Иногда, не открывая рта, он издавал короткий стон. Потом встал и сжег судебное досье Стюарта в раковине, разведя кучу грязи, которую, кроме меня, никто не мог убрать.
— Ты уверен, что оно тебе больше не понадобится? — спросила я.
— Я выучил его наизусть.
— Что там?
— Скоро ты об этом узнаешь.
— Плохие новости?
— Ужасные. Я попытаюсь спасти твою сестру, но мне придется иметь дело с сильным противником. Завтра утром я вылетаю в Лондон.
— Они в Ливерпуле.
— Синеситта сказала, что они в Ливерпуле, но мы знаем, что они были в Лондоне. С одной стороны, мы должны верить Синеситте, но у нас нет ни одного свидетеля. С другой стороны, мы имеем доказательство: номер телефона их отеля, а также потенциального свидетеля Алена Коллена, брата Стюарта. Значит, священный путь лежит не в Ливерпуль, а в Лондон. И потом, если они в Ливерпуле, то почему Коллен читал «Глазго Геральд»?
— Если он читал «Глазго Геральд», значит, они в Глазго.
— Конечно, они в Глазго — но где именно? Чтобы это узнать, нужно ехать в Лондон.
— Ладно, если они в Глазго, а ты едешь в Лондон, то случайно на них никогда не наткнешься.
— Разведка, — сказал папа напыщенным тоном, которым любил говорить после своего восьмидесятилетия, — не переносит случайностей. Впрочем, в Глазго много жителей. Намного больше, чем ты думаешь. Наткнуться случайно на человека что там, что в Париже или в Лондоне — нелегкое дело.
Он поднялся к себе в комнату приготовить чемодан. Я услышала на лестнице его покашливание — кашель старого бельгийско-французского агента, давно вышедшего в отставку и уезжавшего в свою последнюю командировку.
15
Невысокий седовласый мужчина пожал папе руку.
— Путешествие прошло хорошо? — спросил он.
— Прекрасно, — ответил папа. — Моя дочь отвезла меня в аэропорт.
— Ваша дочь? — удивился Чарльз Леман. — Я думал, что вы ее разыскиваете, и по этой причине мы встречаемся с вами за ланчем.
— Моя вторая дочь.
— У вас есть еще одна дочь?
— Да.
— И как давно?
— Уже двадцать лет.
— Я думал, у вас есть двадцатилетний сын, а не дочь. Во всяком случае, — улыбаясь добавил Чарльз Леман, — так указано в вашем досье.
— Еще одно досье, сфабрикованное Кимом Филби перед его побегом в Москву.
Оба мужчины сидели за столиком в «Дрейксе», интерьер которого был стилизован под охотничий привал — незашитые балки, медные подсвечники. На свои скромные пенсии функционеров они не могли позволить себе попировать в «Тант Клер» или в «Гавроше», но «Дрейкс» был хорошим типичным английским рестораном, где они любили бывать. Папа и Леман познакомились в Лондоне во время последнего мирового конфликта, а также сражались в одном лагере во времена холодной войны, впрочем, будучи больше соперниками, чем союзниками. Они не очень ладили: Леман был чересчур «тори» для папы, а мой отец — слишком ярым голлистом для Чарльза. Для англичан голлизм представлял собой что-то вроде лейборизма с примесью учения Морраса[17] — то есть, грубо говоря, мягкого советизма. Что касается идеологии тори, то папа считал ее квинтэссенцией всего самого худшего в англо-саксонском капитализме: похоть, эгоизм, обжорство и грубость. Когда оба они вышли в отставку, — папа на десять лет позже Лемана, так как был немного моложе, — то отошли и от своих идеологий. Англичанин стал меньше думать о Маргарет Тэтчер и больше о своей душе, а папа отныне стал просто поклонником де Голля, а не голлистом.
— Жаркое? — предложил Леман, когда оба погрузились в изучение меню.
— Нет, только не мясо, — ответил папа. — Я возьму блинчики из шпината с вареными яйцами. А что вы предложите на первое?
— Двойной скотч — лучшее первое, какое я когда-либо встречал в английском ресторане.
— Последую вашему примеру, Чарльз.
Когда официант принес им виски и мужчины чокнулись стаканами, папа спросил Лемана, говорил ли тот уже с Аленом Колленом. Англичанин ошеломленно взглянул на него, словно такая манера сразу переходить к делу противоречила всем нормам и обычаям секретных служб, которых им так долго приходилось придерживаться. Леман отпил глоток виски. Папа понял, что нарушил правила, что должен был дождаться конца обеда, а потом задать свой вопрос, но, сохраняя внешнее спокойствие, он очень волновался за Синеситту.
— Да, — неохотно произнес Леман, — я связался с Аленом Колленом. Это очаровательный парень. В наше время он мог бы стать достойным корреспондентом. Хорошим поставщиком винограда из Коринта, как говорят господа из Моссада. Кстати, о Моссаде…
Леман оживился, радуясь, что нашел предлог не переходить сразу к делу, что казалось ему изменой шестидесятым годам, когда говорили обиняками, намеками и загадками. Мой отец не вникал в рассказ Чарльза, — историй о Моссаде он наслушался более чем достаточно, когда работал с генералом, — сосредоточившись на блинах, как всегда, хорошо поджаренных. Внезапно папа возненавидел английскую кухню. Возненавидел Лондон. Возненавидел Лемана. Возненавидел Англию. Он бы возненавидел ее еще больше, если бы знал, что умрет через шесть дней. Сколько трудов, между прочим, мне понадобилось приложить, чтобы переправить его тело во Францию! Когда я увидела, как из «Боинга 747» в аэропорту Шарля де Голля спускают гроб, я чуть не расплакалась от радости, хотя обстоятельства к этому не располагали. Моего отца не удивило, что такой садист, как Стюарт Коллен, выбрал Англию для свадебного путешествия. Она была такая же холодная, как он, твердая, как он, непонятная, как он. Англия, как и Коллен, была невротичкой, неспособной отличить Красоту от Уродства, Добро от Зла. Здесь царила полная неразбериха, вяло текущая оргия, где никто никого не имел, так как было слишком холодно и влажно.
— Черный кофе или по-ирландски? — спросил Леман, проглотив последнюю крошку пудинга.
— Черный, пожалуйста. У меня должен быть ясный ум, когда я отправлюсь в Глазго.
— Почему в Глазго? — спросил англичанин. — Разве Синеситта просила прислать ей пятьдесят тысяч франков не из Ливерпуля?
— Они провели полчаса в Ливерпуле только для того, чтобы получить мой перевод.
— Почему же вас не было в тот момент в Ливерпуле?
— Потому что я был на почте в моем квартале и отправлял перевод.
— Вы должны были поехать в Ливерпуль, а вашего сына попросить отправить перевод из Франции.
— У меня не сын, а дочь, и к тому же, Синеситта дала мне срок в полчаса.
— Нужно было попросить продлить срок.
— Она чего-то опасалась, и Стюарт тоже. Синеситта умная. Что касается Коллена, то, судя по его судебному досье, речь идет о профессиональном преступнике.
— Двадцать лет тюрьмы… это истощает силы. Коллен больше не тот великий Коллен, задавший столько работенки вашей бригаде по борьбе с бандитизмом в начале семидесятых. Вы могли легко схватить его в Ливерпуле.
— По моему мнению, нет! А мое мнение в данном случае главное, и пока у меня нет других доказательств, я сам веду операцию.
— Конечно, Жильбер-Рене, конечно! Не будем из-за какого-то телеграфного перевода начинать старую войну между двумя разведками!
Желая воспользоваться этим неожиданным и даже почти невозможным отступлением Лемана, папа спросил у англичанина, не пора ли уже поговорить об Алене Коллене. Леман ответил, что папа похож на человека, съевшего волка, хотя на самом деле съел только шпинат. Мой отец признался, что беспокоится за дочь и хочет как можно быстрее ее увидеть.
— Вы ее увидите, — сказал Леман. — Не переживайте.
Папа не мог не знать, что в устах бывшего директора британской контрразведки означают такие слова. Его ненависть к Леману и Англии удвоилась. Леман в течение часа держал его на горячем гриле вместо того, чтобы потушить под ним огонь. Он столкнулся с той самой жестокостью англичан, о которой рассказывал генерал.
— Вы установили местонахождение Синеситты?
— Да, она в Глазго.
— Где именно?
— В пресвитерианском госпитале, в родильном отделении.
— Она беременна?
— Да, дорогой Брабан, вы станете дедушкой. Мои поздравления.
— Я сейчас же отправляюсь туда.
— Бесполезно. Чета Колленов день и ночь находится под наблюдением моих агентов: бывших специалистов по Среднему Востоку, очень надежных людей. Один из них потерял руку при штурме Касабланки 18 июля 1955 года. Как только ваша дочь родит, он предупредит нас по телефону. Он зажимает аппарат между головой и плечом и набирает номер единственной рукой.
— Вы не могли сказать мне об этом до ланча? — взорвался папа.
— Нет, Брабан, не мог.
— Почему?
— Не знаю.
Леман отпил глоток кофе по-ирландски.
— Я всегда был таким, — признался он. — Никогда не мог выражаться понятно, честно, ясно. Мне нужно было все затуманивать, запутывать, усложнять. Раньше я делал это для того, чтобы иметь время подумать. Теперь эго профессиональная привычка. Глупо иметь профессиональные привычки, когда не работаешь. Прошу прощения, если доставил вам неприятности. Еще кофе?
— Нет, спасибо.
В кармане Лемана раздался звонок, и папа подумал в приступе маразма, что англичанин принес в ресторан будильник. Чарльз вынул из кармана миниатюрный японский сотовый телефон.
— Если бы наши агенты на Востоке имели такие аппараты, — сказал он, — это спасло бы многие жизни. Теперь, когда у нас есть хорошая техника, чтобы победить Восток, нет больше Востока.
Телефон продолжал звонить, а бывший директор разведки не мог его раскрыть.
— Я попробую, — предложил папа.
Два бывших шпиона напрасно бились над телефоном. На помощь им пришел официант, потом метрдотель, но только японский клиент ресторана нашел решение проблемы, что позволило Леману поговорить со своим одноруким агентом. Тот сообщил ему, что Синеситту только что отвезли в родильный зал. Диаметр шейки матки был два сантиметра.
— Спасибо, — поблагодарил Леман.
Он прервал беседу и сказал моему отцу:
— Шейка матки увеличивается во время схваток на сантиметр в час; отсюда мы можем сделать вывод, не рискуя ошибиться, что ваша дочь родит через семь-восемь часов. Я не советую вам появляться там слишком рано. Вы можете вспугнуть Коллена, и он исчезнет в неизвестном направлении.
— Все, чего я желаю, это чтобы он навсегда исчез в неизвестном направлении.
— Самолет на Глазго через сорок пять минут, — продолжил Леман. — Вы приземлитесь в аэропорту Глазго возле Пейслея, в десяти километрах от города, если поедете по автостраде № 8. Автобусы из аэропорта в город отправляются через каждые двадцать минут и останавливаются между двумя железнодорожными вокзалами в центре. Конечно, вы можете взять такси. Разведка еще оплачивает вам расходы?
— Нет, но я унаследовал кое-что от жены.
— В таком случае, я вам советую остановиться в «Копторне» на Георг-сквер. Там всегда останавливались мы с женой, когда приезжали в Глазго. Она любила викторианский стиль. Вам понравится торговый город. Теперь, когда я знаю, как открыть этот прибор, — сказал Леман, потрясая сотовым телефоном, — я могу, если желаете, позвонить в «Копторн» и заказать номер.
Папа согласно кивнул. Этим простым и безобидным жестом он сделал еще один шаг к своей смерти. Англичанин позволил ему оплатить счет, сказав, что не только ничего не унаследовал от жены, но благодаря ей разорился. Папа заверил Лемана, что в любом случае он его должник. На тротуаре мужчины пожали друг другу руки. Леман подумал, что больше никогда не увидит папу, поскольку оба они были стариками, прожившими почти век, один — трагически (Леман), второй — серьезно (папа), и теперь пришло время освободить место другим Шарлям де Голлям и другим Жильберам-Рене. На самом деле Леман снова увидит папу через семь дней в номере 219 «Копторна» (вид на Квин-стрит-стейшн). Мой отец будет мертв, а через динамики сиди-плейера будут разноситься звуки последнего акта «Милосердия Тита». «Какая прекрасная смерть для меломана!» — подумает с восторгом Леман, но в чем потом, проведя следствие по поводу папиной кончины, разочаруется, так как, если вдуматься, смерть Жильбера-Рене Брабана была жестокой, ведь папу убил тот, кого он любил больше всех на свете: то есть Моцарт (1756–1791).
16
Не было никакого однорукого типа ни у родильного отделения, ни в крошечной комнате ожидания с бледно-зелеными стенами, где стояло пять стульев и низкий столик без единого журнала на нем. Папа спросил у дежурной медсестры, где найти Синеситту Коллен. Медсестра — шестьдесят лет, сто двадцать килограммов и двести пятьдесят седых волосков в ноздрях — открыла журнал и стала водить пальцем по строчкам.
— У нас нет никакой Синеситты Коллен.
— Посмотрите еще раз.
— Месье, я посмотрела один раз и мне этого достаточно, чтобы сказать вам, что у меня нет никакой Синеситты Коллен. Должно быть, вы ошиблись больницей.
— Есть еще один пресвитерианский госпиталь в Глазго?
— Нет. Эта дама, без сомнения, в публичной больнице.
— Я знаю из надежного источника, что она в пресвитерианском госпитале.
— Что вы называете надежным источником?
— Контрразведку Ее величества.
Медсестра посмотрела на моего отца с таким тупым и замкнутым видом, что ему показалось, будто два ее глаза соединились в один, как у циклопа, из-за чего он почувствовал себя барашком, которым воспользовались Улисс и его приятели, чтобы скрыться от великана Полифема.
— Ее здесь нет, — повторила медсестра.
— Покажите мне журнал!
— Об этом не может быть и речи!
Леман дал отцу автоматический пистолет калибра 6,35, и папа от возмущения, что не нашел Синеситту, готов был уже достать его из кармана и навести на медсестру, как вдруг ему пришло в голову, что женщины часто рожают под девичьими фамилиями.
— А Брабан?
Медсестра глубоко вздохнула и, выдержав взбешенный и властный взгляд француза, снова стала смотреть журнал.
— Да, — сказала она, — у меня есть Брабан С. Не могу разобрать ее имени.
— Синеситта.
— Как оно пишется?
Папа по буквам произнес имя моей сестры, которое медсестра старательно вписала в журнал, а затем спросил, где сейчас Синеситта.
— В родильном зале. На втором этаже.
Мой отец направился к лифту. «Сэр! Сэр!» — услышал он ее крик, что напомнило ему Боба. Он почувствовал, как пол задрожал у него под ногами. Тяжелый, оглушительный грохот сотряс воздух, пахнувший, как и во французских больницах, эфиром, кровью, хлоркой и овощным супом. Папа понял, что это медсестра бежит за ним по коридору, и когда увидел ее квадратные плечи, толстые ноги и круглое пузо, то почувствовал смутный страх и непроизвольно сунул руку в карман, обхватив пальцами гладкую поверхность пистолета. Медсестра, разозленная и сконфуженная из-за того, что ей пришлось бежать, нервно провела рукой по коротким волосам, поправила пряди и несколько кудряшек, накручивая их на палец, как на бигуди.
— Вы кто? — спросила она.
— Отец.
— Отец ребенка? Если вы отец ребенка, предупреждаю вас, что наверху ждет еще один.
— Я — отец женщины.
— Значит, дедушка. Дедушкам не положено находиться в родильном отделении. Впрочем, бабушкам тоже. Извольте остаться в комнате ожидания, прошу вас. Младенец скоро родится.
Она положила руку на плечо отца, и в этот момент, напрасно пытаясь найти взглядом ее вторую руку, мой отец догадался, что дежурная медсестра и есть безрукий агент Лемана. «Настоящий профессионал, — повторил ему Чарльз, усаживая в такси, направлявшееся в Хитроу. — Она выполняла наши задания во время государственного переворота Насера в 1954 году и, смешное совпадение, подорвала изнутри Комитет по защите демократических свобод, который в марте следующего года организовал поход на Брюссель, запрещенный как мэром города, так и губернатором провинции… Брабан». Медсестра поняла, что папа тоже понял, кто она. Конечно, она привыкла, что Леман не мог противостоять желанию при встрече со старыми приятелями из европейских разведок похвастаться, что среди его агентов, продолжающих ему подчиняться, есть безрукий.
— Мы контролируем ситуацию, — заверила она. — Мой коллега в родильном зале. Он следит за Колленом и звонит мне каждые десять минут.
Папа расположился в комнате ожидания и прочел несколько страниц из книги «Венера и море» Лоренса Даррелла, которую купил в аэропорту Хитроу. Он подчеркнул одну фразу: «… идиот, играющий на скрипке на пороге таверны — поэт с острова, у которого нереиды украли разум». Он услышал характерное двойное посвистывание агентов английской разведки и поднял голову. Перед ним возвышался огромный тип с красным лицом, выпученными светлыми глазами и спутанными на лбу седыми волосами. Только спустя несколько секунд папа узнал Стюарта Коллена, поправившегося почти на пятнадцать килограммов после освобождения из тюрьмы.
— Дорогой тесть, что вы тут делаете?
— Я приехал навестить мою дочь и ее ребенка.
— Не повезло, вы наткнулись на меня. Но заверяю вас: все чувствуют себя прекрасно.
— Это мальчик или девочка?
— Мальчик.
— Я хотел бы поцеловать мать ребенка.
— Невозможно. Вы сможете увидеть их завтра после обеда, начиная с половины второго. Здесь не делают поблажек. По рассказам моих родителей, американский госпиталь, где родился мой брат, более приятный.
— Нет никакого способа?..
Папа незаметно глянул в сторону медсестры, которая огорченным кивком подтвердила слова Коллена.
— Кстати, — спросил Коллен, — как вы нас нашли?
— Вы забываете, что перед войной я был офицером бельгийской разведки.
— Чертов тесть! Тогда вы должны обо мне все знать!
— Только вы можете о себе все знать.
— Я? У меня нет никаких воспоминаний. Что я знаю о себе? Две-три вещицы. В общих чертах.
Глазго — красный город в темно-синем окаймлении. Кирпич пятидесятых годов, бетон шестидесятых и стекло семидесятых. Сорокаэтажные башни вызывают мысли о поломке лифтов и прыжках в пустоту. Коллен шел вдоль реки в сопровождении Жильбера-Рене Брабана, не хотевшего от него отставать и шагавшего быстрее, чем доктор Трибулет, его геронтолог с улицы Луи-Блан, разрешал ему делать. Может быть, не собрание сочинений Моцарта убило моего отца, а эта вынужденная долгая ходьба по Глазго, где уже чувствовалось наступление слишком ранней осени, несущей с собой пневмонии и простуды.
— Вы держитесь, дорогой тесть?
— В Эль-Аламейне бывало и похуже.
— Вы были моложе на пятьдесят лет.
— Вы правы, — проворчал мой отец, который, как и генерал де Голль, не любил, когда ему напоминали о возрасте. — Впрочем, не присесть ли нам на скамейку?
— Как пожелаете.
Они сели, находясь на равном расстоянии от Кингстонского моста и моста короля Георга V. Машины устало исполняли вокруг них свой вечерний балет.
— И что же это за две-три вещи, о которых вы помните? В общих чертах, как вы сказали.
— Мое рождение в Тортозе (Каталония).
— Ваше рождение?
— Потому что о нем мне, естественно, рассказали.
— Оно хорошо прошло?
— Нет, плохо.
Сменив тему разговора, Коллен сказал:
— Я хочу есть. Может, пообедаем?
— С удовольствием.
— Тогда вы меня приглашаете, поскольку у меня нет ни гроша. Я даже не знаю, как купить молоко, коляску и все остальное для ребенка.
— Об этом не беспокойтесь. Я привез все, что нужно.
Фраза, которую папа не должен был говорить. Глаза Коллена, имевшие столько различных и неразличимых оттенков, что в результате превратились в бесцветные, словно вывалявшись в зеленовато-коричневом навозе, потом покрылись в стойле серым слоем пыли, ожесточились и загорелись. Стюарт перестал безразлично взирать на папу и начал систематически и настойчиво проявлять к нему знаки внимания, как гурман в предвкушении жареной свинины с картошкой и кислой капустой.
Он повел его в «Пекин-Корт», находившийся недалеко от знаменитой Глазговской школы искусств. За соседним столом обедали художники Стивен Кэмпбелл, Питер Ховсон и Адриан Вишневский — последователи свободной шотландской школы живописи, наделавшей много шума в конце прошлого века. Они говорили о том времени, когда у них не было средств пообедать ни в «Пекин-Корте», ни в «Визидж Беате», ни даже в «Шиш Махале», то есть вообще не было денег на обед. «Учитывая направление, в котором развивается рынок искусства, — сказал Вишневский, самый умный из троих, — эти времена могут возвратиться». Папа, увидев, что в «Пекин-Корте» предлагают много чжуанских блюд, сказал, что это напоминает ему китайский ресторан «Радости Чжуцзян», расположенный за церковью Сен-Франсуа-Ксавье, где он часто обедал с чиновниками из министерства кооперации в те времена, когда работал с де Голлем. Стюарт, как обычно старательно изучив меню, обнаружил, что «Пекин-Корт» предлагал блюда и таиландской кухни. Только когда он выбрал два первых блюда (салат из устриц под лимонным соусом и суп из вешенок), второе блюдо (жареного в меду поросенка) и два гарнира (соевую вермишель по-таиландски и рисовую кашу, поджаренную с базиликом), он снова взглянул на папу, улыбнулся и сказал, похрустывая чипсами с креветками, которые официантка принесла вместе с фирменным аперитивом:
— Когда я родился, моя мать плюнула мне в лицо. Она сама рассказала мне об этом в тот день, когда я стянул у нее сто штук из кошелька. В тот раз я попытался ее убить, но она была намного сильнее и, кроме того, у нее был пистолет. У меня же были только ненависть и голые руки. Этого недостаточно для девятилетнего мальчика, чтобы кого-то убить, особенно, если это твоя мать.
Стюарт Коллен рассказал свою жизнь папе, который незаметно включил диктофон в правом наружном кармане своего пиджака. Сегодня, благодаря Чарльзу Леману, пленка в моем распоряжении, и я постараюсь с помощью нее и других документов, в том числе судебного досье Коллена, вторую фотокопию которого мне удалось достать, а также целых глав из книги «Ад мне лжет» и некоторых страниц из «Золота под названием нация», рассказать о бурном существовании моего шурина до его встречи с Синеситтой.
Стюарт родился в госпитале в Тортозе, в Испании. Его матери было настолько плохо во время родов, длившихся четырнадцать часов, что она действительно плюнула на сына, когда акушерка принесла его, после чего отказывалась видеть его в течение двух лет, оправдываясь тем, что он стал первым мужчиной, мучившим ее физически и поэтому заслуживающим наказания. Это было время, когда женщины рожали без анестезии, что объясняет, почему столько матерей ненавидят своих детей даже тогда, когда те становятся взрослыми. Таким образом, Стюарт был чем-то вроде сироты при отце и матери, что вынести трудно. Он ожесточился. Разговаривал, только когда ему задавали вопрос — и то не всегда. Кассандра Коллен родила второго сына Алена в американском госпитале в Нейи. Ей сделали кесарево сечение. Она полюбила его так же сильно, как невзлюбила Стюарта. Странно, но отношения между мальчиками не были испорчены. Стюарт перенес на младшего брата любовь, в которой отказывала ему мать, а Ален, обожаемый матерью, взамен любил весь свет, включая людей, которых его мать не любила. Через пять лет Кассандра Коллен покончила жизнь самоубийством в Кабурге. Стюарт решил, что она поступила так потому, что не могла простить себе, что не любит его, и почувствовал себя в ответе за смерть матери, но это было неверно. В начале августа 1956 года на террасе «Гранд Отеля» Кассандра Коллен призналась Мишлен Шалан, своей лучшей подруге и жене театрального декоратора Максима Шалана, что она несчастна, потому что богата, но поскольку у нее нет смелости стать бедной, то она никогда не будет счастливой, а без счастья и надежды на счастье человек не может выжить, и поэтому ей лучше покончить с собой. Мишлен Шалан, как и ее муж, считала, что человек может пережить все, если у него есть на то воля.
— Но не смерть, — заметила Кассандра, красивая женщина с пышной грудью, обтянутой белой шелковой блузкой.
— Все религии утверждают, что человек бессмертен, — возразила Мишлен.
— Но только не античная, — ответила Кассандра, изучавшая древнегреческий в монастыре Уазо.
— И вот результат: у этой религии нет последователей.
— Ты забываешь Монтерлана.
— Если бы Монтерлан был приверженцем античной религии, он бы не написал два года назад «Королевский порт». Между прочим, я не одобряю Сюзанну Лалик, декоратора. Я придерживаюсь мнения, — и Максим согласен со мной, — что религия, не обещающая вечную жизнь, подобна мяснику, не гарантирующему свежесть мяса: ему остается только прикрыть лавочку.
Было четыре часа пополудни. Яркое, обжигающее солнце раскалило пляж, бульвар Марселя Пруста и мозг Кассандры. Расставшись с подругой, Мишлен села в свою синюю машину и возвратилась в дом, который они с мужем купили в Трувиле на деньги за декорации к пьесам «Когда появится ребенок» Андре Руссена и «Картошка» Марселя Ашара, а Кассандра пошла принимать ванну в свои апартаменты. Она прочла страниц пятьдесят «Смутной улыбки» Франсуазы Саган, а затем вскрыла себе вены. Ей было бы проще застрелиться, но после того, как она чуть не убила Стюарта, муж забрал у нее револьвер. Люсьен Коллен обнаружил ее через три часа. Он возвратился со скачек в Довиле, где, кстати, встретил Саган. Вода в ванне показалась ему очень красной, а жена очень бледной. Он позвонил администратору. Шесть врачей, находившихся в отпуске, поспешили в его апартаменты, но никто из них не мог помочь Кассандре, поскольку она была мертва. Когда десятилетний Стюарт и пятилетний Ален возвратились с няней с пляжа, отец рассказал им о случившемся. Стюарт разрыдался. Это больно — потерять мать, которая вас не любит, так как всегда надеешься, что когда-нибудь она вас полюбит. Теперь он был уверен, что Кассандра никогда его не любила. Зато Ален сохранил любовь матери, спрятав ее в своем сердце, как в сундуке. И это немалое богатство помогло ему выдержать тяжкие удары судьбы.
Больше ничего значительного в жизни Стюарта не происходило до одного сентябрьского дня, когда он с двумя приятелями из французского лицея ограбил магазин «Фиш энд Чипс». Трое парней забрали сотню фунтов стерлингов и разделили их между собой. Когда они в компании унылых маникюрш и бледных лицеисток растратили все деньги в различных китайских и индийских ресторанах Сохо, Стюарт подбил своих приятелей совершить налет на продавца зонтиков на Риджент-стрит. Продавцы, парни ушлые, быстро их засекли. Приятелям Стюарта удалось сбежать. Они сбежали так далеко, что Коллен их никогда больше не увидел. Из телефонной кабины центрального комиссариата в Мэйфере Стюарт позвонил отцу в IBM. Через полчаса Люсьен Коллен рассказывал полицейским о самоубийстве в Кабурге своей жены Кассандры, урожденной Монтесинос. В тот же вечер отец с сыном отправились ужинать в клуб на Вест-Кенсингтон. Стюарт, который в то время еще был худощавым парнишкой, но уже отличался жестоким, язвительным характером и любил прихвастнуть, заявил отцу о своем намерении бросить учебу и начать карьеру в преступном мире. Люсьен Коллен нервно засмеялся. У него насчет Стюарта были другие планы: духовный коллеж в окрестностях Арраса, а затем Политехническая школа или Национальная школа управления.
— Преступный мир, — спокойно объяснил он сыну, — невероятно сложен и полон неожиданностей. Нужно уметь жить с постоянным ощущением опасности, в нелегальном положении и в аморальности — три тяжких испытания, сопоставимых со сдачей экзаменов по математике, физике и химии на степень бакалавра, что невозможно для девятиста девяноста девяти человек из тысячи.
— А если я тысячный?
— Скажи, у тебя есть настоящее призвание?
— Да.
— Есть ли у тебя настоящее призвание хоть к чему-либо, кроме как к обедам в ресторане?
— Обеды в ресторане — это не призвание, а страсть, и страсть дорогостоящая. Поэтому я должен иметь прибыльное дело.
— Стань высоким функционером.
— Слишком трудно. Ты заметил, что я не очень умный?
— Действительно. И именно поэтому тебе не следует связываться с преступниками. На высокой должности, совершив ошибку, ты получишь взыскание. В преступном мире ты получишь пулю в лоб или двадцать лет тюрьмы.
— Я это знаю, — сказал Стюарт, жестом показывая официанту принести вторую бутылку бордо. — Все равно, меня туда тянет. Я рассуждаю так: в преступной среде больше кретинов, чем среди высоких функционеров, и поэтому мне будет легче блистать среди них. Когда видишь все трудности жизни гангстеров, то говоришь себе, что лишь идиоты или обиженные обществом, что то же самое, встают на подобный путь. Тогда как высокие посты занимают только умники и мещане. Я могу сойти с дистанции на первом же повороте. А с бандитами у меня есть шанс зацепиться. Не считая того, что их образ жизни мне подходит больше. Он порочен, низок, распутней. Там все легко и доступно: деньги, женщины, смерть. Да, у меня призвание к преступлениям, как у других призвание к лепке скульптур, социологии или игре на пианино.
— Будет все-таки лучше, если ты получишь образование, а для этого нужно сдать экзамен на бакалавра.
— Я уже два раза его сдавал!
— Я неправильно выразился: нужно получить степень бакалавра.
— И для этого я должен ехать в Аррас?
— Обязательно. В Лондоне тебе ничего не светит, впрочем, не тебе одному. Твои приятели и подружки из французского лицея будут неприятно удивлены, когда очутятся на подготовительных курсах в парижских лицеях. Им покажется, что они не понимают французского.
Стюарт Коллен уехал в Аррас первого октября. В июне следующего года он получил степень бакалавра и явился на приемный экзамен в Политехническую школу, заодно отправив свое школьное досье в лицеи Людовика Великого, Генриха IV и Людовика Святого, готовившие к поступлению в Высшую коммерческую школу. Ему отказали в Политехнической школе, но приняли в лицей Генриха IV. На следующий год он провалился на вступительных экзаменах в BKШ. Зато был принят в Коммерческий институт в числе лучших, окончив его в числе худших.
Все свободное время он проводил, шатаясь по площадям Бланш и Клиши, не вылезая из «Веплера» и «Мулен Руж». Он таскался по барам, оставляя там свои карманные деньги и пытаясь завязать знакомства в бандитской среде. В конце концов он подружился с владельцем бара Морисом Перуччи по кличке Момо — авторитетом родом из Ниццы. После того как Стюарт получил диплом, Морис стал давать ему в качестве испытания небольшие поручения: отнести сэндвичи или булочки с томатом, салатом, яйцом и анчоусами портье стриптизных заведений, оценить клиента проститутки, позволившего себе торговаться из-за бутылки шампанского, выслушать откровения девочек, а также, когда у них не было времени, купить им нижнее белье. Позднее Стюарт перешел в более высокую категорию, получая более сложные задания: задать взбучку квартальным коммерсантам, не заплатившим вовремя дань, украсть из машины приемник (счастливое время, по словам папы, когда еще не было сигнализации и запорных устройств на автоприемниках), заняться контрабандой английских или американских сигарет, продать оружие.
Его первый арест — на самом деле второй, как он выражался, в его «карьере» — произошел в результате «крещения» в перестрелке, но самоубийство Кассандры помогло ему еще раз избежать тюрьмы. Когда же Перуччи приказал ему убить одного человека, он понял, что покончил со средним образованием и поступил в некотором роде в университет. Операция совершилась одним январским утром на заснеженной улице Баньоле, в нескольких километрах от нашего дома. За это он получил от своего хозяина повышение, позволившее ему «пасти» трех девиц на обширных лугах Сен-Дени, принять участие в нескольких ограблениях, в мошенничестве с поддельными лотерейными билетами и — его шедевр — украсть сына люксембургского парфюмера Фирмена Ропса и получить за него выкуп в миллион немецких марок.
Стюарт вспоминал о своих годах в преступном мире, как об Эдеме. Там все было просто: никто не давал чеков, не платил страховых взносов. Время от времени там играли в ковбоев или индейцев. Полицейские были Синими Бородами, а хулиганы — Красными Шапочками. Когда первые ловили вторых, те проводили несколько месяцев или лет в резервации, называемой тюрьмой. Деньги были не цифрой внизу банковского счета или несколькими тонкими пачками купюр, скупо выданными банкоматом, а пышными пирожными «наполеон» с изображением великих французских писателей. То, что у человека всего лишь одно имя, казалось чудовищным Коллену, считавшему, что в каждом из нас живет несколько личностей и поэтому все должны иметь несколько имен, как это было с ним с 1968 по 1972 годы. Девушки были для него игрушками, любящими развлекаться. В любви есть момент, когда удовольствие раздавливает вас, как тяжелый грузовик, после чего вы до конца своих дней ползете к недостижимой независимости. Коллен любил этих продажных, плененных женщин, распутность которых была их единственной свободой. Он брал их одну за другой с такой же жадностью, как мой отец покупал компакт-диски. Но больше всего в той жизни Стюарт ценил рестораны, где ему подносили его любимый аперитив (в то время «Пероке») еще до того, как он успевал сесть, предлагали лучшие вина, несколько вторых блюд («только попробуйте, как мы умеем готовить»), где ему, даже не спрашивая, наливали дижестив[18], делали комплименты по поводу того, как он хорошо выглядит, хвалили за профессиональный успех, элегантность и, что важнее всего, упрашивали не платить. В той жизни Стюарт любил беспорядок, медлительность, изобилие, грубость. Это было такое существование, когда не знаешь, что произойдет днем, и забываешь, что случилось накануне. Смерть воспринималась не как заточение, а как удачный побег: скончавшийся бандит не попадет в тюрьму.
И вот в такое чудесное время пришла телеграмма от Алена Коллена. Люсьен Коллен, бывший уже два года президентом отделения IBM в Азии, умирал от рака костей и хотел повидать Стюарта перед смертью. Перуччи, сам потерявший отца, ставшего жертвой лейкемии, и строивший планы ввести Стюарта, самого дипломированного и выдающегося из всех «лейтенантов», в свою семью, оплатил ему в оба конца билет первого класса на рейс компании «Эр Франс» Париж — Бангкок. Со стороны человека, у которого не было предприятия, а значит, и счетов о расходах, и который заявлял налоговой инспекции, что его месячный заработок хозяина бара составляет две тысячи семьсот тридцать франков и пятьдесят сантимов, это был огромный подарок, что-то вроде приданого. Одиль Перуччи, дочка хозяина, сама отвезла Стюарта в аэропорт Орли. На свое двадцатилетие она получила в подарок зеленый «Спитфайер», внутри которого она в маленьком платье от Кардена и белых туфлях на высоких каблуках и он, солидный в своей темно-серой тройке, были похожи на двух противников баррикад в мае 68-го, тоскующих по пятидесятым годам, когда, протестуя против событий в Алжире, девушки надевали белые шелковые чулки, а парни — полосатые галстуки.
— Вы долго пробудете в Бангкоке? — спросила Одиль.
— Это зависит от того, сколько времени будет умирать папа.
— Вы ничего не чувствуете, Стюарт?
— Ничего. Именно эту черту ваш отец ценит во мне.
— Он ценит ваши знакомства в финансовых кругах.
— Именно потому, что я ничего не чувствую, у меня там и есть знакомства.
— Поцелуемся?
— Не знаю.
— Кого вы боитесь?
— Вас.
Самой большой уловкой Коллена с женщинами было утверждение, что он их боится, и это, кстати, было верно. Он говорил: «Женщины так боятся мужчин, что когда те заявляют, что сами боятся их, они успокаиваются до такой степени, что сразу влюбляются». По этому поводу Бенито в тридцать второй главе «Опасных мифов» добавляет: «Женщины хотят, чтобы их успокоили. Поэтому они любят религию и не любят коммунизм».
В госпитале в Бангкоке Люсьен заставил Стюарта поклясться, что тот оставит бандитский мир и возвратится к нормальной жизни. Он не хотел, чтобы его сын кончил жизнь в канаве с двумя пулями в голове. Разве это хуже, думал Стюарт, чем умереть в своей постели от рака костей? Он выполнил требование отца, пообещав самому себе как можно скорее нарушить клятву. Он был верен только обещаниям, которые давал сам себе, кстати, не слишком часто. Ален Коллен, сидящий по другую сторону кровати под громко ревущим кондиционером, скептически, хотя и несколько растроганно, наблюдал за этой сценой.
— Меня репатриирует во Францию, — сказал Люсьен, — Европейская страховая компания, и я поздравляю себя, что буду ее первым клиентом.
Отец Стюарта любил быть первым покупателем какого-нибудь предмета, первым клиентом магазина, первым любовником женщины. Он коллекционировал первые номера газет, первые книги. Долгое время он спал только с девственницами, а его переезд в Азию развил это пристрастие. Он был одним из первых французов, которые обзавелись телевизором, электрической бритвой, посудомоечной машиной. «Если бы он прожил дольше, — говорил нам Коллен, рассказывая о своем отце, что случалось все чаще и чаще по мере приближения его смерти, — он стал бы первым абонентом Канала Плюс и кабельного телевидения, первым обладателем сотового телефона, первым слушателем бибопа. Он бы первым, вернувшись во Францию, испытал на себе виртуальную реальность, а если бы здоровье ему позволило, записался на один из первых круизов по Средиземному морю для пар, меняющихся сексуальными партнерами».
— Представляю, я стану первым директором IBM в Азии, умершим в Бангкоке! Ты потом проверишь, Ален. Но я хочу быть похороненным на Пер-Лашез. Вы займетесь отправкой моего тела. Это вам не будет стоить ни сантима, так как все расходы возьмет на себя Европейская страховая компания. Вот почему выгодна такая страховка.
Алену предстояла тяжелая задача. Стюарт для этого был слишком впечатлительным и ленивым. Я, занимавшаяся репатриацией папиного тела из Лондона в Париж (правда, без помощи страховой компании), могу понять тот кошмар, который пережил брат Стюарта, чтобы перевезти во время военной диктатуры труп своего отца из Таиланда во Францию.
— А теперь, — сказал Люсьен Коллен, — оставьте меня. Я хочу поспать. Возвращайтесь завтра утром, если будете еще живы.
Горькая шутка умирающего. Братья очутились в задымленном, мглистом, влажном Бангкоке.
— В этом городе нужно создать искусственный климат, — сказал Стюарт. — Во всей стране, на всем этом грёбаном континенте.
Не зная, куда идти, что говорить, чем заняться, Стюарт и Ален сделали вид, что прогуливаются. Было воскресенье — рыночный день. В Сарам Луанге рынок развернулся как на земле, так и над рекой Чао-Праей, и, переходя от одного лотка к другому, люди боялись упасть в воду. Каждый второй жарил или варил рыбу. В воздухе пахло жареной свининой, ладаном и рвотой. Ален подумал, что такая тяжелая, шумная и зловонная атмосфера понравится его брату, с детства предпочитавшему казаться гнусным и неряшливым. Но Стюарт, наоборот, шел большими шагами по Сарам Луангу с выражением брезгливого отвращения на лице, как у англиканского пастора. Коллен не хотел быть грязным, если все вокруг были неопрятными. Он был не в состоянии плакать вместе с плачущими и смеяться вместе с публикой. Каждая его реакция была прямо противоположна общепринятой. Единственное, что он выбрал среди сотни слоников из слоновой кости, колье в форме цветков жасмина, платков из набивного шелка, раскрашенных вручную шкатулок и кульков с попкорном, — это пиратскую кассету Наны Мускури.
— Тебе нравится Нана Мускури? — спросил Ален, любитель оперы.
— Это не для меня, а для Одиль Перуччи, дочери моего босса.
— У тебя с ней роман?
— Я один раз ее поцеловал.
— И все?
— Регулярное посещение проституток делает тебя робким с другими женщинами. Даже не знаешь, как с ними обращаться. Спать с проститутками — это в некотором смысле снова становиться девственником. Они переспали с таким количеством мужчин, что ты чувствуешь себя девственным, нетронутым, новичком. Кроме того, они занимаются чистым сексом, теоретическим, почти духовным, не имеющим ничего общего со сложным, содержательным, глубоким и чувственным сексом с женщиной, которую любишь, уважаешь, с которой разделяешь обеды, развлечения, духовные интересы. Заниматься любовью с проституткой — это заниматься любовью ни с кем. Разве не это характерно для девственника? В любом случае, если проститутки долгое время считались священными созданиями, имевшими свои храмы и традиции, то этому должно быть объяснение.
Стюарт был подкован в истории проституции и так хорошо о ней рассказывал, что Момо часто предлагал ему написать на эту тему книгу. «Читая ее, — объяснял отец Одиль, — девушки поймут, что взялись не неизвестно откуда, а что у них есть исторические корни и что они продолжают традиции предков». Стюарт около получаса разглагольствовал об эволюции проституции на протяжении веков, что, в конце концов, вызвало тошноту у младшего брата. Они вернулись в отель «Ориентл». В комнате Стюарт включил на полную мощность кондиционер, разделся догола, взвесился — 97,7 килограммов, — выпил две рюмки китайской водки и позвонил Одиль Перуччи в Париж, где, по его подсчетам, было около полудня. Она завтракала на террасе, в своем доме на авеню Анри-Мартен. Когда налоговый инспектор спросил у Мориса Перуччи, как, зарабатывая в месяц две тысячи восемьсот тридцать франков и пятьдесят сантимов, он смог подарить своей дочери квартиру в двести пять квадратных метров в шестнадцатом округе Парижа, тот ответил по совету Стюарта, что выиграл крупную сумму на скачках.
— Как чувствует себя ваш отец? — ясным и нежным голосом спросила Одиль, за которой, как неустрашимые телохранители, стояли преступления ее отца.
— Как человек, который умирает.
— За ним хорошо ухаживают?
— Не знаю, хорошо ли за ним ухаживают, но шпигуют наркотиками хорошо.
— Кстати, о наркотиках. Папа хочет, чтобы вы привезли их во Францию.
— Что именно?
— Героин.
— Сколько?
— Два килограмма.
— Слишком тяжело. Знаете, я ненавижу путешествовать с багажом.
— Это папин приказ, а не мой.
— Где я найду деньги?
— В банке «Индосуэз» на Уиткау-роуд, 142.
— Кого спросить?
— Мишеля де Корка. Он передаст вам чемоданчик. В нем будут деньги. Один совет: не потеряйтесь вместе с ним.
— За кого вы меня принимаете, Одиль?
— За свободного и умного человека, любящего деньги и презирающего работу.
— Слишком лестно.
Стюарт повесил трубку. Одной из причин его успеха у женщин было то, что он всегда первым прерывал разговор, если ему этого хотелось — часто даже на середине фразы, независимо от того, кто ее произносил. Кроме того, он использовал тактику (что он сразу же сделал, увидев мою сестру?) дискредитации себя. В этом случае девушка начинала думать, что здесь что-то не так, что мужчина над ней насмехается и хочет устроить ей ловушку. Она уверяла себя, что ни один болван не скажет о себе, что он болван; а если мужчина и впрямь заявляет женщине, что он болван, то это означает нечто противоположное.
В то время Бангкок представлял собой на девяносто пять процентов американский город, особенно в районе Патпонга. Поэтому Стюарт и Ален отправились пошататься по нему. Американские солдаты вели себя так, как все молодые люди, оказавшиеся вдали от родины: занимались скотством, которым бы не осмелились заняться дома. Они могли спать с маленькими девочками, не боясь оказаться в тюрьме; пить виски прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный кулек; мочиться на тротуаре, не подвергаясь осуждению лиги борцов за чистоту города. Они вели себя как дети, оставшиеся без присмотра в доме, полном слуг, с набитым до отказа холодильником и слишком большой суммой наличных денег. У всех у них был немного встревоженный вид, словно они уже представляли, как их накажут за подобное поведение. Они тосковали по наказанию, понимая, что чем больше оно отодвигается во времени, тем более жестоким может оказаться. Таиландки цеплялись за солдат, как цепляются за уходящий трамвай. Война во Вьетнаме положила начало в истории человечества сексуальным отношениям между Азией и Соединенными Штатами. Азиаты и американцы, по мнению папы, были смелыми, предприимчивыми и трудолюбивыми народами, в общем, один стоил другого. Война во Вьетнаме заменила им брачную церемонию, и с тех пор они больше не расставались. В течение многих лет американцы все больше отворачивались от Европы, ничего в ней не понимая, чтобы, в итоге, найти укрытие в азиатском логове, где часами можно говорить о деньгах с лучшим другом или его женой, не боясь показаться нахалом или тупицей, и где можно было в полном молчании заниматься любовью с женщинами, не похожими на обычных женщин. Американцы (я продолжаю цитировать папу) боялись двух вещей: слов и женщин. Азия предлагала им на блюдечке с голубой каемочкой молчание и девочек. От этого не отказываются и это не забывается.
Стюарт вошел в темный бар с красной подсветкой как завсегдатай и уже через несколько минут прижимал к груди несовершеннолетнюю девочку в купальнике, заплатив ей за любовь, которой не собирался с ней заниматься. Он радовался, что не испытывает желания, как молодой сутенер, пресытившийся сексом и не ощущающий в нем потребности после суточного воздержания. Стюарт предложил девушку своему соседу за стойкой, но тот от нее тоже отказался. Девчонка чуть не расплакалась, так как для проститутки нет ничего оскорбительнее, чем получить плату за услуги, которыми никто не собирается воспользоваться. Тогда Ален взял ее за руку и затащил на второй этаж, где находились номера. Он не раз подхватывал женщин, которыми пренебрег его брат. Разница между ним и Стюартом заключалась в том, что Стюарт нуждался в женщинах, но никогда не любил их, тогда как Ален любил их, но никогда в них не нуждался. Стюарт соблазнял — Алена соблазняли. Старший брат брал женщин, чтобы выжить, младший — чтобы они жили. Все это позднее объяснила мне сестра. В любовных отношениях со Стюартом женщина чувствовала себя кислородом, и это ее истощало, Ален же сам давал ей кислород. Однако, добавляла Синеситта, Алена вы просто хотели, а Стюарта страстно желали. От Алена оставалось приятное воспоминание, Стюарта невозможно было забыть. Ален оставлял след, Стюарт — шрам. Ален был запахом, Стюарт — вкусом и так далее.
В баре «Найс герл», где потом обосновался «Сейв секс» («Туристический путеводитель по Таиланду, Гонконгу, Макао», с. 2059), Стюарт, уже сожалевший, что отпустил брата с девчонкой, за которую заплатил, чтобы не спать с ней, повернулся к мужчине слева, тоже отказавшемуся от нее. Он был большим и широкоплечим, с бесстрастным лицом и крепким телом.
— Майор? — спросил Стюарт по-английски.
— Полковник. Полковник Бональди.
— Мои поздравления.
— Если бы я не устроил скандал в штабе, то был бы генералом.
Ни одна из девиц не садилась на колени к полковнику. Видимо, в «Найс герл» он слыл мизантропом. Оставалось узнать, почему мизантроп проводил вечера в «Найс герл». Полковник тем временем сказал Стюарту:
— Я оценил ваше внимание. К несчастью, после смерти моей любимой жены я отказываюсь от секса с другими женщинами. Я из тех, кого вы называете в своей стране — Франции, да? — романтиками военно-морского флота.
— Она была американкой?
— Американки никогда не умирают раньше своих мужей, разве что в любовных романах. Нет, она была таиландкой и работала в этом баре. Ее звали Сай. Она родилась на севере, в деревне. Пятнадцать с половиной лет.
«Именно в этом возрасте, — подумала я, слушая магнитофонную запись, — Синеситта встретила певца из Ланьона».
— От чего она умерла?
— От передозировки. А чем вы занимаетесь в Бангкоке?
— Контрабандой наркотиков, — заявил Стюарт, обладавший в то время язвительным и изощренным умом.
Он добавил:
— Я пошутил.
— Это еще хуже, — сказал полковник, который, несмотря на то, что был полковником, не решался ввязываться в драку с человеком, от которого исходили волны жестокости, бесчувственности и бесчестности.
— Шампанского! — крикнул Стюарт.
Их облепило с полдюжины девиц. Стюарт с полковником почувствовали себя так, словно на них обрушился потолок. У Коллена на коленях очутились сразу две девчонки. Они были такими легкими, что ему казалось, будто на каждом его бедре стоит по подносу с завтраком. Он сказал полковнику:
— Я — международный эксперт.
— В чем?
— Во всем.
Он засмеялся. Бональди понял, что Стюарт пьян, и отказался от мысли завести с ним серьезный разговор. Они спокойно и методично пили шампанское, чувствуя, как понемногу начинают соперничать, кто кого перепьет. На четвертой бутылке Стюарт больше не мог выговорить ни слова, а полковник был такого же цвета, как его форма. Что касается девиц, то они разбежались по углам «Найс герл», куря длинные белые сигареты, рассказывая друг другу на ухо свои секреты и без конца сдвигая и раздвигая голые ноги.
— Есть верный способ убить человека, — сказал Бональди. — С помощью Моцарта.
— Мо… царта?
— 1756–1791.
— Ком… по… зи… Му… зыканта?
— Правильно. Заставьте человека прослушать собрание сочинений Моцарта — и он умрет. Никсон? Мертв. Хо Ши Мин? Мертв. Никто не сможет выдержать полного собрания сочинений Моцарта. Ни Фидель Кастро, ни Аденауэр. Моцарт, собрание сочинений: совершенное оружие. Нервы, понимаете? Эмоции.
— Где, где это собра… собр…?
Стюарт почувствовал, что не сможет выговорить «собрание сочинений», и просто произнес:
— … Весь Моцарт?
— У меня, у меня есть весь Моцарт.
— В Бангкоке?
— Нет, в Майне.
— Вы убили много людей с его помощью?
— Мою тетю.
— Это длилось долго?
— Два дня. Но если бы она дотянула до «Реквиума», это заняло бы семь с половиной дней. Я связал ее в гостиной. Начал с менуэта соль минор. Моцарт — это 626 произведений, если вы не в курсе. Элен — мою тетю звали Элен — умерла на 291-м: концерт для фагота си-бемоль мажор. Представляете, она даже не прослушала «Все они таковы».
— Ну и что?
— Вы не меломан?
— Нет.
— Она — да. Может быть, человек, равнодушный к музыке, смог бы лучше сопротивляться Моцарту. Можно попробовать. Я оставлю вам визитку. Если когда-нибудь эта война закончится, если я останусь в живых, и если вы будете проездом в Майне, заходите.
— Слишком много «если».
— Молодой человек, не стоит недооценивать силу случая.
— Кстати, почему вы решили убить вашу тетю?
— Я не хотел ее убивать. Я просто хотел провести эксперимент.
— В таком случае, зачем вы ее связали?
— Потому что она не соглашалась на эксперимент. Женщины не любят экспериментов. Они считают, что достаточно наэкспериментировались в жизни.
17
Жуткий, панический страх при пробуждении. Каждый раз, просыпаясь, Стюарт с ужасом понимал, что его жизнь ему не приснилась. Он не узнал девчонку, спавшую рядом с ним. Она лежала в плавках, и это доказывало, что между ними ничего не было, если только ее заду не стало холодно ночью. Ее чувственное, круглое детское лицо, как пакет с подарком, обрамляли черные волосы. Поцеловав ее обнаженное плечо, Стюарт накрыл девчонку белой хлопковой простыней, помеченной маленьким вышитым «О» — отель «Ориентл». Она открыла глаза. Стюарт спросил, как ее зовут.
— Денг.
— Чем мы занимались вчера, Денг?
— Ничем. Вы были слишком пьяны.
— Это ты привела меня в отель?
— Нет, полковник.
— Почему ты была с ним?
— Я была не с ним, а с вами. Вы сняли меня на неделю.
— За сколько?
— За сто долларов.
— Всего лишь?
Шуточки, которые Стюарт любил отпускать с проститутками, особенно в бедных азиатских или африканских странах. Он обожал, когда они бледнели от сожаления, хмурили брови от злости на самих себя и кусали внутреннюю часть щек от досады.
— Вам ничто не мешает дать мне больше, — заметила Денг.
Зазвонил телефон. Стюарт подумал, что это его брат, и подскочил от удивления, услышав голос Одиль Перуччи. В Париже было шесть утра, и она только что вернулась из ресторана «Свиная ножка», где ела луковый суп и танцевала всю ночь. Одиль спросила, заходил ли он в банк за чемоданчиком. Стюарт ответил, что сходит туда после завтрака.
— Не слишком тяните, — предупредила Одиль. — В Бангкоке банки закрываются в половине четвертого после обеда.
Закончив разговор, Стюарт позвонил дежурному и заказал два американских завтрака. Таиландки, особенно в Патпонге, обожали их. Денг побежала в ванную. Ванные в «Ориентл» были еще одной страстью таиландок после белых мужчин, тайского шелка, серебряных украшений, жареного картофеля из Макдональдса, театра масок, конкурса сиамских рыб, летающих тарелок, воркующих голубок и скульптур из фруктов. Когда Денг вышла из ванной и они позавтракали, Стюарт дал девчонке сто долларов и они занялись любовью. В пятнадцать часов он хотел встать и пойти в банк, но Денг сказала, что в это время на дорогах пробки и он не успеет туда к половине четвертого. Они остались в постели.
На следующий день, незадолго до полудня, Стюарт явился в банк и спросил Мишеля де Корка.
— Мишеля де Корка вчера вечером арестовали, — ответил человек в окошке.
Стюарт не стал уточнять. Он возвратился в отель и из своего номера позвонил Одиль Перуччи. Никого. Готовый разразиться ругательствами, так как в Париже было семь утра, он позвонил боссу. Ему ответила мачеха Одиль, бывшая парикмахерша из Кань-сюр-Мер, на которой Морис женился в начале шестидесятых после развода с женой. В перерывах между рыданиями она сказала, что Момо и его дочь застрелили вечером в ресторане на Монмартре, где они спокойно ужинали втроем. Два человека в масках невозмутимо зашли в «Лапен гурман» и разрядили свои револьверы в босса, телохранителя, обедавшего за соседним столиком, и в Одиль. «Почему не выстрелили в нее?» — удивленно воскликнула она, не дождавшись этого вопроса от Стюарта, и сама же ответила, что не имеет ни малейшего представления. Коллен сразу подумал, что это она подстроила расправу. Он повесил трубку, сел и погрузился в размышления. Денг спросила, когда принесут завтрак. Он залепил ей такую сильную пощечину, что она упала с кровати. «Самое неприятное, когда бьешь девушку, это то, что она не может дать сдачи, — иногда говорил Коллен. — Все равно, что общаешься с психопатом». Денг кинулась в ванную и закрылась на два оборота. Когда через час она вышла оттуда, Стюарт все еще думал. Потом заказал огромный американский завтрак, цветы, коробку шоколада, платье и пару серебряных босоножек. «Это все мне?» — спросила Денг. Он утвердительно кивнул. Стюарт был настолько убежден в том, что он — воплощение Зла, что мог делать Добро только с холодной сдержанностью и отвращением. Денг поцеловала его, поела и оделась. Во второй половине дня Стюарт сказал, что она может вернуться к себе. Она ответила, что ей лучше с ним. Он объяснил, что должен возвратиться в Париж, так как его босс и невеста погибли в автокатастрофе. Стюарт, став бандитом, научился лгать в любой момент — так автоматически застегивают ремень безопасности, сев в самолет. Убедив Денг возвратиться к себе (она плакала, выходя из двери, как разозленная и отчаявшаяся Золушка, которую заставили вернуться домой до полуночи), он отправился в госпиталь. Люсьен Коллен находился в палате с двумя мужчинами лет тридцати, похожими на хиппи, которых он почему-то представил как близких сотрудников, и которые сразу же ушли.
— В порядке? — спросил Стюарт у отца.
— Нет. А ты?
— Тоже нет.
— Похмелье?
— Профессиональные проблемы.
— В твоей профессии не будет ничего, кроме проблем. Поменяй работу.
— Видимо, мне придется это сделать: мой босс и его дочь были убиты сегодня ночью.
— Вот-вот, проблемы. Одни проблемы.
— Ты, случайно, в этом не замешан?
— Для меня сейчас неподходящий момент представать перед Господом с руками, запачканными кровью.
— Ты ведь никогда не верил в Бога.
— Я даже стал первым Колленом, который не верил в Бога.
Стюарт рассказал, что его связного в Бангкоке арестовали вчера за несколько часов до двойного убийства Мориса и Одили, что подтверждало версию о заговоре, который вполне мог исходить из этой больничной палаты, от этого маленького мужчины, которого болезнь потрошила, как курицу, и который смотрел на жизнь с несколько тошнотворным удивлением и дремлющим недовольством младенца.
— Ладно, это я. Я и ЦРУ. Руководитель отделения IBM в Таиланде — большой человек. Твои разговоры в отеле прослушивались. Сын руководителя азиатского отделения IBM, покидающий страну с двумя килограммами героина? Это невозможно! Я спас твое будущее и уберег от девяноста четырех лет тюрьмы. Ты должен меня поцеловать.
Стюарт встал и поцеловал его. Когда он склонился над отцом, тот весь сжался, словно в ожидании подлого удара, однако поцелуй Стюарта был искренним. Сын Люсьена был рад, что ему не придется сидеть в тюрьме девяносто четыре года. Вечером он улетел в Париж. Снял меблированную комнату на авеню Моцарта. Нашел честную работу, видя в двойном убийстве Одиль и Мориса Перуччи не только результат ловушки, придуманной его отцом и ЦРУ, но и знак того, что один из периодов его жизни закончился. Он вошел в крупную продовольственную корпорацию как шеф отдела. Его отец умер. Через месяц Стюарт познакомился с Ноэми Пьерро, редактором журнала по интерьеру. Ей было двадцать три года. Это была хорошо сложенная брюнетка с короткими ногами. Несколько раз в неделю она посещала уик-энды у родителей в Бутини-сюр-Оптон. Незадолго до первой встречи со Стюартом на ужине у банкира, с супругой которого она была знакома, и который, кстати, разместил часть денег Перуччи, ее бросил какой-то актер. Ноэми сильно рассмешило, что Стюарт никогда не слышал его имени. Она нашла Стюарта галантным, нежным и простым. Когда через несколько недель он предложил ей выйти за него замуж, она решила, что он ее любит и будет любить всегда, и поэтому согласилась. Бракосочетание состоялось в церкви Сент-Клотильд, а обед — в «Крийоне», где пара провела ночь и на следующее утро отправилась в свадебное путешествие в Вермонт, куда Ноэми ездила ребенком на каникулах. Возвратившись, они обосновались на десятом этаже башни «Фронт де Сен» и сообщили родным и ближайшим друзьям, что Ноэми ждет близнецов.
18
После ужина медсестра хотела забрать Октава, чтобы Синеситта поспала несколько часов, но моя сестра сказала, что предпочитает не спать со своим ребенком, чем спать без него. Медсестра не стала настаивать: одним ребенком в детской меньше. Синеситта провела странную ночь, полную сладострастия и кошмаров, просыпаясь и засыпая, так что утром почувствовала себя разбитой, как после вечеринки. Она положила ребенка рядом с собой на кровать, удивляясь и восхищаясь тем, что человеческое существо настолько, нуждается в ней, что готово ее съесть. После завтрака она позвонила Алену в Лондон и сказала, что порывает с ним. Их связь, объяснила Синеситта, была очень приятной, но больше не имела смысла, поскольку она теперь не беременна и может снова заниматься любовью со Стюартом.
— А если ты опять забеременеешь? — спросил банкир.
— У меня есть твой номер телефона.
— Ты позволишь прислать подарок Октаву?
— Можешь даже стать его крестным, если захочешь.
— Буду очень рад. Я вылечу первым же самолетом в Глазго и во второй половине дня увижу моего крестника. Он похож на меня?
— Нет.
— На Стюарта?
— Тоже нет.
— На кого же он похож?
— Думаю, на меня.
Октав, действительно, унаследовал властное и смешливое лицо моей сестры, а к семи годам стал ее копией в мужском исполнении. Когда в голодные годы, последовавшие за арестом и смертью Коллена, мы спали в постели Синеситты, чтобы согреться и поддержать друг друга, а затем, когда наши финансы совсем истощились, поскольку никто не хотел идти работать, — на матрасе перед камином в кухне, я предпочитала ложиться возле Октава, обнимать его ночью и представлять, будто сплю со своей сестрой, чего она, хотя и любила меня, никогда не позволяла делать. Я и сейчас вижу маленькое, треугольное личико Октава, его блестящие, глубоко посаженные глаза и выпуклый гладкий лоб. Он обладал решительным и взбалмошным характером Синеситты, даже какой-то веселой свирепостью, в которой, впрочем, не было ничего свирепого. А еще он был необычайно мягким при прикосновении.
Стюарт появился в двери палаты около полудня с букетом дешевых цветов, которые положил на кровать, не глядя ни на Синеситту, ни даже на кровать. Он спросил, хорошо ли она спала, затем криво улыбнулся сыну. Его угрожающий, осоловелый взгляд смягчился только тогда, когда Синеситта сказала, что Ален согласен стать крестным отцом.
— Мой брат, — с удовлетворением произнес Стюарт, — снова начинает проявлять ко мне лучшие чувства. — Наш захват Лондона прошлой зимой оказался не бесполезным.
Стюарт относился к тем людям, которые в первой половине жизни теряют все из-за патологического юношеского фатовства, а вторую часть жизни пытаются вернуть то, что потеряли. Стюарт Коллен сделал все, чтобы вызвать ненависть своего брата, а теперь хотел одного: ему понравиться. «Если бы он узнал, — думала Синеситта, — что я регулярно, уже шесть месяцев, сплю с Аленом, может, он счел бы это не за оскорбление, а за одобрение его братом того хорошего вкуса, который он проявил, выбрав меня в жены; и вместо того, чтобы злиться, вознаградил бы меня маленькими и смешными подарками, которые умел делать: словацкой записью „Венгерской рапсодии“ Листа за два фунта и десять шиллингов, последним номером „Мари-Клер“, корзинкой с салатом или уцененной книжкой».
Коллен присел на край кровати, сложил руки на своей мягкой и оплывшей, как у ожиревшей старухи, груди, раздвинул ноги (Синеситта заметила на внутренней стороне брюк правого бедра пятно от вина — или от крови?) и посмотрел на супругу с наигранной нежностью, которая ее не тронула, поскольку она к этому уже привыкла. Синеситта знала, что любовь Коллена всегда будет скрываться за его ненавистью, презрением и отвращением. Любовь, которую он испытывал к ней, походила на обезумевшего окровавленного всадника, спасающегося от армии рубак и инстинктивно, на авось, вслепую скачущего к ней, рискуя каждый раз не заметить ее, соскользнуть в ров или попасть под шальную пулю. И когда, каким-то чудом, эта любовь доберется до нее, Синеситта будет с ликованием и преданностью наслаждаться каждым ее мгновением.
— Итак, — произнес Коллен, — у нас есть ребенок. Что мы с ним сделаем?
— Воспитаем, — ответила Синеситта.
Он тяжело вздохнул.
— А если мы его продадим? У меня есть покупатель. Двадцать тысяч фунтов. Неплохо. И если через годик-два у нашего ребенка появится еще братик или сестричка, то покупатель готов выложить тридцать тысяч или даже тридцать пять. Он ждет внизу, перед больницей. Дай мне ребенка.
— Это неправда.
— А если правда? Если я на самом деле хочу продать нашего ребенка за двадцать тысяч фунтов, — не стану говорить кому, иначе ты упадешь, — ты все равно будешь меня любить?
— Нет.
— Так вот, у меня есть покупатель, его зовут Джордж Хаммерсмит, он ждет перед госпиталем, и у него с собой двадцать тысяч наличными. Я встретил его вчера вечером в клубе «Зэ лэвэтори» на берегу реки. Он — продавец свиней из Йоркшира, его жена бесплодна. Двадцать тысяч фунтов в нашей ситуации — это неслыханно. Мы сможем год жить в отелях, питаться в ресторанах и избавимся от расходов на содержание и образование как его?..
— Октава.
— Ребенок, которого зовут Октав, всегда выкрутится в жизни, особенно, если он сын промышленника.
— Он не сын промышленника, это твой сын.
— Не надолго.
Жуткий холод пробрал Синеситту. Или Стюарт шутил, что было отвратительно, или не шутил, что было не менее отвратительно. Она приготовилась пережить этот ужас и попыталась сделать то, что каждый делает в таких ситуациях: понизить температуру своей души и перевязать свои чувства, как перевязывают вены или артерии. Она достала Октава — четыре килограмма, пятьдесят два сантиметра — из колыбельки и протянула его Коллену, лицо которого вдруг стало более инфантильным, чем у ребенка.
— Что ты делаешь? — спросил он.
— Даю тебе нашего сына.
У ребенка был круглый нос и девичий рот. Появившись на свет, он только раз на секунду открыл глаза и с тех пор лежал с закрытыми. Ребенок облегченно застонал, очутившись в руках отца. Октав даже в возрасте двадцати четырех часов уже любил Стюарта. В его отце было собрано столько недостатков, столько неприятных и жестоких черт характера, что Октав не мог не находить его смешным; а поскольку он обожал смеяться, то поэтому и любил Стюарта. Для людей, не верящих во Зло (как в случае с Октавом), злые — это незнакомые актеры, вынужденные играть на шаткой и смешной сцене жизни роли злых, потому что все другие роли уже разобраны, или потому, что они невнимательно прочли пьесу и неудачно выбрали свой персонаж, или же потому, что получили плохой совет от посредственного агента или ангела-хранителя.
— Что мне с ним делать?
— Что хочешь.
— Что я хочу?
Синеситта кивнула в знак согласия. Скорее всего, именно этот серьезный и торжественный кивок, а также патетическая ситуация заставили Стюарта, если до сих пор он еще колебался, решиться продать Октава мистеру Хаммерсмиту. Коллен расплылся в улыбке, без сомнения, предвкушая, как прекрасно будет жить без ребенка и что сможет съесть на двадцать тысяч фунтов: креветки с чесноком и перцем по-шанхайски, фаршированную капусту, кускус по-арабски, кускус по-королевски, кускус по-царски, паэлью по-валански и так далее.
— Отлично! — воскликнул он. — Я пошел.
Он встал. В его огромных руках Октав выглядел не ребенком, а зародышем, и Синеситте показалось, что он все еще у нее в животе; поэтому, когда ее муж легкими, танцующими шагами похитителя детей вышел из палаты и спустился по лестнице, она почувствовала себя так, будто рожает во второй раз и намного тяжелее. В глубине души Синеситта все же надеялась, что Стюарт вскоре вернется и с веселым видом появится в дверях вместе с Октавом. В худшем случае — прогуляется с ним по больничному саду, где его быстро заметит медсестра, и он поднимется по лестнице под ее гневным взглядом. Прошло несколько минут. Никого. Нет сомнений: Стюарт покинул пресвитерианский госпиталь вместе с ребенком. Синеситте показалось, что ее сбросили с летящего самолета или что все небоскребы Нью-Йорка и Парижа обрушились на нее. Когда вошла дежурная медсестра и спросила, где ребенок, Синеситта ответила, что не знает. Она уснула, а когда проснулась и не увидела его в колыбельке, то никого не предупредила, так как решила, что медсестра забрала Октава на процедуры. В роддоме начался переполох, что отвлекло Синеситту от ее внутренней паники.
Позднее, во второй половине дня, ее допрашивал офицер полиции, которому она рассказала ту же историю, что и медсестре. Она не задавалась вопросом, почему покрывает Стюарта. Этот вопрос Синеситта никогда себе не задавала, хотя всю жизнь только и делала, что покрывала мужа. Конечно, слишком хорошо зная, что такое английский госпиталь, Синеситта не желала, чтобы ее муж очутился в английской тюрьме. И потом, она не могла не испытывать некоторого восхищения, уважения и даже робкой зависти по отношению к Стюарту, совершившему с такой беспечностью и быстротой столь ужасный поступок. Если бы она не любила Зло в Стюарте, — даже когда это Зло обращалось против нее, — разве она бы в него влюбилась? В некотором смысле ей даже льстило, что она замужем за человеком, способным украсть своего ребенка у матери на следующий день после его рождения.
— Мадам Коллен, — офицер закашлялся, — у нас есть свидетели, видевшие вашего мужа здесь, на лестнице, с ребенком на руках.
— С моим ребенком? Если это был мой ребенок, значит, он пришел за ним, когда я спала.
— С какой целью он пришел за ним?
— Не знаю. Вообще-то он не хотел ребенка. Когда я сказала, что беременна, он ответил, что слишком стар, чтобы иметь детей.
— Мы провели расследование по поводу вашего супруга и узнали, что он убил двух своих детей и первую жену. Вы знали об этом?
— Да, его брат рассказал мне эту историю.
— До или после вашего замужества?
— До.
— И несмотря на это, вы вышли за него замуж?
— Да.
— Я могу узнать почему?
Синеситта подумала и ответила:
— Нет.
Офицер полиции, мужчина лет сорока, с упрямым лицом и большими серыми глазами, которые, казалось, были наполнены газированной водой, удивленно уставился на нее.
— Должен вам сказать, мадам Коллен, что в Глазго орудует банда, покупающая детей за большие деньги: от десяти до двадцати тысяч фунтов. Они выдают себя за продавцов свиней из Йоркшира, хотя на самом деле это парагвайцы, родом из Германии, поставляющие десятки детей бывшим нацистским врачам, находящимся в ссылке, которые ставят потом на них эксперименты, сильно напоминающие вивисекцию.
Синеситта, не в силах больше сдерживаться, завопила…
Она выпрямилась на кровати. Комната была погружена в безразличную и непроницаемую темноту. Моя сестра включила прикроватную лампу и повернула голову к прозрачной колыбельке, где спал Октав. Она приподняла его, положила рядом с собой и снова уснула. В восемь часов утра, позавтракав, Синеситта позвонила Алену, думая о том, что уже видела эту сцену во сне. Затем, когда Спенсер снял трубку и сказал, что месье спит, вспомнила, что именно так начинался ее кошмар.
— Я знаю, что он еще спит, — ответила она. — Но вы его разбудите. Я родила мальчика.
— Мои поздравления, мадам. Как вы его назвали?
— Октав.
— Долгой жизни Октаву! Не вешайте трубку, прошу вас.
Синеситта испугалась, что Ален не заговорит с ней так же ласково, как в ее сне. Но он оказался еще более нежным и настойчивым. Нужно сказать, что моя сестра, напуганная ночными кошмарами, не предложила ему расстаться, как намеревалась это сделать накануне. Ален настоял на том, чтобы стать крестным Октава до того, «как сам сделает ей ребенка». У него был важный обед, после которого он первым же самолетом собирался прилететь в Глазго. Синеситта, конечно же, не смогла сдержаться и не сказать ему, что их отношения были очень приятными, но больше не имели смысла, поскольку, перестав быть беременной, она снова могла заниматься любовью со Стюартом. И так же, как ночью в ее сне, Ален спросил:
— А если ты снова забеременеешь?
Синеситта не стала отвечать: «У меня есть твой номер телефона». Теперь она во всех подробностях вспомнила свой сон и боялась, как бы он не оказался вещим.
— Я тебе позвоню, — пообещала она. — Мне нужно заканчивать разговор. Сейчас придет врач.
За семь месяцев двойной жизни Синеситта превратилась в опытную лгунью, обманывая изящно и непринужденно, и мама, если бы еще была жива, могла бы ею гордиться. Моя сестра нажала на рычаг и набрала наш номер, чтобы окончательно успокоиться (в своем кошмаре она не звонила домой) и сообщить папе, поскольку она не знала, что он уже в Глазго, о рождении внука.
В этот момент я была на кухне с Бобом, в двадцатый раз перечитывая за чашкой имбирного чая любовное письмо, которое прислал мне Иван Глозер на фирменном бланке «Палас Отель Интернасьональ Инк.». Вот чем, посмеиваясь думала я, генеральный директор занимается во время работы. Я поздравила сестру, сообщив, что папа уехал в Англию повидаться с ней, и передала трубку Бобу, который закричал: «Браво, Сита!» После отъезда папы он перестал повторять слова два раза, чем озадачил своего психотерапевта. Я спросила у Синеситты, когда она собирается обратно во Францию. Она ответила, что к ней пришел врач, что было очередной ложью, просто она хотела побыстрее позвонить Стюарту в отель и узнать, что он сделал с папой. Стюарта, как она и предвидела, в отеле не оказалось. Синеситта поинтересовалась у дежурного, видел ли он, как тот входил, то есть выходил. Дежурный ответил, что видел. Она решила, что Коллен его подкупил, и спросила, не назвал ли пожилой человек, сопровождавший ее мужа, свое имя. Дежурный холодно произнес, что Коллен ушел один, из чего Синеситта заключила, что он не был подкуплен, иначе хоть на мгновение, но заколебался бы, и повесила трубку.
Она как раз говорила себе, что ее сон был вещим, только Стюарт хотел причинить зло не их сыну, а ее отцу, когда мужчины вошли в палату. Коллен был без букета цветов. Он, как всегда, держал руки в карманах. Руки Стюарта ни на что не годились. Папа же нес пакет с эмблемой «Вирджин», настолько огромный и тяжелый, что в нем, казалось, был спрятан труп толстого усатого бармена.
— Это для меня? — спросила Синеситта, поцеловав отца.
— Нет, — ответил папа, — для меня. Полное собрание сочинений Моцарта. Сто восемьдесят компакт-дисков. Нужно хоть изредка делать себе подарки.
— Мы собираемся провести эксперимент, — объяснил Стюарт. — Итак, моя любовь, ты хорошо провела ночь?
— Нет.
— Почему?
— Кошмары.
— Мою первую жену после рождения близнецов тоже мучили кошмары.
Папа и Синеситта переглянулись, и он поставил пакет рядом с кроватью. По сравнению с Колленом, толстевшим и грузневшим с каждым часом, папа казался хрупким и тонким — сероватый цветок, с которого при малейшем дуновении ветерка облетят лепестки. Он обвел дочь гордым и печальным взглядом, которым командир полка обводит своих лучших офицеров перед решающим сражением, зная, что оно будет проиграно. Синеситта ответила ему пристальным и понимающим взглядом того, кто не собирается сдаваться без борьбы. В этом обмене взглядами было все: от серьезной бравады и мужества до нежной жалости к лошадям, одна из которых старше другой, но обе должны погибнуть на одной и той же бойне.
— Зачем ты приехал, папа?
— Он просто приехал, — сказал Коллен, похлопывая моего отца по плечу. — И это главное, разве не так? Покажи-ка ему внука. Давай, быстрей. У нас дел под завязку. Нужно прослушать сто восемьдесят компакт-дисков. Это займет семь дней, семь ночей и десяток часов.
— Не понимаю, — удивилась сестра.
— Я заключил пари, — объяснил папа, — что выживу, прослушав полное собрание сочинений Моцарта.
— В чем можно усомниться, — возразил Стюарт.
Папа взял Октава из колыбельки, прижал к груди и поцеловал. Он любил младенцев, что доказывал пример с Бобом. Стюарт сказал Синеситте:
— Я устрою твоего отца, а вечером зайду к вам.
— Устроишь моего отца?
— Для нашего эксперимента.
Когда папа и Стюарт вышли, Синеситта снова вспомнила о своем сне и инстинктивно запечатлела в памяти последнюю картинку нашего отца: худой человек с седыми волосами, несущий огромный пакет с эмблемой «Вирджин». Вирджин по-английски означает девственный, и Синеситта задумалась о девственнице из Дельф или Библа, обещанной в жертву то ли Аполлону, то ли Молоху.
Последний раз я разговаривала с отцом в тот же день, около девятнадцати часов, естественно, по телефону. Я не без труда уложила Боба и слушала шведский рок, разглядывая свои последние картины, которым было уже больше года. Художнику нужно, чтобы в его жизни ничего не происходило, а в моей все время что-то происходило. У меня было слишком много волнений помимо работы, и это мешало пребывать в состоянии отрешенности и замкнутости во время работы, что само по себе, может, плохо для служащего, но хорошо для художника. Мои полотна оставались белыми или покрывались розовыми палочками — это была моя серия «сурими»[19], которая мне совершенно не удалась и которую я полностью уничтожила в Сен-Реми-де-Прованс 24 декабря 2031 года под обезумевшим взглядом моего адвоката, приехавшего встретить со мной Рождество и поговорить о моем разводе с Иваном Глозером. Я спрашивала себя, когда же моя жизнь наконец превратится в спокойный, солнечный пруд, какой она была между заключением Бенито в тюрьму и встречей Синеситты со Стюартом Колленом. Эти чудесные двадцать четыре месяца критики назвали впоследствии моим «периодом заточения», когда, кроме серии мертвых лошадей и гнилых цветов, я создала свои знаменитые сиреневые портреты, выставленные сегодня в Музее современного искусства в Сеуле.
Я услышала в трубке приглушенное звучание одной из серенад для оркестра Моцарта. Папа сказал, что Синеситта родила хорошего ребенка. Я ответила, что она уже сообщила об этом утром по телефону, потом спросила, когда он вернется.
— Где-то через неделю, — произнес он ватным голосом наркомана.
— Через неделю?
— Я слушаю собрание сочинений Моцарта.
— Ты можешь послушать его здесь.
— Мы со Стюартом ставим эксперимент.
— Эксперимент со Стюартом?
— Я расскажу тебе, когда вернусь. Хорошо заботься о Бобе. Не забывай варить ему ракушки по-болонски: это его любимое блюдо. Прощаюсь. Ты знаешь, как сильно я люблю серенады для оркестра.
— Папа, это не опасно — ставить эксперименты с Колленом?
— Опасность существует всегда.
— Ты не мог бы ее избежать?
— Когда Моцарт стучит в дверь, ты ее открываешь, если, конечно, любишь музыку. Правда, можно любить Моцарта, не любя музыку.
В тот вечер над нашим предместьем шумел унылый дождь. Несмотря на какофонию, которую Боб устроил со своими игрушками в комнате, несмотря на папин звонок и новое письмо от Ивана Глозера, которое я вертела в руках, пока говорила по телефону, меня охватило глубокое и болезненное одиночество.
— Не проводи экспериментов с Колленом, — умоляла я отца. — Вылети первым же самолетом в Париж. Я не хочу тебя потерять. У меня никого нет, кроме тебя.
— Статуя командора явится ко мне пообедать. Я буду достоин презрения, если не попытаюсь ее усадить.
— Пожав ей руку?
— Да, пожав ей руку, потому что она этого просит.
Теперь я знаю, что в тот момент, когда папа говорил со мной, он прослушал уже пятнадцать или четырнадцать компакт-дисков Моцарта (симфонии, написанные в молодом возрасте, дир.: Маринер; последние симфонии, дир.: Маринер; серенады для оркестра, дир.: Маринер). Он уже опьянел от Моцарта и — как утверждали после его вскрытия некоторые эксперты Скотланд-Ярда — ослабел от Маринера. Папа оборвал разговор на этих последних словах, бросив мне неловкое «прощай», не требовавшее ответа.
19
Он вошел в палату с улыбкой, словно человек, сошедший с Олимпа, принеся с собой потоки света и свежую, беззаботную атмосферу. В одной руке он держал букет желтых роз и коробку шоколада, в другой — несколько пакетов от Хэрродса с кашемировыми пеленками для трехмесячного младенца; башмачками, вышитыми золотыми нитями, для годовалого; тапочками из нечесанной тибетской шерсти и шотландскими носками. Как всегда, он был точен и совершенен, создавая вокруг себя атмосферу комфорта и надежности.
Синеситта вспомнила тот вечер, когда он в своем огромном кабинете, увешанном картами мира, — Ален собирал их с девяти лет, — рассказал ей правду о Стюарте. Позднее она призналась, что не ужаснулась этому рассказу только потому, что всегда чувствовала в Коллене что-то жуткое и неисправимое; с другой стороны, она была беременна и не могла что-либо предпринять, чтобы выпутаться из этой ситуации; аборт же казался ей не просто неосуществимым, а даже невозможным и равносильным самоубийству. Ален сказал, что уже давно не встречал в женщине такой готовности к самопожертвованию. Синеситта ответила, что не знает, почему любит Стюарта, но уверена, что любит только его. В их отношениях ее не устраивало лишь то, что он отказывался прикасаться к ней, узнав, что она ждет ребенка. Лично я считаю, что Коллен вообще обошелся бы без секса с ней, поскольку она не была его типом женщины — слишком прямая, слишком бесшабашная, слишком реалистичная, слишком честная, слишком чистая, слишком чувственная, — и он ухватился за первый подвернувшийся предлог — ее беременность, чтобы освободиться от самого тяжкого ярма в последнем периоде своей жизни.
Позднее, из года в год, он все больше пытался сократить время между двумя беременностями, а после рождения Виржинии в межкоммунальном госпитале в Олней-су-Буа Синеситте даже пришлось, отбиваясь от Стюарта, хотевшего заняться с ней любовью, хотя промежность еще не зарубцевалась, позвать на помощь медсестру. Синеситта повторила Алену, что не представляет, как девять месяцев обходиться без секса с мужчиной, и добавила, что не собирается спать с женщиной. Именно поэтому ей нужен любовник. Ален сел рядом с ней на кровать, обнял ее и поцеловал. Синеситта, открыв для себя, что такое желание, а значит, и наслаждение, обожала поцелуи. Встреча двух языков — мягких, влажных, сладострастных и томных — была для нее самим воплощением эротизма. Должно быть, это свойственно всем Брабанам, так как я тоже очень люблю целоваться, а мама, пока была жива, не теряла возможности ощутить папин язык во рту. Когда Ален поднял голову, ему показалось, что он уже переспал с моей сестрой, — таким глубоким оказался их поцелуй, и даже удивился, когда она стала стаскивать с себя пуловер.
Во время первой встречи они занимались любовью на письменном столе, а после того, как Спенсер принес им закуски и прохладительные напитки, перешли на узкий диван («сделан не для этого», думала моя сестра, больно ударяясь лбом о твердую кожаную обивку). Синеситта была удивлена сходством пенисов Алена и Стюарта. Однако она все-таки постеснялась спросить, почему Алену сделали обрезание, а его брату — нет. Ей пришло в голову, что положительный момент в любви — это возможность изменить. Изменить тому, кого не любишь, — нереально, потому что, когда мужчину не любишь, его просто бросаешь. Она прогуливалась совершенно голая по теплому кабинету Алена с таким бесстыдством, что, казалось, ничуть не была озабочена ни своей обнаженностью, ни впечатлением, которое производила на банкира. В третий раз они занялись любовью на лестнице библиотеки, и именно в этот момент Синеситта пресытилась Аленом Колленом. Спустившись с лестницы, она оделась. Ален спросил, почему она не идет мыться. Синеситта ответила, что физическая близость не бывает грязной, и попросила Алена вызвать такси. Стюарт в подобной ситуации почувствовал бы себя так, словно ему выносят смертный приговор, и сразу же предложил бы моей сестре вызвать такси самой или прогуляться пешком, чтобы проветрить мозги, а потом, в отместку, открыл бы встречный огонь, чтобы она ощутила себя презираемой, униженной, отвергнутой и в результате снова стала бы добиваться его. Ален, напротив, настоял на том, чтобы проводить ее. Она нашла его несносным на лестнице, занудой на улице и невыносимым в такси. Звук его голоса неожиданно превратился для нее в пытку. А когда он закурил «Филип Моррис», чуть не выпрыгнула на ходу из машины, настолько запах табака усилил ее отвращение к нему. Перед отелем Ален захотел поцеловать ее, и она согласилась, чтобы не усложнять ситуацию. Губы банкира показались ей сухими, как щепка, и холодными, как хвост ящерицы. Невероятно, что совсем недавно они страстно целовались.
Прошло несколько дней. Стюарт не прикасался к Синеситте и даже не дотрагивался до ее руки. Время от времени он целовал ее в лоб и называл своим хомячком (или черепахой). Если они шли в кино на Пикадилли, сделав покупки у Хэрродса или на Ковент-гарден, Стюарт оставлял между собой и женой свободное кресло, на которое складывал пакеты. Ночью он спал в пижаме, а моя сестра, лежа голая под одеялом, корчилась от желания. Он запрещал ей даже мастурбировать под предлогом, что это может повредить эмбриону. С трудом выдержав неделю такого режима, Синеситта ощутила себя настолько заброшенной, что позвонила Алену. Едва услышав его голос, она чуть не кончила, а стоя голой перед ним, уже и не понимала, почему испытывала к нему отвращение, когда он провожал ее в такси. На этот раз при прощании он больше не казался ей несносным. Наверное, потому, что они меньше занимались любовью. Ален спросил, может ли ей позвонить. Она ответила отказом. Он заметил, что ради нее готов сделать вид, будто помирился с братом, и тогда они смогут обедать втроем или уезжать на уик-энды, что позволит им чаще видеться, а ей — больше развлекаться.
— Почему ты считаешь, что я не развлекаюсь?
— Я знаю своего брата.
— Так вот, твой брат умеет меня смешить.
— Y тебя странное чувство юмора.
— Лучше иметь странное чувство юмора, чем не иметь его вообще.
— Я ненавижу юмор. Он способен лишь разрушать, обескураживать, высмеивать и ранить. Он опустошает, вылущивает и дезорганизует. Это тем более опасный яд, что он священен. Воевать с юмором то же самое, что въехать в Мекку верхом на свинье, получившей приз на сельскохозяйственной выставке в Версале. Это яд, противоядие которому не найдено, да оно и табу. Юмор все разрушает. Он насилует, обирает и обедняет. Он — враг людей, и меня не удивит, если мой брат будет признан профессиональным юмористом, применяющим его сверх всякой меры. Послушала бы ты, как он острил в свое время по поводу девиц, работавших на него на панели. А теперь эта черта еще больше расцвела в нем. Юмор очень тесно и необычно переплетен со смертью, а точнее, с преступлением. Юмор дистанцирует и поощряет безответственность. Человек не боится убивать, потому что его это развлекает.
Синеситта, закончив одеваться, села на кровать, впечатленная такой тирадой. Она думала: что Ален Коллен имеет против юмора, если говорит о нем с такой враждебностью? Как есть две категории бедных: те, кто мечтает стать богатым, и те, кто мечтает, чтобы богатые стали бедными, так есть и две категории людей, не обладающих чувством юмора: те, кто пытается смеяться, и те, кто делает все возможное, чтобы другие не смеялись. Ален принадлежал ко вторым. Это утвердило мою сестру в мысли, что между ними никогда не возникнет ничего прочного и серьезного; впрочем, это не помешало им оставаться любовниками до рождения Патрика. Любовниками спешащими, пунктуальными и страстными, которые встречались, не понимая друг друга, занимались любовью по необходимости и, расставшись, забывали друг о друге до тех пор, пока у кого-то из них снова не просыпалось желание. За годы сожительства с двумя братьями моя сестра поняла, что Ален злился на юмор только потому, что Стюарт большую часть своего детства и юности насмехался над своим младшим братом.
Пока моя сестра оставалась в Лондоне, они встречались раза два в неделю исключительно ради секса. Ален пытался затащить Синеситту в Тейт галерею или в театры на Шефтсбери, но она ограничила их отношения одним сексом. Когда они со Стюартом уехали в Глазго, Ален решил, что их связи пришел конец. Однако уже на следующий день Синеситта, будучи на седьмом месяце, позвонила ему в банк и сообщила время вылета самолета из Лондона в Глазго, адрес мотеля, расположенного между аэропортом и городом, а также номер комнаты, в которой собиралась его ждать. Последнее их сношение произошло за четыре недели до родов. По словам шотландского врача, это был крайний срок. Через месяц после рождения Октава они снова принялись за дело. Эта связь возобновлялась снова и снова во время четырех последующих беременностей Синеситты. Таким образом, все дети Стюарта были орошены, окроплены Аленом Колленом, посетившим их в матке Синеситты, что придало им светский, любезный и нежный вид, которого нет у Брабанов и который не мог передаться им от отца.
Положив свои подарки и смущенно и нежно ущипнув подбородок Октава, Ален молча сел на стул возле кровати. Синеситта смотрела на него и не знала, что сказать. Они настолько привыкли заниматься любовью, что разучились говорить. Когда два раза звонил сотовый телефон, Ален отвечал с облегчением, стараясь затянуть разговор. В глубине души он боялся мою сестру — как и Стюарт, и все остальные мужчины, кроме меня. Впрочем, то, что я не боялась моей сестры, разве не подтверждало, что я не мужчина?
— Когда ты летишь обратно? — спросила Синеситта.
— Ближайшим рейсом, — ответил Ален. — Вы заедете в Лондон или сразу возвратитесь во Францию?
— Это зависит от того, сколько денег привез отец и как быстро Стюарт их потратит.
— Почему ты помогаешь ему разорять себя?
— Потому что это его манера меня любить.
— Он тебя не любит.
— Если бы он меня не любил, то не мучил бы.
— Тебе нужны деньги?
— Женщина, живущая с твоим братом, всегда нуждается в деньгах.
— Сколько ты хочешь?
— Как можно больше.
— Двадцать тысяч фунтов — и ты отдаешь мне ребенка.
— Две тысячи — и ты обещаешь не звонить мне, пока я сама тебя не найду.
— Это невыполнимо, если я крестный.
— Ты будешь отсутствующим крестным.
Он оставил ей чек на две тысячи пятьсот фунтов (эти лишние пятьсот фунтов — одна из деталей, объясняющих, почему Ален никогда не завоюет сердце Синеситты) и вышел из комнаты с видимым облегчением.
Вечером, когда моя сестра кормила грудью Октава и прижимала его к себе, слушая, как бьются в унисон их сердца, в палату вошел Стюарт. От него пахло темным пивом и жареным бифштексом. Он почти рухнул на стул, где несколькими часами раньше деликатно сидел его брат. Синеситта протянула ему чек Алена. Он прочел имя, сумму и подпись, не сделав ни одного комментария, сложил чек и сунул его в карман рубашки. Потом бросил взгляд на Октава, свернувшегося клубком в руках матери и не обращавшего на него, внимания.
— А что если мы его продадим? — весело предложил Стюарт.
— Нет! — завопила Синеситта.
— Спокойно. Я пошутил. Разве ты не видишь, что я пьян? Мне скучно одному в этом городе. Твой отец заперся с Моцартом, а ты — в этом ужасном госпитале. Я же имею право немного пошутить.
20
Вот как прошли последние дни моего отца. Я описываю их, основываясь на обрывках рассказов, намеках и недоговорках Стюарта. Кусочки этой головоломки я тщательно собирала в течение пяти с половиной лет, которые Стюарт провел в доме Брабанов.
Папа почувствовал сладкую усталость уже посреди первой ночи, слушая танцы и марши в исполнении оркестра под управлением Винера. Когда он понял, что не продержится ни до последних сочинений (том 45), ни даже до «Милосердия Тита» (том 44) и что Стюарт выиграет пари, то заявил ему, что побежден не Моцартом, а его исполнителями.
— Слишком много англичан, — шепнул он на ухо Стюарту.
— Я напишу в фирму грамзаписи, издавшую это собрание сочинений, — ответил Стюарт, поправляя одеяло, под которым с самого начала «Луция Суллы» сильно потел папа.
В первую ночь он уснул во время концерта для фортепиано № 3 и проснулся около семи утра, в конце концерта № 7 для трех фортепиано. Почти сразу же он опять заснул, а когда в десять часов ему принесли завтрак (яичница, колбаса, тосты и кофе), он слушал в какой-то счастливой дремоте серию концертов для скрипки. После завтрака папа снова уснул. Три первых дня и три ночи Моцарт оказывал на него сомнамбулическое воздействие, но потом все изменилось. Начиная с «Митридага, царя понтийского», изысканной оперы, где с зажигательной непринужденностью изображается сексуальное влечение подростка к веселым, жизнерадостным толстозадым напудренным певицам, мой отец больше не сомкнул глаз и выдержал от первой до последней ноты несколько произведений, которые не любил («Моцарт — не халтурщик, поэтому ему и не все удавалось», — говорил он нам): «Мнимая садовница», «Заида», «Каирский гусь». Кроме того, его уже охватила такая усталость, что произведения, которые он любил, действовали ему на психику намного сильнее, чем когда он слушал их в своей комнате или на кухне, где от гения Моцарта его защищала любовь Брабанов. Он был подточен «Притворной пастушкой», разгромлен «Царем-пастухом», задушен «Идоменеем», ослеплен «Похищением из сераля», оглушен «Свадьбой Фигаро» и раздавлен «Дон Жуаном». Когда в его комнате раздались первые такты «Все они таковы», он представлял собой изможденное седое существо, дрожащее в поту под одеялом, которое можно было выкручивать. Коллен пришел к нему с последним визитом.
— Кажется, дело плохо, — сказал он, присаживаясь на край кровати.
Папа ничего не ответил. Можно было подумать, что он злится на Стюарта, мешавшего ему слушать музыку, которая его убивала.
— Если желаете, — добавил Коллен, — прекратим эксперимент. Договоримся, что вы проиграли, и баста!
— Нет!
— Я не хочу, чтобы Синеситта потом меня упрекала.
— Она вас ни в чем не упрекнет, и вы это знаете.
Коллен нахмурил брови и сморщил лоб. Когда он размышлял, ему нужно было создать образ того, кто размышляет: это помогало.
— Видимо, вы правы, дорогой тесть.
Затем, вытерев кончиками пальцев пот, блестевший на лбу моего отца, он спросил:
— Вам что-то нужно?
— Да, новую горничную, чтобы менять компакт-диски.
— Вы хотите ее трахнуть?
Папа в отчаянии возвел глаза к небу. Впрочем, Небо тоже было в отчаянии. Коллен всегда превращал драму в насмешку, трагедию в шутовство и привносил вульгарность в несчастье. Казалось, что в каком-то темном уголке его сознания вызрела мысль не оставить после своего пребывания на земле ничего чистого, нетронутого, невинного.
— Она недостаточно быстро меняет диски, — сказал папа. — Две минуты молчания — слишком долго.
— Зато у вас есть возможность передохнуть.
— Нет, наоборот.
— Что еще?
— Больше ничего. А теперь уходите. Вы мешаете эксперименту.
— Кормят нормально?
— Да, прекрасно. Все равно я больше не ем. Передайте официантам, чтобы перестали носить еду.
— Вам нужно есть.
— Я ем Моцарта, а может, это Моцарт ест меня. В любом случае, мне больше не нужна пища.
— До того, как я уйду, скажите свою последнюю волю, потому что в таком состоянии, уж вы меня извините, вам долго не протянуть.
— Я хочу быть похороненным в Коломбей-ле-дез-Еглиз.
— Это будет не просто.
Действительно, эго оказалось не просто, но мне все-таки удалось исполнить папину волю.
— Что-нибудь еще?
— Не убивайте мою дочь.
— Это тоже будет не просто.
— Постарайтесь.
— Клянусь вам, что постараюсь! Но если бы вы знали, как я ненавижу женщин, особенно нормальных!
— Синеситта ненормальная.
— Возможно. Узнав о моем преступном прошлом, она все-таки вышла через неделю за меня замуж.
— Тогда не трогайте ее.
— Когда придет момент, я подумаю.
— Спасибо, что заставили ее узнать любовь.
— Это вышло случайно.
Коллен встал. Папа с ужасом смотрел на него, видя в нем большую опасность, чем все те, с которыми ему приходилось сталкиваться, когда он служил в специальных войсках. Потом он, кажется, понял, рассказывал Стюарт, что все на земле было опасным и что от этой всемогущей и всюду присутствующей опасности он скоро освободится благодаря Моцарту. Черты его лица разгладились, и оба мужчины — Стюарт даже не понял, как это произошло — поцеловали друг друга в щеку. Стюарт вышел из комнаты, прихватив на ходу все папины деньги: двадцать семь тысяч пятьсот десять швейцарских франков, если верить подсчетам моей сестры.
Свидетелем папиной агонии была только молодая девушка, менявшая диски. Через семнадцать лет, готовя свою серию «Отец», которую нью-йоркцы переименовали во время моей последней ретроспективы в музее Гуггенхейма в «Смысл жизни и смерти», я отправилась на ее поиски.
Иван был против этого путешествия и испробовал все способы, чтобы меня переубедить. А в день моего отъезда он даже попросил секретаршу купить два билета на Яву, которые я разорвала в клочья и бросила ему в лицо под ошеломленными взглядами наших трех дочерей и пяти детей Коллена, вопя, что он не уважает ни мою работу, ни мое прошлое, ни мою свободу, после чего приказала шоферу отвезти меня в аэропорт. В Глазго я тотчас отправилась в «Копторн», чтобы встретиться с директором отеля. Я объяснила ему, кто я такая и чего хочу. Он выразил мне свое соболезнование. В его отеле умирало мало людей, и в своем сердце он оставлял отдельное место для семьи каждого покойного. Номер, в котором скончался папа, окрестили апартаментами Моцарта, что я сочла дурным тоном. Он сказал, что если я хочу провести в них несколько дней, он сделает мне значительную скидку. Я ответила, что хотела бы встретиться с девушкой, прислуживавшей папе перед его смертью.
— Вы думаете, она в чем-то замешана? — спросил директор. — Скотланд-Ярд снова открывает дело?
— Нет, я хочу нарисовать ее портрет для своей будущей выставки.
Он элегантно достал из внутреннего кармана пиджака электронную записную книжку, несколько минут нажимал на клавиши, потом дал мне ее адрес в пригороде Лондона. Поблагодарив его, я встала.
— Вы художница? — спросил он.
— Да.
— Как ваше имя?
— Брабан.
— Просто Брабан?
— Да. Это многое упрощает, но объяснять вам — слишком долго.
— У меня есть свободное время.
— А у меня — нет.
— Одолжите мое.
В то время я была красивой женщиной в самом расцвете, носившей строгие костюмы и шикарное белье. Многие мужчины, а также женщины теряли дар речи от желания, когда я куда-то входила или выходила. Никто из моих многочисленных воздыхателей: галантных таксистов, потрясенных владельцев галерей, ослепленных пилотов, восхищенных метрдотелей, очарованных банкиров, а также привлекательных фармацевтичек, томных парикмахерш, болтливых косметичек, нервных журналисток и веселых, обходительных теннисисток, — не верил, что я мать трех дочерей: Летисии, Симоны, Виржинии (не путать с Виржинией, которую родила Синеситта от Коллена; по этой причине, хотя девчонки ничуть не похожи, мы зовем мою дочь Виржинией II).
— В другой раз, — сказала я.
— Вы прекрасно знаете, что другого раза не будет, — возразил директор отеля. — Что может привести в Глазго такую женщину, как вы, еще раз? Это и так уже чудо — спасибо, Господи! — что вы приехали. Теперь я не должен позволить вам уехать.
— И что же вы собираетесь сделать?
— Привязать вас к этому радиатору.
Дрожащей рукой он показал на маленький серый железный радиатор, а другой замахнулся на меня складным ножом, не зная, что мне не составляло никакого труда его обезоружить. Бедняга не подозревал, что в детстве я несколько лет занималась французским боксом. Тогда я сама привязала его к радиатору, затем, расстегнув ему пояс, спустила брюки и с отвращением и презрением вытащила двумя пальцами его пенис. Я бы не рассказывала эту историю, если бы нравы директора отеля не стали известны во всей Европе после омерзительного скандала с младшим сыном Николаса Кинга и Синтии Колледжи. Спустившись в приемную, я потребовала заплатить за мои услуги (оцененные наобум в лифте) тысячу фунтов стерлингов.
— За какие услуги? — спросила дежурная.
— Пойдите и взгляните сами.
Я отвела ее в кабинет директора. За время моего короткого отсутствия у него произошла эякуляция, хотя я и связала ему руки.
— Распорядитесь, чтобы мне заплатили! — приказала я директору.
— Заплатите ей, мадмуазель Лаблин.
— Сколько? — с оксфордским акцентом спросила дежурная — высокая, крупная негритянка в неонацистской форме, внушавшая, без сомнения, страх директору, что, в свою очередь, доставляло ему удовольствие.
— Сколько она потребует.
Повернувшись ко мне он, униженный, съеженный и восхищенный, спросил:
— Сколько вы хотите, Брабан?
— Тысячу фунтов.
— Тысячу фунтов! — воскликнула негритянка, которая за подобные услуги явно получала намного меньше или вообще ничего. — На чей счет записать?
— На мой, — ответил директор. — И сразу же после этого вернитесь и развяжите меня.
При разговоре он снова возбудился, и я начала догадываться, что он подразумевает под операцией по развязыванию. На улице я отдала тысячу фунтов первому встречному бродяге и словила такси. Через несколько недель я послала одну из своих картин директору «Копторна» со словами: «Теперь мы квиты. Брабан». Мне рассказывали, что эта картина висела на самом видном месте в столовой до середины века, пока новый директор не продал ее Люксембургскому музею, получив, кстати, большую прибыль.
Кэтлин Пирс — горничная отца, не слишком быстро менявшая компакт-диски и давшая ему последнюю чашку чая — жила в Уэмбли, в изящном маленьком домике из серого кирпича, с низкими окнами, выходящими на стадион и отель «Хилтон». Она открыла дверь, держа под мышкой ребенка. Маленькая собачонка крутилась у нее под ногами, а семилетняя девочка цеплялась за ее шотландскую юбку. Я представилась, и она сразу предложила мне войти. Мы устроились в гостиной, полной салфеток, искусственных цветов и воскресных газет. Я попросила Кэтлин рассказать о последних минутах моего отца и теперь могу написать следующие строки. Увертюра из «Волшебной флейты» застала папу уже умирающим и прикончила его. Сожалел ли он, что отдает Богу душу, слушая — или, принимая во внимание ситуацию, заставляя себя терпеть — музыку, навеянную масонскими идеями, а не одну из очаровательных и жизнерадостных месс, написанных Моцартом в восемнадцатилетнем возрасте, или хотя бы «Реквием», о котором часто забывают, что он подписан Моцартом и Зюсмайром. Уверена, что нет. Папа отрекся от католической религии задолго до того, как покинул Брюссель, а во время второй мировой войны превратился в своего рода агностика-голлиста. Когда Кэтлин Пирс поставила последний ком-пакт-диск и забрала у него чашку с чаем, в котором он только смочил губы, папа прошептал, что чувствует себя как воздушный шар, наполняемый углекислым газом. Он смиренно и плавно раскинул руки и, тихо покачивая головой, позволил музыке унести его в Небеса.
21
Желтоватый туман окутал побережье Франции. Устроившись с Октавом в салоне второго класса между баром и игральными автоматами, Синеситта разглядела в толпе пассажиров Стюарта, увлеченного какой-то электронной игрой. Она ощущала себя с ним одним целым. Впрочем, думала она, наблюдая за Стюартом, который нагнулся к молодой стильной англичанке и одолжил ей несколько шиллингов, чтобы она продолжила игру, разве это нормально, когда два человека, образующие одно целое, не спят вместе? В конце концов, не заниматься же онанизмом, что осуждается и даже наказывается большинством религий.
Мой племянник в белом с голубыми полосками конверте с ненасытной и слепой страстью сосал грудь. Два первых месяца он ел только то, что исходило из его матери. Синеситта чувствовала себя одинокой планетой с собственными источниками и пастбищами. Это она отделяла для своего сына день от ночи, сон от бодрствования, голод от сытости. Она испытывала необыкновенное счастье, какое испытывают только абсолютные монархи. Но ее преимущество, а значит, и преимущество ее счастья состояло в том, что она правила с помощью любви, а не страха. Моя сестра — бывалый, циничный, насмешливый солдат из бухгалтерии «Прентан» — открывала для себя радость материнства. Любить ребенка — единственный способ любить человеческое существо, не ругаясь с ним. Когда младенец кричит, он не злится — он зовет вас. Синеситта после рождения Октава купалась с ним во взаимной любви, находившей свое конкретное воплощение каждые два-три часа. Больше всего ее поразило, когда она начала кормить Октава, что ни один мужчина никогда не сосал ее грудь так долго и так умело. Конечно, она не очень хорошо разбиралась в этом вопросе, признавалась она с упрямым и робким выражением лица, не покидавшим ее даже во время предсмертной агонии. В заключение Синеситта добавляла со своей обычной, бьющей в глаза наивностью, что если бы в ее жизни было больше трех любовников, не считая Коллена — ее мужа, она бы меньше влюбилась в сына.
Стюарт вернулся и сел рядом с ней, раздвинув ноги, свесив руки, опустив плечи и нахмурившись. После эйфории, которую вызвали у него смерть папы (он считал, что родители мужа и жены — единственные враги семейных пар и чем быстрее они исчезнут, тем будет лучше), а также деньги, которые он забрал у полупокойника и благодаря которым они провели два месяца в четырехзвездочном отеле «Кэмберленд», Коллен впал в тоску. Он боялся старости или, вернее самого процесса старения. «Нервная депрессия, — объяснил мне однажды психотерапевт Боба, — это когда человек считает уже исчезнувшим все, что когда-то должно исчезнуть. Например, — уточнял он, — человек видит в тебе старую, умирающую женщину, которую должны похоронить на Пер-Лашез, хотя на самом деле ты — самая блистательная, полная сил девушка, какую я когда-либо видел».
— Ты выиграл? — спросила Синеситта у мужа.
— Да, — сказал Коллен, — один фунт. Выиграть один фунт, рискуя потерять тысячу, это унизительно.
— Значит, ты мало играл.
— Я играл достаточно.
— Вернись.
— Нет, я хочу побыть со своими женой и ребенком.
Он обнял за плечи мою сестру. Она не шелохнулась, следуя правилу, что перед акулой, тигром или змеей — даже если ты и влюблен до сумасшествия в этих акулу, тигра, змею — самое лучшее не двигаться, если хочешь остаться в живых. Коллен, как командир скаутов, целующий кузину из провинции во время семейного обеда, запечатлел на щеке жены жирный, звучный поцелуй. Затем снял с ее плеча руку и отвернулся. Вдруг он побледнел. Его руки задрожали. Синеситта спросила, не началась ли у него морская болезнь. Он ответил, что у него болезнь от жизни. Морская качка, уточнил Стюарт, на него не действует; на него действует земная качка. Он обхватил голову руками и дрожащим голосом, полным ненависти и отчаяния, стал умолять мою сестру прекратить красть у него всю энергию и всю радость. Она поняла, что с милостями покончено, и быстро подсчитала, что у него украла: любезную фразу, руку на плече, поцелуй в щеку. Не так уж и плохо. Бывали и менее удачные моменты, когда ей удавалось выцыганить только дружеский взгляд, либо нейтральный или сомнительный комплимент: «Ты сегодня не так дурно выглядишь, как вчера» или «Лучше все-таки появляться в свете с великаншей, чем с лилипуткой». Нормальным состоянием Стюарта была истощающая смесь тревоги и отчаяния. Женщины, жившие до моей сестры вместе с ним, ошибочно принимали его за могучего, динамичного мужчину, время от времени впадающего в истерику лишь для того, чтобы позлить людей.
Паром накренился на левый борт, потом на правый, потом еще больше на левый и снова на правый. Это вызвало ликование у Октава. Небо стало черным, как после смерти Христа. Недомогание Коллена, вроде бы, прошло. Приближение катастрофы расслабляло его, а сама катастрофа доставляла удовольствие. Это был человек крушений. Отсутствие драм ослабляло его и приводило в уныние. Синеситту, напротив, начал охватывать ужас. В моей сестре все дышало любовью к жизни, включая (до встречи с Колленом) вежливую улыбку человека, не любящего никого. Почувствовав издали приближение болезни или смерти, она напрягала все ресурсы тела и ума, чтобы противостоять им. Стюарт же позволял болезни очаровывать себя, а смерти — завораживать, так как это были старые подружки его заразной и смертельной порочности.
За стойкой бара послышался звон разбитых стаканов. Несколько пассажиров упали на пол. Дети вначале засмеялись, а потом расплакались.
— У детей, — прокомментировал Стюарт, потягивающий, несмотря на страшную качку, «Чинзано», которое он вынудил перепуганного бармена налить ему, — нет никакого достоинства.
Синеситта достала из-под сиденья спасательный жилет и надела его, засунув внутрь Октава, который по примеру своей матери сосредоточился на приближающейся опасности, замкнувшись в воинственном молчании и проявлял беспокойство только судорожным поиском груди моей сестры. Паника началась внезапно, когда автомат, выдающий безалкогольные напитки, перевернулся и покатился по залу. Он обезглавил англичанку, которую совсем недавно соблазнял Стюарт. Синеситта, несмотря на весь этот ужас, испытала чувство облегчения, вызываемое у человека перспективой освободиться от гнета существования, и успела даже подумать, что ее муж снова принес кому-то несчастье. Она ощущала тепло, надежду и безмятежность Октава, прижавшегося к ее телу, и поклялась остаться в живых, даже если для этого ей придется плыть двенадцать часов. Синеситта была первоклассной пловчихой, что при крушении «Брайтона» спасло жизнь ей, Октаву, а также эмбриону, то есть Марсо, который уже был внутри нее. Что касается Стюарта, то он без труда нашел себе место в первой спасательной шлюпке. Он вызвал ужас у других потерпевших, обнаруживших, что во время всей эвакуации и операции по спасению он держал под пиджаком голову англичанки. Стюарт до тех пор утверждал, что это его невеста, пока полиция не выяснила, что у него уже были жена и ребенок, тоже путешествовавшие на «Брайтоне».
— Я очень любил эту девушку, — смущенно произнес Стюарт. — Она хорошо играла на игральных автоматах, и я хотел сохранить о ней воспоминание. Разве это бесчеловечно?
Голова англичанки лежала на столе комиссара в коробке из-под шляпы, которую полицейским с трудом удалось раздобыть в Кале посреди ночи. Когда, перед тем как уйти, Стюарт спросил, не может ли он в последний раз поцеловать голову, ошеломленный комиссар прорычал, что эта просьба кажется ему из ряда вон выходящей и если местная пресса узнает об этом деле, он будет смешан с… Впрочем, он не уточнил, с чем будет смешан. Видимо, он уже наделал немало глупостей, если его собирались с чем-то смешать. Стюарт вышел из кабинета разочарованным — умеренно разочарованным тем фактом, что его жена и сын в результате героического поведения Синеситты остались живыми и здоровыми.
Родители англичанки захотели узнать имя человека, в буквальном смысле спасшего голову их дочери, и потом очень долго писали и звонили Стюарту. А когда того арестовали и посадили в тюрьму, Финли все равно продолжали писать и звонить ему и даже посылать посылки и деньги в центральный комиссариат Клерво, пока их скудные средства им это позволяли. После самоубийства Стюарта в тюрьме они написали письмо Синеситте и приехали на похороны. Они показались нам такими близкими, хотя мы встретились впервые, что мы пригласили их пожить у нас неделю. Потрясенные нашей нищетой, они продолжали помогать нам материально вплоть до кончины Синеситты и до моего брака с Иваном Глозером.
«Брайтон» завалился на борт. Синеситта прижалась к столу, привинченному к полу. Стюарт, подхватив голову молодой англичанки, с веселым видом перебегал от иллюминатора к иллюминатору, находившимся теперь в горизонтальном положении, грациозно петляя, чтобы обойти раненых и мертвых. То, что он развлекался посреди трагедии, заставило мою сестру забыть о том, что она сама переживала трагедию. До конца жизни она была признательна Стюарту за то, что он позволил ей сохранить самообладание, без которого она погибла бы во время кораблекрушения. Когда Синеситта с окровавленным лицом после разборок со Стюартом приходила ко мне, чтобы пожаловаться, и когда я обрушивалась на ее мужа, она искренне начинала защищать его, упорно вспоминая, как на борту «Брайтона» он спас ей жизнь. Однако, едва заметив открытую дверь и первую спасательную шлюпку, Стюарт сразу же ринулся туда, бросив жену с ребенком и даже не предупредив ее, что нашел способ выбраться. Морская вода уже залила половину зала. В этой воде было что-то привычное и домашнее, отчего она выглядела еще ужаснее. Казалось, что кто-то в каюте первого класса не выключил воду и теперь она льется через край. Или вода из всех ванн в каютах первого класса выливается сама собой. То, что так много людей погибает в катастрофах, объясняется тем, что сама обстановка, в которой происходит катастрофа, настолько знакома и нелепа, что люди недооценивают опасность и бездействуют. Октав призвал мать к порядку, укусив ее через пуловер и бюстгальтер за грудь. Синеситта бросилась к спасательному выходу, через который уже выбрался Стюарт. Когда она очутилась снаружи, ей показалось, что Посейдон восстал среди вод и залепил сильнейшую оплеуху «Брайтону», и теперь тот, испуганный и пристыженный, поспешно погружался в морскую пучину, прихватив с собой сотни серых муравьев — человеческих существ. «Когда стихия готова тебя раздавить, — говорила мне Синеситта, — ты начинаешь чувствовать себя крошечным, беспомощным, брошенным на произвол судьбы и смешным». Моя сестра плыла на спине таким красивым, изящным и быстрым кролем, каким не плавала никогда. Она инстинктивно поняла, что в минуту смертельной опасности ее может спасти только совершенная форма. Это навсегда изменило ее восприятие искусства. Она осознала, что стиль — это не что-то лишнее, как ей всегда казалось в ее скучной и трудной молодости, а жизненная необходимость. Она вскарабкалась в лодку, установив (в чем была убеждена до конца своих дней) рекорд Франции или Европы на дистанции, по ее оценке, в тысячу метров. Как утверждали врачи из Кале, ребенок даже перегрелся. Он двигался намного меньше взрослого в аналогичной ситуации, и это сэкономило его силы. Синеситта различила на горизонте первые вертолеты, прибывшие на место трагедии. Она узнала замшевый пиджак и черные брюки Стюарта, ухватившегося за низ веревочной лестницы, и подумала, почему он держится за веревку только одной рукой, а вторую прижимает к груди. Никогда еще она его так не любила, как в это мгновение, когда он, неуклюжий до безобразия, поднимался в небо. Она была переполнена гордостью как за себя, так и за него, тоже выжившего в этом кораблекрушении.
В ее глазах это кое-что значило. Если бы он был таким плохим, — как все, включая ее, считали, — то пошел бы ко дну. Люди недооценивают чувство гордости у переживших катастрофу, поскольку те его не демонстрируют. Но эта гордость горит внутри них и раскаляет, как горн карлика Мима из сказки «Кольцо Нибелунга», поскольку они получили подтверждение, что имеют право на существование. После кораблекрушения остаются не только мертвые и несчастные, но и счастливые, расставшиеся со всеми комплексами неполноценности.
Из комиссариата Коллен отправился в госпиталь. Ему показалось, что он попал в телестудию. Прожекторы, камеры и микрофоны образовывали непроходимые, опасные джунгли, где зоны тишины чередовались с зонами шума, а полосы света с полосами темноты. Коллена засыпали вопросами. Он поделился своими первыми впечатлениями с частным телеканалом из-за ненависти к французскому государству, сказав, что хорошо развлекся и не прочь все повторить. Стюарт понял по злобному взгляду журналиста и по смеющемуся лицу оператора, что репортаж не пойдет в эфир. Правда, в конце года Стюарт на несколько минут появился в какой-то дурацкой шуточной передаче, что принесло ему обильную почту из всех пересыльных тюрем, в которых он побывал, включая психиатрический госпиталь, где через год после своего первого ареста он убил врача-психиатра и дежурную медсестру. Бывшие сокамерники и тюремщики Стюарта были возмущены его пренебрежительным отношением к человеческой жизни, но больше всего их удивило, как он умудрился стать таким толстым.
Стюарт нашел Синеситту сидящей на стуле среди других спасенных, сразу возненавидев их скорбный вид и растерянное выражение лиц. Он считал, что можно жаловаться на все что угодно, кроме несчастья. Супруга бросилась ему на шею и сообщила, что Октав, хотя и провел больше четверти часа в четырнадцатиградусной воде, чувствует себя нормально. Стюарт сказал, что младенцы никогда не сдыхают, так как не знают сомнений, и увел жену из госпиталя. Он испытывал странное, волнующее, почти неприятное ощущение и, только сев под вспышками фотографов в такси, вызванное «Бриттани Феррис», понял, что это желание. Он недоумевал, откуда оно могло взяться, не осознавая, что это было чистое, священное, супружеское проявление его любви к Синеситте, избежавшей смерти от морского бога. Стюарт только через несколько лет согласился признать, что любил мою сестру и никогда не любил никого, кроме нее. Это озарение пришло к нему за два дня или за день до его самоубийства в тюрьме.
Номер, снятый «Бриттани Феррис» в отеле «Формула 1» в окрестностях Кале, походил на каюту с двухместной кроватью и подвешенной над ней, как в поездах, полкой, где должен был спать третий человек. Все это стоило сто тридцать франков в сутки. Телевизор был прикреплен к стене, что напомнило Стюарту тюрьму. Он освежил лицо над раковиной.
— Выключи воду, — попросила Синеситта.
— Почему?
— Я теперь долго не смогу ее видеть и слышать ее шум.
Стюарт закрыл кран. Он делал то, что говорила моя сестра. Но потом мстил ей за свое подчинение в те моменты, когда она ничего не говорила, изводя ее нападками, взглядами исподлобья, мрачным видом, неожиданными исчезновениями или ударами кулаком по лицу и в ребра.
Из окна, узкого, как бойница, и низкого, как иллюминатор, виднелись склады, ресторан «Бюргер Кинг» и дома для рабочих. Синеситта хотела позвонить мне и сообщить, что они живы, но в комнате не было телефона. Честно говоря, я ничуть не волновалась, не имея от них известий уже несколько недель, полагая, что бросив меня одну заниматься репатриацией тела папы и его погребением на кладбище Коломбей-ле-дез-Еглиз, они теперь просто испытывают угрызения совести. Итак, я не знала, что они находились на «Брайтоне». И даже не имела понятия ни о его существовании, ни, тем более, о том, что он затонул. Единственное, что связывало меня с жизнью, это ежегодная речь президента республики после парада 14 июля перед приемом на лужайках Елисейского дворца.
— Мне кажется, — сказал Стюарт, — что здесь мы будем более счастливы, чем в других местах.
— В каких это местах мы были счастливы?
— Везде, но здесь мы будем еще счастливее.
Стюарт был счастлив с моей сестрой, которую, по его мнению, не любил, а Синеситта была несчастлива с ним, хотя его любила. Она упорно оставалась с тем, кто заставлял ее страдать, а Коллен хотел убежать от той, которая доставляла ему радость. Один гнался за своим несчастьем, чтобы удержать его, другая пыталась убегать от своего счастья. Оба искали страданий, и обоим удавалось их найти. Причина, по которой они и оставались вместе.
Они упали на двухместную кровать. Коллен задрал юбку Синеситты — узкую юбку из серой шерсти, подаренную благотворительным католическим обществом Кале, поскольку брюки моей сестры порвались во время кораблекрушения. Все их вещи пропали. Синеситта знала, что Коллен любил хрустящие ткани, чтобы губы одновременно целовали кожу и рубашку (верхняя губа прижималась к груди, нижняя — к одежде); плавки — узенькие и сексуальные, спущенные до лодыжек; замотавшиеся за пуговицы волосы. Это вызывало в нем скрытое, смутное, необъяснимое волнение, за которым следовало, по словам Синеситты, «быстрое, тупое, злобное» проникновение. После чего Стюарт дремал две-три минуты, а затем обалдело вставал и шел мыться. Он ложился рядом с моей сестрой и открывал газету. В отличие от меня, Коллен читал газеты. Причем, он читал их все. Это, по его утверждению, являлось одной из причин, по которой он не работал. Прочитав от корки до корки «Фигаро», «Либерасьон», «Паризьен», «Ле Франсе» и «Ле Монд», он, с одной стороны, уставал, а с другой — день заканчивался. «Согласитесь, — говорил Стюарт, — это неподходящее время, чтобы приниматься за работу». Он поворачивался спиной к Синеситте, и она успокаивалась при виде этой огромной бесчувственной груды жира. Когда по его просьбе она чесала ему лопатку или плечо или ласкала затылок, он с трудом переворачивал страницы. Стюарт читал каждую статью от первой до последней строчки и мог бы стать крупным специалистом по всем проблемам, затрагиваемым журналистами, если бы у него была память. Но она у него начисто отсутствовала. Он следил за новостями, как пенсионеры за вечерними телесериалами: забавляясь сменой слов и картинок, не имеющих между собой никакой связи, забывая, что произошло в последней серии, и не отрываясь от новой.
В общем, если бы он был еще жив и продолжал интересоваться одними новостями, то все равно не смог бы, как, впрочем, и я, рассказать, что произошло на нашей планете за последние семьдесят лет.
В полдень, проспав несколько часов на простынях под газетными страницами, они отправились пообедать в «Бюргер Кинг». Затем пошли в госпиталь, где Синеситта, пока Коллен изучал рубрику «спектакли» в «Вуа дю Нор», нежила и кормила моего племянника. Медсестра сказала им, что Октав чувствует себя хорошо и они смогут забрать его на следующий день, когда будет покончено с анализами. После этого Стюарт и Синеситта возвратились в отель.
Они уже собирались заняться любовью, когда моя сестра не сдержалась и призналась Коллену, что снова беременна.
— Мои поздравления, — произнес он и снова погрузился в газеты.
Синеситта похлопала его по плечу.
— Я не сплю с беременными женщинами, — отрезал он.
— Однако именно это ты сделал сегодня ночью.
— Сегодня ночью я еще не знал, что ты беременна. Сколько раз повторять, что секс — это духовное?
— Нисколько.
Синеситта надела зеленоватую, слишком короткую парку, которую, как и юбку, ей подарило благотворительное католическое общество. Обе вещи явно принадлежали не одному и тому же католику.
— Что ты делаешь? — спросил Коллен.
— Иду звонить.
— Кому?
— Моей сестре.
— Какой еще сестре?
— Моему брату, если тебе так больше нравится.
— Да, мне так нравится. Впрочем, мне это безразлично. Ну и семейка, черт побери!
Синеситта позвонила Алену Коллену из «Бюргер Кинга», найдя его в банке. Она была единственным человеком в мире, с которым он разговаривал во время любых совещаний, признался он ей во время одной из их упоительных любовных встреч. Синеситта сказала, чтобы он зарезервировал номер в отеле «Мёрис де Кале» (улица Е. Рош, 5). Они назначили свое первое свидание на следующее утро, на одиннадцать часов, и спокойно повесили трубки, мысленно предвкушая удовольствие, которое получат друг от друга.
22
Иван снял «Батаклан». Официальным предлогом этого грандиозного приема явилась первая обложка «Харпер Базар Итали» с портретом Марины Кузневич, а неофициальным — неподтвержденные сведения о первом миллиарде (в сантимах), выигранном Глозером. В приглашении указывалось: с 23 часов до утра. «Подтвердите, пожалуйста, свое согласие» Иван не написал, зная, что все и так явятся в «Батаклан», потому что за несколько месяцев они с Мариной превратились в людей, с которыми было престижно появляться на обедах «У Наташи» или во «Флоре». Люди хвастались, что им звонил Иван Глозер, как хвастаются выигрышем на скачках; а статус подруги Марины Кузневич открывал вам кредит во всех модных бутиках столицы. В общем, это была звездная парочка, спаянная вспышками фотографов, уик-эндами, о которых можно только мечтать, и светскими сплетнями. Но сегодня я собиралась разрушить эту идиллию так же легко, как разбивают яичную скорлупу серебряной ложечкой.
Я попросила Глозеров посидеть вечером с Бобом. Они согласились с энтузиазмом, который всегда проявляли, когда у них появлялась возможность сблизиться с Брабанами и облегчить им повседневную жизнь. Кроме того, они пригласили меня на ужин. Я согласилась с радостью, поскольку вот уже тридцать дней готовила для себя и для Боба обеды и начала уставать от своей однообразной, проще говоря, мужской кухни. Мне просто хотелось вытянуть ноги под столом и наесться, как в те времена, когда у меня были мать и отец. Глозеры это поняли. Вот что хорошо было с Глозерами — они все понимали. Иногда слишком много, а это обычно приводит к тому, что понимаешь все наоборот. Они приготовили обед, прямо как во времена моего счастливого детства: тыквенный суп, треску по-провансальски, козий сыр, крем-брюле и кока-колу. Как давно я не обедала с кока-колой! У меня на глазах выступили слезы. Служебная машина, присланная Иваном, подъехала к особняку в одиннадцать часов пятнадцать минут. Я как раз пила кофе с молоком. Наша мама вопреки всем правилам питания давала нам каждый вечер кофе с молоком. От кого Глозеры узнали об этой странной привычке? Конечно, от Синеситты, когда она — как давно это было! — приходила к Ивану. У мамы вошло в привычку пить на ночь кофе с молоком в швейцарском пансионате, где она… В этот момент мы кричали: «О нет! Только не про швейцарский пансионат!» — и не давали ей закончить фразу. Поэтому мы так никогда и не узнали, почему мама пила сама и заставляла нас пить на ночь кофе с молоком. Может, это было в память о ее гипотетической учебе в Швейцарии?
Шоферы служебных машин в отличие от шоферов такси не обращаются к вам невпопад. Они ведут машину мягко, быстро, осторожно. Одеваются скромно и со вкусом, не курят, но позволяют курить вам. Звонок их телефона приглушен и не трезвонит, как в обычных такси, от чего задремавший или задумавшийся пассажир резко подскакивает. Всю дорогу до «Батаклана» я сидела расслабленная, наслаждаясь непривычной роскошью, к которой мгновенно привыкла до такой степени, что просто мучилась, когда через несколько месяцев ехала в такси на встречу с Вуаэль в аэропорт Орли-Сюд, откуда мы собирались вылететь в Грецию на поиски Стюарта Коллена, и шофер изводил меня разговорами об ангинах, загрязнении воздуха в Париже, оскорблял других водителей, резко трогающихся с места или тормозящих. К роскоши человек привыкает мгновенно, а к нищете — целую жизнь. Это прекрасно доказывает, что роскошь — естественная потребность человека, а не привилегия, как пытаются уверять нас капиталисты.
У входа в «Батаклан» прохлаждались белокурые девицы в потертых джинсах и типы с татуировками в кожаных куртках. Предъявив приглашение, вы получали: 1) номер «Харпер Базар Итали» с желтым треугольным лицом Марины Кузневич, украшавшим обложку; 2) новую бритву «Жилетт» для людей, которые, как объяснялось в прилагаемом небольшом послании, «бреются сами»; 3) упомянутое послание, написанное мелким, старательным почерком Ивана Глозера, как и его любовные письма, которые я получала вот уже четыре месяца и на которые отказывалась отвечать не потому, что хотела его обидеть или разозлить, а просто не зная, что отвечать. В послании Иван, безуспешно пытаясь подражать еврейско-нью-йоркскому юмору, объяснял причину и цель праздника (отрывок: «Она была бедной полькой, а я — скромным парнем из пригорода; мы занимались любовью без вас, мы сделали состояние без вас, но мы устраиваем праздник для вас; пусть мы и эгоисты, как все влюбленные, но все-таки мы добрые».); 4) золотистый презерватив с запахом банана для парней и голубой — с запахом мяты для девушек; 5) маленькую аптечку в прозрачном пакете от Красного Креста, включавшую: алка-зельцер, аспирин и новый шприц. Гости с этими дарами толпились возле бара. Марина танцевала посреди площадки в окружении пузатых почитателей в костюмах и стройных, полуголых почитательниц. Наши взгляды встретились, и она даже прекратила танцевать, настолько мой вид ошеломил ее. Она откинулась назад и зашлась от смеха (это черта польских женщин и, вообще, всех славянок: откинуться назад и зайтись от смеха) — смеха торжествующего и ликующего, который рассек музыку как меч, но на который я ничуть не обиделась. Надо мной часто насмехались. Не подозревая, что у Ивана столько знакомых, и оказавшись всего одной из них, я ощутила свою ничтожность и испытала разочарование. К бару невозможно было пробиться, а за столиками сидели люди, которые, казалось, сотни раз ездили вместе на зимние курорты, чтобы позаниматься спортом, но не имели ни малейшего желания танцевать на площадке, где наслаждалась триумфом — в античном и римском смысле слова Марина. Между баром, столиками и танцплощадкой, образовывавшими своеобразный Бермудский треугольник, я нашла свободное полутемное пространство, форму которого затруднился бы определить даже специалист по геометрии, где и попыталась спрятаться.
Какой-то седой, плохо выбритый здоровяк весь в джинсе, как это было модно в семидесятых годах, когда он приехал в Париж с намерением завоевать его красивые кварталы, а теперь таскался по ночным кабакам и редакциям газет, с желтыми сломанными зубами, полными болезненной гордости молящими глазами, грязный, будто вывалялся в пыли, меч тающий, чтобы о нем все еще говорили, а также заставили работать, правда, не слишком много (поскольку он, как и вся богема семидесятых, ничуть не любил работу), а ровно столько, чтобы хватало на оплату жилья, — взял меня за руку и спросил, по какой таинственной, невероятной, чудовищной причине я осталась в уединении. Я ответила, что никого здесь не знаю.
— В таком случае я приглашаю вас за свой столик. Вы пообщаетесь там со всеми, кто слывет в Париже стареющими острословами, а кое-кто — и постаревшими. Меня зовут Оливье Перрон.
На нем были ботинки с грязными шнурками. Он сохранил неопрятный вид юнца, каким отличался в своей праздной, распутной молодости, канувшей в вечность, потраченной впустую на не оправдавшие надежд вечеринки, и у него теперь не осталось ничего, кроме этого неопрятного вида. Он кичился им, как неопровержимым доказательством того, что тоже когда-то был молод и умел одерживать победы. Он стал первым зрителем моего выхода в свет — отверженным, униженным ночным портье, настоявшим на том, чтобы я проникла во дворец, где меня ожидали радости, чудеса, неожиданности, а также богатство, которого мне все-таки удалось достичь, несмотря на препятствия, поставленные на моем пути как мною самой, так и другими. Разве преуспевать в своей жизни не означает очутиться в восемьдесят шесть лет в квартире, похожей на лабиринт, расположенной на площади Мехико, иметь в своем распоряжении непальца-метрдотеля, горничную-француженку, мебель Булля[20], марокканскую кухарку, двадцать пять телеканалов и шофера — то есть после борьбы и превратностей жизни купаться в полных сладости околоплодных водах? «Преуспевает тот, кто в конце своей жизни может искусственно воссоздать необычайный комфорт, которым был окружен до рождения. Неудачники стареют и умирают в холоде, хаосе, уродстве и обидах. Многие святые и гении так умирают, но среди святых и гениев много неудачников». (Бенито, единственное выступление в рубрике «Свободная трибуна» в газете «Ле Монд»).
Я не успела ни согласиться, ни отказаться, как мужчина затащил меня за столик, где сидела компания сорокалетних с потрепанными лицами, на которые детство, прощаясь, меланхолично нанесло последний мазок. Среди них были три или четыре женщины, безвестные и растерянные. Время, уходя, каждого оставляет в ошеломлении. Меня представили как загадочное создание третьего тысячелетия и посадили на банкетку. Откуда я знала Ивана Глозера? Он был моим другом и любовником моей сестры. В каком возрасте? В девять с половиной лет. А сколько было моей сестре в то время? Столько же. Некоторые из присутствующих сразу же захотели познакомиться с Синеситтой. Я сказала, что она замужем и недавно родила ребенка. В тот момент я не знала, что она ждет еще одного.
Зазвучал рок. Какая-то девица в коротком черном платье, черных чулках, с жемчужным колье, черным бархатным бантом в светлых волосах потащила одного из мужчин на площадку, и они с ностальгической радостью стали танцевать рок. Иван, в темном костюме, кожаном галстуке и двухцветных мокассинах, явно злящийся всякий раз, как поворачивал голову в мою сторону, последовал с Мариной их примеру. Вначале она пустилась в пляс, но поняв, что действуя таким образом, становится сообщницей чуждого ей поколения, — поколения, уставшего от своего бесполезного хорошего вкуса, отвергнувшего всякое уродство, но не создавшего ничего оригинального, меланхоличного и изнеженного, инфантильного и беспомощного, еще более потерянного, чем все предыдущие, хотя ему нечего было терять, кроме нескольких ребяческих надежд, непроходимой лени и самодовольства, — замахала руками и спряталась в треугольнике, где полчаса назад отдыхала я. Иван Глозер — наш знаменитый хозяин, брошенный вместе со своим миллиардом сантимов — притягивал взоры, как вишня на торте или жандарм перед частной резиденцией премьер-министра. Он изобразил что-то наподобие старомодного джерка и набросился на Кармен Эрлебом. Драма этого поколения в том, что оно надеется удержать молодость. Оно не умеет стареть и верит, что не умрет, так как в смерти мало приятного. Оно исчезнет в один прекрасный день так же, как появилось: бесшумно, не потрудившись даже раскрыть свои тайны, которых у него, может, и нет. В искусстве оно оставит лишь смутный, наивный след, а в политике запомнится вялой, бессмысленной страстью, ленивым радикализмом, который так и не найдет себе применения.
Осталась бы я в эту ночь с Иваном Глозером, если бы Эрлебом по приглашению Оливье Перрона, чьей близкой подругой она оказалась, не села за наш столик и не стала обхаживать меня? Сомневаюсь. Иван разозлился на меня до такой степени, что в течение часа не проронил ни слова. Но когда он увидел, как пальцы актрисы стянули с меня пиджак на банкетку, набросились на пуговицы моей рубашки, стали поигрывать с моими золотыми серьгами (которые мама подарила мне на тринадцатилетие и которые я продала по требованию Стюарта Коллена, чтобы на вырученные деньги покупать детские смеси для Марсо, так как у самого Стюарта на это не было денег), а затем ее ненасытный и нежный рот потянулся к моим губам, все его недовольство моей персоной как рукой сняло, и он приземлился за наш столик с такой же поспешностью, как терпящий бедствие туристический самолет на Красную площадь в самый разгар гололеда. Оливье Перрон, понимая ситуацию и желая уладить все так, чтобы волки и овцы остались целы, особенно волки, взял за руку Кармен и повел танцевать. Они танцевали в старой, несексуальной манере, держась на расстоянии с подчеркнутой холодностью и щеголяя своими телами, не слишком испорченными временем, но все же лишенными прежнего великолепия.
— Что с тобой? — спросил меня Глозер, сжимая мой локоть так, словно хотел его сломать.
Я не собиралась ходить с локтем в гипсе, когда у меня на руках были Боб и весь дом. Поэтому с силой выдернула руку. Пять лет занятий французским боксом давали мне преимущество во всех ситуациях, и я думала, как выкручиваются в жизни люди, занимавшиеся им всего месяц или не занимавшиеся вообще.
— Что со мной? — переспросила я у Ивана, который, пошатнувшись, сразу успокоился, впечатленный моей мускулатурой и тем, как я умела ее применять в случае необходимости.
— Что это за прикид?
— Армани. Четыре тысячи. Самая крупная покупка в коммерческом центре с мая 1981 года. Так продавщица мне сказала. Все, что осталось от моих сбережений, пошло на эту тряпку.
— Ты находишь, что это очень смешно — одеться парнем на мой праздник?
— Я не оделась парнем. Я — парень.
— Ах, вот как! И с каких пор?
— После смерти отца. Впрочем, по этой причине я и не ответила на твои письма. Ты считаешь, что одинокая девушка с малолетним ребенком долго будет спокойно жить в большом доме в нашей округе? Или ты хочешь, чтобы меня каждый уик-энд насиловали бандиты из Карл-Маркса? Ты этого хочешь?
— На кого я сейчас похож, по твоему мнению?
— Плевать мне, на кого ты похож!
— Я похож на зрелого человека, который послал черт знает сколько писем подростку.
— Двадцать три.
— Двадцать три! Ты отдашь их мне завтра же утром!
— Я их сожгла.
— Ты сожгла мои письма?
— А ты хотел, чтобы я их перевязала и вставила в золотую рамочку? Ты не Шекспир, приятель!
Он бросил на меня взгляд, полный отвращения и отчаяния. Нет сомнений: он предпочитал видеть во мне романтичную и взволнованную девушку. Выпив одним глотком грейпфрутовую водку, он, как мне показалось, поставил крест на своей любви ко мне. Затем засмеялся и похлопал меня по плечу. Когда его рука задержалась на моей, я поняла: ни для него, ни для меня ничто не закончится так просто.
— Тебе нравится мой праздник? — спросил он серьезным, твердым и непринужденным тоном, но все-таки не смог скрыть, что его вновь начинает терзать желание.
— Нет.
— Почему?
— Не знаю. Слишком много стариков.
— Подруги Марины — молодые.
— Ты находишь?
— Во всяком случае, они хорошо сложены. Можешь подцепить одну из них на ночь.
— Я не знаю, о чем с ними говорить.
— Ничего не говори.
— Мне нужно поговорить. Целые дни наедине с Бобом… Разговор доставил бы мне удовольствие. Но я сомневаюсь, что хоть одна из подруг Марины расположена поболтать.
— Я с удовольствием составил бы тебе компанию, если бы ты не сменила пол.
Кармен Эрлебом прервала наш разговор и увела меня на танцплощадку. Мы прижались друг к другу, и она, обняв меня за шею, сказала, что я ей нравлюсь и что я могла бы провести остаток ночи у нее, поскольку ее муж уехал по делам в Бразилию, а любовник снимает фильм в Исландии. Я улыбнулась и ответила, что согласилась бы с удовольствием, но я — девственник, и ей придется заняться всем или почти всем самой. Она заявила, что ее это не пугает. Иван крутился вокруг нас, как полицейский вокруг угнанной машины: то танцуя с наигранной веселостью, то тяжело шагая с угрожающим видом еврея-интеллектуала из Центральной Европы. Когда он увидел, что я пью с Кармен Эрлебом за столиком Оливье Перрона, то ушел в другой конец «Батаклана». Ни одна деталь из этой сцены не ускользнула от Марины Кузневич, и она встретила Ивана с холодным видом, ничуть не расположенная играть роль палочки-выручалочки или утешительницы. Иван, расстроенный и несчастный, очутился со своей грейпфрутовой водкой один посреди праздника, который устроил для того, чтобы продемонстрировать свой блестящий успех во французском обществе. Мне стало его жаль. «Мужчины прилагают много сил, чтобы преуспеть, не подозревая, что преуспеют лишь в том, что их возненавидят, и едва они хоть в чем-то потерпят неудачу, как сразу почувствуют эту ненависть». («Опасные мифы», с. 1037).
Прежде чем поцеловать меня в губы, Кармен Эрлебом спросила, целовала ли меня когда-нибудь женщина. Я ответила, что нет, только мужчина. Она поинтересовалась, кто же это был. Я призналась, что Иван Глозер. В отличие от моих покойных родителей, а теперь и от сестры, я еще не научилась врать, потому что не узнала любовь.
— Иван — гей? — удивилась Эрлебом.
— Не имею представления.
— Однако ты целовался с ним в губы.
— В то время я был девушкой.
— А теперь ты больше не девушка?
— Нет, жизнь одинокой девушки с ребенком слишком трудна, особенно в предместье.
— У тебя есть ребенок?
— Брат. Боб. Три года.
Я снова начала танцевать. Очутившись в центре кружка манекенщиц, я подумала, кто из них начнет приставать ко мне первой. Это, конечно, оказалась Марина. Она ущипнула меня через рукав пиджака и спросила:
— Армани?
Я утвердительно кивнула. На Марине были красные сапоги, золотистые шорты и белое болеро, под которым со смесью польской изящности и парижской распущенности покачивались ее груди. Шею обрамляло несколько индийских колье.
— Как поживает твой очаровательный папа?
Почему она заговорила о моем отце? Я ответила:
— Он умер.
Марина покраснела. Она явно впервые услышала, что человек, о ком она спрашивает, умер. В этом был как бы зловещий знак, предупреждение судьбы. Люди, убежденные, что смерть заразна, без конца задаются вопросом, когда же она, перестав поражать их близких, обратит свой взор на них.
— Что стало с ребенком?
— Я им занимаюсь.
— Это не слишком тяжело?
— Тяжело. Нужно найти женщину, которая бы мне помогала, но поскольку у меня нет денег, я должен на ней жениться, а для меня это слишком рано.
— У тебя чрезвычайные обстоятельства. Кстати, у меня есть подружка-манекенщица, мечтающая выйти замуж.
Она закричала:
— Вуаэль!
Ею оказалась огромная женщина лет тридцати, что для манекенщицы означало то же самое, что семьдесят для художника, то есть слишком много. Она мне сразу понравилась, так как напомнила сестру. Марина сказала ей:
— Этот молодой человек ищет супругу.
— Exciting![21] — воскликнула Вуаэль.
Она была исландкой. Я никогда не видела исландок. На этой земле их явно было мало и большинство из них жило в Париже. Я подумала, не связана ли Вуаэль каким-либо образом с любовником Эрлебом, который, как та сказала час назад, снимал фильм в Исландии. Марина представила меня:
— Его зовут Брабан. Предупреждаю: этим летом он носил юбку и чуть не увел у меня из-под носа моего парня.
— Exciting! — повторила Вуаэль.
Марина, хихикая и прикрывая лицо рукой, оставила нас. Когда славянские женщины не откидывают голову назад, они хихикают, прикрываясь рукой. Вуаэль шепнула мне на ухо с легким англо-саксонским акцентом, так как Исландия такая бедная, что не имеет даже собственного акцента:
— Мне нужно выйти замуж. Я скопила три миллиона франков, поместив их под девять с половиной процентов в Люксембургский банк, что дает мне на жизнь немногим меньше трехсот тысяч франков в год. Это немного, но у меня хватило ума купить в кредит в 1983 году большую квартиру в Маре. Я закончу выплачивать его в будущем году. У меня есть также домик в деревне — хижина, как говорят во Франции — в Бутини-сюр-Оптон. Я обожаю деревню, животных, естественный образ жизни. Ну и, конечно, квартира в Рейкьявике, которую родители оставят мне после смерти. А что есть у тебя?
Семейное, имущественное и финансовое положение Брабанов было одновременно намного более сложным и простым, поэтому я ограничилась рассеянным жестом, напустив на себя таинственный вид.
— Ты за каким столиком? — спросила Вуаэль, прижимая свое влажное лицо к моей потной щеке.
— За столиком Оливье Перрона, но он ушел.
— Пойдем со мной, я сижу с Иваном Глозером. Это он устроил праздник. Ты с ним знаком?
— Он спал с моей сестрой.
— С кем он только не спал!
— Со мной.
Она засмеялась.
— Ты — гей?
— Нет.
— Тогда почему ты носил этим летом юбку?
— Слишком долго объяснять.
Она раздражала меня своими вопросами. Я поцеловала ее в губы. За одним поцелуем следует другой. Теперь, поцеловавшись с Кармен Эрлебом, я могла поцеловать всех женщин. Даже Марину, если бы ей захотелось. Мы с Вуаэль в обнимку подошли к столику Ивана, где сидели также Марина, две-три девицы в стиле «голый пупок — острые груди» и тип с седоватыми волосами, представившийся новым генеральным директором «Эльф Акитен» таким шутовским тоном, что я приняла его за бывшего тележурналиста, от которого отказались все телеканалы, и которому теперь приходится зарабатывать на жизнь юморесками. Позднее Иван подтвердил, что это действительно был генеральный директор «Эльф Акитен», и я пожалела, что была так необходительна, потому что он мог бы подыскать Стюарту Коллену работу на бензозаправке.
— Я нашла мужа, — заявила Вуаэль.
— В это уже никто не верил, — заметила Марина.
Иван потягивал энную порцию грейпфрутовой водки, и его отстраненный и решительный вид показывал, что с ее помощью он преодолевает определенное число внутренних барьеров.
— Где будет церемония? — поинтересовался фальшиво-настоящий генеральный директор.
— В моей кровати, — сообщила Вуаэль.
— Когда?
— Сегодня ночью. Ты идешь, Брабан? Уже поздно, а мы, тридцатилетние манекенщицы, ложимся спать рано, поскольку наши самолеты на Гамбург, Мадрид и Лиссабон вылетают на заре, а лимузины за нами не приезжают. Кроме того, мы научились быть экономными и поэтому ездим на автобусе до аэропорта.
— Брабан никуда не пойдет, — сказал Глозер, не поворачивая ко мне головы, наверное, из-за страха осознать, что он делает.
— Это почему же? — спросила Марина кислым тоном.
— Мне нужно ему кое-что сказать, — объяснил Глозер.
— Ладно, — согласилась Вуаэль, — поговорите, но потом я его уведу.
— Хорошо, — Иван встал. — Пойдем.
— Куда это вы? — встрепенулась Марина.
Он улыбнулся.
— В тихое место.
— В «Батаклане» нет тихих мест.
— Мы не пойдем в «Батаклан».
— Если ты это сделаешь, Иван, между нами все будет кончено.
— Между нами и так все будет кончено, даже если я этого не сделаю.
— О чем это он? — спросила Вуаэль.
— Он собирается уединиться в тихом месте с Брабаном, — объяснила Марина.
— Я так и знала, что он гей! — воскликнула Вуаэль, показывая на меня пальцем так, как, без сомнения, делают в исландских деревнях, особенно зимой, когда встречают гомосексуалиста.
— Он — не гей, — сказала Марина. — Это девица, стервозная девица!
— Я не девица, — возразила я. — И не парень. Но в любом случае, не гей.
— Тогда кто? — поинтересовалась Вуаэль.
— Он — никто, — объяснил Иван. — Я его хорошо знаю: мы были соседями, когда я жил в предместье. Уже в детстве у него возникла эта проблема. То он год занимался регби в спортивной ассоциации имени Ленина, то — живописью на шелке в доме культуры имени Гарсиа Лорки. Его родители никогда не знали, дарить ли ему медведей или кукол, игрушечные ружья или кухонные принадлежности. Поэтому они дарили ему только материал для рисования.
— Так я и стал художником, — сказала я, сложив губы бантиком.
23
Мужчина постучал в дверь комнаты. Никакого ответа. Он постучал еще раз. Приглушенный звук явно не любовной возни. Мужчина — на вид лет тридцать, осмотрительный, как все карьеристы — нахмурился, поразмышлял и постучал снова. Молчание. Наконец раздался грассирующий голос:
— Моя жена уже вам сказала, что «Бриттани Феррис» оплачивает номер!
— Я — представитель «Бриттани Феррис».
Прошло секунд десять, и дверь отворилась. На пороге стояла Синеситта в старом пеньюаре в цветочки. Еще один подарок благотворительного католического общества. У нее были бледные губы, зеленоватый цвет лица, беспорядочно свисавшие на лицо и плечи волосы. Представитель «Бриттани Феррис» различил за ней огромную массу, которая медленно пришла в движение, вылезая из кровати, опустилась на оплывшие ноги и сразу заполонила своим невероятным объемом все пространство.
Синеситта завесила окно, и поэтому в комнате царил полумрак.
— Меня зовут Кристиан Сушон, — представился мужчина.
— Я принял вас за хозяина отеля, — сказал Стюарт Коллен, приближая, как обезьяна, глядящаяся в зеркало, свое чудовищное лицо к лицу представителя «Бриттани Феррис».
Он начинает из-за нас нервничать. Да, это правда, мы подолгу не выходили из комнаты, но какое ему до этого дело? Кстати, вы должны ему заплатить, как было обещано.
— Я только что заплатил, — произнес Кристиан Сушон.
— Это ненадолго его успокоит. Сине, пригласи месье в наше любовное гнездышко. В конце концов, это ему мы им обязаны.
Мужчина вошел. Стюарт, чтобы оставить ему место для передвижения, с неуклюжестью полярного медведя, поднимающегося на второй этаж заброшенного дома на севере Финляндии или Канады, вскарабкался на одноместную кушетку, висевшую над кроватью, на которую и сел Сушон. Синеситта, хотя и была на третьем месяце, осталась стоять, сложив руки на груди.
— Вы занимаете эту комнату уже девять недель, — сказал Кристиан Сушон.
— Девять недель и четыре дня, — уточнила Синеситта, считавшая все с тех пор, как стала жить со Стюартом, включая дни.
— Нам здесь хорошо, — заявил Стюарт, доставая из-под одеяла Октава и покачивая его в своих огромных руках.
— Компания не может держать вас здесь до конца жизни.
— Однако именно ваша компания нас чуть не угробила! — закричал Стюарт.
— Это никак не связано. Насколько я знаю, мы не лишали вас квартиры.
— У нас не было квартиры, — сказала Синеситта.
Описывая мне эту сцену, она призналась, что никогда не представляла, что у нее будет муж без работы, не собирающийся ее искать; ребенок без социальной страховки; что она будет беременна вторым ребенком, которого ожидала такая же участь, как и первого; что проживет шестьдесят дней в отеле «Формула 1», выходя из него только для того, чтобы быстро переспать с братом своего мужа в королевских апартаментах в местном отеле или наспех пообедать со Стюартом в «Бюргер Кинге», и что скажет представителю «Бриттани Феррис», что у нее нет квартиры.
— Наша компания не обязана вам ее обеспечить, — заявил Кристиан Сушон. — Я получил от моей дирекции распоряжение отправить вас домой.
— У нас нет дома, — бросил Стюарт.
— В таком случае нужно попросить мэрию Кале помочь вам с жильем.
— А что нам делать тем временем? — со злобной радостью спросил Стюарт, показывая ему маленькую симпатичную головку Октава. — Спать на улице? Сейчас зима, и вы не имеете права выставлять нас отсюда. Кроме того, моя жена беременна.
— Подождите, — прервал его мужчина, — вы находитесь в отеле, а не в квартире. И вас можно выставить отсюда как зимой, так и летом.
— Попробуйте. Мы с женой пойдем в «Вуа дю Нор» и расскажем нашу историю первому встречному журналисту, который ею наверняка заинтересуется. Могу поспорить на что угодно, хоть на моего ребенка, что он вызовет телебригаду «Франс 3», и ваши директора вскоре смогут лицезреть нас на маленьком экране.
— Директора «Бриттани Феррис» не смотрят региональные новости «Франс 3».
— Директора — нет, а их клиенты — да.
Кристиан Сушон опустил голову. Стюарт сделал вывод, что протаранил его, но не потопил.
— Я могу позвонить? — спросил Сушон.
— Направо, в конце коридора, — сказала Синеситта.
— В комнате нет телефона?
— А как же! — воскликнул Стюарт. — Ты тут не в «Хилтоне», приятель!
Сушон вышел. Синеситта со Стюартом улыбнулись. Когда вы на мели, то рады любому простофиле, особенно если он представляет компанию, ворочающую миллиардами долларов. Сушон возвратился через пять минут.
— Компания предлагает вам премию в десять тысяч франком.
— Сто тысяч, — произнес Коллен.
— Со ста тысячами в кармане вы купите этот отель.
— А почему бы и нет? Гостиничный бизнес — хорошая работенка. А у нас с женой нет не только квартиры, но и работы.
— Вы можете оставаться серьезным хотя бы пять минут, месье Коллен?
— Вы слишком многого от меня просите. Согласен на тридцать секунд.
— Я могу поднять цену до двадцати тысяч франков.
— По рукам!
Вот таким был Коллен: упрямым, неуступчивым, хитрым и вдруг, без всякой веской причины, становился сверхпокладистым. Он сложил чек Кристиана Сушона и сунул его в карманчик рубашки. Синеситта обожала, как он делал этот жест, и если бы у нее еще оставались деньги в банке, она то и дело подписывала бы чеки, чтобы лишний раз полюбоваться, как ее муж складывает и засовывает их в карманчик рубашки. Стюарт пообещал Сушону покинуть Кале следующим утром. Сушон настоял на том, чтобы заехать за ними на машине. Он был согласен отвезти их куда угодно. Итак, на следующий день он привез их в пригород Парижа. В тот момент, когда машина Сушона направлялась к улице Руже-де-Лиля по маленьким, серым, безымянным улочкам нашего городка, я выпустила из объятий Ивана Глозера, прижимавшегося к моей груди. С тех пор, как он стал моим любовником, у него вошло в привычку вести себя как женщина или как ребенок. Ради его карьеры я надеялась, что никто, кроме меня, этого не заметит, а когда я снова стану женщиной, он, со своей стороны, сможет вести себя со мной как мужчина. Что и случилось, но на это потребовалось слишком много времени.
Незнакомая машина остановилась перед воротами нашего дома. Из нее высадились, не проявив ни капли любезности друг к другу, пузан с рекламы «Мишлен» и моток колючей проволоки: Стюарт и моя сестра. Кристиан Сушон достал их единственный чемодан из багажника, пожал руку Коллену, поцеловал Синеситту в обе щеки и пощекотал подбородок Октаву. Потом нырнул в машину и вихрем тронулся с места.
— Кто это? — спросил Иван, пальцем показывая на странную парочку, входящую в ворота нашего дома.
— Моя сестра.
— Твоя сестра?!
— Согласна, она неважно выглядит. Но это нормально: вот уже год она обедает и ужинает в английских ресторанах.
— Это не твоя сестра.
— Тогда кто?
— Женщина, у которой цирроз печени, рак легких, рассеяний склероз, но только не твоя сестра.
Я открыла окно и крикнула:
— Синеситта!
Она задрала голову изголодавшейся землеройки и улыбнулась мне с нежностью мертвеца. Я сказала Ивану:
— Вот видишь, это моя сестра.
— Это доказывает лишь то, что эту женщину зовут Синеситта. Твоя сестра никогда так не выглядела. Невозможно настолько измениться за один год. Если только снова не открыли Освенцим, но я бы слышал об этом в синагоге.
Вот одна из шуточек, которые отпускал Иван Глозер. Кстати, он больше всех навредил ими Бенито во время второго судебного процесса.
— Сейчас сам убедишься, — воскликнула я.
Мы спустились по лестнице.
— Привет, художники! — крикнул нам Коллен.
Его мощный, громовой голос заполонил весь дом и разбудил на втором этаже Боба. Мой маленький брат заплакал, как младенец, проснувшийся от визга электрической дрели. Иван подошел к Синеситте.
— Это ты?
— Конечно, я.
— Ты попала в аварию?
— Да. Кстати, мне следует тебя представить: Иван Глозер, Стюарт Коллен; Стюарт Коллен, Иван Глозер.
— Home, sweet home![22] — напевал Коллен, и я подумала, не комментировал ли он таким бессознательным и странным образом отношения, сложившиеся у меня с Иваном.
— Ты приготовишь нам что-нибудь поесть? — спросила Синеситта. — Этот идиот Сушон так спешил отделаться от нас, что даже не захотел остановиться в ресторане.
Моя сестра сильно похудела, но меньше, чем нам показалось вначале. Что касается Коллена, то он набрал килограммов двадцать, и это нас поразило. Разница в весе между ним и Синеситтой составляла отныне сорок пять килограммов; и эта разница, не существовавшая год назад, стала новым, неожиданным и обременительным персонажем в саге нашей семьи. Мы еще больше обеспокоились, когда Синеситта сообщила за обедом, приготовленным Иваном по моей просьбе (он сделал пельмени по-краковски, рецепт, которому его научила Марина), что она на третьем месяце. Иван надел мамин передник, чтобы не испачкаться, и остался в нем за обедом. Он спросил, нормально ли так похудеть, когда ждешь ребенка. На что Стюарт ответил, что вычеркнул слово «нормально» из лексикона. Прекрасный способ, по его мнению, избежать язвы желудка. Иван взглянул на часы и стал совершенно пунцовым.
— О-ля-ля! — воскликнул он, вставая и надевая пиджак.
Синеситта наблюдала за ним с ироничным и несколько угасшим любопытством. Я сделала замечание Глозеру, что он надел пиджак на передник. Он ударил себя по лбу, снял пиджак, развязал передник, повесил его на крючок и снова надел пиджак.
Иван пожелал нам приятно провести время и уехал в это странное, таинственное и нелепое место, каким все Брабаны, особенно из второго поколения, считали его офис.
Мы услышали, как Стюарт носится по всему дому. Он играл с Октавом в младенца-Боинга. Это означало держать младенца над головой, подкидывать его до потолка, поворачивать вокруг люстры и пикировать на мебель.
— Вы сняли решетки с третьего этажа? — спросила сестра.
— Нет. А на втором их и не было.
— Второй этаж не опасен. В этом возрасте младенцы резиновые.
— Почему ты задаешь такой вопрос?
— Стюарт непредсказуемо ведет себя с младенцами, впрочем, как и с женщинами, и с самим собой.
— Он уже бросал Октава из окна?
— Да. В Кале. К счастью, мы жили на первом этаже.
Дальше мне трудно было сосредоточиться на разговоре. Пока Синеситта сбивчиво и уныло, перескакивая с одного на другое, описывала большинство событий, которые я изложила на предыдущих страницах, опираясь главным образом на ее более поздние рассказы, а также на уточнения, которые привнес в них во время нашего долгого совместного проживания Стюарт Коллен, я с тревогой следила за окном, готовая в любой момент увидеть в нем Октава, летящего вниз головой и разбивающегося о землю. Неожиданно Стюарт с расстегнутым воротничком, болтающимся галстуком и закатанными рукавами ворвался в кухню. Без моего племянника. Однако ни я, ни Синеситта не решились спросить, где он оставил сына.
— Кофе есть? — спросил он.
Моя сестра встала и начала убирать со стола. Коллен сел рядом со мной. Я ожидала, что он хлопнет меня по бедру, но он остался сидеть неподвижно, с отстраненным и в то же время веселым видом любуясь теми колоссальными разрушениями, которые произвел в моей сестре. Синеситта походила на рентгеновский снимок старинного стола, цвет и объемы которого исчезли и остался только рисунок. Однако она не казалась несчастной. В ней было какое-то экзальтированное и странное безразличие монашек, моющихся в течение тридцати лет холодной водой мылом «Марсель», похудевших из-за отсутствия алкоголя и помолодевших из-за отсутствия секса. Кажется, их зовут добрыми «сестрами». Она поставила чашку с кофе перед Колленом, потом обошла кухню, разглядывая мебель и фотографии, открыла ящики, чтобы посмотреть, какие у меня запасы продовольствия, и сделала вывод, что продуктов почти не осталось. Я объяснила, что у меня заканчиваются сбережения. Тогда Синеситта сказала, что, к счастью, «Бриттани Феррис» дала им немного денег.
— Теперь, когда у тебя есть степень бакалавра, ты должна найти работенку, — заявил Коллен.
— Иван мог бы подыскать тебе место, — предложила моя сестра.
— Мне есть, чем заняться, — ответила я. — Вы сами можете пойти работать.
— Вот оно, новое поколение, — воскликнул Коллен, — ничего не хочет делать!
— Ладно, как-нибудь устроимся, — примирительно произнесла Синеситта. — У нас есть время подумать.
— Двадцать тысяч франков, — заметил Коллен, — испарятся быстро.
— Может, мне вернуться в «Прентан»? — спросила Синеситта.
— Советую тебе позвонить им прямо сейчас, — обрадовался Коллен.
Синеситта встала и направилась в вестибюль. Но перед этим, охваченная любовным порывом и признательностью за его умное замечание, обняла Коллена и поцеловала в бугристую, отвратительную щеку. Она спросила из вестибюля, почему он оставил Октава в подставке для зонтиков. Он ответил: «А почему бы и не в подставке? — и добавил: — Это же лучше, чем если бы я оставил его в поясе для подвязок, в багажнике или на трапе!» По несколько натянутому и прерывистому голосу, которым Синеситта попросила секретаршу соединить ее с шефом, я поняла, что моя сестра взяла Октава на руки. В этот холодный, серый февральский день меня мучил вопрос, в кого мы превратимся, запершись, как в приюте для престарелых или лечебнице для душевнобольных, в этом загородном доме, в окружении предметов, напоминающих о былом величии Брабанов.
— Как ты находишь свою сестру? — спросил меня Коллен. — Она стала лучше, чем раньше?
Я вдруг подумала, что не помню, какой была Синеситта до встречи с Колленом. Мне пришлось сделать усилие, чтобы воссоздать в своей памяти, увы, неполный образ той скованной, худой, сияющей весталки, очаровывавшей меня в детстве и в подростковом возрасте. Я сравнила ее с замученной, изможденной матерью семейства, в которую она превратилась. Что появилась в ней нового? Может быть, некоторая апатия, которую испытывают участники марафона на Олимпийских играх сразу после соревнований: смесь невероятной усталости и равнодушия к смерти. Синеситта знала, что в ее жизни отныне не может быть ничего ужаснее, чем брак со Стюартом Колленом; и теперь, расставшись с иллюзиями, демонстрировала беспечность и патологическую веселость, правда, не лишенных некоторого ядовитого очарования.
Возвратившись на кухню, моя сестра сообщила, что «Прентан» возьмет ее на работу с испытательным сроком со следующей недели. Мы поверили, — и зря, — что выпутались из финансовых затруднений. Это нужно было отметить. Коллен спросил, не осталось ли в доме «Чинзано»? Я ответила, что не выпила ни капли. Синеситта заявила, что ее возвращение на работу нужно отмечать не «Чинзано», а шампанским. Коллен вызвался сходить за ним в лавку на углу и спросил меня, где ключи от машины. Машина, объяснила я, была не на ходу из-за неисправного глушителя.
— По такому холоду, — буркнул Коллен, — я не пойду пешком в лавку.
— Однако мы даже маленькими туда ходили, — заметила Синеситта. — Не правда ли, Брабан? Ладно, я сама схожу.
— Ты! — воскликнула я. — Ты же беременна!
— В Скандинавии тоже есть беременные женщины, что не мешает им ходить по холоду.
— Они ездят на «Вольво». У этих машин не очень хорошие тормоза, зато они хорошо обогреваются.
— В XIX веке не было «Вольво»,— возразила Синеситта.
— Именно поэтому, если верить папе, большинство скандинавов и эмигрировало в Соединенные Штаты.
— Только оденься потеплее, — проявил заботу о беременной жене Стюарт.
— Не беспокойся, моя любовь.
Она ушла, переваливаясь с боку на бок, в огромной пуховой куртке, которую мама подарила ей, чтобы она никогда не мерзла. Коллен сунул руки в карманы и встал перед окном. Он повернул ко мне свое странное жирное лицо, не выглядевшее ни совершенно человеческим, ни животным.
— Ты считаешь, что я должен был пойти вместо нее? — спросил он. — Любой мужчина на моем месте так и сделал бы, да? Но я — не любой мужчина. Я — мужчина, которого она любит. Если бы я пошел, то поступил бы как любой мужчина, а твоя сестра не способна любить любого мужчину. Синеситта не переносит в мужчинах то, что считается правильным и общепринятым. Мужчина, которого она любит, должен быть единственным в своем роде и непредсказуемым. Обрати внимание: она не хочет посредственного весельчака, карикатуриста с площади Тертр или члена Средиземноморского клуба. Ее не нужно развлекать, потому что она не скучает. Она тревожится. А избавить ее от тревоги может только мужчина, находящийся, как ей кажется, в чистом, нетронутом, первобытном состоянии, не имеющий никаких привычек, привязанностей, обычаев, кроме гротескных, потешающих всех других, как наши пантагрюэлевские обеды в ресторанах, о которых она должна была тебе рассказывать. Как только ты совершаешь что-либо банальное: запрещаешь ей идти пешком в лавку и идешь вместо нее, — ее тревога возвращается как буря, циклон. Мы только что, приятель, избежали морского прилива. Если бы твоя сестра не была совершенно особым существом с потребностями, отличными от потребностей других женщин, разве она бы осталась со мной, узнав, что 1 апреля 1974 года я убил свою жену и двух дочерей. И это не шутка, можешь мне поверить. У меня был приступ безумия. Во всяком случае, так сказал психиатр. Но когда я убил психиатра, никто не сказал, что это безумие, и меня приговорили к двадцати годам заключения. Однако, можно ли совершить более безумный поступок, чем убить своего психиатра?
24
Вначале она решила, что будет рада вернуться к нормальной жизни. Полтора года она прожила в ритме Стюарта, то есть безо всякого ритма, медленно плывя по течению. Дни сменялись с необыкновенной быстротой, а она за все это время не сделала ничего, только растранжирила свое наследство. В праздности ей открылась тайная сладость, действовавшая на нее как наркотик. И она даже думала, сможет ли когда-нибудь от нее отвыкнуть. Каждое утро она впрыскивала себе дозу лености, приводящую ее в блаженное и томное состояние на весь день, который она проводила в объятиях Стюарта или Алена или наедине со своими мыслями. Легкий стыд охватывал ее лишь к концу дня, когда усталость от завершенной работы освобождает тех, кто трудился, от экзистенциальных тревог, от которых праздные люди не в состоянии избавиться. Они загоняют их внутрь себя, не знают, что с ними делать, и в результате устраивают драмы. В течение многих месяцев в них накапливается, как электрический заряд в аккумуляторе, ежедневное вечернее недомогание.
Синеситта провела пятнадцать минут в кабинете шефа. Она скучала по своему ребенку. Она скучала по Стюарту. Она скучала по мне. И даже скучала по Бобу, хотя он никогда не занимал большого места в ее жизни. Она встала, пробормотала какое-то глупое извинение и побежала на станцию Обер, где села в экспресс-метро. Возвратившись домой, она спокойно разделась в своей комнате, не сводя глаз со спящего Стюарта. Потом легла и прижалась к нему. Он был круглым и теплым. Она обожала его седые волосы и детский запах. Взяв его руку, она положила ее себе на бедро, зная, что пока беременна, ей не на что с ним надеяться.
Вопреки ее ожиданиям, он не сделал ни малейшего упрека по поводу ее поспешного бегства и потери возможности заработать. Он никогда не демонстрировал своего недовольства, когда все от него этого ждали. Он выбирал другой, собственный способ уколоть человека, и гораздо сильнее, чем тот предполагал. Синеситта, застигнутая врасплох неожиданным молчанием мужа, посчитала себя обязанной оправдаться и сказала шутливым тоном, который понравился ей еще меньше, чем Коллену:
— Когда у нас кончатся деньги, я пойду на панель.
— В твоем положении ты не найдешь много клиентов.
— А извращенцы?
— Послушай старого сутенера: на этой земле очень мало извращенцев.
— Тогда я займусь чем-нибудь другим.
— Ты ничем не займешься, потому что ничего не умеешь делать, как, впрочем, и я. Ладно, давай спать.
Сон занимал важное место в их любви. Если они что и предпочитали делать вместе, так это спать. Они готовились ко сну с такой же тщательностью, как другие готовятся к балу в посольстве США. Синеситта принимала ванну, чистила уши, мыла и сушила волосы. Она никогда не ложилась в постель с длинными или грязными ногтями. Что касается Коллена, то он был одержим пижамами, меняя их почти каждый вечер. Он больше беспокоился об одежде, в которой спал ночью, чем о той, в которой ходил днем. Моя сестра спала голой. Обычно они входили в комнату одновременно, церемониальным шагом, как входят в театр или в ризницу. Оказавшись рядом в кровати, они испытывали такое упоение, что сразу погружались в глубокий сон. Каждый был снотворным для другого, словно они купили друг друга в аптеке. Иногда Синеситта оставляла руку Стюарта в своей. Или же они прижимались друг к другу в так называемом положении «ложечки». Но большую часть времени они не прикасались друг к другу. Каждое утро моя сестра просыпалась розовощекой, с яркими губами и отдохнувшими глазами. Но час за часом, по мере того как Стюарт донимал ее своим плохим настроением, от ее великолепного вида не оставалось и следа. В течение дня он методично разрушал все то хорошее, что дал ей ночью. А может, он просто злился на то, что его разбудили?
В конце апреля Коллен рассказал мне, — от нечего делать, из-за садизма, презрения или скуки, или всех четырех причин вместе взятых, — как и почему он убил свою жену и детей, объяснив, что те два года, которые длился его брак, ему приходилось слишком сильно стискивать зубы. «Когда у мужа начинают болеть челюсти, — сказал он, — его супруге стоит начать беспокоится за свой брак или за собственную жизнь».
Каждое второе воскресенье Коллены ездили к мадам Пьерро, матери Ноэми. Это была бывшая телережиссер, уволенная с государственного телевидения после забастовки 1968 года и снова устроившаяся на работу на частное телевидение в 1970-м. Через два года, раньше положенного времени, она вышла на пенсию и уехала в Бутини-сюр-Оптон, ту же деревушку, где у Вуаэль была своя хижина. Мадам Пьерро владела там домом, который переписал на ее имя муж и который, говорила она, перейдет после ее смерти к Ноэми и Стюарту и их двум дочерям. Она занималась огородом и прямо на машинке сочиняла сказки для детей. Позднее она приобрела всемирную известность под псевдонимом Жоэль Ноблькёр (или — кур, Стюарт точно не помнил) за свою серию (двенадцать книг, изданных в «Ашетт» в 1973–1988 гг. В этот, последний год она попыталась отравиться газом) «Завиток и Хлястик», где рассказывалось о приключении таксы и панды, путешествующих по всему свету. Несколько книг были переведены за границей, а точнее, в социалистических странах: Польше и Чехословакии. Месье Пьерро — молчаливый мужчина, мастер на все руки, в прошлом высокий функционер — тоже находился на пенсии. Драма произошла в тот день, когда родители Ноэми показали ей и Коллену, которых сфотографировали несколько недель назад вместе с малышками, полученные снимки. Стюарт обнаружил, что с тех пор, как он расстался с холостяцкой жизнью и преступным миром, его подбородок почти удвоился. Кроме того, он потерял почти половину волос. Кстати, в течение двадцати лет, проведенных в тюрьме, он безуспешно пытался раздобыть в тюремной лавке средство от облысения. На снимке Ноэми стояла позади него с хмурым и властным взглядом. И этот взгляд его разъярил. Малышки с манящими улыбками и голыми коленками, сидевшие в траве и словно предлагавшие себя, показались ему расчетливыми и презренными танцовщицами, которые снимают клиентов в баре, а в будущем крепко вцепятся в папин кошелек. Он встал.
— Куда ты? — спросила Ноэми.
— Немного пройтись.
— Я пойду с тобой.
— Нет.
— Почему?
— Я хочу подумать.
Он ушел. Земля в то время стоила дешево, и Пьерро смогли купить большой сад, в глубине которого и укрылся Коллен, не без труда стараясь унять дрожь, вызванную злостью и отвращением. У него случались приступы ненависти, как у других — приступы печени, астмы или почечные колики. Ноэми совершила две ошибки: нашла его, чтобы потребовать объяснений; и стала угрожать, получив несколько пощечин вместо объяснений. Стюарту не давал покоя его удрученный, потерянный и угрюмый вид на фотографиях, снятых Пьерро. И в этом он винил Ноэми — как позднее будет винить мою сестру в своих страхах и других психологических и даже психомоторных расстройствах. Правда, нам, Брабанам, хватило ума не фотографировать его. Единственный снимок, который у нас сохранился и который постигла очень странная участь — это тот, что сделал шофер в Брикстоне, и где Коллен запечатлен за столом в кафе в компании Кармен Эрлебом. Стюарту ни за что на свете нельзя было показывать, каким он был на самом деле. Он, как и многие убийцы, приходил в ужас, видя свое изображение. Кстати, я никогда бы не стала писать эту автобиографию, если бы Стюарт был еще жив. Я слишком боялась его мести.
— Я все расскажу папе, — пригрозила Ноэми.
— Ты поставишь его в затруднительное положение, так как я намного здоровее и он не сможет меня побить. Если же ты ничего ему не скажешь, он спасет свое достоинство.
— Я требую развода!
— За пощечину?
— Две пощечины!
— Никакого развода.
— Посмотрим.
— Как бы не так! Мало того, что ты изводишь меня вот уже два года, так теперь собираешься еще и уйти?
— Тогда уйди сам!
— Я уйду, но не сегодня.
— Когда же?
— Когда решу. Может, завтра.
— Завтра меня тоже прекрасно устроит.
— Я сказал: может быть.
Впервые за долгое время Коллен прочел страх в глазах женщины. Он почувствовал себя так, словно после двух лет, проведенных в пещере, наконец увидел солнечный луч, ослепивший его и одурманивший. Он понимал, что упорядоченная, размеренная и законопослушная жизнь, которую он вел после смерти отца, не только ему не подходила, но и разрушала. Ему хватило нескольких секунд, чтобы вновь обрести врожденную жестокость и почувствовать, как заиграла кровь в венах. Он возродился. Со дня своего бракосочетания он подсознательно ожидал, когда перед ним откроется запасная дверь; и вот она широко распахнулась, а за ней он увидел множество пакетиков с кокаином, бутылок с виски, американских кастетов, проституток в ботфортах и так далее. Он схватил свою супругу за шиворот и притащил назад к Пьерро, как притаскивают кота к месту, где он нагадил. Стюарт заявил родителям Ноэми, что они с женой возвращаются в Париж.
— Уже! — воскликнул месье Пьерро. — Вы даже не выпили чаю.
— И не сыграли в скрабл, — добавила мать Ноэми.
Партия в скрабл в Бутини-сюр-Оптон вошла в обычай еще со дня помолвки Стюарта и Ноэми. До этого Стюарт обычно играл с Морисом Перуччи, своим бывшим патроном, и его дочерью Одиль — тоже заядлыми «скраблистами».
— Сыграем в следующий раз, — бросил он, зная, что следующего раза не будет, но еще не зная почему.
В течение всего 1974 и большей части 1975 годов Стюарт пытался убедить судью, что, возвращаясь в Париж, не предполагал, что в тот же вечер убьет жену и двух дочерей. Он был уверен лишь в том, что его жизнь с ними закончилась, а значит, и их жизнь с ним — тоже. На окружной дороге Ноэми спросила, есть ли у него другая женщина. Он ответил, что нет, но если она предложит ему подходящую кандидатуру, он не откажется. Ноэми сказала, что он омерзителен. Он заявил, что намного более омерзителен, чем она себе представляет, и с таким огромным удовольствием, что чуть не потерял управление машиной, начал перечислять большинство преступлений, которые совершил до знакомства с ней: избиение лавочников и булочников на площади Клиши, эксплуатация трех девиц на улице Сен-Дени и на Венсенском бульваре (я так и не смогла точно узнать: две на Сен-Дени и одна на Венсенском бульваре или одна на Сен-Дени и две на Венсенском бульваре), преступление в Баньоле, грабежи и драки. Говоря, он все больше осознавал, — и она, конечно же, тоже, — что будет вынужден убить ее, чтобы она не выдала его полиции, как только он ее бросит. А он теперь собирался ее бросить. Кроме того, ему придется убить и малышек, иначе у них никогда не будет нормальной, счастливой жизни и до самой смерти они не избавятся от кошмаров. Такая перспектива ему не улыбалась, он хотел управлять процессом.
— Извини, — сказал он, — я пошутил.
К несчастью для него, для нее, а также для малышек, Ноэми не поверила, что это была шутка. В теплом и темном салоне их новой «BMW» — той же машине, которая спустя двадцать лет так понравилась моей сестре во время ее первой встречи с Колленом — она упрямо покачала головой.
— Ты мне не веришь? — спросил Стюарт с излишней мягкостью.
— Нет.
— Надеюсь, ты не думаешь, что я действительно совершил все эти ужасные преступления?
Она повернулась к нему своей маленькой, аккуратной грудью и жестким голосом произнесла:
— Наоборот, думаю.
— Ты ошибаешься, Ноэми.
— Я изменю мнение, когда полиция проведет расследование.
— Ты же не станешь беспокоить полицию из-за такой идиотской истории?
— Напротив, стану.
— Ты выставишь себя на посмешище.
— Посмешище не убивает, а убийца — да.
Вот так Ноэми Коллен, урожденная Пьерро, предрешила свою ужасную судьбу, а также не менее ужасную судьбу своих дочерей. Стюарт знал, что если полиция старательно пороется в его прошлом, то откопает достаточно фактов, чтобы на несколько лет упечь его в тюрьму. Ему не оставалось ничего другого, — объяснил он мне в то время, когда бледно-розовое апрельское небо, прорезанное зловещей крепостью, какой казался издали городок Карл-Маркс, раскинулось над нашей цветущей вишней, — как отвезти Ноэми и девочек домой и обратиться в бегство, подготовившись к нему с такой же тщательностью, как он делал это несколько раз, когда был гангстером: избавиться от «BMW», украсть машину, забрать все наличные деньги, достать фальшивые документы, обосноваться в большом городе (Лиль, Лион, Марсель) и залечь на дно. Убийцы часто ложатся на дно. Но вместо этого — «Старость? Жажда крови? Замешательство?» — громко спросил он сам себя, облокотившись на подоконник в кухне и созерцая наше мирное предместье, окутываемое предвечерней голубоватой дымкой — он поднялся с Ноэми, Викторией и Джулией в квартиру. Налив себе виски, сел перед окном в гостиной, глядя на Париж. Пойдя за вторым бокалом виски, он услышал, как его жена в спальне говорит по телефону. Он приложил ухо к двери и, поняв, что Ноэми разговаривает с полицейским, вихрем ворвался в комнату. Его жена сразу бросила трубку.
— Слишком поздно, — выпалила она.
— А вот и нет.
Он плеснул ей в лицо виски. Этот бесполезный жест доставил ему удовольствие. Ноэми вытерла глаза и мелодичным, удовлетворенным тоном, который вывел Стюарта из себя, заявила:
— Я дала им адрес. Они будут здесь через пять минут.
— Это много — пять минут.
Рассказывая эту историю, я не намерена льстить вкусу публики, описывая низменные и патологические поступки, которые совершают на протяжении жизни люди. Моя, очень скромная, цель — поведать будущим поколениям историю Брабанов, поэтому я не буду останавливаться ни на том, как Ноэми Коллен вылетела в окно с девятого этажа, ни на тридцати восьми ударах молотком, если верить отчету о вскрытии доктора Лефевра (от 5 апреля 1974 г.), которые получили дочери Коллена: двенадцать — Виктория, двадцать шесть — Джулия, без сомнения, более выносливая. Вот что мой шурин со смущенным видом, вызывающим у меня отвращение, назвал «приступом безумия». Когда полиция ворвалась в квартиру, он потягивал третий бокал виски, а его руки и плечи были заляпаны кровью малышек. Не сопротивляясь, он дал увезти себя в комиссариат.
— «Приступ безумия» прошел, — сказал он мне, — но я подумал, что стоит продолжить притворство, чтобы ускользнуть от правосудия. Поэтому через полтора года меня под усиленной охраной отправили в исправительный психиатрический госпиталь в Болье-сюр-Мер.
25
Вуаэль пригласила Ивана на праздник, который устраивала в Бутини-сюр-Оптон в честь своего тридцатиоднолетия и во время которого надеялась найти мужа. Естественно, что генеральный директор «Палас Отель Интернасьональ Инк.» предложил мне сопровождать его. «Там будут, — сказал он тоном гурмана, насытившегося сексом, — все наши друзья, и они увидят, — добавил он со сладострастным удовлетворением, — какая мы прекрасная пара». Не желая быть представленной друзьям Ивана только в качестве его сексуального партнера, я предложила взять с нами сестру и ее мужа. Ивану хватило одного телефонного звонка, чтобы уладить дело. Он всегда был так слаб со мной, что я забывала, насколько он могуществен.
Мы оставили Боба и Октава Глозерам, которые были безумно счастливы сделать хоть что-то полезное ради любви своего сына с одним (или одной, как они говорили с лукавством и надеждой) из Брабанов; и мы отправились на двух машинах, поскольку заднее сиденье «Мерседеса-купе» не подходило для беременных женщин.
— Именно поэтому я купил еще одну машину, — шепнул мне Глозер, когда Синеситта осторожно садилась в «Пежо», за рулем которого с надменным видом восседал Коллен.
Когда мы приехали в Бутини, часть гостей — среди которых я узнала Оливье Перрона, одетого так же, как и пять месяцев назад в «Батаклане» — пила аперитив, а остальные готовили с Вуаэль на кухне огромную миску салата с анчоусами, предназначавшегося как в качестве закуски, так и второго блюда.
— Кажется, вы знакомы, — сказал Иван Глозер, представляя меня как свой трофей Перрону.
— Я ввел месье в маленький мир «Батаклана», — ответил журналист.
Он добавил, что «ввести», конечно, слишком ярко сказано, чем очень рассмешил Глозера. Эти педики начинали действовать мне на нервы. Стюарт сел в саду и налил себе приличную дозу «Рикара». Когда мы с ним возвращались с острова Лесбос в начале следующего октября, он признался, что для него было тяжким ударом через столько лег снова очутиться в Бутини-сюр-Оптон, где он провел свой последний день на воле, а его жена и девочки провели очень короткий последний день жизни. Синеситта, сидящая рядом с ним, бледная, как женщина на восьмом месяце, откинув голову назад, смотрела на верхушки деревьев. По ее лицу нельзя было догадаться, находится ли она на вершине счастья или несчастья.
Это было первое беззаботное солнечное воскресенье в конце мая, изящно и непринужденно сообщающее о наступлении лета: первых днях, когда снимешь туфли и льняные носки, чтобы походить босиком по траве; первых обедах на террасах кафе; первых лодочных прогулках по озеру в Версальском парке; первых сиестах на берегу частного бассейна. Тайное, едва уловимое веселье витало в воздухе, как запах теплых булочек-круасанов. В такие моменты невозможно представить себе, что человек, которого мы любим, может нас не любить. И когда в глубине коридора на первом этаже я попросила Вуаэль поцеловать меня, что она и сделала, я ни капельки не удивилась. Наш поцелуй оборвался только потому, что из кухни донеслись голоса Кармен Эрлебом и Марины Кузневич, громко жаловавшихся на Вуаэль, бросившую их в самый разгар работы. Исландка улыбнулась, взяла меня за руку и повела к двум женщинам. Сколько раз Стюарт рассказывал мне, Синеситте, Ивану (который хотел, чтобы его имя отныне произносили на русский манер, отчетливо выговаривая последнюю букву) о своей бурной, хотя и целомудренной ночи с актрисой. Она готовила соус для салата в оловянном сосуде, который Вуаэль, без сомнения, приобрела в Исландии во время ежегодного посещения «родины-матери» («горькой родины», как написал Бенито в предпоследней главе своей книги «Ад мне лжет»). Вуаэль с любовью наблюдала за звездой, выполнявшей столь скромную работенку с максимальной сосредоточенностью, словно все камеры Фрица Ланга, Альфреда Хичкока и Ингмара Бергмана были наведены на нее.
— Лук-скороду или розовый? — спросила Кармен у исландки, не удостоив меня даже взглядом.
— Лук-скороду, — ответила Вуаэль.
Увидев меня под руку с нашей хозяйкой, Марина Кузневич, решившая, видимо, вновь покорить Ивана и для этого одевшаяся в мужском стиле: джинсы, майка, черные сандалии, — прыснула со смеху, но без злости, и вышла из кухни под предлогом позвонить в Париж. Позднее я узнала, что она пошла плакать в одну из комнат на третьем этаже.
— Не беспокойся, — сказала Вуаэль. — Эта история длится уже пять месяцев. Пора бы ей привыкнуть. Кроме того, я предупредила, что ты придешь. Если она и должна на кого-то злиться, то лишь на саму себя.
— Что она и делает, — заметила я.
— Кстати, — продолжила исландка, — почему ты не признался мне в «Батаклане», что ты — гей?
— Я — не гей.
— Тем не менее ты спишь с Иваном, а не со мной, с Мариной или Кармен.
— Польщена, — бросила актриса.
— Значит ты хочешь, — сказала исландка, — переспать с одной из нас. А Иван согласен?
— Это не его дело.
— Однако он — твой приятель.
— Он не может помешать тебе спать с одной из нас, — заметила Кармен.
— Я уверена, что Марина согласится на все, чтобы досадить Ивану, — сказала Вуаэль.
— Она не в моем вкусе.
— Оказывается, у него есть вкус, — с иронией произнесла Кармен и со слишком наигранной горячностью, которой не потребовал бы от нее самый грубый телережиссер, снимающий самый длинный сериал, предназначенный для лучшего эфирного времени, воскликнула:
— Он хочет одну из нас!
— Я хочу Вуаэль, — отрезала я.
Кармен рухнула на табуретку, спрятала свое знаменитое лицо в руках и сделала вид, что разрыдалась. Вуаэль стала приплясывать вокруг нее, напевая что-то вроде победного гимна древнего индейского племени.
Потом она спросила:
— Но почему меня?
Я, конечно же, помнила о ее сбережениях в три миллиона франков, но ни один мужчина, особенно девственник, еще не возбуждался из-за денег; поэтому я выразила свое восхищение ее профилем венецианской принцессы и телом греческой богини. Она, похоже, расчувствовалась от моих комплиментов, но все-таки заметила, что я для нее слишком молод. Обычно она встречалась с мужчинами лет пятидесяти, считая их более неуступчивыми и одновременно более покладистыми по характеру по сравнению с ее ровесниками. Внезапно связаться с двадцатилетним парнем казалось ей рискованным, особенно если тот иногда надевал мини-юбку и выглядел еще моложе. Однако я почувствовала, что она не откажется, желая узнать, как все произойдет между нами. И потом, начало лета всегда было благоприятным временем для ухаживаний, обольщения и романтических отношений. Я надеялась, что она в меня влюбится. Если Вуаэль встречалась со стариками, то лишь потому, что не влюбилась в молодого, но это не означало, что молодые ее не привлекают. Некоторые люди отказываются от тех, кого любят, потому что боятся слишком сильно страдать, когда их потеряют. Я же нашла хороший выход: жениться на Вуаэль и покинуть дом Брабанов, где атмосфера накалялась с каждым днем из-за отсутствия денег и плохого настроения Коллена, лишенного ресторанов уже несколько недель. Не говоря о Синеситте, которая становилась все медлительнее, еле передвигалась, то есть мешала нормально заниматься домом.
Желтоватое, оплывшее, прыщавое лицо Стюарта появилось в проеме двери. Мой шурин походил на один из неприличных и несуразных набросков Пикассо, которые тот делал в последние годы своей жизни. Цвет его глаз еще никогда не был настолько неопределимым. Раздраженным и злым тоном он задал вопрос, который в последующие пять лет я буду постоянно слышать в нашем доме:
— Когда будем есть?
— Когда будет готово, — ответила Вуаэль.
И вдруг Стюарт узнал Кармен Эрлебом. До сих пор он не знал, что она принадлежала к маленькой группе друзей, в которой Иван Глозер, какой бы «сумасшедшей» не казался моему шурину, был финансовым центром и интеллектуальным перекрестком. Стюарт спросил у Кармен, как она поживала «после Лондона».
— Мы знакомы? — удивилась актриса.
— Мы вместе провели ночь.
— В Лондоне?
— Я встретил вас у моего брата Алена.
— У вас есть брат, которого зовут Ален?
— Да, Ален Коллен, банкир. После ужина у него мы с вами полетели в Париж и возвратились ночью в Лондон через туннель под Ла-Маншем.
— Вы меня путаете с другой женщиной. Если бы я летала с вами на самолете и ездила под Ла-Маншем, я бы вас помнила. У меня отвратительная память, — что очень мешало, когда я работала в «Комеди Франсез», — но я еще способна запомнить, с кем летаю на самолете и езжу в туннеле под Ла-Маншем.
— Вы были там один раз со мной.
— Неправда.
— У меня осталась фотография.
— Покажите ее.
— Она — дома. Как только я ее найду, то позвоню вам и принесу. Может, мне даже удастся найти такси.
— Какое такси?
— Такси, в котором мы пересекли туннель под Ла-Маншем.
— Мы возвратились в Лондон в такси?
Беря в свидетели Вуаэль и насыпая слитком много перца в салат, Эрлебом в ужасе произнесла:
— Я ничего не понимаю, что говорит этот тип. Или он сумасшедший или это я сошла с ума.
Я бы, конечно, проголосовала за первое предположение, если бы не видела поляроидный снимок, сделанный в Брикстоне шофером-католиком, на котором Кармен Эрлебом не без нежности склонилась над Стюартом Колленом, уплетающим огромную тарелку яичницы с беконом. Стюарт показал мне его через два или три дня после возвращения в наш дом. Это был единственный сувенир, который он привез из Англии, не считая отрезанной головы англичанки, которую у него конфисковали на таможне.
Актриса притворилась расстроенной и ошеломленной, выглядя точно так же, как моя сестра после разговора наедине с Колленом. То есть так, словно ее достали из могилы. Утверждение Коллена о том, что она провела с ним целую ночь, и тот факт, что она ничего об этом не помнила, испортили ей праздник. Я недоумевала, как она могла забыть Коллена до такой степени. В то время мне казалось, что любой человек, проведший с ним пять минут, запомнит это до конца своих дней, и, кстати, Коллен думал то же самое. Поэтому приступ амнезии Кармен Эрлебом его не убедил. Он был уверен, что актриса просто отказывалась признать перед свидетелями, что спала, путешествовала и ела в его компании целых восемь часов. Однако он не понимал причины этого отказа, поскольку она была одной из тех редких женщин, которым он не причинил никакого зла. Может, ему следовало оплатить такси?
Как описать, что произошло между Стюартом Колленом и Мариной Кузневич, когда они впервые столкнулись друг с другом? С тех пор, как я приступила — не без колебаний, поскольку я художник, а не писатель — к этому рассказу, я боюсь момента, когда, учитывая мои скромные литературные способности, а также глубокий возраст (13 декабря мне исполнится восемьдесят лет), стану описывать, как разразились пожаром вспыхнувшие между ними страсть, понимание и стремление поразвлечься. Моя сестра оставалась прикованной к шезлонгу. Вуаэль в полной растерянности не могла проглотить ни капли салата, кстати, переперченного. Кармен Эрлебом пребывала в изумлении от того, что человек, утверждавший, что провел с ней целую ночь, за несколько секунд забыл о ее существовании и теперь развлекался с манекенщицей, отличавшейся, по ее мнению, сомнительными красотой и нравственностью. Перрон и Глозер, сидя рядом и болтая о пустяках, как две старые дамы, не сразу поняли, что произошло любовное землетрясение, усиленное семейной революцией. Они только тогда повернули к Марине и Стюарту свои потрепанные порочной жизнью лица, когда те встали и зашагали в еще не известном направлении по улице Бутини-сюр-Оптоп, — где они встретили по воле случая месье Пьерро, отца покойной Ноэми, — да так и не смогли оторвать от них глаз, восхищенные такой любовной идиллией.
Я не могу передать, и не без причины, рассказ Марины Кузневич о начале ее связи с Колленом. Зато последний, как обычно, описал мне ее во всех подробностях. Преимущество бедности в том, что она заставляет говорить — тогда как деньги заставляют молчать. Беднякам нечего терять, и они не боятся исповедоваться. Бедняка нельзя заставить петь, и он поет о себе сам. Когда Стюарт увидел, как Марина вышла из дома и направилась в сад к столу, демонстрируя великолепное мужское начало, смягченное, словно помимо ее воли, чисто женскими нежностью и грацией, то испытал глубокий внутренний шок. Стюарт понял, что видит единственное существо во всем царстве Бога, — или, скорее, Дьявола, которому он ревностно прослужил больше тридцати лет и которого теперь считал себе обязанным, — предназначенное для него. Марина была смесью мужчины и женщины, меда и перца, Неба и Земли, высоких мыслей и низменных инстинктов, — человеком, с которым он мог бы прекрасно общаться, то есть наслаждаться. Он, чье существование до сих пор протекало исключительно в неврастеническом обжорстве, хладнокровном лапаньи женщин и разнузданной жестокости, мог испытать наслаждение. Я сильно сомневаюсь, что увидев его таким, каким он был в то время, Марина почувствовала то же самое. Однако она села рядом с Колленом, прогнав Вуаэль со стула. Думаю, она следовала почти физической потребности причинить зло Ивану, для чего нужно было причинить зло мне, причинив зло моей сестре, то есть завладеть Колленом. Вначале Синеситта не обратила внимания на этот маневр. Она привыкла, что Коллен всегда глазеет на других девиц, — даже в городе это было его единственным занятием, никак не влиявшим на их семейные отношения, — и хорошо знала, что за столом он интересуется только своей тарелкой. С другой стороны, она ни на миг не могла представить, что человек, находящийся в состоянии физического разрушения, — а я подтверждаю, что он в то время был воплощением уродства и при определенном освещении мог вызвать тошноту, а после сытного обеда с большим количеством вина — даже рвоту, — способен соблазнить хоть одну самую невзрачную, самую старую или самую глупую женщину на земле. Короче, он был отвратителен; и то, как Марина, словно молодая кошка, увивающаяся вокруг большой крысы, крутилась возле него, развлекало мою сестру. Она в самом страшном кошмаре не могла вообразить, что очень скоро молодая кошка уйдет под ручку с большой крысой, чтобы никогда не вернуться.
— Салат слишком наперчен, — заметил Стюарт.
— Это вы виноваты, — заявила Эрлебом, положив на стол вилку и закуривая «Мальборо-лайт». — Вы меня потрясли своей историей о Лондоне и поляроидном снимке.
— Несъедобно! — воскликнул Иван, отодвигая тарелку.
— Отвратительно, — согласился Оливье Перрон.
— Больше ничего нет, — развела руками Вуаэль.
— Когда мы были под коммунистами, — сказала Марина, — то радовались салату с анчоусами, даже если он был слишком наперчен.
— Разница в том, — возразил Коллен, — что во Франции мы не под коммунистами, а над ними.
Все нервно и натянуто засмеялись, но этот смех был, скорее, вызван разочарованием салатом, а не остротой моего шурина. Синеситта ничего не говорила. Она ела то, что лежало на тарелке, так как не знала, что будет есть завтра. Не из-за того ли, что все испытывали голод, в последующие часы мы все (Стюарт и Марина, Иван и Оливье, Вуаэль и я) занялись любовью? Только у моей сестры и Кармен не было в тот день сексуальных отношений, и мой читатель скоро поймет почему. Когда мы опустошили две бутылки деревенского божоле, — иностранные манекенщицы, особенно из Северной и Центральной Европы, покупая вино, выбирают деревенское божоле, несомненно, из-за слова «деревенский», вызывающего у них доверие, — и съели три свежих багета, Вуаэль предложила сварить нам кофе, которое мы пили бы, заедая шоколадом. Черным, естественно. Манекенщицы, независимо от национальности, не держат в доме молочный шоколад. Вуаэль вспомнила, что у нее где-то на кухне или в комнате завалялась плитка шоколада. Она извинилась, объясняя, что редко приезжает в свою хижину и сама чувствует, что комфорт и запасы продуктов оставляют желать лучшего. Ей жаль, что она не смогла на должном уровне принять таких изысканных и известных людей, как ее друзья, но когда, через пять или шесть лет, она выйдет на пенсию, то наймет горничную и кухарку, и тогда каждый будет окружен комфортом и получит свои калории. Синеситта, одна прикончив половину салата, потом мы станем задаваться вопросом, а не весь ли съеденный перец и уход Марины с Колленом спровоцировали тем вечером у нее первые схватки, — выпила полтора литра минеральной воды. Увидев, что запас минералки иссяк, она побежала в кухню, чтобы выпить воды из-под крана, что явилось самым большим проявлением ее активности до трех часов дня.
Марина теперь почти лежала на Стюарте, ухватившись рукой за его колено. Возвратившись после быстрого набега на кухню, Синеситта, еще вытиравшая рот тыльной стороной ладони, застала их первый поцелуй.
— Можете не стесняться! — закричала она.
— А почему мы должны стесняться? — спросил Стюарт.
— Потому что я здесь.
— Нет, — возразил он, — ты — не здесь. Здесь никого нет. Больше никого.
Он нагнулся к Марине и снова поцеловал ее в губы. Иван поморщился, полагая, что целовать молодую женщину в присутствии супруги на восьмом месяце не отвечает ни хорошему тону, ни хорошему воспитанию. Правда, очень скоро у него появилось другое занятие: Оливье Перрон искусно и сосредоточенно массировал ему через брюки член. Я подумала, возбудится ли он. Со мной он никогда не возбуждался — дополнительное подтверждение, по его мнению, что он не гомосексуалист. Никуда негодное объяснение, поскольку у меня не было никакой уверенности, что я парень. Вуаэль допила кофе и взяла меня за руку. Она сказала, что гомосексуалисты отличаются от нормальных людей, то есть гетеросексуалов, тем, что слишком любят испытывать оргазм, и поэтому не стоит ждать от них верности. Они способны хранить ее только по отношению к мертвым.
— Ты возбуждаешься? — не удержавшись, спросила я Ивана.
— Да!
— Старая калоша!
— Я возбуждаюсь, потому что не люблю Оливье, — произнес он жалобным тоном школьника, застигнутого с поличным в тот момент, когда он доставал конфеты из портфеля своего соседа. — Я возбуждаюсь, как возбудился бы с любой женщиной, которую не люблю.
— Пойдем отсюда, — сказала Вуаэль. — Вечная проблема с уик-эндами в деревне: люди изменяют друг другу, особенно когда плохо поели. Заметь, когда они хорошо поели, происходит то же самое.
Мы встали почти одновременно со Стюартом и Мариной. Моя сестра, схватившись за живот, спросила у них:
— Куда это вы?
— Далеко, — сказал Стюарт.
— Бросив беременную жену с младенцем? Знаешь, во что тебе это обойдется в матримониальной палате?
— Тебе прекрасно известно, моя дорогая, что я неплатежеспособен.
Я была уверена, что после этой фразы такая девушка, как Марина, не раздумывая бросит моего шурина, но она еще сильнее прижалась к нему. «Женщины из Центральной Европы, купающиеся в деньгах, чувствуют себя грязными, и многие из них верят, что большая любовь с бедняком сможет их очистить» («Опасные мифы», с. 2042 и последняя).
— Ты не можешь бросить меня у всех на глазах!
— Почему? У нас будет больше свидетелей при расставании, чем было во время свадьбы!
— Я никогда не разведусь!
— Кто говорит о разводе? Я не собираюсь жениться на Марине, потому что люблю ее.
— Как ты можешь говорить о любви к ней, если совсем ее не знаешь?
— Ты же влюбилась в меня, хотя тоже не знала!
— Где бы ты ни спрятался с этой стервой, — крикнула моя сестра с жестокостью, на которую я считала ее не способной, — я тебя найду!
— Вначале роди!
— Я рожу в самолете, на котором полечу к тебе, и разорву пуповину зубами.
— У стюардесс есть стерильные ножницы, — заметил Иван.
— Это зависит от компаний, — сказал Оливье.
Стюарт и Марина быстрым шагом направились к воротам, желая спрятать свою зарождавшуюся любовь от ярости моей сестры.
Вуаэль предложила мне прогуляться по окрестностям, и во время этой прогулки я, наконец, потеряла девственность. Прочитав эту книгу, обо мне можно сказать все что угодно, только не то, что я рано развилась сексуально. Все произошло спокойно, нежно и изысканно. Спать с женщиной более естественно даже для женщины. Когда мы вернулись в дом, Кармен без чьей-либо помощи только что приняла роды у Синеситты. Марсо оказался великолепным недоношенным ребенком, весом один килограмм сто девятнадцать граммов. В ожидании скорой помощи женщины помыли его теплой водой и завернули в салфетки фирмы «Гермес». Вся кровать была в крови и плаценте. Платье актрисы походило на одно из полотен Джексона Поллока: «Тигр» (1949) или «Алхимик» (1947). Эрлебом сказала Вуаэль:
— Последний раз провожу уик-энд у тебя. Мало того, что я ничего не ела, так еще испачкала свое платье, принимая роды у твоей подружки.
История о том, как Кармен Эрлебом принимала роды у Синеситты Коллен, обошла весь мир. Хотя я сама не присутствовала при этой сцене, мне хотелось бы восстановить подлинность некоторых фактов и покончить с различными легендами, живущими скоро уже полвека. Нет, актриса не воспользовалась каминными щипцами Вуаэль вместо обычных. У Марсо была не сморщенная, а маленькая, хорошенькая головка, вышедшая без труда из лона Синеситты. Нет, Кармен Эрлебом не запрещала чистить свое платье в память о единственных родах, которые она приняла. Это было платье от Версаче, а не от Кляйна, как писала несколько десятилетий подряд англо-саксонская пресса и как три или четыре раза солгала актриса — один раз в тележурнале Робера Рамо. Нет, моя сестра не предложила сто франков актрисе по той простой причине, что у нее такой суммы не было ни с собой, ни на счету в банке. Да, когда моя сестра закричала: «Готово! Режьте!», — приказ, относящийся, естественно, к пуповине, — Эрлебом по профессиональной привычке, над которой много смеялась в последующие годы, застыла на несколько секунд и даже хотела выйти из комнаты, думая, что она на площадке, пока до нее не дошло, что это не съемки: и тогда она действительно отрезала ножницами, простерилизованными на газе, пуповину Марсо. Именно этот эпизод вызвал желание у Николаса Кинга пригласить Кармен на роль медсестры Лары в музыкальный римейк «Доктора Живаго», где сам Кинг исполнял главную мужскую роль. Да, крики Синеситты во время родов отбили желание у актрисы иметь детей, что привело к ее разрыву с издателем Эрве Мишалоном, который через полтора года женился на одной из своих практиканток, родившей впоследствии ему трех крепких малышей: Жоэля, Жана-Кристиана и Дориана.
26
Лесбос — гористый, покрытый пышной зеленью остров, где растет очень много колокольчиков. Своими широкими асфальтированными дорогами он обязан присутствию воинской части. По дороге из Митилини в Калини Марина собрала букетик для Стюарта. Они пообедали в Эрессосе, на самом чистом, как говорят, пляже в Греции, хотя Коллен не разделил такого мнения. Он совсем не интересовался содержимым своей тарелки и пил одну минеральную воду. Марина взяла деревенский салат, две порции кальмаров, жареную картошку и три пива «Статен», После обеда они пошли в конец пляжа и занялись любовью. Затем Стюарт неуклюже перевернулся на спину и вперился взглядом в небо. Он вынул из заднего кармана брюк букет колокольчиков и, улыбаясь, стал их нюхать.
— Я снова проголодалась, — сказала Марина.
— А я — нет.
С тех пор, как они покинули Бутини, где так и не пообедали, о чем Марине нравилось вспоминать, их отношения строились в некотором роде на отсутствии еды, что вызывало сильное сожаление у польки, впервые в жизни переставшей придерживаться диеты. Стюарт, проживая каждую минуту в каком-то экстазе, который его кормил, больше не испытывал потребности в пище, и Марина с удивлением наблюдала, как он проводит целые дни без еды, словно робот или машина. Стюарт грыз мгновения и пил часы. Ему казалось, что он еще никогда так правильно не питался. Он вставал с пустым желудком и ложился спать с еще более пустым. Боль от голода только напоминала ему, о его счастье. Когда он почти терял сознание, то выпивал в баре большой стакан холодного молока. «Это была, — сказал он нам в самолете, совершавшем регулярные рейсы между Митилини и Афинами, — встреча будущей толстушки и нового худого». В течение многих лет Марина ограничивала себя абсолютно во всем, а Стюарт ни на что не обращал внимания. Одна жила йогуртами и сырой водой, другой — свининой с картошкой и тушеной капустой. Она была печальной красавицей, он — веселым уродом. Четыре с половиной месяца, которые они провели вместе, оказались единственным моментом в их жизни, когда оба нашли равновесие между анорексией и булимией. Если они решили по обоюдному согласию и без малейшей предварительной полемики внезапно покончить с жизнью, то лишь потому, что чувствовали, насколько хрупким было это равновесие. Никто из них не хотел после блаженства, вызываемого в человеке пищевой гармонией, согласием между внешним и внутренним миром и чувством, что в его жизни всего хватает и нет ничего лишнего, возвращаться к прежней невоздержанности — или сдержанности.
Они приехали в Моливос в конце дня, выбрав в отеле «Афродита» комнату с видом на укрепления. Никто из них не подумал, что, находясь на северной стороне, она не успеет прогреться за день солнцем, и ночью в ней будет холодно. Был еще только май, и хотя Стюарт лег в кровать к Марине, они всю ночь дрожали под тонким одеялом. Утром они посмотрели другую комнату, но вид из окна оказался не таким живописным, и в результате они остались в прежней, прозвав ее «холодной комнатой». Затем обследовали сад вокруг отеля, обнаружили бассейн со спокойной синей водой и уже собирались окунуться, когда Марина, сунув в нее ногу, сразу же выдернула ее.
— Вода ледяная, — сообщила она.
Они терпеливо ждали, — Стюарт по-прежнему не притрагиваясь к пище, а Марина поглощая бесчисленное количество греческих блюд, — когда комната и бассейн прогреются. Это заняло где-то неделю, в течение которой они исследовали Мифимну и особенно Петру — соседний курорт, где каждый вечер из арендованных квартир и отелей выходили на прогулку пары задумчивых и молчаливых женщин среднего возраста. Они устраивались в кафе на берегу и медленно ели не очень дорогие блюда. «У лесбиянок нет денег, так как у них нет мужчин» («Опасные мифы», с. 1202). Среди них встречались скандинавки (датчанки, голландки, шведки, финляндки), более молодые и более шумные, которые заказывали рыбу (очень дорогое блюдо во всех греческих портах), заразительно смеялись и целовались на публике. Их силуэты, как китайские тени, четко вырисовывались на зеркальной поверхности воды.
Стюарт ни разу не позвонил во Францию и не справился о жене и ребенке. Это мы с Вуаэль, прибыв на Лесбос, рассказали ему, что Синеситта родила Марсо в тот же вечер, когда он ее бросил. Марина в первые дни еще звонила в Париж Вуаэль, и та сообщила, что я бросила Ивана. То, насколько безразлично Марина отнеслась к этой новости, показывает, какое значение приобрел для нее Стюарт. Кроме Вуаэль, она позвонила в агентство, где ей задали такую головомойку, что она больше с ними не связывалась. Еще она позвонила в Краков матери и объяснила ей, что встретила свою любовь. Та ответила, что встретить свою любовь — самое худшее, что может случиться в жизни, потому что ты ее или теряешь и не оправляешься от потери, или же сохраняешь, и она тебя пожирает. По мнению матери Марины, единственный способ дожить до сорока — это не встречать своей любви. Марина в слезах повесила трубку. Стюарт не пытался ее утешать. Он сказал, что мадам Кузневич права, что любовь — это ужас, проклятие, что у человека всегда есть выбор: умереть в любви или без нее, и что их судьба — его и Марины — умереть в ней; в чем он ошибся, поскольку такая судьба была уготована ей, а не ему.
Постепенно они стали чувствовать себя лучше. По мере того как в комнате становилось теплее, отель «Афродита» заполнялся туристами, вода в бассейне прогревалась до двадцати градусов, Стюарт худел, а Марина толстела. В конце месяца они наконец почувствовали себя в своей тарелке. Они проводили вечера танцуя, ночи занимаясь любовью, большую часть дня — снова занимаясь любовью. Они возвратили машину, взятую напрокат, и отныне передвигались на мопедах. Светловолосые, загорелые, они походили на своих синеньких лошадках с моторами на двух рыцарей Тевтонского ордена, чудом спасшихся от Александра Невского и жестоких новгородских бояр, проехавших всю Русь, Беларусь, Украину, Крым, избороздивших Черное и Мраморное моря, потерпевших кораблекрушение, но оставшихся в живых и решивших до конца своих дней развлекаться на Лесбосе.
Когда встречаются два человека, предназначенных друг для друга, они вначале нуждаются во сне, поскольку неудовлетворенность, как шумная вечеринка в общей квартире, вынуждала их до сих пор не смыкать глаз. Перед приземлением нашего самолета в Афинах Стюарт признался мне, что спать с Мариной было не то же самое, что с моей сестрой. Синеситта представлялась ему в его снах камнем на дне моря, куда он спускался ради супружеского долга. С манекенщицей он чувствовал себя дельфином, танцующим на морской поверхности. С Синеситтой он ложился в постель, испытывая облегчение, а с Мариной — радость. Когда спишь в постели с тем, с кем не занимаешься любовью, то ощущаешь тайную горечь; зато прижаться к кому-то, с кем без конца занимаешься любовью, так же приятно и просто, как развернуть утреннюю газету или намазать ломтик хлеба джемом.
Кроме того, Стюарт очень любил смотреть, как Марина читает. Синеситта, слишком поглощенная своими заботами, перестала открывать книги, присылаемые ей «Франс-Луазир». Они скапливались в нераспечатанных конвертах в нашей кухне между малайским холодильником (в форме овала, с дверью из тикового дерева и неоновой надписью «Кока-Кола») и греческой вешалкой из приморской сосны. Когда дети и кредиторы оставляли мою сестру на секунду в покое, она садилась на стул и ничего не делала, говоря, что размышляет. Если ее спрашивали, о чем же она размышляет, она вначале молчала, показывая, что ей задали нескромный вопрос, а потом отвечала: «О разных вещах». Марина никогда не садилась, чтобы подумать, так как могла, по ее словам, думать и ходить одновременно. Но она, без сомнения, думала меньше, чем Синеситта. В любом случае ясно одно: невозможно одновременно читать и думать. «Чтение — это не мыслительный процесс, а потребление. Большой читатель не может быть большим мыслителем, поскольку у пего не остается времени на то, чтобы думать. Его жизнь заполнена мыслями других. Платон нигде не показывает Сократа со свитками, которые в V веке до н. э. заменяли книги. Сартр, предпочитавший Мулудия Виану и Дос Пассоса Фолкнеру, — посредственный читатель и неплохой критик» (Пролог, «Золото под названием нация»). Раньше Марина, вращавшаяся в сложном и жестоком мире моды, не имела возможности читать, так как ей приходилось все время думать. Теперь, когда Стюарт превратил ее жизнь в театральную сцену с бессмысленными и залитыми солнцем декорациями, где с трудом можно было различить кровать, пляж и квадратный стол в таверне (накрытый бумажной скатертью с протянутой внизу резинкой, чтобы не сорвало ветром), у нее больше не было необходимости думать, то есть она могла вернуться к тому пороку, которым являлось чтение у большинства молодых людей, воспитанных за железным занавесом. «Наказуемый порок», — как сказал Бенито в своем первом интервью журналу «Фигаро Литтерер» по случаю выхода его книги «Ад мне лжет» и ее неожиданного и даже скандального успеха. В первый месяц Марина прочла «Окно» Атаназа Далчева, «Лагерь 29» Сержио Антониелли, «Орфические послания» Бронсона Алсетта, «Магомет II» Жана-Батиста Вивьена де Шато-Брюна и «Подземный Рим» Шарля-Эммануэля Дидье; во второй — «Избранное» Жана-Франсуа Саразена, «Феникс и Черепаха» Кеннета Рексроса, «Песни ожидания» Тона Салискара, «Потерять дом» Фама Ван Ки и «Последний дядя» Лорана де Шимуна Вонмооса; в третий месяц — «Графиню Ирен» Эдуардо Каландра, «Безумный смех» и «Продается сердце» Рада Дренека (сербского поэта, произведения которого она впервые обнаружила в библиотеке Краковского филологического факультета и которого немедленно признала своим учителем и братом). После смерти Марины на ее ночном столике были найдены четыре тома «Кладбища Мадлен»— главного произведения роялиста Жана-Батиста Рено-Варена. Марина так много читала, что мешала это делать Стюарту, чувствовавшему, что если и он станет столько читать, то их жизнь превратится в сплошное чтение, а это повредит их любви. Он все чаще отрывался от газет, перестав интересоваться событиями, о которых все равно забывал на следующий день. В общем, они поменялись ролями. Стюарт, забросивший чтение статей, стал подвижным, свободным. Это изменение в его внутреннем мире превосходно сочеталось с изменением внешности. Во время пребывания на Лесбосе он худел от десяти до пятнадцати килограммов в месяц, а для поддержания физической формы тренировался на пляже. Поэтому, когда я увидела его на больничной койке, то вместо существа, разрушенного алкоголем, обжорством и злоупотреблением сексом, обнаружила стройного Париса, загорелого, с седеющими висками, задремавшего в ожидании, когда Елена закончит вечернее омовение и разбудит его поцелуем в веки.
По мере того как Стюарт становился красивым, Марину все больше охватывала тревога. В первый раз, особенно после встречи с месье Пьерро, когда-то спокойным и уравновешенным человеком, который, столкнувшись с бывшим зятем на главной улице Бутини, стал потрясать у того перед носом палкой и обзывать убийцей, Марине пришлось преодолеть отвращение, чтобы переспать со Стюартом. И потом — в автомобиле, самолетах Париж — Афины, Афины — Лесбос и в такси, доставившем их из аэропорта в центр Митилини — Стюарт продолжал вызывать у нее отвращение. Несмотря на это, она была уверена, что останется с ним до конца своих дней. Правда, она не знала, что ей осталось очень мало дней. А точнее, сто сорок пять. Уродство Стюарта являлось для нее гарантией, что она не влюбится в него слишком сильно. Когда это уродство исчезло, полька испугалась, что ее любовь станет безграничной; что и случилось, и привело ее, как она предчувствовала и как предсказала ей мать, к смерти.
Вначале Стюарту и Марине казалось, что они очутились на краю света. «Главное, — говорил Стюарт, — не заводить друзей среди аборигенов». Дружить с коренными жителями, когда живешь за границей, означало больше не жить за границей. Лесбос должен был остаться плодом их воображения, а не местом, где люди, как в Париже или в нашем предместье, имели прошлое, заботы и сбережения. В июне мир, который, как им казалось, остался далеко-далеко, прислал им в напоминание о себе неприметные пары художников и рантье из Северной Европы. Они были мрачными за завтраками, молчаливыми за обедами и шумными по вечерам, расслабляясь в ресторанах Мифимны и Петры с помощью анисового ликера. Женщины выглядели слащавыми и смиренными, как все туристки, слишком часто посещавшие археологические раскопки. Все они, расставшись с походами и рюкзаками, переживали душевную драму. Они не могли отделить себя от Греции, куда каждый год возвращались в поисках осколков своей молодости. В двадцать лет в Афины прилетают, чтобы увидеть древние развалины; в сорок — чтобы увидеть свои.
В июле и августе стали прибывать семьи; в сентябре им на смену приехало несколько стариков. Стюарт и Марина, от красоты которых теперь дух захватывало, — хотя полька немного раздобрела, что, впрочем, ее совсем не портило, — казались им воплощением греческих богов. Они окружили их таким уважением, что Стюарт с Мариной, встречая повсюду одни потупленные взгляды и молчание, начали думать, что и в самом деле исчезли с планеты. В середине октября они остались в отеле одни, и хозяин предупредил их, что двадцать первого закрывается и возвращается в Афины. Все греки с острова возвращались зимой в Афины. Оставались только военные, старики и блаженные, а также несколько иностранных писателей и художников, которые чаще всего об этом потом сожалели.
— Вам не нужны сторожа? — спросил Стюарт. — Если на Лесбосе остаются только военные, старики, блаженные и иностранцы-художники, то зимой тут должно быть опасно. Эти люди могут запросто поджечь что угодно.
— Вам здесь наскучит, и вы зря потеряете время.
— Соглашайтесь, — попросила Марина. — Мы не требуем жалованья. У нас есть деньги.
— Я знаю, — сказал хозяин отеля, которому полька аккуратно платила тридцать пять тысяч драхм каждую неделю, не требуя ни скидки, ни даже небольших привилегий, как например, бесплатного завтрака или более частой смены белья, полагавшихся постоянным клиентам.
— Нам нравится это место, и мы хотим здесь остаться, — сказал Стюарт.
— У вас неприятности на родине?
— Скажем, супруга, — произнес Стюарт.
— И мой агент, — добавила Марина.
— Я подумаю.
Марина взяла за руку хозяина отеля и попросила:
— Умоляю вас, месье Мегалопулос, соглашайтесь.
— Вы не подозреваете, до какой степени жизнь на острове зимой сложна и скучна, — ответил хозяин. — Если бы вы были художниками, то могли бы работать.
— Я буду следить за домом, — предложил Стюарт. — Займусь бассейном и канализацией.
— Канализацией?
— Наведу порядок в холодной комнате.
— У нас нет холодной комнаты.
— Я буду следить за генератором.
— У нас нет генератора.
— Тогда что же я слышу по ночам вот уже четыре месяца? — воскликнула полька.
— Генератор в соседнем отеле. Впрочем, с сегодняшнего вечера вы его больше не услышите. Месье Мавроматис закрыл свой отель сегодня утром и улетел в Афины. Жизнь зимой на острове это не удовольствие, и вы рискуете нанести своей любви гораздо более жестокий удар, чем это сделает ваша супруга, месье, или ваш агент, мадам. Через десять дней останется работать всего один ресторан в Моливосе, да и то не самый лучший. У вас еще есть неделя, чтобы подумать и принять окончательное решение.
— Наше решение принято, — сказала Марина.
В течение этой последней недели на Лесбосе они поняли, что любят друг друга меньше. В тот день, когда месье Мегалопулос принял их предложение, они уже знали, что любовь между ними закончилась. У них снова отняли вечность. Марина больше не представляла, как будет спать с мужчинами, которых не любит, после того как спала с мужчиной; которого обожала. Что касается Стюарта, то он чувствовал себя в конце пути. Он проглотил эту неожиданную порцию счастья, но, как завсегдатай ресторанов, не забыл, что несколько ударов вилкой по полной тарелке превращают ее в пустую. Они с Мариной испытали чувство облегчения: перестав быть счастливыми, им больше не нужно было защищать свое счастье. У них исчезла потребность сопротивляться жизни, смене сезонов, обществу. Как пишет Бенито в конце «Ада»: «Иногда приятно сложить оружие, так как оно тяжелое».
Во время последнего ужина, перед отъездом месье Мегалопулоса в Афины, Марине вдруг расхотелось есть, а Стюарт решил нарушить диету. Разве с мая месяца он не потерял сорок пять килограммов? Он наивно верил, что таким образом снова станет свободным в своих действиях. Чтобы вернуться во Францию, каждому из них нужно было начать питаться так, как они питались, пока не познакомились. Итак, Стюарт стал превращаться в самого себя, а значит, переставать быть Мариной — и наоборот. Хлеб и вино поменялись местами. Стюарт узнавал старого Коллена, прожорливого, наглого и грубого, которого он оставил на стуле в саду в Бутини и который с тех пор ждал только знака от своего хозяина, чтобы ожить, выпрямиться, зашевелиться. Марина слилась в объятиях с голодом, убаюкивающим ее в юности («голодной юности манекенщиц», — как писал мой брат). Каждый вновь вкушал тайную и порочную сладость, скрывавшуюся в старых привычках: тех, которые придают нам наше своеобразие и одновременно пас разрушают. Они сидели друг напротив друга за столиком в ресторане и уже видели себя уходящими к далеким горизонтам, как отплывающие корабли. Блюда, скапливавшиеся возле Стюарта: кальмары, шашлык, картофель-фри, деревенский салат и снова шашлык, картофель-фри, деревенский салат, а также графины с вином со смолистым привкусом, плотно обступившие его стакан, — являлись прощальным приветом на перроне вокзала. Прижавшись к бутылке с минеральной водой, как к платку, мокрому от слез, Марина смотрела, как Коллен покидает ее и возвращается в мертвый мир жира. Описывая данные события, я пользуюсь сведениями, почерпнутыми в одной из глав «Опасных мифов», чего бы я себе не позволила, если бы роман Бенито до сих пор встречался в библиотеках.
Когда они вышли из ресторана, Стюарт взял Марину за руку. Он чувствовал себя толстым, потным, жирным, скончавшимся. Ему казалось, что он снова растолстел, хотя на самом деле по-прежнему был худым.
— Что мы скажем Мегалопулосу? — спросил он.
— Ничего, — ответила Марина. — Нам остается только убить себя.
Мысль о самоубийстве не выходила у нее из головы с начала обеда. Стюарт подумал, что это совершенно очевидный и потрясающе верный выход.
— Как? — спросил он.
— Сбросимся с вершины крепости Мифимны.
— Это нас обессмертит. Наши имена окажутся во всех туристических справочниках.
— Тебе это не нравится?
— Да. Я предпочитаю, чтобы обо мне забыли после моей смерти и ни один писака — анонимный или нет — не распускал сплетни ни обо мне, ни о моей судьбе. За свою жизнь я совершил много пакостей, непристойных и сомнительных поступков. У меня нет желания, чтобы память о них осталась в веках. Я предпочитаю умереть скромно, в тихом уголке, не поднимая шума. У тебя случайно нет валиума?
— Три коробки.
— Ты уже давно все обдумала?
— С тех пор как мой парень связался с твоим педерастом-шурином, я наблюдаюсь у врача. Он предписал мне валиум, много валиума. Этот тип, как и я, не любит осложнять себе жизнь.
Каждому по коробке, этого должно хватить.
— Мы решимся на это?
— Решимся.
— Не слишком любезно по отношению к Мегалопулосу.
— Тип, который выжил при полковниках, переживет и это.
Мифимна погружалась в октябрьскую ночь, казавшуюся нереальной. Когда привыкаешь видеть Грецию летом, осень воспринимается здесь каким-то обманом. В отеле Мегалопулосы заканчивали паковать багаж. Мегалопулос и Стюарт должны были встретиться следующим утром и урегулировать последние детали. Они договорились, что хозяин отеля будет выплачивать им каждый месяц по пятьдесят тысяч драхм. Марина попросила бутылку воды у мадам Мегалопулос и настояла на том, чтобы заплатить.
— Вы столько для нас сделали, — сказала она.
Перед тем как войти в комнату, — в их представлении это было последнее место, куда им предстояло войти, — они прогулялись по коридорам отеля, где летом бегало столько детей и ворчало столько родителей. Стюарт почувствовал устоявшийся аромат солнца. Он плохо видел, но нюх у него был как у собаки. Он вспомнил следы, которые оставляли на плитках мокрые ноги женщин, возвращавшихся из бассейна, и воду на полу, испарявшуюся под солнцем.
27
Моя сестра находилась в госпитале Питье уже два месяца. Ее всего лишь перевели на этаж ниже. Вначале она лежала вместе с роженицами, теперь — с депрессивными. Каждый раз, когда я приходила к ней, она спрашивала, есть ли новости о Стюарте. Я отвечала, что нет; зато у меня были новости о Марсо, ее младшем сыне, которому исполнилось десять недель. Она отворачивала голову, мало заинтересованная. Я заметила, что у нее появился один седой волос.
Она занимала светлую комнату, окна в которой не открывались. На ночном столике не было ни книг, ни газет, ни транзистора, ни коробки с конфетами. Как только один из посетителей — Ален Коллен, я, Вуаэль или Кармен Эрлебом, пришедшая один раз, чтобы отругать ее за то, что она впала в депрессию вместо того, чтобы радоваться своему вхождению в историю мирового кино благодаря тому, что у нее принимала роды звезда, снявшаяся в таких известных фильмах, как «Спрячь свою радость» и «Николай II и Распутин» — приносил ей безобидный, красиво оформленный подарок, какие обычно дарят больным в клиниках, она спешила отдать его кому-нибудь из соседей по столовой или одной из приятельниц по прогулкам. Она ничего не хотела видеть на ночном столике. Даже графин для воды ей мешал, если он был пустой.
— Марсо чувствует себя хорошо?
Я с гордостью отвечала:
— Он спит. Вуаэль так хорошо справляется с ним, что хочет собственного ребенка, «только ее», как она говорит.
— Что ты об этом думаешь?
— У меня пока нет желания заводить детей. Подумай сама, что будет, если ребенок родится, а я снова стану женщиной. У него окажутся две матери. Ужас!
— В этом случае Вуаэль тебя бросит, ты вернешься к Ивану, и все войдет в свою колею.
— А если Вуаэль не захочет расставаться с женщиной, а Иван предпочтет оставаться с мужчиной?
Она долго смотрела на меня своими карими глазами, думая в глубине души, что у нас все наоборот, что это она, элегантная и ответственная, должна была навещать меня в комнате с решетками в психиатрическом отделении госпиталя Питье.
— Кстати, как Иван? — спросила Синеситта.
— После нашего разрыва он занимается черт знает чем. Вуаэль видела его с бывшим танцором Большого театра.
— А с официантом из «Ротонды» покончено?
— У них не было ничего серьезного. Они один раз занялись любовью в туалете в баре «Устрицы» на Монпарнасе, потом доели свои дары моря и вежливо распрощались. Лучше бы он остался с владельцем галереи на улице Сены, но, к сожалению, у них ничего не получилось.
— Иван сам рассказывает тебе все это?
— Да, он надеется, что я стану его ревновать.
— А ты что чувствуешь?
— Горечь. Мне бы хотелось, чтобы он прекратил вести себя как мальчишка, встретил порядочного человека и остался с ним.
— Мужчину или женщину?
— Все равно.
— Правда?
— Вероятно, я бы предпочла женщину. Они более нежные.
— Иван — не фанат нежности. Лично я запомнила его — как это было давно! — сильным и подвижным мальчишкой, который брал меня так, словно строил шалаш или взбирался на дерево. Поэтому я и сделала то идиотское замечание в зоопарке, проходя вместе с мамой мимо пруда с гиппопотамами.
Она встала и предложила прогуляться по саду. Там мы встретили других депрессивных, которых она мне представила: Людо Грумбака — тридцатилетнего дантиста из Карпентраса; Мишеля Гаскера — владельца гаража в Медоне, мывшего руки, как он подсчитал, от семидесяти двух до ста девяти раз в день; Жинерву Миссури — двадцатиоднолетнюю порнозвезду, отказавшуюся от куннилингуса, что могло положить конец ее карьере. Мы с сестрой сели на скамейку в тени плакучей ивы. Когда она брала меня за руку в последний раз? На семидесятилетие папы, в 1987 году. Даже на похоронах мамы она держалась вдали.
— Я всегда знала, что Стюарт бросит меня хотя бы раз, — призналась она. — Но я не думала, что он сделает это в тот момент, когда я должна была родить.
— Что за идея — без конца рожать детей!
— Его идея. Во время одной из наших ссор он сказал, что я настолько прилипчива, что единственный способ, который он нашел, чтобы оторвать меня от себя, — это делать мне детей.
— Не понимаю.
— А я понимаю. Впрочем, в этом и состоит моя проблема с Колленом. Я понимаю все, что он говорит и делает, даже если это Зло, тогда как другие мужчины кажутся мне непроницаемыми и непонятными, даже когда творят Добро.
— Раз ты это понимаешь, объясни мне.
— Он меня разрушает, потому что я — его единственный источник; оскорбляет, потому что я его презираю; третирует, потому что боится, что я его разлюбила; изменяет, потому что считает, что я его не хочу; бросает, потому что хочет жить. Если он не вернется, я никогда больше не пойму ни одного мужчину.
— Ален Коллен не имеет ни малейшего понятия, где его брат?
— Ни малейшего. И даже если бы имел, не сказал бы. Он мечтает, чтобы Стюарт исчез, — слава Богу, он не думает, что это возможно, если только его не убьют, — и надеется занять его место рядом со мной, в нашей семье.
Я видела Алена Коллена только раз, в прошлом апреле. Он выходил из отеля «Георг V» вместе с Синеситтой, бывшей тогда на шестом месяце. Это был мужчина среднего роста, с более длинным, чем у Стюарта, носом и маленькими глазами. Администраторы всех парижских отелей принимали Алена и Синеситту за супружескую пару, так как они носили одну фамилию. В тот день у них был обычный, отдохнувший и чуть ли не торжественный вид, с которым супружеские пары, особенно если жена беременна, прогуливаются по такой улице, как авеню Георга V. Ален Коллен посмотрел на меня без страха или неприязни. Он протянул мне руку с теплотой идеального родственника, живущего в финансовом достатке и душевной гармонии и привыкшего к элегантной одежде. Я страшно хотела убедить Синеситту бросить Стюарта и выйти замуж за Алена, настолько его вид и манеры внушали мне доверие и спокойствие по поводу судьбы моей сестры, а также всех Брабанов. На щеках Синеситты играл розовый румянец, которого я не видела уже лет пять или шесть. Ее глаза, живые и ироничные, сияли; ноздри, чувственные и беззаботные, слегка подрагивали. Я отказалась ехать с ними к «Лесcepy», так как у меня была встреча с владельцем галереи на авеню Георга V, которую устроил Иван Глозер, и они уехали в огромной машине.
— Ален меня развлекает, — сказала Синеситта. — Он меня удовлетворяет, подпитывает, очаровывает. Сложность в том, что я его не понимаю.
— Какая разница, понимаешь ты его или нет, если он делает тебя счастливой?
— В счастье главное — смысл, Брабан. Тот, кого ты не понимаешь, доводит тебя до сумасшествия, даже если он хорош для твоего здоровья. Тот, кого ты понимаешь, делает тебя свободной, даже если он вреден для твоего здоровья.
— Однако это из-за Стюарта, а не из-за Алена ты сейчас здесь!
— Вынужденно, потому что Стюарт придавал смысл моей жизни! Стюарт исчез — и я больше ни в чем не вижу смысла. Результат: психушка.
Небо порозовело. Закончив прогулку, Людо Грумбак, Мишель Таскер и Жинерва Миссури сели на нашу скамейку и угостили нас сигаретами. Их интересовало, что будет на ужин. Психиатрическое отделение для больных, страдающих легкими душевными расстройствами, похоже на дом отдыха для людей, которые потеряли себя как личности и которых никто нигде не ждет. Оно переполнено во время школьных каникул и в конце года. Здесь завязываются симпатии, дружба, вспыхивает любовь. Человек проводит одну неделю в Питье, как другие на Сейшелах или на острове Реюньон. Пребывание дома превращается в каторгу. Шесть или восемь месяцев спустя человек снова берет отпуск по болезни и возвращается сюда.
Людо, Мишель и Жинерва обращались к Синеситте, как к школьной учительнице. Она господствовала над ними с высоты своей священной и непоколебимой любви к Стюарту и всем давала советы. Нет, Людо не должен звонить матери каждые два часа: во-первых, это будет ее раздражать; во-вторых, у него закончится телефонная карточка; в-третьих, она так заставила его страдать в детстве, что теперь ему не стоило за ней бегать. Да, она знала превосходный крем для людей, слишком часто моющих руки — это такая же распространенная мания, как не мыть руки вовсе. Нет, она никогда не занималась куннилингусом, но не думает, что это более отвратительно, чем фелляция.
Вдруг я почувствовала себя слишком хорошо в этом ареопаге живописных персонажей. Я смутно понимала, что это с ними я должна жить, а не с исландкой, потерявшей все от манекенщицы и превратившейся в организованную, сварливую, непримиримую мать семейства. Детям нужно ложиться спать в такое-то время, а не в другое. Питание должно быть регулярным и правильным. Исландка все время звонила педиатру. Она уволила психолога из Бонди, так как я имела неосторожность признаться, — в постели, естественно, — что прошлым летом как-то в порыве слабости и отчаяния переспала с ним. Мне внезапно захотелось остаться с моей сестрой и другими обитателями психиатрического отделения, а не продолжать свою трудную жизнь Брабана. Синеситта с одного взгляда поняла, что со мной происходит. Она встала и толкнула меня к выходу из госпиталя. Я сопротивлялась, еле волоча ноги. Может быть, здесь, вертелось в моей голове, я наконец открою, кто я: женщина или мужчина, живое существо или мертвое, воспоминание или призрак. Синеситта вышла со мной на улицу и втолкнула в машину, как втыкают гвоздь в стену. Она захлопнула мою дверцу и сделала знак отчаливать. Я опустила стекло.
— Как ты считаешь, Бенито освободят в этом году?
— Нет, — сказала она. — Я вчера звонила мэтру Друэ. Наш брат сам перестал просить о досрочном освобождении.
— Почему?
— Он пишет и утверждает, что заключенный пишет лучше, чем свободный человек, потому что он пишет, чтобы освободиться, а свободный человек пишет просто так и должен, по мнению нашего брата, остановиться.
28
Мы распрощались с Вуаэль в аэропорту Орли-Сюд. Она объяснила, что оставляет меня по двум причинам: во-первых, не желая жить с таким человеком, как Стюарт, а, во-вторых, ей было невыносимо видеть, как Боб, Октав и Марсо ускользают от ее забот и влияния после возвращения Синеситты. Она перекинула дорожную сумку через плечо, как делают все молодые женщины, меняющие местожительство, то есть мужчину, и вышла из аэропорта. Мы надеялись снова увидеть ее в очереди на стоянке такси, но она, верная своей привычке экономить, села на экспресс «Орливаль».
Едва я вошла в палату госпиталя в Митилини, как Стюарт сразу спросил:
— Ты нашла поляроидный снимок?
— Какой снимок?
— Тот, где я с Кармен Эрлебом.
— А я его и не искала.
Он вздохнул и отвернулся к стене.
— Я надеялся, что ты его найдешь. Конечно, для этого нужно было его поискать.
— Мне есть, чем заняться, — бросила я. — Заняться твоим сыном, если быть точнее.
— Еще один сын, — вздохнул он. — Два сына — слишком много для отсутствующего отца. Отныне я буду делать только девочек.
Он сдержал свое обещание в отношении Элиан и Виржинии, сделав исключение лишь для Патрика, родившегося через несколько недель после его самоубийства в тюрьме.
Одеваясь, он рассказал мне, как, приняв столько же барбитуратов, сколько и Марина, очнулся через сорок восемь часов в этой палате. У первой же вошедшей медсестры он спросил по-гречески, где манекенщица.
— Не понимаю, — сказала медсестра.
— Где девушка? — произнес Коллен, проживший на Лесбосе четыре с половиной месяца и выучивший несколько самых примитивных слов из современного греческого.
— Что за девушка?
— Моя жена, — солгал Стюарт.
Девушка или твоя жена?
Из-за нехватки греческих слов Стюарт оборвал разговор, который лесбиянка-медсестра охотно продолжила бы. Он решил подождать и объясниться с тем, кто говорил по-французски или по-английски, чтобы побольше узнать о судьбе Марины. У него было плохое предчувствие. Резкий ветер носился над городом. Город, который все лето любовался крупными загорелыми финками и молодыми черноглазыми француженками в красных шортах, приобретал недовольный, враждебный вид. Машины, как и положено в это время года, проезжали редко.
Дверь отворилась. Это был врач. Он сообщил Стюарту о смерти Марины. Манекенщица не перенесла дозу барбитуратов, которая оставила невредимым Стюарта, хотя в тот момент — в это невозможно поверить — у них был одинаковый вес. Кого следовало предупредить? Мать девушки, сказал Стюарт. И, вероятно, агентство «Элит». Врач спросил, знает ли он номера телефонов. Он ответил, что нет, но их можно найти в записной книжке польки. Врач вышел и через несколько минут возвратился с сумочкой Марины. Это был маленький рюкзачок из черной кожи, в котором Стюарт нашел предметы, ставшие ему близкими за несколько месяцев совместной жизни с полькой: перламутровую пудреницу; портсигар, которым Марина никогда не пользовалась (она не курила), но который хранила как талисман, потому что это был подарок от режиссера Романа Поланского; солнечные очки; наручные часы; мужскую туалетную воду (она употребляла только «О Соваж» или «Эгоист» в зависимости от настроения) и, наконец, записную книжку. Стюарт позвонил вначале в агентство «Элит» — это было проще. Ему ответил какой-то мальчик, который не только ел шоколад вместо хлеба, но и, съев шоколад и выбросив хлеб, набрасывался на одного из товарищей, чтобы забрать его шоколад. Стюарт попросил позвать к телефону директора, думая, что это будет единственный человек в агентстве, которого огорчит смерть Марины. Однако тот уехал в свадебное путешествие с новой женой на Монтану. Стюарт потребовал заведующего персоналом. Наконец к телефону подошла ответственная за подбор манекенщиц, которая принесла ему свои соболезнования и спросила, что может сделать для него — или, точнее, для нее.
— Репатриировать ее тело во Францию, — ответил Стюарт.
У него даже мысли не возникло заняться этим самому после того, как он не смог переправить тело собственного отца и особенно после моей апокалиптической истории о репатриации тела папы, которую я не преминула ему рассказать по его возвращении из страны озер. Затем он позвонил мадам Кузневич в Краков. Когда она сняла трубку, он спросил, говорит ли она по-английски. Сквозь скрип в телефоне он услышал:
— Английский, французский, немецкий, итальянский и польский.
Он выбрал французский, о чем сожалел в течение полутора часов, которые длился разговор (это мне стоило, когда я оплачивала счет в больнице деньгами Вуаэль, — что никак не повлияло позднее на ее решение оставить меня, — двадцать пять тысяч драхм или около семиста франков). На английском этот разговор длился бы менее долго и не так бы его озадачил, поскольку он был бы не в состоянии ответить на большинство ее вопросов. Мать Марины говорила на безупречном французском, который выучила в одной из лучших социалистических школ. Она расспрашивала Стюарта о всех важных моментах их пребывания на Лесбосе, не понимая, почему они не захотели любить друг друга и в то же время жить. Многим людям это удавалось. Если бы разговор протекал по-английски, Стюарт не смог бы объяснить, почему он придерживался противоположного мнения. На французском же он разразился одновременно исполинской, макиавеллевской и маловразумительной речью, желая выдать свою одержимость за принципы, недостатки за силу, а безнравственность — за достоинство. Любовь была противоположностью жизни, и поэтому она убивала или ее убивали. Жизнь, говорил Стюарт, это производство и порядок, тог да как любовь ничего не производит и все приводит в беспорядок. Когда он сказал, что это Марине пришла идея о двойном самоубийстве, мадам Кузневич бросила трубку. Меня до сих пор гложут сомнения: принял ли Стюарт такое же количество барбитуратов, что и Марина, или как я думаю — намного меньше, или — как Бенито намекает в своем романе — вообще ничего. Греческая полиция даже не сделала ему анализ крови. Или власти острова действительно были убеждены, что он отравился, или же были подкуплены на деньги Марины.
Последующие два года мы только и делали, что безуспешно искали по всему дому поляроидный снимок. Каждая комната была осмотрена по меньшей мере сорок или пятьдесят раз. Стюарт не занимался ничем другим, если только не бил Синеситту, когда его слишком сильно начинал донимать страх. Казалось, что если он не найдет фотографию, то никогда не сможет доказать ни другим, ни самому себе, что существовал. Время от времени, когда я приходила попросить денег к Ивану Глозеру в его новую квартиру в Пале-Руаяль, полную отвратительных безделушек и салфеточек, то встречала там Кармен Эрлебом. С томным видом растянувшись на диване, она спрашивала меня, не должны ли мы показать ей некий снимок, где она фигурирует в компании Стюарта. Я ничего не отвечала. Иван выходил из кабинета в прозрачном халате из набивного шелка. При его виде мне становилось тошно. Я говорила себе, что оказала на него дурное влияние. Он протягивал мне чек — или пачку наличных денег — со смутной улыбкой, переворачивающей у меня все внутри. В глубине души я понимала, что моя связь с Жинервой Миссури была не такой основательной, как с Иваном, и не имела будущего, хотя в сексуальном плане я познала с ней несравненно высшее удовольствие, чем с директором «Палас Отель Интернасьональ Инк.».
— Благодарю тебя, — говорила я.
— Не за что, — отвечал он.
— Есть за что.
— В любом случае я обязан тебе намного больше. Ты столько дала мне. Позволила узнать. Открыть. Спасибо, Брабан. Спасибо от всего сердца. Навсегда.
Бенито освободили в конце его срока. Легенда гласит, что он потребовал у директора тюрьмы оставить его еще на две недели, чтобы спокойно закончить последнюю главу книги «Ад мне лжет». В этой странной просьбе ему было резко отказано, в результате чего, приехав домой, наш брат, одержимый концовкой своей книги, не произнес почти ни слова, чем еще больше ужаснул нас. Первое время Синеситта даже боялась, что потеряет четвертого ребенка, такие у нее были рези в животе. Но все прошло, слава Богу, не так, как мы предполагали, пока Бенито пять лет сидел в тюрьме. Там он изменился. Будущее покажет, что он изменился не настолько сильно, как мы вначале решили: через три с половиной года беднягу Мандалея постигла печальная участь его предшественника. Но когда Бенито сочинял у нас дома последние страницы «Ада», он не был похож на того Бенито, который принес нам столько несчастья. Мы не замечали в нем ничего необычного. Его видели лишь за обедом, который он проглатывал, почти не поднимая головы от тарелки. Он ел много, а всю вторую половину дня спал. «Писатели, — говорил он, — как боксеры: они должны правильно и обильно питаться и много спать».
После телерепортажа, в котором Стюарт Коллен случайно попал в кадр, показывающий наш дом под снегом, его опознала продавщица бижутерии в городке. Коломб и сообщила о нем в полицию. Его арестовали. Бенито покинул дом. Его любовная связь с мамой, о которой он рассказал со всеми подробностями в своей книге «Ад мне лжет» (кстати, это далеко не лучшие в ней страницы), сильно шокировала Синеситту. Она почти перестала с ним разговаривать. В любом случае, Бенито уже давно вынашивал план поступить в духовную семинарию, что и сделал 5 января 2000 года. День, когда в июле 2002 года он был посвящен в сан священника и приехал к нам на уик-энд, стал для него роковым. Тем летом на нашу страну обрушилась небывалая жара, предвещая ужасные экологические катастрофы, а также — в то время мы еще этого не знали — великую революцию. Может быть, именно эта жара снова свела его с ума? Когда он, одетый в новую сутану, вошел в нашу кухню с ножом в одной руке и хвостом Мандалея в другой, я поняла, что проклятие снова пало на него и на всю нашу семью. Именно этим летом Синеситта узнала, что у нее рак. Скандал в средствах массовой информации, развязанный в связи с жалобой Рошеттов, вынудил нашего брата покинуть Церковь. Он обосновался на деньги, полученные за две первые книги, в апартаментах «Ритца», где написал за несколько недель 2042 страницы «Опасных мифов». А затем исчез. Мы так никогда и не узнали, что с ним произошло. В этот момент, когда я пишу нашу семейную сагу, ему должно быть сто три года, что мне кажется слишком много даже для него.
После смерти сестры я спросила себя, как существовать без зарплаты, без покровителя и с шестью малолетними детьми. В поисках нескольких завалявшихся монет я нашла поляроидный снимок, сделанный в Брикстоне шофером парижского такси. Он лежал под кипой газет, которую мы перебирали по меньшей мере раз сто и ничего не обнаружили. Я позвонила Кармен Эрлебом и сказала, что у меня есть снимок.
— Почему, — спросила она заплетающимся голосом, так как после третьего провала в номинации на «Оскара» начала пить, — вы мне об этом говорите?
— Этот документ, — ответила я, — неопровержимо доказывает, что вы летали на самолете и ездили под Ла-Маншем с покойным мужем моей сестры.
— Покойным мужем вашей сестры?
— Стюартом Колленом.
— Ах, да, Стюартом Колленом. Стюартом. Я прекрасно помню ту ночь. Мы постоянно куда-то передвигались, но, кажется, ничего серьезного не сделали. Да, это было прекрасно.
— Вы отрицали, что провели ту ночь с ним.
— Я отрицала? Удивительно. Это не в моем стиле.
— Это было во время уик-энда у Вуаэль.
— Какого уик-энда?
— В мае 1996-го.
— Мой дружок, мы уже в 2003-м!
— Вы должны об этом помнить. В тот день вы принимали роды у моей сестры!
— Да, я принимала роды у вашей сестры! Я столько сделала для вашей семьи! И что я имею в знак благодарности? Чудовищные подозрения. До свидания, молодой Брабан.
Она повесила трубку. Я поднялась к себе в комнату, собрала всю свою мужскую одежду, выбросила в окно и полдня сжигала ее. Затем надела старый костюм «Шанель», который мама подарила мне в 1993 году, то есть десять лет назад. К счастью, костюмы «Шанель» никогда не выходят из моды. Я долго красилась, зная, что для того, чтобы заключить брак по расчету, лучше быть женщиной. Я доверила Бобу, которому уже исполнилось тринадцать лет, его трех племянников и двух племянниц. В случае необходимости он должен был позвонить Глозерам. Я часто задавалась вопросом: почему столько человек умерло у Брабанов и ни одного у Глозеров? Может, они сами были смертью? Смертью, которая смотрит на вас каждое утро и каждый вечер, улыбается, успокаивает, не переставая ждать.
Убедить Ивана бросить преподавателя физкультуры, с которым он жил вот уже два года, было нелегко. Теперь он даже не понимал, как его когда-то привлекали женщины. Гомосексуальность заставила его открыть, что можно любить человека и не быть преследуемым, оскорбляемым и разоренным им. Мне пришлось вступить в драку, прибегнув к обману и хитростям, и даже умолять его снова лечь со мной в постель. В течение целого года единственный сын Глозеров разрывался между мною и своим любовником, Пале-Руаялем и улицей Руже-де-Лиля, детьми Синеситты и бульдогами преподавателя гимнастики. Я уже совсем отчаялась и перестала верить, что он когда-нибудь попросит моей руки, и даже начала посматривать на некоторых владельцев галерей, а также на незнакомцев, которых случайно встречала на улице, у моего торговца красками или в супермаркете, когда сделала тест на беременность и он оказался позитивным. Я сообщила об этом Ивану. В тот же вечер он порвал с преподавателем гимнастики. Мы поженились через несколько дней после моего обращения в иудаизм.
Примечания
1
Автор «Марсельезы».
(обратно)2
День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, к которому приурочена ежегодная амнистия заключенных.
(обратно)3
Француз — выходец из Алжира.
(обратно)4
Открытый чемпионат Франции по теннису.
(обратно)5
Сорт рыбы.
(обратно)6
Датский теолог, философ-экзистенциалист, писатель.
(обратно)7
Древнегреческая статуя, изображающая девушку в длинной одежде.
(обратно)8
Африкано-кубинский танец.
(обратно)9
Мексиканский спиртной напиток.
(обратно)10
Первая мощеная дорога, проложенная при цензоре Аппии Клавдии в 312 г. до н. э. между Римом и Капуей (350 км).
(обратно)11
Мы как раз успеем пожениться.
(обратно)12
Французский самолет-истребитель.
(обратно)13
Имеется в виду «одежда вина» — сочетание цвета и прозрачности.
(обратно)14
Превышение рыночной цены золота, курсов валют, векселей и др. установленного номинала.
(обратно)15
Бомарше. «Женитьба Фигаро».
(обратно)16
Помогите (англ.).
(обратно)17
Моррас Шарль (1868–1952) — писатель и политический деятель Франции.
(обратно)18
Крепкий спиртной напиток, который пьют в конце обеда.
(обратно)19
Крабовые палочки.
(обратно)20
Булль Андре-Шарль — известный французский краснодеревщик, создатель очень дорогой роскошной мебели.
(обратно)21
Чудесно (англ.).
(обратно)22
Дом, мой милый дом (англ.).
(обратно)

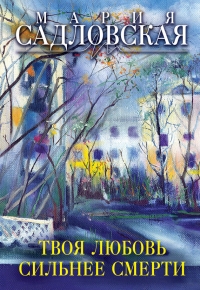










Комментарии к книге «Закат семьи Брабанов», Патрик Бессон
Всего 0 комментариев