Антонио Ди Бенедетто Рассказы
Вест-индский кот
В далекой Вест-Индии, среди хребтов Андийских Кордильер, умер испанский купец.
С ним странствовала куцая свита соплеменников: впереди пара весьма полезных молодцов, один был дока по части чисел и вел счета, когда торг касался тканей и специй либо, коли подвернутся, драгоценных камней. Следом горе-рубака, нанятый купцом в Биру для охраны собственной персоны, хотя удали его хватало только важничать да бражничать, а полагаться торговцу оставалось лишь на свой мушкет да на слуг, готовых биться, как львы, если что угрожало их жизни.
Туземной прислуги числом было больше, в виду немалой поклажи, хотя основной груз везла дюжина мулов. Могла пригодиться и сноровка, с какой индейцы умели отыскать воду, пристанище и верный курс на пути инков, протянувшемся от Тихого океана до самых пампасов, которые заканчиваются у берегов Рио-де-ла-Платы.
За два года коммерции в Вест-Индии, по мере продвижения вниз от Санто-Доминго у дона Антолина де Реартеса завелись кое-какие привычки, например, странствовать в сих краях на мулах не только с навьюченным товаром, но и скарбом: передвижной дом включал крохотную мебель для обустройства в городах и портах, скажем, в Вальпараисо, месте недавней стоянки.
Торговца сопровождали два животных, домашнее и одомашненное. Кот — его везли в клетке и выпускали на привалах, не опасаясь, что тот уйдет, ибо был он очень привязан к хозяину, — и попугай, крикун и дразнила, подобранный в тропиках.
В последние месяцы, с тех пор как горло и легкие дона Антолина одолел недуг, вызванный сыростью и открывшийся в Эсмеральдасе и Гуаякиле, пернатый насмешник завел привычку, поначалу милую, но быстро опостылевшую — изображать кашель хозяина. Стоило закашляться дону Антолину, кашлял и попугай. Даже когда дон Антолин не кашлял, попугай все равно заходился кашлем, и очевидцы смеялись, кое-кто с издевкой. Дон Антолин корил себя, что сохранил птице жизнь.
Так или иначе, когда на глазах у спутников, под открытым небом, в безлюдных горах испанский торговец испустил дух, осталось имущество, тотчас ставшее предметом грабежа и дележа, остался и неумолкающий голос дона Антолина, то есть его копия.
Слуги и ландскнехт, завладев мулами и богатой поклажей, спустились по западному склону в край Ла-Платы, прежде отправив туземцев ни с чем в земли Чили и бросив на обочине тропы кота и попугая, — первый тихо мяукал, сознавая свою бесприютность, второй упорно воспроизводил кашель покойника.
Самого же носителя кашля схоронили под покровом из камней. Беглецы надеялись христианским погребением снискать хоть каплю Божьей милости, а может, рассчитывали уйти подальше, пока не обнаружится смерть и последующая кража.
Рабы одного господина, не в силу схожести, а больше по привычке уживаться, кот и птица поначалу держатся по соседству, не отваживаясь на дальние рейды. Затем постепенно сходят с дороги, проторенной людьми, и углубляются в дебри отвесных круч и кустарника, скорее в инстинктивном поиске пропитания, нежели в надежде вновь обрести домашний уют.
Невысокий полет попугая вполне позволяет ему достичь веток с нежными побегами, семенами и ягодами. Кот охотится на пташек, но везение его невелико, а поведение двойственно, ведь к отряду пернатых относятся и непременные жертвы его аппетита, и попугай, с которым он делит лишения. Кот ничего не замышляет против приятеля, возникшего от привязанности к дону Антолину. Товарищи по неволе, они остаются таковыми и на свободе, которая оказывается отнюдь не легка.
Но вот коварная тощая лиса бросается на куст, где кормится попугай, и сбивает его: тот, кувыркаясь, теряет яркие перья. Кот, хотя угрожают не ему, считает это вторжением опасного врага на свою территорию, накидывается на алчного хищника и вступает в бой. Меткое царапанье когтей и грозные кошачьи резцы явно сильнее трусливых, жалких укусов застигнутой врасплох лисицы, и та обращается в бегство, лая от страха.
Слегка ощипанный и побитый, но без серьезных ран, пернатый чувствует себя в безопасности и возвращается к месту полдника. Кот не без торжества расправляет усы, вылизывает и приглаживает взлохмаченную шерсть.
Лето в разгаре. Талая вода бежит с ледников, струится прозрачными ручьями, неудержимо влечет к себе попугая — тот окунается, машет крыльями, верещит, плещется, — коту же ручьи нужны лишь для утоления жажды.
Пейзаж гор разнообразится, меняются цвета, природные зоны. В засушливой полосе, где отвесные стены испещрены крошечными норками, обитают шиншиллы. Из-под тончайшего меха виднеются короткие мелкие лапки, зверьки карабкаются и бегают взапуски, самозабвенно увлеченные глупой игрой, не замечая, как чужак — кот — затаившись, выслеживает их, принимая за мышей.
Иная шиншилла устраивает себе «купанье», трется о поверхность минерала, мех сияет блеском, зверьков переполняет приятное ощущение чистоты. И тут, в минуту их невинных забав, кот приступает к делу. Ловит одну, оглушает двух, трех. Не рвет на куски, не собирается съесть пленницу; хватает лишь в стремлении подчинить. Кладет в сторонку жертву, скованную параличом ужаса, ловит другую. Набирает трех, затем скучнеет, останавливает взгляд на воробье. Шиншиллы не сразу осознают, что спасены, но вскоре присоединяются к сородичам.
Однако кот не остается безнаказанным, когда выбирает добычей скворца. Правда, несмотря на проворство птицы, ему удается сбить ее наземь, но воспользоваться этим он не успевает, ибо сверху уже нависает темная туча, ощетинившаяся десятками клювов. Стая защищает и отбивает попавшего в беду собрата, грозя жестокой местью, от которой кот ускользает, обороняясь когтями и углубляясь в заросли ежевики.
Попугай, наблюдавший сцену, сидя на ветке, комментирует ее про себя, с восхищением отмечая мощь атаки летучих сородичей.
Теперь кот с попугаем лучше знают, откуда может в диких краях нагрянуть беда, а порой и смертельная опасность: даже с воздуха. Чуткий зверь ведет себя осторожнее; да и попугай тоже, при всей безалаберности, обычной для его жизни и поведения.
Последний даже спасает товарища по странствиям от еще одной напасти, едва ли не роковой. Могучий охотник за мясом — то ли ястреб, то ли ворон, а может и гриф — отделяется от горной вершины или склона, поросшего кустарником, и камнем падает на кота. Попугай успевает во весь голос подать сигнал тревоги, столь естественный и безыскусный, что кот, еще не зная, от чего следует защищаться, тотчас юркает в земляную нору под шипастым кустом. Незадачливый налетчик, пронесшись мимо, удаляется восвояси.
Все эти неожиданности и невзгоды обостряют недоверчивость кота, а внезапно донесшееся блеяние, хоть и не отпугивает, но заставляет насторожиться и держаться поодаль. Козы ему знакомы, животные эти обычно встречались во многих местах, где он живал. Он не боится, однако удивляется их обилию.
Пару дней кот сторонится стада, затем подходит ближе, наблюдает с возвышенной точки. Попугай следует по пятам, перемещаясь короткими перелетами, терпеливо ждет, не проявляя никакой собственной инициативы. Они потеряли друг друга на несколько дней и встретились вновь, хотя кот и не разыскивал попугая.
Кот следит за стадом, попугай следит за котом. Часами сидит отпрыск кошачьего рода на неприметном наблюдательном пункте, подобравшись и напружинившись.
Когда под вечер, после неспешной мирной пастьбы среди нежной зелени козы сходятся вместе, козлята припадают к материнскому вымени и воздух напитывается упоительным благоуханием молока, кот облизывается.
Отныне он пристает к стаду, хотя и держится неприметно, на расстоянии. Перебивается скудной охотничьей добычей. Живет ожиданием порции молока, каждый день на рассвете и на закате наполняющего атмосферу ароматом. Это пробуждает аппетит, а может, и воспоминание о плошках, которыми его одаривал хозяин.
Кот не сводит глаз с восхитительного лакомства сосунов, пока неодолимое искушение не вселяет отвагу и не подталкивает его к козе, безмятежно кормящей детеныша. Но тщетны тонкое хитроумие кота, его мягкая бесшумная поступь, ибо прилетает любопытный попугай, он жаждет покрасоваться — и заходится в кашле. Коза, испугавшись, убегает.
Внезапно оторванный от вымени, недовольный тем, что не насытился, ошарашенный козленок хочет найти замену матери и тянется к первому маячащему силуэту — кот подпускает его к себе, сознавая, что тот не опасен. Доверчивый козленок тыкается мордочкой в поисках сосков, кот принимает это за игру, отзывается. Кот с козленком играют, зарождается дружба.
Эпизод повторяется с вариантами, и кот уже открыто идет за гуртом, скорее из стадного чувства, предпочитая хоть такую компанию, ведь молока ему не перепадает ни капли.
Попугай обретается где-то близко, перелетая с ветки на ветку меж кустами, и без особой надежды отыскивает неблагодарного друга. Однако кричащая расцветка его зеленых в красную полоску перьев, столь контрастных на фоне буро-охряных гор, не укрывается от пристального взгляда кондора, что парит в небесах, подстерегая добычу. Огромная птица с белоснежной шеей и лысой головой молнией рассекает пространство и на бреющем полете хватает когтями говорливую птаху, та вмиг немеет, не кашлянув даже. Похититель взмывает, предвкушая пир на дальней вершине.
Стремительное пике, яростный налет, мощные взмахи неохватных крыльев, — и всколыхнулся в ужасе козлиный народец, поникнув, словно колосящаяся нива под буйным вихрем.
Похищение свершилось, и кот, устремив взор к небу, видит товарища, заключенного меж цепких когтей, тот поднимается зеленой тряпочкой все выше и выше, пока не превращается в точку и не исчезает вовсе.
Стадо уживается с котом. Козленок подрастает, теперь он играет гораздо реже, не сосет мать и должен сам добывать себе пропитание на выгоне. Кот вынужден оттачивать охотничий талант, он рыскает повсюду, и вылазки уводят его все дальше. Как-то раз на тропе случай сводит его с пумой; кота спасает дар акробата. Грозно рычит лев, высмотревший коз. Вожак стада, заслышав рычание, сознает, что оно сулит беду, и пытается увести собратьев подальше от страшного зверя.
В одно пригожее утро на окрестных склонах отовсюду появляются люди. Это пастухи, они пришли забрать скот после летней пастьбы в долинах. Заканчиваются месяцы вольной жизни, когда умножилось приплодом имение испанских колонистов в селении, приютившемся в низине.
Несмотря на долгое полудикое существование, кот не чувствует страха к людям, опасается лишь псов. Однако овчарки не принимают прибившегося к стаду за врага. В тесном загоне привечают и держат домашних котов, ведь они отпугивают грызунов и прочую заразу.
Пастухи окружают стадо и с помощью собак готовят партию к отправке. Псы направляют, организуют, подгоняют скот лаем и энергичными тычками, стараясь не причинить вреда. Козел, вожак рода, понимает их и подчиняется: под его водительством начинается спуск на пути к дому. Бессчетное племя следует за ним.
Кот присоединяется. Он и не подозревает, от чего спасает себя — от грядущей зимы в горах, та сулит лед и снег, белый ветер предвещает верную смерть.
Подобно тому, как стадо свыкается с ограниченностью загона, так и представитель семейства кошачьих постепенно обосновывается у человеческого очага, подстраиваясь под обхождение и привычки хозяев.
Он хранит верность козленку, приведшему его в стадо, но теряет его из виду, не заметив, как принесено в жертву это нежное существо, как оно попадает на стол, за которым кормится семья.
Он бродит по дому, полному детей и котов, от еды здесь всегда что-то остается, и эти лакомые кусочки придают бодрости и сил. Наступление холодов становится последним доводом, и ласкового зова женщины достаточно, чтобы кот занял место возле уютно потрескивающей печи.
Заблудший и отверженный, отлученный от городов, верхом на загнанной кляче, то гордец, то попрошайка, а чаще всего во хмелю, рыскает в поисках поживы горе-рубака. От селенья к поместью, от плантации испанцев к ферме креолов, от ранчо гаучо к хижине индейца. Карты, игра случая, помутнение рассудка, мотовство, гнусные выходки и дурные компании лишили его того, что он некогда отнял у мертвеца. Крайняя нужда гонит его в незнакомые края, где он мечтает раздобыть корку хлеба. Лучше с вином да с мясом, ну, и тюфяк в придачу. А если еще и выслушать согласятся, то впору присочинить о подвигах!
Когда он подъезжает к селению из пяти домов, прилепившихся к склонам гор, с тремя овчарнями каменной кладки, деревянным амбаром и зернохранилищем из тесаного камня, ему не приходится поднимать усталую руку и стучать в двери. О нем возвещает упредительный лай псов, которые выскакивают, почуяв чужака. Мало кто в одиночку отважится пересечь эти пустынные просторы, вдали от дорог… Лишь сообща решаются люди на такое, да и то скорее скупщики и перегонщики скота.
Для пастухов и сельчан медленное приближение призрака на лошаденке выливается в гадание, кто же это: не сеньор, не пристав, не военный, не священник, хотя явно испанец.
К счастью для себя, он подъезжает вовремя — силы его на исходе, он едва не сбился с пути, долго недоедал, вконец изнемог.
Радушие лучшего двора, принимающего гостя, предваряет вырвавшийся наружу вестник: манящий запах густой фасолевой фабады с копченостями.
Хотя пришелец и одержим одной мыслью — поесть, его жадный взгляд подмечает все подробности хозяйства. Он предвкушает уют, страстно надеется оказаться у домашнего очага, хоть ненадолго. Стоит гостю ступить на порог, как все напоминает об уюте: на дощатом полу по порядку парами стоят услужливые деревянные сабо, грубоватая, крепко сбитая обувь дальних краев… А дальше — просторное обиталище, здесь течет обыденная жизнь семьи, здесь стряпают, столуются, шьют, прядут, ведут беседы. Возле чугунов с почерневшими боками, у огненной печи коптится сало. С потолка свисают, словно в открытом холодном шкафу, перемежаясь со связками чеснока, красного перца, лаврового листа и лука, всевозможные колбасы и окорока. Это немедленно вызывает в памяти рубаки незабвенные свиные ноги с рубиновым отливом из родного Авилеса.
И тут, в предвкушении блаженства подмечая по ходу осмотра все, чем богат дом, гость наталкивается на глаза кота, поднимающего голову с подоконника у застекленного проема. Кот пристально смотрит, взгляд его, вперившийся в пришельца, выражает категоричный, холодный отказ в приюте, дарованном людьми.
Человек не знает этого кота — не узнает его, но какая-то смутная, непостижимая догадка отверзает перед ним жуткую бездну, умышленно преданную забвению.
Вначале он сильно пугается, замирает, затем срывается с места. Он выскакивает из дома, бежит прочь по каменистой тропе, забыв о лошади, впадает в неистовство, удаляется, корчась. Нет, это не помрачение рассудка — его пронзил непередаваемый ужас. Может, в кои-то веки, хотя он и не понимает, в чем дело, что-то, похожее на угрызения совести, терзает его душу.
Силуэт тает вдали; за ним тянется, не досягая, вереница догадок и пересудов, полных недоумения, удивления.
На окне кот — свернувшись калачиком и обвившись хвостом — уютнее устраивается в своем благополучии, олицетворяя спокойствие духа, которого так вожделеют люди. Кот мурлычет во сне.
Абалай
На вечерней проповеди монах произнес мудреное слово, которое Абалай не удержал в памяти, о святых угодниках, забиравшихся на колонну. Возникшие вопросы Абалай приберег для удобного случая, может, позже, у костра.
И святой отец, и сам Абалай — оба гости, с той разницей, что у первого по окончании девятидневной службы будет, куда вернуться.
Часовня, одиноко стоящая в пустынном месте среди мелколесья, где вокруг ни жилья, ни постоянных строений, открывается в праздники Пресвятой Девы, лишь тогда здесь служит священник, приезжающий из города, откуда-то издалека, из весьма благочестивого прихода.
Паломники — и купцы — разбивают лагерь. Проводят девять дней в процессиях и молитвах; вечера сдабривают золотистым мясом на ребрах, гитарой, мате, крепким вином.
Абалай видел свадьбу жителей озерного края, много крестин пришлого люда. Бродил больше из любопытства, еще хотел показаться на людях, но ухо держал востро и ни с кем не сходился. Насчитал четырех солдат.
Меж тем пламя свечей в алтаре угасает, на дворе вспыхивают и разгораются уголья, под ветвями навесов, чей век недолог — всего несколько дней.
Священник обходит бивак по тропке, благословляя, желая доброй ночи. У каждого костра его ждут в гости, он оказывает честь семье, прибывшей из Хачаля. Жарится козленок, бабушка печет пироги, кто-то наливает вино, все умиротворены, держатся скромно. Из-под ближних навесов слышатся песни, их затянули раньше обычного.
Вспоминают Факундо, в связи с недавним делом.
(«Разве его не убили, давно уж?»)
Абалай следует за сутаной неотступной тенью, вот его фигура застывает, не прячется. Ждет.
Паломник из Хачаля приглашает к костру. Абалай жестом отказывается. Он жаждет иного.
Но вмешивается священник, и Абалай повинуется. Он ничего не добавляет к разговору, да и святой отец не настаивает, привык, видно, к молчанию этих простых, немногословных людей.
Однако в какой-то момент, когда звезды всплывают над горизонтом, Абалай неожиданно трогает монаха за рукав и как бы невзначай тихо спрашивает:
— Падре, выслушаете меня?..
— На исповеди?
Абалай, задумавшись, отвечает не сразу:
— Пока нет, падре. Но поговорим сейчас, пожалуйста, вы и я.
Позже они удаляются от шумных костров, избегая перебравших спиртного, и теряются среди затихших повозок, в которых спят дети. Начинается беседа, и едва выясняется вопрос, волнующий незнакомца, как падре с радостью отмечает действенность своей проповеди. Вот пример того, как его слово проникает в душу, рождает вопросы. Он старается ответить, по мере сил внося ясность, упрощая язык, подбирая выражения.
— Нет, сын мой, я не говорил, что они святые, но жили они в святости. Этим славились анахореты, отшельники.
— Простите, вы говорили другие слова.
— Другие?
— Да, падре. Вы назвали их иначе.
— Может… столпники. Да?
— Может.
— Ну, хорошо. Это примерно одно и то же. Просто столпники — особый род анахоретов. Тебе известно, что значит это слово?
— Да и нет.
— Предположим, что нет; я тебе объясню. Анахореты жили уединенно, по собственной воле они удалялись от людей. Разве что порой заводили верное животное. Они бродили по пустыне либо обитали в пещерах или на вершине горы.
— Для чего?
— Для служения Богу, на свой лад.
— Не понимаю. В проповеди вы говорили, что они стояли на столбе.
— Да, на столбе или на колонне. Это и были столпники. Их диковинный обычай был возможен лишь в странах древнего мира, где до Христа воздвигли монументальные храмы, крыша которых опиралась на пилоны. С исчезновением исконных верований храмы эти, покинутые людьми, долгими веками разрушались. В каких-то случаях уцелели одни колонны. Столпники поднимались на них, для строгой жизни, во избежание искусов. Они пребывали там, невзирая на дождь и ветер, голод и болезни.
— Сколько дней?
— Дней? Целую вечность! Считают, что Симеон Старший прожил так 37 лет, а Симеон Младший — 69.
Абалай погружается в глубокое молчание.
Святой отец подбадривает:
— Ну? Что скажешь теперь, когда тебе известно величие их жертвы? Ты мог себе такое представить?
Абалая не занимают эти вопросы. У него есть другие, много больше, подробные: могли они в столь тесном месте сидеть или им приходилось стоять, преклонять колени, сидеть на корточках; почему они не умирали от жажды; неужели так никогда и не спускались, ни по какой из причин, даже по естественной надобности; верно ли, что даже сон не повергал их на землю…
Священник отвечает, не преминув заподозрить, что деревенщина пытает его по своему безверию, наущает усомниться в вере, в том, о чем он проповедовал с кафедры. Однако, как говорится, ответ на все найдется.
— Как питались? Умеренно, хотя кому-то, в зависимости от места обитания, благоприятствовала природа. У этих, вероятно, оказывался под рукой дикий мед, плоды деревьев. О других, особенно о скитальцах в пустыне, сказывают, что они питались пауками, насекомыми, даже змеями.
Упоминание отвратительных тварей усугубляет зародившуюся тревогу падре. Для вящей безопасности озирается — далеко ли они зашли? «В самую глубь ночи», — думает он, оценивая гущу ближних зарослей. Они ушли от становища, от скопления повозок и тягловых животных. Размышляет перед закутанным в пончо незнакомцем, которого прежде не видел: тот, похоже, строптив, озабочен, непонятно, способен ли он причинить зло. Священник овладевает собой, пробует успокоиться, заключает, что надлежит с радостью принять этот, возможно, бесхитростный вызов, заставивший его вспомнить о прочитанном, пусть даже чтобы поделиться с единственным прихожанином, хоть и при столь диковинных обстоятельствах.
Падре поясняет, что они также могли кормиться чужой милостью, но Абалай сомневается: «Разве они не держались уединенно, сторонясь людей?».
— Страдальцы и богомольцы совершали к ним паломничество, прося о заступничестве перед Богом, и от этих глубоко верующих людей они принимали кое-какую чистую пищу.
— Значит, они были святые? Могли просить Бога?
— Все мы можем.
Абалай вновь удаляется в закоулки своей души, забыв о священнике. Тот не мешает, ждет продолжения.
— Вы говорили в проповеди, что они уединялись для покаяния.
— Не только: для покаяния и созерцания.
— Созерцание… Неужто они видели Бога?
— Кто знает. Но созерцание ведь не только в том, чтобы пытаться познать лик Иисуса или его божественное сияние, но и душой отдаться мысли Христа, таинствам религии.
Абалай уловил, но он стремится прояснить именно первый момент:
— Вы сказали — покаяние. В чем они каялись?
— В своих прегрешениях, или замаливали проступки ближних. Что касается конкретно столпников, то они поднимались на колонну, дабы стать ближе к небу, оторваться от земли, где грешили.
Абалай знает, какой это страшный грех — убить. Абалай убил человека.
Этой ночью Абалай решил оторваться от земли.
Правда, на просторах равнины, единственной ему известной, не сыщешь колонн, он если и видел что-то похожее — только колоннаду в церкви Сан-Луис-де-лос-Венадос.
Вспоминается, как в детстве лез на дерево, спасаясь от материнской взбучки. Надо признать, что и сейчас его тянет к тому же: бежать своей вины, найти, куда забраться.
Но теперь это не спасет. Даже раскидистый омбу, если укрыться в его высокой густой листве. Обнаружат, побьют камнями, пусть и не догадываясь об истинной причине, лишь из-за странной манеры поведения. Да и хлебной корки никто не подаст.
Сознательно и твердо дает себе зарок — отделиться от земли и вести покаянную жизнь. Он убил, убил люто. И не забудет взгляда мальчонки, видевшего, как он убивает отца, — одно из немногих воспоминаний, оставшихся с той хмельной ночи.
Но терзания не дают покоя. Торопят пуститься в путь. Гонят прочь (с места на место).
Только как подражать тем, давним, о ком сказывал священник?
Монах говорил, что они влезали верхом на колонну. Он, Абалай, человек конный. Спозаранку, едва брезжит заря, Абалай садится верхом на гнедого.
Ласково теребит холку, спрашивает: «Вынесешь?». Полагает, что товарищ согласен, и, пока они идут легкой рысью, предупреждает: «Пойми, это не на один день… Навсегда».
Первый день прошел в добровольном голодании, второй — в мучительных мыслях о еде и о том, как не ломать над этим голову.
Нашел и отраду. День воздержания очищает кровь, говорил себе в утешение.
Потом голод разыгрался не на шутку, столь безудержно, что наступило отчаяние: кто поможет, да и вообще, удастся ли выполнить задуманное?
Дым подсказал дорогу. Абалай подъехал к ранчо. Тушу разделали недавно, мясо жарили прямо во дворе. Просить не пришлось. Лишь обратили внимание, что он упорно отказывается расположиться удобнее, с пастухом и его семьей. Как бы то ни было, подали щедрую порцию, насаженную на его собственный нож.
Он понимал — сегодня случай особый. Ему радушно поднесли угощение, в котором без лишних вопросов никогда не отказывают любому путнику. Так бывало и раньше в его скитаниях. Но отныне это могло стать каждодневной потребностью, и гордость от его нового состояния померкла.
Все больше одолевали тяготы, какие он мог предвидеть, какие открывала ему нужда.
Впредь приходилось полагаться на выдумку, а где хитрость не помогала либо маячил риск отступить от замысла, Абалай искал наставления в рассказе священника.
Ранчо в этой глуши попадались редко, да он и не набивался в нахлебники. Следовало запастись съестным, провизией, деньги еще оставались. Охотиться? Да, но как приготовить мясо? Плоды? Здешняя природа ими не баловала.
С особой сноровкой держась в стременах или повиснув на подпруге, он мог без труда черпать воду кувшином или, изловчившись, пить прямо из ручья, припадая губами к потоку.
Опыта спать в седле ему было не занимать, как и гнедому — нести седока. Но если коню не давать отдыха, освобождая на время от ноши, тот может околеть. Абалай заарканил одичавшего жеребца, поставил его в пару и менял лошадей, давая им отдыхать. Жеребец принял и всадника, и новую долю; у него прежде явно был хозяин.
Естественные надобности могли принудить его к менее благородным занятиям, прими он с абсолютной строгостью закон жизни верхом. В ту ночь он предусмотрительно спросил об этом священника, так и не понявшего, к чему столько расспросов об обычаях и запретах тех, кто возносился на колонны. Падре не представлял себе покаяние столь суровым, чтобы кающиеся воспрещали себе сойти на землю по уважительной причине, хотя не сомневался, что кто-то допускал неумеренное умерщвление плоти и в этом.
Во всяком случае, Абалай решил блюсти чистоту. Разве он страдал не ради очищения души?
Абалай ворошит ветки кустарника в поисках съедобных стручков. Застает врасплох оглушенную птицу, не успевшую улететь. Подхватывает ее в воздухе. Удерживает, стараясь не причинить вреда. Смотрит, как та отчаянно бьется, и избавляет ее от ужаса.
Птица взмывает вверх, человек радуется ее вольному полету.
Но в голове упорно проносится воспоминание: глаза мальчонки, когда он убил его отца. Так же настойчиво, упрямо возвращаются образы столпников на столбе. Обычно, как и этой ночью, они смешиваются с впечатлениями дня.
Абалай, кающийся грешник, стоит на вершине столба. Это не колонна, какие бывают в церкви, и не пилон кладбищенских ворот. Это опора моста, из камня, только тоньше, устремленная ввысь, — он наверху.
Абалай не один. Есть еще столбы, на них страдальцы. Это древние святые, для него они чужестранцы. Стоят, не переговариваются, так положено, а заговори они, он не понял бы их языка. Подобно ему, они завернуты в пончо.
Сначала во сне царит покой, затем начинается кошмар: прилетают птицы.
Они ходят по голове, по спине. Клюют в уши, в глаза, в нос, пытаются кормить с клюва. Вьют гнезда, кладут яйца… а он ни жив, ни мертв, в ужасе перед пустотой, куда непременно низвергнется, стоит лишь шевельнуться.
Абалай с трудом просыпается. Спросонья осаживает гнедого: «Тпру-у!».
Находит пульперию. Едет дальше, эта не годится: здесь нет решетки, встроенной в стене у входа, чтобы покупать прямо с лошади.
Со временем находит другую лавку. Хозяин, прежде чем отдать вяленое мясо, ставит условие: «Денежки вперед». Абалай вынимает несколько медяков из тех, что сияют у него на поясе наряду с монетами иной пробы.
Сворачивает во двор почтовой станции. Тут идет игра. Карты, бабки. В кругу насмерть бьются петухи, налетая с наскока, с первого взгляда, или вслепую, если глаза уже выбиты ударами шпор. Делаются ставки.
Кругом едят, пьют.
Привязав жеребца к изгороди, Абалай на гнедом кружит меж кучками людей, смотрит. То же у вертела. Кто-то подначивает: «Не поставишь — не поешь». Абалай понимает. Тот, кто подначивал, собирается бросить бабку. Абалай достает из пояса монету. Кость описывает круг, втыкается концом в землю — победа достается Абалаю. Проигравший платит: небрежно бросает две монеты на землю, между ног гнедого.
Абалай смотрит на монетки, они могли бы ему достаться, унизься он до просьбы, чтобы кто-то поднял их из пыли, поднес поближе. Он и сам мог бы взять, съехав на брюхо животного, цепляясь за подпругу, но его подняли бы на смех, и пришлось бы драться. Со смутной грустью он направляется к изгороди, отвязывает жеребца и уезжает.
С тех пор из-за этого поступка, труднообъяснимого для очевидцев и отнесенного скорее на счет бескорыстия, про Абалая идет слава.
Он об этом не подозревает. Будь он проницательнее, распознал бы ее отблеск в восторженном взгляде девушки, подавшей ему как-то утром горячего мате с сахаром.
Себе он заваривает лишь горький, на рассвете, да и то по настоянию желудка, когда тот требует своего. Не злоупотребляет дозволением, полученным для крайней надобности или особых обстоятельств (хотя мате для него — именно такой случай), как он смог понять из примеров священника. Ногой не касается земли, даже чтобы разжечь хворост.
Нужная посуда есть. На пути он выбирает неровности рельефа, использует их вместо стола, стараясь подвести лошадь так, чтобы та опиралась о край. На таком выступе, не выше уровня сбруи, разводит огонек, греет воду. Если равнина слишком плоская, забирается в глубокие, широкие расселины, вымытые некогда бурной стремниной. Снизу ищет подходящее место.
Для размеренного пития мате в предзакатный час прибегает к помощи тихого жеребца. Не докучая хозяину, тот щиплет траву под ногами. Тем временем свободный от дела напарник лакомится в свое удовольствие нежными ростками и побегами. Абалай сидит, скрестив ноги на спине коня, служащей сиденьем. Сплетает пальцы, охватывая ладонями объемную, легкую калебасу. С долгими паузами потягивает чай из украшенной узорами бомбильи серебристого металла. Погружается Абалай, пожалуй, даже не в думы, просто в бесстрастную мистику зеленого, горячего настоя. И, тем не менее, не привыкший говорить сам с собой, однажды громко восклицает: «Господь свидетель!».
Удивившись крику среди безбрежной тишины, жеребец откликается ржаньем, вздрагивает. От встряски Абалай очнулся.
На тропке сталкивается с четырьмя мирными индейцами. Те щедро предлагают пованивающую рыбу. Рыба сырая, ее несут в камышовых корзинах под палящим солнцем, по бездорожью, на ярмарку в селенье. Абалай отказывается, но воздает за доброе намерение: из переметных сумок снабжает туземцев двумя пригоршнями соли.
Индейцы тут же устраивают привал, разводят огонь, потрошат и жарят каких-то гадов с перламутровой чешуей.
Теперь запах сносный — для неизбывного голода Абалая. Он ждет на жеребце, у развилки.
Четверо рыбаков приходят в возбуждение, пытаются уговорить его сесть с ними. Он не уступает, но принимает свою порцию.
Туземцы жуют, сидя на корточках. Один из них наблюдает за Абалаем украдкой, тщательно, непрестанно. Заключает: не то чтобы белый человек не хотел, он просто не в состоянии отделиться от хребта животного. И озабоченно сообщает соплеменникам вывод: «человек-лошадь».
Спят в ночи неясные фигуры. Одна — Абалай верхом, рядом — второй верный конь. Приютились в бурьяне, ничего лучше не нашлось в обозримых окрестностях. Ночь безлунная, небо затянуто тучами.
Абалай на вершине столба. От солнца горит во рту, помнящем тошнотный привкус тухлой рыбы.
Неподалеку другой старец. Его колонна отличается великолепием, но жажда их уравнивает.
Старик на вид святой, хотя для святости ему не хватает достоинства. Мало выдержки. Распахнув вырез на груди пончо, он хочет проветриться. Все происходит в тишине, пока древний святой не восклицает: «Воды!». Абалай не думает, что тот произнес «воды», хотя именно этот смысл проглядывает в его действиях; скорее ему почудился гром, словно вознесенный на острие молнии…
Падает Абалай, будто опрокинут вспышкой, молнией, просыпается от удара, мокнет под дождем. Мгновение радуется воде, та услаждает пылающий рот. Но вдруг обнаруживает, что всем телом рухнул на землю.
По глазам хлещет ливень, но Абалай пробует поднять к небу взгляд, или хоть лицо, в смутном порыве, которого и самому не постичь: может, просит прощения, мол, все случилось не нарочно?..
Весь в грязи, словно обезумев, вскакивает на резвого жеребца, решает на свой страх и риск, что такое схождение не в счет. Признает, что скован ярмом, в которое сам впрягся. И несет его со смиреннейшей покорностью.
В дни, когда на горизонте поднимается облако пыли, жизнь странника затрудняется, это прибавляет сметливости в добыче пропитания.
По некоторым признакам Абалай догадывается, что пыль не от ветра, от лошадей, и не дикого табуна — вооруженной конницы. Добра Абалаю это не сулит: его могут забрать в рекруты или без причины ранить копьем; могут отнять коней, — либо конфисковав по закону, либо просто из алчности.
Он укрывается в дальних далях, и вот остаются позади последние следы человека, кругом — суровая пампа.
Абалай вспоминает примеры из рассказа священника, как тот говорил про кающихся прежних времен, если те попадали в пустыню, им приходилось несладко: и пауков ели и даже, мол, гадюк.
Прикидывает на вес сумку с вяленым мясом, и видится ему, что голод не за горами. Мысли выстраиваются цепочкой: змея — ящерица — броненосец. Наверняка в пустынях древних угодников не встречались армадиллы.
Именно из-за их судорожных метаний, от которых голова идет кругом, из-за ныряния в норы, из-за упорства, с каким зверьки цепляются там за корни, нелегко Абалаю охотиться с лошади. И все же он рискует падением (собственным, на полном скаку; либо лошади, попади та ногой в дыры, вырытые броненосцем для жилья).
Терпит неудачу за неудачей. Не сдается, учится.
Готовить их затем — что греть воду для мате. Надо только заколоть зверьков. Положив на спину, добивает их ножом, разрезает пополам. Обед тушится в собственном панцире, заменяющем горшок, и в своем жиру, количество которого обильно.
Так что еды вдоволь. Но нет воды, из-за оплошности надо возвращаться.
Сильно он истрепался. Давно себя не видел. Но другие с него не спускают глаз, не потому что появление человека нуждающегося необычно, а из стойкого предубеждения: впавший в крайнюю нищету способен на зверство.
Понимание приходит на одном из ранчо. Там узнают не его, поскольку ни разу не видели, а молву, что множится о нем, хоть он того и не ведает, молву всякую, разноречивую, но превозносящую его праведность.
«Несет свой крест», — шепчутся с почтением.
Абалай вслушивается, ловя тайну, и полагает как раз обратное: нет у него ни креста, ни медальона, ни даже бумажного образка.
Принимает одежку, предложенную услужливо.
День выдался жаркий.
Ищет ручей, тщательно предается омовению.
Не найдя расчески, ставит первой целью найти лавочку или пульперию, где бы можно ее купить и восполнить запас соли, мате, вяленого мяса.
По пути, идя мелкой рысью, как-то вечером в час молитвы ножом очищает, шлифует обломок сухой ветки, затем еще один, покороче. Соединяет их накрест узким кожаным ремешком. При помощи другого ремешка вешает себе на шею, поверх рубахи или блузы, принадлежащей ему теперь благодаря подношению обитателей ранчо.
Издалека, где скучились полдюжины домов, доносится сухой треск, но это вроде не звуки боя, как подмечает он вскоре по восторженным, радостным возгласам. На пути к пульперии становится ясно, откуда шум: вдоль досочных бортов, под навесом из брусьев, катятся, запущенные рукой человека, массивные твердые шары, видимо, из дерева квебрахо, — они то прокладывают себе дорогу легко и вольно, то ударяются друг о друга с револьверным треском. Соблазн сыграть в бочче. Наверняка можно делать ставки. Удерживает тяжкое воспоминание. Сыграть кон? Хорошо бы! Прямо с коня?
Расческа, вяленое мясо, соль, мате — покупки истощают запас ценностей на ремне. Остается лишь одна монета, самая ценная, серебряный патакон, сиявший посреди нарядного пояса. Абалай прячет ее в складке, подобии кармана, изнутри подбитой дубленой кожей, опоясывающей талию основательно и изящно.
Присоединяется не к игре, к зрелищу катящихся шаров, не въезжая в толпу мужчин. Не трогается с места, и вот его зовут отведать асадо:
— Давайте, не стесняйтесь.
Видя его нерешительность, настаивают:
— Ну? Угощайтесь!
Абалай едва кивает в знак согласия, но медлит, догадывается, что будет дальше: станут уговаривать спешиться, сесть к костру, начнется вечная борьба, его сопротивление.
Так и случается, пока кто-то не замечает крест, не спрашивает соседа: «Может, это тот?». Общее мнение — может. Тогда подходят с приношением — для начала хлеб и вино — к странному пилигриму, который, согласно молве, никогда не сходит с коня.
Так закончил Абалай весну, провел лето.
Зима навеяла мысль: лето было золотой порой для жизни под открытым небом.
По краю полей всходило солнце, но Абалай никак не мог проснуться. Морозило, и сам он замерзал. Смутно ощущал, что напуган, ослаб, обезволел. Двигаться не хотелось, окутывала уютная сонливость.
Долго длилось оцепенение, у кромки сладкой смерти, но кровь все же отозвалась, почуяв теплое дыхание атмосферы.
Поняв, от какой опасности уберегся, он перекрестился, поцеловал деревянный крест, проверил надежность сбруи, о которой рассудил: «Умри я верхом на лошади, кто меня стащил бы с нее? Разве что смерть?».
С видавшей виды повозки его окликнул голос торговца: «Гаучо!», но Абалай не принял на свой счет обращения, для многих звучавшего пренебрежительно. Собирался отмахнуться, но торговец все же докричался, спрашивая лишь, есть ли у него перо.
Абалай придержал коня:
— Перо?
— Страусиное. Я его скупаю, или меняю на товар, добрый товар.
Встреча с торговцем натолкнула Абалая на мысль: нашлось вроде занятие, оно позволит не отступиться от данного обета.
Пришлось двинуться в центральную равнину, не такую безводную, более безлюдную, и направиться к югу, до самых пределов, чреватых опасностью, ибо там начинается территория племен, так и не поладивших с белым человеком.
Подстерег нанду. Не для добычи мяса (предприятие невозможное, если не ступить на землю). Не жизни лишить его хотел Абалай, а только перьев.
Набравшись терпения, бодрствовал ночами, был всегда начеку, застывал недвижно (чтобы не спугнуть длинноногого).
Пробовал гоняться за птицей и на ходу, чтобы поравнявшись, вырвать перья сбоку или часть хвоста. Но те, оказалось, сидели крепко. Если гнедой в поле нагонял нанду, и всаднику удавалось вцепиться в перья, резкие рывки длинных ног грозили выбить его из седла или оставляли в награду жалкий, куцый клок.
Он пожалел, что не умеет обращаться с болеадорасами, которых к тому же и не имел.
Пробовал лассо. Понял, что сбить страуса с ног — еще не значит с ним совладать. Большая птица брыкалась со страшной решимостью, пугая коня.
Открыл для себя, наконец, у решетки пульперии иллюзорность честной сделки.
Никто не просветил его, что это занятие для женщин. Он не сомневался, что дело это мужское.
И тут на пути повстречалась одна женщина, правившая повозкой и оказавшаяся в весьма затруднительном положении на тот момент.
Внимания на Абалая никто не обращал, да и он не напрашивался, не проронил ни слова. Просто застыл в стороне, оценивая ситуацию, приметил, что внутри повозки сидит еще одна женщина, на вид более деликатная, какой-то штатский, вероятно муж, и три девочки.
Волы, понукаемые властными криками женщины-возницы, не могли вытащить эту махину на колесах из грязной жижи. Женщина жестко хлестала их стрекалом, которым ловко орудовала.
Абалай залез в топь, проверил глубину. Затем размотал плетеный ремень, привязал к оглобле. Стал впереди и силой двух своих коней принялся тянуть — бережно, но упорно. Все это он проделывал, не меняя положения, верхом на гнедом, что вызвало сначала интерес, а потом и уважение возницы. Та взялась ему помогать.
Поначалу усилия оказались тщетны из-за тяжести повозки. Пришлось облегчать: Абалай высадил по одному пятерых пассажиров и, не давая передохнуть гужевой пятерке, переналадил ее для буксировки.
К сумеркам путники вырвались из вязкого плена, оставившего, правда, обильные следы на сапогах, одежде и лицах, и восстанавливали силы у яркого огня на сухой поляне. Котел с кукурузной кашей доверчиво льнул к языкам уютного пламени.
Абалай вновь убедился, что его преследует доля, на которую не притязал, — вызывать замешательство с оттенком восхищения.
Видя его настроение, без напора и комментариев, с пониманием приняла возница отказ странника расседлать коня и подкрепиться горячей пищей, а позже отдохнуть в естественном положении. Элементарная рассудительность подсказала ей: еще представится случай лучше отблагодарить за помощь.
Абалай спал, не слезая с жеребца.
Проснувшись, не обеспокоился отсутствием гнедого, зная, как привязан к нему конь, которого по обыкновению не стреножил, Подумал: тот, поди, пасется вволю, набирая силы после надрыва вчерашнего дня.
Абалай посмаковал душистый зеленоватый отвар, который несколько раз подносил ему с хрустящим печеньем мальчик, подручный возницы. Затем отправился на поиски запропавшего гнедого.
Нашел его лежащим на земле. Лежал конь спокойно, никаких судорог, всхрапов.
Абалай задумался, ломая голову: дозволительно ли ему сойти ради верного друга. После долгих сомнений — сдержался. Свесившись с жеребца, снял с гнедого уздечку, задержал руку, ласково приглаживая густую ровную шерсть.
В душе его поселилось чувство бесприютности, неутешное отчаяние, и в полной тоске не мог он даже сообразить, как не загнать жеребца под собою. Опять все сначала: чтобы не ступить на землю, ему требовался еще один конь на смену.
Нерешительно последовал он за повозкой.
Дальше по пути, на привале, подвернулся случай:
— Пожалуйте…
Слова хватило, возница передала ему в дар мула, которого держала в хвосте повозки — если придется послать вперед или в обход мальчика-подручного.
Абалай примкнул к путникам, не замечая злобных взглядов, которые бросал на него мужчина, переезжавший к новому месту службы через всю страну, со скарбом и семейством из четырех юбок, под кожаным навесом неповоротливого фургона, запряженного волами.
Абалаю было на руку, что возница мирилась с его привычками. Без ущерба для них приходил он на подмогу. Иногда давал женщине передышку, на полдня и более, беря управление повозкой. Стоило лишь перескочить с жеребца на козлы — и греха на душу не брал, не сходил на землю.
Ночью, укрытый кузовом повозки, он легко переходил ко сну, спасаясь от озноба. Стол теперь был ему обеспечен.
Абалая тревожили два вопроса: почему она мне покровительствует? Покаяние ли то, что я делаю?
О первом спросил саму благодетельницу:
— Почему?..
— Ты же мне помогаешь. (Она обращалась к нему на «ты», он к ней — нет.)
Не убедила, и он ушел в молчание.
Тогда женщина без обиняков призналась:
— Ты напоминаешь мне сына, что был у меня.
Они беседовали на равных (на равной высоте), в ночи. Для этого он подъезжал ближе на муле, она садилась на пол облучка застывшей повозки.
Когда возница протягивала ему горшок или миску с едой, которую ели ложкой, Абалая охватывало беспокойство. Ложка в руке казалась ему знаком благополучия, и тогда он спрашивал себя — истинное ли у него покаяние?
Называл это «жизнью задаром», как если живешь на дармовщину, подозревал также, что это словно жить впустую.
Однажды подумал, не поискать ли священника или еще кого, старшего и ученого, с кем посоветоваться.
На его сомнения, словно из тумана, выплывал ответ, почти оправдание: жить во искупление вины — не значит жить напрасно.
Эти думы утешили бы, не возникай постоянно лицо мальчонки. Никак не сладить с ним, с тем мальчонкой!
Абалай пропадает на два дня.
По возвращении на спине мула темнеет тюк. Обстоятельство, возможно, не имеет значения; однако женщина с повозкой чувствует, что это неспроста, хоть и не знает почему.
Абалай вверяет вознице груз, что можно расценить как вклад в путевые издержки. Женщина так не думает, особенно когда, развязав узел, обнаруживает — сало, джин, соль, галеты… понятно, но еще и отрез ситца, одеколон, платок…
Сердце у нее обрывается.
Теперь она почти понимает… Наверно это не обычный подарок. Абалай уезжает и хочет отплатить. Нет, не отплатить, воздать за все.
Можно понять и так, хотя Абалай ничего не объясняет, ничего не рассказывает.
Он не скажет, что отдал серебряный патакон, который берег в складке на ремне для особого случая. Или для великой надобности (как сейчас).
Пронеслась куда-то повозка с возницей, пронеслась зима, пронеслись годы.
Пал гнедой, пали жеребец, мул. Обычно удавалось их заменить, но с пользой ни разу. Больше попадались дикие кони, смирные редко. Искал послушных и, когда арканил отбившихся без клейма, старался отобрать старых, те считались тихими. Требовался основной для езды, и второй — на замену. Одно время держал для пары осла. Лишь бы годился для верховой езды, под седло. Бывало, и без седла ездил, без сбруи, без подседельника.
По подозрению в конокрадстве, как рецидивист, попался он на глаза жандарму.
Абалая с упряжкой погнали в отделение.
Унтер приказал: «Слезай, тебя хочет видеть комиссар».
Смелости Абалаю хватило остаться в седле, но не для спокойной фразы, сложившейся в голове: «Хочет видеть, пусть сам выходит».
Стерпел тон, стерпел обиду, грязные слова. Он уже ждал ударов плетью, тычков, но жандарм решил дать ему шанс:
— Придется тебе войти, по-хорошему.
— Я не против, если верхом.
— А, ты, с причудами! — узнал его человек в форме, на лице которого появилась гримаса презрения, но большего он себе не позволил.
Пошел к комиссару. Вернулся, едва скрывая досаду, но столь же надменно объявил:
— Приказ начальства — означенному Абалаю просто явиться.
Правда, пришлось добавить, уже иным тоном: «Гони внутрь, будешь иметь дело с шефом. Только прямо во двор, туда можно попасть на лошади».
Комиссар, дабы сравняться с допрашиваемым, сделал вид, будто срочно выезжает, вскочил на коня. Лишь тогда, как бы соизволив не оставлять вопрос без решения, потребовал: «Давай поскорее! Выкладывай, Абалай, в чем ты там замешан…».
Но обошелся с ним снисходительно. Знал (или догадывался), кто перед ним.
Однажды повстречались на перепутье всадники.
Трое их было, и подумалось, может, лиходеи. И те поначалу заподозрили недоброе (крест на шее бывает для отвода глаз), но расспросили, получили убедительный ответ, вроде успокоились.
— Хочешь поработать?
— Смотря как…
Набирали пеонов. Двое были батраками, с ними десятник. Оборудовали поместье, для хозяина. Нанимали людей расчищать участок.
Абалай отказался, мол, не для него.
— Гаучо-то с претензией, — зло буркнул один.
«Опять?» — спросил себя Абалай, глаза невольно сверкнули гневом. Обидчик уловил взгляд, с вызовом принялся выделывать вольты перед носом.
Лишняя задиристость пришлась не по вкусу десятнику. Он призвал к порядку: «Перейра!» — строго обратился к Абалаю:
— Ты кто?
Абалай легко выдохнул в ответ: «Бедняк». Смотрел прямо, на лице уже ни тени ярости, гордыни.
И вдруг десятник по-новому увидел бывший на слуху деревянный крест и черты вечного всадника. Он с почтением поднес руку к сомбреро и обнажил голову.
И Абалай понял, что после долгих скитаний вновь вернулся в радушный край, от которого удалился из-за повозки.
На пути встречались и пешие. «Бедненькие, им еще хуже…» — заключал он.
Мог целыми днями не видеть ни души, да и шедшему навстречу, пожалуй, никто не попадался. Однако, поравнявшись, они почти всегда обменивались приветствием:
— День добрый…
— …и благодатный, мил человек.
И каждый продолжал путь, с узелком своих забот, замкнутый, в столь открытом (и одиноком) мире.
Абалай становился очевидцем исхода — бог весть куда, где мерещился кусок хлеба, — семей, не имеющих за душой ничего, кроме детей. Маленькое пыльное войско: отец в авангарде, затем детишки; один, иногда грудной, под покровом широкой шали матери, облаченной, как правило, во все черное. Самым бодрым, если не был изнурен постоянным голодом, оказывался пес.
— День добрый…
— …и благодатный, сеньор.
Человек выказал почтительность, величая Абалая «сеньором». Увидав наездника вблизи, он поднялся с обочины, у которой отдыхал. Держа сомбреро в руке, отряхивал его от пыли об ногу.
— Знаешь меня?
— По слухам, сеньор.
Глядя на стоящего, Абалай задумался. Путник был из тех, кто, обнищав до последней крайности, теряет и веру в себя. Абалай подумал, что они могли бы странствовать вместе, осознал, сколь полезным может оказаться взаимодействие человека, разлученного с землей, и человека, идущего с ней вровень. Но тут же понял, что совместный путь предполагает беседу, а сам он немногословен. Рассудив так, поскакал дальше, не открыв бродяге, что подумал о нем, как о попутчике.
На склоне вдали маячила фигура вроде как в сутане, а на деле в черном пончо, ниспадавшем до пят. Отчаянными жестами призывала она к себе поскорее, но Абалай не спешил.
Для убедительности незнакомец размахивал длинной палкой, проявляя живой интерес к лошади, на которую претендовал, считая ее свободной.
Абалай терпеливо выслушал речь, подметил алчность, оценил мощь палки. Просто сообщил, что не склонен заводить компаньонов, чем вывел фигуру из себя. При виде такого результата Абалай решил отбыть без лишних слов.
Пройдоха саданул палкой, грозя снести голову всаднику: не уберег бы ее, не пригнись он вовремя, пока легкие кони уносили его прочь.
— Проваливай с Богом! — вопил незадачливый грабитель. — Проваливай с Богом!
«Чем я и занят», — утешался Абалай.
В следующий сезон здоровье ухудшилось. Не молчит он об этом, но и не трубит всюду. Жены пастухов опекают его, как могут: травяной отвар, бульон из мяса птицы, теплое козье молоко… Врачевать не решаются, считают, что человека в таком состоянии следует отправить в постель, но не этого человека. Тем более ни одна не осмеливается за него помолиться.
Абалай, разумеется, заполняет свое уединение молитвой. Но молится совсем не так, как полагают женщины, по своему, не вымаливая себе здоровья. Всегда он это делал одинаково. Его молитва подобна мысли, продолжающейся после произнесенной проповеди. Ни разу его мольба не выливается в жалобу.
Ныне, забившись со своей лихорадкой в ложбину и коченея, он замечает с приближением ночи величественные картины на небе. Они наполняют душу волнением, и хочется сделать то, что прежде не приходило в голову: помолиться на коленях, не нарушая обета, не спускаясь на землю, — согнувшись на лошади.
Пробует пылко, благоговейно, упорно, но не получается: рискует гибельным падением. В отчаянии обхватывает ногами лошадиный круп, полный решимости не рухнуть, противостоять несметным теням, готовым его поглотить.
Ему снятся лепестки персикового цветка. Толкует сон: вот мое лекарство — солнечная пора, ведь цветок распускается с приходом весны.
Однажды, при виде персикового дерева, все ветви которого усыпаны цветами, с благодарностью вспоминает тот сон, радуясь верности предзнаменования.
Какая-то женщина просит спасти сына. Абалай не понимает. Помочь отвезти его к врачу? Нет. Пусть благословит, и ребенок поправится. Абалай путается, что ему приписывают такое — принимают за старца. Потом раскаивается: «Если б я мог…».
Некто древний в белом пончо будоражит его дух. Среди множества столбов обезглавленных храмов он залез на разбитую колонну, ближнюю от Абалая.
И принес с собой гнетущее безмолвие, непохожее на то, что хранил Абалай, ведь у Абалая — это скорее привычка к молчанию, совсем не показная.
Древний явился, чуть не состязаясь в безмолвии, словно силился прогнать Абалая. Абалай чувствовал, как за ним следят, и, не претендуя ни на что, считая себя ничтожным, не уступал, присматривал за соседом. Подмечал, если древний опускался ниже дозволенного, брал на заметку, распалял неприязнь.
Страдая от дождя или стужи, терпел и сравнивал, не даст ли тот слабину.
Когда сыпал град, считал удары не по своей голове, а те, что долбили другого.
Поведение его было низким, приходилось это признать; но виной тому — злонамеренный надзор самозванца, оправдывался он перед собой.
Как бы то ни было, и тот и другой ждали, кто упадет первым. Каждый был начеку, ловя малейшие движения: не клонится ли другой набок во сне, не мутит ли его на солнце, не терзает ли страх…
«Может, белое пончо выигрышно придает ему вид блаженного…» — Абалай искал доводы, стараясь принизить превосходство древнего, получавшего больше подношений: те множились у подножия колонны.
После столетнего соперничества ни один не выиграл. Оба замерли ровнехонько в один и тот же миг, и высохли мало-помалу. Затем рассыпались, как пара черствых сухарей.
Эта ночная фантазия не прошла бесследно для всадника: подняла в душе тяжкую волну тоски и уныния.
Неустанно думает о мальчонке, вперившем в него взгляд. Проходят годы. Однажды встречается с этим взглядом. Знает, что ребенок, став мужчиной, пришел расквитаться.
Парень идет за ним следом. На добром скакуне. Его можно принять за молодого отшельника. Натыкается на Абалая в камышах. Глаза спокойные, решительные. Как и Абалай, он в лохмотьях.
Сообщает:
— Я вас искал.
— Долго?..
— Всю жизнь, как вырос.
Не спрашивает, утверждает:
— Вы знали моего отца.
Излишне спрашивать, кто он и кто его отец.
Просит:
— Сойдите с лошади, сеньор.
Абалай решает, что даже по такому поводу спешиться не может. Еще, размышляет, не следует объяснять причину: а то вроде как прячет свой страх.
Его раздумья затягиваются, и потому досадно, когда другой торопит:
— Сеньор, я пришел сразиться.
Абалай хладнокровно кивает в знак согласия, и юноша заявляет:
— Знаю, вы славитесь тем, что никогда не спускаетесь с лошади. Придется ссадить вас. Я предложил сойтись лицом к лицу, когда каждый стоит на твердой почве. Если не хотите, я подстроюсь под вас.
Неспешно вынимает он из ножен заткнутый за спиной нож. Легко и проворно Абалай нагибается как можно дальше и, метко подрубив, энергичным усилием срывает толстую, мощную камышину более метра длиной. Занимает позицию, держит трость наперевес, как копье, прежде сунув за пояс трехгранный ножичек.
Соперник удивляется:
— У вас нет стоящего ножа?.. Даже этим огрызком не воспользуетесь?
Но Абалай ни слова не проронил, ждет. Убивать он не собирается, но будет защищаться.
Сходятся. Абалай хлещет камышиной, царапает поверху. Старается ранить руку, сжимающую нож, надеясь обезоружить. Противник обходит его сбоку, бьет клинком плашмя, достигая цели, больно обжигая. Нападает снова, рубит, норовит рассечь лицо. Абалай уклоняется от удара, нож режет трость, идеально затачивая острие. Абалай инстинктивно держит трость наготове. Заточенным волей случая острием трость вонзается в неприятеля, раздирает ему рот, сбивает его. Тот сползает с коня, тщетно цепляясь за поводья.
Сверху Абалай изучает его секунду. Он не совершил недопустимого — не убил вновь. Сострадание и отвращение вызывает этот поток крови, в котором тонут стоны, захлебывается яростный крик.
Он соскакивает, спеша на помощь, тянется к поверженному, но замирает, вспомнив о непреложном законе, который нарушил, — не сходить на землю.
Удрученный, вопросительно смотрит вверх и сам для себя решает, что в этом случае правомерно оставаться на земле, сколько нужно.
Мига сомнений хватило, чтобы лежащий мститель взметнул острие клинка и вспорол Абалаю живот.
Абалай падает, стремительно теряя силы, резаная рана оглушает невыносимой болью. Понимает, что теперь тело его навеки соединится с землей. В помутившейся голове проносится нечеткое оправдание: «Не по моей воле случилось…».
Абалай, распластавшись в пыли, умирает, на губах его скорбная улыбка.
Ас
Надо брать служанку. Отец знает, в чем дело. Просто дочь больше не в силах делать работу по дому, от которой так пачкаются руки. Дочь называет другие причины, но отец не верит, хотя и не обсуждает их.
С тех пор как у отца отказали ноги, дочь сумела все организовать, чтобы обеспечить уход за ним, готовить обеды, убирать дом, присматривать за лавкой. Лавку, таким образом, можно было держать открытой с одним продавцом по восемь часов. С той поры прошло лет пятнадцать, в течение которых отец убедился, что дочь разочаровалась в мужчинах. Отец слышал от нее в их адрес только слова осуждения и перечисления банальных недостатков, которые она в них постоянно обнаруживала.
Когда наняли нового продавца, который не произвел на отца хорошего впечатления, поскольку не казался очень уж работящим и выглядел чересчур лощеным и франтоватым, дочь вдруг стала отказываться от работы по дому.
Теперь надо брать служанку.
В объявлении на витрине указана солидная сумма, за полный день. В конечном счете берут Росу Эстер. Ее привел отец, старый креол, это может служить гарантией.
Возможно, все эти пятнадцать лет дочь мечтала пойти в кино сама, после ужина.
— Теперь, когда с ним сидит служанка, — говорит она по вечерам и каждый раз находит интересную кинопрограмму, которую, естественно, не может пропустить.
Возвращается рано, чуть за полночь. Только однажды задерживается.
— Я встретила Мануэля. Пригласил меня на чашку шоколада. Он вроде ничего. Даже если ты хозяйка, это не повод вести себя высокомерно.
В другой раз она предупреждает заранее, что вернется поздно. Говорит так, словно просит разрешения:
— Мануэль пригласил меня в казино. Папа, я ни разу не была в казино. Если я откажусь, когда еще представится возможность? Кто меня туда сводит?
Отец понимает. Но ему это не нравится: дочери сорок семь лет, работнику двадцать три.
Роса Эстер кротка и пассивна. Безмолвно заботится о хозяине. Если тот коротает часы в отсутствие дочери, слушая радио, она принимает классическую музыку без малейшего намека на личные предпочтения. Хозяин изучает девушку: та поглощена чем-то помимо музыки и полностью игнорирует звуки, доносящиеся из приемника. Если он двигает шахматные фигуры, тщательно сосредоточившись на поединке с воображаемым противником, она тихонько сидит в своем углу, то ли поглядывая на хозяина, то ли разглядывая бог знает что. Тогда он, взглянув на нее, думает: «Отдыхает». Порой говорит про себя: «Отдыхает бедняжка. Работает не покладая рук».
Она ни разу не подходит посмотреть, во что играет сам с собой хозяин. Наверняка не догадывается, о чем речь, и считает это делом сугубо личным.
Как-то вечером хозяина навещает такой же, как он, старик, разница лишь в том, что гость ходит сам. Они играют партию. Роса Эстер смотрит издали, не отрываясь.
Следующим вечером, когда они остаются одни, она решается спросить:
— Сеньор, что это?
— Ты не знаешь?
Он удивляется и при этом гордится, что возбудил ее любопытство. Когда-то, «когда досуг молодежи, как он порой замечает, был более интеллектуальным», его трудно было обыграть.
Он отрывается от чтения. Объясняет Росе Эстер, что такое шахматы: это игра, но игра научная.
— Понимаешь? Она не похожа на другие игры. Как карты или кости. Для игры в шахматы требуется развитой мозг, напряжение мысли.
Девушке врезалась в память первая часть наставлений: это игра.
— Я тоже могла бы играть?
— Нет, нет, — заявляет он с аристократической высоты своего опыта; но раскаивается в порыве, принижающем девушку, и смягчает ответ: — В общем, не думаю, что у тебя получится, учитывая твой юный возраст.
Роса Эстер не возражает. Ни о чем не просит. Неужели и с этим смирится?
Хозяин не хочет отказываться окончательно:
— Есть выход. Игра попроще. Сгодится шахматная доска.
«Поищи-ка там», — велит он, и Роса Эстер по его подсказке находит коробку с деревянными фишками, красными и зелеными.
Он объясняет технику игры. Девушка быстро схватывает. Лицо хозяина расплывается в довольной улыбке. Он сможет чередовать свои шахматные пасьянсы и игру в шашки с кем-то, способным делать ходы.
Роса Эстер быстро учится. На следующий вечер она выигрывает три партии из четырех.
Дочь объявляет:
— Мануэль снова приглашает меня в казино.
— Да-да. Хорошо, — отвечает отец поспешно, пока дочь не передумала.
К назначенному времени он замечает, что она оделась не для посещения роскошного игорного зала, а гораздо проще, в легкое платье, которого он у нее раньше не видел. Это его несколько удручает. Но он не считает себя вправе высказываться.
Роса Эстер вновь у него выигрывает, партию за партией, вечер за вечером. Хозяин понимает, что игра потеряет привлекательность, если результат заранее предсказуем.
— Тебе очень везет, доченька. Посмотрим, как тебе повезет в шахматы. Ведь шахматы, — и он вздымает палец в жесте уверенности и превосходства, — это игра научная, и здесь везение не поможет.
Девушка получает представление о ходах и ценности фигур. Хозяин показывает несколько основных партий; естественно, самых простых. Естественно, выигрывает. Роса Эстер крайне умело применяет все, что смогла уловить, но он знает больше и неизменно застает ее врасплох. Однако она усваивает уроки партий, в которых он пресекает ее атаки, не давая никаких объяснений. Ветеран находит в этом удовольствие, и игра вновь пробуждает в его душе, как в юности, пламенную страсть.
Роса Эстер пробует траектории, которые не были ей показаны. Хозяин встревожен:
— Почему ты ходишь так ферзем?
— Неправильно? — смутившись, спрашивает девушка, собираясь убрать фигуру.
— Нет-нет, но…
Рука девушки повисает в воздухе, над ферзем, готовая исправить ошибку, если скажут.
— Так не ходят?
— Нет, дело не в этом. Просто…
— Значит, убрать?
— Нет, продолжай, но… кто научил тебя так ходить?
Девочка отводит руку назад. Глаза ее говорят: «Научил?..
Никто. Кто меня научит?»
Не проходит и месяца, а Роса Эстер уже почти не проигрывает.
Хозяин заводится не на шутку. Выиграть, «выиграть у этой девчонки» — теперь это всепоглощающая необходимость.
Дочь возвращается поздно. Она уже не объясняет, что была в казино. Здоровается. Отец рассеянно отвечает, порой недовольный тем, что она нарушает идеальный ход ладьи.
— Папа, как вы себя чувствуете?
— Хорошо, хорошо. Не отвлекай меня.
Затем Мануэль проходит в гостиную в два часа ночи. Сидит там до трех.
Утром приходит поздно. Однажды магазин открывается в десять. Мануэль не пришел, хозяйке удалось протереть глаза только к этому часу, а служанка тоже спит. Хозяин этого не замечает. Все легли после четырех. Тем не менее дочь отчитывает девушку.
— Ты слишком много себе позволяешь.
— У тебя найдется пятьдесят сентаво?..
— Да, мама дала мне пять песо из зарплаты.
— Хочешь, сыграем на деньги.
Хозяин знает, что отступает от определенных принципов шахмат, что поддается удовольствиям и соблазнам игр иного рода, вовсе не «научных», ощущает, что это будет больше по душе ему, а не Росе Эстер, как он пытается себя убедить.
Его предположения подтверждаются. Благодаря сокрушительному шаху он завладевает пятьюдесятью сентаво, и это вызывает в нем столь алчное и чувственное удовлетворение, что он решает сохранить его в тайне. Весь следующий день его переполняют ликование и оптимизм, их не способна умерить даже отчетность лавки за месяц.
— Так мало, дочь, так мало? Или в лавку уже никто не заходит?
— Папа, у нас нет новинок, а люди предпочитают современные расцветки.
— Мы никогда не ориентировались на тех, кто следит за новинками.
Отец изрекает истины и думает, что они должны влиять на перемены в жизни дочери, а заодно привести к улучшению торговой деятельности. При этом, правда, полагает, что состояние лавки — это уже не его забота. Ему принадлежат теперь ночи, после долгих однообразных лет жизни при дочери, когда о нем забыли прежние друзья.
— На песо, пойдет?
— Да.
Выигрывает он.
— Еще один?
— Да.
Выигрывает она.
— Два?
— Да.
Выигрывает она.
— На те два, что ты выиграла вчера?
— Ладно.
Он отыгрывает.
За месяц девушка обзаводится капиталом в семьдесят песо. Он научил ее ставить на кон все, и теперь нужно, чтобы эти деньги, проигранные по частям партия за партией, внезапно вернулись в его деревянную коробку. Это фонд его личных запасов, на мелкие расходы, на табак, на газеты, и в этот раз он иссяк чересчур быстро.
— На все, что ты выиграла у меня до сих пор?
Роса Эстер колеблется:
— Сейчас?..
— Нет-нет. Завтра.
Если бы она согласилась без колебаний, его бы напугала такая уверенность. Но она засомневалась. Будь у него семьдесят песо в коробке на ночном столике, могли бы сразиться сегодня же вечером. Но придется их просить.
— Дочь, дай мне семьдесят песо.
— А те, что у вас были?..
— Закончились.
— А вам на что?
Отец горячится:
— Я должен объяснять?
Если дочь ответит утвердительно, если она каким-то образом попытается игнорировать в этом авторитет отца, ей самой придется многое объяснять.
Но она отказывается от дискуссии. Однако, ответив согласием, уже выходя из комнаты, заявляет:
— Придется просить у Мануэля.
Просить у Мануэля! Отцу стыдно слышать такое признание дочери. Могла бы пощадить его самолюбие. Ах, никакого сострадания от единственного родного существа, оставшегося у него на свете. Можно полагаться только на эту девушку, действительно составившую ему компанию.
Он получает семьдесят песо. Ночью они переходят к Росе Эстер.
Он в замешательстве. Возвращается к осторожным ставкам по песо.
Опытный игрок в шахматы пытается понять, что происходит. Нередко он проводит дневные часы, обдумывая какой-то ход Росы Эстер, пока девушка моет полы, явно чуждая подобного рода заботам, одолевающим хозяина.
Его обескураживает то, что ее ходы настолько правильные.
Он не может объяснить этот казус самостоятельно. Пытается вспомнить то немногое, что знает из литературы о шахматах. Самих книг у него нет, ему давали их на время.
Когда мысли заняты чем-то другим, в памяти вдруг всплывает вполне отчетливо абзац, в свое время поразивший его. Это из книги… автора с французской фамилией.
С помощью дочери он добывает книгу. Перечитывает, выискивает.
Находит: «Ван Дузен доказал, что, применяя неумолимую логику, даже незнакомый с шахматной игрой человек может выиграть у чемпиона, посвятившего ей всю свою жизнь».
Это согласно Ван Дузену. Однако кто такой Ван Дузен? — задается вопросом старик. Если верить книге, ученый. Книга, правда, художественная, хотя о самом Ван Дузене не уточняется, вымышленный он персонаж или существовал в действительности. Хозяин чувствует себя не очень уверенно в литературных вопросах и не в силах твердо определиться на этот счет. Он ищет примечания издателя, предисловие, помогающее сориентироваться. Находит лишь биографическую справку об авторе: «Жак Фатрелл. Писатель французского происхождения. Родился в Соединенных Штатах Америки. Погиб при крушении ‘Титаника’ в 1912 году».
«Ну ладно, хоть автор был реальным человеком», — говорит про себя хозяин, иронически усмехнувшись. И возвращается к тексту: «Ван Дузен доказал, что, применяя неумолимую логику…». Прерывает чтение и предается размышлениям: «Неумолимая логика». Соотносит фразу с Росой Эстер. Заключает, стряхивая с себя груз переживания: «Да разве может отыскаться неумолимая логика в этом малолетнем существе?».
Чуть позже, в предрассветный час, когда слышен каждый шорох, отец замечает, что по двору кто-то ходит. Это не вор, нет. Как подумаешь такое? Дочь вернулась за десять минут до этого, и сейчас она у себя в спальне.
Тут у отца случается приступ негодования. Ему вздумалось проверить, способна ли дочь услышать посторонние звуки. Он говорит служанке, поглощенной решением задачи на доске и ничего не замечающей:
— Пойдешь в лавку. Зажжешь свет. Найдешь кусок материи, который тебе по душе. Не бойся, можешь шуметь, двигать лестницу, открывать дверцы прилавка. Выберешь и принесешь ткань, какая тебе приглянется на платье.
Роса Эстер повинуется. Шумит, как ей и велели.
Дочь, по всей видимости, ничего не замечает. А свет в спальне горит!
Роса Эстер возвращается с отрезом набивной ткани разнообразных ярких оттенков синего и желтого. Хозяин потрясен до глубины души, но не отказывается от задуманного:
— Посмотри на ярлыке. Сколько стоит метр?
— Тридцать песо.
— Сколько метров тебе надо на платье?
— Не знаю. Метра три…
— Ты очень худенькая. Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Ну ладно. Возраст не имеет значения. Три метра, говоришь. Это девяносто песо. Играешь на них?
— Я ставлю деньги, а вы ткань?.. Хорошо.
Хозяин играет увлеченно и так нервничает, что допускает ошибки даже в осуществлении своих замыслов.
Однако когда приходит время, он принимает меры предосторожности:
— Я сам отрежу. Принеси гибкий сантиметр и ножницы. Дочь не должна ничего знать. Потом приведешь все в порядок и погасишь свет.
Мануэль обнаруживает пропажу:
— Вчера у нас было шесть метров. Эта сеньора обещала вернуться сегодня. Ей нужно четыре. А у нас осталось не больше трех. Мы их не продавали. Где они?
Хозяйка вспыхивает. Врывается в комнату Росы Эстер с обыском. На вид это скромная клетушка только с самым необходимым — здесь живет девушка без особых потребностей. Под матрасом, в свертках за сундучком, в самом сундучке, лежат отрезы материи, нижнее белье, узкое кружево, пуговицы, украшенные вышивкой…
Дочь вытаскивает Росу за руку из кухни, трясет:
— Воровка! Дрянь!
— Я ничего не крала. Ничего не крала, клянусь Богом, — и плачет, силясь высвободиться из плена цепкой руки, из-под гнета унизительного обвинения.
Женщина тащит ее к отцу.
— Посмотрите на нее. Она воровка. Вот что я обнаружила!.. А сколько еще у нее дома!
Отец в отчаянии. Он пытается что-то сказать, но не может, а дочь сыплет оскорблениями, не желая ничего слушать.
Девочка плачет, умоляет его:
— Сеньор, ну пожалуйста… Объясните ей… Скажите, что не…
— Хорошо, — старик машет рукой, словно застигнутый врасплох. Ему удается лишь отчасти успокоить служанку, сдерживающую слезы. Дочь не унимается, шквал обвинений и догадок нарастает.
— Не ругай ее. Это моя вина.
Теперь замирает дочь. Цепенеет от признания.
— Она честно выиграла у меня, в шахматы, за все это время.
Дочь переспрашивает словами, взглядом:
— Папа… вы с ума сошли?
— Нет, я в своем уме. И это еще не все. Она выиграла у меня и верхнюю витрину.
— Как?..
— Да, дочь. Я надеялся отыграться сегодня ночью. Теперь ты все расстроила, и я не знаю, что нам делать.
Мануэль стоит в дверях с невозмутимым видом, слушает, не привлекая к себе внимания. Но теперь он решительно вмешивается. Когда хозяин признается: «Не знаю, что нам делать», он изрекает:
— Все у нее отобрать и выгнать.
Отец смотрит на него бесстрастно, как человек, вынужденный вести диалог с незваным гостем:
— Это невозможно.
— Почему невозможно?
— Мы ведь честные…
— Ха, — губы Мануэля кривятся в ухмылке.
Девушка возвращается вечером вместе со своим отцом, видно, что она ужасно боится. Ей пришлось рассказать все без утайки, иначе — как объяснить потерю работы? Как объяснить родным, что ей отказались отдать даже сундучок с собственной одеждой? «Пусть придет твой отец», — сказала хозяйка, и вот отец пришел.
Мануэль преграждает ему дорогу:
— Сеньориты нет, а сеньор в кровати. Вам придется объясняться со мной.
— А вы кто такой?
— Просто Мануэль Гутьеррес. Но вам придется объясняться с Мануэлем Гутьерресом.
Отца Росы Эстер подмывает дать ему затрещину.
— Ваша дочь украла.
— Что вы сказали, мальчишка, наглец?
Но рука, очень молодая и очень сильная, хватает его за лацкан.
Напоследок ему остается лишь крикнуть с порога:
— Я этого так не оставлю. Придет полиция! И правосудие! Отец Росы Эстер знает кое-кого из стряпчих. Вспоминает лица — и дела, которые с ними связаны, пытаясь стерпеть обиду. Он знает, что есть защитники бедных, но есть и такие защитники бедных, которые ошибались намеренно. Ему кажется, что дело у него чистое. Но поскольку тут замешаны азартные игры, а его фамилия — не лучшая рекомендация, выбирает одного пройдоху.
Пройдоха говорит:
— Нет никаких доказательств… И она несовершеннолетняя…
Отец отвечает:
— Понимаете, на кону много песо. А игорный долг — долг чести.
Тогда поверенный предполагает возможность мирового соглашения.
— Хорошо. Попробую пригрозить ему арестом имущества… Старик, говорите? Предупреждаю, потребуется подпись адвоката. А если проиграем, это будет стоить денег.
Отец Росы Эстер запускает механизм мщения. Теперь он успокоился и может забыть об обиде Мануэля Гутьерреса. К тому же в голове находится место и для соображений иного рода. Он их процеживает. Потихоньку.
У дверей дома их встречает мать Росы Эстер:
— Ну? Как?
Ответа нет.
Тогда она решает выместить досаду на теле дочери, вернувшейся без одежды и сундучка. Умудряется влепить пощечину, однако отец это твердо пресекает:
— Оставь ее. Она не виновата. Наоборот… — произносит он и снова погружается в размышления.
Просит мате и продолжает думать. Потом зовет Росу Эстер.
— Значит, у тебя счастливая рука?
— Ну… не знаю, — отвечает девушка учтиво и робко, не понимая, устроят ли ей головомойку или утешат ласковым словом, но предполагает скорее первое.
— Во что играла, только в шахматы?
— И в шашки.
— Во что?
— В шашки.
— А в карты?
— Нет, папа, только не в это. Клянусь, — она крестит рот двумя пальцами.
Подозревает, что допрос приблизился к самой опасной точке. Однако отец произносит неожиданные слова:
— Ладно, дело поправимое. Я тебя научу.
В голосе слышны досада, готовность принять неизбежное. Девочка смотрит на отца. Отец не улыбается, не шутит. Он говорит вполне серьезно. Такое впечатление, будто он заранее устал. Так бывает, когда ему предстоит работа.
Отец показывает эскобу до пятнадцати очков. Самое простое, считает он. Для девочки игра оказывается чересчур элементарной. Туте, бриско, труко. Роса Эстер не может повторить все присказки, сочиняемые отцом в рифму для украшения игры. У нее нет памяти. Но есть то, что требуется отцу: неизменно простой и краткий путь к победе. За кухонным столом отец терпит подряд столько поражений, сколько не припомнит за долгое время хождений по кабакам.
— Тереса, напеки к воскресенью пирогов.
Наступает назначенный для испытания день. Отец приглашает трех друзей. Все едят пироги с салатом и красным вином во дворе, под навесом из виноградных лоз. Затем Тереса протирает клеенку влажной тряпкой, а ее муж приносит колоду карт и коробочку с кукурузными зернами. Вчетвером садятся играть в туте. Отец проигрывает. В какой-то момент с хитрой усмешкой признается:
— Для труко у меня в запасе другой цветочек.
И представляет дочь.
Гости смеются. Что он имеет в виду? Труко — игра не детская, тем более не для девочек. Но подвигаются. И ставят по песо, без которого не обойтись в этой партии, даже если играешь «в шутку». Проиграв, гости понимают, что это не шутка. В игре они не новички, и выиграть у них с ходу может не каждый. Разве что — утешают они себя — девочке улыбнулась фортуна.
Но поскольку фортуна отворачивается от них весь вечер, а смириться с обидным проигрышем (по пятнадцать песо с носа) невозможно, условливаются еще об одной партии, для реванша.
На повторную игру приходит любопытный. Молва проникает на улицу и достигает местной забегаловки. Несколько друзей уговаривают отца привести девочку. Выбирают вечер среди недели, стараются не привлекать внимания. В этот вечер в баре народу больше, чем по субботам. Одни мужчины, из женщин только она. По эту сторону стойки. А по ту обретается жена хозяина, она незаменима, — кому еще ополаскивать стаканы! Ее тоже изводит любопытство, хочется краем глаза увидеть игру «этой замухрышки, которая всех обставляет».
Одним вечером не обходится. Их впереди много.
Затем, каждый раз, сворачивая в переулок, в самом конце которого стоит их дом, Роса Эстер достает из карманчика платья тридцать-сорок песо, отец принимает и пересчитывает их при свете фонаря прежде, чем войти.
— Матери скажи, если спросит, что сегодня шло не очень. Мол, выигрывала двадцать, но десять проиграла.
Отец тревожится, что она все время будет выигрывать. К счастью, иногда и проигрывает. Иначе только тщеславие редкого игрока могло бы допустить присутствие мелкой девчонки за мужским столом.
Мать боится иного. Она опасается мужчин. Вдруг кто распустит руки…
Рука, как-то вечером скользнувшая к Росе Эстер, не стремится приласкать украдкой, не собирается ловко пробудить в ней женщину. Рука вытягивает из кармана денежки. Идет последняя партия, девушка проигрывает, и ей нечего положить в карман, когда приходит время подняться из-за стола.
В переулке, не дожидаясь ставшего излишним напоминания отца, она ищет пачку. Денег нет. Смотрит под ноги.
— Папа, я обронила.
Они обследуют переулок, с помощью спичек рассматривают следы, стараясь искать там, где прошли. Приходят в бар. Поднимают хозяина. Осматривают пол.
— Полицию бы позвать. Бесстыдники. Так обмануть ребенка.
Отец вечно грозит полицией, но в полицию не обращается, да и не обратится. Знает: ни один из знакомых полицейских «не рассудит по справедливости».
«Вот и накликал», — говорит он себе на следующий вечер, когда в дверях бара появляется страж порядка. Не он один пугается при виде полиции. На столе денег нет, только бобы, чтобы вести счет. Тем не менее надо устранить намек на денежные ставки, сквозящий во взглядах, в нервозности рук.
— Здравствуйте…
— Здравствуйте, сержант.
— Чего изволите?
— Может, рюмочку?..
Движением руки он отказывается, направляясь к столу.
Игра не прерывается, иначе тайное станет явным. Роса Эстер до конца не понимает всей опасности присутствия полицейского за игорным столом. Не проявляет беспокойства. Сдает она. Ее пальцы приобрели большое проворство.
Полицейский просит: «Подвиньтесь!» — и встает между расступившимися. Слышен шепот одобрения, никто не допускает иных замечаний. Им неведомо, зачем пожаловал страж порядка.
А тот подначивает: «Что? Не на деньги?». Кто-то отрицательно качает головой. Другой опровергает открыто, спокойно, как очевидное: «Нет, сержант. Какое там…». Отец считает необходимым пояснить: «Забавы ради, сержант. Друзья хотели поглазеть на этот казус». Называет дочь казусом, ведь отпираться нет смысла, он даже чует, что полицейский с тем и пришел, чтобы проверить слухи. Поэтому с вызовом позволяет себе дерзить: «Казус — чистое везение. С ней на деньги никто и не решается».
Блюститель порядка разглядывает его. Намек понят и кажется слишком смелым. Приходится реагировать. И речь идет уже не о чести мундира. Достает купюру в пять песо. Кладет поверх карты. Девушка снимает и сдает. Забирает купюру в пять песо. Полицейский изучает лицо девушки. Она похожа на игроков, которых выигрыш не воодушевляет. Роса Эстер даже не смотрит на соперника.
Полицейский запускает руку в карман. Ищет отдельную купюру. Особо рисковать не хочется. Говорит: «Ставлю еще» — и с досадой отмечает, что вытащил купюру в десять песо.
Играет еще три кона. Ни одна из его бумажек не задерживается.
Тогда он унимается, но не признается: то ли деньги все вышли, то ли нет охоты продолжать игру, — и заключает: «Казус — чистое везение».
Наступает минута замешательства. К счастью, кто-то спасает положение, объявив партию в эскобу. Чтобы не переборщить по части непорочности, ставит всем по рюмке ликера. Скосив глаза на полицейского, пока тасует колоду, поясняет:
— Ликерчик сладкий, персиковый. Для девочки, сами понимаете, сержант.
Вечер выдался неприятный. Отец Росы Эстер знает: кое-кому досадили. Все это время, каждый кон, он желал, чтобы игра у дочери не пошла. Предупредить бы… Но девушка видела купюру и ставила бобы, ясно, что при поддержке отца, а он не мог противиться.
Приходится переждать четыре дня.
Наведывается к поверенному. Поверенный признается, что приказчик, некий Гутьеррес, не дал ему поговорить с хозяином лавки. Придется составить что-то вроде иска. Нужны деньги.
Отец Росы Эстер кипятится: «Опять этот лезет? Я ему покажу». Спрашивает: «Сколько?». Сколько нужно денег?
Поверенный не ждал такого простодушия и не обдумал сумму, на которую мог бы рассчитывать. Колеблется:
— Ну… думаю, песо сто, сто двадцать.
— Принесу пятьдесят.
— Пожалуй… дело пойдет, если скоро. Завтра?
— Завтра.
Надо выиграть пятьдесят песо.
Видно, опять встал не с той ноги. Первый, кого обнаруживает отец Росы Эстер, войдя в бар, это незнакомец, он появился в тот вечер, когда играл на деньги сержант. Уже тогда он ему не понравился. У парня вид задиры, и что особенно неприятно — задира этот из молодых да ранних. И не местный, он такого в округе не припомнит. На кон не ставил, за игрой не следил. В общем, явно лишний, не в обиду будь сказано. Шел бы себе дальше, если занесло мимоходом. Но он вернулся.
Прежде чем сесть, отец Росы Эстер подходит к стойке и кивает хозяину.
— Кто это?
— Не помните? Сын доньи Кристины Лейес, что была прачкой.
— И правда. Как вытянулся, не признать. Сколько с тех пор прошло?
Скромное положение матери еще ни о чем не говорит — сын может оказаться кем угодно. Поэтому отец Росы Эстер, стараясь говорить незаметно на случай, если тот, о ком идет речь, в эту минуту взглянет и по губам угадает слово, спрашивает хозяина:
— Вынюхивает?
За стойкой мелькает беспокойный взгляд человека, до этого не думавшего, что близко может таиться опасность. Хозяин долго смотрит на парня, прежде чем дать ответ, и наконец успокаивает:
— Не думаю. Взгляни на его руки. Работал. Не много, но…
В свою очередь, отец Росы Эстер рассматривает парня.
Подытоживает:
— Слишком хорошо одет для лоботряса.
— Ну… кто знает… — и хозяин жестом словно тасует карты.
Это убеждает, хотя и не окончательно, отца Росы Эстер: аргумент резонный и неплохо объясняет любопытство, которое вызывает его дочь. Поэтому он готов невозмутимо воспринять слова, которые парень произносит прямо ему в лицо тоном советчика:
— Прелесть девочка. Жаль, что не умеет в покер.
— Жаль? — отец говорит медленно, но громко, чтобы слышали другие, на случай провокации. — Это почему же, позвольте узнать?
Парень смотрит с улыбкой, без вызова. Почуяв недоверие, пытается к себе расположить:
— Потому что жаль, что она сидит в своем квартале. Я знаю одно кафе…
Отец встрепенулся, словно возмущенный гнусной инсинуацией. Парень сразу все схватывает и снова успокаивает его улыбкой и жестом:
— Ну не сердитесь. Послушайте. Так вот, я знаю одно кафе, где на покер стекается много этого, — и он красноречиво трет большим пальцем об указательный.
Жест повисает в воздухе перед носом озадаченного отца.
Договорились. Лейес обучит ее покеру. Проведет без шума в кафе. Отец сможет присматривать за ней каждую минуту. Они не говорили о распределении прибыли. Избегают пока говорить об игре как о бизнесе. Еще можно немного поделикатничать. Пока не потребуется конкретика.
Лейес остается в рубашке и вешает пиджак, соблюдая правила бережливости. Выглядит пиджак неплохо, но он всегда один и тот же, и его надо беречь.
Тотчас начинается урок. Преподаватель держится серьезно, не отвлекаясь от темы, без шуток.
Донья Тереса напевает в патио, намыливая белье.
Не выпуская сигарету изо рта и не отрывая взгляда от своих карт, Лейес указывает:
— Пожалуйста, дон, скажите ей, чтобы…
Отец Росы Эстер смотрит, вначале не понимая, чего от него хотят; еще один взгляд и кивок головы подсказывают ему. Он выходит в патио, и пение сразу обрывается.
Отец вновь садится у стола и на какое-то время отвлекается от игры. Он не уверен, что поступил правильно. Не любит, когда им командуют. Тем более тот, кто младше его. Тем более в его собственном доме. Особенно раздражает то, что встревает донья Тереса. Она не может выразить недовольство мужу, но осмеливается заговорить с парнем, на правах бывшей соседки его матери:
— А вы нигде не работаете?
— Почему вы спрашиваете, сеньора? — отвечает тот очень спокойно и без всякого смущения.
— Ну, приходите каждый день после обеда.
— Вы наблюдательны, да? — улыбается. — По случайному совпадению у меня отпуск.
— И отпуск никогда не кончается? — спрашивает Роса Эстер, мило засмеявшись.
Парень смотрит на нее и тоже смеется. Они поняли друг друга. До этой минуты Роса Эстер ни разу не обращалась к нему с фразой, не касающейся игры. Она никогда не говорит за столом. Никогда не заговаривает с мужчинами. Неделями находится в их обществе, и ничто не может ее смутить. Даже сквернословие.
— Вам не кажется, что девушка уже научилась? — заявляет отец к тому моменту, когда учеба длится целую неделю.
— Еще нет, дон. Покер, знаете ли, это такая история, в которой много историй.
Отца подмывает ответить: «Знаем, какие у тебя истории!», но он сдерживается, поскольку понимает: надо аккуратнее. Его мучают ревматические боли, дающие право изречь: «Видите, приятель, в итоге работа убивает человека».
Почувствовав себя хозяином положения, Лейес прощупывает почву:
— Покер — дело тонкое, дон. Не спешите разбогатеть. Всему свое время. Наберитесь терпения.
Но отец заболевает раньше времени. «Постельный режим», — заключает жена, и муж слушается, так как не в силах вынести боль. Поскольку болезнь требует постельного режима, отец надеется просто отлежаться, без врачей и лекарств.
Лейес заглядывает в комнату.
— Здрасьте… Как нынче настроение?
— Так себе, не ахти. Точнее — хорошо. Но стоит пошевелиться, хоть вой.
— Может, «скорую» вызвать?
— Нет, никаких больниц! Меня так просто под замок не засадишь.
— Не сердитесь. Я ведь о «скорой» сказал, не о больнице.
Через три дня:
— Ну что, дон? Решились?
— Слышите, Лейес. Подойдите-ка.
И когда Лейес встает у изголовья, тасуя колоду для очередного урока, больной задает вопрос, в котором слышится просьба.
— У вас не найдется?..
Лейес схватывает на лету. Лейесу даже не надо уточнять сколько:
— Нет, дон. Здесь на меня не рассчитывайте. Рад бы, да…
Отец знает, что настаивать не имеет смысла. Он откидывается на подушку и, устремив взгляд в потолок, сожалеет о рухнувшей надежде.
Лейес не уходит. Улыбается.
— Но есть выход, — говорит Лейес с долгими паузами, растягивая эти три слова. Повторяет вкрадчиво, не отводя пристального взгляда: — Но есть выход.
Отец смотрит на Лейеса. Видит улыбку. Не верит ему, однако, решается спросить:
— Какой?..
— Ну… сами знаете, — Лейес тянет слоги.
— Откуда мне знать? — отец готов вспылить, но не спешит, пока толком не разобрался, о чем речь.
— Знаете. Девочка подготовлена к кафе.
— И вы мне говорите это сейчас?
— Сейчас она готова и сейчас это нужно вам, — Лейес говорит с непривычной быстротой. Это его решение, из тех, которые не обсуждают.
Отец соглашается не сразу. Поскольку он медлит, парень подгоняет:
— Сейчас это нужно вам, ведь так? — он снова растягивает слова.
Отец уступает, причитая:
— Именно сейчас, когда я прикован к постели и не могу с ней пойти.
— Вы мне не доверяете, дон?..
Отец смотрит на него и умолкает.
Суббота. Роса Эстер нарядилась во все лучшее. Мать помогла ей одеться. Такого не случалось с самого детства Росы. Мать причесала ее и сама воткнула в волосы дочери гребень.
Выходя из переулка, Лейес берет ее под руку. Росе это нравится. Ей хотелось бы впервые надеть сегодня вечером туфли на высоких каблуках.
Пара садится в трамвай.
— Где это?
— Молчи. Не спрашивай. Тебе понравится.
Он ведет ее в танцзал. По обе стороны от входа, залитого огнями, нарисованы маски. В зал входят женщины в платьях из блестящих тканей, темноволосые, простые женщины, по сути такие же, как она сама. Роса Эстер обнаруживает это сходство под разнообразием нарядов.
— Нравится?
— Да.
— Умеешь танцевать?
— Немного.
— Пойдем. Я научу тебе остальному.
В дом девушки Лейес возвращается один. Через два месяца после того, как ушел с ней.
Мать дома одна. Встречает его неприветливо, держится настороженно, словно с опаской ждет от этого человека еще большего вреда. Не смотрит ему в глаза, даже когда задает вопрос:
— А она — где?
Парень смотрит на нее беззаботно, не придавая значения ее словам. Отвечает на вопрос вопросом:
— А ваш муж, донья Тереса? Я к нему, — и снисходит до объяснения: — Нам надо поговорить.
— Скоро придет. Он вышел, — и, в свою очередь, поясняет: — Он уже ходит.
Жалеет, что говорит так с этим человеком. И, собравшись с духом, показывает, как она зла. Выпаливает:
— Мы уже заявили в полицию. Вам это дорого обойдется: она несовершеннолетняя. Пока вам везло. Кто знает, куда вы ее запрятали. Но теперь кончено, кон-че-но! Сами попались!
Лейес невозмутим. По окончании тирады он поворачивается и идет к двери.
Она пытается преградить ему дорогу, кричит:
— Не уходите! Дождитесь его!
Не прерывая неспешного шага, не удостаивая женщину взглядом, он снисходительно бросает:
— Не пугайтесь. Я не ухожу.
Свернув в переулок, отец замечает его, стоящего у дверей дома. Бормочет про себя: «Жаль, что кольт отобрали». Правда, было это много лет назад. С тех пор как поднялся с постели, он носит на поясе короткий ножик, кухонный, с треугольным лезвием, хорошо заточенный, остроконечный, не заметный под пиджаком.
Не знает, вооружен ли Лейес.
Подойдя ближе и видя, как тот серьезен и хладнокровен, считает разумным вступить в переговоры. «Но если потребуется…», — говорит он себе и намеревается в случае чего не спасовать.
— Добрый денек, дон…
Отец откликается на приветствие предупреждением:
— Вам виднее, насколько он добрый.
— Неплохой вроде бы.
Отец остановился в двух метрах, ждет.
— Я пришел сказать вам, что мы поженимся.
Такого отец не ожидал. Совсем не ожидал. У него нет слов. Трудно в этом признаться. Он молчит и смотрит неотрывно, как бы говоря: «Еще. Скажи еще что-нибудь, тогда я пойму лучше. Здесь что-то неясно».
Лейес замечает его смятение и говорит откровенно:
— Я взял ее на пробу, проверить. Теперь я согласен. У Эстер будет ребенок, — он улыбается. — К сроку, понятное дело.
За столом на кухне отец обретает дар речи:
— Где она?
— В пансионе.
Мать волнуется:
— Как она?
Лейес поворачивается к ней. Он удивлен вопросом:
— Хорошо. Как же еще?
И обращает взгляд к отцу, полагая, что только от него впору ждать разумных вопросов. Отец воспринимает знак внимания со всей серьезностью:
— Ладно, теперь хотелось бы узнать, когда вы собираетесь пожениться?
— Пожениться? Как все уладим. Что до меня… А она согласна.
— Но она же несовершеннолетняя.
— Конечно, — Лейес соглашается с тем, что она несовершеннолетняя, не говоря ничего больше, чтобы не обнаружить, как он опасается дополнительных требований родителей.
Однако отец избегает ставить вопрос напрямую.
— Где вы будете жить, позвольте узнать?
— Не здесь.
— Как это — не здесь? — отец встает.
Лейес спокоен. Он выжидает. Когда же возмущенный отец перестает бурчать, мирно произносит речь, из которой ясно, что мнение родителей Росы не очень-то его и заботит.
— Сказано же: «Я взял ее проверить и согласен». Поймите. Если вы будете сердиться и не дадите согласия, я уйду, и вы нас больше не увидите. Я вам ее не верну. Не надейтесь. Я взял ее лишь затем, чтобы проверить, как с ее хваленым везением у нее пойдет покер. Если я согласен, то потому, что пошло хорошо. К тому же она мне нравится. Худенькая, но сойдет. Если я приведу ее сюда, бизнес не выгорит, для меня, понятное дело.
После некоторой паузы спрашивает:
— Договорились?
Отец понял. Из этого парня ничего не выбьешь. Ничего.
Однако даже от угаснувших надежд иногда остаются тлеющие угли. Еще не связав себя ответом, он задает вопрос, и в словах звучит что-то вроде отеческой заботы:
— У вас будет мальчик? Точно?
— Да, конечно. Наверняка.
— Понимаете… — сетует отец, как бы жалуясь самому себе. — Это у меня единственная дочь. Она уходит. Через два месяца она уже замужем и ждет ребенка. Через год у нее будет своя семья, а старики… развалины, одинокие, жалкие. — Тут его внезапно осеняет, глаза загораются. — А может, вы отдадите ребенка нам?
— Отдать ребенка? А зачем? — за удивлением и вопросом кроется неприятие; но Лейес, поразмыслив, считает возможным добавить: — Что до меня… Но мать? Она не захочет, нет. Отец дал согласие, не прося ничего взамен. В воскресенье Роса Эстер с Лейесом придут обедать.
Мать ждет воскресенья.
Спрашивает мужа:
— Зачем тебе ребенок? Его же надо растить, понимаешь?
Отца коробит вопрос:
— Он ведь сын Росы, да?
— Сын, ну и что?
— А вдруг ему передастся ее везение? Несколько лет в нищете, зато потом… улавливаешь? Этого никакой хлыщ не уведет.
Жена убеждена: супруг-то у нее — не промах. Какое-то время обдумывает план мужа.
— О чем ты думаешь?
— Лейес был прав: она не захочет.
— Кто и чего не захочет?
— Моя дочь. Не захочет отдать его тебе.
Тон ее безобидный, но слова «Моя дочь» и «Отдать тебе»…
В открытую входную дверь стучат. Жена послушно встает. Муж сидит, досасывая остатки мате.
Жена возвращается.
— Это опять поверенный. Говорит, если ты ему что-нибудь не заплатишь, дело с судом застопорится.



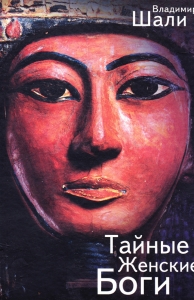




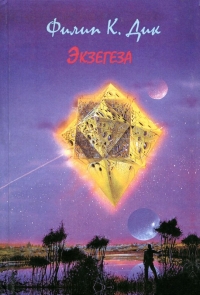



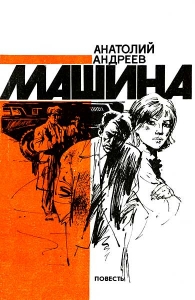
Комментарии к книге «Рассказы», Антонио Ди Бенедетто
Всего 0 комментариев