Артур Клинов Шалом
Шелом по-старославянски – шлем воина.
По-белорусски шлем воина – шалом.
Шалом на семитских языках – мир.
У многих народов шалом – форма приветствия.
В разговорной речи, про человека странного,
говорят: человек «с приветом».
Чилийское красное
Утром он проснулся от дикого желания пить. Обнаружив, что спит в одежде, кое-как встал, отпил полбутылки минеральной воды, разделся и рухнул обратно в постель. Так бы он и спал до самого вечера, и, возможно, ничего этого не случилось бы, если б не треклятые тещины сапоги.
Он вспомнил о них часа через два, когда проснулся отпить следующие полбутылки воды. Сознание с досадой резанула мысль, что сегодня суббота – последний день в Бонне, и уже завтра надо отправляться назад в Могилев. Но до этого он должен совершить шоппинг – купить подарки дочерям и жене, а главное, сапоги для тещи, которая специально выдала на это деньги. Конечно, можно сделать покупки в Берлине, но он будет там всего несколько дней. Здесь же за три недели он успел все присмотреть, нужно только оторвать голову от подушки и пройтись по давно известным местам.
Он снова забрался в постель и тупо уставился на свисавший с потолка большой белый шар люстры. Мысль о шоппинге не давала расслабиться и заснуть. «Вот паскудство! – повернулся он на бок. – Ждешь открытия выставки, будто за ней дверь в новую жизнь. А там всё: слава, деньги, почет, красивые машины, домик во Франции. И всякий раз откроешь ее, и то же дерьмо – бодун, сушняк, Федор Михайлович, скотина… нажрался… Швэбсу бы сейчас… лимонного… Еще эти идиотские тещины сапоги!»
Накануне он присутствовал на банкете по случаю окончания их скульптурного пленэра. Незадолго до этого они с Генрихом выбрались в «Лидл», где купили по паре вина и две бутылки дешевого виски – четыре семьдесят евро за штуку. За много лет вернисажного стажа он усвоил бесспорное правило: на любой, пусть даже самый шикарный банкет лучше приходить со своим. Тогда тебя не беспокоит толчея вокруг столиков с дармовым вином. Ты не посматриваешь с тревогой на оставшиеся нераскупоренные бутылки, стоящие за спинами официантов, и уж точно спокоен – в десять вечера тебе не придется бежать на ближайшую бензоколонку за дорогим и дерьмовым пойлом, так как все магазины в округе уже закрыты.
За час до вернисажа они, устроившись на лавочке за скульптурой Генриха, опрокинули по бутылке чилийского.
Генрих был добрым малым, таким же, как он, простым рядовым великой арт-армии, чьи безымянные могилы когда-нибудь затеряются в бескрайних полях лэнд-артов, поп-артов, видео и прочих концептуал-артов. Но его скульптура, больше похожая на деревянный дачный сортир, зачем-то поставленный на главной аллее парка, ему не особенно нравилась. Ему больше нравилась инсталляция Франки – лабиринт, собранный из огромных полиэтиленовых пленок. Когда он заходил в него, пленки начинали на ветру шевелиться и манили проследовать далее – в глубину своих переплетений, где, казалось, зрителя должен ожидать приятный эротический приз.
Ему нравилась эта работа, но еще больше нравилась сама Франка. Когда она впервые зашла в мастерскую, его тронули ее глаза – большие, красивые и печальные. Он сразу понял, что Франка одна из тех вольтанутых солдаток искусства, которые отдают ему жизнь, взамен получая лишь одиночество да пачки каталогов с выставок и каких-то идиотских пленэров. Из симпатии, а может, из жалости, он тут же предложил гостье на выбор – пиво, вино или виски. Она согласилась на виски, но, не допив пол стакана, ушла, оставив в мастерской аромат шанели номер пять.
Потом Франка часто заходила к нему, выпивала полстаканчика виски, рассказывала что-то о своих проектах и величала его на французский манер – Андрэ. Обычно друзья обращались к нему по фамилии или просто говорили – Андрей, жена иногда называла – Андрейка, но Андрэ звучало особенно. В нем не было ни будничного «Андрея», ни простецкого «Андрейки», но присутствовало нечто такое, что уносило его на Монмартр, в романтические грезы, невольно помещало его рядом с Модильяни, Роденом, Пикассо.
Андрэ нравились грустные глаза Франки. Он видел в ней музу. Само имя ее несло в себе что-то прекрасное. Франка… Франция… Загадочная страна, манившая его с юности. Парижские кафе, Эйфелева башня, Мулен Руж, Пляс Пигаль, Ван Гог, Дега, Лотрек. Андрейка же имел виды скромнее. Он просто по-фронтовому хотел затащить Франку в постель. Однако та еще засветло уезжала ночевать в город, где остановилась у андрогинного вида коротковолосой подруги. Случай соблазнить ее мог представиться лишь на открытии выставки, когда гости никуда не будут спешить, а, выпив и захмелев, начнут составлять теплые веселые компании с перспективами, уходящими в ночь.
Отвесив дюжину комплиментов «сортиру», который построил Генрих, хлебнув по большому глотку виски просто из бутылки, они отправились на открытие выставки. Народу к тому времени собралось немало. Кроме Андрэ и семи немцев в пленэре участвовали еще пара французов, итальянец, швейцарец и один финн.
Все, кроме него, были художниками из старушки-Европы и перетекали с пленэра на пленэр, словно это было нечто обыденное, вроде похода в булочную за свежим багетом. Он же представлял маленькую, забытую Богом страну, что приютилась где-то за забором Европы. Всем, кто находился по эту сторону, она казалась зловещим Мордором из сказок Толкиена, где правили орки, издевавшиеся над бедными хоббитами и по-всякому ущемлявшие их права.
Чтобы помочь хоббитам, Старушка время от времени приглашала их на какой-нибудь семинар – разъяснить, как победить орков на выборах и преобразовать Мордор в демократию хоббитов. Иногда на литературный фестиваль – послушать, как звучит их странный архаичный язык, или, как сейчас, на скульптурный пленэр, чтобы убедиться, что они в принципе еще существуют и даже способны создавать произведения искусства.
Правда, многие хоббиты, не дожидаясь специального приглашения, сами всякими способами проникали сквозь щели забора и расползались по необъятному двору матушки-Европы, основывая крошечные, в принципе безвредные и никому не заметные колонии в Берлине, Брюсселе, Амстердаме, Варшаве. В такую маленькую берлинскую колонию хоббитов Андрэ собирался отправиться на пару дней сразу после окончания пленэра. Но сначала предстояло завершить начатое дело – соблазнить Франку.
Он сразу нашел ее глазами, когда они с Генрихом уже навеселе ввалились в павильон, где стояли накрытые фуршетные столы. Гости – в основном любители искусства из Бонна и Кёльна – расхаживали по залу с бокалами красного вина.
– Ну что, окропим глотку красненьким? – Андрэ ухватил бокал с проплывавшего мимо подноса. – А ты знаешь, что у нас вино делают из картошки? Только оно зеленого цвета и называется «Крыжачок» – есть такой славянский танец. Главная проблема, когда его пьешь, – чем глотку заткнуть, чтобы обратно не вышло. Просто конфетка или кусок хлеба не помогут. Лучше всего огурец соленый или луковица, тогда есть шанс, что оно в тебе останется.
– Да… Казацок, – завороженно повторил Генрих.
Тем временем разговоры вокруг стихли, и на сцену начали выходить важные, специально приглашенные гости.
Они рассказывали о том, какой замечательный получился проект, как он помогает налаживать контакты между народами.
Андрэ оставил Генриха слушать умные речи о дружбе народов, а сам начал потихоньку пробираться в сторону Франки. Протиснувшись через публику, он стал у нее за спиной и принялся ласкать ее взглядом. Словно почувствовав это, Франка вдруг обернулась и шепнула на ушко:
– Привет!
– Ты ведь сегодня не уедешь? Когда все закончится, пошли ко мне!
– Посмотрим, – полунамеком на согласие отозвалась она.
Оставив Франку слушать речи о высоком мастерстве собравшихся здесь художников, Андрэ полетел к Генриху, чтобы на радостях сделать с ним еще по одному солидному глотку виски.
Все начиналось неплохо и, пожалуй, должно было так же неплохо закончиться, если бы после второго глотка виски на сцену в кустах не вскарабкался Андрейка. Его наглая, скабрезная рожа с масляными, похотливыми глазками нарисовалась на благородном лице Андрэ, едва они с Генрихом, уединившись в зарослях парка и отхлебнув из горлышка, закурили по сигарете.
Далее события развивались по обычному для Андрейки сценарию. Пусть бы он даже пил, но сосредоточил внимание на Франке, то, вероятно, все пошло бы, как было задумано. Но увидав, сколько симпатичных фройляйн показалось из павильона после завершения торжественной части, его истомившиеся от воздержания кошачьи глазки налились валерьяновым маслом, и он кинулся знакомиться, поить и обхаживать каждую, за кого цеплялись его коготки.
Большинство инсталляций помещались не в павильоне, а были разбросаны по обширной территории старого садово-паркового хозяйства. Андрейка также отправился к месту, где располагалось его творение, и приготовился к встрече фройляйн, которые рано или поздно должны были набрести на этот «шедевр». Тем более, «шедевр» являл собой объект весьма заметный.
Андрейка изваял две большие соломенные скульптуры. Одна изображала обнаженную Венеру, другая была копией античного Аполлона. Статуи стояли на постаментах друг против друга, в боковой аллее парка, и походили на двух крупных, больше человеческого роста, косматых мишек. Узнать в одном мишке Венеру можно было по отсутствию рук и большим соломенным грудям, что неуклюже топорщились ежиками в три стороны света. Аполлон же стоял с поднятой рукой и почему-то таким же значительным, как рука, мохнатым членом, который пялился куда-то в направлении Венеры, словно дуло русского танка – к землям Пруссии.
Лишь начали появляться гости, Андрейка с разной степенью воодушевления принялся объяснять им, что он, собственно, хотел сказать этим произведением. Если подходила пожилая пара или какой-нибудь критик, его рассказ был скуп и краток. Он говорил о новых возможностях, которые дает художнику такой материал, как солома, о связи с традицией, о новом прочтении классики, наигранно вздыхал и что-то невнятно поддакивал, когда разговор заходил о бедствиях хоббитов в его несчастной стране.
Но как только появлялась симпатичная фройляйн, он тут же вскакивал на коня, доставал небольшой пластиковый стаканчик, предлагал даме виски, сам делал изрядный глоток из бутылки, а дальше воображение несло его в необъятные степи. Он рассказывал про гениальность соломы как материала, о ее двусмысленности. Говорил, что на свету она сияет чистым золотом, но, если всмотреться, любой предмет, изготовленный из нее, представляет собой образчик разложения материи, труху, коей, по сути, является все земное. Особенно это касается соломенных человечков, которые напоминают ему полуистлевших вурдалаков из фильмов ужасов. Далее он переходил к особенностям соломенного секса. Рассказывал о его абсолютной экологичности и перспективности. О том, как правильно должны совокупляться соломенный Аполлон с соломенной Венерой и что делать, чтобы партнеры во время акта не развалились. Девицы не без удовольствия и любопытства слушали его, посмеиваясь, выпивали виски и, несмотря на попытки Андрейки подольше задержать фройляйн у соломенных мишек, уходили.
Между тем стемнело. Посетителей стало меньше. Андрейка вдруг вспомнил о Франке и с ужасом отметил, что виски почти закончилось. Первым делом, подумал он, надо бы найти Генриха – у него должна оставаться еще бутылка, а потом отправиться на поиски Франки.
Он обнаружил Генриха в укромном уголке парка в небольшой, но веселой компании. Тот был уже изрядно пьян, а виски в его бутылке оставалось не больше стакана. Уверенным жестом изъяв оставшееся, Андрейка сделал большой глоток и все последующие события этого вечера помнил лишь фрагментарно.
Они, меняя компании, что-то пили еще из других бутылок. Он по-прежнему пытался обаять каких-то девиц, но был уже в таком градусе, что полета не получалось, а выглядело это как-то скабрезно и пошло. Пару раз они пересекались с Франкой, но она находилась в компании незнакомого плейбоя. Потом они сгоняли с Генрихом на бензоколонку купить еще бухла. Затем он исполнял каким-то фройляй-нам «Очи черные» и «Тумбалалайку», говорил с кем-то в кустах о роли будущей белорусской революции, пел блуждающим басом «Смело мы в бой пойдем» и приглашал всех приехать в Могилев. В других кустах он рассказывал о Москве как о новой Мекке мирового искусства, пел уже совсем раздолбанным басом «Боже, Царя храни», нагло приставал к Франке в присутствии неизвестного фраера и около четырех часов ночи, не помня как, приплелся к себе в комнату и тут же отключился на неразобранной кровати.
«Вот сволочь, Мария Прокопьевна! И тут своими каблуками меня достала! Ладно, – решил он, повернувшись на другой бок, – черт с вами, шоппинг так шоппинг! А к обеду, прогулявшись, выпью в городе пару бокальчиков пива». Мысль о пиве показалась приятной. В отличие от многих своих друзей Андрэ старался не похмеляться. Уже давно он исповедовал методику Федора Михайловича. Он сам придумал этот способ борьбы с запоями и назвал его в честь любимого писателя своей юности – Федора Михайловича Достоевского.
Суть метода была проста. Если накануне ты нажрался как свинья, то должен понести наказание и не пить в следующий день до захода солнца ровным счетом ничего, кроме воды. Ты должен искупить вину физическими муками своего тела, пройти испытание, повисеть прибитым толстыми ржавыми гвоздями к собственному похмелью.
Андрэ шел к этому методу долго. В молодости по неопытности он, как и большинство его сверстников, практиковал лечение с утра. Но, выпив утром, он продолжал и днем, затем вечером, а к ночи бывал уже мертвецки пьян. На следующее утро он выпивал опять, и все повторялось. Так могло продолжаться несколько дней подряд, неделю и даже больше. Однажды он понял, что проблема кроется в первой рюмке – вернее, времени суток, когда ее поднимаешь. Если ты поднимаешь ее вечером, так сказать, после захода солнца, то шанс заблудиться в запое становится минимальным.
Удивившись простоте и гениальности своего открытия, Андрэ подвел под него теоретическую базу, обосновал ссылками на классиков, на Священное Писание и стал проповедовать это учение всем и всюду.
Со временем он и сам так уверовал в «Федора Михайловича», его «через страдания к совершенству», что даже стал находить в этом некое мазохистское удовольствие. Бывало, крепко выпив накануне, он в муках, обливаясь холодным потом, шел к совершенству – ждал захода солнца. Однако в этих муках присутствовало некое сладостное предвкушение, которое росло, набухало с каждой минутой. Андрэ представлял, как пробьет шесть, он подымет этот сладкий бокал холодного пива, и оно прольется в его иссушенное и истерзанное нутро самим совершенством – божественным, солнечным, исцеляющим напитком.
Обычно время захода солнца он назначал на шесть вечера. Но сегодня, в связи с особой тяжестью похмелья и из-за этих чертовых тещиных сапог, решил перенести немного пораньше – часа на два или три дня.
С трудом встав, приняв холодный душ и с отвращением съев малиновый йогурт, он вышел на по-субботнему безлюдную улицу Бонна.
Андрэ нравился этот город. Он напоминал ему большой тихий санаторий, куда иногда приятно попасть – поправить измученную «Крыжачком» и тяготами жизни «по ту сторону добра и зла» нервную систему. Впрочем, все немецкие города, кроме Берлина, были для Андрэ похожи на санатории. Изредка приезжая сюда, он чувствовал себя словно солдат, которого отпустили с фронта на побывку домой – отдохнуть и набраться сил, чтобы вскоре последний вечерний поезд увез его опять на восток, в вонючие и грязные окопы, туда, где вши и блохи, туда, где стреляют, – на передовую.
Однако остаться здесь навсегда он не хотел. Андрэ с трудом представлял себе, как проведет остаток дней в санатории, в тиши этих больших антикварных ларцов. Как будет бесконечно гулять среди милых фигурных домиков, пока вконец не свихнется от их красоты. «Нет, – подумал он, ускоряя шаг, – куплю сапоги, попью пивка и обратно домой, в Могилев. Наши ларцы хоть и не такие фигурные, да и не ларцы они вовсе, а скорее чемоданы с бирками да коробки из-под сапог, но мне в них хорошо и уютно».
То, что случилось далее, могло не случиться, и жизнь Андрэ никак бы не изменилась. Он вернулся бы в вонючие окопы, затерянные где-то под Могилевом, кормил бы там вшей, пока бы не демобилизовался по возрасту или по состоянию уже изрядно подорванного фронтовыми напитками здоровья.
А может, он был бы убит шальной пулей, отравлен ипритом, случайно задавлен танком или трактором «Беларусь», контужен пустой осколочной бутылкой из-под «Советского шампанского», заколот вилкой в кафе «Вернисаж», растерзан адептами, разочарованными в правильности учения о «Федоре Михайловиче». А может, на него упала бы любимая скульптура, его новая муза – Франка, Франция, которую он бережно ваял из мрамора долгими зимними ночами, или того хуже – недовольные мертвецы поднялись бы из могилевских могил да потащили его за собой в наказание за халтуру, которую он поставил на кладбищах.
Но провидение направило Андрэ в большой магазин, где лежали тещины сапоги, не короткой дорогой, а в обход через площадь. В это время там проходил субботний флюмаркт – блошиный рынок, на который торговцы из окрестностей Бонна свозили всякий антикварный хлам. Он выбрал именно эту дорогу, потому что любил порыться в старых вещах. Денег на покупку у него не было, но ему нравилось просто рассматривать их, да, на всякий случай, интересоваться ценой – а вдруг попадется что-то хорошее и недорогое.
К моменту появления Андрэ площадь уже клубилась людьми, крутившимися вокруг прилавков с бронзовыми часами, фарфоровыми статуэтками, фолиантами книг, фигурными подсвечниками и прочей изысканной рухлядью. Правда, боннским флюмарктом Андрэ был не очень доволен. Он предпочитал более дешевые и демократичные берлинские рынки, где, кроме дорогих вещей, можно было за евро купить потрепанный порножурнал, старый копеечный видеоплейер, мишку с бантом, картуз французского полицейского, тарелку со свастикой, штоф из зеленого стекла и многое другое, что ему больше ложилось на сердце. Однако, ступив на площадь, Андрэ замедлил шаг и начал в полглаза присматриваться к товару.
Этот предмет он заметил не сразу. Вернее, заметил, но вначале не придал значения и сделал несколько шагов вперед. Потом остановился. Развернулся. И посмотрел полным взглядом.
Перед ним на расстеленной на земле скатерти среди всякого хлама, которого он уже не замечал, стоял Шелом – начищенный до блеска, сияющий золотом кайзеровский шлем прусского солдата – пикельхаубе с устремленным вверх золотым наконечником. В голове Андрэ что-то хрустнуло. Губы пересохли. В груди бешено застучало, как будто какой-то боксер-сволочь залез в него и бил изнутри двумя большими кожаными перчатками.
Окаменев между прилавками, Андрэ завороженно смотрел на Шелом. Неизвестно, сколько бы он мог так простоять, если б кто-то нечаянно не толкнул его.
– Пшепрашам, а-а… извините, битте… – все языки вдруг спутались в его голове.
Он сделал два шага вперед и, указав пальцем на Шелом, спросил:
– Сколько стоит?
– Пятьсот евро. – Продавец, полный седой мужик лет пятидесяти, без всякого энтузиазма, оценивающе, посмотрел на Андрэ.
– Данке, – он развернулся и разочарованно побрел к магазину.
Однако, пройдя метров тридцать, внезапно остановился. В голове начинался какой-то непонятный бунт.
«Нет! Даже не думай! Теща тебя закопает! Ведь это ее деньги. Чертов лузер, тещи испугался? Плюнь на тещу! Она и так тебя ненавидит! Плюнуть? А мастерскую не жалко? Она же проректор. Даже Борис Фадеич у нее в кулаке! Нет, был ты неудачником, неудачником и останешься! Слышишь, придурок, останешься навсегда, если сейчас его не купишь! Это твой шанс! Сделай поступок, измени свою жизнь! Шанс? Ты представляешь, что будет, если ты приедешь в нем в Могилев? Да с твоих детей все будут смеяться и называть их отца рогоносцем! И так все знают, что ты рогоносец! Думаешь, только тебе известно, что у Светки роман с Эдуардом? Думаешь, никто не знает, что происходит за той дверью без вывески на втором этаже? А сам? Тоже мне святоша! Да Светка выставит тебя за дверь и запустит вдогонку самой тяжелой сковородой! Ха-ха-ха! Смешно. Если она попадет в голову, на ней будет Шелом! Кстати, ты завтра едешь на фронт, и знаешь – в окопе без Шелома нельзя! Идиот. Дошутишься когда-нибудь! Да ты распугаешь последних клиентов! И так твоих уродцев никто не берет! А теперь еще и это! Кто доверит надгробный памятник придурку в прусском Шеломе? Да пошли к черту эти клиенты! Разве ты об этом мечтал, когда хотел стать скульптором? Ты ж хотел быть, как Микеланджело, создавать великое, вечное! А сейчас ты кто? Чмо, которое ваяет халтуры для кладбищ! Однажды мертвецы точно соберутся и отмудохают тебя где-нибудь на дальней аллее! Да тебя ж будет останавливать каждый мент и требовать паспорт! Ничего страшного! Сделаешь новый паспорт и сфотографируешься для него в Шеломе! Тебя покажут по ящику в передаче «Тайные пружины политики», где назовут масоном и лидером оппозиции!
Отлично! Наконец-то у белорусской оппозиции появится лидер! Ты станешь популярен! Федор Михайлович будет очень доволен! Представь, как он возрадуется на небесах, увидав тебя в прусском Шеломе! Да ты что? Твои адепты подумают, что ты чокнулся, и начнут бухать до захода солнца! Хочешь, чтоб Витек спился? Мало ему проблем с ментами? Чушь! У Собаки получилось. Не упустишь шанс, и у тебя получится! Ты станешь более знаменит, чем Человек-собака! Эти тупые кураторы начнут приглашать тебя на серьезные выставки! Представь! Слава! Бабки! Домик во Франции! Так Собака ж Кулик! А ты кто? Воробей? Лучше подумай, что ты теряешь? Дерьмо, из которого никогда не вылезешь! Но у тебя нет даже пятьсот евро, чтобы его купить! А деньги, что дала Мария Прокопьевна на сапоги, на подарки жене, дочерям? А на билеты домой? А суточные, сэкономленные на дешевом пойле из “Лидла”? Как же ты доберешься до Могилева? Ерунда! Доедешь до Берлина автостопом! А там хоббиты помогут деньгами! Придурок, открой дверь в новую жизнь! Чертов неудачник, это твой шанс! Даже не думай! Ты должен его купить! Нет! Но ведь ты же хочешь его купить?»
– МОЛ-ЧАТЬ!!!
Андрэ вдруг заметил, что люди, стоявшие вокруг, как-то странно смотрели на него. «Ну, хватит! Это уж слишком!» – сказал он про себя и решительным шагом направился к магазину, где ждали тещины сапоги. Стремительно войдя в него, он поднялся на второй этаж и широкой чеканной походкой, как солдат, размахивая руками, приблизился к прилавку. Увидев черную пару на высоких каблуках, он остановился, с ненавистью посмотрел на нее, подумал мгновение, развернулся и так же стремительно вышел обратно.
– Сколько стоит? – снова спросил он, внезапно возникнув перед седым продавцом.
– Пятьсот эуро.
– Четыреста!
– Четыреста девяносто!
– Четыреста двадцать!
– Четыреста восемьдесят пять!
– Четыреста пятьдесят!
– Четыреста восемьдесят пять!
– Четыреста шестьдесят!
– Четыреста восемьдесят!
– Четыреста семьдесят!
– Четыреста восемьдесят!
– Четыреста семьдесят пять!
– Четыреста восемьдесят!
– А! Черт с тобой! Четыреста восемьдесят!
Андрэ принялся вытаскивать заначки, припрятанные по карманам. Отсчитав четыреста восемьдесят евро, он передал их седому, поднял Шелом и с торжеством победителя над каблуками надел на голову!
Сердце Андрэ, увеличившись до размеров большой птицы, бешено забилось. Он словно отстегнул кандалы, которые давно опутывали его. В голове все гудело, звенело, стучало. Андрэ с вызовом окинул взглядом людей, с любопытством таращившихся на него.
«Отлично! Заход солнца был назначен на три. А теперь пора и похмелье прикончить!» – сказал он себе и решительно направился к бару на другом конце площади.
– Эй! Биг Бен! Ты из какого полка?
Повернувшись, он увидел за соседним столиком подвыпившего косматого мужика с наглой физиономией, который пялил на него выпученные карие глазки.
– Какого черта ты надел эту каску? – не дождавшись ответа, продолжил косматый. – Что, война началась?
– Завтра утром я еду на фронт, на восток, туда, где война никогда не закончится, – неожиданно для самого себя вдруг ответил Андрэ.
Мужик отпил из кружки и опять посмотрел на него.
– Не забудь прихватить валенки! Там, в Сибири, говорят, холодные зимы.
За окном темнело. Воздух в баре был терпким от хмеля, сигаретного дыма и гомона множества голосов, которые пчелиным роем кружили над золотыми бутонами пивных кружек. Время от времени Андрэ ловил на себе любопытные взгляды. Наверное, сейчас он действительно был похож на лондонский Биг Бен, что одиноко тянулся к небу остроконечным шпилем в тумане прокуренного бара. Он сидел в пивной уже часа два. Продолжать беседу с косматым ему не хотелось. Расплатившись у стойки, он закинул за плечи рюкзак и вышел в прохладные сентябрьские сумерки.
Вернувшись к себе, Андрэ тотчас отправился к большому зеркалу в ванной. Он не был красавцем, поэтому каждая победа давалась ему с изрядным усилием. Приходилось брать умом, обаянием, иногда – революционными песнями и речами. Было в его лице что-то воробьиное: маленькие, невыразительные, зеленовато-болотного цвета глаза, хоть и с горбинкой, но незначительный нос, впалые щеки без признаков жизнеутверждающего румянца. Если б он имел мужественный подбородок, то конструкция могла бы обрести завершение. Но подбородок тоже был воробьиный, немного впалый, с признаками начинающегося вырождения. Фигура Андрэ походила на гриб, с которого сняли шляпку да оставили сиротливо торчать из земли невзрачную изогнутую ножку. Сам он относил себя если не к уродцам, то к типу людей, с которыми создатель обошелся равнодушно, не приложив к ним особых усилий.
Но теперь его лицо словно нашло завершение, недостающий акцент. Шелом сидел на нем идеально, будто был скроен точно для его головы. Прямо от макушки отходил вертикальный золотой шпиль. Чем-то он напоминал шпильку тещиного сапога, только не прибивающую к земле, но по-бунтарски устремленную к небу. Измерив шпиль двумя пальцами, Андрэ прикинул, что высотой он около двенадцати сантиметров.
Шелом был отполирован до идеального блеска. Видимо, седой изрядно потрудился перед сегодняшним базаром. Приблизившись вплотную к зеркалу, Андрэ принялся рассматривать рельефный рисунок кокарды. На великолепном фронтоне Шелома резвились два золотых льва, которые, ухватившись лапами, то ли держали, то ли пытались вырвать друг у друга золотой рыцарский щит. Львы явно занимались геополитикой, терзая распластанную на щите рыбу. Чтобы лучше рассмотреть Шелом, Андрэ потянул руки вверх, как вдруг замер.
«Стой!!! Не вздумай снимать! Если ты его снимешь, вся концепция рухнет. Ты не должен снимать его даже теперь, когда тебя никто не видит! В этом смысл твоего проекта. Смысл? Но ведь это идиотизм! Идиотизм? А жизнь вообще есть латентная форма идиотизма. Только где грань между идиотизмом и смыслом? Представь, некто объявит миру: “Я – Собака!” Разденется и станет голый бегать по улицам, лаять на прохожих, кусать их за ноги. Все скажут: "Идиот! И поступок его идиотский!” А если этот некто художник, то поступок его уже манифест! А идиоты те, кто в нем смысла не видят! Ты прослужил простым рядовым солдатом армии искусства всю свою жизнь. Ты убил лучшие годы в окопах, походах, под обстрелами, в грязи, говне, вине, поиске смысла и красоты. И что взамен? Где слава? Где почет? Где ордена? Где звания? Что дало твое служение? Денег у тебя нет. Семьи нормальной тоже нет. Жена и теща тихо ненавидят тебя. Твои гениальные проекты зависают в пустоте. Потому что родился ты в неправильном месте – за забором, в заднице. А одинокий голос из ануса пердежом называется. И всякие мелкобуржуазные хари, может, и слышат его, но из приличия виду подавать не желают. Ты самый банальный лузер! А сейчас у тебя есть шанс! Но если ты его снимешь, то точно станешь идиотом! Ты художник! Объяви миру свой манифест! Сделай из Шелома проект! Подними бунт! Восстание! Человек-Шелом! До такого еще никто не додумался!»
Андрэ по-прежнему стоял у зеркала, держа руки на Шеломе. Сомнения не давали принять окончательное решение. В какой-то момент ему даже представилось, что два льва на его голове – вовсе не львы, а две склочные львицы.
– Не вздумай снимать! – показалось ему, рявкнула вдруг одна. – Пойди-ка лучше откупорь бутылку вина, что у тебя за шкафом припрятана!
Оторвавшись от зеркала, он вернулся в комнату, достал бутылку и наполнил стакан.
«Быть лузером, когда тебе двадцать, не страшно. Но в сорок шансов вступить в брак с удачей практически нет. Ну, разве что какой-нибудь старый черт в чалме возьмет тебя в гарем двадцать восьмой женой. Да и то потому, что некомплект у него. Как раз одной идиотки не хватает! Подумай, что ты теряешь? Посмотри, как резвятся львы на твоей голове! Сейчас ты не воробей, а лев! Последний лев неизвестной войны! Лев? Да, лев, повесивший на лбу надпись: “Я идиот! Нате! Смотрите! Тыкайте в меня пальцем! Я кретин! И горжусь этим!” Ничего! Пусть идиотами будут те, кто в этом смысла не увидят! Ну, снимешь ты его, вернешься к себе в Могилев. Ну, пригласят тебя еще на пару пленэров. И всё? А дальше что? Поставь точку! Открой дверь в новую жизнь! Другого шанса у тебя не будет!»
– Новая жизнь! Лев… Лузер… – тихо бормоча про себя, он размеренно, как маятник, от стены к стене ходил по комнате. – Это твой шанс! Концептуальный проект!.. Не воробей… Собака… У него получилось. Тыкайте пальцем… Горжусь этим… Одинокий голос из ануса… Новую жизнь… Шанс… Человек в Шеломе… Открой дверь… А как же голову мыть?! Ерунда! Потом придумается что-нибудь…
– Ладно! Кончаем дискуссии! – наконец громко произнес он. – Завтра рано вставать!
Подняв стакан, он залпом осушил его и отправился спать.
Ночью Андрэ спалось плохо. Шелом был еще непривычен, к тому же оказался достаточно жестким. Хотя усталость и валила его с ног, но он часто просыпался и сквозь сон ловил обрывки тревоги, что подло проскальзывали в его голову.
Андрэ ворочался с боку на бок, пытаясь найти удобную позу. Но Шелом все равно все время во что-то упирался.
Потом он оказался на Васильевском острове, на пьяном углу недалеко от второй линии. Отдал червонец чернявому пацану.
– Две сухого, если будет – красного, – сказал он и стал ждать.
Рядом в темноте вертелась какая-то мелкая старуха и клянчила деньги. Андрэ дал ей пятьдесят копеек. Подъехало такси. Из него вышли две девицы – по виду бляди. Зарядили две водки.
– Счас сделаю, – ответил гонец и скрылся в черноте подворотни. Вскоре вернулся, отдал девицам бутылки. Те прыгнули в такси и укатили.
Минут через пять появился его пацан, отвел Андрэ в сторону.
– На, держи, – он оглянулся по сторонам и достал из-за пазухи валенок.
– Почему один?
– Кончились валенки, – сказал пацан, возвращая назад пять рублей. – Пойдешь по этому адресу, скажешь – от Севы, – он протянул сложенный клочок бумаги. – Там должны быть. Это тут, рядом. Сейчас выйдешь на Средний, повернешь налево, дойдешь до Четвертой, там направо и вторая подворотня налево.
Андрэ сразу нашел нужную подворотню. Остановился под тусклым фонарем прочитать номер квартиры. В подворотне было темно, сыро и воняло котами. Он отыскал подъезд и начал подниматься по крутой и узкой черной лестнице. Дойдя до третьего этажа, остановился: «Должно быть, здесь». Порывшись в карманах, нашел зажигалку. Слабый огонек осветил маленький кусочек старой щербатой двери. Андрэ повел рукой вверх и наткнулся на номер. «Двадцать пять. Да, это здесь!» Позвонил.
Открыли не сразу. Спустя какое-то время за дверью послышался шорох. Кто-то с той стороны снял дверную цепочку. Щелкнул замок. При слабом огоньке зажигалки Андрэ тотчас узнал того самого косматого мужика с наглыми глазами из бара. Правда, теперь на нем была черная хасидская шляпа, из-под которой свисали длинные с проседью пейсы. Похоже, мужик тоже узнал его. Во всяком случае, он сразу сказал: «Шалом! Проходи!» – и повел по длинному и темному коридору, освещенному одной лишь тусклой лампочкой, мимо каких-то закрытых дверей. Дойдя до одной из них, жестом пригласил войти.
– Мне нужен еще один валенок, – сказал Андрэ, протягивая мужику скомканную пятерку.
– Подожди здесь, – произнес тот и скрылся за тяжелой портьерой, отделявшей боковую комнату.
Андрэ осмотрелся по сторонам. Комната была довольно большая и двумя высокими окнами выходила на улицу. С потолка свисала массивная бронзовая люстра. Пространство вдоль стен занимали старые деревянные шкафы. Шкафов было так много, что стояли они один на другом и даже по центру комнаты, поэтому в целом она казалась тесной. Точно посередине под люстрой находился большой круглый стол, рядом – металлическая кровать с панцирной сеткой. На кровати сидела старуха, та, которой он дал пятьдесят копеек, и ела кефир, черпая его ложкой из пол-литровой банки. Она ела медленно и размеренно, не обращая на Андрэ никакого внимания, как будто здесь его не было. Он принялся следить за движениями старухи. В их точном ритме заключалась странная гипнотическая сила, словно маятник больших часов отсчитывал время – тик-так, тик-так, тик-так.
– Лицом к стене! Руки на затылок! – неожиданно, негромко, но отчетливо раздалось у него за спиной.
Андрэ почувствовал, как что-то твердое и небольшое уперлось ему в спину. Он медленно поднял руки и повернулся. Чья-то невидимая рука толкнула его вперед так, что он уткнулся головой в большой шкаф. Деревянная, покрытая коричневой краской поверхность была теперь совсем близко. Он видел ее шершавость, небольшие трещинки и выемки облупившейся краски. Андрэ ощутил приятное щекотание войлока на своей шее. Это был тот самый валенок, который он купил у пацана и все это время держал в руках.
– Снимай Шелом! – произнес за спиной некто неизвестный.
«Надо бежать!» – в смятении подумал Андрэ и с силой, насколько позволяло неудобство его положения, запустил валенком в направлении незнакомца. Сам же он попробовал развернуться и броситься к двери, но… Черт возьми! Голова его застряла в шкафу! Она уткнулась в него шпилем Шелома, который держал ее, словно прибив к шкафу гвоздем. Андрэ попытался вырваться, ухватился за Шелом руками и дернул на себя, но тот будто намертво прирос к дверке. Он с ужасом понял, что даже не может повернуться и увидеть того, кто находился за спиной. Тем временем неизвестный принялся лупить его валенком, а затем вцепился в шею и со всей силой потянул на себя…
– Черт возьми! Надо ж такому присниться! – вскрикнул Андрэ, открыв глаза и обнаружив себя лежащим в комнате на кровати.
Он попробовал повернуться на другой бок, но понял, что не может этого сделать – Шелом, уткнувшись в выемку кровати, застрял там. Выдернув его, Андрэ приподнялся и отодвинул подушку от спинки. Правда, теперь упирались ноги. Тогда он встал и, скинув на пол матрац, улегся рядом с кроватью.
Остаток ночи Андрэ провел уже не на Васильевском острове. Ему еще что-то снилось, но что именно, он не запомнил.
Утро первого дня новой жизни выдалось теплым и солнечным. Андрэ проснулся немного разбитым, но в целом настроение было хорошее. Ему припомнились Питер и Васильевский остров, где он подолгу жил в молодости, ночуя в мастерской у приятеля, в подвале на Съездовской линии. Видимо, не случайно именно сегодня он приснился ему.
Васильевский вставал рано, и уже под утро сквозь сон Андрэ ощущал его пробуждение. За небольшими полукруглыми окнами подвала начинали грохотать пустыми вагонами трамваи, которые всегда просыпались раньше других. Потом через полуоткрытую форточку до него долетал стук каблуков спешивших к утренней смене прохожих, которые, двигаясь по тротуару, отбрасывали тени ног на тюлевые занавески мастерской. Затем пространство за окнами наполнялось шелестом шин, визгом тормозных колодок, криками клаксонов, голосами, смехами, кашлями, матюгами. Андрэ вставал и немного всклокоченный выходил на улицу, чтобы сделать первый глубокий глоток нового дня. Светило солнце, небо было высоким и бесконечно голубым. Улица упиралась в Тучков мост, который, вдалеке приподнимаясь над ней, казалось, уходил в небо, в чудесное чистое небо его будущей жизни, что простирала к нему свои загадочные объятия.
Приятное радостное предвкушение разлилось по всему телу Андрэ. «Однако, пора!» – сказал он и отправился в ванную. Сомнения больше не мучили его. Приняв душ, не снимая Шелома, он насухо вытер его и снова посмотрел в зеркало.
Львы на кокарде были абсолютно идентичны, будто каждый являл собой симметричную копию другого. Андрэ даже подумалось, что лев на самом деле один, а в лапах он держит не щит, а зеркало, в котором видит свое отражение. Правда, рыба по центру ломала симметрию. Ее следовало бы расположить вертикально, что было бы символично: словно она ускользает, как смысл, и через золотой шпиль уходит в пустоту.
Посмотрев еще раз на свое отражение, Андрэ решил, что все же это Шелом не солдата, а генерала. Иначе зачем в окопе нужна такая игрушка, которая блестит за сто верст, да так и просится в бинокль какому-нибудь придурку из противоположного окопа.
Он представил на мгновение, как некий неизвестный придурок вроде того, который душил его ночью, долго смотрит на него в перископ, а затем громко командует:
– Батарея! Гаубицу заряжай! Пли!!!
И уже огромный снаряд размером с ведро приближается в темноте к его голове с той стороны зеркала.
– Нет! – прервал его полет Андрэ. – Такой Шелом необходим для парада, чтобы приветствовать армию на белом коне!
Наскоро перекусив, он пересчитал оставшиеся деньги – пятнадцать евро и мелочь. Затем взял рюкзак и прикинул, что можно оставить здесь, чтобы не обременять путешествие лишним грузом. В первую очередь он отложил в сторону тяжелые каталоги, которые надарили ему солдаты искусства за время пленэра. С легкой грустью пролистав, бросил туда же и альбом Франки.
– После них хоть каталоги останутся, после нас даже этого не будет, – философски произнес Андрэ и решительно выкинул все, что посчитал ненужным ему в новой жизни. Присев на дорожку, он выждал мгновение и, промолвив: «С Богом!» – вышел на улицу.
Егермайстер
Бонн провожал Андрэ в путешествие к новой жизни солнечным утром. Воскресные улицы были пустынны, поэтому никто не видел, как странный человек в золотом прусском шлеме с рюкзаком за спиной бодро шествовал в направлении предместий.
– Бывай, Бонн! Бывай, батюшка-Рейн! – посылал Андрэ мысленное приветствие этому дню, первому дню его новой жизни.
Идти было легко и весело. Радость переполняла его, смешивалась с прохладным воздухом осени и проникала в легкие забытым ощущением юности. Тем, когда тайна жизни бежала впереди, исчезала за поворотом, горизонтом, углом, манила в неизведанное путешествие. С этим чувством Андрэ вышел на окраину города. Он начал подавать знаки изредка проезжавшим машинам, но те, не останавливаясь, пролетали мимо. Прошло более часа. Наконец, притормозил белый «Пежо». Боковое стекло опустилось, и из салона выглянули два любопытных глаза.
– Тебе куда?
– Мне нужно в Берлин.
– Могу только до Хамма. Это полпути до Ганновера.
– OK! Все ближе к востоку!
Андрэ попробовал устроится на переднем сиденье, но неожиданно столкнулся с проблемой. В Шеломе он не помещался в салоне автомобиля – вернее, не мог сесть как обычный пассажир. Шелом упирался в крышу, поэтому голову надо было либо положить водителю на плечо, либо высунуть кончик шпиля в окно.
– Ты не мог бы его снять? – с легкой досадой спросил молодой парень за рулем.
– Нет, не могу!
– Ты что, панк? – В голосе хозяина авто появилась нотка сожаления.
– Нет, я художник!
– А-а-а… Художник! Ладно, ложись! – Парень откинул сиденье, и, полууложив странного попутчика, тронулся в путь.
Андрэ принялся забавлять водителя рассказами о себе: кто он, откуда, как оказался в Бонне. Он поведал, что в него вселился дух прусского воина и теперь он должен отправиться на восток и вернуть на Землю обетованную его бедный, заблудившийся в столетиях народ. Что он дал клятву никогда, пока не увидит свое болотное племя радостным и свободным на берегах батюшки-Рейна, не снимать Шелом с головы. Правда, миссия эта весьма непростая. Существует его антипод в шлеме воина-освободителя, который желает заманить их людей на берега матушки-Волги. И, собственно, на поединок, от которого зависит будущее его народа, он сейчас отправляется.
Когда Андрэ многозначительно замолк, давая понять, что историй больше не будет, водитель недоверчиво посмотрел на него и включил музыку громче.
– Коктейли, картели, нефтяные бордели, бемс, бемс, бемс, – долетал из радиоприемника антиглобалистский рэп.
«Странно, – подумал Андрэ, – раньше слово «художник» я произносил с гордостью. А теперь – с легкой неловкостью, будто занимаюсь чем-то неприличным».
В детстве, как и все мальчишки, он мечтал стать летчиком. И возможно, его жизнь сложилась бы иначе, если б не появился дядя Ваня – близкий друг матери, местный авангардист. Иван Пантелеевич был человек выдающийся и в отличие от большинства могилевских художников, предпочитавших всем цветам серый, вел серьезный эксперимент в искусстве: составлял серый из множества оттенков. Приблизившись вплотную к его картине, зритель приходил в восхищение: каждый сантиметр полотна вбирал в себя бесконечную гамму оттенков. Но стоило отойти метра на три, как холст становился безукоризненно серым.
Дядя Ваня казался Андрэ если не богом, то уж точно служителем, жрецом некой божественной силы. Сам его образ напоминал Создателя с церковных икон: длинные волосы, борода и, конечно, нимб. Нимб, правда, был слегка поношен, сделан из мягкого велюра, местами в пятнах от краски и вина, но он гордо возносился над головой Ивана Пантелеевича благородным черным беретом.
Решив, что тоже будет авангардистом и посвятит жизнь извлечению серого из многоцветия мира, Андрэ принялся усердно посещать занятия, которые вел дядя Ваня в студии Дворца культуры местного шпалоукладочного комбината. Возможно, ему суждено было стать поэтом бесцветных Могилевских туманов, но вдруг, когда он немного возмужал, откуда ни возьмись, возник Зильдерман. Он определил творчество Ивана Пантелеевича как серую плесень, болотный импрессионизм, сказал, что нет в городе другого авангардиста, кроме него, и принялся посвящать Андрэ в манифесты супрематистов, нумизматокубистов, синхророялистов, гипертрадиционалистов, сукапередвижных мануалистов, а потом взял да повез в Петербург.
Поводив неофита по питерским мастерским, потаскав по сайгонам и прочим важным местам, Зильдерман научил его пить вино, красиво сплевывая, скручивать «Беломор» да с особым шиком повязывать длинный шарф. Вернулся Андрэ в Могилев уже бескомпромиссным авангардистом. Пути к отступлению были отрезаны. Оставалось одно – начинать свой поиск в искусстве. Он распрощался с болотным импрессионизмом и придумал название для собственного стиля – некроромантический турбоабстракционизм.
Андрэ принялся экспериментировать с материалами, попробовал себя в скульптуре, создал первую в Могилеве инсталляцию из пустых вино-водочных ящиков. Потом было художественное училище в Минске, неудачная попытка поступить в институт, мучительный поиск себя, запои, белый билет, налеты на Питер, разрыв с Зильдерманом и, наконец, первые выставки настоящих авангардистов.
В то время Андрэ сожалел, что родился в Могилеве, а не в расположенном за двести километров от него Витебске. Этот город считался настоящей столицей революционного искусства. Там работал гуру и пророк каждого настоящего авангардиста Казимир Малевич, там родился УНОВИС, там жил Марк Шагал. Могилев же казался провинциальной дырой, не давшей миру ни одного великого революционера в искусстве.
Даже Минску повезло больше – недалеко от него родился Хаим Сутин. Под Брестом находилось родовое гнездо Федора Михайловича – величайшего для Андрэ авторитета в литературе всех времен и народов. С могилевских земель если кто и происходил из настоящих авангардистов, то только Отто Юльевич Шмидт да самозванец Лжедмитрий Второй. Но и тот, в отличие от Лжедмитрия Первого, оказался гребаным лузером, так как его попытка захватить Москву окончилась неудачей.
Несколько раз Андрэ предпринимал попытки перебраться в Петербург. Со своим турбоабстрактным некро-романтизмом он был в Могилеве мало кому интересен. Но зависнуть в Питере также не удавалось. Идейные противники – некрореалисты экспрессионистского толка – его не принимали, «дикие» считали манерным, «митьки» – декадентским. Поэтому, проболтавшись по сквотам, попив водки с поэтами в «Сайгоне» или через дорогу, в ресторане Союза театральных деятелей, Андрэ вновь возвращался домой. Единственный, кто его похвалил, был Человек-собака, который, как-то ненадолго пожаловав в Могилев, лизнул его в ухо и назвал настоящим художником. Правда, Собака обитал в Москве, а Андрэ ее не любил, но с тех пор Человек-собака стал для него первейшим авторитетом в современном искусстве.
К концу восьмидесятых, когда приоткрылись границы, его начали приглашать с выставками в Европу. Для Андрэ настало золотое время. Он вдруг стал интересен. Повсюду закипали революции, художники из «совка» были всем любопытны, картины, даже провинциальные «измы», пусть и стоили не дорого, но шли нарасхват. Казалось, вот она – новая, пьянящая перспективами жизнь. Жизнь, где все давалось легко, весело, просто, в которой даже запои были не угрюмы, а легки, словно весенние карнавалы. Карнавалы… Карнавалы… Кар… на… валы…
Под тихое урчание автобана Андрэ начал погружаться в сладкую полудрему. Из отдаленных коридорчиков сознания до него доносились обрывки антиглобалистского рэпа. Дорога убаюкивала шепотом шин, гуденьем моторов больших «тиров», глухим посвистываньем «мерседесов» и «бэ-эмвушек», которые на большой скорости неслись на восток.
«Да, к черту искусство… прав был Зильдерман, вовремя свалил… теперь на Брайтоне дисками торгует… а дядя Ваня по-прежнему… идиот… к черту береты… к черту нимбы… Шелом… ше-лом… ше-елллл-ооомм…»
– Эй! Просыпайся! Приехали! Скоро мой поворот.
Оказавшись снова на трассе, Андрэ спросонья растерянно посмотрел по сторонам. Он попытался еще кого-нибудь притормозить, но машины, не останавливаясь, пролетали мимо. Вскоре он добрел до большого щита с названиями населенных пунктов. Взглянув на карту, он отметил, что проехали они все же немало. За спиной был Цукервафель, Дёнермитзельц, Абендкапут, Хамм. Где-то впереди уже маячил Нахреннахостен. До Ганновера оставалось не более ста километров.
Андрэ решил сойти с автобана для небольшого привала и, свернув на не большую сельскую дорогу, направился в тишину наступающих сумерек.
«Да, прав Человек-собака, – подумал Андрэ, – художник нынче, как пес бездомный, по дорогам войны шляется, лазит по задворкам цивилизации, смотрит жалостливыми глазенками на идущую куда-то колонну человечества, ждет, чтобы кто-нибудь приютил или косточку бросил. А каждый Собака-человек его обидеть норовит, палкой замахнуться и побольней ударить… Стемнеет скоро.
А ведь когда-то художник во главе всей колонны шел, был словно Анубис у древних египтян – Бог с головой собаки. Каждый, кто перед смертью для вечности запечатлеть себя хотел, к нему приходил. Только он таинством отображения владел. Как выглядит Бог, черт, рай, ад, только он мог человеку показать. А теперь техника все за него делает. Идет человечество по дорогам войны, а за ним в обозе компьютеры, станки, фотокамеры. Захотел перед смертью запечатлеться, забежал в фургон – щелк, щелк, три на четыре без уголка, с вас три бакса. А художнику всего-то и осталось – декоративные пятнышки рисовать.
Вот бежит он за колонной и жалостливо скулит: "Дама, дамочка! Купите картинку, недорого. Она вам блиндаж украсит!” А та в ответ: "На хуй мне в блиндаже твоя картина нужна! Я лучше в ГУМе репродукцию куплю!”
Правда, кое-кто из декоративных пород очень даже сытно в тепле живет и пайку регулярно получает. Конечно, если всякий гламур искусством считать, то не все так уж и плохо. А некоторые пятнышки даже больших денег стоят. Вот "Мальчика с трубкой” Пикассо недавно за 104 миллиона баксов какой-то кот толстопузый купил!
А, ладно… Чушь это все! Был полубогом, а стал собачкой декоративной! А тем, кто не согласен, только и остается, что в ногу кому-нибудь вцепиться. Ну, хоть бы вон тому прохожему».
Дорога все дальше уходила в глубину вечера. Вскоре Андрэ набрел на большое поле с тюками свежесжатой соломы. Соорудив себе лежанку для ночлега, он достал из рюкзака скромные припасы. Перекусив, он растянулся на мягком золотом ложе и, раскинув руки, посмотрел в небо. Запах свежей соломы дурманил его ароматом из детства.
«Как мне сразу в голову не пришло! – неожиданно осенило Андрэ. – Вот где должен скрываться главнокомандующий в золотом Шеломе, чтобы не попасться в перископ придурку из вражеского окопа. Солома. Действительно, только она делает тебя невидимым, незаметным, неуязвимым. Да, штаб надо бы разместить именно в стогу соломы.
Эх, жаль, что сейчас нет революции, на которую можно отправиться. Поехать бы куда-нибудь в Мексику к Вилье и Сапатеро или стать соратником Гарибальди, а, может, Робеспьера. Интересно, если рубить голову гильотиной, не будет ли Шелом помехой? А вдруг она не покатится, как свежесрезанный качан капусты, а упадет вертикально да воткнется пикой в деревянный настил эшафота? Станет на помосте, словно десерт в изящной золотой вазе.
…Нет… лучше оказаться в семнадцатом в Питере, взять винные склады да пойти на штурм Зимнего… Эх, красивая была б картина – вместе с матросами залезть в прусском Шеломе на чугунные царские ворота с золотыми орлами…
…Большевикам это бы не понравилось. Сказали бы, что я кайзеровский лазутчик…
…можно на Шелом буденовку надеть… все равно они одной формы… и отправиться возводить новый мир для… болотных людей…
…да, штаб надо точно в стоге делать…
…да… жаль… единственную революцию сейчас чурбаны в паранджах совершают… фу, мерзость… отправят в преисподнюю очередную порцию невинных граждан и красуются в телевизоре… паскуды… поднялись на нефтедолларах… гребаный ОПЕК… и еще шантажируют… мол, добычу снизим…
… почему всякой сволочи все богатства мира достаются, а нам – только болота, березы да сосны… бемс, бемс… партизанские сестры… бемс, бемс… да болотная грязь…
… форму тоже желтую надо пошить… а то как же в стогу в зеленой… заметно будет…
… и погоны желтые… бемс, бемс…
… и сапоги… бемс, бемс… – крутились в голове Андрэ отзвуки анти-антиглобалистского рэпа.
…а эти… антиглобалисты… бемс, бемс… тоже придурки… бемс, бемс… только и умеют, что бить витрины… бемс, бемс… в войнушку… поиграются, а потом сядут… в… папины кресла… бемс, бемс, бемс…
…на-адо… вы-ы… зволять… бемс, бемс… бо-о-олот… ное… племя… бемс…
…пе-е-е… ри-и-ископ… то-о-оже… же-е-е-ел… ты-ы-ый… бе-е-емс…сссс…»
Под мысли о революции Андрэ незаметно заснул на роскошном соломенном ложе. Где-то вдали урчал автобан. Тысячи машин неслись по нему к большим желтым городам. За серым покровом туч, помигивая красными глазками, летели самолеты. Над ними проплывали спутники-шпи-оны, которые наблюдали за желтыми городами, автобанами и мигавшими самолетами. Где-то совсем высоко, над спутниками, пролетали кометы, начинались другие миры, рождались новые звезды. Еще выше над всеми зияли черные дыры, что пожирали кометы, звезды, иные миры с их автобанами, самолетами и городами.
И пока Андрэ спал, тысячи машин продолжали нестись к большим городам, самолеты летели, спутники наблюдали, а желтая звезда по имени Солнце медленно поднималась из-за горизонта, возвращая всех в новый день.
Добравшись к вечеру до Ганновера, Андрэ вышел из машины недалеко от вокзала. Погода к тому времени совсем испортилась. С самого утра небо хмурилось, давая понять, что лето закончилось. Теперь же оно набрякло чем-то тяжелым и, уже не в силах выносить свою тяжесть, начало монотонно отдавать ее земле, зарядив долгий моросящий дождь. Решив, что выбираться на трассу с риском встретить ночь под дождем не стоит, Андрэ побрел в сторону монументального здания с надписью «Банхоф».
Как и любой большой вокзал, ганноверский «Банхоф» жил своей особенной жизнью, во многом не похожей на жизнь окружавших его кварталов. Благодаря положению поезда шли через город непрестанно, поэтому в отличие от вокзалов поменьше, где в ночное время все затихало, он шумел, встречал, провожал круглые сутки без остановки. В его огромных пространствах помещалось множество открытых допоздна полезных заведений – магазинов, кафе, киосков, имбисов, которые, как это часто бывает с большими вокзалами, манили к себе тех особых людей, которые вовсе не собирались никуда ехать. Просто кто-то из них давно променял день на ночь и просыпался, когда многие уже спали. Другие тоже бы спали, но им было негде. Для кого-то это была работа – по ночам обтяпывать на вокзале какие-то делишки. А иной просто скучал и хотел здесь повстречать человека, которому за бутылочкой «Корна» можно было бы поведать о своей скуке.
Войдя в здание вокзала, Андрэ сразу почувствовал на себе любопытные взгляды «особых» его обитателей. Люди, которые встречали, провожали или сами уезжали, тоже с интересом посматривали на него, но не более как на курьезный подвид панка. Сами же панки, попрошайки, выпивохи и нищие сразу определили в нем человека, который, как и они, находился здесь не в ожидании поезда, а пришел, чтобы скоротать время. Оценив размеры вокзала, Андрэ бесцельно побродил по нему и отправился к выходу покурить.
– Привет! Сигаретой не угостишь? – раздалось у него за спиной.
Обернувшись, он увидел молодую особу в черной проклепанной куртке с множеством пирсингов на лице. Хотя сейчас, когда сигареты заканчивались, а денег почти не осталось, подобные просьбы его раздражали, но он все же достал пачку и протянул сигарету.
– Добавь пятьдесят центов на пиво, – особа не уходила и явно намеревалась продолжить общение.
– Я бы сам стрельнул у кого-нибудь пятьдесят центов на пиво, – нехотя ответил Андрэ.
– Ты откуда? – поинтересовалась девица, поняв по акценту, что он не здешний.
– Из Беларуси.
– Где это? Русланд?
– Вайсрусланд!
– А-а-а! Лукашенко! – Поняла вдруг девица и с еще большим любопытством уставилась на Андрэ.
Он тоже внимательней взглянул на незнакомку. На вид ей можно было дать лет двадцать пять. Ее почти маскарадный прикид выдавал в ней человека взбалмошного, от которого можно ожидать любых сюрпризов. «Должно быть, порядочная стерва, находящая смысл в любом экстриме!» – подумал Андрэ, поднося незнакомке зажигалку.
– Куда же ты направляешься?
– Я еду в Могилев на пивной фестиваль. У вас в Баварии есть Октоуберфест, а у нас он тоже проходит осенью и называется Дажынки, или Большой праздник пива в Могиле. «А она ничего! – поймал себя на мысли Андрэ. – Может, и не красотка, но лицо выразительное, с характером. Такая умеет с полуоборота заводить мужиков. Если б смыть эту дурацкую, а-ля леди Макбет, черную тушь с глаз, то будет совсем ничего», – и вслух добавил:
– Хочешь, поехали со мной?
– Дожьинки, – забавно коверкая слово, повторила особа.
– Не дожьинки, а дажынки. Ж – твердое. «До жинки» – это по украински «к жене».
– Ха! Я ни разу не была на востоке! Один раз мы ездили в Познань, но дальше я не выбиралась.
– Тоже мне восток – Познань! Это почти то же самое, что съездить в Бонн!
Андрэ начал понемногу оживляться. Дремавший где-то далеко в глубине Андрейка, видимо, очнулся от субботнего перепоя и высунул свой заспанный лыч в этот дождливый ганноверский вечер.
– Ты должна увидеть настоящий восток! Съездить к нам – то же самое, что съездить в Индию! Ты знаешь, что Беларусь – это священная земля арийских богов? Во время оккупации гауляйтер Кубэ даже хотел Азгард возводить в наших болотах. Не успел, правда. Москва бомбу под матрас подложила. Кстати, как тебя зовут? Меня – Андрей, но здесь, в Германии, друзья называют Андрэ.
– Ингрид!
– Ингрид! Классное имя! Как у богини из древнегерманского мифа. Ну что, едешь?
– Ладно, поехали! У тебя есть чего-нибудь выпить на дорожку? – Ингрид усмехнулась с видом человека, который, конечно, ни в какую Могилу на праздник пива ехать не собирался, но потусоваться вечерок с этим чудаком в Шеломе был не против.
У Андрэ еще оставалось пятнадцать евро, которые надо было с умом растянуть до Берлина. «Но ведь бутылка “Егермайстера” в такой промозглый вечер будет очень кстати. Да, черт возьми! До Берлина каких-то двести пятьдесят километров. Если утром выехать, то после захода солнца я уже буду с хоббитами мозги парить граппой в Тахелесе», – решил он и тут же спросил:
– Ты знаешь поблизости недорогой гастроном типа «Лидла»?
Пока Андрэ нахваливал Ингрид достоинства Могилевского пивного фэста, за ними внимательно наблюдали несколько пар любопытных глаз. Когда же они двинулись в сторону ближайшего недорогого гастронома, некто, по-видимому, хорошо знакомый с Ингрид, окликнул ее и, поинтересовавшись, куда они направляются, осторожно спросил, не мог бы он к ним присоединиться?
На что Андрэ, окинув взглядом экстравагантную прическу кандидата в компанию и, слегка расправив плечи, произнес:
– Знаешь, амиго, я возвращаюсь с фронта домой и малость поиздержался в дороге. В следующий раз, когда буду в Ганновере, непременно поставлю выпивку всему вокзалу, но сегодня, увы, «Егермайстера» хватит только на двоих!
Пока они пробирались по растворявшимся в дожде и сумерках улицам к магазину, Андрэ с интересом посматривал на Ингрид. «Да, то, что надо! Я бы взял ее на святую землю германских богов!» Ему нравились такие барышни подросткового вида, с небольшими бюстами и изящными попками, особенно если они, как сейчас у Ингрид, были плотно обтянуты джинсами.
Еще в юности в альтернативу «тургеневским девушкам» Андрэ сочинил для себя образ, который он назвал «фассбиндеровский ангелочек». В «тургеневских девушках», кроме того, что их образ настоятельно впихивала в недозрелые подростковые мозги школьная программа, его не устраивала малая драматичность, недостаточная внутренняя изломанность души. Они казались ему наивными девицами с широко раскрытыми голубыми глазками, этакими плюшевыми зайчиками с мягкого дивана. В их обществе, еще ничего не совершив, а только подумав, он сразу ощущал себя подлецом, бабником, синей бородой, губителем молодых сердец.
В противоположность им типаж женщины, который он извлек из фильмов Фассбиндера, являл собой образ кубистический, со множеством изломов, перепадами теней и света. Это был ранний Пикассо, а не велюровый пастельный Ренуар. «Фассбиндеровский ангел» – женщина с драмой внутри, со сложной судьбой, возможно, большая стерва, но в ее обществе Андрэ ощущал себя как бы на равных: ведь если он подлец, то и она хоть и ангел, но падший.
Приглядываясь к Ингрид, он чувствовал, что она именно тот ангелочек в самом классическом проявлении, с театрально накрашенными глазами, пирсингом, вызывающей стрижкой, черными нарядами и множеством тараканов и причуд в голове.
Добравшись до магазина, он купил «Егермайстер», по просьбе Ингрид – шесть банок пива и на всякий случай пакет недорогого вина. Выйдя в уже наступившую темноту, он тотчас откупорил бутылку и под моросящим дождем они отпили немного – за знакомство.
– Чем же ты еще занимаешься, кроме пивных праздников? – спросил фассбиндеровский ангел.
– Я ищу новую жизнь, но вообще-то в миру я художник.
– Клево! Я тоже рисую. Правда, так, для себя. И что же ты рисуешь?
– А так, фигня! Уже ничего не рисую. В Могилеве памятники ставлю. На кладбищах. Раньше, конечно, рисовал, великим художником хотел стать, длинные волосы и бороду отпускал, берет, как у Гогена, носил. А потом оказалось, что великих художников слишком много, а покупателей мало. А тут еще капитализм пожаловал: не хочешь с голоду сдохнуть, рисуй всякую хрень для салонов или увековечивай мертвых. И вообще великими художниками уже давно не становятся, их делают добрые феи в черных костюмах, а если таких фей в твоем городе нет…
Андрэ сделал глоток из бутылки.
– У вас такая же хрень. Художник, как собачье дерьмо, – тоже никому не нужен. Так, кидают ему подачки с барского стола, чтобы не сдох с голоду или, не дай Бог, не взбунтовался, как Шикльгрубер.
– Кто?
– У Адольфа фамилия была – Шикльгрубер. Он вначале тоже большим художником хотел стать, а потом с голодухи взбунтовался, и сама знаешь, чем все закончилось.
Тут Андрэ вспомнил, что почти сутки ничего не ел. «Ладно, фигня! – сказал он себе, – “Егермайстер” лучше вставит!» На голодный желудок «Егермайстер» действительно ложился неплохо, и от нескольких глотков Андрэ быстро захмелел. Он сделал еще один и, все более распаляясь, продолжал:
– Ты думаешь, если по телевизору в новостях передали, что какую-то там картину купили за сто миллионов баксов, то это что-нибудь значит? Чушь! Собачье дерьмо! К художнику это не имеет никакого отношения. Чистейший шоу-бизнес! Как тебе это объяснить? Ну, к примеру, есть две колоды карт. Каждая карта – чье-то имя. В одной колоде сто имен. В другой – миллион. Если ты в первую колоду попал, то тебя тусуют везде – музеи, телевидение, обложки журналов, сотбисы! И сто самых богатых пингвинов на тебя ставки делают. Огромные деньги за твои работы дают, покупают, перепродают, воздух накачивают! Ведь, по сути, картина – это холст и сто грамм краски, остальное воздух, дух, пустота. Как оценить этот воздух? Что в нем может стоить сто миллионов? Но если ты во второй колоде сидишь, если в большую игру тебя не приглашают, то что бы ты такого гениального ни создал…
– Какой классный шлем! Я тебя на вокзале сразу заметила, когда ты пялился на витрины с сосисками. – Ингрид неожиданно прервала его и, приблизившись, протянула к Шелому ладони.
Андрэ вдруг ощутил прикосновение ее тепла, которое под моросящим дождем проникало через колючий жесткий свитер и собиралось где-то внизу мягким приятным облаком. Лицо Ингрид было совсем рядом. Он слышал ее дыхание, видел капли дождя на щеках, легкий пушок еле заметных усиков над верхней губой. Он почувствовал животную силу, которая влекла его к этому проклепанному, кожаному, эксцентричному ангелочку. Андрэ положил руки Ингрид на талию, затем осторожно опустил ниже.
– Пошли ко мне, покажу свои рисунки! Я живу недалеко, с бойфрендом. Он, конечно, полный придурок, но сейчас у него репетиция. Думаю, дома он нескоро появится! – Не отрывая взгляда от глаз Андрэ, она сделала глоток из бутылки.
Квартира Ингрид действительно оказалась расположенной совсем неподалеку. Пройдя два квартала, они зашли в подъезд невзрачного серого дома и поднялись на третий этаж. Внутри, как и можно было ожидать, царило художественное смятенье. Всем видом жилище давало понять, что тут обитают люди, для которых домашний уют, по крайней мере пока, не является чем-то первостепенным. Квартирка была небольшая и состояла из крохотной кухни, одной достаточно вместительной комнаты и совсем маленькой спальни. Некую живость его раздолбанному интерьеру придавала черная стена в большой комнате, по центру которой красовалась очерченная кругом здоровенная буква А. Другая стена была покрашена красным. Повсюду без всякого порядка висели рисунки, выполненные на картоне в довольно наивной манере.
«Уже то хорошо, что здесь живут не панки», – отметил про себя Андрэ, войдя в комнату. Он в общем-то с пониманием относился к панкам, но почему-то всегда, когда думал о них, его воображение рисовало образ человека, пожирающего с асфальта собачье дерьмо.
Усадив Андрэ на диван, Ингрид принялась доставать из папок свои работы. Все они были выполнены рукой человека, который, очевидно, не проходил школы классического рисунка. Но в то же время присутствовала в них какая-то искренность. Казалось, автор хочет многое рассказать, но сопротивление материала, неумение подчинить его себе, сделать его всего лишь языком, опутывало художника. Поэтому высказывание получалось неполным, звучало в полслова.
Зная по себе, как бывает раним художник, тем более начинающий, в момент публичного обнажения, Андрэ начал выискивать в работах Ингрид сильные стороны и в меру сил подбадривать ее. Слабых сторон в картинах имелось не меньше, но он решил, что про них пусть расскажет кто-то другой. Ингрид, ползая на коленях по полу большой комнаты, раскладывала перед ним все новые и новые рисунки. Время от времени она изгибалась в таких изысканных позах, что кровь приливала Андрэ в голову, заставляя его все больше и больше расточаться в похвалах, в которых уже вскоре львиную долю составлял восторг не от самих работ, а от автора, от изгиба ее бедер, линии плеч и прочих соблазнов ее тела.
Наконец, Ингрид достала маленькую папку с небольшими рисунками и присела на диван. Теперь она опять была совсем близко. Андрэ чувствовал тепло ее ноги, которая плотно прижималась к нему. Пролистав еще несколько рисунков, она неожиданно обернулась и пристально посмотрела ему в глаза. Он снова осторожно положил руку на ее талию и всем телом подался вперед. Ингрид отпрянула немного назад, потянулась куда-то рукой и неожиданно погасила свет стоявшего у дивана торшера.
В наступившей темноте рука Андрэ скользнула под ее свитер. Он почувствовал тепло ее кожи. Среди мягкого бархата живота Ингрид ладонь ощутила холодок крохотного колечка, обвивавшего ее пупок. Такие же два колечка он нашел выше, на сосках маленьких упругих грудей. Осторожно сняв с Ингрид свитер, Андрэ принялся кончиком языка изучать все еще не известные ему пирсинги на ее теле.
– Может, снимешь свой шлем? – неожиданно прошептала Ингрид, – а то шпилем выбьешь мне глаз.
– Не могу!
– Почему? – тихо простонала она.
– У меня без него не получится, – промурлыкал Андрэ, приближаясь к самому сладкому пирсингу на ее теле.
– Ухватись за шпиль руками – ты поймешь, как это здорово.
Бойфрэнд на самом деле оказался полным придурком. Когда в час ночи он заявился домой, Андрэ с Ингрид пили пиво на кухне. «Егермайстер» к тому времени уже закончился, и они просто тихо беседовали, узнавая друг друга получше.
Войдя на кухню, он в упор посмотрел на нежданного гостя и недовольно, словно Андрэ не было в комнате, спросил:
– Кто это?
– Это мой фрэнд. Он останется у нас ночевать, – спокойно, как о чем-то решенном и не требующем обсуждения, ответила Ингрид.
Опешив от невесть откуда свалившегося фрэнда и как бы смиряясь с его неизбежностью, бойфрэнд спросил:
– Что это за дерьмо у тебя на голове?
– Шелом!
– Ты что, солдат?
«Да, мерзкий тип», – подумал Андрэ, выдержал паузу и произнес:
– Да, был им, теперь уже генерал.
– Ха! И где же твоя армия?
– Везде. Я художник. – С этими словами Андрэ полез в рюкзак и достал оттуда тот литр вина, которым предусмотрительно запасся с вечера.
Злобный бойфрэнд немного подобрел, взял из рук Ингрид банку с пивом и, отпив, представился:
– Я Макс!
Макс оказался не таким уж мерзким типом, каким показался вначале. То, что он был немного придурком, не вызывало сомнений, но каждый творческий человек, а Макс играл на гитаре в малоизвестной начинающей группе, должен быть хоть немного придурком, иначе ему не место в этом деле.
Макс сразу принялся рассказывать о своей группе и их новом альбоме, потом достал диск и поставил послушать кое-что из последнего. Хоть Андрэ не очень любил громкую музыку, особенно если инструменты ревели одновременно, стараясь перекричать друг друга, но из уважения к хозяину дома старательно слушал и, время от времени посматривая на Ингрид, терся под столом о ее ногу носком своего ботинка.
Затем Макс извлек из кармана изящную табакерку и предложил покурить. Ответив, что он не по тем делам, Андрэ вежливо отказался. На что Макс вытаращил на него такие удивленные глаза, как будто впервые в жизни повстречал единственного во вселенной уникального человека, отказывающегося от марихуаны. Гостю пришлось объяснить, что сколько бы раз он ни пытался приучить свой организм к марихуане, ничего путного из этого не получалось. Что, возможно, он действительно есть тот уникальный человек, которого трава не берет, но, наоборот, прибивает. Поэтому нет смысла переводить ценный продукт, а уж лучше он выпьет вина.
Не до конца поверив, что такое чудо, когда трава не берет, существует в природе, Макс забил косяк, и они с Ингрид пыхнули. Андрэ же выпил еще вина и пообещал, что когда они победят, то непременно отправит Максу в подарок морским транспортом большой контейнер «Беломора», чтобы им впредь не приходилось мучиться со всякими там самокрутками. Вдобавок он пришлет им в Ганновер целый ящик «Крыжачка», настоящей, крутейшей дури типа Абсента, настоенной не на каких-то там травках, а на настоящих болотных грибках-галлюциногенах.
Все складывалось неплохо, и второй день новой жизни не в пример первому вроде бы завершался хэппи эндом, если б не подал голос этот чертов вокзал. К сожалению, квартира Ингрид находилась к нему в опасной близости, всю неприятность которой Андрэ почувствовал после часу ночи, когда к ним на огонек начали забредать всякие скучающие в ночи личности, успевшие к тому времени утомиться и от скуки вокзала.
Вначале нарисовались два панка. Они были уже изрядно чем-то обдолбаны, но, главное, когда появились на кухне, там сразу стало шумно, тесно и неуютно. Андрэ понял, что для него вечер закончился, и попросил показать место, где он может прилечь. Ингрид отвела его в большую комнату и, принеся ватное одеяло, сказала, что спать он может здесь, на диване, а они с Максом обычно спят в соседней маленькой комнате.
– Ну что, едешь со мной в Могилев? – Андрэ прижал Ингрид к себе так близко, чтобы вновь ощутить все пирсинги ее тела.
Из кухни опять донеслась музыка в исполнении Макса и его беспощадного бэнда.
– Ты тоже придурок, – ответила Ингрид, кокетливо увернувшись. – Мне надо идти. Разбуди меня утром.
Как и следовало ожидать, спокойно поспать в этой квартире не дали. После первых двух панков вскоре пожаловали еще гости, затем некто уходил, кто-то приходил, на кухне по-прежнему играла музыка, раздавался смех, падали бутылки. Потом Андрэ ненадолго забылся в неглубоком, хрупком сне.
Он проснулся от ощущения, что Шелом сползает с его головы. Андрэ приоткрыл один глаз и увидел в темноте над собой незнакомого типа, который, протянув руки, пытался осторожно снять с него Шелом. Сон моментально исчез:
– Ах ты, блядь, козел!!! – Андрэ вцепился в лицо неизвестного и, что есть силы, оттолкнул от себя.
Тот, рухнув с дивана, вскочил и кинулся к двери. Андрэ схватил попавшийся под руку ботинок и запустил в убегавшего, затем поднялся, включил свет и начал нервно ходить по комнате.
– Ах ты, чертова богадельня! – он никак не мог успокоиться.
Из кухни доносился смех. Видимо, там происшедшее осталось незамеченным. Андрэ заглянул в маленькую комнату – в ней спокойно спала Ингрид. Он растолкал ее и, когда она чуть приоткрыла заспанные глаза, спросил:
– У тебя есть скотч?
– Какой еще скотч, виски?
– Нет, лента клейкая!
– Идиот! Иди спать! – Она повернулась лицом к стенке.
Андрэ вернулся в комнату и принялся рыться по ящикам в поисках скотча. Наконец, он нашел моток клейкой ленты и, приговаривая как заклинанье – «чертова богадельня! чертовы лузеры!» – начал намертво крепить Шелом к голове. Закончив, он взял подвернувшийся под руку шарф и для надежности повязал его сверху.
– Нате, бляди, выкусите! Черта с два вы теперь его снимите!
Выключив свет, Андрэ забрался обратно на диван и в полной уверенности, что теперь до утра может спать спокойно, заснул.
Проснулся он поздно. Открыл глаза и почувствовал, что голова его стала будто бы деревянной. Скотч сдавливал вены, поэтому она распухла и покраснела. Андрэ привстал на диване и обнаружил в комнате еще одного спящего – какой-то кабан лежал, похрапывая, в дальнем углу на матрасе. На кухне уже было тихо.
Андрэ отправился в ванную и, разбинтовав голову, засунул ее под кран холодной воды. Потом взял тазик и, раздевшись, окатил всего себя целиком. Взглянув в зеркало, он с расстройством обнаружил, что один лев на Шеломе по-прежнему блистал позолотой, а второго плотно покрывали остатки желтого скотча. Он, словно клошар, проведший ночь в картонной коробке, теперь сидел в ней, рычал, недовольно скалил зубы, давая понять, что такой вид ночлега никак не отвечает его царственному величию. Андрэ взял мочалку и принялся удалять с Шелома остатки скотча, тихонько бормоча в полголоса:
– Извини, извини, Лева, не думал, что такой паршивый скотч попадется. Лева слева… Лева из Могилева… Надо вас как-то назвать… Вася. Василий, Василиск. Нет. Какое-то кошачье имя. Владимир, Святослав, Святогор, Святодыр, Мойдодыр, Варфоломей, Аввакум, Гримислав, Святополк. Да! Хорошо. Святополк! Святополк и… Зигфрид. Нет, Зигфрид не подходит. Леопольд. Бальтасар. Грациан, Гильдерстерн, Гершензон, Валенрод. Пусть будет Валенрод. Хорошее имя. Святополк и Валенрод!
Закончив натирать льва мочалкой, Андрэ снова приблизился к зеркалу. Валенрод, как и прежде, блистал позолотой, но Святополк все же имел вид немного потрепанный – небольшие частицы скотча оставались на нем. С чувством легкой досады Андрэ оделся и вышел на кухню.
Голова побаливала – то ли от скотча, то ли от вина, то ли от пива и «Егермайстера», а скорее от всего сразу. На кухне виднелись следы прошедшего праздника. Валялись пустые пивные банки, воняло бычками от сигарет.
«Ладно, пора выбираться на трассу», – решил Андрэ и тихонько пробрался в спальню. Макс, растянув свое длиннющее тело, спал, уткнувшись лицом к стенке. Ингрид, к счастью, лежала с краю кровати. Он засунул руку под одеяло и, как скульптор по материалу, прошелся ладонью по изгибам ее тела.
– Вставай, нам пора! – прошептал он на ушко.
Ингрид открыла глаза и, ничего не ответив, посмотрела на Андрэ.
– Нам пора! – повторил он.
– Куда пора?
– Как куда, в Берлин!
– Ты ненормальный, – она закрыла глаза, потом опять посмотрела на Андрэ и добавила: – Подожди меня на кухне.
Когда Ингрид появилась на кухне, Андрэ убедился в своем вчерашнем предположении, что черная косметика ее только портит, делая ее лицо вульгарным. Глаза у Ингрид оказались настолько выразительными, что в принципе не нуждались в косметике, ну разве что самую малость.
– Черт! Голова болит! – Она присела у стола, заваленного пустыми банками из-под пива, и посмотрела на них в надежде обнаружить хоть одну непочатую.
– Придурки, хоть бы одну на утро оставили!
Андрэ выдержал паузу, а потом полез в рюкзак и достал банку пива, которую он предусмотрительно припрятал с вечера.
– Да! Федор Михайлович меня не одобрит! – Он представил, как брови Михалыча на портрете кисти Крамского нахмурились, а указательный пальчик сделал несколько еле заметных укоризненных движений. Зато глаза Ингрид немного прояснились – в них замерцал легкий огонек.
– Кто это Фьедор Михайлович? – открывая пиво, спросила она.
– Да так, знакомый один – Достоевский. Достает меня по утрам! Придет, сядет у кровати и смотрит грустными глазами.
– Будешь?
– Буду! Но позже! Доберемся до Тахелеса, тогда буду!
«Да… Надо будет познакомить ее с Федором Михайловичем!» – подумал Андрэ, заметив, с каким удовольствием Ингрид опустошила первый стакан.
– Что это Тахелес? – спросила она, закурив сигарету.
– Это колония художников в Берлине. Тебе там понравится! Поехали!
– Ты ненормальный!
– Не хочешь! Ладно! Оставайся на этой вонючей кухне среди бычков и пустых банок! А мне пора на трассу! – Андрэ встал и демонстративно направился к выходу.
– Стой! – Ингрид пристально, в упор, посмотрела ему в глаза. Несколько мгновений, не моргая, вглядывалась в них, будто-то считывая некую радиограмму. Потом еще несколько мгновений расшифровывала, анализировала, думала, решала и, наконец, произнесла:
– Ладно! Напишу Максу записку, что несколько дней побуду в Берлине! Поехали!
Финляндия
Андрэ любил возвращаться в этот город. Впервые он приехал в Берлин через несколько лет после падения стены. Сырым мартовским утром он вышел из поезда на перрон Берлин-цоо и вдохнул первый глоток его воздуха – удивительного воздуха, настоянного на запахе позднего снега, паровозной гари и аромата кофе из имбисов. Встречал его старый приятель Вадим, тоже художник, который уже пару лет как обосновался здесь и в то время снимал маленькую квартирку на улице Ораньенбургер в восточном Берлине.
Первое, что поразило Андрэ, когда с вокзала они пешком отправились на квартиру Вадима, была колонна с золотым ангелом, тем самым ангелом из «Неба над Берлином» Вима Вендерса. Казалось, так странно – она стоит среди парка, совсем реальная и земная, но в то же время словно ставящая под вопрос реальность твоего присутствия тут. Будто твое присутствие всего только сон, иллюзия, продолжение фильма, в который ты невесть каким образом случайно попал.
Еще его удивила схожесть этого города с Питером. Когда он увидел его обшарпанные стены, парадные, пахнущие котами, квартиры с выцветшими обоями, кафе, напоминающие питерский «Сайгон», и даже тараканов, которых он нигде в Германии больше не встречал, ему сразу стало здесь хорошо и уютно, словно он попал в милый сердцу город своей юности.
Затем, когда Андрэ в одиночестве отправился гулять по Берлину, город поразил его своим размахом. Он казался бесконечным, огромным – таким, каким в его представлении и должен быть настоящий город, чтобы ты мог выйти из центра в полдень и идти, идти, идти куда-то все новыми улицами, но все равно до захода солнца не достигнуть его окраин.
Вечером этого дня Андрэ ждало еще одно открытие. Март только начинался, и город довольно рано ушел в полутона ранних сумерек. Уставший, он возвращался бесконечными улицами обратно к центру. Для бодрости он купил штоф «Егермайстера» и, изредка отпивая из горлышка, шел к месту назначенной с Вадимом встречи, на стрелку между мостами у входа в Боде-музэум.
Добравшись до музейного острова, Андрэ остолбенел от открывшегося великолепия. Даже не столько архитектура поразила его, хотя она была величественна, грандиозна, сколько атмосфера, которая окутывала эти кварталы. Казалось, это была квинтэссенция прусского духа, того, что несло в себе образ Германии, нарисованный его воображением в юности, когда он взахлеб читал Шиллера, Гофмана, Клейста и даже пытался проникнуть в «Критику чистого разума» Канта.
Андрэ был неплохо знаком с немецкой литературой. Как-то в молодости он решил самообразовать себя и прочитать в хронологическом порядке все основные творения человеческой мысли. Начав с древних греков, он упрямо, иногда мучаясь и скучая, пробирался через столетия. Дойдя до Возрождения, и без особого интереса проглотив Петрарку и Данте, он принялся за немцев. И тут Андрэ ожидало открытие, что-то перевернувшее в его сознании. Взяв в библиотеке многотомное собрание Канта, он принялся изучать «Критику чистого разума». Бродить по путаным лабиринтам кантовской мысли было непросто. Мало что понимая, он все же дочитал до конца, уяснив главное – наверняка существует лишь он, а вокруг пустота, вернее, вещи в себе, проникнуть в которые ему невозможно.
Андрэ представил, что каждый предмет – книга, стол, на котором она лежит, стакан с чаем – всего лишь закрытые на замок черные ящики-шкафы, что парят в бездонно черном пространстве. Воображение почему-то рисовало ему вещь в себе именно парящим в темноте черным шкафом. Заглянуть за дверцы шкафа было нельзя, но, если представить, что они вдруг открылись, внутри все равно бы зияла все та же черная бездонная пустота.
По сути, весь мир вокруг становился одним большим непознанным объектом. Как бы мы ни пытались проникнуть в него, лизнуть языком, откусить кусочек и попробовать на вкус, он все равно оставался только отражением в нашем сознании, а потому был призрачен, недостоверен, иллюзорен. Достаточно было закрыть глаза, убрать со стола руки, выключить сознание, наконец, умереть, и все исчезало вместе с тобой туда же, в непостижимую бездонную пустоту.
Эта мысль так потрясла Андрэ, что он даже впал в небольшую депрессию, плавно перешедшую в недолгий запой. Но, к счастью, вскоре он принялся за Ницше, который немного поправил укантованную Иммануилом и шнапсом нервную систему.
Тогда же, в первый берлинский вечер, со стен Пергамона, уходившего со своим величием в черные воды Шпрее, на Андрэ смотрел сам гений немецкого духа, ее философии, воплощенный в архитектуре. С того дня он полюбил этот город безоговорочно и навсегда.
До Берлина добрались на удивление быстро – солнце стояло еще высоко, когда они с Ингрид подъезжали к Потсдаму. Доехав S-баном до центра, они вышли на станции «Хааки-шемаркет» и двинулись в направлении улицы Ораньенбургер.
Из всех улиц города эта была для Андрэ бесспорно самой любимой. Так получалось, что всякий раз его берлинская жизнь протекала либо на ней, либо на удалении нескольких кварталов от нее. Здесь, в соседнем с синагогой дворе, когда-то находилась квартира Вадима. Здесь же, на Ораньенбургер, после захода солнца зажигалась ночная жизнь города – бары, индийские рестораны, кафе заполняли туристы, берлинские художники и поэты. На тротуарах появлялись путаны, будто сошедшие с обложек глянцевых порножурналов. Прогуливаясь с бутылочкой виски в кармане, Андрэ нравилось рассматривать их как шикарные арт-объекты в музее.
На улице Ораньенбургер находился и Тахелес – приют для маленькой колонии хоббитов, который уже много лет был центром притяжения как для тех из них, кто обосновался в Берлине, а так и для тех, кто бывал тут проездом. Всякий раз, попадая в город, Андрэ первым делом направлялся сюда, зная, что кроме теплого приема непременно встретит здесь людей, которых годами не видел на родине.
Правда, Тахелес имел в городе не лучшую славу. Возникнув как сквот еще до падения стены, он, по сути, и остался сквотом, который теперь заселяли художники с удаленных окраин Европы. Со временем, чтобы немного облагородить это место, здесь начали проводить выставки, чтения, небольшие концерты, заманивавшие к себе альтернативную публику со всего города.
Однако художники пореспектабельней в Тахелесе не выставлялись, считая это место слишком трэшевым и неприличным для большого искусства. Арт-генералы его даже не замечали. Рядовые, желавшие выбиться в генералы, избегали, чтобы не портить себе послужной список. Лишь арт-партизаны анархистского толка считали это место своим и, забив на мнения генералов, прапорщиков и прочих майоров от искусства, устраивали здесь настоящее пиршество первозданного креатива.
Многие в городе давно закрыли бы Тахелес как рассадник пьянства, блядства и всякого безобразия. Но он стал таким культовым местом, что туристы строем шли взглянуть на этот островок хаоса среди сияющих свежим ремонтом фасадов Восточного Берлина. Поэтому, чтобы не поднимать лишнего шума, его оставили на время в покое как один из берлинских аттракционов для толп непривередливых и любознательных узкоглазых человечков с фотоаппаратами «Сони» в руках.
Мрачное здание Тахелеса, похожее на гигантскую буханку черного прогорклого хлеба, возвышалось в самом конце улицы. Своим видом оно больше напоминало берлинский дом, который после войны по каким-то причинам не стали приводить в порядок, а оставили как есть – со следами от пуль, разводами плесени на фасадах, осыпавшейся штукатуркой и надписями триумфаторов на стенах.
Войдя в Тахелес с парадного входа, Андрэ с Ингрид поднялись по измалеванной лестнице на четвертый этаж. Здесь уже много лет располагалось мастерская, в которой жил Федор – старинный приятель из Минска.
Остановившись перед дверью с прилепленной скотчем бумажкой, на которой от руки, небрежно, артистическим почерком было написано – «ателье Федора», Андрэ постучал. За дверью царило молчание, но, когда он ударил несколько раз посильнее, с той стороны послышался шорох неторопливых шагов.
– О-о-о-о-о-о! Какие люди! – На пороге в нижнем белье стоял Федор. Голова его была всклокочена, лицо выглядело заспанным и немного помятым, но широкая улыбка, завершающая эту конструкцию, придавала ему вид вполне обаятельный и даже милый.
– Андрюха, какими судьбами? – Федор, как это обычно принято у хоббитов, полез было обниматься, но, обнаружив за спиной Андрэ Ингрид, засмущался и принялся натягивать брюки.
– Это Ингрид!
– Федор! А у нас тут вчера… Ну, одним словом, чума, понимаешь, мы только недавно шляфэн легли! – протянув руку Ингрид, он с любопытством окинул ее взглядом.
Федор был старожилом берлинской колонии. Но главное, он являл собой образ кристально чистого, без посторонних примесей и добавок настоящего солдата искусства. Того, для кого походы, тяготы неустроенной жизни в окопах, пятна берлинской лазури на брюках, вонь растворителей у подушки, арт-обстрелы, бомбежки, налеты на галереи и дармовые фуршеты были делом обыденным и в то же время любимым. Он не представлял, не знал, да и знать не хотел другой жизни. Федор отдавался служению целиком, был готов нести этот крест самозабвенно, не требуя ни наград, ни званий, ни почестей посмертной славы.
Его даже трудно было назвать рядовым, а скорее старшиной, есаулом, младшим офицером. Если б он служил в другой армии – французской или немецкой, то наверняка носил бы уже погоны если не генерала, то полковника или майора. Но в Мордоре генералов от искусства не существовало, вернее, имелась пара, которых назначали сверху. Но армия, хотя это была даже не армия, а скорее ополчение – рассеянные по лесам партизанские отряды, их не признавала.
Начинающие салабоны смотрели на Федора с уважением. Для них его авторитет был бесспорным, и, по правде сказать, Шелом должен бы носить он – Федор. Именно его голова как нельзя более подходила под этот позолоченный символ воинской чести, доблести и власти. Но Шелом красовался на голове Андрэ, и Федор, наконец, заметил его:
– Ну, какая вещь! Где раздобыл?
– Да так! Потом расскажу! Федор, мы у тебя поживем пару дней?
– Ясно! Не вопрос! Найдите себе матрац в коридоре и шляфен махен сколько хотите. Ну, проходьте, проходьте. – Он скинул со стула какие-то тряпки и поставил его перед Ингрид. – Да, рад. Давненько не виделись! Хотите вина тринкен? – символически спросил Федор и, не дожидаясь ответа, вытащил из-под стола литровый пакет белого.
Он не признавал легких напитков в стекле и всегда покупал только картоны. На марше они были удобней: весили меньше, стоили еще меньше, а вмещали на четверть больше.
– Ну, рассказывай! Каким ветром?
– Мы с Ингрид отправляемся в свадебное путешествие! Вот начали с Берлина, потом едем в Прагу, оттуда в Вену, ненадолго в Венецию, а затем на Лазурный берег. Кстати, хочу одолжить у тебя немного денег на дорогу, а то у меня на кармане всего полтора евро.
– Ты же знаешь, я не храню такой гельд дома. У меня всей-то наличности – двадцатка.
– Что он говорит? – спросила Ингрид, которая не понимала языка хоббитов, но слушала их певучую тарабарскую речь с явным интересом.
– Он говорит, что хочет угостить нас виски. Кстати, Федор, до закрытия «Плюса» осталось сорок минут. Не пора ли нам поспешить?
В этот момент в дальнем углу мастерской что-то зашуршало, ватное одеяло зашевелилось, и из-под него на звук голосов показался заспанный лыч поэта Буяна. Правда, Буяном называл его только Андрэ, находя в этом имени точное определение его неординарной фигуры, совмещавшей в себе столько разносторонних талантов.
Во-первых, Буян действительно был поэтом. Когда, выпив, он начинал декламировать свои стихи, то звучало это чарующе. В них слышался звук прибоя в ночи перед штормом, мелодия баяна в нижних октавах, крики шамана, взывающего к почерневшему перед грозой небу. Но, выпив больше, Буян становился настоящим буяном: начинал материться, приставать к девушкам, хамить всем, кто подворачивался ему под руку, и даже, казалось, готов был подраться, но так как сложения был хрупкого, дальше угроз обычно дело не доходило.
Успокоить его в таком состоянии было непросто. Но имелся один способ, о котором знали ближайшие друзья – налить Буяну стакан портвейна. Именно портвейна, не водки, не сухого вина или пива, а чего-нибудь сладкого и крепленого. Портвейн действовал на Буяна, как удар матадора быку между глаз. Он тут же откидывал копыта и валился, задрав лапы кверху, прямо там, где его выпивал. И спал в такой позе Буян достаточно долго – пока, если не уносили друзья, утром его не находила уборщица или еще раньше дежурный милицейский патруль.
Во-вторых, Буян был художником и уже много лет живописал насекомых, в основном мандавошек. Он рисовал большие батальные сцены, спортивные праздники, портреты, семейные пары, сексуальные акты. Но героями его картин неизменно являлись круглые толстенькие мандавошки на тоненьких ножках. Иногда для разнообразия Буян вводил в свои произведения длинных вытянутых козявок, похожих на туберкулезную палочку, но обязательно с большими вытаращенными глазищами. Соответственно своему имиджу рисовал он их в очень буйной, экспрессивной манере, не жалея холста и красок, особенно самых ярких и ядовитых.
Высунув голову из-под одеяла, Буян какое-то время наводил резкость на стол, затем на сидевших за ним и, наконец, удивленно произнес:
– Воробей? А ты что делаешь в моем бюро? А ну, кыш отсюда! – Потом, расплывшись в улыбке, добавил: – Шутка! Ха-ха!
В куртке, штанах и ботинках он вылез из своей берлоги, уселся у стола и с дурацкой улыбкой уставился на Ингрид.
– Познакомь с девушкой!
– Ингрид – моя невеста.
– А-а-а, поздравляю! Давно вместе?
– Да, почти сутки.
– Ха-ха! А что жена?
– Что жена? В новую жизнь надо отправляться не с женой, а с молодой невестой.
– Правильно, чтоб пыль с рогов мокрой тряпочкой протирала, когда старым хрычом станешь. Ха-ха! Ха! Кстати, а что это за рог у тебя на голове? – Буян, наконец, заметил Шелом.
– Шелом медиума!
– Да ну! Дай померить! – буркнул Буян и потянулся к Шелому.
– Иди в жопу! Руками не трогать! А то собьешь мне все настройки!
– Что он говорит? – переспросила Ингрид, которая по-прежнему не понимала языка хоббитов.
– Он говорит, что ему нужен такой же Шелом, чтобы написать поэму про мандавошек.
– Про кого?
– Про мандавошек. Ну, это такая большая история, как мандавошки отправляются захватить Рим, одним словом, батальное полотно.
– Ладно! Генух пиздеть! – прервал разговор Федор. – Через двадцать минут «Плюс» закрывается. Если сейчас не выйдем, придется дуть на Фридрихштрассе или брать у арабов.
Переплачивать у арабов никому не хотелось, поэтому все сразу засуетились. Андрэ с Федором, накинув плащи, понеслись к «Плюсу», а Буян с Ингрид отправились на поиски матраса к большой куче хлама, которая громоздилась на этом же этаже в конце коридора.
Забежав минут за семь до закрытия в магазин, Федор кинул в тележку две бутылки виски по пять тридцать за штуку, для дам – четыре литровых пакета вина по семьдесят девять центов и, подумав о чем-то, на всякий случай поставил туда же восемь банок пива. Немного посовещавшись, специально для Буяна они нашли бутылку самого дешевого вермута и тоже положили ее в корзину. Уже возле кассы Андрэ вспомнил, что почти ничего не ел двое суток. Образ голодного Шикльгрубера вновь явился ему. «Трое суток для мира уже будет опасно», – прикинул он и попросил Федора взять еще черного хлеба, пару банок бобов, кусок шинки и тюбик майонеза.
Оказавшись на улице, они зашли в ближайшую подворотню и тут же отпили из горлышка за встречу. Вокруг уже зажглись фонари. Дождя не было, но осень все равно колючей сыростью проскальзывала под одежду. Потягивая согревающий тело напиток, Андрэ рассказал есаулу все, что приключилось с ним за последние дни: про выставку в Бонне, про тещины сапоги, про то, как купил Шелом, как познакомился с Ингрид. Федор с восторгом слушал рассказ, время от времени разражаясь приступами гомерического хохота. Наконец, когда Андрэ закончил, лицо есаула вдруг стало серьезным.
– Ты что, на самом деле решил никогда его не снимать? А как же ты чердак моешь?
– Никак! Не пробовал еще!
– Теперь ты и в Америку не попадешь. Тебя ж козлы в аэропорту через металлоискатель не пропустят!
– На хрен мне эта Америка, когда у меня на голове весь мир. Ведь на семитских языках шелом – это мир! Считай, я надел на голову мир!
– Э, не! По-нашему шелом – это война! Ты надел не мир, а войну!
– Война вокруг нас! Мир внутри, в голове!
– Не забудь, что каждый мир кончается войной!
– Но и каждую войну венчает шелом!
– И ты думаешь, что сможешь его удержать?
– Понимаешь, Федор… – Андрэ посмотрел есаулу в глаза. – Представь художника, которого все заебало… Заебало, потому что он лузер, жена дура и блядь, теща садистка и сволочь, денег нет и не будет, искусство его на хрен никому не нужно, никто его не замечает, и времени что-то исправить почти не осталось. Что ему делать? Есть два варианта. Первый: забить на все и тихо бухать в Могилеве. Второй – вымыслить нечто такое, чтобы все ахнули. Написать такой манифест да так его прокричать, чтоб не только соседи по засранной лестничной клетке услышали, но все: и на соседней улице, в городе и даже, на хрен, в Америке, которой все наши манифесты до задницы. Но тут как раз и проблема, потому что манифестов уже много написано, а придумать новый сложно. Если б были бабки, то можно было б себе любую блажь позволить. Но в том-то и дело, что бабок нет. А что у нас есть? Только свое тело! И все, что этот художник может сделать, он может сделать лишь со своим телом. К примеру, он говорит себе: ну, сволочи, погодите, покажу я вам фокус – пришью себе третью руку. Это будет мой манифест! Ха-ха! Смешно? Да? Трехрукий! Только снова проблема. Операция дорогая, опять бабки нужны. Да и что третья рука! Будет болтаться, как второй член! А если эту руку пришить к голове? Да из металла? И даже не всю руку, а только палец? Один средний палец, тот, которым символизируют «фак»! Так что, Федор, теперь понимаешь? Считай, что я к голове палец пришил! Один, но важный! Это мой манифест! Он всего из трех букв – короткий, но емкий!
Андрэ замолчал. Федор как-то скорбно, будто отправлял друга туда, откуда он уже не вернется, посмотрел на него, сделал глоток виски и произнес:
– Девять вечера. Пора возвращаться. Насчет денег надо что-то придумать. У меня их, сам знаешь, нет, у Буяна – тем более. Дай время, я помозгую, может, что-то в голову придет.
Вернувшись в Тахелес, они застали пасторальную сцену – Ингрид, вызывающе закинув ноги на стол, пила вино, а Буян в каком-то странном возбуждении суетился вокруг. Он вытаскивал из закутков свои свежие живописные ноктюрны, прелюдии, фуги и на простейшем английском из двадцати слов погружался в смысловые глубины этих картин.
За то время пока Андрэ с есаулом отсутствовали, они раздобыли на свалке матрас, а Ингрид даже успела свить на нем уютное гнездышко для ночлега. Затем Буян принялся развлекать молодую невесту. А так как иностранных языков знал он много, но не более двадцати слов на каждом, то речь его была похожа на изысканный воскресный десерт для гурмана, где выражения из французского, немецкого, английского, польского купажировались в сладкие, но немного странные коктейли.
Исчерпав известное ему количество сочленений, Буян достал тонкую книжицу и принялся читать Ингрид свои стихи. Написаны они были по-белорусски, но для понимания это не имело значения. Поэт он был далеко не бездарный, но, главное, при чтении голосом мог создавать такую комбинацию звуков, такую гамму шепотов, криков, стонов и визгов, что смысл произведения и без слов становился понятен. Отдавался Буян чтению своих виршей самозабвенно, и это почти всегда вызывало должный эффект у молоденьких девушек.
Ингрид, которой лохматое чудище, вылезшее из-под одеяла, поначалу совсем не понравилось, теперь смотрела на него хоть и с легким испугом, но уже переходящим в восторг. Буян же, отдавая себя в руки экстаза, что-то урчал, корчась, взлетал ревом, падал в тишину, затем опять взлетал, приземлялся, вгрызался в слово и снова набирал обороты. Винты пропеллеров крутились быстрее, быстрее, еще быстрее. Включалась турбина, он несся по взлетной полосе, отрывался от земли и… летел, летел, летел, БАБАХ!!! – неожиданно рухнул перед ней на колени, воткнув вишни своих взбаламученных очей прямо в ее глаза! «А в нем что-то есть!» – думала Ингрид и уже с большей симпатией вглядывалась в его пышную взлохмаченную шевелюру, густые брови, пухлые сексуальные губы.
Буян, видя, что его выступление дает нужный эффект, кинулся развивать успех. Он вцепился в тонкие руки Ингрид и принялся покрывать их чувственными слюнявыми поцелуями, а затем вдруг вскочил, побежал в угол и, погромыхав там, поставил перед ней ярко-розовую картину. Потом принес еще одну и еще.
Это были работы из нового – «розового» – периода Буяна. Все картины этого цикла имели неприятный красновато-пастельный, слегка менструальный окрас. Эта картина изображала группу мандавошек в количестве семи-восьми персон, которые, взявшись за руки, куда-то радостно вприпрыжку бежали в спортивных трусах по желтой дорожке среди розовых полей на фоне чистого голубого неба.
Безусловно, серия являла собой лирический этап в творчестве Буяна. В отличие от других периодов насекомые здесь были не агрессивны, а милы и веселы. Их дружный бег в одном направлении символизировал позитивное отношение к жизни, общность устремлений, радость коллективного труда, возможность преодоления любых невзгод сообща, возбуждение от совместного творчества, красоту спортивного праздника на фоне сельских пейзажей и многое-многое другое.
Ингрид, оценив сексуальные танцы Буяна, с любопытством рассматривала розовых козявок. Когда же она, закинув ноги на стол, уселась в такой соблазнительной позе, что Буян, пустив слюну, хотел было в качестве финального аккорда преподнести ей в подарок самое розовое из своих полотен, вошли Андрэ с есаулом, и полет был внезапно оборван на полуноте.
– Что вы так долго? – поинтересовалась Ингрид, снимая со стола ноги.
– Разговаривали, – хмуро произнес Андрэ и обвел взглядом мастерскую, которая уже больше походила на живописную лавку с расставленными и повернутыми к покупателю полотнами.
Федор подошел к столу и начал молча выгружать на него батарею жидких боеприпасов. Ее размеры говорили: бой сегодня предстоит не простой, а тяжелый, нудный, скорее всего, затяжной. И еще неизвестно, дотянет ли кто-нибудь из них до рассвета. Незримый противник был коварен, силен. Бряцая затворами автоматов, булькая снарядами, заряженными в горловины пушек, он грозно взирал из своих амбразур.
Все молча уселись вокруг стола. Федор, предвидя серьезность предстоящего боя, напряженно разлил по первой и, выдохнув, произнес:
– Ну, понеслось! За Родину! Пли!
Начали, как обычно, с тяжелой артиллерии. Как опытные солдаты они знали, что вначале врага нужно как следует раздолбать артналетом. Погонять неприятеля по его же окопам, чтоб он, задрав задницу, пометался от блиндажа к блиндажу под грохот и падающие на голову ошметки земли, штукатурки, дерьма, прочей дряни. Виски для этого подходило лучше всего. Конечно, сгодилась бы и водка, но в Берлине с ней была проблема. Стоила она дороже, а в размерах всей армии экономия на виски выходила приличная.
Первые залпы отзвуками глухих ударов громыхнули где-то вдали. Можно только предположить, какая паника и переполох поднялись в стане врага. Но противник тоже оказался не промах. Он тут же ответил залпами своих орудий. Поднялся страшный грохот и лязг. В бой вступила пехота, застрекотав бульканьем наливаемого в стаканы вина и глухими хлопками пивных банок. Все вокруг загалдели, затрещали, заговорили на всех языках – завязалась ожесточенная перестрелка.
Федор твердо стоял у орудий. Зарядив в ствол очередную порцию огненной воды, до того как донышко снаряда скроется в горловине, он кричал:
– За победу!
– За встречу!
– За шонен фрау!
– За искусство!
– За Тахелес!
– За Ефросинью Полоцкую!
– За Марью Ивановну!
– Почему за Марью Ивановну?
– А черт его знает! Просто к слову пришлось!
– За Берлин!
– За нас!
– За наших врагов!
– За то, чтобы все!
– Ура!
– С Новым годом!
– Новый год еще не скоро!
– Ничего страшного! За него еще сегодня не пили!
– Будем!
– Бум!
– Ну!
– А-а-а-а-а-а!
Да, сражение затевалось не шуточное! Враг наседал со всех сторон! Но наш маленький отряд мужественно отбивал его натиск. Ингрид, не умолкая, стрекотала из пулемета. Одновременно она исполняла роль сестры милосердия.
В какой-то момент, почувствовав, что силы с голодухи покидают Андрэ и он может раньше времени рухнуть на дно окопа, она прыгнула ему на колени и, впившись в губы, принялась делать искусственное дыханье. Затем схватила его за руку и потащила за собой по длинному коридору Тахелеса. Найдя тихое, укромное место, она прижала его к себе, расстегнула замок на штанах и запустила в них руку. Андрэ тут же ощутил прилив сил – открылось второе дыхание, и, усадив маленькую пулеметчицу на деревянные ящики, они с языческим ликованьем исполнили то, что таит в себе квинтэссенцию всякого смысла.
Вернувшись в ателье, они обнаружили свежее подкрепление. Пока их не было, сосед по этажу, услышав стрельбу, шум, грохот, звон стекла и во весь балканский голос ревущего Бреговича, заглянул к Федору. Увидав этот ад, он тотчас кинулся к себе и, кряхтя, притащил еще ящик снарядов. Что было как нельзя более кстати, так как виски к тому моменту как раз закончилось. На столе оставались лишь винные патроны и пивные хлопушки, поэтому Федору уже нечем было заряжать свои тяжелые гаубицы.
Как и следовало ожидать, такой бой не мог обойтись без потерь. Первым по-геройски упал поэт Буян. Какой-то шальной фугас разорвался возле него, и он, просто рухнув на руки Андрэ, вцепился ему в плечи и, раненый, простонал:
– А-а-а-а-а…а-а-а-а-а… Говнюк! Отдай шлём!
– Иди в задницу!
Буян тут же переключился на сидевшую рядом Ингрид и в простых армейских выражениях предложил ей совершить половой акт на его матрасе. Андрэ посмотрел на Федора с немым вопросом в глазах: «Не пора ли применить наше секретное противобуянное оружие?» Но тот был увлечен беседой с мексиканцем, соседом, притащившим ящик снарядов, и в принципе уже ни на что не обращал внимания. Он даже бросил командовать артиллерией и теперь просто подливал сам себе, стреляя без всяких тостов.
Сражение принимало затяжной характер. Оба лагеря несли большие потери, но силы враждующих оказались примерно равны, поэтому никому не удавалось решительным натиском преломить ход боя на свою сторону. Артиллерия уже не грохотала как прежде. Шла вялая автоматная перестрелка между мелкими группами. Хоть Федор время от времени и заряжал свою гаубицу, но, уже не целясь, посылал снаряд на авось, в надежде, что вдруг попадет куда следует.
В какой-то момент тяжелые заряды снова закончились. Но мексиканец оказался настоящим, с большой буквы Амиго. Он еще раз сбегал к себе в мастерскую и вернулся с бутылкой противотанкового бронебойного рома.
Буян хоть и был тяжело контужен, но не покидал поле боя. Он ползал между Андрэ, Ингрид, есаулом и мексиканским Амиго, лез обниматься, вешался всем на шею и что-то нес про свою гениальность. Ингрид он по-прежнему предлагал секс, на шпиль Шелома пробовал надеть бутерброд со шпиком, а мексиканца просто пытался поцеловать взасос. Федор смотрел на это спокойно, но лишь до момента, пока Буян вдруг не обозвал Амиго черномазой собакой.
Есаул был человеком правильным, жил по понятиям, поэтому не переваривал расизма ни в какой его форме. Услышав такое, он молча вытащил из-под бруствера припрятанный фауст-патрон вермута, налил полный стакан и сунул его в руку Буяну. Привычным жестом тот отпил и хотел было что-то еще сказать мексиканцу, но вдруг весь обомлел, скукожился и, как воздушный шарик, сдулся на первом подвернувшемся стуле.
Это была первая серьезная потеря в отряде. Вторым пал мексиканец. Видимо, предчувствуя что-то неладное, он попробовал сменить дислокацию, перебраться в более надежное, менее простреливаемое место, приподнялся из-за стола, как вдруг шальная пуля просто навылет сразила его. Амиго от неожиданности побелел, на мгновенье завис в воздухе и плавно, как одноногая цапля, взмахнув крыльями, рухнул с распростертыми руками спиной прямо в розовые земляничные поля.
Мандавошки в спортивных трусах, не ожидая такого, в панике кинулись наутек. Их коллективный бег в одном направлении, позитивное отношение к жизни, радость соборного труда, возбуждение совместного творчества, красота спортивного праздника на фоне сельских пейзажей и многое-многое другое вмиг было оборвано внезапным вторжением войны. Она просто рухнула на их головы с голубого неба большим потным телом пьяного мексиканца, пробив черные воронки-дыры в розовых полях, искорежив их противотанковыми надолбами переломанных подрамников.
А тут еще – о, ужас! – два жутких лика прямо с неба надвинулись на них. Один – почерневший и изъеденный морщинами лик какого-то седого мужика. Другой еще страшнее – голова в золотом Шеломе Бисмарка, будто сам дух войны взирал на них. С него щерились две жуткие львиные пасти, Святополк с Валенродом рычали с неба на мандавошек, в ужасе разбегавшихся по кровавым полям.
Андрэ с Федором склонили головы над лицом погибшего друга. Их глаза скорбно молвили: «Спи спокойно, наш дорогой камрад. Ты был настоящим товарищем, сподвижником, другом. Мы отомстим за тебя!»
Какая-то несчастная мандавошка, которой мексиканец придавил ногу своим телом, жалобно пищала, пытаясь вырваться из-под него.
– Да… Пиздаускас на улице Баускас! Сколько подрамников расхуячил! Завтра Буян точно прибьет его! – произнес Федор. – Бери за ноги, перетащим Амиго в его мастерскую!
Когда они вернулись, Ингрид уже спала. Буян, свернувшись улиткой, по-прежнему сидел на стуле. Федор налил по рюмке, и они выпили еще. Ром был мерзкий, заходил рывками, норовя рикошетом вернуться обратно. Разговаривать уже не хотелось, к тому же сон пудовыми гирями пригибал голову к земле. Настало время объявить перемирие. Андрэ разделся и залез под одеяло к Ингрид. Есаул еще недолго потоптался по комнате, а затем, потушив свет, тоже прилег.
Четвертая ночь новой жизни снова выдалась тревожной. Вроде и выпил он много, а потому должен бы спать до утра, пока б жажда не призвала потянуться к стакану воды, но что-то не отпускало. Немытая уже несколько дней голова зудела, и Андрэ постоянно хотелось крутануть Шелом, чтобы ее почесать. Матрас был узкий, и лежавшая рядом Ингрид, как горячая батарея, обжигала его. Андрэ просыпался, ворочался, опять засыпал.
Под утро он обнаружил себя на каком-то дворе. По окружавшим его со всех сторон невысоким домам с покатыми черепичными крышами предположил, что находится где-то на юге Европы. Светало, но остатки ночи продолжали цепляться за листья лозы, плотно обвивавшей стены. По центру двора стояло раскидистое ореховое дерево. Оно было такое высокое, что его верхушка растворялась где-то в белесом молоке предутреннего тумана. Под деревом широким охристым ковром лежали грецкие орехи.
«Как странно. Не думал, что грецкие орехи растут на таких высоких деревьях!» – Андрэ поднял два. Зажал в ладонях. Расколол. Попробовал. Мякоть показалась сладкой. – «Как хорошо! Как спокойно! Как легко дышать этим предрассветным, влажным, с капельками ночи воздухом!»
Андрэ подошел к дереву ближе. Под ногами мягко захрустели орехи. Присмотревшись, он обнаружил, что ствол дерева тоже сплошь увит зеленой лозой. Она поднималась от самой земли и, карабкаясь вверх, переходила на ветки. Листьев на них почти не было, поэтому орешник с обвивавшей его лозой казался большой вязаной перчаткой, растопырившей к небу множество зеленых пальцев.
«Как интересно! Еще осень, а орешник уже надел варежки!» – Андрэ поднял голову и посмотрел на кончики веток. Не шелохнувшись, они уходили в белесое тело тумана. – «Как тихо! Все словно замерло».
Где-то высоко в тумане висела крохотная, еле заметная точка. Андрэ присмотрелся. Ему вдруг показалось, что точка вздрогнула, переместилась и чуть-чуть увеличилась. Что-то неприятно кольнуло в груди. Он отошел в сторону, но точка двинулась за ним. Андрэ напрягся. Он увидел, что точка начала приближаться к нему. Вскоре послышался легкий свистящий звук. Беспокойство охватило Андрэ. Теперь было уже очевидно – нечто с возрастающим свистом падало с неба.
В панике он побежал по двору. Попробовал где-то укрыться, но вокруг были лишь глухие, увитые плющом, мохнатые стены. Поняв, что это ловушка, Андрэ кинулся к дереву и начал, спотыкаясь, метаться вокруг него. Грецкие орехи с хрустом рассыпались под ногами. Вдруг он почувствовал, что уходит под землю – ноги вязли в орехах. Вскоре он понял, что уже не может бежать – грецкая трясина засасывала его все глубже и глубже, он погружался, с хрустом тонул. Его тело уже по пояс ушло в сладкое ореховое болото и продолжало опускаться все ниже и ниже.
«Это конец!» – мелькнуло в голове, когда он уже по грудь утопал в грецкой трясине. Когда же орехи подступили к самому горлу, Андрэ обреченно поднял голову к небу и с ужасом посмотрел на приближающийся предмет. Тот стремительно падал вниз! Еще немного и он должен выскочить из тумана! Свист, неприятный режущий свист, летел прямо к его голове! Еще секунда! Две! И…
– А-а-а-а-а-а-а-а!!! Блядь! – из тумана выскочил красный сапог, который, еще миг, должен был хрястнуть его по роже, но…
– Тьфу ты! Черт! – не успел. Андрэ подскочил на матрасе. Оглядевшись, облегченно вздохнул. Рядом спокойно спала Ингрид. Где-то в углу похрапывал есаул. Буян уже куда-то исчез со стула. Рассеянный предутренний свет проникал в окно и мягким синеватым облаком стелился вокруг стола по деревянному полу мастерской.
Он повернулся на бок. Полежав немного, понял, что не может уснуть. В голове крутились неприятные мысли. Они тоже, словно ворочаясь с боку на бок, из-под колючих шерстяных одеял вполголоса, с хрипотцой терзали его.
– Получил! Да, да, это теща прислала тебе привет из Могилева! Она не простит тебе сапог! Ладно бы ты их просто пропил! Но ты водрузил на голову войну и шествуешь в ней на восток, крыжачок хренов!
– А знаешь, как переводится «крыжачок»? Крыжак по-белорусски – крестоносец, а чок, сам знаешь, от какого слова. Так что теперь ты чокнутый крестоносец. И идешь теми дорогами, которыми всегда шла война восток. Только ты знаешь, чем эти походы заканчивались. Недаром Могилев Могилевом называется. У тех тоже львы на шеломах резвились. Только где теперь эти львы? В Могилеве! Так что не ты им войну объявил! Это они теперь тебе объявят войну. Думаешь, Мария Прокопьевна снесет позор? Она – проректор университета, уважаемый номенклатурный человек. А ее зять ходит по городу в прусском Шеломе? Да она тебя вместе со львами в Могилеве и закопает!
– Ерунда! Теща и так тебя всегда по самые грецкие орехи каблуками в землю вгоняла. Так что вернешься ты домой с войной или с миром – ничего не изменится. С военным каблуком на голове даже лучше. Наконец-то достойный ответ за все скотство!
– А за что ей тебя любить? Ты же поломал жизнь ее единственной дочери!
– Поломал жизнь? Да каждый сам свою жизнь ломает! Искать виноватых значит снова кричать, что жиды в кранах всю воду выпили, а в говне мы из-за масонов сидим! Меньше Светке надо было пялиться в телевизор! А то насмотрится на телерай, на сладкую жизнь – и подавай ей такую же. А нет никакой сладкой жизни! Есть только процесс разложения материи. Там где недавно были прекрасные ножки – вырастают целлюлитные груши!
– Да Светка просто могла выйти замуж за нормального человека. Вот Кузьмич, что сватался к ней, уже банкиром стал. А Вася? Какой коттедж под Могилевом отгрохал! Ты же, голодранец, ни машину купить, ни квартиру построить не можешь. Детей настрогал, а свозить их летом к морю денег нет. А ведь тебе еще в самом начале Марья Прокопьевна говорила: «Андрюша, искусство – это занятие для полоумных! Устройся на нормальную работу. Поставь палатку на остановке, торгуй чем-нибудь. Я тебе и деньгами, и связями помогу». Ты ж вместо этого медведиков из соломы лепил. Картинки нелепые рисовал, как два пьяных пионера в красных галстуках на школьном дворике вгоняют вилки в жопы друг другу.
– Да уж лучше вилки пионерам в жопы вгонять, чем всю жизнь на остановке пивом и сигаретами торговать!
– Тупое, безответственное заявление! За такие мысли надо в Сибирь! На Беломорканал ссылать!
– На себя посмотри, сама на «Беломоре» сидишь! Из дури всякие иллюзорные смыслы выдуриваешь!
– Дура! На чем хочу, на том и сижу! А ты постоянно бухая ходишь! Самая кривая извилина в его голове!
– В конце концов, Светка видела, за кого замуж выходила!
– Так ты ж ей обещал, что станешь великим художником – денег будет немерено. А вместо этого каждый раз говоришь ей: «Потерпи еще немного. Этот год будет тяжелым, но в следующем все наладится». И так уже пятнадцать лет! А теперь еще припрешься к ней с этими драными котами на голове! Смотри, какие морды ехидные. Пасти раззявили. Того и гляди, сожрут эту бедную рыбу на блюде!
– Сама пасть заткни, кривоногая! – прорычал Святополк и поймал на себе одобрительный взгляд Валенрода.
Не выдержав разброда мыслей, Андрэ встал, подошел к столу и налил полстакана вина из недопитого накануне пакета.
Предрассветный белесый туман в проеме окна понемногу принимал очертания крыш и пошарпанных стен, что стояли на другой стороне большого двора, прилегавшего к Тахелесу. В комнате было тихо. Лишь легкое похрапывание есаула нарушало безмолвие этого утра. Голова зудела и чесалась. Казалось, что мысли высунули свои колючие шерстяные одеяла наружу, и теперь они, сбившись в кучу, топорщились у него под Шеломом.
Андрэ подумал, что в принципе и Марья Прокопьевна, и жена его Света, и он – каждый по-своему прав. Просто неуютно им вместе, вот и мучают друг друга. «Впрочем, – заключил он, – какое теперь это имеет значение? В новой жизни все равно их не будет». Приоткрыв окно, Андрэ сделал глоток влажного берлинского утра и отправился под одеяло к Ингрид.
Он проснулся, когда день перевалил далеко за полдень. Ингрид рядом уже не было. Окинув мастерскую взглядом, он обнаружил Буяна, который, с угрюмым выраженьем лица сидя за столом, потягивал пиво из банки. День за окном являл собой полную противоположность его мрачному настроению. Он переливался оттенками желтого кадмия, весело шумел улицей, давал всем видом понять – тот, кто не оценит его ликования, – конченый меланхолик и мизантроп, которому незачем понапрасну дышать этим свежайшим, с привкусом паровозной гари и кофе, берлинским воздухом. Даже погибшие мандавошки в солнце этого дня выглядели умиротворенно. Пронзительно голубое небо, как на полотнах Буяна, провожало их в последний путь фейерверками чистейшей берлинской лазури.
– Какая гнида это сделала? Нажрались и валялись на моих картинах! – буркнул Буян, кивнув в сторону раздавленного мексиканцем спортивного праздника.
– Лучше б спасибо сказал. Знаешь, сколько Федор мандавошек вынес из-под обстрела. А картины у тебя еще свежие – так что, пока он по-пластунски ползал, у него все брюхо розовым стало.
В это время за дверью раздались шаги, и в комнату вошел радостный Федор.
– Вот! Придумал! – с этими словами он поставил перед Андрэ старую тележку на деревянных колесах.
– Что это? – задал Андрэ бессмысленный вопрос, переглянувшись с Буяном.
– Сейчас проясню! Анд рюха, это гениально! Сегодня я встал и как обычно отправился сделать шпацырэн вокруг Тахелеса. Знаешь, я люблю по утрам покопаться в кучах хлама, что лежат у нас во дворе. Иногда там можно найти что-нибудь интересное для работы. Пиздюлину с краником для инсталляции, куклу, старый подрамник. А сегодня иду – лежит эта тележка! Я посмотрел на нее, и вдруг: ба! Меня как осенило!
– Ну, и..?
– Что, «ну и»? Понимаешь, пока я гулял, у меня вопрос в голове крутился – где денег раздобыть? А тут, как увидел, сразу понял – так вот же оно!
– Что оно?
– Да как ты не догоняешь! Во, смотри! – Он пролез к книжной полке, порылся там и вытащил засаленный альбом репродукций Отто Дикса. Надо сказать, Отто Дикс был одним из любимейших художников Федора. Он часами мог листать альбом старины Отто, рассматривая картины, на которых калеки всех мастей – с руками и без них, одноногие и совсем безногие, одноглазые, безглазые, с забинтованными головами, на костылях, в мундирах, фуражках, шеломах, – шествовали, шли, ковыляли, катились в тележках по улицам Берлина.
– Вот глянь! – Федор полистал альбом, нашел нужную картинку и радостно ткнул в нее зеленым от краски пальцем.
На картине был изображен солдат Первой мировой войны. Ног у него не имелось. Вместо них к обрубку туловища была приделана деревянная тележка вроде той, что притащил он с помойки. Одной руки также не было. Ее заменяла доска с нарисованными на ней пружинками. Надо ли говорить, что у солдата отсутствовал и один глаз. На его месте красовалась черная пиратская повязка. Про такие мелочи, как зубы и челюсти, можно было даже не вспоминать. Но самое главное – голову человека-обрубка венчал точно такой же, с устремленным к небесам шпилем, Шелом, какой был сейчас на Андрэ. Калека на картине гордо и злобно, отталкиваясь от земли костылем, катился по берлинской улице, прося милостыню у шарахающихся от него, как от прокаженного, прохожих.
– Ну что, теперь ферштеен? – Федор торжествующе посмотрел на Андрэ.
– Гм, мда-а-а… ужасное зрелище.
– Вот именно. Это просто класс! Главное, у нас есть шлем и тележка! Осталось присобачить деревянную руку и добавить немного антуража.
– Зубы я могу выбить. Будем в расчете за вчерашнее! Ха-ха-ха! – вставил свой пятачок Буян.
– Иди к черту!
– Ну! Теперь кумекаешь? Ведь это просто гениально!
– А-а-анн, нда-а, – оптимизм Федора никак не хотел передаваться Андрэ. Внутри что-то бунтовало, сопротивлялось этой идее. Хоть он иногда и ощущал себя нищим, но мысль просить милостыню, тем более на улицах Берлина, ему в голову никогда не приходила. К тому же начинать новую жизнь в Шеломе с роли попрошайки казалось ему глумлением над самой ее сутью.
– Знаешь, Федор, это очень заманчивое предложение, но его надо хорошо обдумать, – дипломатично ответил Андрэ.
– Что тут думать! Это же настоящий театр! Такого еще не было! У всех этих берлинских попрошаек фантазии не хватит такое придумать. Максимум, что могут, – обмазать себя серебряной краской и изображать Моцарта или Пьеро. А тут, представь себе, настоящий человек-обрубок! Солдат Первой мировой! В пикельхаубэ, возле Брандербургских ворот! Да это ж супер!
– Да, да, мне эта идея тоже нравится, – добавил Буян, до которого наконец-то докатился размах фантазии Федора.
– Ты, Андрюха, посмотри на этот гешефт с другой стороны. Это не попрошайничество. Это шпиль, театр, перформанс. А ты как артист должен получать за выступление гонорар.
Андрэ нехотя начинал свыкаться с мыслью, что ему придется стать примой-балериной в этом странном спектакле.
Сама идея ему в принципе нравилась. В некотором смысле она была действительно гениальна. Его не устраивала лишь отведенная ему главная роль.
«С другой стороны, – подумал Андрэ, – просто так, тупо сидеть и просить милостыню на улице – это пошло, еще пошлее, чем торговать пивом и сигаретами на автобусной остановке. Но если ты человек-обрубок, солдат, проливавший за кайзера кровь, инвалид, который положил жизнь на то, чтобы этот пошлый мелкобуржуазный мир, прогуливаясь по улицам Берлина, спокойно жрал эскимо да имел право шарахаться от тебя, как от чумного, потому что они все нормальные, а ты – прокаженный! Если ты солдат армии искусства, и твоя война не закончится никогда. Потому что противник и есть этот пошлый недостоверный мир, который приходит из пустоты и пытается тебя подчинить, причесать, прилизать, огламурить, снять с головы твой мир, твой Шелом, препарировать его, запаковать в красивую обертку и поставить на полочку для продажи, то ты не просишь у него подаяния, а как тот солдат с картины Отто Дикса, гордо требуешь свое! Ты хочешь, чтобы этот мир признал бессилие перед тобой, свое поражение. А чтобы спастись, иметь шанс остаться в розовом ванильном желе, он должен заплатить контрибуцию, задобрить дарами, наложницами, золотыми слитками, уступить территории!»
Андрэ посмотрел в глаза Федору, перевел взгляд на Буяна. Те молча взирали на него с видом заговорщиков, которые, только что предложив ему присоединится к путчу, ждали ответа. Выдержав паузу, Андрэ выдохнул и произнес:
– Ладно! Черт с вами! Поехали! Первое выступление назначаем на завтра! Только назовем это действо балетом!
– Ес!!!
– Итак! Гастроли балетной труппы «Белорусские сезоны» в Берлине объявляю открытыми! Федор, развесьте по городу афиши! Первое представление состоится завтра на Александерплац. Будет показан одноактный балет под названием «Одинокая песнь Сверхчеловека»!
Когда вечером Ингрид вернулась в Тахелес, она застала новоиспеченную балетную труппу за странным занятием. Андрэ сидел у стола с широко, как будто на приеме у стоматолога, раскрытым ртом, а Федор, скрючившись перед ним, пытался кисточкой закрасить ему черной краской несколько передних зубов. Правый глаз Андрэ закрывала повязка, и вообще вид он имел такой, словно за время ее отсутствия голова его столкнулась с тяжелым артиллерийским ядром.
Федор, как настоящий художник, время от времени подавался назад, прищуривая правый глаз, любовался своим произведением и довольный приговаривал:
– Неплохо, неплохо! Получается даже лучше, чем я ожидал!
Буян тем временем прикручивал к левой руке Андрэ какую-то дурацкую, изрисованную непонятными знаками деревянную доску.
Поинтересовавшись, что все это значит, Ингрид услышала в ответ, что они готовятся к представлению, в котором она также должна принять участие. Так как труппа у них небольшая и лишних людей нет, то ей досталась хоть эпизодическая, но важная и ответственная роль – время от времени забирать у Андрэ выручку и отдавать ее Федору, а потом быть неподалеку на стреме. Федор же как режиссер-постановщик и главный балетмейстер возьмет на себя контакты с прессой, театральными импрессарио, полицией, мафией, а также разборки с конкурирующими труппами.
Когда зубной макияж был закончен, коллеги усадили приму на тележку и завизжали, защебетали, а кое-кто даже захрюкал от удовольствия.
– Вот это да! Да это ж круче, чем у Дикса! – кричал восторженный Федор.
– Да, такому ужасу даже я дал бы полцента!
Андрэ выглядел очень убедительно. Наличие ног прикрывал длинный кожаный плащ. Вместо передних зубов зияли черные дыры, поэтому, когда он улыбался, его вид становился особо зловещим. Буян, проявив недюжинную фантазию, прикрутил к культяпке шарнирной руки здоровенную ржавую пружину, которая торчала просто из деревянного плеча Андрэ. Кроме того, он присобачил к протезу колокольчики, крючки и задвижки, поэтому, когда человек в Шеломе шевелил рукой, она скрежетала и звенела, как старая рухлядь.
– Ну что ж, осталось сочинить либретто и написать партитуру, – вдоволь налюбовавшись своим произведением, произнес довольный Федор.
– Да, музыкальное сопровождение не помешало бы, – поддержал Буян, – неплохо было б вставить ему в зубы губную гармошку.
– Нет, гармошка не годится – слишком сентиментально, да и где мы сейчас гармошку найдем. А вот… – Федор полез в дальний угол мастерской, погремел там каким-то хламом и, наконец, радостный вылез, держа в руках старый пионерский горн.
– Вот! Это вещь что надо! А ну-ка, дунь!
– Ббр-р-р! Ххр-р-р-р-р! Э-э-эх-хр-р-р-р-р!
– Да, пердеж какой-то выходит! Но ничего – научишься! Тем более тебе Брамса на трубе исполнять не надо. Ты должен просто пропердеть пару раз, когда видишь, что публика на тебя внимания не обращает, а затем сразу вступай с речитативом.
– Что еще за речитатив?
– Вот, Андрюха! Для этого нужно либретто! Сейчас мы его и сочиним.
– А зачем ему речитатив? Партия Пер Гюнта! Это ж балет! Пусть молча пердит себе на трубе и все! – вмешался Буян.
– Ну, ты колхоз! Балет с речитативом доходней будет! К тому же у нас балет современный, я б даже сказал, авангардный, с элементами оперы. Ну, так вот, подошла к тебе, например, группа туристов, а ты и поешь им: «Пода-ай-й-те граждане на билет до Могиле-е-ева!»
– Что ты несешь? Какой билет до Могилева? Он же прусский солдат! За Кайзера воевал! – возмущенно закипел Буян.
– Вот ты дурень! Ничего не понимаешь! Могилев как переводится – Могила Льва! А он кто? Он и есть Лев. Последний Лев последней войны. Вон посмотри, какая у него золотая грива! А хочет он добраться до своей Могилы, чтобы почили там с миром бренные останки его тела, вернее то, что от них осталось, – туловище, одна рука и голова с одним глазом. Так что Могилев для него – усыпальница, город вечного упокоения! Ты понял!
– Да, круто развел! Ну, тогда надо произносить Могилев по-немецки или по-английски, а то интуристу непонятно будет.
– Ладно, скажешь им, что ты Лев последней войны, так сказать, ее дух, призрак. И вот уже много лет блуждаешь по свету и не можешь найти упокоения, потому что сделать это возможно только в одном городе мира – Могилеве. Но добраться туда ты не можешь, так как нет денег на билет. Поэтому дабы они, граждане интуристы, спали спокойней, в их же интересах немного раскошелиться и скинуться тебе на проезд. А потом ты улыбнешься своей неотразимой беззубой улыбкой и даже пару раз можешь перднуть в трубу, чтобы и до самых тупых дошло!
Человек, случайно оказавшийся в этот осенний день около полудня на улице Ораньербургер, мог наблюдать весьма забавную сцену. Небольшая компания в пестрых убранствах катила по тротуару повозку с каким-то странным калекой. Возглавлял процессию высокий седой мужик в военном галифе и тельняшке, которая виднелась из-под черного, непонятного покроя, пиджака. На голове седого красовался берет с кокардой, выдававший его принадлежность к военно-воздушным силам Украины. Но в целом он скорее походил на махновца, заброшенного в свое время в Берлин вихрями революций и гражданских войн.
Второй персонаж, толкавший повозку сзади, был молод, кучеряв, черноглаз, чернобров, хорош собой, но амуниции имел немного. О его принадлежности к армии говорила только зеленая советская фуражка на голове, да кожаная коричневая портупея, перекинутая через плечо. Единственной дамой в компании была весьма юная особа во всем черном, с вызывающе броским, рассчитанным скорее на войну в тропиках защитным макияжем.
Однако наибольший интерес, несомненно, вызывал сидевший в тележке. Инвалид был безног, одноглаз, однорук, вернее, вторая рука у него имелась, но представляла собой деревянную культяпку с привинченным к ней маленьким пионерским горном. Отсутствие многих полезных частей тела компенсировал шикарный прусский Шелом, который венчал голову несчастного, блистая в лучах солнца золотым великолепием былого имперского величия.
Впрочем, калека под имперским величием выглядел не таким уж несчастным. Он гордо восседал на повозке с видом Цезаря, которого верные слуги везли на прогулку по улицам Рима. Время от времени он возносил руку к небу в знак приветствия горожанам, глазевшим на него из подворотен, и ухмылялся народу забавной беззубой, но какой-то зловещей улыбкой.
Когда процессия проезжала мимо многолюдного кафе со столиками, выходившими на улицу, Цезарь подносил горн ко рту, издавал несколько резких неприличных звуков и начинал кричать про какой-то Могилев, про кладбище львов, про призраков, про некий билет, одним словом, нес всякую ахинею, вникнуть в которую было невозможно, поскольку повозка проезжала мимо и странные фразы эхом отдавались уже где-то вдали.
Прибыв на Александерплац, вспотевший Федор кинул поводья от тележки Андрэ и просипел:
– Ну все, генух! Приехали! Теперь твоя сольная партия! Но завтра сам пойдешь – я тебя больше тащить не буду. Сейчас оглядись малек и приступай. А мы тут рядом, на подхвате будем.
Андрэ оглянулся по сторонам. Первое, что бросилось ему в глаза, – конечно же, телевизионная башня, знакомая еще с детства, с тех черно-белых трансляций из Восточного Берлина. Сейчас он понял, почему интуитивно выбрал местом премьеры именно Александерплац. Они были похожи, как два близнеца. Один – высоченный гигант, другой – карлик, но оба в прекрасных с устремленными вверх шпилями Шеломах.
Достав из мешка две деревянные колодки в форме дверных ручек, он принялся, отталкиваясь ими от асфальта, продвигаться вглубь площади, решив начать с мест, где концентрация туристов была наибольшей. Первым делом он отправился к большому помпезному фонтану со скульптурной группой из полуобнаженных девиц, во главе которых восседал то ли с Нептун, то ли кто-то похожий на Нептуна.
Приковыляв на место, Андрэ отметил про себя, что сделал правильный выбор. «На фоне этих барочных излишеств я буду выглядеть весьма стильно – прекрасная декорация для одноактного балета!»
Публика, которая находилась в это время у фонтана, принялась с любопытством рассматривать его, но старалась это делать украдкой, как бы невзначай, чтобы навязчивым взглядом не обидеть несчастного получеловека.
«Ладно, приступим. Сейчас мы вас раскомплексуем. Не хватает, правда, важной детали», – сказал про себя Андрэ и вытащил из мешка зеленую фетровую шляпу. Положив ее перед собой, он дунул два раза в горн и громко завопил:
– Дамы и господа! Гастроли балетной труппы Могилевской областной филармонии объявляю открытыми! Сейчас вы увидите одноактный балет – «Одинокая песнь Сверхчеловека»!
Горн прохрипел еще два раза.
– Граждане! Не бойтесь обидеть взглядом несчастного калеку. Вы обидите его не взглядом, но бесчувственным отношением к его нуждам! Смотрите на меня! Смотрите, сколько хотите, но кидайте в эту чудесную зеленую шляпу по два эуро!
Горн: тру-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту!
– Ваши денежки пойдут на благие нужды! Вы поможете несчастным хоббитам, которые живут в страшном Мордоре, под забором Европы. Это гиблое место! Посмотрите, каким я оттуда вернулся! Без ног, без руки, без глаза, без зубов!
– Эй, девушка с фотоаппаратом, не проходите мимо! У вас есть шанс запечатлеть себя с настоящим ветераном Вердена на фоне берлинской ратуши всего за два евро!
– Дорого? Ну ладно, сегодня студентам и ветеранам труда скидка пятьдесят процентов! Молодой человек в очках! Снимите нас! Только постарайтесь, чтоб ратуша в кадр попала!
– Спасибо, спасибо! Дай вам Бог счастья!
– И вам спасибо!
– И вам!
– О! Аллах не забудет вашу щедрость!
– Тру-ту-ту-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту-ту!
– Дамы и господа! Посмотрите! Посмотрите, что сделал со мной Чернобыль! Вы думаете, мне оторвало ноги на войне? Нет! Я таким родился – без ног, без глаза, с деревянной рукой! Знаете, сколько таких несчастных уродцев еще осталось в моей стране! И вы можете им помочь! Граждане! Не скупердяйничайте! Киньте в эту фетровую шляпу немного денег!
– Мерси!
– Данкешон!
– Что? Сфотографироваться в Шеломе? Нет, Шелом с головы не снимается! Снимайтесь вместе со мной! Не уговаривайте! Ни за какие деньги!
– Купить? Сто евро? Не смешите меня! Даже за тысячу! Не продается. Шелом единственное, что от меня осталось!
– Граждане! Посмотрите на эти зубы. Вы их не видите – потому что артиллерийское ядро снесло их под Аустерлицем, когда мы спасали Европу от злого тирана. Неужели вам жалко дать пару эуро ветерану битвы под Ватерлоо и Монтекасино!
– Спасибо!
– О! Бумажные денежки мы тоже принимаем!
– Спасибо, спасибо!
– Тру-ту-ту-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту-ту!
– О! Руссо туристо! Облико морале! Подайте бывшему депутату Государственной Думы айн-цвай копек!
– Что ты мне эти копейки суешь?
– Сам придурок! Империалист хренов! Ах, это я империалист? Ах, германский? А ну, вали отсюда, а то Федора позову!
– Молодые люди! Хотите быть счастливыми и богатыми – прикоснитесь к моему Шелому своими ладонями! Он приносит удачу! Услуга платная – с вас по одному эуро!
– Данкешон!
– Мерси!
– Спасибо!
– Граждане! Подайте одинокому льву на билет до Могилева! Где это? Это в Беларуси. Там находится самое большое из известных в мире кладбище львов. Я хотел бы туда съездить – навестить своих родственников.
– Данке! О кумпаньство из Польски!
– Эх, панове! Мы тоже могли стать империей! Но нас погубили демократия и пьянство! Пока мы пили пиво и балевали в сейме, пришел прусский солдат и забрал корову! Потом пришел русский солдат и забрал все, даже пустые пивные бутылки! Панове! Пожертвуйте пару пенендзов на секцию анонимных алкоголиков-патриотов северо-западного края!
– Дзякуй! Дзенькуе! Яшчэ Польска не згинела!
– Мерси, наш профсоюз внесет вас в списки почетных меценатов!
– Мадам, месье! Посмотрите на этот обрубок! Вы думаете, это получеловек? Нет! Это последний оставшийся на земле сверхчеловек! Всего за пару эвро вы можете насладиться его видом! Потешить свое тщеславие! Сказать: «Вот как кончают жизнь сверхчеловеки! Одинокие, покинутые, в инвалидной коляске!» Но я смеюсь вам в лицо! И говорю: платите! наслаждайтесь! и идите к черту – ничтожные! О Заратустра! О боги! Я Гамлет – принц датский, иду к вам!
– Гм… кхе, кхе… Что-то тут я такое патетическое навернул?
Последний монолог он произнес с особым придыханием, пафосно, звучно, как сделал бы это посредственный актер, исполняющий роль Гамлета в провинциальном театре. От криков и декламаций в горле у Андрэ пересохло, поэтому, достав небольшой пузырек виски, он сделал пару глотков. Только теперь, ненадолго вернувшись в себя, он почувствовал, как сильно затекли его ноги. Они были бесчувственны, словно два полена. «Черт возьми, надо встать и размяться, а то с такой работой точно калекой станешь. Пора объявлять антракт!» – Андрэ нашел взглядом Ингрид. Перед тем как направится к ней в сквер, он на прощанье крикнул:
– Дамы и господа! Последний шанс! Делайте ваши ставки! Через минуту наш состав двинется на восток! У вас еще есть возможность вскочить в последний вагон! Покупайте билетики на поезд, что отправляется в Страну Счастья! Всего два евро! Не тормозите! Каких-то два евро! Подумайте, как мало нужно для счастья! Представьте, что можете вы потерять! Ту би о нот ту би!
– Спасибо!
– Спасибо! Вам повезло!
– Данке шон! Мы берем вас в Страну Счастья!
– Мерси! Вы спасены!
– Дзенькуе! Вы будете счастливы!
– Тру-ту-ту-ту-ту-ту! Тру-ту-ту ту-ту-ту!
– Ура! Поезд по маршруту Александерплац – Страна Счастья отправляется!
С этими словами он схватил зеленую фетровую шляпу, кинул ее в мешок, достал деревянные колодки и, отталкиваясь ими от асфальта, приговаривая «чух-чух, чух-чух, чух-чух», покатился в сторону сквера.
– Тру-ту, тру-ту-ту! Тру-ту-ту ту-ту-ту!
– Яшчэ Польска не згинела, поки мы…
В этот вечер в мастерской на четвертом этаже почерневшего, прогорклого здания на улице Ораньербургер был праздник. Накрытый в ателье стол скорее походил на кулинарный парад. Как и положено, принимал его маршал – большой хрустальный графин, извлеченный Федором для торжества из дальних запасников мастерской. Маршал радовал глаз не каким-то дешевым солдатским виски, а настоящей ледяной «Финляндией». Рядом с маршалом стояла не «Советская», а истинно французская первая леди – бутыль дорогого шампанского.
Далее стройными рядами шли пахучие бергеркезы, дорогая форель, ветчина, ехали на машинках японские суши, ананасы в танкетках, «катюши» с красной икрой, тяжелые пушки-кальмары, «Захер» – система залпового огня – шоколадный торт с абрикосовой начинкой, маршировали финики, авокадо, фейхоа. Венчал композицию бронзовый семисвечник, купленный Федором по случаю на турецких развалах.
Небольшая компания в мастерской отмечала премьеру спектакля. Днем, с аншлагом закончив выступление у фонтана, размяв затекшие ноги, Андрэ покатил давать новое шоу – поближе к шпилю башни. Затем он несколько раз менял дислокацию, но везде пользовался у публики неизменным успехом. Под вечер, подсчитав вырученные за выступления деньги, они поняли – это победа! Фетровая шляпа принесла им двести с хвостиком евро.
Когда праздничный стол в мастерской был накрыт, Федор, в сладком предвкушении что-то мурлыча как кот, долго обдумывал первый тост, затем бережно взял маршала за тонкое горло, снял с него маленький хрустальный шелом и, разлив, произнес:
– Предлагаю выпить! Ура! – опрокинув первую рюмку, он притянул Андрэ к себе и, поцеловав в Шелом, добавил: – Да, не перевелись еще сверхчеловеки!
Затем, запустив в рот парочку самураев, растроганно заметил:
– О-о-о! Интересное сочетание! Шнапс с ушами, ха-ха, то бишь с япошками, – запомню! – Затем, обернувшись к Андрэ, добавил: – В тебе, Андрюха, большой драматический артист пропадает! Какие монологи! Мне больше всего понравилось про самозванца Лжедмитрия Третьего, попа Гапона и сокровища Казимира!
Пытаясь изловить на вилку кальмара, он продолжал:
– Знаешь, Андрюха, если дела у нас так и дальше пойдут, билет до Могилева тебе уже не понадобится. На хрен тебе этот билет? Что ты там, в Могилеве, забыл? Ни денег, ни славы. Там ты даже не лев. Нет, ты, конечно, можешь считать себя львом, но там ты для всех – помойный кот! Это здесь ты принц. Но если ты прикатишь в Могилев в этой короне, представляешь, как встретит тебя фатерлянд и твои верноподданные? Давай, Буян, наливай!
– Да, вижу эту мизансцену, – захихикал Буян, – заходит Принц поддатский в вино-водочный еще поддачи купить, а у красноносых Йориков, что в очереди стоят, челюсти отвисают.
– А если услышат, что ты еще на белорусском шпрэхаешь, даже из гастронома выйти не дадут – стражу вызовут. На выходе менты руки заломают и скажут, что пьяная скотина – нажрался и пикельхаубэ из музея Великой отечественной украл! А если в обезьянник кинут – шлем все равно силой снимут, потому как в обезьяннике с колюще-режущими предметами нельзя! Вот и конец всей концепции!
Федор поднял рюмку:
– Давайте, за шлем! Чтоб принес он тебе мир и славу, а не войну и разруху!
– Ну, хотя бы, – причмокнул Буян, закусывая увесистым куском ананаса, – ты бы снимал его время от времени. Надевал бы по праздникам – на день Победы, Двадцать третьего февраля, на Первое мая, на Пасху. Ну, в конце концов, на день рождения тещи. Ну ты же заладил: не сниму, не сниму!
– Это будет уже не манифест, а так, стеб какой-то. Ладно, что ты предлагаешь? – Андрэ посмотрел на есаула.
– Вот! Предлагаю налить! – Оживился Федор. – Третий тост, Андрюха, хочу поднять за твою медхен! – Он посмотрел на Ингрид. – Как же ты ее здесь одну оставишь?
– Солдат едет на фронт, а невеста ждет. Это классика, Федор!
– На хрен тебе эта классика! Зачем тебе этот фронт? Ну, подумай хорошенько, что ты со своей каской будешь в Могилеве делать? Ведь у ериков аргумент простой будет: снимай, падла! Что ты им ответишь? Идите к черту, ничтожные? О, Заратустра? Я последний сверхчеловек? Только сверхчеловеков, тем более в таких касках, у нас, сам знаешь, никогда не любили!
– Эх, Федор, что ты заладил? Рассказывай, что придумал?
– Да ты погоди! Вспомни, много ли ауштэлюнгов было у тебя там за последние десять лет? Вот видишь! Потому что тут жизнь, а там кладбище. Кладбища всегда на окраину выносили. Вот и имеем. Туда война все время покойников со всей Европы сваливала. И получилось гиблое место. Там хорошо только вурдалаком быть. Я еще удивляюсь, почему это граф Дракула в Трансильвании поселился! У нас бы ему намного комфортнее было! Да и Чернобыль там жахнул не просто так! – Федор распалился, нервно наклонил маршала к рюмке и, налив, выпил без тоста.
За столом зависла напряженная тишина.
– А план у меня такой, – продолжил Федор, закинув в рот еще трех самураев. – Предлагаю отказаться от первоначального либретто и задвинуть кое-что более грандиозное! Завтра отправимся по барахолкам вторую каску искать. Хотя бы не такую шикарную, как у тебя, нехай это будет даже муляж. Затем снаряжаем вторую тележку, сажаем на нее Буяна и даем представление на двух площадках. Потом в труппу мексиканца привлечем и расширим бизнес. Представляешь, какой гешефт мог бы быть? Вундаба! Кайзеровские инвалиды, костюмированные люди-инсталляции в пикельхаубэ на улицах Берлина! Круто! Если б у нас в труппе пять-шесть боевых повозок было, да каждая хотя б по сто пятьдесят евро в день бомбила, посчитай, какие это бабки за месяц!
– Вот это да! Ну, есаул, ты голова! – от такого неожиданного поворота рука Буяна с куском системы залпового огня просто замерла на полпути ко рту. Он, вытаращив глаза, что-то лихорадочно подсчитывал в уме и, наконец, выдал: – О, ё-моё! Двадцать семь тысяч эуро в месяц!
– Ну, предположим, минус выходные, запойные, больничные, мафии за крышу забашлять, но на шести повозках тысяч двадцать собрать можно. Вот!
Федор поднес руку Буяна с куском «Захера» к его широко раззявленному от изумленья рту:
– Вот! Настоящее искусство, нужное людям! Самое что ни на есть найсовременнейшее!!! Наиактуальнейшее искусство!!! Не какой-нибудь сраный видеоарт с концептуализмом, который только кураторам интересен! Ладно, Буян, наливай!
Буян принялся быстро и нервно жевать, затем, схватив графин, суетливо разлил.
– Подумай, это здесь всем насрать, хоть ты ногу к голове пришей! Здесь человек к человеку давно равнодушен. Плевать, делай со своей третьей ногой, что хочешь, только меня не пинай! А у нас равнодушных нет! Поэтому за Бугом тебя ждет война! Тупая и бессмысленная война! А что ты завоюешь в колхозе? Ха-ха! Трудодни да кучу навоза? Ну, бум!
Федор выпил, стрельнул себе в рот «катюшей» красной икры и продолжал:
– Ладно бы ты за идею воевать пошел. Но какие сейчас идеи? За них теперь только паранджи воюют – хуячат всех подряд и себя заодно во имя Аллаха. А твоя идея проста: завоевать мир, чтоб тебя все любили, чтоб слава, бабки, почет. Но для этого не нужно за Буг отправляться. Чтобы твой манифест услышали, тебе здесь надо быть! Здесь галереи, кураторы, критики! Здесь и бабки, и телекамеры! А там кто твой манифест услышит? Нет, там, конечно, тоже кураторы есть, только не те, а из госбезопасности! Эти точно услышат, все подробно в протокол занесут и в папочку!
– Правильно, Федор, говоришь. Только виза у меня через неделю закончится. Мы ж замогильные парии. Не хочет нас Европа с кладбища выпускать. Что я полицейскому скажу, когда он во время выступления попросит паспорт показать, – что я призрак войны, вылезший из могилы?
– А азыль? Попроси убежища!
– На каком основании? Как призрак войны? Потому, что пикельхаубе надел? Или скажу: понимаете господа, нам, сверхчеловекам, за Бугом права ущемляют! Так они мне ответят: дорогой хер, это у нас в Европах давно равенство прав и демократия, а у вас как раз сверхчеловекам раздолье!
Крупник
«Бежать! Бежать! Бежать без оглядки! Скорее отсюда, скорей – на восток! Домой! Шнель, быстрей отъезжай! Ну почему стоим? Уже минута как должны были отправиться! Где германский порядок? Полный бардак на железной дороге! Шнель, скорее домой! На восток! Бежать! Бежать, не оглядываясь назад! Бежать, бежать!
Тьфу ты, черт! Наконец тронулись! Давай! Разгоняйся быстрей! Двигай цилиндрами, поршнями, колесами! Набирай скорость! Гони! Гони без оглядки – скорей на восток! Едем. Уже едем! Уже не догонят! Черт возьми, это паранойя! Самая настоящая паранойя! Приступ. Скоты, суки, падлы! Паранойя. Успокойся! Уже не догонят! Ты в безопасности! Ты уже едешь. Но еще есть граница! Могут ждать там! Франкфурт-на-Одере. А если там? Черт возьми! Рано я снял паранджу! Идиот! Как же я не подумал! Зачем я сейчас пошел в туалет и снял паранджу? Засунул ее в рюкзак. Может снова надеть? Нет. Здесь неудобно. Люди смотрят. Выйти в туалет? И вернуться назад в парандже? Кретинизм! Зачем ты снял паранджу? Но там будет граница. Проверка документов. Как объяснить пограничникам, что я в парандже? Сказать, что араб? Мусульманин? Мусульманин-гей? Пассивный гей-мусульманин? Мусульманский педераст? С белорусским паспортом. Да еще и в Шеломе! Кретин! Идиот!»
Поезд, тронувшийся минуту назад с перрона «Берлин-Остбанхов», набирал скорость в направлении Варшавы. Никогда еще Андрэ не покидал город в таком смятении духа. Мысли прямоугольными штампами отбивались в мозгу.
За окнами проплывал серый день. Город провожал его пасмурной неопределенностью, готовой разродиться долгим занудным дождем.
«Нет, в парандже нельзя! Это вызовет подозрения. Нельзя привлекать внимания. Надо быть незаметным. Как быть незаметным в Шеломе? Может, все-таки снять? Заткнись! Скорее, скорее на восток! Бежать. Бежать!
Какая дурацкая штука – жизнь. Еще вчера ты строил планы, но вдруг щелк – все переворачивается, и ты бежишь, бежишь, бежишь в неизвестность. Утром твоя жизнь была устроена и, казалось, известна на годы вперед, а днем все рушится. И ты не понимаешь, почему она, не предупреждая тебя, внезапно выбивает табуретку из-под ног. И вроде ты планы строил, а уже висишь на ниточке неопределенности, и ступни твоих ног покачиваются над землей.
Черт возьми, почему эти два поляка напротив так странно смотрят на меня? Ну конечно. Они думают, что я сумасшедший. Они видели, как я зашел в купе в парандже, а затем вышел в туалет и вернулся уже без нее. Но, может, я другой человек. А тот, первый, просто перепутал купе. Они же не видели лица, его закрывала сетка. Но они видели Шелом. Его шпиль торчал из-под черного балахона. Да, эта парочка точно знает, что это я. Ну и хрен с ними! Какое теперь это имеет значение. Они мне не опасны. Главное, чтобы те, другие, не узнали меня. Черт возьми, какой огромный город. Мы все едем… едем… едем… и никак не можем выехать из него.
Быстрее, быстрее разгоняйся! Давай, дорогой! Домой! На восток! А если они сообщили в полицию? Тогда все! Алее капут! Во Франкфурте уже будут ждать. У них нет моей фотографии. Но есть примета. Шелом. Да, они узнают меня по Шелому! Черт возьми! Что же делать? Снять его? Но нет, они не сообщат в полицию. Они не любят полицию. Они решают вопросы сами. Если б сообщили – меня б уже взяли. Суки, сами ж все заварили. Козлы! Главное – пересечь границу. За Одером я спасен. Сколько еще до границы? Около часа. Паранойя, мать вашу, паранойя.
Да, поляки смотрят на меня с опаской. Думают, что я буйный. Надо успокоиться. У меня гримаса на лице. Улыбнись им. Покажи, что ты дружелюбно настроен. Что ты не призрак войны. Вот так. Улыбку повеселей. Боже, они перепугались еще больше. Зубы. Да, зубы. Надо смыть эту чертову краску с зубов. Прямо сейчас встать, пойти в туалет и смыть. Потом вернуться и улыбнуться им еще раз. Надо заговорить с ними. Снять напряжение. Что бы такое сказать?»
– Шалом! Панове едут до Варшавы?
– Так. А пан?
– Тэж до Варшавы.
«Черт возьми! Что-то разговор не клеится. В купе опять напряженно. Надо немедленно пойти в туалет и смыть краску. Скоро Одер. Пограничникам тоже не понравятся мои зубы. Беззубый и в Шеломе. Подозрительно. Начнут проверять, рыться в рюкзаке. Найдут паранджу и сапог. Подумают, что я исламский террорист. Снимут с поезда для выяснений. Надо избавиться от паранджи. Выкинуть ее в окно? И сапог туда же? А если еще пригодятся? Если у них в Варшаве тоже есть свои люди? Да и жалко. Паранджу мне дала Ингрид. Единственный подарок, который от нее остался. А сапог мне не пришьют. Да, но он один. Подозрительно. Ничего. В худшем случае отвинтят каблук и посмотрят, что я там прячу. Жаль, с Ингрид уже, наверно, никогда не увидимся. Она даже не смогла проводить меня на вокзал. Это было рискованно. Вместе нас могли б вычислить. Обняла в подъезде Тахелеса. Поцеловала, накрыла лицо черной сеткой и сказала: "Прощай!”»
Взяв рюкзак, Андрэ вышел из купе. С опаской оглянувшись по сторонам, он направился в туалет. Зубы отмывались с трудом. Федор подкрашивал их нитроэмалью, поэтому необходим был растворитель. Он попробовал ободрать ее десятицентовой монетой. Кое-где краска поддалась, но вышло что-то непонятное, похожее то ли на зубную проказу, то ли на парадонтозную плесень.
«Проще снова покрасить их белым цветом. Ну, Федор, спасибо. Не догадался кинуть в рюкзак тюбик белил. Ладно, сделаю это в Варшаве, а пока буду серьезным. Постараюсь на границе без надобности зубы не скалить».
Андрэ вернулся в купе. Попутчики молча читали газеты. Взяв какую-то лежащую рядом газету, он сделал вид, что тоже читает.
«Да, это правильная идея! Почему сразу не подумал? Все шпионы в фильмах прикрываются газетами. На границе уткнусь в нее и сделаю вид, что мне все пофиг. Только надо повыше держать, чтобы шпиль не торчал. Неплохо было б еще два отверстия для глаз сделать, чтобы видеть, что в купе происходит. Хорошая мысль!»
Он достал из рюкзака ножик и, прорезав две дырки, снова поднес газету к лицу. Сквозь проделанные глазки Андрэ увидел, как два пана напротив в недоумении переглянулись и с тревогой посмотрели на него. «Черт, заметили!» – с досадой подумал Андрэ и неожиданно спросил:
– Панове, у вас нема тюбика белил? А то зубы шелушатся, надо бы подкрасить.
«Они думают, что я псих. Надо подыграть – пусть так считают. Для конспирации это даже лучше».
Панове опять молча переглянулись и, ответив «нема», снова уставились в свои газеты.
«Подъезжаем. Уже Франкфурт. Скоро будет вокзал и проверка документов. А если все-таки сообщили? Представляю, как пограничники обрадуются, увидев меня. Вызовут полицию, и прощай фатерлянд. Надолго. А если не сообщили, но сами ждут на перроне. Зайдут в поезд и пойдут искать по вагонам. Заглянут в купе – и… О! Какая встреча! Вот ты где, наш дорогой хер! А мы тебя давно ждем! Все ноги обегали! Ну, хорошо, и что они сделают? Начнут бить прямо в вагоне? При свидетелях? Представляю, как перепугаются эти поляки. Нет, все-таки, наверное, попробуют вытащить из поезда. Надо предупредить этих панов, чтобы тогда сразу вызывали полицию. Тогда уж лучше в полицию. Как бы это им объяснить? Они и так считают меня ненормальным. Подумают, что это бред. Это и есть бред – параноидальный бред! Паранойя, мать вашу, паранойя! Успокойся! Читай газету!»
– Пшепрашам, вы не могли бы, если меня будут вытаскивать из вагона, вызвать полицию.
– Пану кто-то угрожает?
– Нет, нет, с чего вы взяли. Это я так, на всякий случай. Люблю подстраховаться от любой неожиданности.
– Добра, пан, вызовем полицию.
«Ну вот, уже перрон. Тормозим. Остановились. Пока спокойно. Эти люди на перроне не похожи на них. Да, это пара пожилых бюргеров. Это студенты. Может, они на том конце платформы. Ну нет, их люди были б везде. Может, все-таки сообщили? Идут пограничники. Заходят в вагон. Вот они уже проверяют первые купе. Приближаются. Подходят к нашему. Ну, Господи, пронеси!»
Дверь купе с шумом открылась:
– Паспортный контроль! Документы!
Откинув газету, Андрэ протянул паспорт. Молодой пограничник слегка оторопел, затем взял паспорт и принялся его тщательно изучать. Он долго перелистывал страницы, рассматривал визу, сверял штемпели, время от времени бросая любопытный взгляд на хозяина документа. Андрэ почувствовал, как вены у висков под Шеломом набухли и на них проступили маленькие капли пота, готовые скатиться по лицу.
«Ну, дорогой. Не тяни. Давай. Решайся. А? Ах! Вот молодец! Ура, пронесло!»
Пограничник взял штемпель и звучно шлепнул в паспорт печать выезда.
– Битте!
«Ну, слава Богу! Значит, не сообщили. Еще несколько минут ожидания и я в безопасности. Главное, чтобы сейчас эти не появились. Ну, давай же! Отправляйся. Сколько можно стоять? На перроне пока все тихо. Эти люди, что там ходят, не опасны. Ну, давай же! Трогайся! На часах уже ровно. Ну, нет! Нет в Германии никакого порядка! Ну, наконец-то!!! Поехали!!! Еще будут поляки. Но им все равно. Ура! Ешчэ Польска не згинела!»
Поезд, ускоряясь, летел на восток. За окнами пронеслись пригороды Франкфурта, металлические конструкции моста через Одер, уютные домики, поля с цилиндрами убранной соломы, дороги, переезды, шлагбаумы. Только сейчас Андрэ почувствовал, как устал за последние сутки. Напряжение ушло, и его тут же потянуло в сон. Откинув уже ненужную шпионскую газету, он забился в угол и задремал. В полудреме он проехал границу, его снова просили показать паспорт, он что-то отвечал, почти не открывая глаз, а затем сон целиком овладел им…
Он проснулся от дверного хлопка. Выглянув в окно, увидел перрон большой станции и вывеску с надписью: «Познань». Рядом сидела пожилая пани, видимо, только что вошедшая в их купе. Два старых попутчика тихо дремали каждый в своем углу. Тревога понемногу спадала, и Андрэ припомнился последний мирный вечер в Берлине, когда они с есаулом вели задушевные разговоры о войне и мире, о Федоре Михайловиче, Раскольникове и старухе. Идея Федора была слишком хороша, чтобы просто так выпустить ее на ветер. В итоге они решили, что Андрэ вернется в Могилев, а через некоторое время приедет обратно в Берлин со свежей визой. Начало новых гастролей они запланировали на весну. А до этого Федор должен был подобрать новую труппу, разыскать амуницию, прикупить необходимое количество шеломов и утрясти другие вопросы.
На следующий день они давали представление на подступах к Пергамону. Как и накануне, все прошло неплохо. Публика снова с любопытством слушала рассказы Андрэ о коварном сговоре Антанты, о продажности тыловых интендантов, о крысах, засевших в штабах, о болотных вурдалаках, об историческом разгроме их части под Псковом, который теперь отмечается 23 февраля. Каялся, что не виноват в смерти Офелии, что Полония убивать не хотел, он сам нечаянно под руку подвернулся. Опять что-то нес про Аустерлиц, Наполеона, Ватерлоо. Говорил, что был лично знаком со многими революционерами, видел в разливе Ленина и был тайным связным между германским штабом и большевиками.
Пару раз к нему подходила полиция, но не знала, как поступить. В такие моменты появлялся Федор и объяснял, что они артисты. А это есть их уличное представление, которое они дают в Берлине, по дороге на театральный фестиваль в Авиньоне. Лишь однажды, когда Андрэ забрался на ступени Домского собора и начал с жаром проповедовать входящим туристам что-то о Страшном суде, об их ответственности за алчность и жадность, подошел полицейский и попросил его убрать задницу с этой шикарной паперти да подыскать ей место попроще.
На следующий день была суббота, и Андрэ решил поработать лишь до трех, а затем пойти и все же купить эти чертовы сапоги для тещи. После выступления, сдав Федору тележку и деревянную руку, он отправился с Ингрид по магазинам.
«Черт возьми, – подумал он. – И все же странная штука жизнь. Вечером ты сидишь за столом в теплой компании и рассуждаешь про Раскольникова и старушку, которую тебе, слава Богу, для собственного самоутверждения не надо убивать, а уже через день судьба посылает тебе именно эту старушку, которая сама кидается под топор. Ты убегаешь от нее, пытаешься избегнуть насилия, но она упрямо бежит тебе наперерез, цепляется за ноги, хлещет по щекам, впивается в руку, требует, чтоб ты схватился за тяжелое топорище и хряснул ее по голове!»
«Старушка» выпорхнула из темноты, когда Андрэ в бодром расположении духа возвращался с Ингрид из магазина, неся в руках коробку только что приобретенных дорогих сапог. Проходя через сквер, между улицей Ораньенбургер и Музейным островом, он вдруг неожиданно услышал, как кто-то окликнул его:
– Эй, чувак! Подожди!
Он обернулся и увидел ту самую дурацкую, неизбежную «старушку». На вид ей было лет восемнадцать – длинная, коротко стриженая, в тяжелом кожаном плаще. Рядом стояла ее одна «бабка» – ростом пониже, намного потолще, в пятнистых военных штанах с ботинками на шнуровках. У этой «старушки» голова была полностью выбрита, только на макушке имелся островок коротких, выстриженных в форме свастики волос.
«Вот дерьмо! Только этих уродов сейчас на хватало, – Андрэ сразу узнал их. Он заметил вчера группу фашей, которые внимательно следили за его выступлением. Эти двое сегодня приходили опять. – Фу, какая мерзкая свастика на голове у этого типа, – мелькнуло у него в голове. – Она похожа то ли на стригущий лишай, то ли на большое, поросшее серым мхом родимое пятно».
Обе «старухи» были чем-то обдолбаны и пялились на него взглядом, не предвещавшим ничего хорошего.
– Дай на пиво! – наконец, прогундосила одна.
Андрэ, подумав немного, полез в карман и вытащил пару евро. У него еще оставалась надежда, что получится избежать общения с колченогой и кривою небольшим подаянием. Но откупиться от неприятностей малой кровью сегодня явно не выпадало.
– Что так мало? Давай раскошеливайся! Я видел, как ты вчера выебывался у Домского собора.
Андрэ начинал терять терпение:
– Я в шаббат больше двух евро на пиво не подаю!
– А! Шаббат! Так ты еще и жид! Ха-ха! Смотри, Тоби, какой веселый жид попался – он по субботам больше двух евро не подает!
– Сам ты жид! Вали отсюда! – вдруг встряла в разговор Ингрид.
– Кто жид? Я жид? А ну-ка, Тоби, двинь этой сучке!
– Эй-эй, парни! Спокойней! – Андрэ встал на пути толстого Тоби, который уже попер с кулаками на Ингрид.
– Да что с ними разговаривать! Валить их, козлов, надо! – закипел толстяк и вытаращил на Андрэ свои маленькие национал-социалистские глазки.
– Снимай пикельхаубэ! – злобно процедил длинный. – Вам, марамоям, нельзя прикасаться к святыням!
Андрэ понял, что мордобоя избежать не удастся, сделал шаг назад и произнес:
– А не пошел бы ты в жопу!
То, что случилось далее, очевидно – «старухи» кинулись на Андрэ, как две злобные натасканные на людей собаки. Одна вцепилась в Шелом, другая принялась валтузить его кулаками. Андрэ выронил коробку с сапогами и стал отмахиваться одной рукой от нападавших, пытаясь другой удержать на голове Шелом, который вот-вот был готов с нее соскочить. Ингрид, подхватив сапог, вывалившийся из коробки, стала хлестать им «старушек» по мордам. Если б не она, то Шелом, скорее всего, покинул бы голову Андрэ. Но так нападавшим приходилось отмахиваться еще и от тещиных сапог, что сильно замедляло их продвижение к цели. Наконец, они повалили Андрэ на землю и принялись колотить его ногами.
В какой-то момент Ингрид со всего размаху заехала каблуком толстому по глазу. Тот заревел и кинулся на нее. Андрэ, воспользовавшись моментом, резко вскочил, но длинный как раз нагнулся над ним, и в следующую секунду Андрэ почувствовал, что наконечник Шелома вошел во что-то мягкое, словно член в женское тело.
Поднявшись, он увидел, что длинный лежит на земле и, хрипя кровью, держится руками за горло. Шпиль Шелома попал ему прямо в рот, видимо, что-то повредив там. Подбежавший толстяк безумными глазами выпятился на него и завопил:
– Убили!!!
Андрэ, еще толком не осознавший случившегося, со словами: «Что, гнида? И ты хочешь!» – подался на толстого. Тот в ужасе отскочил и, потрясая мохнатой свастикой на макушке, упорхнул в темноту.
– Черт возьми! Только этого не хватало! – Андрэ кинул в коробку сапог, и они побежали в направлении Хаакише Маркт. Выскочив на улицу, Ингрид попросила у прохожего телефон и, назвав место, вызвала скорую помощь.
Дойдя быстрым шагом до Хаакише Маркт, они поднялись на остановку У-бана и сели в первый попавшийся поезд. Проехав один перегон, вышли на Фридрихштрассе и пошли в направлении Унтен ден Линден. Найдя свободную лавку на бульваре, они, наконец, присели и, закурив, стали осмысливать произошедшее. Отдышавшись, Андрэ открыл коробку.
– Черт! Еще и это!
Там лежал только один сапог.
– В конце концов, они сами напали. Если он даже умрет – тебя оправдают, – промолвила Ингрид, затягивая вторую сигарету от еще недокуренной первой.
Мысль, что он, возможно, убил человека, путь даже и старуху со свастикой на лбу, не укладывалась в голове Андрэ. Все произошедшее только что казалось досадным недоразумением, нереальным бредом, который мог случиться с кем угодно, но только не с ним. Он будто опрокинулся в другую реальность, в другую жизнь. Словно ехал в нужном ему направлении, но вдруг непонятно зачем выскочил на остановке и прыгнул в первый попавшийся поезд, следующий туда, куда он вовсе не собирался ехать.
И сейчас единственным желанием Андрэ было выйти на ближайшем перроне и снова вернуться в свой поезд. Но его возвращение теперь зависело только от одного человека. Того, кого карета скорой помощи, разрезая воздух воем сирены, везла в эти минуты по улицам Берлина к уже поджидавшему его операционному столу под большой неоновой лампой. К столу, на котором он либо как свежее лакомство будет съеден другой всем известной старухой, либо ей придется еще подождать и утолить свой голод кем-то другим.
– Надо будет прозвонить больницы – узнать, что с ним, – наконец произнес Андрэ и с досадой добавил: – Вот кретинизм!
Он достал из коробки сапог, смял картон и кинул в урну. Хотел было отправить туда же и сапог, но передумал и положил его в рюкзак.
– Зачем тебе один сапог?
– Не знаю! Кстати, улика в сквере осталась.
– Идиот! Главная улика на твоей голове! Может, ты ее снимешь? – раздраженно произнесла Ингрид.
– Пошли в Тахелес!
Мир за окном потускнел. Поля, ухоженные домики, соломенные цилиндры растворились в ночи. Лишь огни небольших деревушек и полустанков пролетали навстречу, уносясь куда-то на запад. Из темноты окна на Андрэ смотрело его потускневшее отражение. Львы на Шеломе, казалось, тоже поблекли. Они будто съежились от напряжения, еще крепче ухватились за щит и с тревогой взирали один на другого, предчувствуя приближение странной страны с дикими озерами, бесчисленными лесами, болотами и вурдалаками, живущими в них.
Обернувшись, Андрэ посмотрел на сидевшую рядом пожилую пани. Заметив его взгляд, она решила воспользоваться моментом и наконец удовлетворить свое любопытство:
– Вы из Германии? – спросила она по-немецки.
– Нет, я из Беларуси.
– Ах, из Беларуси! – вдруг перешла пани на польский. – А я думала, вы немец. Знаете, этот шлем. А мой дед тоже был родом из Беларуси. Во время Первой мировой рядом с его деревней проходила линия фронта, и он с семьей бежал от войны на запад. Как у вас там сейчас? Говорят, вы снова с Россией. Ах, странный народ, почему вы не хотите вернуться в Европу!
За много лет Андрэ так устал от странностей своего народа-горемыки, что всякий раз, когда в поездке возникала эта тема, старался ответить какой-нибудь притчей. И теперь, недолго подумав, он произнес:
– Знаете, есть у нас такой анекдот. Поймал мужик золотую рыбку. А она ему говорит: «Отпусти меня, мужик! А за это я выполню три любых твоих желания». Подумал мужик, почесал репу и произнес: «Ладно! А можешь, золотая рыбка, сделать так, чтоб один глаз у меня стал стеклянный, а через все лицо проходил большой шрам». «Конечно, не вопрос! – отвечает рыбка. – Хочешь? Пожалуйста, вот тебе стеклянный глаз». Махнула хвостом. Бжи-ик! И появилось у мужика вместо глаза страшное стеклянное бельмо да здоровенный шрам от лба до подбородка. «Вот это да! Ну и ну! Супер! – кричит мужик. – А теперь сделай так, чтоб одна нога стала у меня железной. Из нержавейки на титановых шарнирах». «Хорошо! Сделаем тебе железную ногу!» – говорит золотая рыбка. Бжи-ик! И появляется у мужика вместо ноги металлический протез. «Здорово! Ну, золотая рыбка, дай я тебя расцелую! Ну, молодец! Уважила старика!» – «Ну, а теперь третье и последнее желание! Проси чего хочешь!»
Задумался мужик, чтоб такое еще попросить. Стеклянный глаз уже есть, железная нога тоже. А! Вот! «А ну-ка, сделай так, чтоб у меня кожаная портупея через плечо висела, а в ней маузер лежал. Чтоб я ходил по деревне и все меня боялись!» – «Пожалуйста, будет тебе маузер!» Бжи-ик! И выскочила у мужика портупея с маузером на боку.
Отпустил он золотую рыбку, сидит на берегу и радуется. Портупею откроет, маузер вытянет, посмотрит на него стеклянным глазом, постучит им по железной ноге – красота! А рыбка нырнула в воду, через пару минут выплывает и спрашивает: «Слышь, мужик! Я, конечно, всяких придурков за свою жизнь насмотрелась, но такого впервые встречаю. Почему ты, как все, не попросил дом во Франции, дорогую машину, миллион долларов или девицу с длинными ногами?» Мужик посмотрел на нее удивленным глазом и говорит: «Да? А что, можно было?»
Повеселив пожилую пани рассказом, Андрэ снова углубился в переживания вчерашнего дня…
…Через час окольными путями они вернулись в Тахелес и рассказали Федору о случившемся. Эта новость так расстроила есаула, что он, ничего не сказав, налил полстакана водки, выпил и молча уставился на пустой стакан. Было ясно – завтрашнее выступление надо отменять. Перспектива их будущей бизнес-концессии теперь также становилась неясной. Даже если все обойдется и Андрэ вернется весной в Берлин, как начинать новые гастроли, имея во врагах столь отмороженную публику, как местные фаши.
– Если он жив, – вышел, наконец, из оцепенения Федор, – попробуем добазариться на отступные. Ну не набирать же нам, в конце концов, для охраны эскадроны антифашистов! Но, по-любому, тебе сейчас лучше побыстрее убраться из Берлина! А еще хорошо бы хоть на денек снять шлем.
Однако, как Федор не уговаривал Андрэ сделать это, тот категорически отказался. Есаул, у которого от бесполезных уговоров стали сдавать нервы, наконец не выдержал и раздраженно произнес:
– Ну хорошо, билет мы тебе купим, но как, черт возьми, ты доберешься до вокзала? Ведь и фаши, и полиция могут тебя пасти на любой станции.
– А что если большой чемодан? Мы привозим его на вокзал, заносим в купе, открываем и уходим, – встрял в разговор Буян.
– Фу, крепкая зараза! – Федор выпил еще пол стакана и продолжил: – Ну, нет, чемоданы, ящики с дырочками не подходят!
– Тогда предлагаю купить гроб. – Буян явно оставался единственным, не потерявшим оптимизма, человеком в компании. – Если он на кладбище отправляется, то надо его, как положено, в последний путь проводить. Закажем катафалк, подвезем гроб к вагону, откроем крышку, усадим мертвеца в купе, обставим венками и – дранг нах остен, дорогой, на восток!
– Генух пиздеть! Не до шуток сейчас! Лучше что-нибудь дельное предложи! – Федор был явно не настроен на пустое зубоскальство.
– Хорошо, вот еще вариант! – продолжил Буян. – Так как снять шлем он не желает, то надо его замаскировать. Давайте крестоносцем его нарядим. Доспехи наденем, щит с крестом, в пикельхаубэ страусиные перья воткнем. Ну кому какое дело! Ну, едет себе тевтонский рыцарь на восток. Может, дела у него там! Может, могилки предков навестить хочет!
– Идиот!
– Ладно, не нравится, вот другой вариант. Загримируем его под индийского пашу. Обмотаем шлем полотенцами. А еще можно под попа косить. Черный балахон и такой пирожок высокий сверху.
– Ну-ка, ну-ка! Это уже теплее, – оживился Федор. – Под попа!
– Да, я как-то на Пасху по телевизору видел. Стоит поп, а на голове у него такая хрень золотая в виде колокола!
– Знаю я эту шапку. Только в Берлине мы ее хрен достанем. А вот что-нибудь попроще… – Федор встал, подошел к книжной полке и, покопавшись, вытянул старый фотоальбом. Полистав, открыл его на нужной странице: – Вот, этот поп подойдет, шапка у него цилиндрическая – такую мы и сами изваять можем.
– А главное, – продолжил Федор, – правдоподобно, не броско, не крестоносец, не индийский паша, а просто поп – едет себе по Берлину. Да, для конспирации это лучше всего подходит. Одна проблема – времени у нас мало. По уму, тебе уже завтра нужно фершвинден из города. Некогда серьезные декорации сооружать.
Андрэ молча слушал, не особо вникая в планы побега. Сейчас его занимал только один вопрос – жив или нет этот чертов придурок.
– Тебе уже сегодня ночевать в Тахелесе опасно, – Федор встал и подпер дверь подрамником, – за эти дни ты так засветился на Ораньербургер, что, если захотят, в момент вычислят. Могут нагрянуть в любую минуту.
Помолчав немного, добавил:
– Я перетру с мексиканцем, чтобы вы спали сегодня у него. А мы, – Федор посмотрел на Буяна, – когда они уйдут, перегородим дверь шкафом. Трухлявая она совсем. Надо чем-то усилить.
– А ты, – есаул обратился к Андрэ, – если услышишь ночью шум, поднимай на уши весь Тахелес. Беги по мастерским и кричи: фашисты напали! Хватайте биты, палки, цепи и сюда! Вместе как-нибудь отобьемся от этой сволочи!
Он разлил по стаканам, встал, по-гусарски отвел в сторону локоть и выдохнул:
– Ну! За победу!
Занюхав позавчерашним суши, Федор немного помолчал и, посмотрев куда-то вдаль, задумчиво произнес:
– Я живым этим блядищам не дамся! Если что, то у меня для них сюрприз припасен.
Он поднялся, пошел в дальний, заваленный рухлядью угол мастерской, пошуршал, погремел там тазами и вытянул из потаенного места сверток. Положив на стол, он развернул его и сказал:
– Вот! На рынке как-то купил. Вместе с семисвечником. На всякий случай.
На столе в измятой пожелтевшей газете лежала старая немецкая противопехотная граната. Буян от неожиданности поперхнулся. Он понял, что дело принимает серьезный оборот. В любой момент может начаться не шуточная, а самая настоящая война. И возможно, уже в эти минуты страшный бритоголовый агрессор со свастиками в зрачках поднимается по лестницам – сюда, на четвертый этаж Тахелеса. Он посмотрел на дверь и немного сдавленным голосом произнес:
– Бр-р, однако. Может, прямо сейчас двери забаррикадируем?
– Не паникуй! Так быстро они нас не вычислят. Ладно, накатим еще по пятьдесят и начнем поповскую мантию цутун махен! – Федор, расставив крестом четыре стакана вокруг гранаты, взял в руки увесистую «Финляндию».
– А может, три?
– Что три? Не будешь пить что ли?
– Три поповских мантии? – Буян начинал впадать в тихую панику. – И кстати, семисвечник надо со стола прибрать. Он им точно не понравится!
– Ха-ха-ха! Хороший будет заголовок для «Тагесшпигеля»: «Война гангов! Три попа пали смертью храбрых в перестрелке с неофашистами на Ораньербургерштрассе!»
– Не дрейфь! – добавил есаул, – А семисвечник убирать нельзя – это орудие боя! Знаешь, как хорошо можно им хрястнуть какого-нибудь национал-социалиста по роже!
Поднявшись, Федор снова пошел к закромам.
– Где-то у меня хоро-о-оший кусок черной материи был… Кстати, к рясе тебе еще борода понадобится. А вот бороды у меня нет. Придется завтра, если доживем, ха-ха-ха, – он посмотрел на Буяна, – сходить прикупить. Правда, приличной бороды в Берлине не достать, но какую-нибудь ватную, на резинках, как у Деда Мороза, можно.
– Подожди, – остановил его Андрэ, – не надо поповскую рясу сооружать, достанем лучше паранджу.
– О-о-о! Гениально!!! Как это я не додумался! На хрена нам здесь мракобесие разводить. Поповство нынче не в моде! А вот паранджа – стильно, современно, актуально!
– А я на всякий случай все-таки три паранджи бы достал!
– Буян, не нагнетай! И что? Андрэ на восток укатит, а мы будем с тобой как два педика в паранджах по Берлину околачиваться? Да и не боюсь я эту звериную гадину! Пусть она от меня под паранджой прячется! Давай, Буян, наливай! Да не сцы ты – отобьемся как-нибудь!
За окном показались предместья Варшавы. Соседи по купе засуетились, принялись укладывать в сумки недочитанные журналы и бутылочки с минеральной водой. Мимо проносились ангары, полустанки, гуртовни, спальные районы большого, нескладного, но все-таки дорогого для Андрэ города.
Когда-то он часто наведывался в Варшаву. Именно здесь начинались его первые заграничные выставки. Бывало, он неделями гостил в мастерских местных художников, пил с ними «Выборову» и даже без особых усилий выучил польский язык. Так что, когда был в настроении, мог говорить на нем почти без акцента и даже с пижонским варшавским прононсом.
Поезд нырнул в тоннель, а через пару минут из темноты выплыл подземный перрон «Варшавы-Центральной». Вечерний поезд на Минск уже отошел, потому следовало подумать о месте для ночлега. Прикинув, к кому в такой поздний час удобно заявиться без предупрежденья, он остановился на Яцеке, старом приятеле, знакомом ему еще с тех первых варшавских выставок. Они не виделись несколько лет, но Андрэ знал, что Яцек стал успешным художником и в последние годы много ездил по миру, участвуя в престижных проектах. Когда же появлялся в Варшаве, большую часть времени проводил в мастерской, которая находилась совсем недалеко от вокзала на улице Яна Павла Второго.
Поднявшись наверх, Андрэ закурил сигарету. Прямо перед ним в неоновой подсветке стоял еще один его брат-близнец – помпезный Палац культуры и науки, циклопических размеров здание с высоким шпилем, подаренное после войны городу Иосифом Сталиным.
«Ну, здравствуй, дорогой братец, – поприветствовал его про себя Андрэ. – Как это в песне поется? Ох, Варшава моя, ох, столица! Вот я уже почти дома!» Обернувшись, он заметил, что несколько нищих невдалеке с интересом посматривали на него. «Однако. Черт возьми! Почему они так странно пялятся на меня? Нет, все-таки все вокзалы в мире одинаковы! Сейчас вот этот кривой подойдет и попросит на пиво!»
– Нет, не могу! – превентивно ответил Андрэ еще до того, как подошедший к нему бездомный успел что-нибудь произнести.
Изрядно помятый жизнью мужик, явно намеревавшийся стрельнуть пару грошей, развернулся и, что-то бормоча про фашистскую гадину, поплелся прочь. За много лет Андрэ хорошо изучил нравы бездомных на Варшавском вокзале. Раньше, по доброте душевной, он подбрасывал им деньжат. Однако, если подавал одному, через минуту появлялся другой, затем третий и так, незаметно, за полчаса, бывало, уходила десятка злотых. Решив, что это чересчур расточительно, он стал давать только двум первым просившим. А потом, еще поразмыслив, ради справедливости и социального равенства и вовсе перестал подавать. Теперь, когда к нему подходили, он обычно опережал просившего и сразу говорил: нет!
«Сволочи! Мизансцену ломают! После разлуки не дают спокойно надышаться воздухом Посполитой! – раздраженно подумал Андрэ. – Ну вот, еще один!»
– Идь до дупы!
– А может…
– Нет!
– Папиросу?
– Ну, ладно, папиросу можно! – он протянул нищему сигарету. – «Нет, определенно надо скорей сваливать отсюда. Эти бездомные, наверное, думают, что я прусский принц. Прибыл в Варшаву, чтоб сходить в Королевский замок посмотреть на сокровища предков». Бросив бычок в урну, он закинул за плечи рюкзак и побрел в сторону остановки трамвая.
Домофон у подъезда откликнулся сразу. Кто-то наверху нажал кнопку, не спрашивая, кто там. «Это хорошо, – подумал Андрэ, – хозяин дома». Поднявшись на мансардный этаж, он позвонил. В мастерской было шумно, доносились музыка и голоса. Вскоре появилась молодая барышня приятной наружности и, ничуть не удивившись его появлению, сказала:
– Напрасно звоните, тут не заперто. Заходите!
– Вечер добры! Яцек дома?
– Да, он с гостями. Сейчас позову!
Андрэ вошел в просторную прихожую, заставленную огромными полотнами и такими же значительными, но пока еще пустыми подрамниками. Яцек всегда отдавал предпочтение картинам крупных форматов. Андрэ нравилась его безумная, экспрессивная живопись. От нее исходила мощь, пассионарная энергия, которой так не хватало декадентским мандавошкам Буяна. Правда, в последние годы Яцек в угоду моде рисовал в основном эротические сюжеты – голых баб, трахающихся мужиков, секс в трамвае, в лесу, на пляже. Но выглядело это не пошло. Его трахальщики набухали сочной плотью. Сливаясь в экстазе, они как бы бросали зрителю вызов, кричали ему: «Хочешь секса в искусстве? – На! Получи! Насладись этим месивом тел, эйфорией красок, совокуплением цветов, форм, линий! Но мыто знаем – истинный оргазм испытает автор, когда ты выложишь на эту тумбочку хрустящую пачку зеленых банкнот!»
– О, Андрей! Не знаю, каким ветром тебя занесло, но, главное, вовремя! – перед Андрэ стоял хозяин мастерской.
– Я проездом, всего на одну ночь. Можно у тебя сегодня переночевать?
– Что за вопрос! Снимай пальто, проходи! – Бросив взгляд на Шелом, он добавил: – Да, шляпу тоже можешь снять! Не бойся, уши не отморозишь. У меня хорошо топят.
– Эта шляпа снимается только с головой.
– Ну, как знаешь! Только не проткни мне что-нибудь. А то мои полотна нынче дорого стоят, – отшутился Яцек и потащил гостя в большую комнату.
– Ты не представляешь, какие важные гости у меня сегодня, – продолжал он. – Одна очень крутая кураторша. Ездит по Европе, отбирает художников для следующей «Манифесты». С ней еще две девицы, но калибром поменьше. Я эту вечеринку специально для них устроил. Тебе надо обязательно с ними познакомиться!
Мастерская Яцека была довольно просторной, но при таком скоплении людей большая комната теперь казалась тесной.
– Что будешь пить? – хозяин подвел Андрэ к столу с бутылками всевозможных форм, калибров, цветов и наклеек.
– «Крупник» есть?
– Спрашиваешь! Эта старорежимная зараза всегда есть в моем баре! Ладно, развлекайся! Опрокинь стаканчик, а я пойду пока займусь гостями!
Андрэ нашел на столе знакомую квадратной формы бутылку и налил себе полстакана. Это был старолитовский «Крупник», крепкая и терпкая, настоянная на меде водка – напиток когда-то популярный в Беларуси, в восточных землях Речи Посполитой. Позже там его рецептуру забыли и разливали теперь только в Польше. Всякий раз, когда Андрэ возвращался на Коронные земли, из всех напитков он отдавал предпочтение именно «Крупнику». Каждый его глоток казался ему приветом из того терпкого времени, когда их страна простиралась от моря до моря, а в ее городах, замках, мястэчках цвел сладкий как мед золотой век сарматской культуры.
Пришпорив коня двумя изрядными глотками сарматской культуры, Андрэ пробежал взглядом по комнате, рассматривая находившихся в ней гостей. Несколько человек показались ему определенно знакомыми. Видимо, они встречались раньше на каких-то тусовках. Важных теток он также сразу приметил.
«Удивительно, почему все кураторши так любят черный цвет? – с легким раздражением подумал Андрэ. – Если б меня попросили описать их типичный портрет, я бы сказал: среднего роста, худощавая, с небольшой сексапильной задницей, часто в очках, но обязательно во всем черном. Вот и сейчас не надо быть большим умником, чтобы узнать их – комиссарши с маузером в голове, черные капелланы при армии, дарующие художнику патент на вечную жизнь!»
По расслабленной атмосфере в мастерской было понятно, что гости крутились вокруг стола со штофами уже не первый час, так что некоторые даже успели заснуть. Здоровенный, совершенно лысый толстяк, закинув голову назад, сидя спал на хозяйском диване. Вокруг капелланов в черном увивалось несколько человек. Посвящая их в свои концепции, они листали портфолио.
«А это, наверно, художники. Солдафоны! Пыжатся, стараются обратить на себя внимание. Явно хотят, чтобы их пригласили поучаствовать в крутом проекте». – С каждым новым глотком меда сарматский конь уносил Андрэ все дальше в бунтарскую степь. – «Интересно, почему эти феи в черном никогда не появляются у нас? Будто мы заповедник для недоделанных, не стоящий их драгоценного времени и внимания! – раздраженно подумал Андрэ. – Всякий раз, доехав до Буга, они прыгают на свои кураторские метлы и летят прямой наводкой аж до Москвы. Хреновы ведьмы! Не помню случая, чтобы кого-то из наших пригласили на действительно серьезную выставку. Черт возьми! Когда думаю о неприятном, голова начинает страшно чесаться! Попробую ее сегодня помыть».
– Пошли, я тебя представлю! – прервал его раздражение неожиданно появившийся Яцек. – Постарайся ей понравиться! Она, если захочет, может тебя из говна вытащить! – Он плеснул себе в бокал еще красного вина и потянул Андрэ знакомиться с феей в черном.
– Хочу вам представить, это Андрей, мой приятель из Беларуси! Замечательный художник! Один из лучших! А это… – Далее он назвал фей по именам, которые Андрэ все равно не запомнил, что-то типа Бастинда, Брузгильда и Лаура.
Все три феи заворожено уставились на Шелом. Наконец, главная из них, видимо решив, что сейчас этот язык более уместен, произнесла на ломаном немецком:
– Вы из Беларуси! Зер интэрэсант! Никогда не удавалось там побывать. Наверное, у вас сейчас не легко, диктатор…
– Да! Да! Очень не легко! Диктатор! Несчастная страна! Бедный народ! – Андрэ немного развязано перебил ее. – Мужики с револьверами и стеклянными глазами! А еще из последних новостей – все медведи из Москвы к нам перебрались! Теперь по улицам ходят! Вы не представляете! Как-то зимним вечером выхожу на Октябрьскую площадь к Дворцу Республики – это такое центровое место в Минске, где каждый год на Рождество каток заливают, – и глазам не верю! На катке медведи на коньках! Представляете, настоящие мохнатые медведи перед Дворцом Республики на коньках катаются и держат в руках, то есть в лапах, – банки с пивом! А два самых здоровенных забрались на крышу Дворца Профсоюзов и трахаются там на глазах у всей публики! Вообразите себе, лапы раскорячили и трахаются!
Андрэ замолчал. Феи в черном с недоумением смотрели на него, время от времени переводя взгляд на Шелом. Яцек, который тоже немного опешил от такого неожиданного выступления, наконец прервал паузу:
– Андрей делает очень интересные проекты из соломы! Огромные инсталляции! Я видел одну из последних в Германии. Он построил целый алтарь! Представляете, высоченный барочный алтарь! С распятием, колоннами, скульптурами, ангелочками. И все-все-все из соломы!
Феи в черном немного ожили. Одна из них, что была помоложе, прощебетала птичьим голоском:
– Алтарь из соломы! Зер интэрэсант!
Но тут опять вступил Андрэ, который, видимо, решил произвести на пиковых фей действительно неизгладимое впечатление. Святополк на его голове прорычал: «А ведь старуха сказала: тройка, семерка, туз!», и вслух он мрачно произнес:
– Это выглядело ужасно! Лишь потому, что христианство мертво, оно сейчас столь гуманно! Инквизиция давно бы меня распяла! Алтарь был похож на разлагающуюся плоть. Он будто состоял из множества маленьких желтых червяков, которые копошились в распятии и жрали, жрали, жрали тело того, кто висел на нем! Они были повсюду – увивали своими золотыми тельцами ангелочков, колонны, барочные карнизы! Мерзкое зрелище! Единственное, чего не хватало, – полчища черных мух, которые должны были кружиться над всем, создавая законченную картину распада!
Андрэ самому стало противно. Чтобы снять тошноту, подступившую к горлу, он сделал большой глоток квинтэссенции сарматской культуры и взглянул на главную фею. Та теперь уже с нескрываемым любопытством смотрела на него.
– А чем вы сейчас занимаетесь?
– Ничем!
– Я имею в виду, какие проекты готовите?
– Никаких! Я не хочу больше участвовать в этом лохотроне! Современное искусство – это финансовая пирамида, где дивиденды получают те, кто находится у вершины. Мне надоело много лет служить у подножья без шансов подняться наверх. Я могу изваять пять новых алтарей из соломы, наделать еще черт те чего, но это ничего не изменит. Потому что в этой игре нет правил. Все решаете вы – мафиозный спрут. Даже если я знаю три выигрышных карты: талант, труд, удача, все равно в последний момент вместо удачи выпадаете вы – пиковая фея. А далее от вас зависит, поднять ли мои ставки в игре. Но тут у вас начинаются свои интересы – политические, биржевые, обязательства перед пулом и так далее, и так далее. Вы прикидываете, какой воздушный пузырь можно максимально выгодно продать. Ведь ваш бизнес – продажа пустоты! Что может в куске высокохудожественного дерьма стоить миллионы долларов? Ничего! Но вы надуваете его и продаете эту чистейшую фикцию за безумные бабки! Такие ж люди, как я, вам не интересны! Потому что мы родились в неправильном месте! Это место для вас даже не существует на карте! Вы всегда облетаете его стороной, будто там заразный лепрозорий!
Пиковые феи с легким испугом в глазах озадаченно поглядывали на оратора в прусском Шеломе. Публика вокруг притихла и тоже начала прислушиваться к речи трибуна, который что-то страстно проповедовал на непонятном большинству языке. Андрэ же сегодня был явно в ударе. Он пришпорил коня еще двумя глотками сладких воспоминаний о золотом веке Речи Посполитой и галопом поскакал по мозгам публики в зале:
– Я много лет гнил в окопах у подножия пирамиды как простой солдат великой армии искусства. Но меня все достало! Я больше не хочу гнить в окопах, быть безымянным! Вы спросите, а как же долг? Служение? Служение великому, вечному? Да никак! Плевать я хотел на ваше искусство! Если б я жил во времена Возрождения и создавал реальный алтарь, то мог бы смириться со своей участью. Я сказал бы себе: да, я безымянный солдат, но я создаю вечное, то, что будет восхищать людей и после моей смерти. Со своим произведением и я ухожу в вечность. Но алтарь из соломы жив только со мной. Это фикция, от которой останется лишь документ, фотография, информация, файл. Да, он может остаться в вечности! Но это зависит только от вас! Сегодня вы – инквизиция, которая дарует индульгенции! Вы выдаете патент на вечную жизнь! Если вы объявите его великим произведением, тогда он останется! Но я не хочу, чтобы вопрос вечности зависел от вашего каприза! Мне надоело! Считайте, что это мятеж! Бунт! Вы хотите знать, какой мой новый проект? Вот, он на моей голове! Шелом! Я, безымянный солдат, объявляю себя генералом! Маршалом! Кайзером! Можете считать меня самозванцем! Но я, самозванный кайзер, не дожидаясь вашего приглашенья, сам иду наверх! Вот этот шпиль будет венчать пирамиду! Я и есть арт-проект!
Андрэ внезапно остановил коня перед пропастью тишины, наступившей в комнате. Гости, Яцек, дамы в черном с недоумением слушали безумного всадника. Даже толстяк, спавший на диване, при словах «бунт» и «мятеж» ненадолго очнулся, прохрипел, что он тоже Шелом, и, покрутив головой, снова отправился в сладкое забытье. Андрэ почувствовал, что речь его произвела впечатление, но чтоб еще сильнее понравиться феям, пришпорил коня и полетел в пустоту:
– Представьте, некий неизвестный солдат вдруг понимает, что его жизнь – дерьмо! То, во что он безоговорочно верил, служение вечному – всего лишь фикция. А он, пожертвовав всем, отдал этой фикции всего себя целиком! Ставка сделана. Но крупье оказались жуликами! Интенданты – воры, генералы – продажные, в штабе засели крысы! Вместо туза выпала черная дама. Он понимает, у него один шанс – джокер! Перевернуть шулерский стол и поднять восстание. Да! Да! Бунт! Только бунт – его надежда! Вы готовите «Манифесту»? Так вот вам мой манифест! Шелом!
Я надел на голову мир! Я надел на голову войну! Я объявляю миру войну! Я – человек в Шеломе! Я Человек-Шелом!
– Нема! Нема! Сам жабрую! Тьфу! Прям король Лир какой-то! – Андрэ натянул воротник плаща повыше, словно это могло защитить его от холода. Уже более двух часов он сидел на неудобной скамейке в пустом промерзшем зале «Варшавы-Центральной». Поезд до Тэрэсполя отправлялся только в шесть десять утра. Часы же на большом электронном табло говорили, что сейчас три, а значит, провести в ожидании предстояло еще сто восемьдесят томительных минут.
«Идиот! Придурок! Кретин! Какого черта ты устроил эту манифестацию у Яцека! Налетел на баб, которые вообще ни при чем! Ну, приехали кураторши, ну, желали с тобой познакомиться, про проекты спросить! А ты сразу – бунт! Мятеж! Восстание! Я Человек-Шелом! Кретин! А, ладно! С другой стороны, плевать эти бабы на тебя хотели! Ты им просто под руку подвернулся. Желали посмотреть на болотного человека. Экий аттракцион – говорящая обезьянка. Ха-ха-ха, а обезьянка не только говорящая, но и кричащая, и вообще бешеная оказалась. Да еще в прусском Шеломе, да к чему-то взывает, руками размахивает! Придурок! Идиот! Сидел бы сейчас в тепле! А теперь мерзни на вокзале среди этих бомжей! Вон сколько их собралось. Со всех щелей повылазили посмотреть на кайзера в изгнании, что корчится от холода на этой дерьмовой скамейке. Так они еще будто сговорились! Каждые три минуты какая-нибудь блядища подходит денег попросить!
Нет, все-таки ты идиот! Ну ладно, высказал этим теткам все, что думаешь про современное искусство. Замечательно! Имеешь право! Оставил бы им телефон, адрес, поулыбался, сказал бы, что рад встрече, надеешься увидеть их когда-нибудь на банкете в преисподней или другую чушь; выпил бы «Крупника», да и плюхнулся спать на диван рядом с тем толстым. Так нет же! В роль, понимаешь, придурок, вошел! Кураж, так сказать! Продекламировал манифест, развернулся и гордо пошел прочь в варшавскую ночь. Ну, ладно бы еще просто пошел. Но на хрена надо было стол переворачивать! Финального удара не хватало? Что б красивей выглядело? Точку в манифесте поставить? Как будто это и есть тот карточный стол, за которым крупье-жулики тебя разводили! Вот еще один!»
– Идь до пёнзды! Нема грошай! Охренели совсем! Богадельню здесь развели!
«Мужик на диване совсем офигел спросонья. Все бутылки с виски, вином и ликерами прямо на него посыпались! Он аж подскочил от ужаса! Наверное, хмель как рукой сняло! Гости тоже обалдели! Так и стояли как вкопанные! Электрошоки-рованные! Кретин! А Яцек тут при чем? Он тебя, придурка, как друга пригласил! Помочь хотел, с крутыми кураторшами познакомить! Говорил, произведи впечатление – они тебя из дерьма могут вытащить! Да, произвел впечатление! Уж точно не забудут! Никогда не забудут! Теперь сиди здесь, мерзни! Так тебе и надо. Ух, что ж холодно-то так? Да, не лето уже. Октябрь. Какое сегодня число? А мог бы выспаться как человек. Утром голову помыть. Вечером с комфортом прямым поездом сразу до Минска. А теперь волочись на этих дурацких электричках. Три тридцать семь. Сходить что ли денег поменять и в ночник – купить чего-нибудь согреться?»
Поднявшись со скамейки, Андрэ через пункт обмена валюты побрел по пустынным в этот час подземным лабиринтам Варшавского вокзала к ночному магазину. В небольшом помещении, до потолка заставленном бутылками с алкоголем, он обратился к скучающему на стуле у прилавка продавцу:
– Бутылку «Крупника» и пачку «Мальборо».
Не поднимаясь со стула, тот выдал необходимое и, равнодушно посмотрев на Андрэ, спросил:
– Пан, наверное, из Германии?
– Нет, из Беларуси.
– А-а-а… Тогда ладно, – загадочно произнес продавец.
– Что ладно?
– Если б пан был из Германии, я бы посоветовал ему не бродить этой порою в таком наряде в районе вокзала.
Поблагодарив за совет, Андрэ теми же пустынными лабиринтами отправился обратно. Возвращаться на лавку не хотелось, поэтому он вышел на улицу перекурить. Брат-близнец снова возник перед ним, правда, без украшавшей его вечером пышной подсветки. Теперь он нависал над вокзалом мрачным готическим собором, с контрфорсов и пинаклей которого на Андрэ угрюмо взирали единороги, грифоны, аспиды, василиски сталинского ампира.
Воздух, веющий с родины, к ночи заметно похолодал. Он по-прежнему был легок и свеж, но с каждым вдохом Андрэ ощущал, как маленькие колючие льдинки проникали в его легкие. Откупорив бутылку, он сделал глоток. Сладкий, обжигающий мед потек по жилам, растапливая небольшие ледяные торосы, которые успели осесть в его организме за последние несколько часов.
«Перед Яцеком стыдно. Конец дружбе. Хотя нет! Думаю, он позлится-позлится, но простит. Сам экспрессионист. Знает, что художнику надо иногда высказаться.
Яцек – человечище! Сколько вместе «Крупника» выпито. Помню в Щецине, утро, рано еще, только рассвело, а мы из ночника вышли, сели на лавочку под магнолиями. Ах! Как тогда магнолии цвели! Весна! А он о чем-то рыдает мне в жилетку. Вот такущие слезы, как яблоки, из глаз катятся! Ах, как хорошо было! А бабы эти – черт с ними! Ни хрена они ни из какого болота вытаскивать меня не собирались! Нужен я им! У них свои дебеты с кредитами, в которые мы не попадаем!»
– Пшепрашам бардзо, може пан дать пятьдесят грошей на гарбату? А то зимно совсем!
Андрэ хотел по привычке отправить попрошайку куда подальше, но, помедлив, ответил:
– Денег нет, а пятьдесят грамм могу налить! Но только в твой стакан! А то знаю! Подцепишь тут от вас какой-нибудь сифилис!
Нищий тут же вытащил из кармана пластиковый стаканчик и, судя по всему, уже собирался ненадолго задержаться. Но Андрэ, взглянув на башню, часы на которой показывали четыре шестнадцать, с грустью промолвил:
– Ступай, дед! Дай погрустить одному!
Сокровище Радзивилов
– Подъезжаем! Граница!
Андрэ очнулся от короткого сна. Беспризорная ночь измотала его. Только он присаживался на скамейку в очередном вагоне, сознание тотчас опрокидывалось в пустоту, унося его под стук колес в зыбкое желейное забытье. Челноки в электричке, выехавшей из Тэрэсполя минут двадцать назад, засуетились, зашуршали вьетнамскими сумками, набитыми нехитрым товаром, и поднялись на выход.
За окном проплыл Буг, пограничная зона с изгородями из колючей проволоки, солдатские бараки, выцветшие перелески и показались окраины Бреста. Под заунывную песню приветствия родной стороне поезд подкатил к варшавскому перрону Брестского вокзала и, заскрипев колесами, торжественно остановился.
Люди из электрички, прихватив полосатые сумки, потянулись к большой массивной двери таможенного зала, в котором, распаковав поклажи, им предстояло доказать любопытным служивым в голубых мундирах, что они не контрабандисты, а добропорядочные граждане, а ввезенные ими пять килограмм колбасы да три пары штанов никак не подорвут экономические устои здешнего государства. Поднявшись со скамейки, Андрэ также направился в таможенный зал, где пристроился в хвост длинной скучающей очереди.
Андрэ ненавидел границы. В самой процедуре их прохождения он находил что-то унизительное для достоинства человека. Всякий раз все в нем бунтовало, когда тип в канцелярском мундире тщательно, через лупу, рассматривал его как потенциально опасную мандавошку, несущую на кончиках лапок микрограммы недозволенного вещества, способного опрокинуть в бездну их процветающее государство.
Особенно его раздражали люди в канцелярских мундирах по ту сторону Буга. Он словно был для них не просто зловредным насекомым, но насекомым низшей расы, мандавошкой болотной, пытающейся проникнуть в их совершенный мир из страны, сознательно избравшей путь эволюции назад, от приматов к инфузориям-туфелькам. Он замечал, как немного менялось лицо пограничника, бравшего в руки белорусский паспорт. В нем появлялось легкое пренебрежение, еле различимое, но все же заметное ощущение собственного превосходства.
К пограничникам по эту сторону Буга он относился более снисходительно. Здесь его скорее раздражало их тупое солдафонство, да дурацкая, оставшаяся еще от совка привычка искать в каждом кармане маленького, скрывающегося там китайского диверсанта. Всякий раз, когда ночным поездом он пересекал границу, его поднимали с постели и заглядывали под матрас, полагая, наверное, что китайский диверсант прячется именно там.
Очередь потихоньку продвигалась, и вскоре Андрэ предстал перед будкой с молодым парнем в окошке, одетым в болотного цвета мундир. Полистав паспорт, он пристально посмотрел на Шелом и сухо сказал:
– Снимите головной убор!
– Зачем головной убор? – Андрэ опешил от неожиданного предложения.
Пограничник, в свою очередь, тоже споткнулся о его вопрос, удивленно поднял глаза и строго произнес:
– Гражданин! Это граница! Я имею право идентифицировать вас без головного убора!
– Но послушайте, вы же видите, это я на фотографии в паспорте!
– Да, вижу!
– Так зачем же снимать?
– Гражданин Воробей! Еще раз повторяю! Снимите головной убор!
Андрэ придвинулся вплотную к окошку и тихо, вкрадчивым голосом, произнес:
– Понимаете, я не могу его снять. Это не головной убор. Это… – он замолк на секунду, подбирая нужное слово, – это член, в смысле рука, вернее, палец. Снять его то же самое, что оторвать палец. Вы представляете, что тогда случится? Я вас очень прошу! Не надо снимать!
Парень в будке удивленно посмотрел на Андрэ.
– Какой еще палец?
– Средний. Вот этот. – Андрэ сжал кулак, демонстрируя, какой именно палец он имеет в виду.
Глаза пограничника вдруг прояснились. Недоумение в них сменилось пониманием, что перед ним человек не совсем адекватный. Несколько мгновений он еще что-то обдумывал, а затем снисходительно, словно психиатр душевнобольному, произнес:
– А, палец… Понятно! Тогда сдвиньте его на затылок.
Он еще раз измерил Андрэ взглядом, шлепнул в паспорт печать и повеселевшим голосом добавил:
– Проходите!
«Черт! Я был на грани провала! – Андрэ, выдохнув напряжение, отошел от окошка. – Как неожиданно, как нелепо все могло закончиться! Идиот! Надо было все-таки ехать прямым поездом из Варшавы до Минска. Там бы такая ситуация не случилась. Они бы просто, как обычно, порылись в матрасе, поискали противного китайца, а на Шелом бы даже не взглянули! Кретин! А если б взглянули? А вдруг китаец прячется у тебя в голове? То есть под Шеломом? Да-да-да! Черт возьми! Как это я не подумал! Для этих солдафонов он мог залезть и туда, этот вредный маленький китаец со своей дешевой одноразовой китайской бомбой! Да, это был риск – ехать поездом! А как по-другому? Автобус? Самолет? А металлоискатель? Единственный вариант без риска – вплавь через Буг! Нелегально! Ха-ха! А если б поймали? Вот бы обрадовались! Не абы какого мелкого китаезу, а настоящего увесистого прусского диверсанта! Вот это да! Хороший случился б скандал! Обвинили бы Европу, что она по-прежнему закидывает из-за забора, то бишь из-за кордона, на нашу территорию шпионов! По телевизору бы показали крупным планом в Шеломе, да еще и прокомментировали. Поглядите, мол, вот она – Европа! А каких высот достигло искусство шпионажа! Паспорт как настоящий! Не отличишь. Разговаривает на чистейшей белорусской мове без всякого акцента! Да в придачу так сумели загримировать, что родная жена не может отличить от пропавшего без вести в Германии больше месяца назад Андрея Николаевича Воробья».
Андрэ прошел в следующий зал, куда после паспортного контроля плавно перетекали люди с полосатыми сумками. За несколькими столами деловито работали любознательные мужчины в бледно-голубых мундирах. Они заглядывали в поклажи, что-то там щупали, перекидывались с досматриваемым гражданином двумя-тремя фразами и приглашали очередного. Немного расслабившись после первого шока, Андрэ пристроился в хвост очереди к одному из столиков и стал дожидаться.
«Шайзе! – неожиданно резанула мысль. – Так ничего ж еще не закончилось! А если они теперь потребуют снять Шелом? Вдруг я спрятал под ним килограмм героина! Ну, нет! Бред! Ерунда! Такая идея им в голову не придет! Какой придурок будет так нагло перевозить героин на своей голове, пряча его в настолько заметном предмете! Ну, гуд. Не героин, так лишний килограмм колбасы. Сколько сейчас можно ввозить – пять? А если я шестой под Шелом положил! Ну нет, все-таки ты идиот! Нормальный человек лишний килограмм засунул бы в трусы. Какая к черту разница куда! Если им просто захочется посмотреть, что у тебя в голове!»
– Вы будете декларировать?
– Что декларировать? – Андрэ стоял перед пустым столом. С другой его стороны находился таможенник, который теперь, в свою очередь, тоже с любопытством посматривал на Шелом.
– Предмет, который находится у вас на голове.
– Подождите, там нет никакого предмета! Вот взгляните, – Андрэ открыл рюкзак, – здесь нет ни одного килограмма колбасы! Так зачем же мне ее прятать там?
– Ну как же, а эта каска? Ведь, судя по всему, вещь дорогая.
– Ах, каска! А что, ее надо декларировать?
– Я точно не знаю. В моей практике еще не было такого прецедента. Но я бы советовал вам на всякий случай задекларировать. Все-таки вещь эксклюзивная. Хотя дайте-ка ее сюда. Пойду спрошу у начальника смены.
– Извините, я не могу ее дать, – Андрэ снова почувствовал, как липкий пот от сжавшихся в комок мыслей проступил на висках под Шеломом.
– Это почему же?
– Ну, понимаете, как это вам объяснить? Мне религия не позволяет сделать это. – Ответил Андрэ первой подвернувшейся под руку фразой, а затем, словно немного стушевавшись, оглянулся по сторонам и вполголоса, чтоб не слышали вьетнамцы вокруг, прошептал: – Сегодня понедельник, а мы имеем право снимать Шелом только в субботу, все ж остальные дни обязаны носить его на голове. Вы, наверно, слышали или читали в газетах про тоталитарные секты? В нашей секте очень строгие порядки. Пожалуйста, я вас прошу! Нельзя ли начальника смены пригласить сюда?
Парень в голубом с легким сочувствием взглянул на Андрэ и, пробормотав нечто про то, что каждый по-своему с ума сходит, отправился за начальником.
– Вот, Семен Иванович, посмотрите, – через минуту уже два джентльмена в мундирах таможенников стояли перед Андрэ и в четыре глаза изучали Шелом. – Гражданин из тоталитарной секты. А на нем предмет культа. Он имеет право снимать его только по субботам. Так товарищ интересуется, нужно ли его декларировать?
– Тише, тише! Что ж вы так кричите на весь вокзал! Это не тоталитарная секта, а церковь воскресения шестого дня. Тоталитарной ее только в телевизоре обзывают! Но это неправда. – Андрэ оглянулся по сторонам. Люди в мундирах за соседними столиками, приостановив досмотр полосатых тюков, с любопытством глазели на него. Челноки с вьетнамскими сумками, получив неожиданную передышку, растопырив уши пошире, тоже прислушивались к разговору.
– Мы веруем в единого бога в себе и молимся за спасение мира от пустоты, которая скоро грядет. Это случится на шестой день. Но праведники в субботу воскреснут! Если вы покаетесь, наденете такой же Шелом и придете к нам – то тоже будете спасены!
– Ладно, ладно, тут вам не богадельня, чтобы проповеди разводить, – прервал Андрэ Семен Иванович, – лучше скажите, давно ли вы вступили в эту тоталитарную или, как вас там, шестого дня секту?
– Нет, недавно. А что?
– На Западе, небось, завербовали?
– Ну, знаете! Я бы попросил ярлыки не навешивать!
– Гражданин, не нервничайте! Я просто пытаюсь вам помочь!
– Ну, предположим, на Западе! Кто ж вам в Беларуси такой Шелом выдаст!
– Конечно, так я и думал! Вся зараза к нам с Запада ползет!
– Ну, знаете! Я, в конце концов, гражданин…
– Подождите, гражданин, – перебил Семен Иванович, – лучше скажите, вы в первый раз въезжаете на территорию Республики Беларусь в этом шлеме?
– В общем-то да. А что?
– Я так и думал, только что завербовали. А то, что это был первый и последний раз! В этой каске вы больше не сможете покинуть территорию Республики Беларусь!
– Почему же это я не смогу покинуть территорию Республики Беларусь в этой каске? – Андрэ начинал приходить в негодование.
– Да потому, что согласно закону предметы старины и искусства происхождением до тысяча девятьсот сорок девятого года запрещены к вывозу за пределы Республики Беларусь! А этот предмет культа, как заметно невооруженным глазом, относится к периоду до сорок девятого года. Сразу видно – львы на нем антикварные. Поэтому хоть он и ваша личная собственность, но в то же время является достоянием государства. То есть вы можете выехать лично, но каску должны оставить дома. А если поедете в ней, то мы вас никуда не выпустим!
Наступила гробовая тишина. Андрэ лихорадочно пытался осмыслить то, что сейчас услышал.
– Постойте, уважаемый! Так что ж получается? Я сейчас въезжаю в страну и никогда больше не смогу покинуть ее?
– Ну почему никогда? Снимете эту каску и поедете на слет вашей секты! Ну а если не можете, то тогда пускай они к вам! Ха-ха-ха! Правда, обратно в касках мы их тоже не выпустим, но, в конце концов, оставят у вас в шкафу на хранение до следующего приезда.
Семен Иванович был явно доволен своим ответом. Не всякий день выпадала ему удача усадить на задницу такого обнаглевшего сектанта, который ломится через границу чуть ли не на белом коне, да еще и в тевтонских доспехах. Однако, заметив искренний ужас, нарисовавшийся на лице Андрэ, он, немного смягчившись, добавил:
– А декларацию на предмет культа все же советую заполнить. Мало ли когда и куда она вам понадобится. Вдруг вас милиционер на улице остановит и подумает, что вы эту каску из музея украли.
Семен Иванович с важным видом развернулся и хотел было уже уйти, но что-то остановило его. Он опять взглянул на Андрэ и неожиданно промолвил:
– А ну-ка, давайте посмотрим, что там у этого служителя культа еще припрятано!
Андрэ, ошеломленный неприятным известием, начал обреченно вытаскивать из рюкзака лежавшие там вещи.
– А это что? – Семен Иванович держал в руках паранджу.
– A-а… это? Паранджа для моей жены!
– Она что у вас, мусульманка?
– Да нет! Я же вам говорил – в нашей секте очень строгие правила! Жены по субботам не имеют права выходить на улицу, не надев паранджу!
– А она, в смысле жена, уже знает про это?
– Пока в общем-то нет! Я еще не успел сообщить ей, что принял обряд.
– Ха-ха-ха! – развеселился Семен Иванович, – Вот, наверное, обрадуется! Но вообще-то в этом вопросе я вашу секту поддерживаю. Правильно! А то бабы вконец, дальше некуда, распустились! Особенно в выходные! Целый день перед глазами маячит, да зудит и зудит! Пусть бы лучше паранджу надела, чтоб ее хотя б видно не было! А это что? – Семен Иванович с удивлением разглядывал тещин сапог.
– Как что! Вы же видите! Сапог!
– А второй где?
– Зачем мне второй? Моя теща все равно одноногая! Ее пару лет назад трамвай переехал.
– Вай, несчастье какое! А мою тещу ни одна бля… ой, извините, переехать не может! Как же вы купили сапог без пары?
– Ну, это элементарно! Нашел в Берлине симметричную старуху и предложил ей купить на двоих одну пару. Большая, знаете, экономия!
– Да, одноногим с обувью проще. Ну ладно! Упаковывайте свои вещички и счастливого пути! Да! Декларацию не забудьте заполнить! А жене привет передавайте! Скажите, Семен Иванович такую строгость одобряет!
Андрэ вышел из таможенного зала на минскую сторону вокзала. Его организм бунтовал, требуя немедленно принять ну просто зверскую, нечеловеческую дозу никотина. Закурив, он сделал несколько глубоких затяжек и в задумчивости побрел по перрону. Дойдя до края платформы, обернулся. Прямо перед ним стоял еще один брат-близнец – помпезное, построенное в имперском стиле здание Брестского вокзала, которое венчал высокий шпиль с пятиконечной звездой. Правда, в отличие от предыдущих этот брат был совсем маленького роста. Скорее, из асфальта торчала только сплющенная его голова, а остальные части будто кто-то втоптал под землю.
«Ну, Фатерлянд, спасибо! – Андрэ отвернулся от «братца» и с тоской посмотрел на уходившие на запад рельсы. – Ну, удружил! Любишь порадовать хорошими новостями! Прав был Федор! Сволочи! Да что ж это такое! Этот предмет ваша собственность, но является достоянием государства! Бред какой-то! Что ж, теперь всю оставшуюся жизнь в болотах гнить? Должен же быть какой-то выход! Ладно! Куплю билет, и на Минск надо двигать!»
Андрэ кинул окурок и направился к торчавшей из земли голове. Около входа в нее он неожиданно нос к носу столкнулся с тем самым молодым таможенником, который первым досматривал его.
– Подождите, уважаемый! Я очень обеспокоен своим положением! Скажите, должен же быть какой-нибудь выход!
– Да вы не беспокойтесь, гражданин! – парень дружелюбно посмотрел на Андрэ и, вытащив пачку «Мальборо», закурил. – В конце концов, вам же можно снимать шлем по субботам, значит, по субботам и будете покидать пределы Республики Беларусь.
– А как же воскресенье?
– Воскресенье? А что, вы без него не воскреснете?
– Нет, я не в этом…
– Ах, в этом смысле! Ну, в воскресенье оденете другой шлем. Поэтому вам надо иметь два. Один здесь, а второй там, за кордоном!
– А может, есть другой вариант?
– На что это вы намекаете? – таможенник с опаской оглянулся.
– Нет, нет! Я не в этом смысле! Я имею в виду официальный вариант!
– А-а-а. Да, есть. Попробуйте обратиться в Министерство по делам религий и в Министерство культуры. Если они выдадут справку, что этот предмет культа можно временно вывезти за пределы страны, мы вас пропустим. Но, мой совет, киньте вы эту секту! Что, не могли себе что-нибудь попроще подыскать? А то церковь шестого дня какая-то. Запишитесь лучше в адвентисты седьмого!
– Да-да, я подумаю! Спасибо, вы меня немного успокоили!
Попрощавшись, Андрэ направился в билетные кассы, где к огорчению узнал, что поезд до Минска как раз недавно отправился, а следующий будет только через три часа. Купив билет, он решил, что неплохо бы перекусить, и вышел в город.
Вскоре он набрел на полуподвальное заведенье, что обращалось к улице своей непритязательной вывеской, на которой простыми трафаретными буквами было написано: «Пельменная». У входа в нее он чуть было не столкнулся с двумя сильно пожеванными подвыпившими пельменями, которые вывалились из подвала и, пошатываясь да за что-то браня друг друга, стали подниматься по лестнице.
Внутри заведение оказалось совсем скромного вида распивочной. Пельменей в ней, правда, не подавали. Вместо них на барной стойке лежали черные сухари к пиву, бутерброды с уже подвявшей форелью, вареные вкрутую яйца и что-то еще.
Посетителей в это время было не много. В небольшом полутемном помещении стояли высокие и липкие от пива столы. На каждом сиротливо маячили пустая салфетница и маленькое блюдечко с серой, крупного помола солью. За стойкой бара скучала молодая девица в белом халате. Другая барменша постарше и, видимо, главная здесь время от времени появлялась из боковой комнаты. Размеры она имела весьма внушительные, поэтому, чтобы пройти в зал, ей приходилось немного повернуться боком.
Взяв большой пластиковый бокал пива, пару яиц и две вареные сосиски, Андрэ пристроился за одним из столиков. Отпив половину, он тотчас почувствовал себя немного лучше. Тревожные мысли стали уходить, а съев сосиску, он и вовсе подумал, что все не так уж и плохо. Наверняка он найдет способ заполучить эту справку от министерства и его заточенье не будет вечным. Выпив еще, он огляделся.
В распивочной кроме двух баб у стойки находилось еще несколько человек. Через столик стояли два мужика. Один из них, тощий и длинный, ухватившись обеими руками за кружку с пивом, с дурацкой ухмылкой на лице, не отрываясь, смотрел на Шелом. Его сосед был уже крепко пьян, поэтому ни на кого смотреть не мог. Согнув голову над пластиковым стаканом, он уперся в него взглядом и совершал монотонные телескопические движенья вверх-вниз, как будто пытался навести резкость на муху, попавшую ему в пиво. Бабы у стойки также поглядывали на Шелом. Толстуха, чтобы лишний раз не протискиваться в дверь, время от времени высовывала голову из боковой комнаты и, кинув на него взгляд, опять исчезала.
Напротив стояла еще вполне молодая и, видимо, когда-то симпатичная дама с большим бланшем под правым глазом. На вид ей можно было дать лет тридцать пять и даже меньше, но сказывалось пагубное пристрастие, поэтому возраст ее определить было сложно. Как только Андрэ появился, дама сосредоточила на нем свой бланшированный взгляд и, судя по всему, очень хотела завязать разговор с необычным посетителем заведения. Видимо, остальные люди здесь ей были давно и хорошо известны, а потому скучны и малоинтересны.
– Позвольте, молодой человек, вступить с вами в разговор. – Наконец, не выдержав, обратилась она к Андрэ. – Нет-нет, вы не подумайте, я с самыми чистыми, благими побужденьями. Я вижу в вас человека нашего круга, интеллигентного и, наверно, нездешнего. Судя по всему, вы проездом в нашем городе.
– Я дожидаюсь отправления поезда, – Андрэ удивила странная манера дамы витиевато высказывать свои мысли. И хоть он был сейчас не склонен к общению, все же позволил даме продолжить.
– Далеко ли, милостивый государь, путь держите? Позвольте, я к вам. – Она прихватила недопитую бутыль с недорогим красным вином и переместилась за столик Андрэ. – А то с этими людишками и поговорить не о чем. О, посмотрите, как эта жердь худосочная на вас лыбится. Одно слово – идиот! Или вот те две курицы за стойкой!
– Прикрути фитилек! – толстая барменша высунула голову из проема. – На себя посмотри, баба-яга!
– Я еду в Могилев, – сделав глоток пива, ответил Андрэ.
– Я так и знала, что вы немец. Только речь у вас какая-то странная, не русская и не прусская. Знаете, сударь, вы не подумайте, ведь тоже когда-то хороша собой была. За первого мужа по любви вышла. Он, как и вы, офицером служил. Трех деток ему родила. Но знаете, страсть порочную он имел. Сначала карты, потом казино. Одним словом, азартные игры. В такой раж входил, что все спускал. Зарплату получит и туда. Проиграется, а утром приходит – ободранный весь, пьяный и глаза жалкие, как у собаки. Но все это еще полбеды. Так начал он деньги у маклеров под проценты занимать. В такие долги влез, что стали какие-то люди к нему приходить, угрожали, били его постоянно. Бывало, исколошматят, а он ко мне приползет, жалкий такой, и глазенками хлоп-хлоп. Прости, говорит, Катерина, меня, подлеца! Да, кстати, меня Катей зовут! Ничего, мол, не могу поделать с этой страстью порочной. А комнатка у нас маленькая. Да трое детей – мал мала меньше. Да голодные все. Денег, знаете, нету. А меньшой еще с голодухи все время орет. А он, подлец, на колени станет и смотрит на меня, как загнанная в угол скотина. А я уже сдерживать себя не в силах, как закричу на него – где деньги?! Что ж ты, мерзавец, опять все просадил! И за волосы его, и по комнате таскать, а он только и рад этому – по комнате за мной на четвереньках бегает и орет: и это мне в наслажденье! И это мне в наслажденье!
– Вы, сударь, часом, картишками не балуетесь? – дама выпила, взяла с тарелки Андрэ вареное яйцо и, очистив, макнула в солонку.
– Сука Лебезятников! Прибил меня месяц назад! Ну, так вот, – продолжала особа, – извел он меня, истерзал вконец, а в один день взял да исчез. То есть совсем! Пропал! Утром ушел на службу и не вернулся! Я к командиру части. Нет, не к Лебезятникову. Тогда у них погранзаставой командовал полковник Клопшток Иван Иваныч. Я ему так и так, где мой муж? А он говорит – как же? Вчера был, смену сдал и ушел, а сегодня еще не приходил. Ну, так он и на следующий день не пришел, и в последующий. И никогда больше не приходил! Вы, сударь, на поезд не опаздываете?
Дама взяла сосиску с тарелки Андрэ и продолжила, не дожидаясь ответа:
– Вот и замечательно! Второй муж меня с тремя детьми взял. Приличный такой человек! Тоже служивый – здесь на таможне работает. Старше меня, правда, намного, но кто ж с тремя-то возьмет. А в моем положении выбирать не приходится. Он предложил, я и пошла. Нет-нет, вы не подумайте! Но я ж тоже, знаете, когда-то была! В Петербурге гимназию с красным дипломом закончила! Русскую литературу преподавала. Но, знаете, от первого мужа страсть пагубную и я заимела. Нет, не карты! Начала водочку попивать. Ну, понимаете, безденежье, нищета, на нервах все. Так я опрокину стаканчик, и глядишь, уже легче. Одним словом, прилипла я к этой заразе! И понимаю, что плохо это, но ничего не могу с собой поделать! Словно червь какой изнутри гложет! Вот видите, как изъел меня паразит – совсем тощая стала!
– Да ты и раньше худая, как швабра, была! – донеслось из проема.
– Гляньте-ка, ведьма! Вы посмотрите, как ее разнесло. Да она ж в дверной проем влезть не может. А потому, что совести у нее нет! Ведь совесть и есть тот червяк, что гложет человека. Если он внутри сидит, и греха на тебе много, то он жрет тебя, жрет, пока только пустая оболочка от тебя не остается. А эта воровка, гляньте на нее, каждый день две сумки отсюда прет, да еще барышничает. Давеча часы ей заложила. Так что вы думаете, она мне дала? На три «Радзивилла» даже не хватило. А ее все прет и прет! Скоро уже и боком в дверь не пролезет! Надо будет краном через окно ее отсюда вынимать!
Дама, макнув сосиску в солонку, откусила половинку. Только сейчас Андрэ заметил, что на бутыли с вином витиеватой каллиграфической вязью было написано – «Сокровище Радзивиллов».
– Да, сука Лебезятников! Ну так вот, милостивый государь, что я вам скажу! Сначала муж новый мне деньги давал. Он на службу, а я по хозяйству – в магазин сходить, обед ему и детям приготовить. А сама по дороге в рюмочную зайду, на обратном пути еще разок. Дальше – больше. Дошло до того, что стала я получку его пропивать. Он принесет ее со службы, через несколько дней глядь – а ничего уже и нету. Понял он эту проблему – начал сам все покупать. А мне так, немного мелочи кинет. А потом и вовсе перестал давать. А я ж нигде не работаю. Сами понимаете – трое детей. Так стала я потихоньку вещички из дома выносить. Бывало, он с работы придет, сядет на диван и спросит: «Катюша, а где та вазочка, что вчера тут стояла?» А вазочки, сударь, уже давно и след простыл. Так он меня по глазу – хрясь! Другой раз придет да скажет: «Катя, а где это у нас утюг запропастился?» И бемсь! – кулаком мне в живот! В общем, начал он, любезнейший, бить меня. И поделом! Я же понимаю, что сука неблагодарная. А ничего не могу с собой поделать. А одного дня явился он со службы, сел на диван телевизор посмотреть, глядь – а телевизора-то и нету!
Катерина положила в рот вторую половинку сосиски и, вздохнув, продолжала:
– В общем, принялась я все из квартиры выносить. Книги, белье постельное, сервизы, Достоевского собрание сочинений, шторы с окон сняла, даже ботинки его пропила. А бывает, сударь, он бьет меня да приговаривает: «Вот тебе, собака москальская, за вазочку! Вот тебе за утюг! Вот тебе за голодомор! А это тебе за Федора Михайловича!» А муж мой, тоже, знаете, из образованных будет. И фамилия у него благородная – Сапегов. В Минске он в университете учился. А когда границы появились, его на таможню пригласили. А теперь время сами представляете какое. Так он на службе и виду не подает. А с работы придет, приемник к уху приставит да целый вечер на кухне «Свободу» слушает и приговаривает: «Ну, оккупанты поганые, придет час, устрою я вам Оршу!» А приемник тот он всякий раз на службу забирает, боится, что и его «Свободу» из дома снесу.
Дама замолкла, взяла у Андрэ сигарету и спросила закурив:
– Скажите, сударь мой, а приходилось ли вам когда-нибудь пять суток ночевать на Брестском вокзале? А я уже пятые сутки! В общем, вынесла я из квартиры все! Так что выносить уже стало нечего. А пятого дня пошел он на службу в свою канцелярию, а я последнее, что оставалось, – парадный вице-мундир его с вешалки сняла да заложила! Нет, вы не подумайте, не здесь! В другой пельменной, на Краснофлотской. Эта крыса мне за него столько б не дала.
– Это я-то крыса? Ну-ну, придешь ты ко мне еще похмеляться! В ногах валяться будешь! Я тебе крысу припомню! – в этот раз толстуха в негодовании вылезла всем корпусом из боковой комнаты, схватила тряпку и стала нервно и как-то бестолково протирать липкие столы в зале. Подойдя к столику, за которым стояли долговязая жердь с телескопическим пьяницей, она грозно посмотрела на первого и рявкнула:
– А ты чего лыбишься? Рот закрой, идиот, а то муха залетит! – с этими словами толстуха выхватила у него пустую пластиковую кружку и как бы нечаянно всем корпусом двинула телескопа. Тот повалился на пол, тяжело застонал и начал совершать неуклюжие движения конечностями, словно большой краб, которого опрокинули на спину.
– Э-э… Ты! Да-ай поме-ерять, – растягивая слова, вдруг промычал долговязый.
Взглянув на опустошенную Катериной тарелку, Андрэ промолвил:
– Ну что ж, пора!
– Как пора? Подождите, сударь! Я ж еще не все рассказала!
Вернувшись на вокзал, Андрэ нашел свободную скамейку и уже не вставал с нее до прихода поезда.
Когда подали вагоны, он уселся на своем месте и, не обращая внимания на суету вокруг, до Минска опрокинулся в сон.
Белая Русь
– Глянь, зверье какое! Ишь, пасти раззявили!
– Солдат, наверно! Из части, на побывку возвращается!
– Из какой части? Форма-то на нем не наша!
– Эй! Вставай! Приехали!
– Посмотри, как бедного разморило! Не разбудить!
– Немец что ли?
– Где ты видела таких небритых немцев? Это француз!
– Эй! Парле ву франсе, приехали! Минск уже!
Открыв глаза, он увидел двух проводниц, склонившихся над его лицом.
– Вставай! А то дальше до Москвы поедешь! Ха-ха-ха! Андрэ поднялся и, пытаясь спросонья сообразить, где он, двинулся к выходу.
На перроне минского вокзала было зябко, темно и неуютно, поэтому без перекура он сразу направился к подземному переходу. Наверху город переменился и, переливаясь ночными огнями, уже встречал его помпезным великолепием площади Ворот. Прямо перед Андрэ в неоновой подсветке стояли две высокие симметричные башни. Они тоже могли стать его близнецами, но в свое время голов со шпилями им так и не приделали. Поэтому сейчас они больше напоминали два величественных богато декорированных аристократических туловища с орденами, ордерами, бантами, рюшами и манжетами, которых после гильотины посадили на площади для торжественной встречи гостей, прибывающих в город.
У Андрэ было странное отношение к Минску. В его витиеватой имперской красоте заключалось для него что-то языческое. Имперскость Парижа, Берлина, Вены была логична, понятна. Ее можно было принять, объяснить, смириться. Здесь же складывалось впечатление, что Империя строила этот город в момент помутненья рассудка, когда она, вконец свихнувшись от собственного всесилия, принялась отплясывать странные архитектурные танцы, смешав в одно краковяк, прусский марш, венский вальс, польку, калинку-малинку, еще один прусский марш и погребальный обряд времен Рамзеса Второго.
Стрелки часов на одной из башен приближались к десяти, но привокзальные кварталы были заполнены праздношатающимся народом, который, как обычно к ночи, стягивался сюда со всех концов города и бродил между бесчисленного количества открытых допоздна рюмочных, ресторанов, казино и винных магазинов. Оставив за спиной аристократические торсы, красовавшиеся в желтом свете кучерявыми воротничками, рюшами, аксельбантами и накладными карманами, Андрэ вышел на улицу Кирова.
Начало ее составляли два длинных и также симметричных здания, образовывавших вместе глубокое каменное ущелье. У подножия ущелья возле ночных магазинов сновали подвыпившие малолетки, разгульного вида девицы, старухи, привокзальные нищие и прочий пестрый народец. Он как-то слабо сочетался с окружающим его пафосным стилем и скорее походил на вторжение варваров на виа, пияцци и паллацио Древнего Рима. Проходя мимо очередного гастронома, у витрины которого клубилась компания подвыпивших гуннов, Андрэ решил, что явиться в гости с пустыми руками было бы не совсем правильно, и направился ко входу.
Войдя в высокий, тускло освещенный зал с громоздкими коринфскими колоннами, насквозь пропитанный едким сладковато-горьким бакалейным запахом, Андрэ уткнулся в коротко стриженый затылок длинной очереди, выстроившейся в винный отдел.
Очередь двигалась медленно, поэтому, рассмотрев снизу доверху содержимое прилавка, он уже начал было со скуки изучать морщинистую шею мужика перед ним, как вдруг почувствовал на себе пристальный и неприятный взгляд. Поначалу он не придал этому особого значения и попробовал было развлечь себя еще и большими разлапистыми ушами, но странное ощущение не проходило. Некто, стоявший сзади, буквально сверлил его взглядом. Какое-то странное беспокойство начинало охватывать Андрэ. Постояв еще пару минут, он, наконец, не выдержал и обернулся…
Четырнадцать глаз молча, в упор смотрели на него. «Тьфу! Идиоты! – буркнул он про себя, повернувшись обратно. – Пялились бы лучше на прилавок! Вон, сколько вкусного для вас приготовлено!» Очередь по-прежнему еле шевелилась. Молодая продавщица, отпускавшая товар, видимо, так увяла за день, что теперь двигалась как в полусне. Кроме бакалейной горечи в магазине воняло еще какой-то гнилью. В глубине зала маялся также слегка подвявший за день милиционер и с провинциальной скукой в глазах посматривал то на потертый мозаичный пол, то на него. В какой-то момент Андрэ захотелось все кинуть, развернуться да уйти, но теперь жаль было покидать очередь, больше половины которой он уже простоял.
Неприятное ощущение не проходило, напротив, оно с каждой минутой росло, увеличивалось, все сильнее затягивая его в бермудский треугольник непонятной тревоги. Казалось, в этих Бермудах было нечто большее, чем просто сумма четырнадцати сверливших его любопытных глаз. Среди них явно присутствовали те два особенных, которые и вызывали это мерзкое чувство. Андрэ почти затылком ощущал, как они буравили его злыми экстрасенсорными дрелями, пытаясь проникнуть внутрь его Шелома.
Не выдержав, он обернулся еще раз. Теперь на него смотрели уже двадцать три пьяных глаза. Какой-то мужик с забинтованной головой одноглазо пялился на него из хвоста очереди. Андрэ начал всматриваться в лица гуннов, стоявших за ним. Рядом шатался подвыпивший дед, за ним три пацана, тетка с высоким шиньоном, еще один крепко поддавший мужик, старуха, за ней ветеран, две девицы, еще один дед и, конечно, он сразу вычислил его – мерзкий тип в сером костюме. Он единственный не отвел взгляда, когда Андрэ посмотрел на него, но продолжал сверлить его неприятными злыми глазами.
«Фу, гнусный тип! Почему он так смотрит на меня? И почему он в сером костюме? – встревожился Андрэ. – Он не похож на этих гуннов. И почему они все молчат? Мерзкая тишина. И этот одноглазый туда же. Одной линзой, но все равно пялится. Чертовщина какая-то! Фу! Ну и воняет же здесь!»
Находиться в магазине становилось все нестерпимей. Но когда в хвост очереди пристроились два хмельных пацана и один из них громко рявкнул: «Смотри, на хуй, кайзер!», нервы Андрэ сдали, и Валенрод вдруг прорычал:
– Что пялитесь, собаки! Живого кайзера не видели?
Дамба молчания в зале тут же рухнула и все стоявшие в очереди вдруг залаяли, загалдели, затявкали, затрещали двумя десятками шипящих, свистящих, пьяных, трезвых и с хрипотцой голосов:
– У нас в дурдоме один тоже себя кайзером называл! Только он говорил – я, бля, Отто фон Бисмарк!
– Так он и есть из дурдома! Что, не видите? Выпустили из «Новинок» на пару дней погулять!
– А я бы таких без намордника не выпускал!
– Нет! Он не из дурдома! Это клоун из цирка!
– А что? Прикольный пацан!
– Мы таких прикольных в свое время расстреливали!
– Да, Сталина на них нет! Распустились сволочи!
– Ва-абшчэ ахранели! Уже у фашистских касках по городу ходюць! А ад них тут кажды чатверты пагиб!
– Это они тут в столицах ходят! У нас в Марьиной Горке мигом рога бы обломали!
– Да какой он фашист! Это футбольный фанат! Они любят такие каски рогатые надевать!
– Знаем мы этих фанатов! Вон недавно в Москве на Черкизовском рынке бойню устроили! Пятнадцать азербайджанцев замочили!
– А я возле стадиона живу! Так на днях во дворе наволочки повесила, а их какие-то козлы рогатые утащили!
– Сейчас надо все на сигнализацию ставить! А лучше еще и ток подвести! Чтоб подошел, только цап – и брык на землю!
– У нас на даче один так и сделал. Чтоб банки с огурцами не украли, так он оставил на столе бутылку гарэлки, какого-то дусту туда подсыпал и в Минск. Три гадюки в окно залезли, выпили и брык на землю. Восемь лет дали!
– А я б его оправдал! Так и надо этому змию Гарэлычу! Нужно, как в Китае, сделать: украл – чтоб руку сразу отрубили!
– Это не в Китае, а в Турции!
– Нет! В Турции вора в чан с дерьмом сажают. А над ним янычара! И раз в минуту этот янычар над чаном саблей взмахивает! Если не успел в дерьмо с головой нырнуть, то он её и сносит на хрен!
– Правильна Батька делае, што гэтых варуг ганяе! А то совсем обнаглели! Вон что сегодня на Октябрскай устроили! Мятеж настояшчы! Даже Прашпект перакрыли! ОМОН тры часа не мог разагнать!
– А ты, старый хрыч, заткнись! Из-за таких, как ты, сами в чане с дерьмом сидим!
– Это кто тут собака?
– А что ж они хотели, эти торгаши? Спекулянтские рожи! Пусть идут на завод работать! На тракторный! Или в колхоз! Мало их ОМОН сегодня дубасил!
– Да-да! Жулье! Правильно их Батька называет – вшивые блохи! А этот в каске тоже ихний! Сразу видно, бэнэ-эфовец! Они все в таких касках ходють!
– Вшивых блох не существует в природе! Где вы видели, чтоб блоха еще и вшивая была?
– Да точно! Это Америка им такие каски выдает! Чтоб они по всему свету ездили и страну нашу позорили! Эти еще хуже спекулянтов! А главный у них – Позняк!
– Нет, это кого он тут собакой назвал!
– Если вошь на блоху залезет, вот и будет тебе вшивая блоха! Ха-ха-ха!
– А вот недавно в «Комсомолке» писали, что в Москве крысы-людоеды завелись! Размером со свинью, и живут в метро! Так они, говорят, уже трех машинистов и двадцать пассажиров сожрали! Представляете, вот такущих размеров и злые-презлые!
– Да, да, я про это слышал! Говорят, туда под землю целую дивизию снайперов отправили, чтоб крыс этих истребить! Но ничего пока сделать не могут! Им тоже всем такие каски выдали! Потому что эти крысы сами первые на людей прыгают! Представляете, он идет по туннелю, а эта свинья на него сверху прыг! Потому им не простые, а каски со шприцами на конце выдали, чтоб крысы на них как на шампур нанизывались!
– Если там завелись, то скоро и у нас объявятся! Все крысы к нам из Москвы ползут!
– Может, и этот из Москвы? К нам приехал по обмену опытом!
– Эй! Вы брать что-нибудь будете?
– Бутылку «Белой Руси» и два сырка «Дружба»!
Кинув бутылку в рюкзак, Андрэ вышел из магазина. Последняя фраза, которую он еще слышал: «Нет, я не понял! Это кого он собакой назвал?» – принадлежала одноглазому, который, стоя в оцепенении, будто изумленный, вглядывался единственной линзой в некую невидимую точку. Только тип в сером костюме все это время молчал. У выхода взгляд Андрэ снова пересекся с его глазами, от которых повеяло чем-то настолько зловещим, что маленькие блохастые вши и резвые вшистые блохи пробежали по его коже.
На улице он повернул на Свердлова и направился в сторону площади Ленина. Странный тяжелый взгляд не давал покоя. Чувство тревоги не проходило. Ему казалось, что колючие глазки по-прежнему наблюдают за ним.
Не дойдя до площади, он свернул на улицу Маркса, прошел метров двести и обернулся. Вокруг было темно и довольно пустынно. На террасе у кафе «Грюнвальд» сидели редкие посетители, из ресторана Дворца шашек и шахмат доносилась музыка, несколько парочек прогуливались под липами, два пьяных мужика вышли из «Трактира», но в целом все было спокойно.
Через пару минут он обернулся опять. Особых перемен Андрэ не заметил, лишь метрах в двухстах показались две мужские фигуры, которые шли в его сторону.
«Черт знает что такое! Опять паранойя!» – закралось сомнение в голову, но все же он решил свернуть на более многолюдную улицу. На углу Комсомольской он вышел на бульвар и двинулся в сторону Проспекта. Здесь было гораздо оживленнее. На скамейках у памятника Дзержинскому сидели шумные компании молодых людей, которые потягивали пиво из больших пластиковых бутылок. Временами бульвар оглашал их веселый языческий рогот.
На углу Комсомольской перед Дворцом госбезопасности Андрэ обернулся опять и с тревогой отметил, что два силуэта с улицы Маркса, также свернув, следовали за ним. Что-то неприятно кольнуло внутри: «Чушь! Не может быть! Просто совпаденье!» – но на всякий случай он зашагал немного быстрее. Дойдя по Проспекту до улицы Ленина, Андрэ еще раз посмотрел назад и… О, ужас!!! – те два типа по-прежнему шли за ним!
Он быстро нырнул в переход и через минуту был у Макдональдса. Миновав Центральный универсам с веселившимися около него малолетними готами, он оказался на Октябрьской площади и решил было кинуться вниз по улице Энгельса до Интернациональной, чтобы там коротким путем через парк на Красную, но, сообразив, что в его положении пробираться сейчас через безлюдный парк опасно, двинулся дальше по Проспекту.
Миновав быстрым шагом Октябрьскую площадь, он снова обернулся. Народа на площади было много. Большие плюшевые мишки компаниями прогуливались под гигантскими колоннами Дворца Республики, держа в руках увесистые бутыли с пивом. Но тени с улицы Маркса неотступно следовали за ним! Ужас и паника охватили Андрэ! Он кинулся дальше по Проспекту, но теперь уже не шел, а скорее, бежал. Миновав роскошные колоннады Дворца профсоюзов, Дворец офицеров и еще какой-то безымянный хмурый Дворец, он выскочил к колизею Цирка. Тут начинались парк Горького и известная всему городу стометровка, на которой промышляли путаны. Андрэ услышал, как одна из них смешливым голосом окликнула его:
– Эй! Солдатик! Сестра милосердия не нужна?
Но ему было уже не до смеха. Паника гнала его все дальше и дальше. Не обращая внимания на прогуливающихся людей, на путан у дороги, он бежал в смятении вдоль длинной лепной балюстрады с большими, высотой в человеческий рост белыми вазами. Метров через пятьсот впереди уже светилась огнями площадь Победы. Андрэ не оглядывался, он чувствовал – тени с улицы Маркса тоже бегут за ним. Казалось, стоит ему обернуться и он увидит их, готовые броситься на него, собачьи пасти прямо перед собой.
Добежав до конца балюстрады он свернул перед Вечным огнем, миновал музей первого съезда РСДРП и уже летел по Коммунистической в направлении Красной. Слева от него громоздились высокие кроны темного парка. За гранитными набережными в свете полной луны безмолвно мерцала Свислочь. Улица была безлюдна. От этого еще большая жуть охватывала Андрэ. Он бежал по пустынной улице, освещенной редкими фонарями, и, казалось, слышал за спиной бронзовый стук копыт погони по камням мостовой.
До спасительного убежища оставалось совсем чуть-чуть. За грузными колоннами Дворца телевидения уже виднелся шпиль дома на улице Красной. Добежав до него, Андрэ кинулся к массивным лепным воротам и влетел в большой, совершенно темный безлюдный двор. Это было идеальное место для расправы над ним. Но выбора не было. Спасительное убежище находилось именно здесь.
Собрав последние силы, он в ужасе пронесся сквозь темноту, вскочил в подъезд и через мгновение уже стоял у двери. Тяжело хрипя, задыхаясь, ожидая, что преследователи вот-вот появятся на лестничной клетке, он принялся звонить, барабанить в дверь руками и ногами. Когда же она отворилась, он, не говоря ни слова, влетел внутрь, захлопнул ее и тотчас запер на все имевшиеся засовы.
– Что случилось? Ты влетел как полоумный!
– За мною погоня!
– Ну, наконец-то дождались! Неужели всадник на белом коне? – перед очумевшим гостем в домашнем атласном халате стоял Егор, хозяин квартиры.
– Какие-то два типа в серых костюмах! Два привидения с улицы Маркса! – ткнув Святополка мордой в дерматин обивки двери, Андрэ прислушался к звукам в подъезде. – Пойдем внутрь, может, сейчас они стоят под дверью! Одного я встретил в ночнике на Кирова. Откуда другой взялся, не знаю! Наверно, поджидал его на улице! Не знаю, чего им нужно, но они шли за мной от самого вокзала!
– Так, может, это и были Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом собственной персоной? – недоверчиво посмотрев на гостя, с иронией спросил Егор. – Не обратил внимания, не имелось ли у этих господ двух больших роскошных бород?
– Доставай стаканы! Стресс надо снять! – тяжело дыша, Андрэ вытащил из рюкзака бутылку «Белой Руси».
– А!!! Теперь понимаю, чем ты им насолил! Конечно же, этот прусский шлем! А знаете ли вы, Андрей Николаевич, как относились Карл Маркс и его вечный соратник Фридрих Энгельс к германскому империализму?
– Прекрасно относились! Сами империалистами были! Считали, что миссия германцев – цивилизовать славянские племена. Почитай Бердяева!
– Да ну! Не может быть!
Егор вышел и вскоре вернулся на кухню, держа в руках малую книжицу. Открыв ее, он зачитал наугад:
– «Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой».
– Ну и причем тут германский империализм?
– А черт его знает! Я и сам не уловил! – ответил Егор, – но хочешь, я пойду Карла и Фридриха лично спрошу! Наверняка они сейчас, скрестив бороды, оттопырили уши пошире и слушают под дверью, о чем мы здесь говорим! Пусть объяснят, чего они тут понаписали!
– Мне сейчас не до шуток, – немного отдышавшись, Андрэ добавил: – Послушай, мне нужно помыть голову.
– Какие проблемы? Вон ванная – иди и мой!
– Но мне нужна клизма!
Егор удивленно уставился на Андрэ.
– Да, не думал, что твой империализм зашел так далеко! Но на этот счет у Маркса тоже цитата имеется.
– Хватит мне этот империокритинизм цитировать! Я должен помыть голову, не снимая Шелома! Потому клизма! – раздраженно прервал его Андрэ.
– Клизма у меня только литровая, – с легкой обидой в голосе произнес Егор.
– Годится! Больше не надо!
Достав из буфета две стопки, хозяин квартиры наполнил их и поднял первый тост:
– Ну что ж, Андрей Николаевичу вижу, вы полны новых творческих задумок! За то, чтобы в вашей цивилизаторской миссии вам сопутствовала удача!
Он выпил, хрустнул маринованным огурчиком и уже серьезно добавил:
– В последние дни у нас неспокойно! Мелкие лавочники бунтуют. Батька какой-то очередной указец подмахнул, так что, видимо, кранты им наступают. Сегодня на Октябрьской целый день митинговали. По городу ищейки шастают, зачинщиков ловят. Может, эти два привидения с улицы Маркса тоже из охранного ведомства. Подумали, какой-то бунтовщик из-за границы вернулся.
– Да, типа Владимир Ильич Ленин! Получил грант германского генштаба и тайно приехал переворот совершить! – раздраженно ответил Андрэ.
– А что? – оживился Егор. – Ты на поезде приехал? Да, как Ленин, на поезде! Из Германии? Из Германии! То, что грант немецкого генштаба получил, так это у тебя на лице, то бишь на лбу написано! И вот представляешь, шныряет какой-нибудь шпик по городу, и вдруг – ба! какая удача! навстречу Ульянов собственной персоной, только что из поезда вышел и направляется на конспиративную квартиру! Ну, замаскировался, правда, под оберштумбанфюрера, в ночник зашел бутылочку водки купить для теплой встречи с товарищами по партии. И что же ты думал? Они на хвост тебе не сядут? Так что, батенька, сейчас эта явка провалена!
Андрэ выпил, кинул в рот ломоть плавленого сырка «Дружба» и, немного картавя, произнес:
– Да, товагищ Егог, вы чегтовски правы! Пишите обгащение к габочим! Товагищи! Власть сатгапа сегодня слаба как никогда! Несите сюда ваше полотенце, шампунь и клизму! – с этими словами он зашел в ванную комнату и крикнул вдогонку: – Пгомедление смегти подобно!
Мытье головы оказалось делом непростым. Сперва Андрэ наклонил ее и залил внутрь Шелома изрядное количество воды. Затем поднялся и вылил обратно. Правда, намокла одежда, поэтому после первой попытки пришлось раздеться. Повторив эту процедуру несколько раз, Андрэ взял клизму и наполнил ее шампунем. Запустив раствор под Шелом, он принялся вращать его руками вокруг головы до тех пор, пока тот не намылил волосы. Затем он в несколько приемов смыл пену и попросил у хозяина дома фен.
– Так что же, ты собираешься ходить с этим приветом по городу? – спросил Егор, когда Андрэ вернулся на кухню.
– Что значит «с приветом»? – не понял вопроса Андрэ.
– Ну как же, шлем по-белоруски – шалом, а шалом на семитских языках – приветствие! Так что теперь ты человек «с приветом».
– Собираюсь.
– Э, батенька, боюсь, пролетариат вас не поймет!
– Мне плевать, чего он там не поймет, – мрачно ответил Андрэ.
Посидев еще какое-то время на кухне, они отправились спать. Впервые за последнюю неделю у Андрэ появилась возможность выспаться в нормальной приличной постели. Он наконец-то разделся, сдвинул подушку в угол, улегся так, чтобы Шелом не упирался в спинку кровати, и тут же заснул.
– Вот он!
– Где?
– Да вон! В каске! Хватай его! Уйдет, сволочь!
Обернувшись на крик, Андрэ увидел в метрах пятидесяти перед собой вчерашних типов, двух гончих псов в серых костюмах! «Промедление смерти подобно!» – мелькнуло в голове, и со всех ног он кинулся наутек.
Он летел по площади, на Шеломе кувыркались онемевшие от страха львы, а под ним мысли: «Боже! Зачем я здесь оказался?! Зачем опять поперся на Октябрьскую площадь?! Меня же предупреждали – здесь неспокойно! Шпиков больше, чем демонстрантов! Ведь было ж понятно, сейчас начнется хапун!»
Он влетел в арку на Энгельса и побежал через двор к проходу напротив. За спиной раздавались задорные крики:
– Резвый, сука, попался! Ну, ничего! Не уйдет!
Двор был заполнен автобусами с людьми в масках и черных бронежилетах. С площади доносился многотысячный гул и веселая песня: «.„А я лягу, прылягу, край гасцинца старога», которую включили специально, чтоб заглушать выступавших. Мегафоны в сотый раз повторяли:
– Граждане! Ваш митинг не санкционирован! Немедленно расходитесь! Иначе к вам будет применена сила!
Добежав до арки, Андрэ неожиданно столкнулся с бомжем, который поднимался из подземного туалета, неся в руках две сетки пустых бутылок. Одна из них выпала, и посуда, звеня, посыпалась на тротуар.
– Ах ты, педераст! – послышалось вслед, но оспаривать это утверждение не было ни секунды. Выскочив на Ленина, Андрэ хотел кинуться к Проспекту, но заметил, что его оцепили. Омон двумя рядами перекрывал тротуар, не выпуская никого с площади. Оставалось одно – бежать в сторону Интернациональной. Долетев до нее, он заметил, что вся улица сплошь заставлена большими зелеными грузовиками с солдатами, поэтому побежал дальше в сторону Революционной.
Возле Ратуши он кинулся влево и пересек Ленина прямо перед носом колонны больших черных машин. Это были МАЗТы, тюрьмы на черных МАЗах. Они предназначались для демонстрантов и появлялись всегда, когда в городе было неспокойно. На Революционной Андрэ краем глаза заметил, что погоня немного отстала. Серые гончие стояли на другой стороне и ждали, пока проедет колонна решетчатых тупорылых будок.
Это обстоятельство давало небольшой запас времени. Воспользовавшись моментом, Андрэ нырнул в подворотню и оказался в узком высоком колодце двора. Увидав в конце его открытую дверь, он, не раздумывая ни секунды, кинулся к ней, спустился по ступенькам и, проскочив коротенький коридор, оказался в небольшой темной комнате.
Сердце бешено колотилось. Легкие с жадностью хватали воздух, но он все равно задыхался, словно большая рыба, что лежит на песке, делает судорожные движения жабрами, но по-прежнему не может избавиться от удушья.
Смекнув, что погоня отстала, Андрэ осмотрелся. Комната была без окон. С потолка свисала лампочка без абажура. Хотя она и давала немного света, но помещение казалось все равно темным. У стены стоял старый канцелярский стол, подле него стул, рядом были свалены большие коробки. В углу за столом виднелась запертая дверь в другую комнату. Стены, которые давно, видно, не красили, пестрили замысловатыми разводами от подтеков воды. Кое-где их закрывали плакаты с сиськастыми девками, котятами, выглядывавшими из корзин, и почему-то портрет Президента. Он висел прямо над столом и, раскинув роскошные усы, добрыми бархатными глазами смотрел на Андрэ.
Неожиданно дверь в соседнюю комнату открылась, и из нее вышел невысокий мужчина с залысиной на голове, одетый в темный фиолетовой халат. Увидев Андрэ, он нисколько не удивился, а только спросил:
– Вы картридж заправлять?
– Да, да! Я картридж заправлять! Сейчас, дайте отдышаться немного! – хрипя проговорил Андрэ и присел на стоявшую рядом лавку. Только теперь он заметил, что в коробках, раскиданных по всему помещению, лежали огромные картриджи. Его немного удивило, что они бывают таких странных размеров.
Прошло минут десять. Мужчина в халате за столом, не обращая более на Андрэ никакого внимания, принялся перелистывать какие-то бумаги. В комнате было тихо. Огромные картриджи загадочно поблескивали в полумрачном желтом свете. Лишь только шелест изредка переворачиваемых страниц нарушал странное спокойствие мастерской. Придя немного в себя, Андрэ прикинул, что выбираться улицей сейчас будет опасно – наверняка погоня где-то рядом, поэтому он решил, что лучше прокрасться дворами до Центрального вокзала, там доехать троллейбусом до Восточного, а оттуда – автобусом в Могилев.
Он вытянул из рюкзака недопитую в Варшаве бутылку «Крупника», сделал пару глотков и направился к двери:
– До свиданья!
– Всего доброго! Заходите к нам завтра! – ответил мужчина, не поднимая головы.
– Да-да, непременно зайду.
Выйдя во двор, он перемахнул через кирпичный забор и направился к подворотне, что выходила на Комсомольскую. На углу он осторожно выглянул наружу. Вокруг было тихо. Единственное, что тревожило, – странная пустынность этой обычно многолюдной в такое время улицы.
Перебежав на противоположную сторону, Андрэ оказался во дворе, где также никого не было, кроме старухи в желтом халате, которая, высунув ноги из окна, читала газету. Проскочив в следующий двор, он наткнулся на милиционера, копавшегося под капотом автомобиля. Добежав до арки, он заметил, что колес у машины не было и всем брюхом она просто лежала на асфальте. «Наверно, не ремонтирует, а скручивает что-нибудь», – подумал Андрэ и вышел на опустевшую улицу.
Пересекая Городской Вал, он вдруг заметил зеленые машины с солдатами. Они поворачивали вдалеке, из-за угла Дворца госбезопасности, и медленно двигались в его сторону. Путь к вокзалу теперь лежал только через Писчаловский замок. Он поднял взгляд на мрачные стены старой городской тюрьмы и с ужасом обнаружил, что несколько этажей высотного архива Министерства внутренних дел, который стоял рядом с замком, объяты пламенем. Из трех рядов окон, образовывавших вместе правильный квадрат, валил густой черный дым.
В городе происходило что-то ужасное. Паника снова охватила Андрэ. Собрав силы, он пустился вверх по улице. Пулей взлетел на гору, пробежал мимо безмолвного Замка, окутанного горьким, едким запахом гари, и когда уже был у колонн Русского театра, его двери внезапно раскрылись и на улицу посыпали хасиды. Множество мужчин с седыми бородами, в черных одеждах и широкополых шляпах, о чем-то громко споря на непонятном ему языке, спускались по ступеням. «Странно, – удивился Андрэ, – не знал, что в Русском опять открыли синагогу».
Пробежав мимо толпы, он вдруг услышал у себя за спиной топот множества ног и, обернувшись, оторопел от неожиданности. Хасиды с криками и с развевающимися на ветру пейсами неслись прямо на него.
– Вот он, шлемазл! Хватай! – призывал один из них, потрясая семисвечником, таким же, какой стоял в берлинской мастерской Федора.
Андрэ подскочил на месте, как кот, перед которым внезапно оказалась злая собака, и понесся в сторону Проспекта. Но на углу он заметил тех типов в серых костюмах. Они стояли у казино гостиницы «Минск» и курили с девицами.
– Да вот же он! Крыжачок недобитый! – закричал один.
Перелетев на другую сторону Проспекта, уже через мгновенье Андрэ бежал вниз по Володарского. До вокзала оставалось немного. Кратчайшим путем он пересек сквер, но, когда выскочил на Кирова, вдруг увидел широкую траншею высотой в человеческий рост, которая шла поперек улицы, полностью перекрывая подступы к вокзалу. Он понял, что попал в западню. Увидав рядом дверь, он кинулся к ней и неожиданно оказался в том самом магазине, где покупал вчера водку. В нем по-прежнему толпился народ. Те же пьяные гунны, которых он видел вечером, все так же стояли в очереди в винный отдел. Правда, теперь помещенье казалось сильно прокуренным. Видимо, гунны курили всю ночь в ожидании его. Густой сигаретный дым, смешиваясь с тусклым светом, который проникал сквозь запыленные витрины, поднимался к потолку зала, пряча за едким туманом капители коринфских колонн.
С криками: «За мной гонятся! Пропустите меня без очереди!» – Андрэ начал протискиваться к прилавку.
Гунны в магазине недовольно загалдели, но, не обращая на них внимания, он упорно пробирался вперед, и когда, наконец, распихав всех, оказался у прилавка, то с удивлением обнаружил за ним вместо вчерашней вялой продавщицы трех осанистых мужиков с огромными седыми бородами. Карла и Фридриха он узнал сразу, третьим в компании классиков почему-то был поп в православной рясе и высоким колпаком на засаленной голове. Вид у всех трех был изрядно помятый, казалось, они тоже курили и пили всю ночь, поджидая его.
– Дайте мне бутылку водки и два сырка «Дружба»! Только побыстрее! – закричал Андрэ и протянул Марксу десять тысяч одной бумажкой.
– Дружбы тебе?! – Карл нахмурил брови, злобно зыркнул на перепуганного Святополка и вдруг, замахав бородой, гневно завопил: – А говна на лопате не хочешь!?
– Найн! Найн! Вы меня не правильно поняли! Я же свой! Я связной из генштаба! – в ужасе закричал Андрэ. – Я читал «Манифест», «Фауста» Гете и «Тезисы к Фейербаху», и призраков, что по Европе бродят, признаю!
– На святое замахнулся! Немчура! Сука! Анафема тебе, гнида! – грозно рявкнул Карл Маркс и скосился на Энгельса.
Фридрих выглядел немного добрее. Он с загадочной улыбкой посмотрел на Андрэ и строго спросил, поглаживая рукой свою роскошную бороду:
– Ты? Фашиста убил? – Из треугольника масонского перстня, что красовался на его большом пальце, недобрым светом блеснул брильянтовый глаз.
Сообразив, что и здесь не найдет понимания, Андрэ с мольбой кинулся к попу:
– Батюшка! Не убивал! Он сам под руку подвернулся! Помогите! За мной гонятся хасиды! Дайте мне бутылку «Белой Руси» и два плавленых сырка «Дружба»!
Но поп гневно, так же как Карл, взглянул на него и глубоким басом, почему-то по-немецки, пропел:
– Морд ест ду нихт? Ним ден Шелом аб, Хайдэ! – с этими словами он выхватил из-под прилавка валенок и стукнул им Валенрода по морде. Тот, тряхнув головой, злобно в ответ зарычал: «Русише швайн!», но поп размахнулся и стукнул еще раз, сильнее.
Гунны, стоявшие за спиной, возмущенно зашумели и, выхватив невесть откуда припасенные валенки, с криками: «Фашист! Сионист! Масон! Самозванец!» – кинулись на Андрэ. Тот хотел броситься к двери, но пути к отступлению были отрезаны. С мыслью: «Где же типы в серых костюмах? Лучше б они забрали меня!» – он начал пятиться к стене. Ужас охватил Андрэ. Толпа надвигалась, держа в руках валенки на изготовке. Наконец, вперед выскочил вчерашний тип с забинтованной головой, истерично завопил: «Это кого он собакой назвал?!» – размахнулся и…
– Шайзе! Бред! Тьфу! Какая чушь! Ну просто кретинизм! Надо же, такая белиберда приснится! – Андрэ сидел на постели. За окном начинало светать. В комнате было спокойно, лишь тиканье настольных часов нарушало тишину своим размеренным, убаюкивающим тик-так, тик-так…
– И причем тут валенки? – Андрэ все не мог успокоиться.
Он поднял с пола упавшую подушку. Воспоминания о произошедшем в Берлине с новой силой неприятно накатили на него.
Он ворочался, думал о том придурковатом фашисте и с трудом заснул лишь под утро.
На следующий день он решил не задерживаться более в Минске. Попрощавшись с Егором, он выглянул из подъезда, осмотрелся по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, пошел к автобусной остановке. По дороге Андрэ время от времени оглядывался назад, но хвоста за ним не было.
Город выглядел сегодня приветливее, чем накануне. Светило солнце, за столиками уличных кафе мирно сидела публика, а на Октябрьской площади не было и следа демонстрантов. Дворец госбезопасности, как обычно, красовался в ярко-желтом наряде, на скамейках бульвара у Феликса молодые люди потягивали пиво из пластиковых бутылок, а на высотном архиве Министерства внутренних дел, что стоял рядом с низеньким, придавленным Писчаловским замком, не было никаких признаков ночного кошмара.
На площади Ворот два безголовых аристократических туловища провожали приезжих в путь аксельбантами, орденами, подвязками, накладными карманами и кружевами. Благополучно добравшись до Восточного вокзала, Андрэ про себя посмеялся над вчерашними страхами, купил билет на ближайший автобус, «Комсомолку» – почитать в дороге, и отправился в Могилев.
Крыжачок
По дороге из Минска погода испортилась, а когда автобус подъезжал к окраинам Могилева, заморосил неприятный мелкий дождь. Глядя через залитые дождем окна на пустыри и безлюдные новостройки, Андрэ с тоской подумал: «Непонятно, за что я люблю этот город. Под осенним дождем эти нелепые районы, дома без признаков архитектуры кажутся еще более угрюмыми. К примеру, вот этот. Разве можно чувствовать себя счастливым, живя в такой халупе. Наверно, в этой любви есть что-то языческое. Бывает, посмотришь на какой-нибудь пустырь с одиноким столбом и в сердце что-то заноет. Будто это не пустырь со столбом, а капище языческое».
Квартира, где Андрэ проживал с тещей Марией Прокопьевной, женой Светланой и двумя дочерями, находилась недалеко от центра. Собственно, квартира была не его, а принадлежала теще, проректору университета, человеку в Могилеве уважаемому и заметному. Своей же квартиры Андрэ не имел. Когда-то с матерью они жили в семейном общежитии местного комбината. Но после ее смерти он перебрался сюда. Находиться дома в обществе Марии Прокопьевны он не любил, поэтому больше времени предпочитал проводить в мастерской, которую получил от того же университета за то, что два раза в неделю преподавал студентам рисунок.
Хоть мастерская была не ахти какая – просторное бомбоубежище без окон, но в нем Андрэ чувствовал себя намного комфортнее и зачастую оставался там ночевать, особенно во времена затяжных бомбежек, когда от его безденежья дома начинались долгие и нудные скандалы. Вот и сейчас, предчувствуя невротическую реакцию жены на Шелом, он намеревался взять нужные вещи и укрыться от нее в мастерской.
К счастью, дома никого не оказалось. Бесцельно побродив по квартире, обставленной дорогой, но аляповатой мебелью, он заварил себе чаю и принялся собираться. Вскоре в прихожей щелкнул замок. В отражении зеркала он увидел Светлану.
– Явился? Ты где шлялся? Из университета уже несколько раз звонили. Думаешь, если моя мать проректор, тебе позволено пропускать занятия? – с порога, не дожидаясь объяснений, начала она. – Что ты привез? Сапоги купил? А подарки детям? А это что? – Света кивнула на Шелом.
– Ты хочешь знать все сразу или по порядку? – Андрэ пожалел, что не успел уйти до прихода жены. – Ну, слушай, мы с Генрихом на открытии немного выпили!
– Что еще за Генрих? То, что ты алкоголик, весь город знает! Но ты умудряешься в любой стране и собутыльников находить себе подобных!
Света знала про алкоголизм все и могла говорить на эту тему часами. Она покупала на сей счет специальную литературу и безошибочно ставила диагноз любому, даже тому, кого видела впервые. Как правило, редчайший человек избегал участи не быть удостоенным от нее звания алкоголика первой, второй или третьей степени. Даже в детях она видела потенциальных пьянтосов, потому что считала алкоголизм наследственным заболеванием, которое передается ребенку сразу же после рождения.
– Я не алкоголик, а пью по системе Федора Михайловича. Ты ведь знаешь! – Андрэ старался сохранять спокойствие.
– И ты, и твой Федор Михайлович – все вы алкоголики! Притом в тяжелой, запущенной форме! То, что он понаписывал, только истинный абстинент мог написать!
– Ну зачем ты так о классиках! Хочешь знать, что было дальше? Или у нас сегодня дискуссия об алкоголизме?
– Где сапоги? – неожиданно спросила Света, видимо, не желая слушать все по порядку.
– Вот! – Андрэ достал из рюкзака сапог.
– Что вот? А где второй?
– Понимаешь, дорогая, в Берлине на меня напали фашисты, и сапог остался лежать в сквере.
– Да? И сколько их было?
– Кого?
– Фашистов! Дивизия или две?
– Ну, я толком не разглядел. Но не больше одной!
– А танки тоже были? А авиация? А подводные лодки? А как дивизия называлась – «Мертвая голова»?
– Ну знаешь…
– Что ты мелешь?! Какие в Германии фашисты! Все фашисты уже давно живут здесь! И ты первый из них! Какая я была дура, что с тобой связалась! Сколько лет убила! Идиотка!
– Ну, Светочка, не преувеличивай! Впрочем, идиотизм это нормальное состояние человека! – Андрэ видел, что у Светланы начинается неконтролируемая психоневротическая реакция, и, чтоб успокоить жену, правильней будет немного поддакивать ей.
– Скажи лучше правду, нажрался, как скотина, и пролямзил где-то один сапог по дороге!
– Да, да, да! Ты совершенно права! Мы напились с Федором до свинского визга и утопили один сапог в Шпрее! Как Муму! Помнишь Муму Чехова! Не знаю, почему мы так сделали! Сам объяснить не могу!
– Потому, что ты кретин! И даже не знаешь, что «Муму» написал Тургенев!
– Да-да, прости, конечно, Тургенев!
– Камень большой привязали?
– К чему?
– К сапогу!
– Два кирпича. Обвязали изолентой.
– А лодку где взяли?
– С моста топили. Знаешь, такой маленький мостик возле Бодэ Музеум.
– Герасим тоже с вами был?
– Герасим не смог, он куда-то уехал.
– А второй сапог почему оставили?
– Не успели. Полиция подъехала, пришлось срочно ноги делать!
– Ну, допустим. А потом что?
– Потом я надел паранджу и срочно уехал из Берлина!
– Какую паранджу?
– Вот эту! – Андрэ достал из рюкзака паранджу.
– Ах! Вот эту! Я так понимаю, что это платье ты привез мне.
– Ну, в общем-то, если тебе нравится, конечно!
– Еще бы не нравилось! Какая прелесть! Я даже завтра непременно надену ее на занятия в университет! Представляю, как иззавидуются коллеги. Особенно Борис Фадеич будет в полном восторге! Воображаю, как полезут на лоб его глаза, когда он увидит меня в парандже!
– А сей подарок, как я понимаю, Андрейка купил себе? – Света кивнула на Шелом.
– Светочка, это не подарок! Это мой арт-проект. Можно сказать, манифест. Я решил его никогда не снимать. Он поможет мне открыть дверь в новую жизнь.
– Ах, арт-проект! Манифест. Чудесно! Наверно, вещь дорогая?
– Мужик в Бонне хотел пятьсот евро, но мы сторговались за четыреста восемьдесят!
– Четыреста восемьдесят! Ну, это недорого за такую красоту!
– Посмотри, как блестит! В хорошем состоянии прекрасный прусский Шелом! Добротнейшая работа начала прошлого века!
– И у нас действительно начнется новая жизнь? И мы будем гулять по субботам по улице Ленина: я в парандже, ты в этом чудесном Шеломе?
– Конечно, и дочерей возьмем, и Марию Прокопьевну!
– И Мария Прокопьевна наденет свой левый сапог? И будет светить солнышко, и птички будут чирикать?
– Да! И цвести розы! А вокруг мотыльки и бабочки! Такие большие белые бабочки! И небо будет голубое-голубое, как на картинах Буяна!
– Кого?
– Ну, не важно!
– И мы подойдем к киоску с мороженым и купим пять эскимо в шоколаде?
– А потом сядем за столики в летнем кафе! Я закажу вам лимонад и крем-брюле, а себе возьму бокал холодного пива!
– И все будут завидовать нам и шептаться – какая изумительная пара!
– Паразит!!! Кровопивец!!! Подонок!!! У тебя белая горячка! – вдруг закричала Света. – Ведь тебе же дали деньги на сапоги и покупки! Где эти деньги?
– Вот! Они здесь! – Андрэ показал пальцем вверх.
Света побагровела и, выкатив глаза, завопила:
– Ты что, идиот?! Ты отдал четыреста восемьдесят евро за эту дрянь?!
– Не преувеличивай! Это не дрянь, а прекрасный прусский Шелом! Между прочим, в отличном состоянии!
– Как ты смел после этого припереться сюда?! Ты должен был сам утопиться в Шпрее вместе со своим Федором и Герасима на шею повесить! – с этими словами она схватила сапог и метнула им в Андрэ. Звякнув каблуком о Шелом, тот отскочил, Света кинулась с кулаками, но, больно ударившись о морду Валенрода, вскрикнула и, схватившись за руку, опустилась на диван.
– То, что ты алкоголик, кретин, придурок, я знаю! Но одного не могу понять! Как ты посмел? Ты же иждивенец! Здесь нет ничего твоего! Все куплено за счет моей матери! Ведь ты ни хрена не зарабатываешь, а только играешься в свое придурковатое искусство! Арт-проект?! В жопу твой арт-проект!
– Хватит!!! Достало!!! Не хочу больше быть мальчиком-двоечником, которого пинают по любому поводу две злые училки! Иди пинай своих студентов! А я тебе не школьник! Я художник! А это вам мой манифест! Не желаю больше сидеть под вашим каблуком! Считай, вместо ваших каблуков я купил свой каблук! Большой! Золотой! На всю голову каблук! И я его никогда не сниму! Слышишь?! Никогда!!! Назло вам всем, никогда!
– Убирайся из моего дома! Кретин!!! Если не обо мне, так хоть о дочерях бы подумал! Кто их замуж возьмет с отцом-идиотом, разгуливающим по Могилеву с каблуком на голове! Проваливай к черту! И не смей сюда больше являться, пока не снимешь с головы эту дрянь! Вон!!! Придурок на белом коне! Вон!!! Кровопийца! Вон отсюда!!! Гений недоделанный!
Последняя Светина фраза разбилась об его голову уже в подъезде. Фарфоровая вазочка, опустившись на Шелом, со звоном рассыпалась по площадке. Стряхнув с плеч осколки, Андрэ ухватил под мышки перепуганных львов и гордо вышел из дома.
Приехав в мастерскую, Андрэ стал собираться ко сну. На следующий день ему предстояло рано встать и отправиться на занятия в университет. Работу эту он не любил, деньги за нее получал символические, а большинство студентов, будущих педагогов, были из деревень и относились к его предмету с безразличием. Для них рисунок являлся факультативной обузой, которую когда-нибудь в будущем им придется исполнять в младших классах. Главное, что держало его на работе, было это бомбоубежище, его мастерская, которая находилась здесь же, в университетских подвалах.
Реакция Светланы на Шелом была предсказуема, поэтому Андрэ ничуть не расстроился. Наоборот, он даже был доволен собой. Впервые за много лет ему удалось совершить нечто такое, что привело ее в замешательство. Света всегда была готова отнестись к нему, как к нашкодившему мальчику, и получала необъяснимое удовольствие от любого его падения. Чем глубже он падал, тем в больший восторг она приходила. Его унижение было ей в наслаждение. Они давно могли бы расстаться, но это странное извращение, в котором Света не желала себе признаться, удерживало ее, – как мастерская Андрэ на нелюбимой работе. Взять плеть и морально высечь его – было ее тайной страстью. К тому же повод имелся всегда. Если не было серьезной причины – пьянства или измены, – всегда ее можно было найти в постоянном безденежье и его бесполезных, на ее взгляд, занятиях искусством.
В своих терзаниях она была не Света, а почти святая, отдавшая жизнь негодяю. Хоть их брак мучил ее, и в этом смысле Светлану можно было назвать мазохисткой, но в ее похмельных мучениях всегда присутствовало сладостное предвкушение. Для нее оргазм наступал после захода солнца – очередного его падения. Когда она становилась не Светланой Георгиевной, а Святым Георгием, который вскакивал на коня, хватал копье мщения и низвергал гада в ад. Унижала она его с особым садизмом, вкладывая в эти сладкие минуты возмездия всю свою истерзанную ничтожеством душу. Просто встать да уйти от него она уже не могла. Эта боль стала частью ее. Теща, не понимая этого извращения, удивлялась – почему она его не бросает? Но Светлана нуждалась в его падении, зависела от него, как наркоман от дозы. Поэтому встать и уйти мог только он. Но Андрэ все не решался. Теперь же, надев Шелом, он сделал этот первый шаг.
Если б он просто пропил тещины деньги, изменил ей в дороге, вернулся домой оборванный, грязный и жалкий, ее святость торжествовала бы. Его падение было б безмерно – снова он черт, а она святая. Но Андрэ сделал нечто такое, чего она никак не ожидала. Он взбунтовался.
Утром Андрэ вылез из подземелья и отправился на работу. Его появление в университете произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ярких событий в жизни этого провинциального заведения случалось немного, поэтому приход преподавателя на занятия в прусском Шеломе тут же взрывной волной разнесся по аудиториям, контузив многих студентов и став главной темой разговоров, домыслов, сплетен и пересудов этого дня.
Поначалу взрывная волна ошарашила учеников его группы. Они обомлели от удивления, но, стесняясь что-либо спросить, просто хихикали и корчили рожи у него за спиной во время первого часа занятий. На перемене, когда Андрэ вышел на улицу покурить, туда же, как бы невзначай, вывалила целая толпа ротозеев подышать свежим воздухом да посмотреть на голубое небо – не летит ли в его безоблачной глубине новая эскадрилья «Юнкерсов».
Во время второго часа занятий в аудиторию как бы нечаянно заглядывали любопытные головы, извинялись и исчезали обратно. Это, наконец, Андрэ надоело, он взял швабру и засунул ее в ручку двери, а любознательным из его группы объяснил, что этот роскошный предмет с золотыми львами является символом новых веяний, что отныне в воспитательный процесс на уроке рисунка будет привнесен прусский дух и военная дисциплина. А если они, дети колхозников, сами колхозники, отцы и матери будущих колхозников, будут по-прежнему считать его предмет чем-то неважным, он выведет их на плац перед университетом и заставит, вытянув гусиные шеи, маршировать под окнами деканата.
Когда занятия закончились, Андрэ неожиданно встретил в коридоре добрейшего старичка – Альгерда Брониславовича, заведующего кафедрой рисунка. Поздоровавшись, тот спросил:
– Андрей Николаевич, милейший, вы случайно не заболели?
– Да, что-то мне нездоровилось в последние годы. Но вы, Альгерд Брониславович, не беспокойтесь. Видите, – он многозначительно кинул на Шелом, – я уже поправляюсь.
Альгерд Брониславович взял Андрэ под руку и доверительным голосом промолвил:
– Андрей, голубчик, вы же знаете, как я к вам отношусь. У каждого есть свои странности. То, что вы единственный из всех преподавателей в университете разговариваете со студентами по-белорусски, мне лично весьма симпатично. Но я вас очень прошу, выздоравливайте поскорее и снимите этот предмет! Вы же понимаете, у нас учебное заведенье. Мы готовим будущих педагогов. Поэтому даже я при всем расположении к вам не смогу ничего поделать!
Андрэ подвинулся к старичку поближе и заговорщицким голосом прошептал:
– Ничего не бойтесь, Альгерд Брониславович, скоро наши придут!
День клонился к вечеру, и предстояло подумать, где раздобыть хотя бы немного денег. Вернувшись в бомбоубежище, Андрэ снял пленку с незавершенной скульптуры и прикинул, как побыстрей закончить ее. Это был надгробный памятник – бюст молодой женщины, который он начал перед отъездом в Германию. Аванс за работу он уже получил, но теперь хотел попросить у заказчика еще немного денег. Позвонив ему и договорившись встретиться на днях, он принялся за работу.
Лепить бюсты покойников Андрэ не любил. Покойники, видимо, чувствуя это, отвечали ему тем же. Работать с фотографий было непросто. Как правило, снимки были маленькие, часто неразборчивые, поэтому многое приходилось додумывать наугад. Иногда он попадал в точку, и скульптура получалась похожей. Но чаще сходство вроде и было, но лицо несло в себе какую-то страшную отпугивающую гримасу. Всего лишь один изгиб, одна линия ложилась неправильно, и вместо усопшего получался бюст похожего на него уродца. Заказчики обижались и начинали ругаться с Андрэ. Многие вообще бы к нему не обращались, если б не прейскурант – он лепил по минимальным в Могилеве тарифам. Иногда ему удавалось переделать портрет и приблизится к оригиналу. Но часто уродец становился еще безобразней. Тогда заказчик отказывался забирать скульптуру, и она оставалась в мастерской.
Так как выкинуть на помойку ее было жалко, то за последние годы глиняных покойников набралось у Андрэ с три десятка. Когда он спускался в бомбоубежище, пыльные бюсты уродцев таращились на него из всех увитых паутиной углов. Однако за годы он настолько привык к ним, что уже не ощущал их присутствия. Но когда появлялся человек посторонний, непонятная жуть охватывала его. Поэтому часто, ожидая нового клиента, Андрэ прикрывал головы вурдалаков газетами. Но через пару дней газетки спадали, и уродцы снова таращили на него свои безумные, дебиловатые взоры.
Бюст, над которым он работал сейчас, находился в той стадии, когда еще было трудно сказать, получится из него что-нибудь путное или он пополнит коллекцию неудач. Но пока работа явно не клеилась. Андрэ вглядывался в пожелтевшую фотографию, брал кусок глины, подносил его к носу, стараясь поймать правильный изгиб. Но тот не ловился.
В конце концов, ему надоело. Решив, что сегодня не его день и не стоит портить уже сделанное перед визитом заказчика, он постановил выбраться в город и немного размяться.
Планов на вечер он не имел, кроме одного – раздобыть у кого-нибудь денег. Прикинув, у кого из приятелей можно взять в долг, Андрэ захлопнул дверь мастерской и направился к остановке троллейбуса.
В отличие от Бонна и других прирейнских городов Могилев никак нельзя было спутать с санаторием. Когда-то лет триста назад, он еще имел шарм европейского города – барочные костелы, башни замка, ратуша, узкие улицы с домами под высокими черепичными крышами. Но потом пришел Святополк, и город стал погружаться в серую провинциальную скуку. Костелы снесли, ратушу и замок разрушили, дома перестроили, островерхие крыши заменили на плоские, черепицу на жесть, одним словом, из процветающего город сделался обычным заштатным лузером, затерявшимся где-то на задворках Российской Империи. Пожалуй, единственное, что не удалось изменить, – поменять русла рек да убрать Днепр, который по-прежнему протекал через город, радуя глаз своим неиспоганенным видом.
Дома в центре Могилева никак не походили на резные боннские сундучки, а скорее на коробки из-под сапог, в которых прорезали прямоугольники окон, украсили в отдельных местах незамысловатым узором, да поставили вдоль в беспорядке сплетенных по обе стороны Днепра улиц.
И все-таки Андрэ любил этот город. И даже не потому, что он здесь родился, а ведь известно, что город детства всегда самый любимый. Просто он получал какое-то странное удовольствие от ощущения его провинциальной тоски. Это было сродни тому чувству, которое он испытывал к запыленным уродцам, что стояли у него в мастерской. В убожестве неудавшегося творения видел он истинную сторону этой жизни. Она была правдивей, искренней, совершенней того совершенства, которое он встречал в городах красивых, помпезных, великолепных. Ибо в этом, казалось ему, и был промысел Божий, который сотворил этот мир неудавшимся уродцем, сознательно искалечил его, сделал убогим. Почему он так поступил, оставалось для Андрэ загадкой. Однако во всем, что претендовало на совершенство, он видел руку иной силы, той, которая в вечном противостоянии с Богом на откровение убожества отвечала силой пропорции, искренность дисгармонии заменяла симметрией, правду юродства затмевала обаянием красоты.
Доехав до центра, Андрэ вышел на площади Ленина и отправился пешком на квартиру к Витьку. Познакомились они всего год назад в маршрутном автобусе. Витек, нарочито одетый в лохмотья, громко и монотонно читал хмурым теткам и мужикам «Град божий» Блаженного Августина. Через три остановки хмурые мужики, не выдержав монотонности, с криками: «Да заебал ты!» кинулись было чтеца побить, но Андрэ вступился за него и вытащил из автобуса. Проповедник оказался не сумасшедшим, а просто художником.
Витек, к счастью, был дома, и первым делом, как только открыл дверь, тут же с облегченьем вздохнул:
– Фу, слава Богу, а я думал, участковый!
Пройдя на кухню, он тут же сообщил:
– Сегодня утром звонила твоя жена и сказала, что у тебя белая горячка, поэтому просила денег ни под каким предлогом не давать, а если появишься, будешь просить, буянить и скакать на белом коне, не раздумывая вызвать бригаду из дурдома и отправить в психушку! Ха-ха-ха! Чай будешь?
– Я твою Светлану в таком бешенстве еще ни разу не видел, – продолжил Витек, засуетившись у плиты. – Может, это у нее белая горячка? Но какого хуя? Она ж не пьет. Целый час про тебя рассказывала! Во-первых, мол, ты набухался в Берлине и всадил все бабки в какую-то антикварную каску. Я так понимаю, вот в эту! Потом, говорит, у тебя съехала крыша, и вы с неким Федором топили сапоги в Шпрее. Ха-ха-ха! Ебануться, бред какой! Привязывали к ним кирпичи и топили! Затем ты купил ей в подарок паранджу! Ой, бля, ржу не могу! И хотел, чтобы она по городу в ней гуляла! А еще, говорит, ты решил эту каску никогда не снимать. И будешь ходить в ней по Могилеву до самой могилы. И теперь, мол, если скопытишься под забором, даже в гроб нормальный не влезешь – надо будет дырку у изголовья сверлить! А еще, говорит, ты теще в подарок из Германии один сапог с помойки приволок! Ну, на хуй, обхохотаться можно! Если б не знал тебя, то просто фельетон для газеты! Одним словом, сказала, что ты чокнулся окончательно на почве беспробудного алкоголизма и надо тебя немедленно помещать в психушку.
Витек был намного моложе Андрэ. Он считал себя основателем и лидером могилевской школы радикального акционизма. Адептов имел он немного: пару экзальтированных революционерок – Розу и Клару, отдававшихся ему по первому зову, и несколько длинноволосых подростков. Правда, их радикальные акции в городе мало кто замечал. Местные газеты про них не писали. Галерей же и критиков, которые могли бы поднять знамя Могилевского акционизма, в городе не было.
Знали про них только менты – их неизменная публика. Когда Витек, в знак солидарности с акцией художника Пушкина в Минске, привез и вывалил у местного здания КГБ тележку говна, его, в отличие от первого, даже не посадили. Менты просто отмудохали его, подержали ночь в обезьяннике и вышвырнули под утро. Когда же он снова появился у этого здания и написал говном на стене слово «ГОВНО», менты опять не поняли его искусства и упрятали на пятнадцать суток за мелкое хулиганство.
Что бы ни предпринимал Витек, желая утвердить в городе идеи акционизма, заканчивалось всегда одинаково – разборкой с ментами. Его художества были для них хулиганством, для случайных свидетелей – возмутительным безобразием, требующим наказания. Когда он переодевался в специально пошитый костюм зайца и демонстративно ездил в троллейбусе без билета, контролеры вытаскивали его и опять же вызывали милицию. Когда он в одних семейных трусах проповедовал в булочной благочестие, старухи шипели на него и изгоняли палками. Посидев несколько раз в ментовке, став рецидивистом во имя искусства, Витек стал осмотрительней. Его кураторы, критики и галеристы из Центрального РОВД всерьез задумались, не организовать ли ему пленэр в местной психушке.
Поэтому последние полгода Витек, стараясь не привлекать внимание зрителей, проводил для узкого круга радикальные акции только у себя дома. Но постоянная публика, предчувствуя что-то неладное, регулярно отправляла к нему с расспросами участкового. Теперь, чтобы ни происходило в городе: кража белья у Авдотьи Никитичны, взлом киоска на остановке или нападение на инкассатора, всегда среди прочих подозревали его. Витька так достало внимание зрителей, что он даже всерьез подумывал перебраться в Москву. Но хорошо заявить себя там он мог только с каким-нибудь новым радикальным проектом. Он постоянно думал про это, но приличных идей в голову не приходило. Поэтому, выслушав рассказ Андрэ о его манифесте, Витек пришел в совершенный восторг, перемешанный с едкой завистью.
– Ну, чувак, это полный пиздец! – выдохнул он, когда Андрэ закончил. – Ты не представляешь, какой это пиздец! Вот это идея! Только тебе нужно валить отсюда.
Витек так разволновался от услышанного, что вытащил из шкафчика заначку – полбутылки портвейна – и, громко стукнув, поставил ее на стол.
– Ты понимаешь, что здесь тебя эти уебки замучают, – он плеснул портвейн в чайные чашки. – Ты что, Христосик?
– Витек, одолжи денег.
– Нет, ты не понял! Если не менты, то твоя сучка Светлана в дурдом упрячет. Как жена она имеет право. Телегу накатает, приедет бригада из психушки, и знаешь, что-то мне подсказывает, что они ей поверят! А ты еще и фашиста замочил!
– Может, не замочил. Федор должен весточку прислать.
– Куда он пришлет? Тебе домой? Хочешь, чтобы Светка еще и про это узнала?
– На почту буду ходить. Попрошу, чтобы письмо мне лично в руки отдали.
– Я тебе говорю: валить, на хуй, в Москву надо!
– Так как на счет бабок?
– Какие бабки? Ты же видишь, я даже целую бутылку портвейна купить себе не могу!
Мария Прокопьевна слыла в городе человеком властным и правильным. С неба звезд не хватала, по служебной лестнице поднималась не быстро, но верно, получая новую звездочку на погон тогда, когда было положено. Она всегда точно знала, где, когда, кому и что правильно сказать. Когда нужно, шла в комсомол, потом в партию, затем в перестройку, а когда правильной верой признали православный атеизм, сказала себе, что Бог, видимо, есть, надела на голову шиньон в виде луковицы и принялась по праздникам ходить в церковь.
Ее послужной лист был типичным для правильных граждан: лейтенант-учитель, завуч-капитан, майор комсомола, подполковник РОНО – Районного отдела народного образования, полковник по хозяйственной части. Медленно, но верно обрастала она нужными связями с такими же, как сама, правильными людьми. Ей уже пророчили генеральскую должность – ректорство, и она почти получила ее, но откуда-то с неба свалился Фадеич – человек без заслуг, простой капитан, бывший директор небольшой сельской школы. Говорили, правда, что он лично знаком с Президентом – когда-то они росли по соседству и даже вместе играли в футбол. Поэтому, хоть Фадеичу и суждено было просидеть всю жизнь в капитанах, бывший товарищ по футбольной команде вдруг вспомнил о нем и усадил на генеральскую должность.
Мария Прокопьевна поначалу обиделась, но потом, смекнув, что фортуна вещь переменчивая – ведь не на выскочках, а на таких, как она, держится армия, тем более что футболистов на все генеральские должности все равно не хватит, – начала потихоньку прибирать Фадеича к рукам, так что вскоре уже трудно было сказать, кто на самом деле из них двоих был более ректором. Ни один вопрос Борис не решал без нее. Она была и душеприказчиком, и его альтер эго, ключницей и гадалкой на картах Таро. Поговаривали даже, что имелась между ними связь и более тесная. Правда, Марии Прокопьевне как женщине незамужней в ее службе это ничуть не мешало.
Мешало ей другое – ее неправильный зять. Она считала его человеком никчемным, тунеядцем и пьяницей. Но пока это было в рамках дозволенного, стиснув зубы мирилась. В конце концов, быть никчемным и пьяницей в их городе обычное дело. Но то, что он совершил теперь, переходило все дозволенные границы. Это было не просто возмутительно, а хуже, это был плевок в душу, удар по ее репутации. Он позорил ее, делал в глазах людей посмешищем. Ведь и так понятно, что он идиот, но смеяться будут с нее – уважаемого, правильного во всех отношениях человека. Она леди self made, проректор и будущий ректор, а может, и выше, а ее зять надел на голову прусский шлем. Это была агрессия, вероломное нападение. Фактически он объявлял ей войну. Он словно надел шлем не на свою, а на ее голову. Ведь в глазах людей это теперь она – Мария Прокопьевна, а не он – ходит по городу в пикельхаубэ.
Эта мысль терзала ее всю ночь. Шелом будто материализовался на ней. Так что, просыпаясь время от времени, она дотрагивалась до волос убедиться на всякий случай, что там его нет.
Дождавшись утра, Мария тут же отправилась в парикмахерскую. Обычно она носила на голове высокий златоглавый шиньон, но теперь в этом появлялась двусмысленность. Не желая иметь на себе ни малейшего намека на семейный позор, она постриглась, покрасила волосы в радикально черный цвет и сделала химию.
Когда Мария Прокопьевна появилась в университете, с новой прической она больше походила на фурию, а выражение ее лица – на влетевшую во время грозы в открытую форточку шаровую молнию. Так что студенты, попадавшиеся ей по дороге в ректорский кабинет, даже боясь поздороваться, опускали глаза, чтобы нечаянно не разрядить ее гнев на себя.
– Борис, ты должен немедленно это пресечь! – с порога, войдя в кабинет, заявила она. – Это позор! Это плевок мне в лицо! Задействуй все! Привлеки милицию, санстанцию, ветеранов, ОМОН, кого хочешь, в конце концов, Эдуарда, но сними с него эту дрянь!
– Чувствовал я, авангардизм до добра не доведет! – оторвавшись от бумаг на столе, произнес Борис Фадеич.
Он, конечно, был в курсе произошедшего, но поначалу, не придал этому факту большого значения. Считая Андрэ человеком немного блаженным, он на многое закрывал глаза. Вовсе не потому, что принимал его чудачества, просто он зять Марии Прокопьевны. То, что он явился на занятия именно в прусском шлеме, казалось немного странным, но Борис Фадеич отнесся к этому с пониманием. Он сам вырос в партизанских лесах, а потому любил трофеи и книжки про войну. Собственно, никаких других он не читал. Но Великая Отечественная была его страстью. Еще в свою бытность преподавателем в школе он водил следопытов по партизанским местам. Они раскапывали землянки, заросшие папоротником траншеи, чьи-то безымянные могилы, и вскоре Фадеич собрал неплохую коллекцию немецкой и отечественной амуниции. Кто-то даже считал его черным копателем, но когда он сделался директором школы, то большую часть трофеев передал в школьный музей, который стал его гордостью и главным утешением для души в скукотище сельских дней.
Когда же он перебрался в Могилев, то лучшее из коллекции забрал с собой. В университете партизанский музей он создавать не стал, но его любимым занятием сделался университетский театр, в который перешли собранные им трофеи. Ставили там с благословенья ректора, конечно, только пьесы про войну, немцев и партизан, но Фадеич был безмерно горд своим детищем, а главное, его реквизитом. Такого Шелома, как у Андрэ, там, естественно, не было, поэтому поначалу у Фадеича даже мелькнула мысль, не выменять ли его на старый Вальтер Р38 с кобурой или ППШ-41 без рожка. Но теперь, видя, как шаромолнеобразное лицо Марии Прокопьевны в обрамлении какой-то непонятной кучерявой прически угрожающе кружит по комнате, понял, что дело принимает серьезный оборот, и с тревогой спросил:
– Маша, а где твой шиньон?
– Борис, ты что, дурак? Ты не понимаешь, что происходит? Это диверсия! – шаровая молния так близко подлетела к его лицу, что он, в испуге немного отпрянув назад, воскликнул:
– Какая диверсия?
– Идеологическая! Ты знаешь, что будет, если об этом узнают там? – Мария Прокопьевна указала пальцем на большой живописный портрет Президента, висевший за ректорским креслом.
Борис побледнел. Мария Прокопьевна тоже вдруг потускнела. Маниакальный приступ паранойи с новой силой накатил на нее, и, словно почувствовав, что строгий всевидящий глаз с портрета видит ее сейчас в прусском Шеломе на голове, принялась нервно поправлять прическу.
– Слышь, может, военкомат? Отправим его в партизаны? – осторожно спросил Фадеич.
Мария Прокопьевна поняла, что нажала на правильную клавишу в душе Бориса. В отличие он нее Фадеич был человеком неправильным. Он любил выпить, а бывало, выпив, и под юбку залезть. Он был сентиментален, иногда совестлив, суеверен, а потому частенько пуглив и потлив. Увлечения имел вроде и правильные, но какие-то странные, не типичные для людей их круга. А главное, он не ощущал той твердости под ногами, которая была у нее. Его вознесение на должность было случайностью. Он знал это, а потому страшно боялся ее потерять. Поначалу его даже мучили угрызения совести, он чувствовал себя самозванцем Лжедмитрием, но потом, признав, что такова традиция могилевских земель – все Лжедмитрии выходили отсюда, успокоился.
За годы он так привык к роли барина на бюджетном кормлении, так привязался к своим маленьким приятным забавам вроде домашнего театра, что с ужасом представлял, что будет, когда всего этого вдруг не станет. Марии Прокопьевне доверял он всецело, но даже не потому, что как-то, напившись, задрал юбку и взял ее прямо на своем рабочем столе. Хотя с тех пор многие в университете догадывались про их отношения, так же как знала про них, но не подавала виду, и его жена.
Но Мария Прокопьевна стала для Фадеича вроде духовного пастыря или, правильней, матери. Иногда в шутку он даже называл ее – мать моя Дева Мария. Как-то давно, когда она еще заведовала отделом в местном РОНО, Мария Прокопьевна увлеклась астрологией, а потом белой магией. Со временем магия стала ее тайной, но очень полезной страстью. Достигнув в этом искусстве определенных высот, она могла снять Фадеичу похмельную боль, растолковать ему сон, раскинуть карты при назначении на должность и предсказать, будет ли этот кадр – шестерка или валет – полезен для общего блага. Не принесет ли он в будущем им казенного дома или пустых хлопот. Ни одно важное решение не принимал теперь Фадеич без консультаций с Марией. Гадала она не только на картах, но и на яичной скорлупе, на перьях молодого гуся, на воске, на молоке, на бросании башмака.
В наиболее ответственные моменты, особенно перед поездками в Минск, когда Фадеич за неделю до этого терял сон и начинал пить больше обычного от страха, что его снимут с должности, они устраивали спиритический сеанс. Приглашали, как правило, на него Эдуарда Валерьяновича, университетского куратора комитета госбезопасности, человека болезненно тощего и высокого, похожего отчасти на швабру, отчасти на железного Феликса, но крайне склонного к мистицизму, Эдуарда Брониславовича, заведующего кафедрой рисунка – местного поклонника Рериха, а также дочь Марии – Светлану, которая преподавала в университете историю.
Обычно, с подачи Фадеича, вызывали духов прошедшей войны – Жукова, Конева, Ворошилова. Но маршалов Борис немного побаивался, поэтому чаще предпочитал местных духов, командиров партизанских отрядов – Журбу, Кирпича, Шубодерова, Косого, Жердяя. Но больше всех доверял он безногому летчику Мересьеву. Он любил его еще с детства, когда в одной из книжек про войну прочитал историю, как тот, сбитый немцами, отморозил себе в лесу ноги, но вернулся в строй и стал снова летать. В сознании Бориса Фадеича навсегда отложился образ его безмерного мужества и геройства, но в то же время, как человек без ног, он в случае чего не мог принести им большого вреда.
Поймав в глазах Фадеича страх, Мария опередила его пока еще немой вопрос:
– Не надо, Борис. И без карт понятно, этот человек нас погубит, если ты не заставишь его снять эту дрянь! – Она на всякий случай снова потрогала волосы.
– Не беспокойтесь, Мария Прокопьевна, – перешел вдруг на официальный тон Фадеич. – Мы этому Мондриану устроим Сталинград. – Он поднял телефонную трубку: – Лиза, слышь, пригласи ко мне Эдуарда Валерьяновича.
На следующий день в мастерскую неожиданно явился университетский пожарник. Андрэ крайне удивил его интерес к бомбоубежищу, в которое он никогда прежде не заглядывал. С важным видом походив из угла в угол, пожарник внимательно изучил всех уродцев и, промолвив наконец: «Да, очень красиво, я бы так не смог! Такой талант дается не каждому», – начал давать указания по технике безопасности.
В одном углу он обнаружил свалку газет – старых номеров «Советской Беларуси» – и сказал:
– Непорядок, надо убрать! В случае пожара они быстрее всего загорятся!
В следующем месте посоветовал раздвинуть два шкафа, мол, если запылает один, то огонь быстро перекинется на другой. И вообще, шкафы крайне опасны – никогда не знаешь, какая чертовщина в них прячется. Потом он долго разглядывал ванну с глиной, но так и не придумал, к чему бы придраться. Старый диван с разодранным матрасом также вызвал у него беспокойство. Но в наибольшее возмущение пожарник пришел, когда, заглянув в чулан, обнаружил там соломенного человека. Сказав, что это форменное безобразие, посоветовал немедленно выкинуть его на помойку. Андрэ поинтересовался – безобразие в смысле искусства или пожара. На что тот ответил: «В обоих», – и, закурив, уселся на диван.
Однако, как только пожарник появился на пороге, Андрэ сразу почувствовал, что его любопытство вызвано не соломенным человеком в чулане, не ворохом старых газет, а им самим, вернее, его Шеломом. Немного помявшись, сделав пару затяжек, пожарник, наконец, спросил:
– Можно полюбопытствовать? А что это у вас на голове?
– Как что! Вы же видите – пожарный шлем!
– Очень хорошо! Одобряю! Предусмотрительно! – пожарник оживился.
– Ну, наконец-то! Извините, как вас по отчеству?
– Петр Евлампиевич.
– Наконец-то, Петр Евлампиевич. Вы первый человек в этом городе, который одобрил меня! – Андрэ тоже прикурил сигарету.
– И что же, вы так все время в нем ходите? – продолжал любопытствовать Петр Евлампиевич.
– Что вам сказать, вы же знаете, Петр Евлампиевич, в какое пожароопасное, не побоюсь этого слова, взрывное время мы живем! Это как на войне – пожар может вспыхнуть в любую минуту! Вот недавно в Москве электричку в метро взорвали! Ехал себе человек, ехал и – бац! – кругом пожар!
– Да-да, вы правы, – озабоченно согласился Евлампиевич, – времена опасные! У нас месяц назад в Чаусском районе свиноферма ночью сгорела!
– О… ужас! А вот еще, на днях в газетах писали. В Минске какой-то человек пришел совсем голый к памятнику Победы и сел у Вечного огня! Мимо дед-ветеран проходил, хотел спросить, что, мол, случилось? Окликнул. Тот молчит. Еще раз окликнул. Тишина. Тогда дед подошел поближе и за плечо его тронул. А этот голый вскочил, как безумный, схватил деда и в Вечный огонь кинул! Представляете, Петр Евлампиевич, ветерана войны и прямо в Вечный огнь, в пекло, так сказать! Ну просто черт какой-то, ей Богу!
– Да, кошмар! – пожарник совсем уже проникся доверием к Андрэ.
– Или вот еще случай! Недавно в Минске аж целых три этажа архива Министерства внутренних дел сгорело!
– Что вы говорите! А я не слышал!
– Ну, правда, это был только сон! Дрим, грезы, мечты, так сказать!
– А-а-а, понимаю. Но то, что вы к пожару готовы, это я одобряю!
– Всегда готов! – выкрикнул Андрэ пионерское приветствие, поднеся руку к Шелому.
– А я знаете, – произнес вдруг Петр Евлампиевич, – за всю жизнь не потушил ни одного пожара.
– Что же вы на них делали? – удивленно поднял глаза Андрэ.
– Знаете, как вам сказать… в детстве я хотел стать пожарником, а когда стал им, занимаюсь только бумажками. Хожу, инструктирую и понимаю, что на самом деле я хотел быть не пожарником, а художником! И создавать вот такую красоту! – Евлампиевич ткнул пальцем в бюст самого безобразного из уродцев.
– Так, может, вам в часть попроситься? – с сочувствием спросил Андрэ.
– Кто ж меня теперь возьмет? Я и на три ступеньки по лестнице уже без одышки подняться не могу. Нет. Я хочу быть художником.
– Так будьте! – неожиданно вырвалось у Андрэ.
Он поднялся, достал из шкафа большую коробку масляных красок, кинул в нее несколько кистей и протянул Евлампиевичу.
– Хотите быть художником? Так будьте! Берите! И начните прямо сегодня!
– Как, это мне? – оторопел ошеломленный пожарник.
Он принялся было отнекиваться, но Андрэ, настояв на своем, категорически всучил коробку Петру Евлампиевичу. Тот в ответ вдруг расчувствовался и чуть ли не со слезами на глазах принялся рассказывать о своей бестолковой жизни. Про печень и диабет, про жену, которая бросила его лет пятнадцать назад. Что с тех пор он так и живет бобылем со старушкой-матерью и своей малышкой чихуахуа по имени Белочка, у которой больная ножка. Про то, что на самом деле собаки лучше людей, а настоящие собаки засели в ЖЭСе и уже второй год не могут закопать канаву у подъезда, поэтому, когда они выходят погулять, им с Белочкой приходится перепрыгивать через нее. Когда Евлампиевич закончил, поняв, что его долгий, сумбурный рассказ начинает тяготить Андрэ, он поднялся с дивана и со словами: «Ну, не буду вас отвлекать от работы! – направился к выходу. – Создавайте вечное! А шкафчики все-таки раздвиньте! Обидно будет, столько красоты погибнет!»
Уже у порога Петр Евлампиевич вдруг обернулся к Андрэ и вкрадчивым голосом спросил:
– Скажите, а эту каску вы где достали?
– В Восточной Пруссии, с большим трудом разыскал!
– Послушайте, у меня к вам просьба будет большая! В следующий раз, может, вы из Восточной Пруссии и мне такую же привезете? Вот, я вам телефончик оставлю! Очень, очень мне хочется иметь такую же каску!
Утром до начала занятий Андрэ заглянул на почту справиться, не приходило ли ему письмо из Берлина. Ничего для себя не отыскав, он попросил любую корреспонденцию, которая будет поступать на его имя, по бывшему адресу не отправлять, а оставлять на почте для вручения лично ему.
Когда же он снова появился на пороге университета, ехидству и радости поджидавших его студентов не было предела. Во время занятий ученики его группы, с трудом сдерживая усмешки, боязливо помалкивали. На переменах поглазеть на Андрэ во двор опять высыпали толпы ротозеев. Коллеги-преподаватели при встрече стыдливо отворачивали глаза или с невиданным прежде любопытством начинали изучать наглядную агитацию, висевшую в коридорах. А перед концом пар в аудиторию заглянул Альгерд Брониславович. Он с грустью пробормотал что-то нечленораздельное, а затем сообщил, что его вызывает ректор.
– Слышь, что за цирк ты устраиваешь? – грозно промолвил ректор, как только Андрэ вошел в кабинет. – Не ожидал от тебя! Крепко подвел ты меня, Воробей! Слышь, ведь я ж тебе и мастерскую в университете дал, и на выставки в разгар учебного года отпускал. Хотя как чувствовал, шастанья по Европам не доведут до добра!
Он поднялся из шикарного ректорского кресла, взял со стола графин и, наполнив стакан, залпом выпил. Затем наполнил еще раз и принялся поливать фикусы в вазонах на подоконнике.
Надо сказать, по своему великолепию ректорский кабинет был не хуже, а в чем-то и превосходил помпезность многих столичных кабинетов. Борис Фадеевич имел неодолимую тягу к вычурному имперскому стилю. Хоть здание университета было современной постройки, но только в этом просторном зале из стен прорастали непонятно откуда тут взявшиеся колонны композитного стиля. Мебель также отличалась витиеватостью. Она была сплошь резная, из редких древесных пород, а ректорское кресло и вовсе скорее походило на трон какого-нибудь Людовика. Его изголовье венчали два позолоченных, правда, гипсовых, льва. Заметив на троне своих самозваных братьев, Святополк с Валенродом насупились и высокомерно задрали морды повыше, но тут же наткнулись на немного прищуренные глаза Президента, который посматривал на них строгим взглядом с живописного портрета, что висел на стене.
– Извините, Борис Фадеевич, чем же я вас подвел? – после орошения третьего вазона прервал затянувшуюся паузу Андрэ.
– Слышь, я тебе сейчас объясню чем! – интонация голоса у Фадеича сдвинулась к большей пафосности. – Мне тут многие говорили, что ты чокнулся. Крыша у тебя на почве авангардизма поехала! Надо, мол, полечить, и все устаканится! А я думаю – нет, ты не сбрендил! Ты сознательно на эту идеологическую диверсию пошел! Специально каску солдата неприятельской армии надел! В то время когда наша страна со всех сторон окружена врагами, которые спят и видят, как ее сцапать и съесть, когда вокруг империалисты, Америка, НАТО, Газпром, оранжевые, вражеские голоса, кремлевские олигархи, ты являешься в веренное мне учреждение с этой диверсией на голове! Вот скажи, кто это? – Фадеич ткнул пальцем в Валенрода. – Слышь, чьи это львы? Английские? Французские? Немецкие? А может, русские? Хочешь все наше учебное заведение опозорить! Чтоб в Минске сказали, что я тут крамолу развожу, карбонариев пригрел! Чтоб меня самого с работы поперли! Слышь, одним словом, вот! – Он поставил графин, подошел к шкафу и распахнул дверцу.
На его полках лежали каска советского воина-освободителя СШ-40, более поздняя модель СШ-60 и целая коллекция военных головных уборов – кожаный танкистский шлем с очками, солдатская пилотка, шапка-ушанка, летный шлем РККА на меху, бескозырка «Торпедные катера Ч. Ф.», парадная фуражка офицера МГБ, кубанка милицейская, полковничья папаха, картуз кожаный, картуз полевой, буденовка пехотная образца 1927 года и что-то еще.
– Да если б ты каску советского солдата надел, я б слова не сказал! Так что, – произнес Фадеич, любовно разглядывая коллекцию, – выбирай любую! Слышь, хочешь эту? Бери, от сердца отрываю! – он протянул Андрэ серую буденовку с красной звездой. – «Бронетанковые части РККА» образца тридцать второго года. Смотри, какое состояние, почти новая. Хрен с тобой, ходи в ней по университету! И по форме такая же, как у тебя. А эту империалистическую заразу снимай! А не снимешь, пиши заявление по собственному желанию! Выбирай!
Фадеич положил перед Андрэ белый лист бумаги. Помолчав немного, он добавил:
– Слышь, уволить мы тебя и без заявления можем. Ты пропустил без уважительных причин несколько занятий.
Андрэ с тоской посмотрел на оттопыренный фетровый сморчок Бронетанковых частей РККА, взял ручку и принялся писать. Закончив, он протянул Фадеичу листок. Тот взял его в руки и, бормоча под нос, начал читать:
– … когда наше государство со всех сторон окружено врагами… угрожают Америка, НАТО, ООН, Газпром, нафталиновые картели… крайне необходимо наладить массовый выпуск изделия… именуемое Шелом… с целью… несгибаемого духа народа… назло злопыхателям… уверенно идет к одному ему ведомой цели.
… своим задранным кверху приветом бросал бы вызов… было б целесообразно… подумать о замене… стилизованный средний палец руки… именовалось бы факинг-Шеломом… на других языках это мир… смысл изделия… фак на весь мир… народ продемонстрировал бы… глубоко насрать на происки… поползновения нафталиновых картелей… несмотря на на что… к запредельным высотам.
…мое предложение…не нашло понимания…с чем выражаю… и свой категорический протест…
– Так! Понятно!
Борис Фадеевич, достав носовой платок, протер вспотевшую лысину:
– Кривляться надумал, шут гороховый! Слышь, дошутишься когда-нибудь!
Он опять подошел к графину с водой, наполнил стакан и выпил. Видимо, накануне Фадеич изрядно поддал, и теперь его мучила жажда. Он снова посмотрел на Андрэ и вдруг, побагровев, налившись кровью, завопил:
– Вон отсюда! Придурок! Юродивый! Даю тебе три недели, чтобы освободить мастерскую!!! Чтоб к первому ни тебя, ни твоего барахла и духу в ней не было!!!
Уже несколько дней Андрэ сидел в бомбоубежище – в город не выбирался и поднимался наверх лишь по ночам, когда его начинала мучить бессонница. Тогда он набрасывал плащ и выходил в пустой темный двор покурить. Иногда ему встречался университетский сторож и по совместительству дворник Гаврилов, который, демонстративно не здороваясь с ним, мрачно и монотонно подметал опавшие под утро листья.
Еда, деньги и сигареты закончились. Андрэ нашел в шкафу припрятанный на черный день кулек махорки и курил самокрутки. Теперь единственной возможностью заработать оставалась его халтура. Он работал над бюстом все эти дни, торопился, стараясь закончить до того, как его выселят из мастерской. Если он успевал, на вырученные деньги появлялся шанс временно снять комнату и приступить к поискам новой работы.
Сегодня после обеда он ожидал прихода заказчика. Работа продвигалась неплохо, и часов до трех пополудни он уже маханул изрядный кусок. В пятнадцать двадцать, заметив, что до визита осталось десять минут, Андрэ взял газетки из кучи, что не понравилась Евлампиевичу, и бережно прикрыл ими уродцев.
Ровно в полчетвертого в бомбоубежище спустился невысокий мужчина лет пятидесяти пяти в костюме, белой рубашке, с заметно выпирающим пузиком. Арсений Казимирович принадлежал к местным торговцам средней руки и держал несколько киосков на вокзале, на Быховском рынке и где-то на остановках.
Кинув на диван кожаную папку, он с любопытством принялся рассматривать незаконченный бюст жены, погибшей в аварии около года назад. Покритиковав размер носа, излишнюю оттопыренность ушей, пухлость губ, он вдруг посмотрел на Андрэ и неожиданно спросил:
– Послушайте, Андрей, а вы что, лепите портрет моей жены в этой каске?
– Да, а вас что-то не утраивает?
– Меня все устраивает, только я хочу, чтобы вы ее снимали во время работы.
Казимирович нахмурился и, сдвинув брови, продолжил:
– В этом я вижу некое глумление над моей покойной супругой! Я не хочу, чтобы оттуда, – он вознес указательный палец к потолку бомбоубежища, – она наблюдала, как некий незнакомый мужчина лепит ее портрет в каске с возбужденным, задранным к небу фаллосом.
– Вы усматриваете в этом попытку соблазнить ее ментальное тело?
– Мне не нравятся такие намеки. Если б вы надели шапку-ушанку, я не имел бы ничего против. Но вы водрузили на голову член. Поэтому вы либо снимете его, либо я обращусь к скульптору без члена на голове. Это мое категорическое условие!
Андрэ занервничал. Лишиться последней надежды что-то заработать было сейчас равносильно катастрофе. Немного подумав, он предпринял последнюю попытку избегнуть ее:
– Послушайте, Арсений Казимирович, я вижу, вы человек образованный и явно, до того как организовали свой первый кооператив по производству пластиковых салфетниц и мухобоек, занимались серьезной научной работой. Поэтому вам наверняка известно, что каждый истинный художник это медиум, всего лишь проводник тайных смыслов, которые он материализует в своих произведениях. Поверьте, этот фаллообразный предмет есть только инструмент, позволяющий иметь лучшую связь с иными мирами. Вы же трактуете его таким образом, будто я водрузил на голову член в смысле поднятого вверх медиюса – среднего пальца руки, который кричит миру – фак на вас всех! в том числе и на вас, на вашу и мою жену, на Бориса Фадеича, на Карла и Фридриха, на попа в черной рясе, на империалистов, антиглобалистов, на чертовы партии, нефтяные картели, на кураторш в очках, на тещу с ее сапогами! Но поверьте, этот фаллос точно не является признаком возбуждения в отношении вашей жены, и я вовсе не собираюсь провести с ней астральный половой акт. Он необходим лишь для спиритического контакта, чтобы установить связь с ее духом и лучше понять произведение, над которым я работаю.
Арсений Казимирович неодобрительно, с подозрением посмотрел на Андрэ.
– Но, в конце концов, если все-таки вы настаиваете, – продолжил тот после довольно долгого, не предвещавшего ничего хорошего молчания, – я могу надеть на фаллос презерватив! Это что-то вроде противозачаточного средства. Вот посмотрите!
Он взял небольшую деревянную колодку, проделал по центру отверстие, надел ее на кончик Шелома и с немного идиотической улыбкой повернулся к заказчику.
– Ваш метод спиритуализма, – сказал, наконец, после небольшого раздумья Арсений Казимирович, – представляется мне шарлатанством. Не знаю, чем вы там занимаетесь с моей женой в астрале. Но мне будет спокойней, если ее портрет вылепит не медиум с членом на голове, а обычный скульптор. Прощайте! Аванс можете не возвращать!
Уход Казимировича должен был сильно расстроить Андрэ, но, как ни странно, этого не случилось. Наоборот, какая-то злая радость переполняла его. Он словно избавился от еще одной тяготившей его обузы. «Хватит! – говорил он себе. – К черту заказчиков, к черту мертвецов! Кончилось время уродцев!»
Походив в возбуждении по мастерской, он аккуратно снял со станка незаконченную скульптуру и отправил ее в компанию остальных, поседевших от пыли глиняных даунов. Затем, покопавшись в книгах, Андрэ нашел старый номер журнала с французским названием «pARTisan» и принялся читать. Издание было печатным органом местных арт-партизан. В передовой статье автор, скрывавшийся под псевдонимом Моисей Молотов, анализировал итоги последних компаний. Моисей явно был не доволен их результатами и призывал в период между следующей посевной и осенней битвой за урожай объединиться и наконец взорвать мост. Под взрывом моста, конечно, подразумевалась метафора, смысл которой сводился к тому, что время квартирников и арт-подполья проходит, что пора (тут Молотов снова пользовался метафорой) объявить рельсовую войну и перейти в решительное наступление по всем фронтам.
Другой автор под псевдонимом Эммануил Лебеткин спорил с ним, говорил, что подрыв моста сейчас преждевременен, что это только вызовет ответный удар, который спалит подполье. Он предлагал прибегнуть к иной тактике, а именно активно внедрять во вражеские структуры своих людей. Когда количество внедренных достигнет критической массы, только тогда, говорил он, революционная ситуация в белорусском искусстве станет возможной.
Третий автор – Веньямин Шатов – призывал отказаться от коллаборационизма. Он был против как преждевременного подрыва моста, так и всякого сотрудничества, пусть даже и во имя самых высоких целей. Он что-то долго и нудно вещал о моральной ответственности, неподкупности настоящего искусства и чистоте идеи. Какой именно идеи, Андрэ, правда, не понял и через час, устав от пожелтевших новостей современного белорусского искусства, отложил журнал в сторону.
Есть было нечего. На столе, накрытом старой газетой, лежали пара луковиц и малюсенький кусок хлеба. Два больших шкафа, прижавшись плечами друг к другу, мрачно, исподлобья, прямоугольными глазами посматривали на него. В дальнем углу шелестела мышь.
Взяв фонарик, Андрэ отправился побродить по катакомбам подвалов, в которые вела задняя дверь мастерской. За ней начинались огромные пустые лабиринты, что тянулись под всеми соединенными между собой корпусами университета. Когда-то их построили как продолжение бомбоубежища на случай непредвиденного конца света. Время от времени Андрэ любил побродить по этим темным, сырым, пахнущим плесенью и ожиданием войны залам. Иногда он находил в них что-нибудь полезное для работы – старый чемодан, стопку книг, плюшевого мишку с оторванным ухом.
Сейчас же в одном из залов он нашел пару поношенных валенок и небольшую, но в вполне сносном состоянии металлическую тележку. Удивившись – кто бы мог их здесь оставить, – Андрэ кинул валенки на тележку и вернулся в мастерскую, где, соорудив скромный ужин из луковицы и куска хлеба, отправился спать.
– Светлана Георгиевна, я хотел бы побеседовать с вами по поводу вашего мужа.
Обернувшись на голос, Света увидела перед собой изможденное худобой лицо Эдуарда Валерьяновича.
– Я думаю, лучше всего сделать это в моем кабинете, – он жестом предложил последовать за ним.
Спустившись на второй этаж, они прошли по длинному университетскому коридору и остановились у двери без опознавательной таблички. Оглянувшись по сторонам, Эдуард щелкнул ключом и предложил даме войти.
По центру просторной полупустой комнаты располагался полированный стол и два правильно придвинутых к нему стула. Тяжелые портьеры на окнах были плотно задернуты, поэтому, хотя на улице еще был день, казалось, что здесь уже наступил вечер. У стены стоял большой канцелярский шкаф, напротив – старый диван с деревянными подлокотниками и потемневшей от времени обивкой. Над диваном висел портрет Феликса Дзержинского, проницательные глаза которого пристально смотрели в графин с водой на столе.
– Все в порядке, кажется, никто не видел, – произнес Валерьянович, поворачивая ключ в замке.
– Эдуард, ты должен с этим покончить! Он мне всю душу измотал. – Света присела на диван и принялась нервно расстегивать блузку. – Ничтожество! Мразь! Он лгал мне всю жизнь! Теперь у меня есть доказательство! Искусство! Подонок! А сам пил и баб трахал на своих пленэрах!
– Доказательство? Какое доказательство? – переспросил Эдуард Валерьянович, доставая из шкафа две простыни и подушку.
– Письмо. Я получила письмо из Берлина от какого-то Федора. Такой же забулдыга, как он! В каждом слове по три ошибки. – Света сняла юбку и бросила ее на стол рядом с графином.
– Оно у вас с собой? – Эдуард скинул брюки и, аккуратно сложив их по строчкам, повесил на спинку стула.
– Вот оно, – Света полезла было в сумку, но Эдуард остановил ее.
– Ладно, давайте потом, – расстегивая рубашку, он присел на диван.
Через полчаса, с приятной усталостью на лице, он подошел к столу, выпил стакан воды и, раздвинув портьеры, попросил Светлану показать письмо. Написано оно было от руки, корявым, но вполне разборчивым почерком. Начиналось письмо странной фразой с тремя восклицательными знаками: «Фашист жив!!!»
Далее следовало:
«Привет, Андрюха! Начинаю с главного: жив засранец! Ты там ему чего-то в глотке проткнул, но оказалось – рана пустяковая. Я на всякий случай к нему в больницу Ингрид отправил, убедиться, что точно он. Через пару дней уже будет шпацырен по Ораньенбургер. Так что радуйся, ты его не убил, и мокруху на тебя не повесят. С тебя за маляву ящик шнапсу и фаустпатрон для Буяна.
Что там на фронте? Когда на Берлин? У нас все клево. Я тут перебазарил кое с кем, можем под крышу к албанцам пойти. Они наши терки с фашистами закроют. Придется, правда, отстегивать, но в нашем искусстве, сам знаешь, без куратора, то бишь без крыши, никак. Так что готовься на весну. Буян вчера на радостях напился, а сегодня целый день дудит на трубе, тренируется. Он на второй повозке пойдет. Эх, Андрюха, заживем! Главное, себя береги. Вернись с фронта живым. Ты нам здесь здоровеньким нужен. Все привет тебе передают. И Буян, и амиго, и Ингрид. Она у нас тут прижилась. Правда, не хотел тебя огорчать, но ведь все равно узнаешь. Это, как тебе сказать, одним словом, сам понимаешь, какие бабы бывают. Так что она теперь с Буяном. Но не расстраивайся, приезжай, найдем тебе другую невесту. Короче, ждем!
Обнимаю крепко, Федор».
– Я возьму это письмо, – произнес Эдуард, складывая его обратно в конверт.
– Представляешь, каков подонок! – закипела Светлана. – У него тут семья, дети, а там какая-то шлюха!
Вечером у себя на квартире Витек устраивал радикальную акцию для узкого круга – «Изгнанье конкретного мента». Под «конкретным ментом» подразумевался участковый Гаврюхин, который уже полгода безбожно плевал Витьку в душу. Устав от заточения в бомбоубежище, Андрэ решил выбраться в город, заглянуть к приятелю и заодно решить две задачи – раздобыть у кого-нибудь хоть немного денег да договорится перевезти на хранение самое ценное из мастерской.
Хоть акция и была для узкого круга, но народу в квартиру набилось много. Когда Андрэ появился, публика занимала все доступные для сиденья места на диване, кушетке, скамейках, кто-то теснился на полу. Несколько изголодавшихся конкретных поэтов – Чибис, Дрозд и Сидор ели на кухне крабовые палочки, макая их в майонез и запивая водкой. Совершенно голый Витек сидел за столом в центре комнаты. Перед ним стояли две бутылки вина и глубокая металлическая миска.
Ровно в шесть в дверь позвонили, и в квартиру вошел милиционер. Кто-то было заволновался, но Андрэ сразу понял – это не участковый, он никогда не встречал в Могилеве бородатых ментов. Кроме того, борода была явно прилеплена к пухлому лицу одной из поклонниц хозяина квартиры. Девицу выдавали густо накрашенные веки и полные алые губки. Но в комплекте с бородой послание было понятно – в квартиру вошел пидор в погонах и уселся за стол напротив Витька. Мент вытянул из-за пазухи хвост рулона туалетной бумаги, что-то написал на нем, оторвал, а затем засунул в рот и принялся жевать. Через какое-то время он сплюнул пожеванный протокол в металлическую миску, отмотал от рулона следующий, снова что-то написал на нем и опять отправил в рот.
Действо в той же последовательности повторялось раз десять, затем Витек взял в руки бутылки и доверху залил протоколы, лежащие в металлической миске, красным вином. Подняв миску, он отпил из нее, достал комок разбухшей в вине бумаги и под одобрительные возгласы узкого круга всунул участковому в рот.
Тот, разбрызгивая по бороде красное вино, принялся снова жевать, а потом не без усилия проглотил комок. Следующий протокол пошел веселее. Витек поднес к губам мента миску, позволив запить, сам взял размокший комок туалетной бумаги и тоже принялся есть. Минут через десять они оба заметно окосели от съеденного. Отхлебнув из миски еще разок, бородатый расстегнул пуговицы кителя и из-под него показалась большая женская грудь, по которой тут же потекли струйки вина. Под радостное волнение в зале участковый принялся обнажаться, и вскоре перед голым Витьком сидела весьма крупная бородатая баба в милицейской фуражке.
Как и предполагал с самого начала Андрэ, эти аллегории на библейские притчи должны были закончиться сексом. Бородатая баба опустилась под стол и принялась делать Витьку минет. В этом месте действие затянулось. Прошло минут двадцать, она все сосала, а Витек все никак не мог изгнать в нее беса. Воодушевленная до того публика начала немного скучать. Поэты снова потянулись на кухню доедать крабовые палочки с водкой. Еще минут через десять Андрэ устал и тоже вышел на кухню покурить.
Выпив с поэтами водки, он только успел закусить палочкой с майонезом, как из комнаты донеслись радостные возгласы публики. Андрэ понял, что Витек кончил, и выпил еще водки. По окончании акции публика расходиться не торопилась. Кто-то достал принесенные с собой бутылки вина, и квартира наполнилась голосами, смехом и сигаретным дымом. Андрэ выпил еще, попытался стрельнуть у нескольких знакомых денег, но вскоре понял, что в этом кругу он не найдет понимания.
Ровно в девять раздался звонок. Это был участковый Гаврюхин. Витек ему не открыл, но все сразу как-то съежились и приуныли. Минут через сорок, убедившись, что мент ушел, Витек открыл дверь, и небольшими группами по два-три человека публика принялась расходиться.
Возвращаться в бомбоубежище Андрэ не спешил, а потому решил пройтись по более «приличным» приятелям и хоть что-то раздобыть на жизнь. Оказалось, все уже слышали о Шеломе. Светлана предусмотрительно обзвонила общих знакомых и рассказала про него много диковинного. Одним она сообщила, что подонок вступил в сатанинскую секту, где его обязали носить прусский шлем. Другим, что на него упал кусок берлинской стены, что он и так был дураком, а теперь стал дебилом и ходит по городу в каске из страха, что на него упадет кирпич. Третьим, что во всем виноваты какая-то шлюха и фашист по имени Федор, которого за ящик шнапса мерзавец по пьяни чуть не зарезал. Четвертым, что его ищут албанцы, так как он должен фаустпатрон какому-то их крутому мэну Буяну, что тот поклялся утопить гада в Шпрее, поэтому гад прячется здесь, но на нем всегда шлем, а под шлемом белая горячка, потому денег гаду не давать, все равно он их, скотина, пропьет.
Опровергать эти истории Андрэ не стал. В каждом случае он дорисовывал недостающие детали и рассказывал, как все было на самом деле. По поводу секты сообщил, что подписал очень выгодный контракт с Люцифером. Церемония проходила ночью под мостом – ему сварили в тазике дамский сапог и заставили съесть. Берлинскую стену опроверг и сказал, что в действительности на него упала колонна с фасада Пергамона, когда вечером он, насвистывая полонез «Прощание с родиной», прогуливался по Музейному острову.
Про фашиста Федора уточнил, что его зарезал не он, а его бывший сожитель, а сам утонул – от неразделенной любви повесил камень на шею и бросился в реку. Добавил, что, когда тело достали, на нем были женские красные ботфорты на высоком каблуке. На вопрос, когда он успел сменить ориентацию, ответил, что случилось это внезапно и неожиданно для него самого, когда они с фашистом Федором, крепко напившись на каком-то банкете, спали под одним одеялом.
По поводу албанца Буяна сказал, что тот редкостный негодяй, утопивший в Шпрее не одну собаку, поэтому он пристрелил его фаустпатроном и нисколько об этом не жалеет. Еще по секрету Андрэ сообщил, что именно Буян, а не Герасим, был тем дворником, что работал в доме у канала, где жила убитая старуха-процентщица. И что не албанцы, а верные дружки Буяна – Кох и студент Пестряков – поклялись ему отомстить, поэтому он действительно скрывается сейчас в Могилеве и ни днем, ни ночью не снимает Шелом.
Но самое неприятное в этих историях было то, что денег Андрэ никто не одолжил, ну разве что самую малость. Все, ссылаясь на временное безденежье, день рождения жены и строительство дачи, в утешение и для излечения от белой горячки только наливали. Так что к ночи, совершенно напившись, Андрэ кое-как добрался до мастерской и рухнул ни с чем на матрас.
События последующих дней для большей достоверности приведем из дневника самого Андрэ, который он начал вести за пару недель до изгнания из бомбоубежища.
17 октября. Суббота. Четырнадцать дней до изгнанья
Проснулся сегодня со страшного бодуна. Вчера целый вечер бродил по гостям и, видимо, крепко намешал всякой дряни. Так бы и спал до обеда, но утром неожиданно разбудил участковый. Долго стучал в дверь, пока я не проснулся. Представился – старший лейтенант Мамарыга, затем расхаживал по мастерской, рассматривал уродцев. Спросил, не страшно ли среди них ночевать. Я ответил – уже нет, разве что с похмелья. И вообще, нас, авангардистов, специально учат не пугаться своих произведений. Потом стал интересоваться всякой ерундой – много ли пью, часто ли пью? Как назло, вид я имел болезненный, будто с Водкиным только пару часов тому распрощался. Часто подходил к крану и жадно пил воду. Засранец, наверно, подумал, что я конченый пьянтос. Вообще, тип был премерзкий. Глазки маленькие и злые. Если б знал, дверь бы не открывал.
Спросил про отношения с женой. О родителях. Пил ли отец? Ответил: наверное, пил, но без меня. Я его ни разу не видел. Интересовался, есть ли еще родственники. Часто ли бываю за границей? Чем там занимаюсь? Сказал, не ваше собачье дело. И вообще, я скоро сваливаю с его участка, выезжаю из мастерской, так что пусть трахает мозги другим кретинам.
Заглянул в чулан. Увидел там соломенного человека. Спросил: что это? Я ответил: прежний хозяин. Шутки не понял. Потом открыл шкаф и порылся там в барахле. Нашел журнал с голыми девками. Полюбопытствовал, не занимаюсь ли распространением порнографии? Принимаю ли наркотики? Состою ли на учете в наркологическом диспансере? В психиатрической клинике? В оппозиционной партии? Имею ли судимости? Находились ли родственники в оккупированной зоне? Не еврей ли я? Не нюхаю ли клей? Не гомосексуалист? Всегда ли говорю на белорусском? Чем зарабатываю на жизнь? Где я был 28 февраля в три часа ночи? Не я ли украл наволочки у стадиона? Зачем надел на голову Шелом?
Ответил: мне было виденье – явилась Дева Мария, наказала одеть Шелом и больше никогда не снимать. Потом говорю: не пугайтесь, я пошутил. На самом деле это поп меня в вино-водочном валенком огрел, с того времени и не снимаю. Тогда он спросил: какой я конфессии? Часто ли посещаю церковь? Ответил: вообще не хожу и попов не люблю. Поинтересовался: где взял Шелом? Сказал: получил грант германского генштаба. Спросил: что такое грант? Я объяснил. В ответ мент сообщил, что любую материальную помощь из-за границы я должен зарегистрировать в специальном комитете и получить разрешение на пользование. А еще необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию и заплатить пошлину государству.
Поначалу, когда Мамарыга пришел, я старался быть вежливым, но тут совсем из себя вышел и заявил, что чихать хотел на их комитет и налоговую, что мне сегодня пожрать не на что и уж тем более я не собираюсь платить никакую пошлину! Он очень разозлился, пригрозил ответственностью перед законом. Я сказал, что он меня достал! Если имеет что-то конкретное, путь приходит с понятыми и ордером на обыск да ищет свои наволочки. А если нет, то пусть проваливает из мастерской, не то львов спущу. Это пока еще не оккупированная, а моя территория.
После ухода околоточного думал, где раздобыть денег. Вчера настрелял лишь какую-то мелочь. Город совсем обнищал, даже спросить не у кого. А знакомые все голодранцы – художники да поэты, хоть бы один из лавочников средней руки попался! В голову пришла идея с тележкой. Но пробовать здесь не хочется. Оставлю на крайний случай. Вышел на остановку, купил литр пива. Выпив, отправился гулять в катакомбы под университетом. Хочу припрятать тут часть барахла. Надо найти укромное место и придумать, как в него пробираться не через мастерскую, а с улицы.
18 октября. Воскресенье. Тринадцать дней до изгнанья
После обеда отправился в город. Погода прекрасная. Солнце будто взбесилось. Напоследок дает всем погреться перед долгой зимой. В троллейбусе наткнулся на контролершу. Сказал: денег нет и штраф платить не буду. Хотела высадить, но, пока кудахтала, доехали до нужной мне остановки. Вышел, спустился к Днепру и побрел по берегу. Неожиданно нашел интересное место под мостом на проспекте Пушкина. В голове крутится забавная мысль: а если переехать сюда? Бред, конечно. Но напрашиваться на квартиру ни к кому не хочется. Да и особенно не к кому. Как оказалось, и друзей, кроме Витька, тут уже не осталось. Все знакомцы одни. Будут как на больного смотреть и зудеть: сними Шелом, сними Шелом.
Надо что-то с квартирой побыстрей придумать. С Витьком договорились, что ценное к нему перевезу.
Люди на улицах озираются. Мимо пройдут как будто не замечают, а потом остановятся и вслед смотрят. Идиоты! А место под проспектом Пушкина интересное! Завтра туда снова наведаюсь.
19 октября. Понедельник. Двенадцать дней до изгнанья
Был опять под мостом. Изучил все досконально. Это первый пролет со стороны Большой Гражданской. Место там тихое, а главное, расположено на косогоре. Случайные ротозеи туда не доходят, так как надо по бетонному откосу забираться. Получается нечто наподобие гнезда под мостом. Если внаглую заборчик соорудить да большой ящик поставить, то в спальнике, пожалуй, даже ночевать можно. Над головой, правда, троллейбусы круглые сутки ездят, но это ничего, они не мешают. Под Шеломом опять все чешется, надо бы к Витьку сходить да помыться.
На углу бульвара Непокоренных возле гастронома два облезлых пьяных кота пристали. Три квартала за мной по улице семенили и все просили Шелом дать померить. Потом один обнаглел и полез ручонками сам снимать. Пришлось двинуть ему между ног, а пока он корчился, я другого за волосы схватил и мордой об дерево хрястнул. Сказал: вот тебе, рожа пролетарская! Ненавижу уродов! Хорошо, что ментов рядом не оказалось.
20 октября. Вторник. Одиннадцать дней до изгнанья
Вечером в бомбоубежище теща заявилась. Не ожидал ее визита. Изменилась – волосы черные и кучерявые. Раньше она на следователя из гестапо была похожа, а теперь просто на партийную блядь. Сказала: если Шелом с головы сниму, работу в университете и мастерскую вернет. Просила про детей подумать. Сказала даже, что простит мне сапоги и другие прегрешения мои. Я в ответ говорю ей: «Что же это вы, Теща Мария, причащать меня пришли, что грехи отпускаете? Думаете, я уже помирать собрался?» А она в ответ угрожать: «Если шлем не снимешь, я тебя в сточной канаве сгною!». А я ей: «Ну что ж, матушка, это война, а в окопах мы все рано или поздно сгнием». С этими словами я достал один тещин сапог, натянул его на ногу и под улюлюканье развеселившихся на полках уродцев принялся скакать по комнате.
Мария взвилась и вылетела из мастерской, на прощанье сказав, что я юродивый и место мое на паперти возле церкви. Эта мысль мне понравилась. После ее ухода достал тележку, что в катакомбах нашел, и внимательно оглядел. Видимо, придется попробовать – все одно денег нет.
21 октября. Среда. Десять дней до изгнанья
Решено! Переезжаю! Переезжаю под мост! Лучшего места в этом городе мне не сыскать. Уже начал собирать вещи. Утром сходил в университетский гараж, договорился насчет микроавтобуса на завтра. Самое ценное – инструменты, альбомы – завезу к Витьку, остальное – под мост, часть в катакомбах припрячу.
Начал первый шкаф разбирать. Как только принялся за второй, неожиданно Швабра заявился, так его за глаза называют, потому что длинный и тощий, а костюм на нем как на швабре висит. Я встречал его в университете – Эдуард Валерьянович, куратор из органов. Студентов вербует, чтоб друг на друга и на преподов стучали.
Первым делом поинтересовался, чем я тут занимаюсь? Я ему: «Что, не видите? Шкафы разбираю! В подполье ухожу и мебель с собой забираю!» Эдуард оказался не такой тупой, как Мамарыга. Посмеялся и спросил, зачем мне шкафы в подполье? Говорю: «Как зачем! Историю про славянский шкаф помните? Для пароля нужен. По нему меня соратники узнают».
Тогда он начал меня про заграничные поездки расспрашивать. Куда ездил? Что делал? С кем встречался? Потом поинтересовался политическими взглядами. Я ему говорю: «Не сменил!» А он: «Что не сменили?» «Ну, как же – отвечаю, – Карла и Фридриха люблю, да и Володе уважуха!» «Правда, – говорю, – Карл меня в последнее время беспокоить стал! Давеча в гастрономе бутылку водки да два плавленых сырка не захотел продать. Хоть я ему объяснил, что с тезисами к Фейербаху ознакомлен, а еще тороплюсь, за мной гонятся, между прочим, два типа из ваших. А он меня в ответ гнидой империалистической обозвал! Совсем у деда крыша поехала!» «Кстати, – спрашиваю я у Эдуарда, – а вы знаете, что Фридрих масон? Когда он за прилавком в винном стоял, я собственными глазами перстень у него на руке видел!»
Швабра ничего не ответил. По скривившемуся выражению лица было видно, что Карла и Фридриха он не уважает. Да и откуда ему! Молод еще, наверное даже в пионерах не успел побывать! Потом он говорит мне: «Ну ладно, то, что вы сторонник марксистского учения, я понял. А зачем же вы тогда на голову пикельхаубэ надели? Вам, как коммунисту, надо другой головной убор носить».
А я ему с ехидцей отвечаю: «А знаете ли вы, сударь, что я не просто марксист, а марксист-империалист. То есть исповедую самое что ни на есть первоначальное, незамутненное, не испоганенное всякими ревизионистами учение! А имеете ли вы понятие, милостивый государь, что Карл Маркс был первейшим германским империалистом?» Тут я достал книгу Бердяева и зачитал Швабре фрагмент из «Духовных основ русской революции». А потом говорю: видите, сударь, я, как истинный марксист-ортодокс, прибыл в ваш город с большой миссией – цивилизовать славянские племена. А теперь для исполнения этой марксисткой задачи мне надо работать – шкафы разбирать, а вы отвлекаете.
На что он говорит: «Можете не утруждаться. Эти племена ничто не цивилизует. Даже христианству это не удалось. А марксизм попробовал, сами знаете, что получилось – ГУЛАГ». Я ему: «Странно мне, Эдуард Валерьянович, слышать от вас такие крамольные речи». А он в ответ: «Я же должен знать, с каким материалом работаю. А материал у нас безбожный, в душе все язычники. Так хоть бы они своим богам камлали, но и тех предали. А знаете, почему у здешних славян, простите за выражение, все через жопу?» Почему же, спрашиваю. А он говорит: «Вы слышали про проклятие идола? Это случилось тысячу лет назад, когда Владимир Русь крестил. Он повелел всех идолов изрубить, а Перуна особенно поругать и унизить. Его привязали к хвосту коня и волокли, издеваясь над ним, к Днепру. Когда же его бросили в реку, он, по Днепру плывя, поднял палец и проклял народ». «Палец? – обрадовался я. – Какой именно палец? Уж не средний?» И я показал ему «фак». «Может, и этот. Неважно, – ответил Эдуард Валерьянович. – Главное, что такое это было тяжелое проклятие, что с тех пор уже тысячу лет как у славян все наперекосяк. Что не сделают, все через жопу!»
Перед уходом Эдуард спросил, как я отношусь к президенту. Я ответил, что мне очень нравится его портрет, особенно тот, который висит в кабинете у Бориса Фадеевича. Он как-то не по-доброму посмотрел на меня и вдруг спросил: «А зачем вы фашиста убили?» Тут я чуть не рухнул на месте. Правда, попытался виду не показать. Но, думаю, все равно гад заметил, как я изменился в лице. Попробовал отшутиться, говорю, мол, что же, если фашист, то уже и убить нельзя? А он: «Перестаньте. Я не про политкорректность. Вы знаете, о чем я. Подумайте об этом. Хорошо подумайте!» И он почему-то пристально посмотрел на Шелом, а потом, не прощаясь, ушел.
Весь остальной день до глубокой ночи паковал вещи и все думал об этом. Откуда он мог узнать? Неужели письмо перехватил?
22 октября. Четверг. Девять дней до изгнанья
Утром заглянул на почту, спросил, было ли мне письмо. Ни черта толком не узнал. Говорят: у нас этих писем сотни, за каждым не можем уследить. Потом занимался перевозом вещичек. Как я и думал, в одну машину за раз все не влезло. Придется остальное барахло на троллейбусе довозить. Скульптуры поценней и инструменты оставил у Витька. Разобранные шкафы, кресло, маленький столик, посуду, чайник, доски, ДВП и другие материалы завез под мост. Туда же прихватил и электрическую плитку. Посмотрю потом, может, от уличного фонаря получится подключиться.
Прихватил с собой пять уродцев. Хотел больше, но в машину не влезли.
Приехав под мост, столкнулся с проблемой – как все по откосу поднять. Пришлось обвязывать и наверх веревками затягивать, но времени на это ушло изрядно.
После обеда принялся шкафы собирать. Поставил их спиной к бетонной опоре моста рядом друг с другом. Попробовал в одном постель расстелить, пристроился, но, оказалось, спать неудобно – ноги не вытянуть. Пришлось пропилить дырку в соседний шкаф, а щели между ними досками заколотить, чтобы по ночам не дуло. Получилось вполне сносное двухкомнатное жилье. В одном шкафу спальня, в другом столовая, кухня, гардероб и библиотека. Бюсты уродцев я наверх, на шкафы поставил. К дверцам петли прикрутил и навесные замки повесил, чтобы каждая любопытная блядь туда в мое отсутствие нос не совала.
Со столиком тоже немного повозился. Поначалу на откосе ровно не хотел стоять. Пришлось две ножки подпилить, но в итоге ничего гнездо получилось. Правда, над головой каждые пять минут троллейбус проезжает, да славяне какие-то на мосту орут. Зато вид здесь красивый. Что направо, что налево из-за опоры посмотришь – везде Днепр перед тобой расстилается!
В мастерскую вернулся поздно. Завтра займусь катакомбами. Надо там второе тайное гнездо устроить.
23 октября. Пятница. Восемь дней до изгнанья
Утром отправился в катакомбы. Все обошел и тщательно осмотрел. Остановил выбор на комнате в боковом тупике, немного подальше от больших залов. Правда, двери у нее нет, надо будет одну из мастерской снять, там поставить и замок амбарный повесить.
Придумал способ, как туда пробираться. Нашел подходящее окошко на улицу, заколоченное изнутри. Я гвозди вытащил и специальный засов смастерил, чтоб можно было снаружи открыть.
После обеда дверь в каморке повесил и начал было вещи туда перетаскивать, как вдруг неожиданно поп в мастерскую явился. Уж кого-кого, а его точно не ожидал здесь увидеть. Наверное, теща попросила. Она в последнее время набожная стала.
Очень он некстати пожаловал, времени мало осталось, а работы еще – конь не валялся. Но, думаю, ладно, хрен с тобой, все-таки особа духовного звания, надо хотя бы чаю предложить. От угощения поп не отказался, но как только на стул присел, сразу в побелке измазался. Я ему говорю: «Осторожно, батюшка, грязно тут у меня, рясу выпачкать можете!»
А он в ответ начал меня увещевать, уговаривать одуматься и от чертовского шлема поскорее избавиться. Говорит, мол, бесовство это все, лукавый за этим стоит, вон и рог один уже показал. А дальше только хуже будет! Я спрашиваю: «Что, и хвост вырастет?» А он: «Гореть будешь в вечном огне! В пламени адском!» Я ему в ответ, мол, спасибо, батюшка, за предупреждение, но на днях пожарник уже заходил и насчет пожара проинструктировал.
А поп продолжает: «Вот видишь, уже и языком твоим овладел сатана! Сам не разумеешь, какие речи говоришь! Геенну огненную с пожаром путаешь!» На что я ему: «Скажите честно, вы то сами в Бога веруете?» А он: «Не богохульствуй! Покайся! Сними эту чертовскую каску с головы!»
Тогда я у него спрашиваю: «Батюшка, а вы в каком звании? Капитан или пока еще старший лейтенант? Вы сюда по заданию комитета или по просьбе Марии Прокопьевны пожаловали?»
Он разозлился и почему-то начал на меня по фене наезжать, типа чтобы за метлой следил и базар фильтровал. А я ему говорю в ответ: «Спасибо, батюшка, за проповедь, но мы в посредниках для связи с Богом не нуждаемся! Если припечет, я как-нибудь сам на него выход найду! Тем более комиссионные платить вам не хочется! А теперь, извините, меня катакомбы ждут! Коли хотите мне еще что-нибудь про вечный огонь рассказать, то завтра я у вас на паперти перед церковью милостыню просить буду, тогда и поговорим!»
Ушел поп крайне раздраженный и все про бесовщину бормотал. А я, разобрав стеллаж, перенес его на новое место. Затем в каморку уродцев и кое-что из вещичек доставил.
Вечером тележку на завтра подготовил, дверные ручки тряпками обкрутил, чтобы от асфальта отталкиваться, безногого изображать. Но деревянную культяпку мастерить не стал. Думаю, здесь без нее обойдемся. Жрать уже совсем нечего. Последние остатки сегодня доел.
24 октября. Суббота. Семь дней до изгнанья
Утром погрузил на тележку двух уродцев и поволок их под мост. Прибыв на место, все внимательно осмотрел – не лазил ли кто. Вроде пока все тихо. Надо придумать, чем бетонный откос смазать, чтобы скользил и забраться никто не смог. Зимой проще будет – достаточно его водой поливать, а для себя деревянную лестницу соорудить и в кустах ее прятать.
Один бюст на шкаф водрузил, другой там уже не поместился, поэтому его рядом поставил. Очень он мне философа древнегреческого напоминает – дед с большой бородой. Правда, лицо злобное, будто недовольное чем-то. Тех уродцев, что позавчера на шкафах оставил, уже голуби успели загадить. Оказалось, их гнезда висят прямо над моим гнездом. Чувствую, за пару месяцев засрут они все до неузнаваемости.
Потом опять в шкаф залез, еще раз примерился, как спать буду. В принципе неплохо. Если б сюда еще провод от фонаря кинуть, то можно было б свет провести и обогреватель поставить.
Закрыв шкафы на замки, отправился к Никольскому собору. Метров за сто до него сел на тележку и, отталкиваясь руками от тротуара, покатил к главному входу. Кепку перед собой кинул и сижу на паперти, ситуацию оцениваю. Народу немного, в основном старухи. Наконец, несколько теток в черных платках из церкви вышли, а я им кричу: «Подайте, православные, убогому калеке, ветерану Первой мировой на билет до Бранденбурга!» Тетки посмотрели как на прокаженного и с испугом шарахнулись в сторону.
Просидел на паперти часа два. Накидали какие-то крохи. В основном сердобольные бабки, которым до пенсии дотянуть самим не хватает, подойдут и кто сто, кто двести рублей положит. А одна старушка подошла и спрашивает: «Ой! Адкуда ж ты таки бедалага узяуся?» Я ей отвечаю: «С фронта, бабуля, еду! Под Смоленском ноги оторвало, и вот все никак домой попасть не могу!» «Так война ж, – говорит, – дауно скончылася!» «Это для вас закончилась, а меня все по фронтам мотает!» «А куда, – спрашивает, – цябе, сынок, ехать?» Говорю, мол, до Гамбурга. А она: «А дзе ж гэты Гамбургер?» – «Да в принципе тут в киоске за углом. Только денег все равно нет!» – «Ай-ай, няшчасны», – и кинула в кепку триста рублей.
Посидел еще час и собирался уже было отчаливать, как глядь, откуда ни возьмись, еще один калека на тележке подкатывает и прямо на меня рулит. Подъехал, злобно посмотрел и говорит: «Вали отсюда, гнида фашистская, это мое место!» Я ему сначала спокойно отвечаю: «Что? Папертей в городе мало? Вон сколько за последние годы церквей понастроили!» А он мне: «Вот и пиздуй на хуй на микрорайоны! Эти церкви все равно пустые, потому что безбожники все, а верующих и на одну не наберется! А ты, сука, на хуй – самозванец! У тебя ноги из-под плаща торчат! И ты, паскуда, у настоящего калеки кусок хлеба забираешь! А я, в натуре, из Афгана без ног вернулся!»
Тут он откинул покрывало, и я увидел, что ног у него действительно не было. Вместо них из туловища торчали две убогие короткие культяпки. Тогда я говорю ему: «Ладно, давай вместе сидеть, паперть большая, места на двоих хватит». Но калека, совсем взбесившись, завопил благим матом: «Ты что, гнида нерусская, на хуй, не понял? Это наша паперть! Пиздуй попрошайничать в электрички! И чтоб я тебя здесь больше не видел!» Тут он сунул два пальца в рот и громко, по-разбойничьи, свистнул. Тотчас из-за угла выкатились еще два безногих на тележках и, гремя колесами по асфальту, кинулись ко мне. Окружив с трех сторон, они схватили костыли и, матюгаясь, принялись лупить меня по спине, рукам и Шелому. Так что Валенроду со Святополком досталось.
Тут я уже не сдержался, вскочил с тележки и, выхватив костыль у одного из уродцев, отлупцевал их сверху как малых детей. Правда, не сильно, а так, для острастки. Старухи, что были на паперти, заверещали писклявыми голосами. На шум из церкви вчерашний поп выбежал и завопил: «Ах ты, язычник, Перун на тебя! Прочь отседова, идол поганый!»
Кинув костыль под ноги, я крикнул им: «Нате, собаки, заберите ваш костыль! Черт с вами! Не очень-то и хотелось! У вас тут все одно нищета, ничего толком не заработаешь!» И взяв под мышки тележку, гордо ушел с паперти.
Вернулся в мастерскую без настроения. Попил чаю, да принялся остальное барахло в катакомбы выносить. Правда, сил уже совсем не осталось. Всю энергию эти безногие черти забрали. Видимо, спать надо ложиться.
25 октября. Воскресенье. Шесть дней до изгнанья
Настроения, по-прежнему, нет. Весь день пролежал на диване. Вспомнил Берлин. Подумал: семисвечник, наверное, на столе у Федора так и стоит, а рядом он, перемазанный краской, склонился над новой картиной и, мурлыкая себе под нос, что-то там красит. Вот кто единственный в мире счастливый человек. Он давно свой невидимый Шелом на голову надел, и ему другого мира не надо. А как там Ингрид? Вернулась в Ганновер или в Берлине осталась?
Вечером вышел в город. По дороге домой какая-то сволочь в булочной придурком обозвала. А когда в кассу в очереди стоял, сторублевка на пол упала. Нагнулся поднять, а тут она своей толстой задницей прямо к Шелому подлезла и на шпиль напоролась. Да как завопит на весь магазин, что я, мол, специально ее в жопу рогом бодаю! А я ей в ответ: «Такую жопу ни один рог не возьмет. Но разве что носорожьим попробовать». А она: «Хам, скотина, сексуальный маньяк!» Черт возьми! Нервы совсем сдают! На этих убогих калек с костылем накинулся! Попа собакой бородатой обозвал.
Эх! Кинуть все на хрен и уехать в Берлин!
26 октября. Понедельник. Пять дня до изгнанья
Подумал сегодня, а ведь прав Эдуард Валерьянович. Народы здешние и Христа не приняли, и над своими богами надругались. А потому ни от какой идеи у них нет теперь иммунитета. Все, что не придет, все, как чума. Коммунизм пришел – чума. Капитализм – чума. А здесь еще и своя чума. И защиты попросить не у кого. Здешние боги на них сильно обижены.
27 октября. Вторник. Четыре дня до изгнанья
Утром настроение получше. Кинув в рюкзак утюг, набор отверток и несколько альбомов, отправился на вокзал, как безногий советовал. Зайдя в вагон, исполнил интернационал и кричу: «Подайте, граждане, призраку коммунизма на билет – вернуться в Европу!» Говорю, мол, надоело туту вас в чумном бараке бродить, хочу обратно на историческую родину. Люди в вагоне тупо вылупились на меня и молчат. Наконец, какой-то остряк говорит: «Так чего ж ты в поезд не в том направлении сел? Тебе надо на Осиповичи, а не на Оршу!» Я ему: «Не умничай! Лучше помоги материально! А не можешь, так вот утюг купи!» Достаю из сумки и показываю, говорю, мол, совсем еще новый и отдам недорого. Тут какая-то баба кричит: «Утюг? Ну-ка, дай-ка сюда! Мне утюг нужен!»
Проехал дюжину остановок, но сколько «Марсельезу» и «Май либэ Августин» не пел, как граждан не уговаривал, что в их же интересах побыстрей от меня избавиться, скинуться на билет и отправить назад в фатерлянд, никак это на них не подействовало. Так, по мелочи ерунду накидали. Правда, утюг, набор отверток и альбом Ван Гога продал, а потом вышел и назад в Могилев поехал.
Зашел в дизель в обратном направлении, губную гармошку достал и начал полонез Огинского «Прощание с родиной» играть. А после кричу: «Подайте, граждане язычники, белорусскому партизану на дело борьбы с оккупантами! Доколе терпеть будем издевательства над своими богами?» Все отвернулись в окно и делают вид, что не слышат. Тут контролер заходит и говорит: «Где ваш билетик?» А я ему: «Вы что, указ гауляйтера не читали? Теперь для партизан в электричках бесплатный проезд». А он спрашивает: «А ты чей партизан?» «Ясно, – говорю, – чей – наш!» «А откуда, – говорит, – я знаю, что ты наш? По виду ты больше на полицая похож». «Это – отвечаю, – для конспирации. Видите тех двух старух с кочанами капусты в углу? Переодетые фээсбэшники. Они меня от самой Орши пасут». Посмеялся. «Ладно, – говорит – езжай! У меня дед тоже с оккупантами воевал! Только рельсы не разбирай и вагон мне не разьебошь!»
28 октября. Среда. Три дня до изгнанья
Сегодня взял валенки, Дюрера, настольную лампу и отправился на Быховский рынок. Часа три ходил, лампу и альбом продал. Вдруг слышу за спиной голос: «За сколько валенки отдаете?» Оборачиваюсь – Эдуард Валерьянович. «Хорошие валенки, – говорю, – отдам не дорого. Берите. Без валенок на фронте никак». Он: «А с Дюрером продешевили». «Откуда вы знаете», – спрашиваю. «А я за вами давно наблюдаю», – говорит Эдуард и добавляет: «Так что же вы решили?» «Если вы насчет богов, – говорю, – то я с вами согласен. Пора нам покаяться и к своим идолам обратно вернуться». А он в ответ: «Зачем вы юродствуете? Вы знаете, кто я и что могу с вами сделать?» «Знаю, – отвечаю ему, – вы любовник моей жены, мне это давно известно». «А мне известно, что вы человека убили! Вот письмо, которое пришло для вас из Берлина. Ваш приятель нечаянно выдал вас», – сказал Эдуард и вытащил из кармана письмо от Федора. Тут я все понял. Я попросил его почитать, но Швабра не дал, сказал, что это не в интересах следствия, а потом добавил, что мы можем быть, так сказать, по-семейному откровенны. Что теперь от него зависит дать этому делу ход или нет, но ему глубоко наплевать, какого там фашиста я замочил в Берлине, для него важно только то, что происходит здесь. И теперь у меня нет выбора. Если я сниму Шелом, прекращу свой сраный бунт против всех, он забудет про это письмо, а может быть, когда-нибудь даже сожжет, а если нет – он меня, по-семейному любя, уничтожит. Я стоял, как парализованный, даже не найдя, что ответить. «Что же вы молчите? – говорит он. – А, понимаю, мы здесь все язычники без идолов в голове, погрязшие в разврате, а вы же теперь святой! А если вы святой, совершите чудо! Что, не можете? А хотите я чудо совершу, исцелю незрячего?»
Тут он повернулся и приблизился к слепому, просившему милостыню у рыбного магазина, нагнулся, взял у того из шляпы какую-то мелочь и пошел с рынка прочь. Слепой вдруг прозрел, вскочил на ноги и побежал за Эдуардом, крича: «Отдай, сука!»
29 октября. Четверг. Два дня до изгнанья
Полдня лежал на диване, думал, что делать. То есть в том смысле, что Шелом все равно не сниму, а как из этого дерьма выбираться? Исчезнуть надо, залечь совсем глубоко. В Москву подаваться не хочется, да и нет там у меня никого. Разве что Человек-собака. Так я ему денег должен. Он мне как-то соломенного человека, что в чулане стоит, для своего проекта заказал. А я аванс взял, а человека так и не доделал. Да и изменился Собака. Богатым стал и известным. Кто я ему? Бедный родственник из провинции. Нет, укрыться надо, чтоб никто не нашел.
После этого встал, разобрал диван и перенес его в катакомбы. Снова лег на него, снова думаю, что делать? Неожиданно слышу какое-то шуршанье под дверью. Я напрягся, слух навострил, вдруг раздается стук в дверь. Сначала тихий, потом погромче. Я не ответил, а тут голос: «Андрей Николаевич, откройте». Открываю, а там Петр Евлампиевич стоит и почему-то в пожарном шеломе. В старом, еще тридцатых годов, с ребром и кокардой с топорами.
Говорит: «Вы не бойтесь, я никому не скажу, что вы здесь прячетесь». Я ему: «Как вы меня нашли?» А он: «Я же пожарнику тут каждый угол знаю. Я хочу вам кое-что показать». Он прошел в каморку и вытащил из-под мышки несколько живописных этюдов на картонках. Мазня мазней. Какая-то церквушка и березки в поле. Но я его расстраивать не стал. Похвалил. Говорю: у вас, Петр Евлампиевич, талант. А он весь счастьем светится, говорит: «Вы мне открыли глаза. Я был слеп, а теперь вижу. Пишу каждый день, и так мне это нравится-нравится. Видите, даже шелом надел».
Уходя, достал из сумки сверток в газете. Я его развернул, а там две селедки, хлеб и бутылка вина.
30 октября. Пятница. Один день до изгнанья
Утром вернулся в мастерскую. Вчера не выдержал, взял спальник, подушку и отправился под мост ночевать – попробовать, как новом месте спаться будет.
Приехал, в шкаф залез, постель постелил. Правда, заснуть долго не мог, ворочался с боку на бок. Все же жестковато пока, да и руки в стенки упираются.
Наконец, надоела мне бессонница, вылез наружу и, поставив кресло с видом на Днепр, бутылку вина, что Евлампиевич принес, открыл. Вокруг тишина, только изредка последние троллейбусы по мосту пролетают. А передо мной Днепр расстилается. Вода ночью темная, что-то там нашептывает про себя и несет свои тайны к Черному морю. Подумалось: вот кто славянский брат Рейна. Вот где хребет этих земель. Помнит идола, что проклятье славянам изрек, и цивилизацию здешнюю на его берегах поднимал. А вокруг красота – все торжественно, будто не Днепр это вовсе, а Архонт несет свои воды к подземному царству. Вспомнил мать. Подумалось: вот единственный человек во всем этом безумном мире, который бы принял, понял, простил, приютил. Сиротливо совсем без нее. Надо будет на кладбище съездить. Погрустив, допил вино и отправился спать.
Ночью птица в парке кричала. Пронзительный такой крик, будто звала куда-то. Спалось так себе – дремал вполглаза. Утром, как троллейбусы наверху зашумели, поднялся, шкаф на замок запер и в бомбоубежище поехал.
Весь день оставшиеся вещи в катакомбы перетаскивал. Получилась неплохая берлога. Буду в ней ночевать, когда совсем холодно станет. Только надо незаметно сюда по ночам пробираться. Днем меня мигом вычислят, по следу пойдут и на это логово наткнутся.
Только что Витек пришел. Принес «Крыжачка» две бутылки. Ох, не люблю я этот глицерин. Но придется выпить за окончание сезона. Пойду стол накрывать – лук и хлеб нарезать…
31 октября. Суббота. Ноль. Пуск!
…
На этом месте записки Андрэ неожиданно обрываются. Но не потому, что тем вечером он опять крепко выпил. Хотя известно – одной бутылки на двоих может быть и достаточно, но вот двух на двоих точно никогда не хватит. Поэтому, выпив их, они с Витьком отправились в ночник за добавкой. Но так как в Могилеве после девяти наступал комендантский час на крепленые напитки, то догоняться пришлось лишь пивом. Тут и скрывался коварный подвох. Ведь каждый пьяница-профи знает – нельзя полтора литра глицерина заливать сверху большим количеством пива. Может образоваться нитроглицерин, вещество крайне взрывоопасное, и последствия будут ужасны. И даже если вы сможете избежать злоключений, то утром наверняка вас ожидает тяжелейший бодун.
Но не только в этом состояла причина отсутствия записи в дневнике. Просто первым вечером промозглого ноября в тех местах, где можно было их написать, Андрэ не появился. Он не пришел ночевать ни в бомбоубежище, ни в шкафы под мостом, ни в тайный схрон в катакомбах. Не видели его ни на одной из квартир могилевских знакомых.
Просто в этот осенний день он отправился в полет. Тот полет, которого вроде бы ждешь, а наступает он все одно неожиданно. К которому в мыслях будто готов, но, когда появляются белые ангелы, ты кричишь им: «Оставьте! Оставьте меня в покое! Не хочу! Не желаю я с вами лететь!» Но ангелов больше не интересуют ваши желания. Они берут вас под белые крылья с собой, с равнодушием сообщая, что это тело вам уже не принадлежит.
Возможно, если бы в этот вечер они с Витьком столько не пили ничего б не случилось, но разговор был серьезный – они решали извечный вопрос: что делать? И как дальше жить? Узнав про разговор со Шваброй, Витек пришел в странное возбуждение. Он заявил, что выбора нет, Шелом однозначно надо снимать, иначе за убийство фашиста светит тюрьма, а в тюрьме все равно его снимут. Укрыться где-то в России Андрэ тоже не сможет, везде его узнают по прусскому шпилю. Единственный вариант – подарить Шелом другу.
Весь вечер и ночь Витек умолял передать ему этот проект. Он уже видел себя триумфатором, покорителем Москвы, марширующим в золотом прусском Шеломе по Красной площади. Клялся, что будет носить его не снимая всю жизнь, предлагал безумные деньги, которые в будущем заработает неважно как, прося ли подаяние у интуристов около собора Василия Блаженного, либо заключив контракт с крестным отцом арт-мафии Ларри Гогосяном. Но Андрэ был непреклонен. Под утро они даже подрались, когда Витек, окончательно окосев и устав от бесполезных уговоров, попытался силой надеть проект на себя. Бой был короткий. Точным ударом Андрэ поставил Витьку под глазом фингал, тот отлетел в дальний угол, а затем они заключили мир и выпили еще пива.
Когда в полдень они проснулись в бомбоубежище на куче тряпья, то, что творилось в их разорванных котелках, даже трудно было назвать похмельем. Под Шеломом будто находилась двухпудовая чугунная гиря, которую Андрэ даже не смог сдвинуть с матраса. Гиря скрутила виски, сдавила артерии, сплющила львов, так что Святополк с Валенродом безжизненно лежали на ней, как два дохлых кота на дороге, по которой проехал многотонный каток. Вокруг все кружилось, глаза выскакивали из орбит, а чтобы удержать гирю в вертикальной позиции, требовалось какое-то нечеловеческое усилие воли. Андрэ сразу понял, что это тот день, когда дожидаться захода солнца не только бессмысленного даже опасно.
Состояние Витька было похожим, но в отличие от хозяина мастерской его организм не был так изнурен голодовками, поэтому именно он отправился к ближайшему магазину за флаконом так необходимого им сейчас лекарства.
Если б Андрэ все же прислушался в тот день к голосу Федора Михайловича, который явился тотчас, как только Витек ушел в гастроном, то, может, его миновал бы полет ласточки над кукушкиным гнездом. Но он не прислушался. Наоборот, начал спорить. Заявил, что в самой идее – через страдания к совершенству – есть нечто порочное! Ведь если страдания от Бога, а совершенство от беса, то куда ж тогда катится мир, если не к черту!
Когда Витек вернулся с микстурой, Андрэ, первым делом накинувшись на пиво, со словами, что нет у него более авторитетов и никакой Федор Михайлович не вправе указывать, в какое время начинать ему пить, опрокинул в отверстие для рта на чугунной гире сразу целую бутылку. Потом, разлив по стаканам «Крыжачок», они взяли на грудь грамм по двести.
Как обычно, после такой терапии бодрость и ощущение радости жизни ненадолго вернулись. Андрэ повеселел, чугун в голове растопился до состоянья эфира, до той его фракции, когда все твое существо вдруг ощущает необычную легкость, почти эйфорию, когда мир опять становится дружелюбным, ласковым, милым. Львы на Шеломе тоже ожили. Их плоские оболочки наполнились гелием, и, невесомые, как воздушные шарики, сцепившись лапками, они принялись отплясывать над головой Андрэ «Крыжачок».
Однако это состояние души тем и опасно, что толкает к поступкам, которые, быть может, в этот день не стоило делать. Наверно, следовало выпить еще грамм по сто и отправиться спать. Но оживший Андрэ вдруг решил, что непременно надо доставить под мост три оставшихся бюста. А если сделать три рейса троллейбусом, то к вечеру он как раз успеет. Витек, раздосадованный неудачей переговоров, тоже куда-то спешил, поэтому, выпив еще пивка, они добили остатки «Крыжачка» и Андрэ, прихватив бюст косоглазого мужика, отправился на остановку.
Подоспевший вскоре троллейбус повез его в центр. Ехать было недалеко – несколько остановок, и возможно, если б он вышел из бомбоубежища десятью минутами позже, адские рогатые жернова проехали б мимо. Однако он сел именно в этот троллейбус и направился в руки злой Мойры, поджидавшей его через две остановки.
То, что это засада, он понял не сразу. Троллейбус остановился, и в распахнувшиеся двери сразу с трех сторон вошли контролеры. Это немного огорчило Андрэ. Билета у него, естественно, не было, поэтому он с раздраженьем подумал, что придется выйти и подождать следующий троллейбус.
Обнимая голову глиняного уродца, он стоял на задней площадке, когда контролерша – тетка с громоздким шиньоном, протолкавшись к нему, строго спросила:
– Ваш билет?
К этому моменту пары эфира в его голове еще не успели вновь превратиться в чугун. Настроение было лирическое, ругаться ни с кем не хотелось, поэтому, весело глядя контролерше в глаза, он ответил:
– Мадам! У меня нет билетика! И штраф нечем платить!
Мадам сразу тоже повеселела и крикнула кому-то у другой двери:
– Зина! Тут заяц нейки с копьем в голове! И штраф платить не хочет!
– Вывадзи на улицу! Хай Макарыч разбираецца! – рявкнула из дальнего конца салона Зина.
– Подождите, мадам! Вы меня с кем-то спутали! Во-первых, я не заяц, а лев! Во-вторых, за что же сразу Макарыч? Нельзя зайцев расстреливать! – Андрэ вдруг, почувствовав неладное, немного занервничал.
– Я вам не мадам! И вы мне не лев! Заяц, выходите! Фу, як перагаром нясе! – Баба с волосатой башней замахала перед носом руками.
Андрэ глянул за двери – на остановке стоял здоровенный Макарыч с малым макарычем в кобуре и поджидал троллейбусных зайцев.
– Давайте, давайте! Выходите! Не заставляйте вас за уши вытягивать! У вас и так вон одно ухо осталось! – весело добавила мадам.
Андрэ понял, что препирательства бессмысленны, и с недобрым предчувствием направился к выходу.
– Вот этот! Говорит, что он лев, и штраф платить не хочет! – крикнула из-за спины мадам милиционеру на улице.
– Не хочет? Заставим! Гражданин, пройдите в автобус! – рявкнул Макарыч, и тут Андрэ заметил, что рядом с остановкой стоял маленький «пазик», в который отправляли всех длинноухих без проездных аусвайсов.
– Разберемся, какой вы лев! – Макарыч взял его под руку и сопроводил до двери автобуса.
В «пазике» сидело несколько перепуганных зайцев и мент в форме капитана, который составлял за столом протокол. Опустившись на коричневое дерматиновое сиденье, Андрэ принялся дожидаться своей очереди.
Как назло, эфир в голове к тому времени снова стал обращаться в нитроглицерин, и Андрэ вдруг с ужасом заметил, что его тело, движения, речь начали фрагментироваться, разваливаться на осколки. Эйфория сменилась состоянием отупенья. Сознанье воспринимало реальность не связанными друг с другом лоскутами. Между ними образовались пустоты, тянувшие его в какую-то странную каламуть. В голове все плыло, мешалось – статуи, шкафы под мостом, аусвайс, троллейбус, баба с шиньоном, день за окном, мент, составляющий протокол.
Вскоре он ощутил себя возле стола. Перед ним фуражка с кокардой. Два черных глаза под густыми бровями. Пухлые синеватые губы что-то ему говорят.
– Что ж это, лев, а без билетика ездите?
– Понима-а-ете-е йя не-е-е из зо-о-опарка, я только ин-н-но-окенн-ти-и-ия хотел отвезти…
– Гляди, Макарыч, так он же в жопу пьян! Вызывай машину! Этого в участок!
– Нне-е-е-е надо… в участок…
– Третий, третий, вызывает пятый! Клетку нам на остановочку! Заяц тут в стельку пьяный попался. Мы на проспекте Мира на углу Космонавтов… Давай. Ждем…
– Начальник… не-е-е надо космонавтов… я не-е марси-и-анин…не надо к-клетку… н-не хочу в з-зо-опарк…
– Усади-ка его в кресло, а мне следующего давай…
Перед глазами опять коричневая, обитая дерматином лавка… Женщина перед человеком в фуражке… Зашли два мента.
– Вот этот… Забирайте его…
Железная клетка уазика. Маленькое зарешеченное окно. Напротив узкое сиденье для одного человека. Хлопнула дверь. Куда-то везут. На кочках трясет. Поворот… Опять поворот… Открывается клетка.
– Приехали! Выходи!
Какая-то комната. Стол. Деревянная лавка. Стены обиты ДВП до половины. Дальше краска. Почему-то салатовая.
– Что это за голова у тебя?
– Иннокентий Петрович… Мое произведение…
– Ты что, художник?
– Скульптор…
– Дай-ка его сюда! А то разобьёшь…
– Не дам… отпустите меня…
– Куда этого с головой?
– Давай пока в обезьянник! Только каску с него сними.
– Не надо каску снимать… вы не имеете права…
– Уберите руки! Оставьте!
– Гляди! Сопротивляется! А ну-ка, руки ему подержи!
– Ты что, блядь, делаешь!!!
– Ах ты, сволочь! Брыкается!
– Убери карявки, козел!!!
– Ах, я козел? Иван, сюда! Помоги!
– Блядь!!! Голова разбилась! Иннокентий Пет…
– Ах ты, сука! Драться надумал! Давай! Давай! Дубиналом его!
– Руки!!! Руки крути! Сильный гад попался! За спину, за спину давай!
– Козлы!!! Фашисты!!! Что ж вы делаете?!
– Ах ты, паскуда! Ну ты у меня сегодня ласточкой полетаешь!
– Крути!!! Крути!!! Наручники быстрей! Дай ему еще раз!
– Ласточку! Ласточку давай! Ноги держи! Пристегивай! Фу ты, черт! Во, сука!
– Гестапо!!! Животные!!! Вы за это ответите!
– Дайка ему по зубам! Чтоб не вякал!
– В обезьянник тащи! Еще немного! Ах ты, мразь! Еще и кусается!
– Двинь ему еще пару раз! Пшикни в морду газком, пусть полетает!
– Фу, вонь пошла! Дверь быстрей закрывай!
Последнее, что Андрэ еще помнил, – холод бетонного пола на щеке, на котором, изогнувшись всем телом, он лежал с пристегнутыми к ногам за спиной руками. Наручники больно сдавливали щиколотки и запястья, а из глаз катились большие, размером с горошину слезы. Слезы горечи от едкого газа, смешанные с горечью немого вопля обиды. Шелома на его голове уже не было…
Идол вернулся
Он очнулся от легкого толчка в плечо. Открыв глаза, Андрэ обнаружил склонившееся над ним обезьяноподобное существо. Это был совсем маленький человек, с коротенькими дугообразными ножками, смуглой кожей и почему-то совершенно обнаженным телом. Его потемневшее лицо походило на скукожившийся, изъеденный морщинами подвявший фрукт. Заметив его пробуждение, существо встрепенулось, мелкими кривыми шажками подбежало к темной металлической двери и, потрясая обвисшими между ног яйцами, принялось громко барабанить по ней кулаками.
«Где я? Почему? Кто это?» – мелькнуло в голове. Андрэ попробовал пошевелиться, но с ужасом ощутил, что его руки и ноги к чему-то привязаны. Почти голый, в одних трусах, он лежал под простыней на кровати в узкой незнакомой комнате. Он попытался что-то припомнить, как вдруг все произошедшее накануне резкой болью обрушилось на него. Шелома на голове больше не было! Осознание случившегося придавило его к земле с такой силой, что он, не выдержав, заревел как раненый лев. В этом реве было столько отчаяния, ненависти, злобы, что обезьяноподобный отскочил от двери и испуганно уставился на него.
Неожиданно металлическая дверь открылась, и в комнату вошли еще два существа в белых халатах.
– Ты что орешь? – недовольно спросил один. – А тебе чего? – Он строго зыркнул на стоявшего у двери обезьяна.
– Посцат хочу!
– Отведи его! – кивнул он другому халату.
– Где я? – спросил Андрэ сдавленным голосом.
– Как где? В раю! Ха-ха-ха! А мы архангелы! – Он подмигнул второму. – Во нажрался! Даже как в рай попал, не помнит!
– Почему я привязан?
– Потому что буянил! Ты к нам вообще ласточкой прилетел!
Тут на соседней кровати за спиной Андрэ кто-то громко и тяжело замычал.
– А ты чего мычишь? – существо в белом прошло в глубину комнаты. – Лежи тихо, не то тоже скрутим.
– Развяжите меня! – тихо попросил Андрэ.
– Развяжем, когда время придет! – архангел повернулся к входу и громко хлопнул за собой дверью. Через минуту она на мгновенье снова открылась, и обезьяноподобный, быстро просеменив босыми ножками по комнате, плюхнулся на кровать.
Андрэ попробовал, насколько смог, повернуть голову, чтоб понять, где он находится. Комната была узкая и довольно длинная. Вдоль стен одна за другой стояли низенькие металлические кровати. Сколько их пряталось за спиной, сосчитать он не мог. Но та, что стояла впереди, в этот момент пустовала. Справа, ближе к двери, располагалось большое окно. Со стороны комнаты на нем висела металлическая решетка. Стекла почти доверху покрывала белая краска. Лишь на форточке краски не было, и по темноте за окном можно было предположить, что сейчас уже ночь или поздний вечер. Кто еще находился в комнате, Андрэ не разглядел. Но точно кроме него здесь присутствовали человек-обезьяна и некто мычащий.
Пошевелив руками, Андрэ ощутил, как сильно они затекли. Две веревки туго прижимали их к боковым стойкам кровати. Лежать в такой позе было мучительно, а кроме того, во рту совсем пересохло, ему страшно хотелось пить, и жажда, смешиваясь с физическими и моральными муками, складывались в одну большую нестерпимую боль.
«Где я? – пытался представить Андрэ. – Мужик в белом сказал, что в раю. Но на рай не похоже, скорее на чистилище. Наверное, в преисподней такие шутки. Но это точно не ад. В аду должно быть жарко. Давеча поп пугал вечным огнем, а здесь стоит жуткий холод. Форточка открыта настежь, и из нее невыносимо сквозит. Нет, это точно чистилище. Сейчас придут архангелы и заберут каждого куда следует. Меня, скорее всего, в ад. Не думаю, чтоб перед дверями рая человека привязывали к кровати. А этого обезьяноподобного, наверное, в рай. Недаром он ходит здесь совсем голый. Да и «посцат» его выпускают. Настоящая невинная божья тварь. Воистину человек-уродец, наивный, с незамутненным рассудком, простой, как полено, – таких Господь любит.
А этот мычащий, наверное, еще под вопросом. Видимо, не решили, куда его, вот он и воет, душа мучается. Интересно, кто из них Михаил, а кто Рафаил. Думаю, Рафаил тот, что добрее. Все время усмехается. А тот, грозный, скорее всего Михаил. Он здесь главный специалист по чертям. Наверное, накладные на ад собственноручно визирует.
И все же! Где я? Это психушка? Палата для буйных? Но почему привязали только меня? В психушке должен быть ужин. Нянечки ходят с пилюлями и шприцами. Психиатры в очках. Эти два типа не похожи на психиатров. Скорее, на мордоворотов. Может, тюрьма? Но почему кровати, белые простыни. Где параша? В тюрьме обязательно должна быть параша. Черт возьми! Когда они развяжут? Холодно».
Внезапно дверь в комнату открылась, и на пороге снова показались архангелы.
– Ну что, бузить больше не будешь? – спросил Михаил.
– Развяжите меня!
– Ну, смотри! А то мигом скрутим! – подойдя к кровати, он развязал веревки.
– Где я?
– Как где! В вытрезвителе!
– А где мой Шелом? – Андрэ приподнялся.
– Какой еще Шелом?
– Золотой, со львами!
– Гляди, Рафик. Так поддал, что не помнит, где каску потерял! Ха-ха-ха! Не знаю! Когда выпустят, все фенечки, что при тебе были, обратно получишь.
– Но я уже протрезвел! Отпустите меня!
– Сейчас нельзя! Утром врач придет, освидетельствует, тогда выпустим!
– Но послушайте…
– Все! Разговор окочен!
– Но хоть «посцат» дайте!
– Ладно! «Посцат» можно. Пойдем!
Вернувшись в палату, Андрэ обнаружил, что за его кроватью стояли еще три ряда металлических шконок, на которых кроме парнокопытного и примата спало еще одно млекопитающее пока неизвестного ему вида. Свернувшись от холода клубком, Андрэ залез под простыню и постарался заснуть, чтобы тоскливые мысли хоть на время оставили его.
Он проснулся от громкого стука. Теперь перед металлической дверью, со всклокоченной шевелюрой, в одних семейных трусах стоял травоядный. Неуклюже пританцовывая на месте, он громыхал по ней кулаками, а по неловким движениям было заметно, что Бахус еще не покинул его. Сон больше не шел. Андрэ ворочался с боку на бок, но это не помогало отделаться от назойливых, уже совсем протрезвевших мыслей. Они повылезали из темных каморок сознания и бесчеловечно, с особым садизмом терзали его.
– Допрыгался? И что теперь твой проект? Кончилась концепция? Хотел миру «фак» показать, и где ты теперь? Лежишь сейчас среди млекопитающих. Справа – обезьяна. За спиною – парнокопытный. А ты кто? Хотел быть как Человек-собака? Вот ты и стал собакой! Лежи теперь, скули, как ободранный бездомный пес.
Думаешь, ты еще в преисподней? Нет, ты не в чистилище. Ты уже в аду. Что, тоскливо? А чего ты хотел? При жизни в белый мир, в рай попасть? Славу, деньги, почет получить? Получил? И на что ты рассчитывал? В чистилище ты до этого жил. Твой серый убогий мир и был преисподней. Но ты ж против серости взбунтовался, войну ей объявил. А она этого не прощает. Вот она тебя в черный мир, в ад, и опустила.
Глупо? Бессмысленно все получилось? Да, серость тоже бессмысленна. Только ты ж решил своей концепцией эту бессмысленность серого до полного абсурда довести! Так сказать, в квадрат ее возвести! Понял теперь, что не с твоими мозгами к бессмысленности в квадрате приближаться! Один ее вид разорвет их на мелкие части! Место таких, как ты, – сидеть в бессмысленности первого уровня. Обложиться газетами, телевизорами, бабами, политикой, дрянью всякой, чтоб любым способом мысль про смысл вообще удавить! А ты кем себя возомнил? Сверхчеловеком? К бессмысленности высших уровней устремился! Все, кто до тебя этот путь проходил, либо Наполеоном в психушке кончал, либо Наполеоном становился, но все равно плохо заканчивал. Даже Ницше гимн Сверхчеловеку спел, за край бездны заглянул, а все одно в дурдоме задвинулся.
– Не слушай их! Теперь отступить – вот где бессмысленность! Бессмысленность даже не в квадрате, а в кубе! Ответь серости! Разнеси к черту ее гребаный мир!
– А что же ты теперь можешь? Рельсовую войну объявить? Посевную с битвой за урожай разлучить? Мост между ними подорвать?
– Да хоть бы и мост! У тебя два больших шкафа прямо под опорой стоят!
– Идиот! Где ты потом ночевать будешь? Спи лучше! А то договоришься.
– Что, не спится? Сосчитай до ста.
– Zwei und zwanzig, drei und zwanzig, vier und zwanzig, fünf und zwanzig, sechs und zwanzig…
Андрэ повернулся на другой бок и попробовал цифрами хоть ненадолго изгнать из своей головы эти беспощадные мысли.
– Zwei und dreissig, drei und dreissig, vier und dreissig, fünf und dreissig…
– …а она, сука, ментов вызывать! Я говорю ей, – ну, подожди, бля! Выйду, ноги выдерну! Жаба!
– Дай-ка воды хлебнуть!
Андрэ открыл глаза. За окном уже рассвело. Через открытую форточку виднелся кусок красной кирпичной стены. Обезьян с парнокопытным сидели на кроватях друг против друга и о чем-то беседовали.
– Буль-будь-будь… А-а-а! Хорошо пошла!
– А у меня вот, на хуй, недавно был случай – напился я спиртяги чистой. Утром пошел, на хуй, в ванную воды попить. Голову под кран сунул, хлебнул, а она, на хуй, на старые дрожжи мне в голову как ебанет! И я в ванну мордой пиздрык! А там матка белье замочила! И я тону, на хуй, задыхаюсь, а подняться не могу! Так бы копыта, в пизду, и откинул! Хорошо, что матка рядом на кухне была! Прибежала и за ноги вытянула! Во, бля, какая история!
Внезапно дверь в палату открылась, и на пороге появился незнакомый человек в белом халате. Окинув всех взглядом, он кивнул Андрэ головой:
– Вставай! Пошли!
Когда через час выдали вещи, Андрэ с облегчением вздохнул – Шелом лежал среди них. Водрузив его на голову, он вышел на улицу и увидел, что наступила зима. С тяжелого серого неба на землю падали большие белые хлопья первого ноябрьского снега.
Андрэ вдруг почувствовал необъяснимую легкость. Не было больше проекта, не было больше искусства, не было больше концепции, кураторов, критиков, желания славы. Начиналось что-то другое, гораздо более важное…
Вернувшись в бомбоубежище, он вынес из него все подчистую, аккуратно подмел мастерскую, запер дверь и, повесив на гвоздь перед входом ключи, исчез…
Через пару дней, когда Мария Прокопьевна зашла в мастерскую, она увидела в большой пустой комнате одиноко стоящего соломенного человека. С его шеи свисала табличка, на которой по-немецки было написано: Achtung! Miniren!
Собравшийся сразу ЧК – чрезвычайный консилиум, состоявший из ректора Бориса Фадеича, пожарника Петра Евлампиевича, долговязого Швабры, Марии Прокопьевны и дворника Гавврылова, – долго совещался, что с этим делать, но все же решил саперов не вызывать.
Фадеич сразу предположил, что эта дурацкая шутка – подарок им от долбанутого зятя Марии Прокопьевны ко дню Октябрьской революции. Но если вызвать саперов, шум поднимется на весь город. Придется остановить занятия, эвакуировать студентов, и уж точно это происшествие не пройдет незамеченным в Минске. Пришлют в университет какую-нибудь идиотскую комиссию, начнут разбирательство, станут искать крамолу во всем учреждении, скажут, что он пригрел бэнээфовских отморозков в подвале, надают по шапке, влепят строгий выговор с занесением в личное дело, а то и вовсе снимут с должности и отправят заведовать свинофермой. Поэтому, резюмировал Фадеич, мусор, то бишь солому, из избы выносить не будем, саперов не вызываем, а разминируем сами.
Швабра с ректором полностью согласился, добавив, что и он получит пистон в задницу за то, что вся его агентурная сеть не смогла разглядеть вражеский элемент в подведомственном заведении. Пошептавшись еще, они решили отправить на разминирование дворника как самого малоценного из членов ЧК. Но Гавврылов вдруг взбунтовался и заявил, что за такую нищенскую зарплату он жизнью рисковать не будет. Мол, плевать он хотел на эту бомбу, а если его уволят, то такая работа – собачье дерьмо с асфальта подметать – везде найдется. И, посмотрев на Фадеича, гавкнул ему в рыло, что отправлять на разминирование надо того, у кого зарплата жирнее. На это Фадеич возразил: «Не время покидать штурвал корабля в такой ответственный момент». И вообще, мол, зарплата у него не большая – еле сводит концы с концами, и уже второй год коттедж под Могилевом достроить не может, а вдобавок ему еще приходиться платить за учебу дочери в Лондоне.
На что Швабра возразил, что разминирование не входит в круг его обязанностей в университете, а заниматься этим делом должен завхоз. В ответ Мария Прокопьевна, замахав руками, закричала, что ликвидация бомб есть прямейшая задача МЧС – Министерства по чрезвычайным ситуациям, а единственный человек, который здесь его представляет, – Петр Евлампиевич, пожарник. Евлампиевич по природной доброте и глупости ничего возразить на это не смог, а только достал носовой платок и начал вытирать обильный пот, проступивший на лысине. Потом почему-то вспомнил, что у Белочки больная ножка, и, вообще, он без шлема в подвал не войдет.
К счастью, у Бориса Фадеича имелся под рукой прекрасный реквизит его студенческого театра, и, быстренько сгоняв в университет, он вскоре вернулся с немецкой каской в руках и расписным жостовским подносом, которым для надежности прикрыли брюхо Евлампиевича. Трижды перекрестив, его втолкнули в бомбоубежище и на всякий случай прикрыли за ним дверь.
Когда Петр Евлампиевич вошел в комнату, то поначалу, не притрагиваясь ни к чему, долго рассматривал соломенного человека, пытаясь найти в его трухлявом теле следы проводков или каких-нибудь опасных механизмов. Затем, ничего не обнаружив, он взял длинный металлический шомпол и начал осторожно протыкать чучело в разных местах. Где-то шомпол протыкал человека навылет, но где-то упирался во что-то твердое. Что это было – бомба или деревянный каркас, Евлампиевич понять никак не мог.
Очень долго он мучился с шомполом, вонзал прутик в солому, обливался потом, пока в нем что-то не надломилось, нервы не выдержали напряжения, и, схватив соломенного человека в охапку, с криками: – А-а-а-а-а!!! Бля-я-я-я!!! Ложись!!! – Евлампиевич вылетел из бомбоубежища. Поджидавшие под дверью, члены ЧК, застигнутые этим маневром врасплох, кинулись наутек. Бежавший быстрее всех Эдуард Валерьянович первый укрылся за баками с мусором. Уже разучившийся бегать Фадеич, пытаясь угнаться за Шваброй, споткнулся, зацепившись за куст, упал и завопил благим матом.
Пожарник же, пролетев с чучелом по двору, забежал за угол и рухнул на землю, накрыв опасность всем телом. Прошла секунда, две, три, но взрыва не произошло. Прошла еще минута, но Евлампиевич, словно в параличе, продолжал лежать на соломенном чучеле. Из оцепенения его вывела Мария Прокопьевна. Появившись из-за угла, она строго произнесла:
– Вы идиот! Вы сломали ногу Борису Фадеичу!
Поднявшись, Евлампиевич бросил на землю поднос и, неожиданно став в позу, с вызовом прокричал:
– Я, извините, не идиот! Я художник! А вы, Мария Прокопьевна, вы… – Евлампиевич подбирал нужное слово, – вы… бесчеловечная… вы… Вы сами говно! Я больше не желаю вас знать! Я ухожу!
Студенты, привлеченные криками, прильнув к окнам, с интересом наблюдали странную сцену: пожарник в немецкой каске, размахивая руками, что-то доказывал Марии Прокопьевне. Швабра возился с сидевшим на земле ректором. А в дальнем углу двора пылал соломенный человек, возле которого деловито сновал дворник Гавврылов. Когда чучело догорело, он поковырялся в остатках носком сапога, достал метлу, старательно сгреб в совок угольки и выкинул их в мусорный бак.
– Товарищ Мересьев, вы уже здесь?
– ?
– Здесь! Он уже здесь. Слышите?
Из дальнего угла кабинета послышалось легкое поскрипывание, словно по полу прокатилась коляска. Неспешно приблизившись, она на мгновение замерла, как вдруг под столом что-то стукнуло. Все вздрогнули от неожиданности.
– Да! Да! Он уже здесь! Задавайте быстрее вопросы! – прошептала Мария Прокопьевна.
– Товарищ Мересьев, кто он? – взволнованно проговорил Фадеич.
Все посмотрели на пребывавшего в сомнамбулическом состоянии Швабру. Тот сидел какое-то время не шелохнувшись, но потом, как петух, встрепенулся, и карандаш в его пальцах пришел в легкое, еле заметное движение.
– Пишет! Пишет! Уже пишет! – засуетился Фадеич. – Читайте, что там!
– О…Н…ОН…
– ОН? Он написал ОН! Это в каком смысле ОН? Мария Прокопьевна, расшифруйте, что значит ОН?
– Буквы заглавные. Может это на латыни – ОАШ? Химическая формула?
– Слышь, ОАШ – водород что ли? Водородная бомба? Боже! Опять бомба! Какой ужас!
– Перестаньте паниковать, Борис Фадеич, формула водорода ОАШ-два. ОАШ – это что-то другое.
– Светлана Георгиевна, слышь, быстро химический справочник! В шкафу, на полке!
– Гидроксильный радикал – высокореакционный и короткоживущий радикал ОАШ, образованный соединением атомов кислорода и водорода, – полистав справочник, зачитала Светлана. – В биологии гидроксильный радикал относится к реактивным формам кислорода и является наиболее активным компонентом оксидативного стресса.
– Я так и знал! Сильный высокореакционный радикал! Слава Богу, хоть коротко живущий, но ведь активный компонент стресса! Товарищ Мересьев, вы только посмотрите, какой стресс он тут нам устроил! – запричитал Борис Фадеич. – Слышь, гляньте на эту ногу! Гипс. Университет давеча заминировал. Так ведь сволочь не унимается. Вчера сторож Гавврылов какую-то бабу в черном балахоне во дворе ночью заметил, догнал ее, хвать за балахон, а там этот ОАШ – реакционный радикал в прусском Шеломе. Так что бы вы думали, ОАШ развернулся и Гавврылову прямо в рыло засадил. А еще этот водородный ОАШ хочет весь город на воздух пустить. Два дня назад доска почета с передовиками у автобазы завалилась. Тоже ведь, наверное, его рук дело. Представьте себе, тридцать лет простояла и вдруг завалилась!
– Борис Фадеевич, перестаньте причитать, – прервала его Мария Прокопьевна. – Пока Эдуард в трансе, задавайте вопросы. Долго он не протянет!
– Да, да, сейчас. Товарищ Мересьев, вы не могли бы уточнить, каких еще фокусов от него ожидать?
Карандаш в руках Эдуарда Валерьяновича снова пришел в движение и на листике бумаги появилось: «Берегите фикусы».
– Какие фикусы? Что еще за фикусы? Слышь, мои фикусы в кабинете?
– Говорил я вам, надо Рериха вызывать, – прошептал на ухо ректору Альберт Брониславович. – От Мересьева ничего толком не добьешься.
– Перестаньте! Спрашивайте быстрей что-нибудь еще!
– Товарищ Мересьев, а тяжело без ног самолетом управлять?
– Пишет…
– Что там?
«Ночь… Мороз… Мост… Фашисты кругом… Ноги остались в лесу…»
– Светлана Георгиевна, что вы за глупости у него спрашиваете? В самолете все равно нет педалей!
– …А чем же он тогда тормозит? – удивленно подняла глаза Светлана.
– Товарищ Мересьев, а когда наши придут? – неожиданно ляпнул Альгерд Брониславович.
– Слышь, это что еще за наши? – заревел грозно Фадеич.
– Тише, тише, господа! Это я так, для поддержания разговора. Все равно Швабра ничего не слышит!
Тем временем руки медиума снова пришли в движение и на листике появились слова: «Днепр… В четверг… Идол вернется…»
– Какой такой идол?
– Он, наверное, имеет в виду идола, которого славяне в Днепр бросили.
– Причем тут, на хрен, славяне?
– Это случилось, когда язычников крестили, – вставила Светлана. – По легенде, когда идол по Днепру плыл, он им проклятье послал. Швабра, то есть Эдуард Валерьянович, говорит, что с того времени у славян все через жопу пошло!
Все недоверчиво посмотрели на Швабру. Тот бледный сидел недвижимо минуты с две, потом вздрогнул, и карандаш в его руках быстро-быстро запрыгал, выдавая на листе одно за другим слова: «Река… Шкаф… Славяне в троллейбусе… Голуби срут…»
– Слышь, срут… – задумчиво повторил Фадеич. – Да, у славян все через жопу! Товарищ Мересьев, у меня к вам просьба большая. Пожалуйста, ни Жукову, ни Шубодерову, ни Кирпичу, не Жердяю не рассказывайте, что у нас тут случилось. А то ведь засмеют. А я потом магарыч вам проставлю!
В кабинете зависла долгая ватная тишина. Вдруг под столом опять что-то громко стукнуло. От неожиданности все снова вздрогнули, а Швабра, подпрыгнув на месте, выронил из рук карандаш и боком в беспамятстве рухнул всем телом на пол.
– Вот, бля, сволочь малохольная! Слышь, сеанс связи сорвал! Простите, товарищ Мересьев! Посмотрите, с кем работать приходится! Залетайте к нам еще! Всегда рады вас видеть! – Фадеич схватил графин с водой и жадно опустошил прямо из горлышка треть его содержимого.
Кое-как приведя Швабру в чувство, Фадеич выпроводил из кабинета Альгерда Брониславовича как человека не «нашего» круга, достал из шкафа для снятия стресса бутылку коньяка и из оставшихся созвал военный совет. Предстояло разработать план решительных действий.
Первым взял слово Фадеич. С видом фельдмаршала Кутузова он пошаркал заключенной в гипс ногой по кабинету и принялся излагать стратегию предстоящей кампании. Смысл его слов сводился к тому, что хоть ОАШ – неприятель и, как уже стало известно, высокореакционный радикал и отброшен от стен университета, но по-прежнему представляет для них угрозу, а потому надо дать ему окончательный бой.
Прокопьевна, поправив прическу, добавила, что ОАШ по-прежнему их общий позор и, потребовав радикальных решений, предложила заслушать Швабру. Тот сообщил, что вариантов немного: история с фашистом не сработала, сан-станция с милицией также вряд ли помогут, а серьезного компромата на него нет. Поэтому самым простым решением будет снять шлем силой. Что он, Эдуард Валерьянович, может организовать, есть у него пара надежных людей, которым он мог бы поручить это дело. Где ОАШ скрывается, ему известно – проспект Пушкина, мост через Днепр, место ночью безлюдное, так что свидетелей там не будет.
Но тут в Светлане Георгиевне неожиданно проснулся Святой Георгий. Она заявила, что хочет лично присутствовать при экзекуции и собственноручно поразить гада копьем.
– Светлана Георгиевна, – Эдуард поднял глаза на Светлану, – вы понимаете, что снятие с гражданина силой головного убора на улице есть деяние уголовно наказуемое, именуемое в народе грабеж? Вы точно хотите при этом присутствовать?
– Непременно, – категорично заявила она.
– Но ОАШ вас узнает!
– Не узнает! Я буду в парандже!
Уже несколько дней луны над городом не было. Тяжелое одеяло из туч укрывало небо, поэтому улицы, которыми Андрэ пробирался к Днепру, кутались в темноте. Черное чрево дворов растворяло его, делая почти незаметным. Лишь изредка, когда на пути попадалась освещенная улица, он появлялся в свете фонарей, но тут же быстро исчезал в черноте очередной подворотни.
Три часа ночи. Двор, еще двор. Улица. Короткая перебежка. Идти неудобно. В руках две трехлитровые банки, набитые тритуолом. Главное, не споткнуться, не кувырнуться вниз, иначе все случится здесь и сейчас, по-дурацки нелепо.
Андрэ выглянул из подворотни на большую освещенную улицу. «Кажется, никого. Черт возьми, сколько тут фонарей! – Он выскочил из темноты и короткими шажками побежал к подворотне напротив. – Слава Богу! Никто не заметил! Да, только сегодня. Тригуола хватает. И так уже затянул. В любой момент кто-нибудь на шкафы может наткнуться. Откроет, а там банки. Да, хватит. Пока кончать! Сегодня со всем и порешу».
До Днепра уже было рукой подать. Впереди только пешеходный мост через дорогу, и сразу за ним начиналась спасительная темень парка. Ступив на мост, Андрэ быстро засеменил к другому концу, но когда дошел до половины, вдруг заметил, как из-за угла вдалеке выехал милицейский уазик. Бежать было поздно. Не раздумывая ни секунды, он осторожно поставил банки и всем телом распластался по тротуару. Звук мотора приблизился, сделался громче и, нырнув под мост, стал удаляться.
Андрэ подхватил банки и через минуту уже шел по боковой аллее парка. Подойдя к Днепру, он спрятался в кустах и принялся наблюдать, не произошло ли за время его отсутствия подозрительных перемен. Все выглядело спокойно. Деревья в парке, будто сопереживая ему, замерли в тишине, готовые выдать Андрэ каждый посторонний шорох. Мост был пуст. Последние троллейбусы проехали по нему больше часа назад. Лишь под мостом у шкафов, закинув ногу на ногу, сидел на стуле какой-то человек с тростью в руке.
«Черт возьми! Снова приперся! Ну и хрен с ним. Пусть сидит. Раз пришел – будет подельником», – Андрэ вынырнул из кустов и направился к мосту. Вскарабкавшись на откос по припрятанной в хмызняке лестнице, он, не обращая внимания на сидящего у шкафов человека, снял замки и проверил, все ли было на месте. Шеренги трехлитровых банок с тритуолом загадочно подмигивали ему тускло мерцающими бликами.
«Ладно, пора. Скоро по мосту троллейбусы пойдут», – обернувшись к сидевшему на стуле человеку, он произнес:
– Федор Михайлович, любезный, вы не могли бы перебраться в другое место? А то мне надобно мост сейчас подорвать. Если б вы устроились с вашим стульчиком метрах в трехстах отсюда, вам бы и безопаснее, и комфортнее было. К тому же лицезреть конец мира вам будет любопытнее из партера, а не со сцены.
Но Федор Михайлович, ничего не ответив, только в упор посмотрел на Андрэ.
– Понимаете, взрыв сейчас будет сильный, можно сказать, конец света! От вашего костюмчика и стула, на котором сидите, вмиг угольки только останутся! А потом еще бетонная балка вам на голову упадет! Я вас очень прошу – пересядьте! А лучше вообще на ту сторону Днепра. Ну, хотите, мы вместе там, в кустах, устроимся? Я даже могу вам дать рычажок адской машинки повернуть!
Достав из шкафа большой моток проволоки, он, поковырявшись в клеммах замерзшими пальцами, подсоединил концы к электрорубильнику.
– Ну, как хотите! Я вас предупредил! – Спустившись с откоса, он принялся разматывать провод в сторону дальних кустов. Пройдя метров сто, Андрэ кинул конец шнура с подключенной к нему адской машинкой, а сам поспешил обратно. Присоединив другой конец к детонатору, он опять посмотрел на Михайловича.
– Я вас умоляю! Через минуту мир полетит к черту! Отойдите от шкафов на безопасное расстояние!
Федор Михайлович, слегка сутулясь, скрестив на коленях руки, молча, недвижимо, словно восковая мумия, по-прежнему восседал на стуле. Тихому безмолвию классика аккомпанировало лишь предрассветное журчанье Днепра, шорох голубей наверху, да легкие шлепки птичьего помета, изредка спадавшего на восковую фигуру. Достав носовой платок, Андрэ стряхнул с плеч Федора Михайловича кучки голубиного говна и раздраженно произнес:
– Понимаю… Презираете… Считаете меня бесом. А сами вы кто? Болотный человек! И мыслите вы по-болотному! И литература вся ваша болотная! И весь ваш род из этих белорусских болот происходит. Хоть вы всю жизнь и пытались стать более русским, чем нижегородский мужик, и самым последним негодяям в своих романах здешние фамилии давали, а все одно болотным человеком остались! Потому и тянет ваш дух сюда, в могилевские топи.
Андрэ воткнул детонатор в банку с тритуолом и снова глянул на старца:
– А ведь это вы, Федор Михайлович, убили старушку! И Лизавету вы убили! Да! Да! Именно вы вложили топор Раскольникову в руки и тем самым удовлетворили свое тайное желание, то, на что сами бы никогда не отважились, но которое в глубине души вам так страстно хотелось исполнить! И бес – это вы! Всю жизнь вы литературой беса в себе испепеляли! Хотели со своей болотной сутью расстаться! А сейчас сидите, молчите, осуждаете! Меня, болотного человека, презираете! А может, вы не презираете, а завидуете, что я сделаю то, на что у вас самого рука не поднялась? А может, сочувствуете? Кто ж вас разберет, коли вы не говорите ничего! Ну, теперь уже все одно! Нечего мне терять! Да и времени попусту болтать с вами нет! Скоро троллейбусы по мосту пойдут! Пора! Прощайте, Федор Михайлович!
Прикрыв дверцу шкафа, Андрэ спустился с откоса. Вернувшись к укрытию в кустах, он лег на землю, взял в руки рубильник и в последний раз посмотрел на мост. Одинокая фигура старца, все также сутулясь, недвижимо сидела на стуле.
Парк над Днепром будто застыл в тишине. Откуда-то издалека, словно из прежней жизни, доносилось еле слышное урчанье милицейского уазика. Андрэ положил руку на холодную эбонитовую рукоятку.
«Ну что ж, пора! – с грустью произнес он и начал обратный отсчет: – Zehn, Neun, Acht, Sieben, Sechs, Fünf, Vier, Drei, Zwei, Eins, Null! Пуск!!!»
Андрэ всем телом припал к земле, вжал голову в плечи и резко повернул рукоять…
Одна, две, три секунды прошло, запах мокрой травы у лица…
…но взрыва не было!
«Черт возьми! Почему? – он приподнял голову и глянул на мост. Фигура Федора Михайловича все так же сидела у шкафа. – Неужели ошибка? Может, провод пробит?» Он вскочил и кинулся к мосту. Подбежав к шкафу, Андрэ рванул дверцу и с удивлением обнаружил, что кто-то отсоединил провод от детонатора.
– Ну, знаете, Федор Михайлович, это уже слишком! – в гневе закричал он на безмолвного классика. – Не хотите помочь, так уж извольте и не мешать! Еще раз такое сделаете, я, невзирая на ваш авторитет и мою любовь к вам, возьму в охапку и, как дыню, в Днепр выкину!
Он схватил конец провода и хотел уже было снова присоединить его к детонатору, как вдруг почувствовал, что трость классика не сильно, но звонко стукнула его по Шелому. Опешивший от неожиданности Андрэ обернулся и услышал, как Федор Михайлович, не вставая со стула, глядя прямо ему в глаза, произнес:
– Идиот!!! Поверни рукоятку на адской машинке обратно! Иначе взлетишь над Днепром тотчас, как замкнешь провода с детонатором!
– Тьфу ты, черт!!! Правильно! Danke schön, Федор Михайлович! Надо вернуть рубильник в исходное положение!
Андрэ стрелой полетел обратно к кустам, переключил рукоятку и снова побежал к мосту. Вернувшись, он быстро подсоединил провода к детонатору, закрыл дверцу шкафа, еще раз поблагодарил Федора Михайловича за подсказку и пулей кинулся к кустам. Упав на землю, он затаился, сделал глубокий вдох как перед долгим нырком, пригнул голову и щелкнул рубильником…
…Прошло несколько мгновений, но взрыва опять не произошло.
– Вот блин! Старый пень! Ну, я тебе покажу! – выскочив из кустов, Андрэ побежал к мосту. Взобравшись по лестнице, он увидел, что провода снова отсоединены от детонатора. В бешенстве кинулся он на старца. Подлетев к нему, он вытащил платок, отряхнул с плеч классика очередную порцию говна, насранную за это время голубями, а затем, ухватившись за спинку стула, со словами: Entschuldigung! Извините! Сами виноваты! Я вас по-хорошему предупреждал! – поволок Федора Михайловича к краю откоса. Кое-как дотянув, он толкнул его вниз. Классик, не отрываясь от стула, кувырком, как большая продолговатая дыня, покатился к реке и с шорохом скрылся в зарослях прибережных кустов.
Андрэ кинулся соединять проводки, но, к счастью, вспомнил, что снова не переключил рубильник обратно. Сломя голову бросившись к адской машинке, он вернул рукоять в исходное положение и, весь вспотевший от треволнений и пустой суеты, метнулся к мосту. Соединив провода на детонаторе, он полетел обратно к кустам. Рухнув на землю, без всяких вдохов и обратных отсчетов, он тотчас переключил рукоятку, но…
… взрыва опять не было. Подняв голову, Андрэ кинул взгляд на мост и с удивлением обнаружил, что фигура Федора Михайловича снова как ни в чем не бывало, закинув ногу на ногу, восседала с тростью у шкафа.
– Ах ты, старый козел! Ну, я тебе задам! – Как взбесившийся кот, Андрэ выпрыгнул из кустов, пулей вскочил на откос и, еле сдерживая себя от желания вцепиться Федору Михайловичу в глотку, заорал:
– Ну что, слеза невинного младенца?!! А ведь вы это из страха написали! От ужаса перед тем бесом, что сидит внутри вас! Ведь вас, небось, каждый раз, когда вы видели ребеночка, мимо проходящего, кошмар парализовывал от мысли – а взять бы сейчас и чем-нибудь тяжелым его по головке ударить!!! И вы, Федор Михайлович, всю свою волю в зубах стиснув, гнали прочь эту дикость – только бы ваша рука без спроса сама не дернулась! И топтали, топтали, топтали эту безумную мысль! А она, дрянь, снова и снова возвращалась да в голове вашей крутилась!
– Ах, ты наказанье! – Федор Михайлович схватил трость и что есть силы хрястнул Валенрода по морде.
– А! Зацепило! Вот вы уже и со мной, последним болотным Свидригайловым, наконец заговорить соизволили! А ведь вся литература ваша это ужас перед самим собой! Потому что Свидригайлов – это вы! И сука Лебезятников – тоже вы! И Раскольников! И Мармеладов! И Катерина, что у Сапегова утюг, телевизор и канцелярский вицемундир украла! И все, все, все бесы, как один, – тоже вы! Ах, как мучили они вас! Душу на изнанку выворачивали! Вот вы индульгенцию на отпущенье грехов сами на себя и писали! В страданиях черта вашего утопить хотели! Чистилище через них пройти! Душу очистить! Через мучения к Богу приблизиться! За то и люблю вас, Федор Михайлович! И по заветам вашим не пью до захода солнца! А теперь не мешайте мне дело до конца довести! Утро скоро! Люди по мосту пойдут! Сидите смирно, коли не хотите, чтобы младенцы безвинные из-за вас плакали!
Андрэ кинулся трясущимися руками соединять провода на детонаторе. Но только успел он нагнуться, как Федор Михайлович крепко сзади вцепился ему в шею. Завязалась нелепая валтузня. Андрэ выпрямился, подался всем телом вперед и больно стукнулся Святополком об дверцу шкафа. Тот дернулся, и тяжелый глиняный бюст, что стоял на верху, зашатавшись, рухнул с двухметровой высоты прямо на голову классика. Руки, крепко сжимавшие шею, тут же обмякли и куда-то исчезли.
Воспользовавшись моментом, Андрэ резко распахнул дверцу и склонился над детонатором, но тут же получил сильнейший пинок ногой под зад. Все тело его подалось вперед, голова ударилась о тыльную стенку, и шпиль Шелома, проткнув ее, застрял в фанере. Он попробовал повернуться, но, Боже! голова намертво прилипла к шкафу, будто прибитая здоровенным гвоздем.
– Снимай Шелом!!! – прокричал за спиной Федор Михайлович и, снова вцепившись в шею руками, что есть силы, потянул на себя…
– Ах, вот кто душил меня ночью в Питере на квартире бутлегера, когда я пришел купить валенок! Ну, погоди, сейчас ты получишь! – в бешенстве прохрипел Андрэ и, не отрывая головы от шкафа, схватил проводки и тотчас замкнул их на детонаторе.
– А-а-а-а-а!!! Бля-я-я-я-я-я-я!!! – в микронные доли секунды промелькнула мысль. – Сейчас рванет!!! Я же опять забыл повернуть рубильник обратно!!! Взрыв!!! Сейчас будет взрыв!..
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! Тьфу ты, черт! Какой бредовый сон!!! Шайзе!!! Дерьмо!!! Невероятно!!! Федор Михайлович! Конец света! Мост! Взрыв! Что за чушь! – Андрэ сидел весь словно очумевший. Сердце бешено колотилось.
– Тихо! Тихо! Ничего не случилось! Это всего лишь кошмарный сон! Успокойся! Ты в шкафу! Шкаф под мостом! На улице ночь! Скоро утро, троллейбусы пойдут! Ложись! Тебе надо еще поспать!
Андрэ опустил голову на подушку. В шкафу было темно и тихо. Судя по легкому шороху, доносившемуся снаружи, на улице шел дождь. В последние дни он лил, почти не переставая. Промерзлая сырость окутывала все вокруг, стекала с голых веток, пропитывала тяжелое ватное одеяло, проникала под одежду, делая мир неуютным, мерцающим, скользким и липким.
Он осторожно повернулся на другой бок. Пустые трехлитровые банки в шкафу пришли в легкое волнение и недовольно вполголоса прозвенели: бзынь, дынь, минь, инь, янь. Он закрыл глаза, но сон больше не шел в голову. На душе было тоскливо и как-то бесконечно одиноко…
Он начал вслушиваться в шепот дождя. Ничего нового сегодня он не шептал, а так же, как и вчера, монотонно шелестел свое: ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш…
Ш-ш-ш-Шух-Шух-ш-ш-ш… Андрэ напряг слух. Ему показалось, что в однородном звучании явно присутствовал еще какой-то неизвестный посторонний мотив. Ш-ш-ш-Тук-Шух-Тук-Шух-ш-ш-ш-Тук-Шух-ш-ш-ш…
Теперь он отчетливо различал эту чужеродную примесь. Тук-шух-шух, очевидно, было звуком чьих-то шагов…
Андрэ приподнялся и замер. Тук-шух-шух приближался… Прошла пара минут – он был уже совсем рядом. Кто-то неизвестный ходил возле шкафа… Сейчас Андрэ слышал не только шаги, но и тяжелое, с одышкой дыханье незнакомца. Рука осторожно потянулась за палкой, припрятанной под матрасом. Он затаился, напрягся… Лишь тоненькая стенка фанерной дверцы отделяла его от нежданного гостя…
Тук! Тук! Тук! – Андрэ чуть не подпрыгнул на месте. Кто-то с той стороны стукнул три раза по двери шкафа прямо перед его носом. Он сжался как пружина, но ничего не ответил.
Тук! Тук! Тук! – стук повторился.
– Кто там? – тихо спросил Андрэ.
– Шалом!
– И вам шалом! Чего надо?
– Слышь, выйди! Погутарыць надо! – донесся с той стороны глубокий бас.
Приоткрыв дверцу шкафа, Андрэ осторожно высунул Шелом наружу.
Перед ним в темноте стоял на костыле одноглазый старик. Чем-то он был похож на сильно растолстевшего и потрепанного войной и миром Льва Толстого. Седые волосы старца и огромная борода спускались на длинную белую рубаху, подпоясанную простой пеньковой веревкой. Из-под рубахи виднелись просторные холщевые штаны. Одна нога была убрана в лапоть, на другой был гипс, обмотанный поверху каким-то тряпьем. Правый глаз старца наискось закрывала черная повязка. Одиноким оком истрепанный Лев в упор смотрел на Андрэ…
– А, и вы здесь, Лев Николаевич! Что-то классики ко мне зачастили! – раздраженно произнес Андрэ, не вылезая из шкафа.
– Какой я тебе Лев? Слышь, собака! – грозно рявкнул старец.
– А кто же вы?
– Что, не видишь? Я Бог!
Если это был Бог, то происходил он явно из Среднерусской возвышенности и кроме создателя «Войны и мира», напоминал партизана смутного времени Ивана Сусанина, погубившего ляхов в непроходимых болотах. На груди старца висел здоровенный православный крест с большими искусственными рубинами. Немного опешив от неожиданной встречи с Богом, Андрэ из почтения все же вылез из шкафа:
– Ну если вам и про собаку уже известно, то, наверно, вы Бог. Хотя не ожидал здесь вас увидеть, Создатель! Правда, примерно таким вас и представлял. Но не предполагал, что вы будете в гипсе!
Шаркнув гипсом два шага навстречу, Создатель басом проговорил:
– Эх, Андрюша, подвел ты меня. Свели тебя бесы! Что, в войнушку поиграть захотелось? А ты мне когда-то даже нравился. Ведь хороший же парень! Душа у тебя добрая, жена Светлана с причудами, но умница. Я тебе и мастерскую дал. Вон посмотри, сколько в ней красоты наваял, – Бог кивнул в сторону угрюмо смотревших на него со шкафа уродцев. – Слышь, сдалась тебе эта война! Человек для мира нужен. Так что, слышь, что я тебе скажу: снимай шлём, пошли домой! Если снимешь, так уж и быть, прощу тебя.
Я сегодня добрый. Даже в университет тебя верну. Мастерскую снова дам. Хочешь, часов тебе добавлю. Сколько у тебя было? Два раза в неделю? Слышь, будешь теперь каждый день преподавать. А если в войнушку поиграть захочется, так я тебя в университетский театр пристрою. Там и шлём сможешь надевать. Мы и пьесу для тебя специально подберем про Первую мировую. Слышь, я и сам люблю фильмы про войну посмотреть! Вон, почти каждую неделю в кинотеатр «Мир» хожу.
– В кинотеатр? – удивленно переспросил Андрэ.
– Я сказал «кинотеатр»? – Бог на секунду насупился, как бы обдумывая вопрос. – Ну да! В кинотеатр «Мир». Слышь, а что тут такого? Для меня мир как кинотеатр, вернее, большой телевизор. Только каналов не тридцать, а миллиард. Вот я целыми днями и щелкаю их. Откуда, думаешь, я про тебя все знаю? Телевизор «Мир»! Слышь, это тебе не какой-нибудь «Сони». Захочу, например, про тебя узнать, раз на кнопку, а там вся твоя жизнь день за днем, длинный такой сериал.
– Как же вы не устаете миллиард каналов крутить?
– Устаю, Андрюша, очень устаю, да и скучно! Слышь, я ж фильмы про войну люблю, а там все больше мыльные оперы. Правда, в последнее время все чаще безобразие какое-то стали показывать! Очень много насилия! Насилия и секса. Тьфу, аж противно! Иногда даже хочется схватить этот телевизор, да и выкинуть его на хрен к черту!
– А это, может, вам на ногу тоже телевизор «Мир» упал? – неожиданно спросил Бога Андрэ.
– Э, не забывайся! – Бог нахмурил брови. – Слышь, помни, с кем говоришь! А то превращу тебя в таракана.
Да и вообще, некогда мне тут с тобой, дел много. А сегодня мне еще тридцать три сериала отсмотреть, футбол «Спартак» – «Динамо» (Киев), саммит СНГ,КВН, «Прожектор перисхилтон» и «Доктор Хаос» – последние серии сезона. Так что снимай шлем! Можешь отдать его мне. У меня как раз в коллекции нет такого. А сам в шкаф. До утра поспишь, а потом на троллейбус и домой. Света тебя простит. Я ей сон вещий пошлю. Так что давай! Слышь, нет в твоей войне никакого смысла.
– Нет смысла? А что же вы, Создатель, людей сотворили, а смысла им, кроме телевизора, не дали?
– Правильно формулируете! – раздалось неожиданно из темноты. – Нет в его мире кроме телевизора для вас никакого смысла! Только я могу его дать!
Обернувшись на голос, Андрэ заметил в проеме моста высокого, болезненно тощего человека. Чем-то он был похож на сильно исхудавшего и вытянувшегося на полметра Гитлера. Если б не маленькие усы под носом, черный потрепанный, мешковато сидевший на незнакомце эсэсовский костюм и неестественно низкий хриплый голос, то его можно было даже принять за Швабру. Лицо Гитлера покрывали синевато-бурые разводы. Казалось, что, скрываясь в таком виде в местных лесах, он постоянно попадался под тяжелую руку здешним мужикам, а те с наслаждением мудохали его, лепя под глаз очередной фингал.
– А, и вы здесь! Вас-то я сразу узнал, господин черт!
Черт подошел ближе.
– Война! – он поднял палец к небу. – Вот смысл! Все ко мне с этим приходят! К нему же только убогие тянутся, а он им лишь телевизор да любовь из мыльной оперы предложить может. Посмотрите, как они за такую любовь его по щекам исхлестали, аж глаз выбили. То ли дело война! Хочешь денег, власти, славы, любови женщин? На! Бери! Завоюй все это! Только война их принесет!
– Не слушай его, Андрюша. Вернись в мир, а войну с головы сними! – Бог шаркнул костылем навстречу черту. – А ты, слышь, убирайся, чего приперся? Он мой!
– Ваш? Неужели? Он фашиста в Берлине замочил! А убийство – тяжелейший грех! – неестественно захрипел Адольф. Видимо, кроме тумаков, здешние мужики еще регулярно и с удовольствием душили его.
– Так что теперь он мой! Это я его с собой забираю. – Гитлер повернулся к Андрэ. – Так что, Андриан Николаевич, снимайте свою каску и следуйте за мной! Хотели войны? Получите! Ждет теперь вас вечная война!
– Зачем же мне тогда Шелом снимать?
– Как зачем? – удивленно вытаращился на него черт. – Жарко там у нас! Голову опечете. Это ж вам не Магадан, а пекло. Все грешники у нас не то что без касок, без одежды воюют. Ну вы и лох! Ничего, скоро сами поймете! А я всегда говорил: не надо смотреть его телевизор. А то насмотрятся и понятия не имеют, что такое ад. Вы что, думаете там просто вечный огонь или вы на сковородке, как барин, лежите, а вас поджаривают? Ни черта! Нет, про вечный огонь верно, и нары у нас из сковородок. Только на них никто не лежит, а все друг с другом воюют. Хуячат, пиздят один другого в камере сутки напролет, стреляют, бомбы кидают, но убить не могут. Это ж вечный ад, как они могут умереть? Убить наша конституция не позволяет. У нас в аду мораторий на смертную казнь. Вот грешники друг другу без остановки рыла и чистят. Если кто устал, может, конечно, на сковородку прилечь. Но поверьте, больше секунды вы на таких нарах не пролежите. А вы хотите в пекло, да еще и в пикельфаубэ. Да вы сами ее сразу скинете. Зачем вам еще одна раскаленная сковородка на голове?
– А эти бланши под глазами вам тоже грешники из ада поставили? – поинтересовался Андрэ.
– Ну, вообще-то я в камеру сам никогда не захожу. Страшно. Ну случается иногда на пересылке. Или когда грешника в карцер переводим. Он из камеры выскочит, а остановиться уже не может, вот и хуячит всех подряд. Совсем распустились! Полное падение нравов! Никакого уважения к чертям. Даже меня, генералиссимуса, бывает, какой-нибудь бесноватый по уху приложит! Видите, как мундир измазали, уже отстирать не могу.
– Ну что, Андрюша? Хочешь с ним на войну отправиться? Слышь, покайся, пока не поздно! Сними грех с головы!
– Знаете что, дедушка! – подбежав к старцу, злобно прокричал черт. – Вы мне клиентов не отбивайте! Тоже мне председатель архангельского совхоза! Творенья ваши одно око вам уже выбили! Станете на них наезжать, и вторую ногу оторвут! Не удивлюсь, если скоро с коляски будете телевизор смотреть!
– Слышь, это я-то на них наезжаю?
– Да, вы! Хватит! – Адольф замахал руками. – Кончилось ваше время! Годик-два и вообще должности лишитесь. Тоже мне футболист! И телевизор у вас заберут. Будете на пенсии простой ламповый «Горизонт» крутить. А над ними той власти, что ранее, вы уже не имеете! Создавать уродцев они и без вас научились! Вон на шкаф посмотрите, сколько придурков оттуда на вас пялится! Для них он Бог! – Черт ткнул в сторону Андрэ пальцем. – А вы не слушайте этого Кутузова! Давайте, собирайтесь! Нету меня времени с вами тут долго разговаривать! Заявок на сегодня много! Да и птицы тут у вас срут! Костюмчик и так изношенный!
– Будешь каяться? Последний раз спрашиваю! – Будто в подтверждение старец раздраженно стряхнул с плеча кучку свежего голубиного помета. – Слышь, засранец!
– Вот! Видите? Что я говорил! Молчит. Фашиста убил, а каяться не хочет! А наказание за преступление еще никто не отменял! Я в ваши мыльные оперы не лезу, а наказание – это по моему департаменту! Так что, Андриан, сдайте амуницию этому чернокопателю и идем!
– Знаете что, Адольф, как вас там по отчеству, Шэкель-груберович, – не выдержал Андрэ. – Никакого фашиста я не убивал! Убийство – это умышленное причинение смерти. А он сам на меня напал! Так что валили бы вы отсюда! Ни на какую войну я с вами не собираюсь. У вас своя война, а у меня своя. И нет у вас никакого пекла. Ваша война только здесь. Но что толку от завоеванных денег, власти, славы, любви женщин, если за ними лишь пустота! Слышите, пустота! Не только рая, даже ада с наказанием нет! В Его пустом телевизоре куда больше смысла! Уж если душа без ваших даров в нем исстрадается, то смерть как избавление воспримет! После бессмысленных телетерзаний раем для нее отключение электричества станет! Вы же, господин черт, пытаетесь ее привязать, смыслами своими – деньгами, властью, славой! Чтоб в них она как в телегрезах жила. Чтоб пустоту там как запредельный ужас воспринимала! Только страшно будет от смыслов ваших очнуться! Не дай Бог, в сознание прийти и понять, что костлявая уже на пороге стоит, а даров ваших завоеванных с собой в пустоту без рая и ада забрать ты не можешь! А правда как есть: смысл это пустота! Нет его!
Тут же повернувшись к старцу, он более сдержанно, но решительно произнес:
– Вас, Создатель, я тоже попросил бы уйти. Нет вас. И рай вы можете дать только из телевизора. А если вы есть, то только в моей голове. Весь мир только в ней. Если я помыслю Бога, он будет. Но я вас не мыслю! А если и мыслю, то почему вас? Может, Бог – это я?
– Ты что такое говоришь, слышь, собака? Я Бог!
– Собака? Да, я собака! Я Анубис! Бог с головой собаки! Да, я Бог! Пусть не для всех. Пусть только для себя! Я маленький местный бог! Здешний идол вроде того, которого в Днепр бросили! А вы, может, и есть, но, как все вокруг, вы вещь в себе. И в смыслы ваши мне проникнуть невозможно. А сами открыть вы их не желаете и на главный вопрос ответить не можете! Поэтому мой мир – это мой мир! А ваш – только ваш! И для меня вы не Бог, а шкаф! Большой черный шкаф с запертой дверцей! А теперь, простите, мне пора в мой шкаф отправляться! Утро скоро, славяне по мосту поедут, а знаете, как троллейбусы на рассвете визжат, спать не дают!
– Слышь, я шкаф? Да, жаль, Андрюша, не хочешь по-хорошему!
– Да что с ним базарить! Все! Хватит! Надоело! Видите, Сусанин, куда завела их ваша либеральная программа телепередач! Ничего святого не осталось! Ни черта, ни Бога не уважают! Пора с этим Андрианом кончать!
– Как же вы это себе представляете? Задушите? Или телевизионного мастера вызовете, чтоб канал отключил?
– Мастера? Я вам вызову мастера! Неудачник! Даже университет подорвать толком не можете! Только Гавврылову в рыло двинуть, вот все, на что вы способны! – истерично заверещал Адольф. – Мастера? Будет вам мастер. Будет и Маргарита! Есть у меня такая Маргарита, мало не покажется! Не Маргарита, а просто душечка, маргаритка! Ева, милая! Пойди-ка сюда! Тут один клиент несговорчивый попался.
Андрэ вдруг заметил, как из темноты отделилась женская фигура в черной парандже. Ее появление можно было бы принять за дурацкую шутку, если б не длинная острая коса в ее руках. Коса была не шуточная, а самая настоящая. Ева с косой была бы очень похожа на смерть со старинных гравюр, если б не паранджа да лицо вместо черепа, которое закрывала черная полупрозрачная сетка.
– А-а-а! И смерть уже здесь? Наконец-то все в сборе! Бог, Черт, Смерть и Солдат! Как же я сразу не понял! Ведь это театр! Вернее, вертеп! Ну, конечно, это чертов вертеп! И вы всего лишь куклы вертепа! Вот только одной куклы все равно не хватает! Где Невеста? Я вас спрашиваю! В вертепе у солдата обязательно должна быть невеста!
– Вы что, Андриан Николаевич, не знаете, кто у солдата невеста? – с ухмылкой проговорил черт. – Смерть – вот ваша невеста!
– А почему она в парандже? А, понимаю, современно! Идете, Адольф, в ногу со временем! Конечно, кто теперь косит – баба в парандже!
– Хватит умничать! Невеста заждалась! А вы у нее не один. У нас сегодня еще три свадьбы по плану. В Багдад надо слетать, в Хайфу и Лондон. Так что или снимайте каску, или прямо здесь вас зарегистрируем и повенчаем!
Андрэ обернулся к черту и, еле сдерживая себя, в раздражении прокричал ему в лицо:
– А не изволили б вы убраться от моего шкафа! Со всеми вашими чертовскими смыслами и божественными бессмыслицами! И бабу вашу с собой заберите! Не нравится мне такая невеста. Костлявая слишком, голова пустая и платье у нее черное!
– Да что с ним базарить! Давайте, батюшка, начинайте обряд венчания! А потом сразу заодно соборуете и отпоете! А я пока записи в книгу регистрации браков занесу!
Черт достал из кармана блокнот в кожаном переплете и, приготовившись писать, с ехидцей произнес:
– Итак, Ева, невеста! Согласны ли вы взять в мужья солдата Андрейку, Андрея, Андриана?
Ева молча пришла в движение и, схватив косу наизготовку, стала медленно приближаться к Андрэ. Он с ужасом понял, что попал в ловушку. Пути отступления были отрезаны. Слева на него надвигался Лев Николаевич, справа был Гитлер, перед ним – смерть в парандже, а за спиной оставались два шкафа – маленькая сцена вертепа, его последний редут, в котором он мог бы укрыться. Попятившись к шкафам, Андрэ схватил первое, что попалось под руку, – «Критику чистого разума» Канта – и метнул ее к черту.
Но тот, увернувшись от «Критики», бодренько произнес:
– Так и запишем! От жениха последовал молчаливый жест согласия!
Андрэ в ужасе принялся хватать и бросать в сватов пустые трехлитровые банки. Те с грохотом разбивались о бетонный откос, но это не спасало его положения. Троица по-прежнему угрюмо надвигалась на него.
– Жених! Готовы ли вы взять в жены Еву, Маргариту, Светлану, Смерть, Пустоту?
К этому моменту банки закончились, и в руках Андрэ оказался утюг, который он тотчас метнул в невесту. Утюг нырнул в пустоту, исчез там и секунд через десять звучно грохнулся обо что-то, будто упал на дно глубокого колодца.
– Последовал ответ, который следует трактовать как знак согласия!
Жуть и паника овладели Андрэ. Он принялся хватать со шкафов головы обезумевших от ужаса уродцев и бросать под ноги сватов и невесты. Последняя вещь, которую он кинул, – электрическая плитка – полетела в батюшку. Но тот ловко отмахнулся от нее костылем, и плитка, ударившись о бетонную опору моста, развалилась на части. Андрэ схватил невесть откуда взявшуюся трость Федора Михайловича и начал махать ею перед лицами троицы.
Кольцо неотвратимо сжималось. Отступать было некуда. Вдруг черт, прыгнув вперед, вцепился в Андрэ, повалил его на бетонный откос и принялся колошматить по щекам. Сверху на него всей массой свалился батюшка и крепко ухватился за руки. Невеста, накинувшись с боку, начала бить его сапогом, стараясь попасть между чертом и батюшкой. Потом забежала с другой стороны, вцепилась в Шелом и потянула его на себя. Вскоре поняв, что одной рукой она его снять не сможет, Ева кинула наземь косу и схватилась за шпиль обеими руками. Но это тоже не помогло. Черт, перестав валтузить Андрэ, кинулся невесте на помощь. Вдвоем они вцепились в Шелом, но тот будто прирос к голове.
Батюшка, вскоре почуяв неладное, подскочил и тоже ухватился за шпиль. Андрэ, уже почти не сопротивляясь, лежал на земле, а троица яростно тянула Шелом на себя. Но тот никак не хотел поддаваться.
Первым, кто понял, что произошло чудо, был черт. Он вдруг отскочил от Шелома и, удивленно уставившись на него, тихо прохрипел:
– Чудо! Этого не может быть! Но ведь чудо!
Весь вспотевший, запыхавшийся от суеты батюшка, тоже не веря своим глазам, тяжело дыша, комкая в руках оторванную в борьбе бороду, непонимающе смотрел на Шелом, но, не найдя что сказать, лишь невнятно пробормотал:
– Т…п… Блядь…
Лишь только Смерть, не признававшая чудес, продолжала остервенело тянуть Шелом на себя. Андрэ, воспользовавшись моментом, вскочил, оттолкнув невесту, запрыгнул в шкаф и тут же запер изнутри на засов дверцу.
Сердце птицей билось в его мозгу. Оно словно выросло до размеров шкафа и трепыхалось в нем, будто в большой деревянной клетке. Вдруг снаружи все стихло. Прошла бесконечно долгая минута.
– Тук! Тук! Тук!
– Кто там?
– Мир!
– Не нужен мне ваш мир! Мой мир во мне!
– Андрюша! – это был голос старца. – Слышь, последний раз по-доброму прошу! Сними шлем! Не ищи другой мир! Нет его!
Андрэ промолчал.
– Снимайте шлем, Андриан!
– Сначала зубы почисть, изо рта воняет! Тоже мне, поджигатель войны!
– Ах, ты…Обьяб…бля…тьфу на вас, Андрей и Ева, мужем и женой! Теперь можете поцеловаться!
На улице опять все стихло. Только дождь по-прежнему монотонно урчал – шшш-шшш-шшш…
Первый поцелуй пришелся сантиметров на двадцать выше уха. Из деревянного нутра дверцы вдруг выскочило острие косы, пронзило темноту шкафа и тут же исчезло обратно. Андрэ с ужасом подскочил и кинулся к лазу, который вел в соседний шкаф. Но коса тут же вынырнула в другом месте, к счастью, намного выше его головы. Оказавшись в соседнем шкафу, он выпрямился во весь рост и прижался к боковой стенке. Следующий удар опять был близок. Андрэ упал на дно и пополз обратно.
В панике он принялся метаться из шкафа в шкаф. Но жена с тупым упрямством дырявила его маленькое темное пространство во все новых и новых местах. Один из поцелуев почти было достал его, но пришелся по хвосту Валенрода. Тот взревел металлическим звоном, и коса выскочила обратно. «Боже! Какая идиотская, нелепая свадьба!» – обреченно мелькнуло в голове. В полнейшем отчаянии он упал на дно спального шкафа. Жена, как будто почувствовав его положение, вонзила косу туда же, но сантиметров на тридцать выше. Другой удар был точнее. Оставалось сантиметров десять. «Все! Следующий поцелуй мой!» – Андрэ в ожидании сжался. Перед глазами почему-то мелькнул пивной бар в Боне и официантка с кружкой холодного пива…
… Прошла секунда, две, три…
Внезапно шкаф содрогнулся и дернулся в сторону.
– Вот падла, тяжелый!
– Костылем, костылем его подцепи!
– Я ему покажу гниду рогатую! Изо рта, видишь ли, у меня воняет!
Шкаф, скрежеща по бетону деревянным днищем, рывками куда-то двигался. С улицы доносились какие-то странные, но до боли знакомые голоса.
– Ну, бля, фраер, за козла ответишь! – говоривший по голосу очень напоминал Швабру. Ему вторил голос, похожий на голос Бориса Фадеича:
– Слышь, хряком одноглазым меня обозвал, пидераст! Я тебе покажу, кто тут русише швайн! Ты у меня москаля надолго запомнишь, шут гороховый!
– Вы и есть козлы и хряки! Простейшую пьеску изобразить не можете, потому что все у вас через жопу! – почему-то это был голос Марии Прокопьевны.
– Ну Маша!
– Что «Маша»?
– Это ж чудо!
– Чудо? Я вам покажу сейчас чудо! Давайте наверх шкаф тащите! С моста идола скинем!
– Да ну его в жопу! Тяжелый очень! Слышь, лучше с причала кульнем!
– Опять через жопу? Я сказала – с моста!
Андрэ почувствовал, как шкаф наклонился и пополз куда-то вниз. Через несколько секунд он во что-то уперся и замер.
– Давайте на ребро поворачивайте! Кантовать легче будет, чем тащить!
– Снизу, снизу хватайся! Поднимай! Майна! Вира!
Шкаф упал на бок. Затем поднялся на ребро и через мгновенье стоял уже на крыше. Потом снова упал на бок, опять на ребро, на ноги, снова на бок, на ребро, на крышу.
– Во, сука полоумная! Настоящую бомбежку устроил!
– Сколько, падла, пустой тары побил! Тысяч на десять!
– Все головы засранец расхуячил! Чуть вторую ногу мне не отбил!
– Мундир, сука, порвал и фингал не бутафорский, а настоящий поставил!
– И славяне ему не нравятся! Но ты у меня сегодня в Днепре, собака, поплаваешь! Слышь, божок местный выискался!
Шкаф поворачивался на ребро, падал на крышу, опускался на ноги. Андрэ крутился, словно белочка в дурацком колесе, пытаясь удержать позу, чтобы не оказаться в шкафу кверху ногами.
– А меня тощей клячей назвал! Морда, видите ли, не нравится! Другую невесту ему подавай! Хорошо, что увернуться успела! А то утюгом голову к бетону бы и припечатал! На хуй мне такой жених припадочный сдался!
– Еще немного! Ну… еще! Майна! Вира!
Шкаф кульнулся последний раз, упал на ноги и замер…
– Давай на перила и на раз, два, три!
– Поплавай в Днепре, идол хренов!
Андрэ почувствовал, как все приподнялось, мир вокруг зашатался, завис, поплыл в один бок, в другой, качнулся еще и, опрокинувшись, полетев вниз, рухнул во что-то тяжелое и ледяное… Удар, громкий всплеск, и со всех сторон в его маленькое пространство хлынула вода – холодная, обжигающая кожу вода… Она стремительно заполняла шкаф, затягивая его в свое бездонное, мутное нутро. Андрэ сделал последний глоток еще не завоеванного водой воздуха и начал вмиг заледеневшими пальцами лихорадочно открывать задвижку на дверце. В это время золотая рыбка на кокарде Шелома вдруг встрепенулась, почувствовав себя дома, и, вильнув хвостом, исчезла в черной мути Днепра. Святополк с Валенродом кинулись было ее ловить, но тут же сцепились между собой:
– Это моя рыба!
– Нет, моя!
Последнее, что он еще слышал: «Уходит, сволочь, уходит!»
На мосту, склонившись над темной мутью Днепра, стояла Мария Прокопьевна. Накануне, в предвкушении полной и безоговорочной победы, она снова отправилась к парикмахеру, перекрасила волосы в соломенный цвет и вернула на голову свой златоглавый шиньон. Когда же она снова увидела показавшийся из воды прусский шпиль на голове Андрэ, ее ярости не было предела. Она воззвала к небесам и из ее нутра вылетело страшное проклятье. Схватив попавшийся под руку камень, она кинула его в Днепр, взревев вслед новым проклятьем. Все, кто кроме нее был на мосту – Светлана, Фадеич и Швабра, принялись хватать камни, палки, бычки, пустые сигаретные пачки, бумажки и с руганью и матюгами бросать их в реку.
Андрэ плыл по Днепру, а вдогонку все летели и летели проклятья, тяжелые злые проклятья славян, кидавших в него с моста камни.
Когда он выбрался на берег, первое, что заметил, – четыре фигуры: хромой с костылем, некто длинный в черном мундире и две бабы – бежали вдалеке по боковой аллее парка в сторону города. Львов на Шеломе не было. С неба моросил дождь. Холод и ветер пронизывали насквозь, но какая-то непонятная радость переполняла его. Он жадно, словно человек, вернувшийся из удушливых вод, с наслажденьем вдыхал воздух этой сырой поздней осени, а внутри его играл и грел душу старый полузабытый мотив – «Весенняя песнь Сверхчеловека»…
Славяне, которые в этот предутренний час ехали по мосту через Днепр первым троллейбусом, стали свидетелями странной картины. Какой-то человек в золотом Шеломе, вознеся руки к небу, в одиночестве танцевал под дождем. А предрассветную тишину прорезал его громкий, улетающий вдаль по Днепру голос:
– Я вернулся!!! Шелом!!! Не сниму!!! Неее сниимууууу!!! Пошлииии выыыыыыыыыыы всееее!!! Наааа хууууйййй!!!

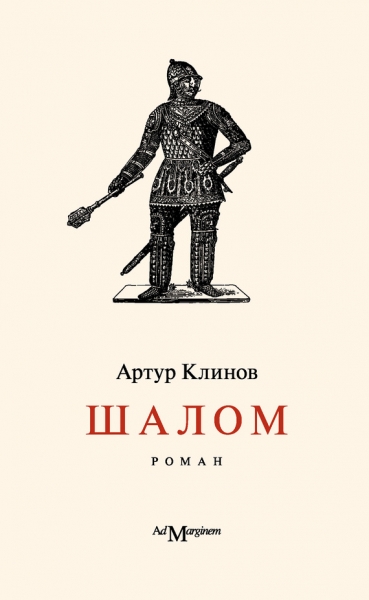
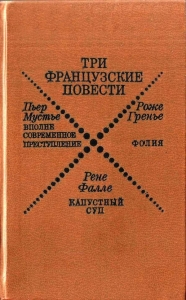




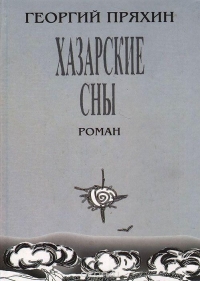
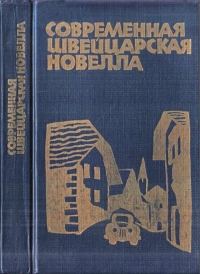
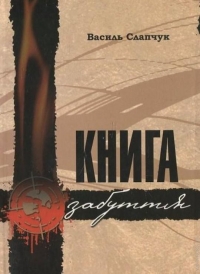




Комментарии к книге «Шалом», Артур Александрович Клинов
Всего 0 комментариев