Войцех Кучок Как сон
1
Силы Адама на исходе, места освобождаются медленно, люди входят и выходят, источая кисловато-приторное амбре; в принципе Адам мог бы сесть, но он знает, что круговорот старушек на остановках не позволит ему занять место на сколько-нибудь продолжительное время, что придется либо то и дело уступать место, либо притвориться спящим и слушать над своей головой покашливания, покряхтывания, вздохи, взывания к Богоматери и Иисусу, так что уж лучше подождать, пока автобус отъедет подальше от города, а пока можно и постоять; сегодня можно и помучиться, сегодня он может многое снести в связи с тем, что наконец-то закончилось, что свершилось и вступило в законную силу: вот уже час, как Адам больше не студент. Вроде бы чистая формальность, но он тем не менее проникся исторической значимостью момента; если бы жизнь состояла исключительно из таких формальностей, если бы волнение, сопровождающее так называемые исторические моменты, было знакомо всем людям, думает Адам, то мир был бы более благожелательным, может даже настолько, что стал бы невыносимо благожелательным миром, в котором проникнутые постоянной ангельской растроганностью люди сбивались бы в толпы и задыхались бы в дружеских объятиях. Адам доволен собой: он больше не студент, он сдал госы; вместе с ним в этот день экзамен сдавали еще несколько человек с его курса, Адам пришел попозже, чтобы не томиться долгие часы в ожидании, не нервничать, кроме того, он хотел идти последним: вошел, сдал, принял поздравления. Один из преподавателей, тот, который в течение всех лет обучения не спускал с него всевидящего глаза (назвать его взгляд дружественным язык не повернется), крепче, чем остальные, пожал его руку и несколько дольше, чем остальные, а если быть совсем точным, то значительно дольше, держал ее в своей — держал настолько долго, что Адам почувствовал неловкость, даже смущение; профессор жал его руку так проникновенно, что Адам вспыхнул, зарделся, и тогда профессор этот, который в течение всех лет обучения скашивал на него отнюдь не дружественный глаз, спросил (но как-то так в сторонку, вроде как обращаясь к преподавателям): «А чего это он у нас такой робкий?» — и, не переставая жать ему руку и вроде как поздравляя (хотя Адам чувствовал, что это рукопожатие вражеское — какое-то настырное, сальное), добавил: «Больше смелости, дорогой коллега, вы теперь людей будете лечить, вы не можете быть таким пугливым» — и захихикал в сторону преподавателей, побуждая их поддержать его и подхихикнуть ему и все еще держа руку Адама, ощущая над ним власть, потому что Адам не вполне представлял, как высвободиться; профессор подмигнул ему все тем же глазом, которым столько лет неприязненно буравил Адама, подмигнул так слащаво, так вульгарно, так призывно, что Адам, едва не упав в обморок, настолько неловко выдернул свою руку, что комиссия тут же перестала хихикать. Освободившись от назойливого рукопожатия, слащавого взгляда и странного хихиканья, Адам поклонился и вышел и с каждым последующим шагом ощущал все более глубокое удовлетворение оттого, что в конце концов все завершилось, что в последний раз он возвращается домой из академии, что впервые едет в качестве дипломированного инженера человеческих тел, а точнее, костей, и потому, пребывая в чудесной ауре помазания, он повис на поручне и терпеливо ждал, пока автобус пересечет городскую черту. Адам смело смотрел на пассажиров, чувствуя, что его приподнятое настроение может передаться и тому и этому, чувствуя, что, когда он смотрит на людей смело, уверенно и гордо (но не высокомерно), он обретает над ними власть, что, воспринимая их с позиции человека смелого, уверенного и гордого, он навязывает им соответствующее впечатление о себе; Адам уж было совсем погрузился в мысли, насколько такое впечатление может оказаться устойчивым и насколько легче жить людям, которые сохраняют полный контроль над производимым на них так называемым первым впечатлением, насколько легче жить людям, которые сами производят благоприятное впечатление, обмениваясь с окружающими взглядами и улыбками, а голову держат слегка вверх, подбородок — высоко, смело, гордо (но не высокомерно), — как в автобус вошел парнишка, можно даже сказать, что мужчина.
Хорошенький такой — да что там хорошенький, просто красивый парнишка, а то и мужчина садится у окна и делает это не задумываясь, машинально, он просто садится, хотя все еще продолжается круговорот старушек и практически нет свободных мест; он в мальчишеской своей рассеянности, а то и мужской беспардонности находит-таки свободное место, плюхается на него, сопроводив это свое плюханье вздохом облегчения, дескать, как же хорошо он устроился и какое это наслаждение для его мальчишеско-мужских ног, здоровых и сильных, но не желающих стоять попусту; Адам замечает в парнишке определенного рода, как бы это сказать, мысль, что ли, прагматичность, вот именно; Адам очарован его прагматизмом, который производит впечатление, будто парень рассчитал, что не должен попусту терять свою энергию на стояние в автобусе, если хоть одно место свободно; он производит на Адама благоприятное впечатление, он мастер первого впечатления: этим своим уверенным и исполненным гордости захватом свободного места он доказывает, что в его здоровом мальчишеско-мужском уме нет места для излишних терзаний, в его мальчишеско-мужской голове никогда не застревала дилемма, можно или нет занять место, если старушки — или, скорее, вероятность старушек, некие гипотетические старушки — притаились в ожидании свободного местечка. Адам не может подавить в себе желание смотреть на парня, а то и мужчину и смотрит на него украдкой, до тех пор пока его глаза не встречаются с его глазами, отраженными в оконном стекле, — встречу этих взглядов Адам считает предвестием более близкой встречи и более тесного общения.
Адама не отпускает предчувствие, что парень, а то и мужчина пригласил его своим отраженным взглядом на место рядом с собой, а может, всего лишь дал разрешение; Адаму этого достаточно; получив разрешение, он садится рядом, несмотря на старушек, которых как раз нет, но которые в любую минуту могут и т. д. Он садится, но не знает, что дальше: ну сел он рядом с парнем, а то и мужчиной, а дальше что, к какой ипостаси обратиться в первую очередь, на кого взглянуть сначала, на парня в мужчине или на мужчину в парне, — он не может решиться и вовсе на них не смотрит, только руку кладет на сиденье рядом с мужской рукой парня, кладет и ждет, кто дрогнет первым: парень в мужчине или мужчина в парне. Адам ловит себя на мысли, которая его несколько обескураживает и слегка пугает, так вот: восхищенный здоровым, сильным, бугаеватым, самцовым и бог знает какими еще мужскими эпитетами обладающим парнем, он хотел бы его лечить, он хотел бы, чтобы у этого сильного, резвого и крепкого бычка случилась какая-нибудь маленькая поломка, мелкий вывишок, в крайнем случае несложный переломчик, и тогда Адам мог бы открыто и законно прикасаться к нему, и парень, а то и мужчина доверил бы ему свои кости, а то и все тело, превратившись в мужчину, одаривающего Адама мальчишеским доверием. Адам бы тогда пальпировал его, обстукивал, вправлял бы мальчишество в мужество, если бы, если бы, если бы… только сейчас этот мальчик-мужчина, юношеским здоровьем пышущий, для Адама табу; можно лишь сидеть рядом с ним, скрытно упиваться его близостью, настраивать себя изнутри на созвучие с ним, бормотать что-то под нос, прятать гусиную кожу под рукавом куртки. Адам прикрывает глаза и чувствует мужское начало паренька радом с собой, а сам он вроде как верным личардой приставлен к этому пареньку, вроде как на подхвате у этого мужчины, хотел бы услышать от него какой-нибудь приказ, отданный громким и не терпящим возражений голосом, хотел бы исполнить его недостаточно расторопно и быть за это битым или сделать все четко и получить за это похвалу; Адам предался мечтаниям рядом с мальчиком-мужчиной и даже не заметил, как, шевельнув мизинцем, коснулся его руки. Мальчик-мужчина реагирует немедленно, гладит на Адама с презрением, встает и проходит в другой конец автобуса, который уже подъезжает к остановке; там парень выходит и показывает отъезжающему Адаму средний палец, Адама пронзает боль. Входят старушки, кашляют, охают, вздыхают, плачутся, что слабы стали, болеют и т. д., но Адам не слышит — он наслаждается болью, отключившей его сознательность и сознание, он так и не узнает, какая сегодня пошла молодежь и чего не бывало в прежнее время.
Мать сидит дома, но ей слышно, как на конечную остановку приехал автобус, как водитель выключил мотор. Мать обычно не обращает внимания на автобус, да и что на него внимание обращать: два раза в день приезжает из города, увозит людей, привозит людей, ни шуму при этом не делая, ни сенсации никакой не производя, одни и те же лица; Конопцына и Бартошко занимают места спереди, чтобы держать в поле зрения Скшыпошко, а Скшыпошко даже и не садится, чтобы показать всем, какая она еще бодрая, становится тут же за водителем, любит переброситься с ним словцом, любит постоять и поболтать у него за спиной, чего она наслушалась да чего насмотрелась у кассы. Середина автобуса обычно пустая, потому что молодежь садится сзади, неразговорчивая, будто пытается вспомнить, что ей снилось, а когда сообразит, что снилось ей в точности то же, что и наяву с ней происходит — дорога на работу, работа, дорога с работы, обедоужин, два пива и на боковую, — она, молодежь, становится еще более неразговорчивой и вдвойне утомленной жизнью, поскольку сны только усугубляют ее усталость. Каждая ночь — эхо дня, каждый сон — копия действительности, молодежь едет на завод, не вполне уверена, не сон ли это, вот на всякий случай молодые и не разговаривают друг с другом, потому что может оказаться, что они разговаривают во сне, а это вроде как неприлично. Водителю, когда он после смены спит, тоже снится автобус, а когда снится, то он матерится во сне и бьет жену, будучи уверенным, что давит на клаксон; жена просыпается, понятное дело, злая, раньше, случалось, обнимет его, прижмет, успокоит, пошепчет ему на ухо, а теперь нет, теперь растолкает его, разбудит, обзовет дураком. Однако за секунду перед таким насильственным пробуждением он успевает во сне попасть в ДТП, ему снится собственная смерть в упавшем в кювет автобусе, потом он уже до утра не может заснуть, сидит перед холодильником, пьет воду и проклинает в душе свой брак; он ненавидит жену за то, что все еще не разлюбил ее, хоть она уже давно ничего ему не шепчет.
Сегодня Мать особо отметила пунктуальность автобуса, потому что и случай-то особый: сын возвращается с последнего экзамена, сын возвращается, и если он сдал (а ведь не мог не сдать, учеба у него всегда хорошо шла), то он больше не студент Медицинской академии Адась, а господин доктор Адам, ой, гордость моя, гордость, Мать выходит на крыльцо и глядит в сторону остановки. Отец тоже стоит и высматривает, еще неуверенный, еще готовый строжничать, но уже за спиной игристое прячет, а пробку только пальцем придерживает, чтобы Адася облить, как гонщика после выигранного ралли. Адась подходит, они узнают его по походке, такой пружинящей, что никто не ходит так, как он, как будто у него ботинки на рессорах, и так вышагивает, как будто хочет подскочить, выскочить, о да, теперь это ему наконец удалось. Отец вроде как пока не уверен, но гордость его, гордость уже гнездится в сердце: его, простого деревенского мужика, сын академию закончил, эй, народ, вы там чего, позасыпали, что ли, разве не понимаете, какая великая это вещь, если кто деревенский да институт кончает, дочка Ядашки вон тоже какую-то туристику окончила, только кто там знает, что это за школа такая, а академия — это академия.
Мать замечает, что Адась грустный, последний раз таким его видела, когда он был маленький и узнал, что Медор не убежал, а сдох, Мать крестится и шепчет тревожно:
— Боже, неужто не сдал…
Отец тоже супит брови: что-то ему Адась не глянется сегодня, ведь никогда не было у него такого выражения лица.
— Если не сдал, домой не пущу.
Однако в конце концов Адась улыбается; ах ты, проказник, пошутить ему, видишь, захотелось, думает Мать, хотел перед нами до самого конца притворяться, что не сдал, только не удержал в себе тайну, улыбнулся, теперь-то уж понятно, что —
— Сдал, — говорит Мать, раскидывая руки для приветственного объятия.
— А что ты думаешь? Чтобы мой сын да не сдал?! — говорит Отец и достает из-за спины бутылку.
Мать уже обняла Адася и прижимает к себе, Отец не выдерживает, трясет бутылку; пробка вылетает, и он поливает сына, как победителя ралли. Мать тоже мокнет, визжит, Адась, как обычно, смущен, дескать, к чему все это, совсем не нужно, а кроме того, лучше перед домом представлений не устраивать, лучше войти в дом, спокойно порадоваться, с толком, с расстановкой; ой, Адась, Отца гордость распирает, так дай же ему по-своему нарадоваться, а ты еще всего не знаешь, Адась, не знаешь еще, какой подарок родители тебе приготовили, как они потратились, а как узнаешь, вот удивишься-то.
Адам удивлен. Удивляется и боится. Он всю жизнь боялся подарков-сюрпризов, которые в большинстве случаев не совпадали с его ожиданиями, потому что у него самого не хватало смелости просить того, о чем мечтал, не смел он и отказаться от ненужных ему подарков. Теперь же он особенно боялся возвращения домой, потому что предчувствовал, что Отец приготовит что-то экстраординарное по случаю исторического момента, а этот единственный в своем роде случай обрадовать сына, удовлетворившего отцовские амбиции, предполагал исключительно неудобный и нежеланный подарок. Возвращаясь домой, Адам пытался представить себе самое плохое, например, что Отец купил ему машину (за четверть века Отец так и не заметил, что Адам никогда не играл в машинки) или коня (в детстве Адаму пришлось научиться ездить верхом без седла, несмотря на панический страх перед лошадьми, которого Отец никогда не понимал, зато многократно твердил Адаму, что со страхами, особенно с паническими, надо бороться); ничего более неуместного ему в голову не приходило, в детстве все машинки и всех лошадок он прятал в ящик, а теперь в масштабе один к одному они могут и не поместиться в его жизни, Адам догадывался, что родители решили как-то так хитро обрадовать его, что у него не останется возможностей избавиться от неудобного подарка, он догадывался, что они подарят ему что-то такое, что затруднит его немедленный выезд в город, на который он решился безоговорочно, любой ценой, собираясь снять жилье рядом с больницей, в которой будет работать, а вернее, проходить стажировку на таких финансовых условиях, о которых не может сообщить родителям, потому что их радость оттого, что их сын стал Господином Доктором, сразу превратилась бы в гнев, а потом в отчаяние. Итак, несмотря на то что Адам что-то там смутно предчувствовал, о чем-то там тревожно догадывался, несмотря на все это, он удивляется и боится, стоя перед ладненьким новеньким деревянным домом, на лужке перед лесом, на месте его первых игр во врача с соседской девочкой, на месте его первого анатомического разочарования, на месте открытия, что к отсутствию интереса к моторам и лошадям добавляется отсутствие еще одного принципиального интереса, отличавшее его от всех деревенских мальчишек, но об этом позже. Адам в недоумении смотрит то на дом, то на родителей, то озирается вокруг, в конце концов спрашивает Отца:
— Чего этот дом здесь стоит?
— Мне нравится твой вопрос, сынок, «чего этот дом здесь стоит?». А что ж ему прикажешь, лежать? Стоит, потому что поставили его здесь, хе-хе!
— В последний раз его здесь не было…
— Браво, сынок, наблюдательностью ты весь в меня. Но и ничто не мешало, чтобы здесь такой домик поставить.
— Пап, а чего мы… стоим перед этим домом? — Адам задает вопросы, как Красная Шапочка, которая узнала волка в бабушкиной одежде и хочет оттянуть минуту неизбежной своей гибели, которая уже подошла, неумолимо, потому что Мать достает связку ключей и подает ее ему со словами:
— Для господина доктора.
A-a, стало быть, они купили ему дом, выбрали модель, построили, а еще, чего доброго, и обставили его, и все для сына своего единственного, такого долгожданного в родных краях, который, как им кажется, ни о чем другом и не мечтает, думает Адам и не берет ключи, хотя Мать протягивает руку и спрашивает, недоумевая, а вернее, уже расстроившись, со слезами на глазах:
— Не нравится тебе?
У Матери почти всегда слезы на глазах; если смеется, то до слез, если чему-то радуется, то так прочувственно, что плачет от счастья, если ее что-то печалит, тоже слезу пускает, а в дни обыденные, лишенные особых поводов, профилактически жалеет себя, плачется на свою судьбу, наверное, чтобы глаза прочистить; Адам видит, что гибкий стебелек-Мать дрожит, хоть и безветрие, и что стоит ему отказаться принять эти ключи, этот дом, эту идею, которую он вполне уловил, как этот стебелек сломается; этот дом — ловушка, понимает Адам и знает, что, принимая связку ключей из материнских рук, он подписывает себе приговор, набрасывает себе на шею петлю из пуповины, катастрофически откатывается назад, в прошлое, а годы обучения, которые он считал прологом к самостоятельности, станут в его биографии лишь временной отлучкой из родительского дома; Адам мотает головой, глядя в остекленевшие от слез глаза Матери, как будто хочет ей сказать то, чего сказать так и не отважится: не для них он институт кончал, а для себя!
Отец спасает ситуацию, решительным жестом забирая ключи, отпирает дом и затаскивает Адама внутрь, а к былинке обращается непривычно мягко:
— Ну, мать, ты даешь! Как такое может не понравиться? Просто сынок, что называется, онемел от нежданной радости.
И вот он, словно смотритель, уже ведет Адама по музею, Мать чапает за ними, начинается осмотр, Отец тащит Адама за руку, крепко держа сына за запястье, точно так же как и много лет назад, когда он тащил Адама, а Адам совсем не хотел учиться плавать, не хотел смотреть, как режут свинью, или когда на свадьбе у двоюродного брата застеснялся пригласить на танец девочку, — всегда рука Отца хватала его за запястье и тянула тем страшнее, что делала это как бы нежно. Нет, Отец никогда не дергал Адама, он спокойно дожимал свое, его сила была силой спокойствия и железной настойчивости, но она оборачивалась мукой для Адама; когда Отец тащил его, например, в озеро, на скотобойню или на танцплощадку, а он сопротивлялся, Отец резко менял тактику: он внезапно отказывался от насилия и становился кротким как овечка, сам начинал плескаться в воде, сам выпускал кровь из аорты борова, обращал в шутку нарушение танцевальной субординации; и все было бы хорошо, если бы по возвращении домой он не запирал Адама в специально оборудованном подвальчике, в котором стояла раскладушка, где было одеяло и маленькая свечка, которой хватало на часок, ну, может, на два; Отец называл это место размышляльня — закрывал там сына на ключ, зная, что Адам ничего так не боится, как темноты, что Адам представляет себе ад как мир без света, что он не выдержит долго, — короче, закрывал его и говорил: «Сынок, у тебя будет время успокоиться и подумать над своим поведением. Если что будет нужно или если ты изменишь свое мнение по кое-каким вопросам, дай знать, постучись изнутри». И Адам размышлял там часок, ну, может, два, и втолковывал себе, что, ведь когда он научится плавать, он уже не будет бояться воды и в будущем сможет преодолевать океаны, узнавая новые страны и посылая из них открытки домой, а когда он научится резать свинью, то его уже не будет мутить от вида крови и он сможет лечить людей, а когда осмелится пригласить девочку на танец, он сможет пойти на дискотеку в городе и обзавестись приятелями; Адам размышлял под догоравшую свечу, в чем различие между нежеланием, боязнью и ужасом, а когда свечка догорала, он познавал различия между ними эмпирическим путем, подлетал к двери, сначала просто стучал, потом колотил кулаками, потом ломился в дверь всем телом, вопя, чтобы его выпустили, но Отец не торопился подходить, и с каждым очередным пребыванием в размышляльне Адаму приходилось все дольше ждать освобождения, потому что Отец заботился о том, чтобы сын боролся со страхом, даже если после каждой очередной схватки он выходил еще более подавленный, растерянный и униженный; важна была борьба, наука преодоления собственной слабости, Отец не уважал людей слабых, но он не мог позволить себе не уважать единственного сына, поэтому считал своей обязанностью воспитать из него настоящего мужчину, настоящего борца.
— Все бумаги мы уже за тебя заполнили, формальности утрясли, с нотариусом договорились, тебе, сынок, осталось только поставить подпись, и хатка твоя. Вот, пожалуйста, прямо из каталога, не домик — игрушка, из дерева, три месяца — и готово, ну, кухня есть, туалетов два, один на втором этаже, тут тебе чем не комната-кабинет, тут спальня, вон, аж с тайным выходом, хе-хе, сынок…
Отец стал мягче, уже отпустил его руку и, восхищенный, будто осматривает дворцовый интерьер, обратился к Матери, повел, да пожалуй что не повел, а повлек ее куда-то на кухню, в ванную, в очередную комнату, увлекся и сам, воодушевился:
— Тут вы для деток комнату устроите, как уж наконец поженишься, а пока может быть гостевой…
Адам остается в спальне и проверяет ловко придуманный путь эвакуации — тайную дверцу, выходит через нее из дома, садится на ступеньках крыльца, подпирает голову, как придорожный Христос[1], и пытается понять, откуда знает Отец о том, что со времени своих заключений в размышляльне Адам чувствует себя безопасно только в помещениях с дополнительным аварийным выходом, в таких, где есть по крайней мере две двери; на самом ли деле Отец столь предусмотрителен и великодушен, или же это всего лишь предлагаемое каталогом стандартное решение?
Бульон втроем. Сидят за бульоном. С тех пор как стоит мир, на время бульона все свары, военные действия, катаклизмы, мнимые болезни, супружеские кризисы приостанавливаются, бульон находится за гранью реальности, бульон велит взять в кавычки все то, что было сказано во гневе, все, к чему ты стремился изо всех сил, все, что было совершено опрометчиво, по неосмотрительности, бульон требует спокойствия, он требует полной сосредоточенности на себе, создания сообщества бульонной тишины, которую нарушать может только стук ложки о тарелку.
Бульон из счастливой, понятное дело, курицы, которая годами сплетничала с наседками из соседних дворов, вольно клевала зерно, подернутый жирком, с горкой овощей и домашней лапши, такой бульон не станешь есть впопыхах, его нельзя профанировать, выпивая залпом, это вам не бульонный кубик, такой бульон должен всем, кого вокруг себя собрал за столом, разогреть желудки, остудить головы; вот за таким бульоном и сидит Адам с родителями и ждет, что же скажет Отец, да и скажет ли что вообще, или готов молчать до смерти, обидевшись на сына, который только что заявил, что, в общем-то, и не думал возвращаться в деревню, потому что самое главное для него сейчас стаж в больнице, а поскольку место в общежитии ему уже не положено, он предпочитает снять себе что-нибудь в городе, чтоб не таскаться каждый раз в такую даль, иначе ему пришлось бы вставать на час раньше, к тому же всегда лучше быть вблизи, в случае какой-нибудь экстренной надобности, скажем замениться на дежурстве, а кроме того, кроме того (это он объявил вполголоса, так что Отец даже не расслышал и попросил, чтобы ему повторили громко и четко, Адам повторил, хоть и не так чтобы очень громко), кроме того, он на самом деле хотел бы попытаться жить один, в смысле самостоятельно.
Бульон подходит к концу, а они всё молчат, как будто сидят на совете племени над шаманским варевом, будто ждут, когда галлюциногены попадут к ним в кровь и вызовут транс; Адамом по-настоящему овладевает бульонная сонливость, восходящая от полного желудка через диафрагму до самых до висков, последние ложки он доедает значительно медленнее, опасаясь, что с окончанием бульона кончится и перемирие и Отец совершит нечто гораздо более страшное, чем могло бы прийти Адаму в голову; его Отец никогда не скандалит, но то спокойствие, которое он внешне сохраняет, скандально опасно; Мать сама не отважится подать голос, а впрочем, она не знала бы, что сказать, как осмыслить внезапную перемену в их жизни, Отец должен придать форму ее мыслям, все сразу станет ясным лишь после того, как он скажет, так что Мать ждет слов Отца, и, лишь услышав их, она начнет им поддакивать, и тогда бульонная тишина сменится семейным гомоном, ах, если бы этот гомон мог быть беззаботным; Мать хрупка, как выпитое яйцо, она трещит под грузом забот, и хоть хлопоты — это ее специальность, если не сказать образ жизни, она сегодня уже довольно много должна была вынести на своей скорлупке, так что она ждет с надеждой слов Отца; дождалась:
— А ничего такого. Дом подождет, пока тебе не захочется к родным пенатам вернуться. Он и так уже твой, акт собственности подписан, а ключи заберешь, когда надумаешь тут поселиться.
Мать немедленно подхватывает разговор, будто боялась, что Отец на самом деле борется с собой и может встать из-за стола и сказать: «Нет, нет, никак не могу с этим согласиться», и они останутся одни.
— Ну конечно, всё так. Пусть мальчик немного поработает в городе, заработает…
— Жёнку себе найдет…
— Ну а как иначе…
— А с женщинами, хе-хе, один принцип, проверенный: красивой женщина быть не обязана, красивым обязан быть конь, когда покупаешь его. Женщину надо выбирать породистую. Красивые кони уже ждут тебя, а ты нам породистую женщину привези, что, мать, не прав я, что ли?
Этот незатейливый анекдотец Адам уже знает, Отец всегда прибегает к нему в трудные моменты как к магическому заклинанию, которое означает, что он удручен неловкой ситуацией и хотел бы вернуться на уровень простых истин, четких категорий, на уровень так называемого практичного крестьянского ума.
Мать снова воодушевлена, а то как же — напряжение спало; она пускает слезу при виде сына и отца, согласно сидящих за столом, гладит Адама по голове:
— Хороший мальчик, впечатлительный, простая душа, доверчивый, ой, только чтобы тебе хорошая женщина попалась, Адась, а то таких, как ты, легче всего обмануть…
Но вдруг встрепенулась, поняв, что впечатлительность и легковерность не лучшие мужские черты; Отец раздражен, Мать в испуге одергивает руку, Отец обрушивается на нее:
— Ты мне его не балуй, не обнимай его так… Такие пуси-муси — это с ребенком, а не с мужиком.
Мать пытается защититься вечной формулой:
— Для меня он всегда останется моим ребенком, для матери сын навсегда остается ребенком…
— Хорошо, сынок, мы поели, а теперь я забираю тебя на мужскую прогулку, пройдемся, поговорим, что называется, как мужчина с мужчиной, а у меня уж и приготовлено кое-что, чтобы у нас беседа пошла…
Отец находит выход в выходе, к которому направляет Адама, хватая его за руку (так что у Адама, здраво рассуждая, нет иного выхода).
Мужская прогулка не слишком дальняя, хотя изматывает похлеще изнурительного восхождения; Адам не привык к мужским прогулкам, пить не любит, не привык, а если и случается, то только по большим праздникам, и то только красное вино, Отец же специально на этот исторический момент припас бутылку литовского рома, Адам уже после первого глотка начинает хватать воздух, чувствует, как его организм переживает тектонический сдвиг, что не может хорошо кончиться, но Адам старается не выказывать усталости, вот только эта прогулка, а завтра чуть свет уедет, да и что там, раз в жизни человек кончает институт, может ли быть случай лучше, чтобы напиться, кроме того, не такое уж дрянное пойло, разве только чуток крепковатое, могло быть и хуже, Отец мог его угостить так называемым черешневым — Отец гордится своим изделием, Адам не посмел бы уверять его, что вино должно быть, как указывает само название, из винограда, Отец высмеял бы его, сказав, что в институте все в голове у него перепуталось, что испокон веков в деревне гнали из черешни, передавая из поколения в поколение секреты производства, потому что не достаточно, чтобы фрукты-ягоды сферментировались, надо знать, как вино гонят; ну да, могло быть и хуже: черешневое вино Отца всегда вызывало у Адама изжогу и тошноту; ром, к счастью, произвели в фабричных условиях, Отец привез его с какой-то давней экскурсии, много лет хранил его, и вот, выдался случай, мужская прогулка с господином доктором, короткая, потому что до порога нового деревянного дома сто пятьдесят метров по горизонтали, не по вертикали, хотя различия между горизонталью и вертикалью понемногу начинают в Адаме стираться; Адам смотрит на этикетку и пытается прочитать цифру, обозначающую процентное содержание чистого спирта, пять тысяч пятьсот процентов, как это, как это, думает Адам и щурит один глаз, пятьдесят процентов, боже мой, это меня убьет, думает Адам и слушает Отца, который объясняется, анализирует ситуацию.
— Ведь как мы с матерью хотели — мы с матерью хотели, чтобы у тебя все было в лучшем виде.
Адам непроизвольно вступает в диалог с Отцом, пытаясь подсчитать количество пустых калорий в пятидесятимиллиграммовом глотке пятидесятиградусного рома.
— Понимаю, папа.
— Только нам, дуракам, хотелось, чтобы ты сразу был с нами.
— Знаю, папа…
— А так не получается.
— Да, папа…
— Сколько мир стоит, всегда дети уходили от родителей.
— Мхм…
— Еще в Библии сказано, что оставишь отца-матерь и чего-то там…
— Мм…
— …и пойдешь за женой… Как, сынок, есть что-нибудь в этом смысле?
— …
Адам пытается сохранить равновесие в сидячем положении, думает, как бы не загнуться на этой прогулке от потери сил, чувствует, что должен встать, потому что чем более он неподвижен, тем быстрее вертится земля; вдруг где-то близко начинают бешено лаять собаки, слышны какие-то крики, вроде как пьяные, но этого Адам уже оценить не может, он не уверен, на самом ли деле он слышит собак, может, это в его мозгу ром залаял; вопросительно смотрит на Отцов, говорящих в один голос:
— Хе-хе, старику Кубице снова собак привезли. Пошли, посмотришь щеночка.
Теперь в самый раз была бы его рука сыну под локоток, ну да ладно, прогулку надо кончать, он ищет взглядом Отцов, щурит один глаз, один Отец спрятался за деревом и подает ему знаки, чтобы пошел посмотреть. Адам щурится, смотрит, видит, что за забором не столько старика, сколько дурака Кубицы бегают и грызутся два ротвейлера. Шатающийся Кубица пытается добраться в середину, но, как только он немного приотворяет калитку, собаки суют свои бешеные пасти в просвет, пытаясь его укусить. Отец анализирует ситуацию, объясняет:
— С тех пор как в партию записался, совсем у него ум за разум зашел. Собак завел. На ночь ему привозят… Страшная собака хорошо в саду выглядит… если кто залезет… Говорит, что на определенном уровне достатка собак надо иметь…
Адам спрашивает Отца, не узнавая собственного голоса и пытаясь вспомнить, на каком языке он обычно говорит:
— Ашивонитыкиизлыыыи, а? Ниузныюютыво, а?
— А потому что нет времени приручить зверюг… А если он долго из кабака не возвращается, то старуха запирает дом и идет спать.
Отец делает глоток рома, наслаждаясь напитком, после чего наклоняется к Адаму, будто хочет сообщить ему какую-то тайну, но замечает слабость, нет, пожалуй, он назвал бы это иначе — минутное ослабление сына; в конце концов, ром такой крепкий, что у него самого слезы на глаза наворачиваются, может, немного переборщил, сынок-то ведь здоровый образ жизни ведет, людей лечить собирается, может, он вообще без надобности этот ром доставал, надо было черешневого, подольше бы посидели-поболтали, а так вот вынужден сына под руку взять, чтобы не упал, и домой проводить, ноги у Адама заплетаются, папа, помедленнее, а еще лучше возьми меня на закорки, думает он и отплывает в бесчувственность, а в остатках сознания проклевывается чувство вины.
С ним-то он и проснется на следующий день на заре, только это неопределенное чувство вины и будет помнить, как и то, что автобус отъезжает в шесть сорок пять, то есть прямо сейчас, то есть надо бежать, несмотря на головокружение, заплетающийся язык и расстройство центральной нервной системы. Он добежит, автобус уже будет стоять со включенным двигателем; он сядет, вздохнет и, пока снова не заснет, успеет проверить, чем это его сумка так набита, — мать бутерброды положила и чай в термосе — и, убаюканный, спокойно проспит первую фазу похмелья.
2
Роберт выглядит нездорово, с некоторых пор он сам это замечает. Жена не раз призывала его заняться внешним видом, а то одевается во что попало, бреется кое-как, такое впечатление, будто он постоянно пребывает в состоянии похмелья, что люди подумают, он должен больше обращать внимание на то, как его воспринимают, в конце-то концов, он ведь не кто-то не пойми кто, за такого она никогда бы и не вышла; какое-то время он даже был публичной личностью и, если бы не перестал писать, был бы до сих пор, женские журналы по-прежнему испытывали к нему интерес, его бы рассматривали в рейтингах самых красивых людей года, а что, мужчина он интересный, потому что, не будь он мужчиной интересным, не позволила бы она ему себя окрутить: она совсем не уверена, что если бы все сводилось только к эффектным словечкам — написанным ли, сказанным, — к его знаменитому мастерству по части слов и словечек, то она вышла бы за него замуж, стала бы его Женой, потому что познакомилась с ним как раз в тот момент, когда его мастерство и его внешний вид находились в апогее; она стала Женой внешне очень даже привлекательного мастера слова, теперь ей трудно смириться с тем, что он перестал писать, перестал хорошо выглядеть, поэтому-то она и начала обращать его внимание на то, что он опустился и в телесном, и в духовном смысле; конечно, она часто говорила ему, что выглядит он ужасно, однако до сих пор так и не заметила того, что беспокоило самого Роберта, а именно непреложного факта, отразившегося на его внешности: Роберт стал выглядеть нездорово.
Врач послал его к другому врачу, другой врач послал его к специалисту, специалист направил на анализы, а когда увидел результаты, спросил, давно ли Роберт курит и с какого времени пьет, узнал, что Роберт, случается, иногда закурит, да и то, чтобы не грызть ногти, но зато практически не пьет, потому что подшофе он не смог бы работать, тогда врач спросил, где Роберт работает и в каких условиях, только, пожалуйста, ничего не скрывайте, потому что результаты не слишком радостные; Роберт сказал, что обычно работает дома, но с некоторых пор в бюро, в судебном архиве, Тесть устроил его на это тихое место, туда никто не приходит целыми днями, можно сосредоточиться на писательской работе; врач спросил: «Чем в таком случае вы, собственно, занимаетесь?» Роберт сказал, что теоретически он писатель, упомянул название последней своей книги, врач сказал, что действительно что-то слышал, но Роберт не поверил ему, потому что книга была издана давно, а у людей память короткая, тогда врач спросил: «А почему вы сказали «теоретически»?» Роберт ответил, что на практике он уже больше не писатель, потому что не пишет, с некоторых пор не может собраться с мыслями, а когда пытается сосредоточиться, творчески напрячь ум, становится сонным, измотанным, не знает, может ли это иметь связь с его нездоровым внешним видом и не слишком веселыми результатами анализов; «Все возможно, — сказал врач, — надо будет еще раз обследовать вас, подетальней»; Роберт еще раз, подетальней, прошел все анализы и сегодня должен получить результаты на руки.
Роберт смотрит через окно своей комнатки в архиве, расположенном в подвале библиотеки суда, вокруг него громоздятся стопки скоросшивателей, окно на уровне тротуара, Роберт видит проходящих мимо людей с лягушачьей точки зрения — видит только их ноги. Он думает о своих предшественниках, обо всех тех, кто работал здесь до него, а суд находится здесь со времени межвоенного двадцатилетия; Роберт пытается подсчитать, сколько служащих сидело за судебными материалами в этом архиве с окном на уровне тротуара, казалось бы ограничивающим обзор, но зато открывающим то, что человеческому взгляду, как правило, недоступно, какое это оказывало влияние на психику служащего и его мировоззрение, а вернее, мироподглядывание; в силу обстоятельств с этой позиции невозможно людям глядеть в глаза, можно только видеть их ноги и — при некоторой ловкости — заглянуть чуть выше; Роберт должен был сосредоточиться здесь на писательской работе, но с того момента, как он заглянул под юбку, прикрывавшую стройные молодые ноги, не окруженные никакими кружевами, с того момента, как увидел ничем не прикрытую, аккуратно подбритую полоску над пипкой (Роберт, этот великий мастер слова, не мог найти никакого другого определения этой смелой весенней открытости), с того самого момента, как его стало отвлекать сознание раз увиденной пипки, а потом — ожидание повторения визуальной удачи, он больше уже не мог писать и весь без остатка предался рассматриванию человеческих ног, иногда заглядыванию в промежность в ожидании… ну да, именно ее, что в теплое время года случалось довольно часто, допридумывал к ногам лица, представлял себе, какое лицо могло бы подойти к этим ногам, подразумевает ли стройность ног заодно и приятное лицо, а их, допустим, костлявость — какую-то прыщавую морду, ведь не все в мире так очевидно, мироподглядывание давало только часть знания о людях, а потому Роберт целыми часами занимался размышлениями, какая рожа или какое личико кроется за данной походкой, обувью, брюками, колготками, трусиками, но чаще всего изводил себя догадками, чьи это ножки так смело над ним проносятся; со временем на смену домыслам пришел холодный анализ, Роберт достиг в нем совсем неплохих результатов, а теперь и уже совсем хороших, он весь город узнаёт по походке, он знает больше, чем должен, он мог бы воспользоваться этим знанием, если бы не одно обстоятельство: больше всего остального его интересовали пипки. Роберт смотрит в окно, сегодня, к сожалению, холодный день, тоска по пипке не найдет утоления, однако Роберт не теряет надежды, изворачивается под окном, чтобы взгляд захватил как можно больше, вид у него, должно быть, странный; когда Практикантка открывает дверь, Роберт выглядит настолько странно, что она не уверена, имеет ли она право входить в такой момент и прерывать происходящее, или ее приход так удивит Роберта, что разбудит в нем психа, раскроет какую-то его тайну и вызовет в нем приступ внезапного бешенства; Практикантка замирает на пороге, и ждет, и смотрит, подглядывает за подглядывающим, всматривается в него, а может, и засматривается на него, и вот уже дверь от этих смотрин скрипит, обратной дороги нет, надо войти, постараться изобразить решительный вход, чтобы не вызвать подозрений, что она что-то успела заподозрить; Роберт немедленно отталкивается ногами от стены и подъезжает на кресле-вертушке к столу, принимая деловой вид. Практикантка хорошенькая, кроме того, хорошо притворяется, что вошла по инерции, без стука, без просьб-извинений, как к себе по своим делам, готовая сложить у него на столе стопку папок.
— Если бы вы мне подготовили это на… — И только теперь она поднимает свои полные очарования глаза, обводит чарующим взглядом комнату и обрывает фразу на середине, дескать, перепутала кабинеты. — Прошу прощения, это какая комната?
У Роберта подозрений выше крыши, Практикантка подозрительно хороша собой, слишком красивая для Практикантки; Роберт смотрит на ее ноги и голову готов дать на отсечение, что это ноги не Практикантки, может, она и практикует что-нибудь где-нибудь, но, скорее всего, не в здании суда, это совсем не судейский тип красоты, это не красота сумрачных и монотонных зданий, это красота — явление, Роберт объясняет явлению лже-Практикантки, где они находятся, не вдаваясь в расспросы, откуда она и что здесь изображает.
— Это архив, уважаемая пани.
Практикантка выходит, проверяет табличку на двери, стучит себя по голове (сама грациозность), а потом как бы опровергает свой же собственный жест:
— Боже, я сегодня совсем без головы. Надо же, не на тот этаж вышла…
И с тем выходит, делая это, впрочем, как и все остальное, очаровательно, как бы извиняясь и посматривая по сторонам. Роберт уже знает, что абсолютно ничего сегодня не напишет, он явно рассеян и, что хуже всего, догадывается, что это происки Тестя. Тесть, как человек влиятельный, имеет доступ к хорошеньким девушкам, которых умело отыскивает и устраивает секретаршами в своем депутатском бюро, Тесть коллекционирует секретарш, которые, правда, со временем начинают друг с другом ссориться, так что, когда секретариат Тестя перенаселен, Тесть посылает отдельных секретарш со спецзаданиями; так вот, одним из заданий было вести наблюдение в здании суда, Тесть хотел быть уверенным, что его зять правильно пользуется тем комфортом, которым его окружили; на государственной работе за среднюю по стране зарплату он обязан преодолеть писательский кризис, для того чтобы наконец снова обрести форму, а именно стать повсеместно узнаваемым, знаменитым мастером слова, только таким образом он может повысить престиж Тестя; разрешив брак дочери со знаменитым писателем, Тесть не принял во внимание, что тем самым обрек ее на жизнь с уже отгоревшим творцом, потому что повсеместное признание рано или поздно вызывает синдром исчерпанности, Тесть хотел быть уверен, что Роберт что-то делает в правильном направлении, в смысле повышения его, Тестя, престижа, вот и посылает время от времени секретарш-шпионок, четко инструктируя их, какие приемы следует применять, чтобы проверка оказалась достоверной и чтобы Роберт при этом не догадался, что его проверяют; ну а поскольку все секретарши Тестя модельно хорошенькие, то Роберт изобличает их с первого взгляда.
Роберт вздыхает, грустно оглядывая пустую комнату; после своего ухода Практикантка стала еще очаровательнее.
Роберт расстается с монотонностью мрачного здания, хватит, довольно уже побыл он в меланхолии, окрестные колокола отбивают конец работы, выходит он в точно установленное время, как и каждый рабочий день, ничего тут не изменишь, с тех пор как Роберт женился на Жене, а тем самым и на своих Тесте и Теще, и на их доме, он стал человеком подконтрольным. Раньше, когда он еще был писателем пишущим и неженатым, он упрекал себя в том, что ему не хватает дисциплины, ритма, принципа, согласно которому он жил бы и писал более или менее упорядоченно. Уставший от свободы, он поэтому полюбил женщину, которая показалась ему дисциплинированной и благовоспитанной, а потом женился на ней, надеясь, что в качестве Жены она наведет в его жизни идеальный порядок, что благодаря женитьбе Роберт станет писателем, пишущим ритмично и регулярно. К сожалению, с того момента, как он женился на Жене, Тесте и Теще, он стал непишущим писателем, несмотря на то что его жизнь обрела такой ритм и такую регулярность, какие ему не приснились бы и в страшном сне. Роберт выходит из здания районного суда на стоянку, садится в машину и точно в тот момент, когда ключ поворачивается в замке зажигания, слышит звонок телефона; звонит Жена, спрашивает:
— Ты уже в машине?
Роберт уже в машине.
— В аптеку утром заходил или опять забыл?
Не был, забыл, сейчас съездит.
— Боже, что за человек, куда теперь ехать, сейчас ты в пробке застрянешь, возвращайся домой, дома полно дел, не мотайся по городу.
Роберт не видит смысла продолжать разговор — контроль осуществлен, — говорит, что сейчас въезжает под мост, что выходит из зоны, разъединяется, а сам спокойно едет по улице, крутится по городу, выискивая заторы, наконец встревает в самый забитый отрезок дороги и включает музыку. Роберт любит постоять в уличных пробках, он, наверное, единственный любитель этого дела в городе, который все больше и больше забивается все новыми и новыми автовладельцами, все более нервными, потому что пропускная способность улиц сокращается с той же скоростью, с какой увеличивается кредитоспособность граждан. Роберт слушает музыку и с удовлетворением поглядывает на водителей, а те ерзают, курят, барабанят пальцами по рулю, безнадежно и бессмысленно сигналят, высовывают головы из окон своих новых машин, осматриваются по сторонам, будто ищут возможности убежать, сократить путь, потому что ведь, блин, не затем они покупали новую машину, чтобы как… в портках, стоять в этой… пробке и тащиться медленнее, чем на… велосипеде, а если бы хотели поездить на велосипеде, тогда бы и купили этот… велосипед, за цену тачки могли бы накупить себе велосипедов до…, целую фабрику, ну же… хоть что-нибудь здесь двинется… их всех. Роберт закуривает, на работе запрет, дома тоже: у Жены аллергия, только в машине он и может закурить, и курить себе спокойно, неспешно, до самого фильтра, к тому же под музыку, которую Жена не вынесла бы, да просто не поняла бы, у Жены от музыки мигрень, она отдыхает под музычку, Роберту пришлось с этим смириться, как и со многими другими вещами, он был вынужден принять принципы, руководящие его семейной жизнью, он стал человеком компромисса, необходимого, чтобы семейная жизнь не стала семейным адом; Роберт помнит семейный ад по дому своих родителей, о которых ни слова больше. Роберт боится ада, поэтому он выбирает компромиссы, что совсем не так уж и трудно, ведь пока еще можно курить и слушать музыку в машине и он не должен даже сосредоточиваться на вождении, потому что стоит в пробке. Автосалоны процветают, банки каждый день жируют на процентах, большинство стоящих в пробке машин — собственность банков, их владельцы, ростовщики, которым не снятся кошмары о топоре психа, давно уже пересели в поезда, дорога от вокзала до банка заменяет им утреннюю пробежку трусцой, какая экономия времени, владельцы банков сами садятся за руль только за границей, они любят погонять, а по стране с ежедневно сокращающейся пропускной способностью погонять не получается, но достаточно пересечь государственную границу — и можно обойтись без водителя, положить пиджак на сиденье рядом и погонять по-европейски, а если у владельцев банков спросят, откуда они, то те уже давно отвечают: «From Europe, sir, like all of us»[2]: за границей они не желают вспоминать о стране, в которой нельзя погонять, точно так же как и Роберт не любит вспоминать о доме своих родителей.
Роберт наслаждается дымом и музыкой, водители не находят в нем товарища по несчастью, не вполне понимают причину столь сияющего лица, его благодушных улыбок, чем, дескать, этот сукин сын так доволен, им и в голову не приходит, что несвобода в пробке может пахнуть свободой; сигарета докурена, Роберт вспоминает, что должен получить результаты анализов, и думает, какими они будут — не ахти какими или откровенно плохими.
Результаты, похоже, еще менее утешительные, но все равно надо будет проконсультироваться у специалиста; сегодня в лаборатории ему не сказали ничего конкретного, Роберт должен подождать до будущей недели, интересно, захочет ли его болезнь подождать сколько нужно и не развиваться, скорее всего, что нет, потому что Роберт может, если захочет, пойти на прием в частном порядке, вне очереди, но Роберт рассуждает так: не затем он посылает несколько сотен злотых ежемесячно на страховку, что для писателя непишущего, как ни крути, солидный расход, Роберт не хочет участвовать в создании нездоровой и лживой системы и ради одной лишь идеи предпочитает прождать положенный срок, он надеется, что болезнь примет это во внимание и не воспользуется предательски несколькими днями проволочки, тем более что она и так имеет над ним явное преимущество, о чем Роберт догадывается, но пока еще не знает наверняка; Роберт предпочитает эту уверенность отложить на потом, пока что он только выглядит нездорово и результаты анализов не ахти, так что он может покататься по городу и заехать в любимый книжный магазин, где любимая продавщица должна была оставить ему книгу (Жена, правда, звонит, беспокоится, но ведь он в пробке, потому что надо было заехать в аптеку). Книга толстая и дорогая, Роберт не испытывает угрызений совести, но все равно ему придется содрать с нее ценник и спрятать фолиант глубоко на дно сумки, под ее дно, в специальный отсек для тайных покупок, которые, будучи обнаруженными дома, могли бы вызвать ненужный поток язвительных замечаний, — очередной компромисс, которому Роберт научился, с иными мелочами лучше не высовываться, коль скоро они могут вызвать не самые мелкие неприятности, достаточно спрятать добычу под дно, а наверх уложить свои рукописи, лекарства, с таким камуфляжем сумка готова к домашнему шмону; Жена страдает моторной навязчивостью, любит украдкой проверять содержимое сумки Роберта, и если бы она нашла в ней только что купленную книгу, съязвила бы, что Роберт, вместо того чтобы зарабатывать своей литературой, тратит деньги на чужую, вместо того чтобы писать, читает; Роберт и так уже испытывает угрызения совести, что больше читает, чем пишет, а теперь, когда он не пишет вовсе, угрызения совести особенно чувствительны, ему об этом не надо напоминать, не надо дополнительно снижать удовольствие от чтения; так что Роберт прячет книгу сразу после выхода из книжного магазина, хочет сесть в машину, но его узнают, не удается отвертеться от ритуального автографа, а также, и это хуже, от вопроса, которого его любимая продавщица уже давно не задает (если бы задала, она перестала бы быть любимой продавщицей, Роберт приобретал бы книги в другом месте), но который постоянно выползает на уста его фанатам, а им он не может отказать в праве быть нетерпеливыми.
— Когда же мы увидим вашу новую книгу? — спрашивает парнишка из-за спины девушки, которую он подсунул с книгой, чтобы она, сделав приличествующий моменту реверанс, заговорила бы с Робертом и взяла у него автограф.
— Пишем, пишем, но… пока что не издаем, — отвечает Роберт и улыбается, довольный тем, что остались еще крупицы былого остроумия, но улыбка грустная, что снова пришлось соврать: ведь ничего не пишет, а когда-то само у него писалось, книга, на которой он поставил автограф для девушки и парня, тоже написалась сама собой и поэтому все еще пользуется спросом, хотя, скорее, по инерции.
Когда-то у него писалось само собой, потом он стал заставлять себя писать, теперь он только подписывает свои книги.
Наступает время, когда приходится вернуться, войти в дом, снять пальто и обувь, пройти через главную гостиную, в которой пути домочадцев пересекаются чаще всего, потому что хоть так называемый верх принадлежит так называемым молодым, а внизу (низ принадлежит родителям, то есть Тестю с Тещей, или попросту Тестям) находится домашний очаг — кухня, а также камин и панорамный плазменный экран, к которым так тянет Жену, а потому и Роберт избегать их не может; хотя верх и принадлежит молодым, на лестницу надо идти через главную гостиную, принадлежащую уже немолодым, но хорошо сохранившимся людям, ведущим здоровый образ жизни, активным и бодрым Тестям, то есть родителям; будучи влиятельным политиком, Тесть отвечает в своей семье за поддержание высокого уровня бодрости, Тесть бодр за двоих, он бодрый и проворный, его проворство ничуть не угасает с годами, он все делает проворно, проворно предложил молодым верх, зная, что низом они все равно будут вынуждены пользоваться, так что он не потеряет контакта с дочерью, а заодно и сможет контролировать их супружеское самочувствие. Роберт здоровается с домочадцами и направляется на кухню. Тесть не обращает на него внимания, проходит через гостиную с видеокассетой, открывает шкафчик, в котором рядками стоят кассеты, ищет среди них чистую, чтобы записать очередное свое выступление по телевидению; Тесть умело изображает нежелание давать интервью; чем чаще репортеры донимают его просьбами дать интервью, тем легче получается у него симулировать это нежелание; он до сих пор притворяется, будто не любит смотреть себя по телевизору, журналисты не могут отстать от него, у них нет выбора, Тесть все еще звезда, и сделать с ним интервью — это удача, столько лет старый сукин сын держится у кормушки, и все еще никто ему как следует не вставил, и даже те, кто эффектно был им побит, делают карьеру на телевидении: сама попытка вставить Тестю возводит журналиста в ранг звезды, так что все пытаются подобраться к нему, но Тесть редко соглашается, он знает себе цену, поэтому сам выставляет условия, сам выбирает себе собеседников и ни за что никогда не выступит в прямом эфире. Тесть ищет чистую кассету и не может найти, бесится, потому что на этот раз на нем пообломала зубы особенно острая и опытная в поедании политиков журналистка; Тесть — человек дела и порядка, он собирает все свои публичные выступления, он не понимает, почему не может найти пустую кассету; он мог бы и не записывать в домашних условиях дебаты со своим участием, достаточно позвонить в редакцию, и ему пришлют диск с программой, но тогда бы Тесть выдал себя, а так он до сих пор удачно прикидывается, что терпеть не может интервью.
— Черт побери, черт побери. Ну нет, и все тут. Закончились кассеты, а через минуту начнется передача…
Может, Теща что-то знает на эту тему; с тех пор как она впала в особую разновидность религиозности, она сделалась какая-то злобная; с тех пор как она стала посещать собрания, организованные в катехизисных классах, и утверждать новые значения слов Мораль, Родина, Истина, Семья, История вместо общепринятого понимания морали, родины, истины, семьи и истории, Тесть даже стал беспокоиться о ее здоровье: никогда раньше она не проявляла идеологической активности, потому что в родном доме обязанность быть воплощением идеологической бодрости лежала на нем, и никаких разногласий между ними не было, Теща всегда вполне разделяла позицию мужа, но с некоторого времени ее взгляды радикализовались, ее религиозность стала какой-то оголтелой, а злобность еще более злобной; Тесть смотрел на все это с растущим беспокойством, но не вступал в споры, он не был готов к домашним дебатам, тем более что все теледебаты он выигрывал благодаря своему хитроумно аргументированному консерватизму, благодаря радикально-консервативным взглядам, которыми, смолоду освоив искусство риторики, жонглировал с непостижимой ловкостью; он не был готов к спору с тем, кто считал бы его позицию слишком компромиссной, если не сказать «льющей воду на мельницу враждебных обществу ценностей» — так молола языком Теща, или мололо радио у ее уха; Тесть не принимал к сведению, игнорировал, не признавал эту «молотьбу» Тещи с радиоприемником над ухом, потому что, если бы он хоть раз отреагировал гневом, если бы дал втянуть себя в свару, он тем самым признал бы право Тещи на индивидуальное, независимое мировоззрение, а ведь это не у Тещи было мировоззрение, а у Радио, так как же Тестю было вступать в перепалку с радиостанцией, вот он и игнорировал ее демонстративно, Теща, в свою очередь, точно так же демонстративно вещала; до тех пор, пока она не компрометирует его публично, он не будет вмешиваться, так он решил, но все труднее и труднее справлялся с ее озлобленностью. Вот и теперь она злобно приговаривает:
— И очень даже хорошо, что не на что записать. Это тебе наказание свыше за то, что ты не согласился выступить у его преподобия…
— Ошибаешься, как раз и есть на что записать. На твою кассету, где у тебя фильм с последнего паломничества. Назло тебе, потому что ты меня уже довела до ручки. Где она? Где эта твоя кассета?
В последние годы Теща все чаще отправляется в паломничества, это уже не какие-то там экскурсии приходского кружка в Лихень, это серьезные поездки семьи радиослушателей под покровительством его преподобия: Вильно, Меджугорье, Корк, Фатима, Сантьяго-де-Компостела (Иерусалим в плане на этот год; с тех пор как Иерусалим встал в план, она потихоньку таскает у мужа из бумажника деньги, раньше ни на что подобное она не решилась бы, но теперь трактует это как подрывную деятельность в стане врага — с тех пор как оказывает помощь радиосемье конфискованными деньгами и откладывает на Иерусалим, ее злобность разрослась до невиданных размеров) — она записывает, коллекционирует, завела свою полочку, где собирает книги, призывающие к возрождению польского духа.
— А эту и не ищи. Я ее давала посмотреть, мы ее недавно ставили в приходе, его преподобию так понравилось…
— Черт побери, черт побери. Ну вот, начинается уже…
На этот раз не получится записать, Тесть устраивается в кресле, наблюдая за собой, сидящим в кресле и приветствующим публику в студии и зрителей перед экранами телевизоров, машинально складывает ладони, соединяя кончики пальцев: основы языка жестов он освоил так давно и с такими хорошими результатами, что они стали языком его рефлексов; Тесть смотрит себя по телевизору и еще раз проживает дебаты, более или менее помнит, что говорил, шепчет себе под нос те же самые сентенции, сам себе нравится.
Теща смотрит программу в первый раз, слушает внимательнее, чем Тесть, знакомится с политической позицией оппонента, присматривается к его методам, вслушивается в мастерски проводимую дискуссию, и, хоть представленные ценности чужды ей, она учится, делает выводы.
Жена не может перестать двигаться, ее мелкие шажки повсюду, она ступает всей поверхностью стопы, как японка, акцентирующая пяткой каждый шаг, не перестает ходить, открывать и закрывать ящики, поправлять шторы, передвигать стулья, переставлять вещи с места на место, постоянно бормоча под нос, перемежая чихом каждые несколько фраз, какая я, дескать, была, а вот какая стала, ничего не поделаешь, ее моторная навязчивость охватывает и Роберта, сама будучи в постоянном движении, она не может перенести, если кто-то не движется; у Роберта все чаще стало складываться впечатление, что он смотрит на Жену в ускоренной кинопроекции: на один его шаг приходится четыре ее шажка, прежде чем он успеет ей ответить, уже слышатся два новых ее вопроса, Роберт изводится при Жене, он отдыхает в тиши своего служебного болота. Когда-то ему нравилась жизнерадостность, энергичность, разговорчивость этой женщины, но время — враг очарований, теперь мелкие шажки жены, выискивающей для него новые и новые занятия, вызывают в нем тоску по свободному, достойному прогулочному шагу, ее быстро отдаваемые команды пробуждают в нем голод по неспешной, спокойной, да просто связной речи. Роберт любит посидеть в сарайчике, делая вид, что работает, постукивая молотком, подтягивая и отвертывая винты (если бы Жена пришла проверить, не прохлаждается ли он без дела, винт всегда удобное алиби). Бывало, что Роберт наедине с винтом преисполнялся ощущением свободы, но прежде всего размеренности, неспешности; бывало, что, радостно удаленный от стука каблучков супруги, он начинал беседу с винтом: «О винтик!» — обращался к нему Роберт в моменты мечтательной расслабленности и удовольствия от временно возвращенной себе несуетности, не переставая тем не менее прислушиваться, как бы не нагрянула проверка, не пора ли принять позу механика и не пропустил ли он мимо ушей приказа притащить что-нибудь сверху вниз, а что-то другое переставить отсюда в другое место, довернуть, потому что ослабло, прочистить, потому что засорилось.
Роберт ест разогретый обед, Жена подошла и говорит:
— Снова на меня напал чих, просто жуть. Ты, наверное, не все углы как следует пропылесосил?
Надо бы мебель переставить, потому что под ней может пыль оставаться, которую не взял пылесос, и она теперь на меня действует. Есть у тебя для меня таблетки?
Роберт достает из кармана пачку таблеток с чеком и кладет на стол перед Женой.
— Боже, дорогущие-то какие, надо было тебе подумать, прежде чем покупать. Слушай, а может, это перо? Знаю, постель меняли, но эти наперники, наверное, так пропитались… Из сарайчика надо принести брикеты и дрова для камина, скоро пойдут холодные вечера, обещали, сама слышала, только смотри, чтобы пыли на них в дом не притащить, не то расчихаюсь не на шутку.
Роберт заканчивает трапезу, укладывает посуду в посудомоечную машину, проходит через гостиную, оттуда по лестнице на второй этаж, Жена неотступно следует за ним, так называемые молодые идут на так называемый верх, который, в соответствии с неписаным соглашением, принадлежит им; из того, что было написано и задокументировано, следует, что на практике все принадлежит Тестям, в настоящее время очень увлеченным просмотром теледебатов. Тесть комментирует, Теща кривит рот, гримасами выражает неприятие, дескать, о чем вообще речь, зачем все эти эмоции, если Бога в этом нет, нет ни Чести, ни Родины, очень далеки от Истины все эти свары; Тесть переживает:
— О, а сейчас как я ее приложил, а? И это еще я с ней мягко обошелся. Ты глянь, как у меня брючина подвернулась. Смотри, как они злобствуют: специально ведь показывают, смотри, как камера наезжает.
Только я ее прижал, только они просекли, что сейчас я ее разделаю, так они сразу на брючину переключились. Брючиной хотят ослабить меня, вон как ловко манипулируют…
След в след за Робертом. Жене весь день не за кем было ходить, вот она теперь и компенсирует: скучает — с тех пор как она в отпуске по болезни, не знает, что с собой делать, а с тех пор как не знает, что с собой делать, она в отпуске по болезни, аллергия, мигрень, страхи — все вместе. Она работала в депутатском бюро отца в качестве секретарши, но, когда вышла замуж за популярного писателя, сочла, что самое время перейти на его содержание, говорит, что это было ее решение, а не отца. Врет. Тесть предоставил своей дочери свободу, отдавая ее замуж за популярного писателя, он счел, что она должна начать пользоваться жизнью, путешествовать, познавать мир, людей; она поверила в это и освободила место для хорошеньких секретарш, за которыми ее отец мог иногда и приударить, немножко с ними пофлиртовать, поволочиться за ними, пошутить, иногда посадить на колени, а это совсем другое дело, чем сажать себе на колени собственную дочь. Когда оказалось, что Роберт, несмотря на популярность (которую он считал случайной, временной и даже пагубной), перестал писать, когда возникла серьезная опасность, что «молодые» в связи с этим перейдут на содержание Тестей, Жена попыталась вернуться к работе, но в депутатском бюро Отца, к сожалению, стало тесновато, пришлось найти работу секретарши в другом бюро, где пан директор уже через несколько дней ее работы совершенно недвусмысленно приударил за ней, желая как бы слегка с ней пофлиртовать, пошутковать, посадить к себе на колени (причем ни в каком родстве с ней он не состоял), и тут ей сделалось плохо; сначала вроде только страхи, но потом к ним добавилась мигрень, ну и эта ужасная аллергия, пришлось взять бессрочный отпуск, теперь вот целыми днями сидит дома в ожидании мужа, а дождавшись, следует за ним по пятам.
У Роберта наверху свой кабинет; с тех пор как он пополнил старую библиотеку Тестей своими запасами, кабинет съежился до размеров кабинетика, основное место в нем заняли книги, вся комната заставлена двумя рядами стеллажей, излишки книг громоздятся на прогнутых полках, вырастают стопками на полу, столешница его письменного стола покоится на четырех колоннах из книг; Роберту нравится это место, ему нравится окружать себя книгами, даже если он не успеет все их прочитать (а собственно говоря, почему бы ему их недочитать после смерти; своим внутренним взором Роберт видит идеально для него подобранный «тот свет» как библиотеку в форме лабиринта с бесконечным количеством небольших комнаток, в которых он мог бы, устроившись в кресле, читать вечно, бесконечно, без устали, не смыкая глаз, блуждая между книгами, переходя от книги к книге, без угрызений совести, что он читает, вместо того чтобы писать, потому что после смерти ему уже не надо будет писать); книг становится все больше и больше, скоро трудно будет с ними ужиться, уже сейчас книги вытесняют с полок статуэтки литературных премий; самую тяжелую из статуэток Роберт недавно уронил себе на ногу, травма была довольно серьезной, и именно в связи с этим он решил пойти к врачу, а заодно выяснить причину нездорового внешнего вида.
А вот Жена не любит это место.
— Ой, сюда мне вообще лучше не заходить, книги — это пыль, а твоя комната — настоящий рассадник аллергии, рай для моли, для клещей. Зачем тебе все эти книги, может, хотя бы от тех, что прочел, стоит избавиться?
— Никто тебя сюда не тащит, это мой кабинет.
Жена отступает в коридор, прикрывает лицо платочком, Роберт быстро вынимает из портфеля результаты анализов и прячет их в ящик, запирает на ключ, потом достает из сумки купленную книгу и ставит ее на стеллаж рядом с другими, постарше, впихивает ее так, чтобы не бросалась в глаза; для всех остальных это источник болезней и лишняя статья расходов, так что во имя семейного спокойствия лучше прибегнуть к искусству компромиссов, а в данном конкретном случае — к особому его подвиду: маскировке.
Жена даже не смотрит в сторону приоткрытой двери, из которой до нее может долететь пыльное дуновение, — так и до конъюнктивита недалеко; она разговаривает с Робертом через платочек, стоя боком, недовольная, что снова потеряла его из виду.
— Кабинетом эта комната была, когда ты писал. А теперь это сама не знаю что, если и кабинет, то мемориальный. Деньги тают, скоро у родителей станем занимать. Коли не пишешь, то нечего и сидеть здесь, лучше тогда пойди принеси брикеты, к тому же в сарайчике, кажется, протекает крыша.
Она стучится в приоткрытую дверь, чтобы поторопить Роберта; жаль, что Роберт в своем кабинете только и может, что транжирить время, а ведь столько всего надо по дому сделать; лень — самый большой из грехов человеческих, знает ли ее муж об этом?
— Ты выйдешь, в конце-то концов?
Роберт выходит, Жена за ним по пятам, вдруг громко чихает.
— А может, у меня аллергия на тебя? Может, ты что-то вредное выделяешь, может, ты сигареты втихаря покуриваешь…
Роберт едва сдерживает себя, да, не слишком он терпеливый: всего пятнадцать минут, как пришел домой, а уже хочется бежать прочь, пятнадцать минут, а ему уже хватило на сегодня этой женщины; когда он вне дома, ему кажется, что может быть иначе, потому что в глубине души он любит ее, только бы вот снисходительности ему побольше, побольше сил, а дома достаточно четверти часа, чтобы он был сыт ею по горло, и сколько таких четвертей часа еще нужно, чтобы наконец принять решение уйти, думает Роберт и тут же вспоминает, что сейчас немного поздновато, что он выжат как лимон, что действительно они уже давно живут за счет Тестя; Роберту некуда съехать, вот почему он сидит здесь, стиснув зубы, и нет-нет да и огрызнется:
— Думаю, у тебя аллергия на саму себя.
Крыша в сарайчике протекает… Роберт следит за тем, чтобы дыра не уменьшалась и гарантировала ему занятие подальше от Жены, там, куда аллергия не позволяет ей войти; сарайчик — царство пыли, сараи не подлежат уборке, их и ставят-то для того, чтобы было где выполнять шумную и грязную работу, которой не место внутри дома, а потому принципиально призваны служить в качестве мастерских, а со временем все они становятся похожими друг на друга как чуланы, склады для отслуживших свое остатков былой роскоши, предметов, которые стали ненужными и немодными, но как-то жаль их выбрасывать, а даже если и не жаль, то слишком хлопотно куда-то вывозить, чтобы выбросить, вот они и оказываются в сарае и обрастают пылью, пыль — союзница Роберта, благодаря ей Роберт может через лично выдолбленную в крыше дыру наблюдать за облаками, а Жена не может это проверить, хоть зовет, подходит, ей хочется, чтобы он был при ней, ведь что получается: вроде только что пришел муж, а уж и нет его. Пересиливает себя, заглядывает внутрь:
— Ну и пылища тут, смотри — столбом стоит на свету… Когда придешь домой?
— А в чем дело, ты же видишь, что крышу надо починить, минимум до вечера дел…
— Ага… Ну… Может, как-нибудь поделишь работу, чтобы не застревать тут навеки, потому что дома тоже дел хватает. У родителей сток засорился, папа ведь не станет этим заниматься, ему надо речь готовить… Так что… Не слишком тут рассиживайся… А еще… кажется, снова у меня страхи начинаются.
Видимо, и впрямь у нее начинаются страхи, если уж она так встала у входа в сарай и пыли боится меньше, чем оставаться в доме одной, эти страхи, как она их называет, иногда доводят ее до истерических припадков, настолько серьезных, что Роберт предпочел бы не быть их свидетелем, он тоже боится, что у его Жены, которая сейчас краснеет, слезится, чихает, но продолжает стоять и умоляюще смотреть на него, того и гляди, случится приступ астмы, она упадет и задохнется; Роберт вздыхает, потому что она снова выиграла, снова ему стало ее жаль, он заканчивает ковыряться в крыше, пора возвращаться, пора снова стать реальностью для Жены.
3
Собака вертится, припадает и встает, нервно поскуливает, ей страшно, потому что хозяйка лежит на полу, и похоже на то, что она не хочет играть, вроде как умерла, хотя, когда собака лижет хозяйку в лицо, она чует, что внутри хозяйки еще теплится жизнь, теплая хозяйка должна проснуться, но собака никогда ни в чем не может быть уверена, пока вопросительно не посмотрит на человека и не получит от него ответ; хозяйка упала и умерла, но, слава богу, есть еще хозяин, может, даже скоро придет, и тогда собака подбежит к хозяину, но все-таки собака верит, что хозяйка с минуты на минуту проснется; сейчас хозяйка лежит на полу, она беззащитна, люди сильны, только когда они на двух ногах, а низведенные до уровня пола, они перестают быть людьми, пространство пола — среда обитания домашних животных, а они не любят такого непорядка, такого вторжения в их ареал; человек, мертвый он или живой, не должен лежать на полу слишком долго, ибо тем самым он нарушает извечный порядок, собака не знает, как вести себя: если человек лежит на полу, словно собака, так, может, тогда ей, собаке, надо встать на две лапы, а ей ох как не хочется, чтобы все менялось в этом направлении, тем более что до сих пор у нее не получалось ходить на двух лапах; кроме того, собака вообще не любит перемен, она постоянно живет в настоящем; собака еще раз лижет лицо хозяйки, чтобы та наконец ожила; может, надо залаять, и тогда на лай придет хозяин и увидит, что хозяйка умерла, опять умерла.
Хозяин (Муж хозяйки, которую зовут Роза) — Господин Муж — сидит с утра в своей комнате и просматривает бумаги, что-то у него там не сходится в балансах. Когда-то Господин Муж решил для себя, что главное в жизни — это чтобы дебет с кредитом сходился; с тех пор он разрабатывал для себя такие бизнес-планы, чтобы при помощи врожденного таланта и приобретенного опыта стать выдающимся специалистом по всем и всяческим балансам; Господин Муж так все разложил по полочкам, что все в его жизни сложилось: Главная школа коммерции с отличием, стажировка в западном банке, быстрое восхождение, директорская должность, и вот, наконец, он совладелец банка, акции которого постоянно растут, — и все это лишь потому, что он никогда не переставал заботиться о балансе. Когда из балансов стало ясно, что настал оптимальный момент обзавестись семьей, он произвел расчеты и пришел к выводу, что может позволить себе эксклюзивную женщину, а потом, после скрупулезного подведения баланса грехов, счел, что, отдаваясь без остатка своей профессии, он отстал в плане культурном, и здесь, внимательно всматриваясь в свою душу, обнаружил зачатки комплекса, который со временем мог бы разрастись и начать влиять на его самочувствие, а впоследствии и на работу банка, на котировки акций и т. д. Тогда он стал регулярно просматривать хронику светской жизни в гламурных женских журналах, фоторепортажи с банкетов, на которые его не приглашали; блеск звезд из области финансов доходил до сценически-экранной галактики только тогда, когда звезды финансов были склонны передать энную сумму на искусство, Господин Муж держался подальше от слишком рискованных и нерентабельных инвестиций, тем не менее хронику светской жизни он просматривал очень внимательно, потому что рассчитал, что инвестиция в искусство может оказаться для него рентабельной только в одном случае: если он возьмет в жены известную артистку, и тогда он задаром получит свое место в хронике светской жизни, его имидж выиграет, акции пойдут вверх и балансы не будут нарушены. Господин Муж быстро устал от анализа фоторепортажей; внимательно изучая тот материал, который поставлял ему глянец, пытаясь подсчитать, какая из звезд появляется чаще в самом положительном контексте, он понял, что пошел неверным путем: чаще всего на фотографиях появлялись так называемые банкетные селебрити — артистки, вынужденные бывать на банкетах, поскольку их реальная ценность на рынке искусства резко падала; актрисы, бывавшие на банкетах, вовсе не были настоящими звездами, потому что настоящие звезды ни в чем не нуждались; Господин Муж понял наконец, что банкетные рубрики заполнены фотографиями слишком маленького формата, настоящая звезда не опустилась бы до такого мелкого формата; Господин Муж, стало быть, пошел в город искать для себя женщину формата побольше, впервые в жизни потеряв счет времени (а ведь время — деньги, и после придется эту потерю восполнить), пока не наткнулся на самый большой в городе рекламный щит. На нем он увидел лицо Розы и сразу понял, что если что и видел до сих пор в жизни, то не лица, а морды. В самом большом из всех возможных форматов он увидел самое красивое из всех возможных лиц и перешел к действию. Просчитал, что он, человек, прямо скажем, богатый и внешне привлекательный, к тому же успешно пользующийся присущим ему аналитическим умом, в жизни повседневной, возможно, несколько излишне скован и серьезен, возможно, ему немного недостает шарма и чувства юмора, он не успел выработать привычку к этим чертам на работе, ибо банковское дело отнюдь не поле для спонтанной экспрессии, оно требует всегда быть начеку и держать дистанцию; Господин Муж всю жизнь совершенствовался в искусстве держать дистанцию, а потому не знал, как уменьшить градиент расстояния между собой и женщиной самого большого формата. Господин Муж прежде только пользовался женщинами, потреблял их, когда чувствовал, что организм требует эндорфинов; были это всё женщины легкие, простые и приятные, в том числе и тем, что их не надо было завоевывать, то были женщины, предназначенные для быстрого потребления, он заказывал их с доставкой на дом, одни его чаевые равнялись всему их месячному заработку, и при этом они прекрасно знали, что от них требуется, начиная с мастерского надевания презерватива ртом на умело возбужденный член и кончая сольной партией виртуозной имитации оргазма. Господин Муж понял, что, если он пойдет на покорение женщины, какого бы формата она ни была, он сделает это со свойственной ему неловкостью в таких делах, а значит, потеряет все свои плюсы, прежде чем успеет их предъявить, и он пришел к выводу, что лучше всего начать с делового предложения, чтобы потом, прибегнув к переговорной технике, которой он владел блестяще и применял ежедневно в своей работе, так аргументировать выгоду данной сделки для обеих сторон, чтобы его логика исключала ее негативный ответ.
Роза — прекраснейшее лицо города, а возможно, вообще прекраснейшее лицо страны, лицо самых больших косметических концернов — никогда не была хорошим бухгалтером, она отдавалась на волю случая, чувствуя себя вполне безопасно благодаря глубокой и непоколебимой вере в то, что люди по природе своей добры, разве что не всегда бескорыстны. Импровизируя жизнь с шармом и талантом, она добивалась всего намеченного как бы мимоходом, между прочим, без особых усилий, и в этой как бы необязательности как раз и заключался ее шарм; Роза вовсе не обязана была становиться актрисой, просто она уютно чувствовала себя в театре, особенно в классическом репертуаре, в этом прибежище высокого стиля она находила противоядие от плебейской бесформенности бытия жителей метрополии, от их убогого и вульгарного языка, сведенного к набору слов, употребляемых в конторе и в постели, театр был хорошей защитой от толп людей, духовно неряшливых, равно как и лекарством от одиночества, к которому она все никак не могла приспособиться. Не добивалась она и карьеры в кино, а тем более на телевидении, это они — кино и телевидение — старались заполучить ее, а она пускалась в съемочные приключения из чистого любопытства, осторожно подбирая роли таким образом, чтобы не принимать участия в терроре всеобщей серости; кино доставляло ей меньше удовольствия, чем театр, но приносило больше дохода; как прирожденный импровизатор, Роза никогда не имела сбережений; заботясь о финансовой независимости, она кончила приключение с кинематографом и окунулась в приключения с телевидением, которое позволяет зарабатывать больше и быстрее, но, получив предложение от крупного косметического концерна стать его лицом, сочла, что только приключение с рекламой позволит ей, несмотря на полное отсутствие гена бережливости, что-то откладывать, так она стала лицом самого большого формата, так вернулась в театр. Приключения с телевидением и рекламой раздразнили неукрощенное чувство одиночества: оно стало донимать ее больше, чем прежде; самые крепкие дружеские связи ослабли и готовы были окончательно развязаться, она вдруг обнаружила, что даже у самых давних и проверенных знакомых и старинных приятельниц разговор с ней не клеился, казалось, что они вдруг все утратили способность вести беседу без задней мысли, поэтому Роза решила вернуться в театр, к сценическому сообществу, спрятаться в ролях классических героинь, говорящих стихами; слишком долго пребывавшая в среде телевизионщиков и рекламщиков, она соскучилась по языку старинных мастеров, люди телевидения и рекламы пользовались таким примитивным, низким и лишенным красоты языком, что Роза после возвращения в театр долгое время говорила исключительно отрывками из старых пьес, даже вне сцены; чтобы как можно скорее выбросить из головы память о языке примитивных, низких и лишенных красоты людей, она говорила исключительно цитатами из театрального канона; старые знакомые и приятельницы предпочитали обсуждать ее чудачества, экзальтации и звездные закидоны скорее друг с другом, нежели с ней самой. Примерно тогда же она стала впадать в сонливость чаще, чем обычно. Доктор признал переутомление, это любимый диагноз врачей и пациентов, потому что тогда прописывается отдых, одно из немногих негорьких, если не передозировать, лекарств; Роза поняла, что должна перенестись в страну несценического шепота и позаботиться о так называемой внутренней гармонии, старинные небескорыстные подруги решили, что она должна наконец найти себе кого-то постоянного, небескорыстные друзья советовали ей то же самое, только делали это более напористо и откровенно корыстно.
Роза была застигнута врасплох, потому что знакомство с ней Господин Муж начал с признания, Господин Муж первым из тысяч ее почитателей осмелился просто представиться ей и попросить ее руки, что было и внове, и мило, а она, жаждущая новых приключений, не прервала его; здесь-то она и допустила промах, потому что Господин Муж умеет быть удивительно убедительным. Внимая его доводам, она нюхала поднесенный им букет и не могла сдержать смех, что, впрочем, ничуть его не обескуражило: Господин Муж был знатоком человеческих эмоций, он знал, что неконтролируемый смех — честная реакция; Господину Мужу повезло, да он и сам помог себе, применив к Розе в совершенстве освоенную им технику убалтывания клиента, а когда он закончил, то оказалось, что, несмотря на поздний час, ей совсем не хочется возвращаться домой; она поняла, что логика велит ей принять его предложение, только рассудок подсказывал не делать этого сразу. После свадьбы, ах да, конечно же, была свадьба… так вот: после свадьбы они переехали в горы, туда, где здоровее, свежее, лесистее, птичнее, травянистей и ручьистей.
Прервем нашу лав-стори: Роза не должна так долго лежать на полу, позволим ей проснуться, на нее на самом деле слишком часто внезапно нападает сонливость, и здесь брак не особо помог ей. Господин Муж наконец обращает внимание на лай собаки, и немудрено — собака у его ног, Господин Муж гладит собаку, не переставая проверять счета, зовет Розу, нет ответа, снова зовет, наконец идет проверить, что случилось, видит ее без чувств, должно быть, внезапно заснула и упала — но почему, что могло ее рассердить, испугать? — замечает в ее руке ножной браслет, ага, понятно, недоглядел, снова кто-то хочет осложнить его жизнь; он аккуратно разгибает пальцы Розы, вынимает браслет и прячет в карман и только теперь легко похлопывает ее по лицу, пытаясь разбудить, бесполезно, она спит, тогда он подкладывает ей под голову подушку и говорит скулящей собаке:
— Постереги хозяйку.
Уходит, возвращается мыслями к тому, что посчитано, придется еще раз внимательно проверить последние операции, что-то у него во всем этом не сходится.
— Это ты?
Он оборачивается; все-таки проснулась, встает с пола, помятая.
— Опять я заснула…
— Могу договориться с доктором на завтра, с последнего его посещения уже прилично времени прошло, думаю, надо показаться.
Господин Муж человек основательный, а значит, помимо всего прочего, он так же основательно сентиментален и заботлив, он приверженец эгоальтруизма: свято верит, что сделанное для другого человека добро обязательно когда-нибудь вернется, вот почему он принципиально добр к Розе, но ей нужна помощь специалиста; Господин Муж должен вернуться к работе, кроме того, он уже порядком устал от раздвоенности в своей жизни, тем более что кое-кто явно нарушает правила игры, так что придется позвонить или лучше всего послать эсэмэску, потому что Роза проснулась, а если она не спит, то становится очень подозрительной.
Супружество оказалось не совсем тождественно отдыху; Роза влюбилась в Господина Мужа довольно сильно, кто-то сказал бы даже, что она его полюбила, и тут не было бы никакой натяжки; Роза взяла отпуск в театре затем, чтобы посвятить себя любви, любви до потери чувств, что случалось с ней, увы, все чаще и чаще. Она стала терять сознание по нескольку раз в день, причем именно тогда, когда Господин Муж становился скорее нежным, чем принципиальным, словами и действиями склоняя Розу к тому, чтобы очередной ее календарный отпуск продолжить декретным (он не думал о детях до тех пор, пока не вывел средний показатель для трехсот пятидесяти самых влиятельных бизнесменов, из которого следовало, что статистически идеальный влиятельный бизнесмен имеет одну жену и 2,27 ребенка). Чем счастливее она была, тем чаще засыпала, что было жутковато и тревожно, а испуганная и взволнованная, она теряла сознание внезапно, минут на пятнадцать, иногда и дольше, безжизненно оседая на пол; Господин Муж был всем этим обескуражен, не знал, что делать, он не предвидел такого разворота событий, не провел по счетам, не имел понятия, остается ли в этой ситуации его марьяж выгодным, кто-то должен был помочь выяснить это, просчитать, здесь уже не подходит традиционная формула о переутомлении, здесь нужен специалист. Специалист определил у Розы нарколепсию. Роза вспомнила этот термин, ее бабушка любила прикорнуть днем, часто засыпала она и во время семейных торжеств, за едой, иногда во время разговора, ее так и называли — не Анна, а Зеванна, хотя, если честно, она засыпала, едва ли успев зевнуть, и все врачи говорили, что это у нее на почве диабета; никому не мешало, что бабушка Зеванна тихонько дремлет, ее просто переносили в кресло, чтобы не клюнула носом прямо в салат; и, только когда новый молодой пан доктор диагностировал нарколептическую сонливость, бабушка Зеванна так перепугалась, что тут же умерла, и доктор не успел ей сообщить, что от этого не умирают. Вот и Роза узнала, что больна, а Господин Муж все не мог успокоиться, отчего это выпало именно ему. Господин Муж отвел специалиста в сторонку, расспросил его как следует и узнал, что прежде всего следует заботиться о том, чтобы у нее выровнялся ритм сна и бодрствования, чтобы она не просыпалась по ночам; Господин Муж вызвался по вечерам давать ей снотворные пилюли, специалист сказал, что пилюли пилюлями, но скорее днем и не снотворные, а такие, которые активизируют жизненные процессы, да и вообще надо поосторожнее, потому что нарколепсия пока еще слабо изучена. «А в вашем случае ситуация осложняется тем, что она не может вспомнить момент, когда проваливается в сон. Такие дыры в памяти действуют на больную очень угнетающе. Вы понимаете: страх, возбуждение, сильные эмоции — все это она переживает, но, когда просыпается, не помнит ровным счетом ничего. Поэтому ее может угнетать дефицит сильных впечатлений. Она начинает их искать, а как только находит — засыпает, и таким образом круг замыкается». Господин Муж спросил, чем же он может помочь ей. «Терпением», — ответил специалист. Господин Муж не был человеком терпеливым, хотя прекрасно умел уговорить своих клиентов проявить терпение, с поразительной ловкостью убеждая их в пользе так называемого долгосрочного, перспективного мышления — разместить большие суммы в его банке с мыслью об обогащении детей, а может, и внуков вкладчика лет эдак на пятнадцать-двадцать, и в течение пятнадцати-двадцати ближайших лет банк Господина Мужа обязуется принципиально чутко заботиться о ваших деньгах, а по истечении условленного срока внесет на ваш счет гораздо, гораздо большую сумму, конечно, если к тому времени не разразится война, чума, биржевой крах и т. д., потому что если вам не повезет самому дожить до срока выплаты, эту сумму получат ваши дети; так подумаем же хотя бы на минуту о судьбе наших детей, о том, что оставим мы им в наследство, кроме наследственных болезней, ведь мы не хотим, чтобы в наследство от нас им остались только долги.
Господин Муж быстро терял терпение, когда думал о том, что появились непредвиденные осложнения и что ему придется терпеливо ухаживать за Розой, не рассчитывая на то, что в ближайшее время у них появится ребенок; ситуация была слишком сложной даже для 0,27 ребенка, а потому Господин Муж с этого момента основательно занимался женой, но внешние обязанности настолько поглощали его, что у него уже не оставалось сил на нежность. Роза почувствовала, что Господин Муж остыл, температура его тела резко упала: прижимаясь к нему в постели, она мерзла, когда он говорил с ней, его речь обдавала ее ледяным холодом, Роза чувствовала, что Господин Муж разогревается в другом месте, вне дома, решила проверить это, и именно тогда она впервые заснула за рулем. Ей повезло, но машину отправили на слом, желтая пресса не преминула воспользоваться ситуацией и стала докапываться, по какому такому поводу женщина такого формата заснула за рулем, неужели устала от супружества; такой оборот событий очень обеспокоил Господина Мужа — Роза начала приносить убыток, к тому же повсюду его стали представлять в невыгодном свете, и с этих пор, по-своему интерпретируя советы специалиста, он следил, чтобы в течение какого-то времени Роза не выходила из дому, неопределенное время становилось все продолжительнее, жизнь Розы протекала между сном и подозрительностью — в сущности, ничего приятного.
Взглянем на типичную ситуацию, которая иллюстрирует интересующую нас проблему: Роза в ночной рубашке входит ночью в спальню, видит, что Господин Муж что-то спешно набирает на мобильнике, вроде как эсэмэску посылает, выключает телефон и кладет его на столик у кровати. Роза ложится в постель, обольстительно прижимается, отвлекает внимание Господина Мужа и хватает мобильник, после чего садится на кровати и пытается разблокировать телефон.
— Кому ты писал?
— Успокойся, я будильник ставил.
— Ты поменял пароль? Разблокируй немедленно.
— Дорогая, дай мне, пожалуйста, телефон.
— Я всего лишь хочу проверить, кому ты послал эсэмэску.
— Ты должна принять таблетку.
Господин Муж научился отпасовывать проблемы: он начинает ее ласкать, целовать, покусывать за ушко. Роза тает, уступает его ласкам и не ведает о том, что Господину Мужу важно только одно: чтобы она как можно скорее заснула; она отвечает на его ласки, перехватывает эстафетную палочку, чувствует, что палочка в ее руке достигла своих максимальных размеров, садится верхом на Господина Мужа, ритмично двигая бедрами, и, видя, как безмерно он удивлен, что сегодня дело зашло так далеко и что ему очень даже приятно, спрашивает:
— Ну и зачем ты мне изменяешь? Плохо разве тебе со мной?
Господин Муж хотел бы возразить, возмутиться, что-то решительное сказать, но не может сосредоточиться, говорит:
— Ты должна принять таблетку…
— Мне не хочется спать, — говорит Роза и опадает на него, замирая в неподвижности; Господин Муж знает, что это означает, пытается сделать еще несколько движений, но, не будучи некрофилом, прекращает их, Роза обмякает от потери чувств, придавливает его всей массой абсолютно бесчувственного тела; мгновение назад она была легче перышка, а теперь, отяжелевшая, придавила его — не вздохнуть; Господин Муж вылезает из-под Розы, укладывает ее рядом на постели, достает из ящика ампулу и шприц, готовит укол, делает его Розе в ягодицу (она не успела принять таблетки, заснула, а в сонном состоянии давать их опасно — может задохнуться; Господин Муж должен привести в норму ритм ее сна, как велел специалист), накрывает ее одеялом, сам снимает пижаму и одевается на выход, берет ключи, включает телефон и начинает набирать номер, гасит свет, выходит из спальни. Господин Муж знает, что coitus interruptus[3] — это прямой путь к сексуальному неврозу, а он не может этого допустить, садится в машину и едет, чтобы вне дома завершить то, что в рамках супружеского долга было начато в доме.
Роза спит в полной отключке, снотворное постепенно проникает через мышцы в кровь и не даст ей проснуться до утра. Утром она сможет прижаться к Господину Мужу, увидеть, как крепко он, такой беззащитный, спит, она еще успеет приготовить ему завтрак и даже немного подождать, потому что Господин Муж и в самом деле устал, ведь он так поздно заснул.
Зрачок сужается, веко дрожит, ей хотелось бы зажмуриться, заслониться, защититься от пучка света, но специалист настойчив, он проверяет реакции, светит фонариком; чик — и фонарик погас, теперь, пожалуйста, нога на ногу, так, стукнем молоточком, так, между прочим, у вас красивые ноги, пани Роза. Господин Муж пригласил специалиста, время от времени приглашает его, хотел бы удостовериться, что с Розой ничего серьезного не происходит, что его методы регулировки ритма правильные, кроме того, жена должна ведь кому-нибудь поплакаться, специалист понимает, он ведь Психиатр, бездонная бочка, в которую ежедневно сливают сотни жалоб и сетований, иногда едва понятных, иногда просто абсурдных, но он обязан относиться к ним с неизменной серьезностью, проверить реакцию пациента, а разговор с Розой для него как бонус, Роза — красота самого большого формата, звезда, пусть чуть поблекшая по сравнению с билбордами, но тем больше честь, что он может помочь ей вернуть прежний блеск; Роза говорит дельно и рассудительно, Психиатру очень нравится ее голос, он мог бы слушать его значительно дольше и чаще, чем ему положено; Психиатр ежедневно в силу профессии выслушивает массу пациентов, но вслушивается только в голос Розы.
— Я не помню тех моментов, когда засыпаю. Иногда бывает так, что… уже проснулась, но еще не могу какое-то время пошевелиться, даже открыть глаза, как будто я парализованная, жуткое ощущение… Кроме того, у меня уже из ушей наружу лезет это… спокойствие. Сижу тут целыми днями… Я хочу вернуться к работе, к людям… К жизни… У меня уже от этой тишины мозги лопаются.
— Придется еще немножко подождать. Ваш случай требует постоянного наблюдения, мы могли бы вас поместить в больницу, но там, честное слово, нет таких условий, как у вас дома. У вас заботливый муж, прекрасный дом…
Психиатру делается не по себе при упоминании заботливости Господина Мужа, ему хотелось бы оказаться на его месте, он хотел бы забрать отсюда Розу и самому стать для нее домом, Психиатр знает, что по-настоящему люди могут жить только в других людях, знает, что депрессия — это не что иное, как бездомность, от депрессии страдают люди, у которых нет никого, в ком можно было бы поселиться, и Психиатр надеется, что Роза поймет это, он старается деликатно, осторожно навести ее на эту мысль; о, получилось: услышав о Господине Муже, Роза встает, начинает ходить, как же она хороша, Психиатр хотел бы пригласить ее к себе, они смогли бы жить друг в друге, он жалеет, что познакомился с ней только как с пациенткой; но — тихо, Роза хочет что-то сказать:
— Пан доктор… Это нормально, если человеку постоянно снится один и тот же сон, хотя человек совсем не хочет этого?.. И все в нем такое… реальное, натуральное.
— Мм, такое возможно… А какой сон вас преследует?
— Мне снится, что мой муж… последний подонок.
4
Нельзя сказать, что директора банков очень довольны, что им приходится ездить поездами, хотя это единственный разумный способ избежать пробок на вечно ремонтируемых шоссе. В этой стране никогда нельзя будет разогнаться, потому что здесь латают дороги, вместо того чтобы строить автострады; сляпанные на скорую руку дороги требуют постоянного ремонта, в противном случае кровообращение страны будет парализовано; у людей, в конце концов, должна быть хоть тоненькая жилочка подновленного шоссе, чтобы им хотя бы казалось, что у них, пока они ждут сети автострад, есть по чему ездить; сляпанные на скорую руку дороги требуют бесконечного ремонта, а ремонт, в свою очередь, требует времени и денег, которые лучше всего брать при въезде у водителей, верных любимой старой трассе (они не могут ей изменить с другой просто потому, что никакой другой нет), заботиться о том, чтобы хоть одна ее жилка была проходимой, чтобы верные ей водители оставались в движении и чтобы им казалось, что они едут, так чтобы, будучи уже в дороге, они могли надеяться, что доедут вовремя; у них должен постоянно поддерживаться определенный уровень надежды, в противном случае они не согласились бы платить, объезжали бы старую заслуженную автостраду или съезжали бы с нее перед очередным пунктом сбора денег; на всякий случай электронное панно с информацией о пробке установили тут же, около съезда, чтобы разогнавшийся водитель не смог прочесть предостережения заранее и выбрать другой путь; минуточку, а кто сказал, что это предостерегающее объявление, это исключительно информационное объявление, оно всего-навсего информирует: дорогой водитель, не разгоняйся, через километр-полтора тебе придется притормозить, а то и вовсе остановиться, потому что, к сожалению, ты только что проехал мимо последней развилки перед пробкой, а если ты спешишь, значит, у тебя проблемы, и тебе лучше было бы ехать поездом, все разумные люди в этой стране поступают именно так. О разумных людях, а тем более о директорах банков нельзя сказать, что они в восторге оттого, что им приходится ездить поездом, причин масса, и постоянно их становится все больше и больше, взять хотя бы для примера так полюбившиеся директорам банков вагоны-рестораны, в которых по неизвестным причинам с некоторого времени введен сухой закон, можно выпить бокальчик безалкогольного пива по цене большой кружки пива с градусами, причем стоя, потому что за столами на восемь человек имеется только два привинченных к полу табурета у окна, всегда занятых, и, в довершение всех бед, здесь постоянно стоит невыносимая жара, потому что вагон-ресторан — вагон особой теплой душевной заботы властей, так что здесь придется снять не только пальто, но и пиджак, и сразу не сообразишь, что со всем этим делать, потому что в вагонах-ресторанах вешалок нет, но оставим это, разумные люди в одночасье перестанут ездить по этой стране, потому что есть страны более простые и менее утомительные, к которым уже ничто не ограничивает доступа; разумные люди зададут себе вопрос, что заставляет их выбирать жизнь и значительно меньшие заработки на родине, которая им ни в чем не помогает, на родине, которая, вместо того чтобы служить им, устраивает им пытки и чинит препоны везде, где только может, на родине, которая словно пьющий и драчливый муж — из тех, что раз в неделю ходит на исповедь, сжирает облатку и чувствует себя очищенным от грехов, а потом требует выполнения супружеских обязанностей; директора банков подождут, пока все разумные люди уедут в более дружественно настроенные к человеку страны, и тогда они смогут занять освободившиеся места на табурете у окна; директора банков связаны с этой утомительной страной деловыми интересами и капиталом, который они сколачивают на неразумных людях; эти последние останутся здесь до самой смерти, часто преждевременной, их разочарованные сердца разорвутся перед выплатой долгосрочного вклада, они будут вынуждены ликвидировать его до срока, теряя шансы на долгожданное обогащение, но ничего не поделаешь, на здоровье не экономят, операции надо проводить в лучшей клинике, разумеется частным образом, их порванным сердцам нужны лучшие портные. Неразумные люди тоже иногда ездят поездами, их легко узнать уже на вокзале, когда они на своих двоих преодолевают вечно стоящие эскалаторы и их это ничуть не удивляет; если вечная неподвижность эскалатора перестала им мешать, это значит, они никогда не уедут отсюда, а будут петь патриотические песни, надо ведь придать хоть какой-то смысл страданию. Неразумные люди, не в пример директорам банков, носят с собой наличные, а потому на вокзале они первые становятся жертвами карманников, директора банков в принципе не интересуют юнцов с полиэтиленовыми сумками, которые рассеяны в вокзальной толпе и вычисляют будущих жертв; у директоров банков в портмоне только кредитные карточки, вместе с карточкой надо было бы украсть и самого директора и выдавить из него код, а такое предприятие скорее невыполнимо, кроме того, за него светит серьезная статья; у вокзальных воришек прекрасно продуманная стратегия действия, они безошибочно вычисляют людей неразумных, у которых с собой есть наличные; коллективно они действуют только в особых случаях, когда исключительно неразумный человек, покупая газету или жвачку, продемонстрировал исключительно ценное содержимое бумажника; вокзальные воры сотрудничают с несколькими лоточниками и одним киоскером, и, когда кто-то покупает газету или жвачку и хочет расплатиться сотенной купюрой, ему говорят, что не будет сдачи, пусть он получше поищет мелочь, неразумный человек послушно следует совету, копается в поисках мелочи, тем временем киоскер дает знать парням, что готовится номер, неразумный человек уже может не показывать содержимое бумажника, рассчитывая на понимание: «Ну сами видите, нету у меня сегодня мелочи», киоскер изображает недовольство и набирает-таки сдачу, исключительно неразумный человек доволен, что ему удалось купить газету и жвачку без особо больших проблем, человек неразумный доволен собой каждый раз, когда ему удается что-либо сделать без особо больших проблем в довольно проблематичной стране, исключительно неразумный человек уже стоит на перроне, парни перемигиваются, договариваются, поезд подъезжает, народ толпится при входе, парни — тот же народ, человек неразумный должен обязательно протиснуться побыстрее, чтобы успеть занять свободное место в купе, наконец ему это удается, он садится, вешает плащ, испытывает облегчение, снова получилось, он доволен собой, сейчас он поедет, о, уже едет, теперь надо позвонить жене и сказать, что успел, нашел место, минуточку, куда подевался мобильник, боже, а бумажник, ведь там были все документы; бумажник и документы уже лежат в урне для мусора, ищут новых друзей среди бумажек, банок и кожуры от банана, деньги и мобильник уже пополнили дневной доход парней с пластиковыми пакетами, получил свою долю и киоскер, это была мастерски разыгранная партия для целого ансамбля, посмотрим еще раз. Какая-то мамочка спешит на поезд, но, наверное, не очень уж спешит, потому что останавливается у прилавков с косметикой, фирменной, но по заманчиво низкой цене, мамочка, по всему видать, редко бывает на вокзале, она привыкла все больше на машине, но, может, как-то не совсем удачно запарковала свою тачку, и кто-то теперь в автосервисе выправляет ей капот, а тут как раз поехать приспичило, у мамочки сумочка, которая выглядит, честное слово, совсем неплохо, модная, но очень непрактичная, кошелек едва помещается, а замок всегда самопроизвольно открывается, мамочка тянет за собой девочку, а дети иногда бывают ой какие наблюдательные, впрочем, и эту проблему кое-как удается решить; девочке очень хочется, чтобы ей что-нибудь купили, — допустим, этого вот мишку, которого она взяла в руки; продавец уговаривает купить, мамочка тащит девочку за руку и рычит на нее: «Оставь!» — мамочке хотелось бы до отъезда зайти еще в несколько лавочек с косметикой, потому что она просто глазам не верит, что такие выгодные цены, не подделка ли это; ой, женщина, я вас умоляю, что вы такое говорите, только оригинальная продукция, вы попробуйте у себя на руке, понюхайте, а почему тогда так дешево, а потому, что рекламная акция (продавец с удовольствием объяснил бы мамочке, как делается бизнес, что для этого надо иметь смекалку, которая обеспечила ему постоянный доступ к дармовым пробникам, а потом пошло-поехало, в бизнесе главное — первоначальная идея и смекалка, с удовольствием поговорил бы об этом с мамочкой где-нибудь не на вокзале, она даже, можно сказать, понравилась ему, но, к сожалению, парни дали знать, что займутся ею, ничего не поделаешь), девочка оторвалась от мамочки и вернулась к мишке, это всего лишь соседний ларек, мамочка ее сейчас оттуда заберет и даже шлепнет по попке, ведь сказала же, чтобы от мишки отстала, вот сейчас будет ей взбучка, еще только понюхает этот вот флакончик, нет, не этот, я же вам показываю, вон тот, другой; сейчас идеальный момент, один из парней открывает ее сумочку, вытаскивает кошелек, девочка как раз в этот момент повернулась, чтобы показать другого мишку, которого ей предложили, и видит, что какой-то дядя тащит у мамы из сумочки кошелек, кричит, пищит, какой облом, мамочка заметила, что происходит, хватает парня за руку, зовет полицию, парень вырывается и убегает, люди пытаются преградить ему путь, полиция свистит, бежит, преследует, парень бежит быстро, но в сторону высокой стены, полицейские чувствуют, что не уйдет, глупый, что он делает, да, видать, знает, что делает, потому что подпрыгивает, делает сальто и перемахивает через бетонную преграду, и вот уже нет его, а когда этот сопляк перескочил, полицейские тоже пытаются забраться, один встал на другого и карабкается, потеря времени увеличивается, погоня проиграна, парень свободен, хотя слегка ранен, столько лет тренировок — и такое фраерское падение, может, немного переборщил, это ведь не соревнования, ему все труднее бежать, потому что неизвестно, ребра ли больше болят, рука ли, еще только один подъезд пройти, и все. Можно смешаться с уличной толпой, здесь его уже никто не поймает, он замедляет шаг, получилось, хотя лицо парня искажает боль; минуточку, ну да, это парень и даже, можно сказать, мужчина.
(Где же в таком случае Адам? Попробуем дать ему еще один шанс.)
Адам переобувается, надевает новые тапочки, закрывает шкафчик, застегивает халат, проходя через кабинет, замечает на столе недопитый кем-то из врачей чай, оглядывается, нет ли кого, быстро выпивает глоток, еще не совсем остыл; Адам, с тех пор как снял квартиру неподалеку от городской больницы, живет только на жалованье стажера, что требует очень продуманной экономической стратегии, понятное дело — краткосрочной; Адам экономит так, чтобы ему хватило до первого числа, директорам банков здесь нечем поживиться, для директоров банков Адам не существует, разве что случится что-нибудь такое, чего они не предвидели в своих бизнес-планах и неожиданно окажутся в приемном покое, только в этом случае Адам может предстать перед ними в качестве молодого врача, у которого как раз было дежурство и который спас им жизнь, оставят тогда ему конверт с запасом благодарности и переведутся в частную клинику; вернемся, однако, на землю, пока что материальный эквивалент душевной признательности врачу не отяготил банковского счета Адама, а потому он должен жить экономно и дешево, таков порядок вещей, в конце концов это лишь начало, каждый когда-нибудь начинал в качестве стажера и крутился, чтобы выжить; в будущем карьера Адама сможет пойти в гору, он будет значительно больше зарабатывать, поймет, что медицина — это, кроме всего прочего, еще и неплохой бизнес, хотя пока ничто на это не указывает; Адам повторяет, как бы наивно это ни звучало, что для него лечить людей — это счастье, служение и миссия, Адам идеалист, существует серьезная опасность, что при таком подходе он никогда не выбьется в люди и ему всегда придется допивать чай после коллег, а дома — уж что получится из второй раз залитого кипятком пакетика; Адам научился жить дешево и экономно. Отец мог бы гордиться им, хотя на самом деле, когда он решил наотрез отказать сыну в какой бы то ни было материальной помощи, когда запретил Матери отправлять посылки и даже давать ему по телефону практические советы, думал, что выезд Адама в город продлится не дольше, чем его пребывание в размышляльне, тихо надеялся, что, раскаявшись, сын поймет весомость и значение отцовской поддержки, только тогда он сможет оценить все, что для него сделали родители, Отец никак не может понять, как это сын взял да наплевал на его, Отца, благородный порыв, Мать, честно говоря, предчувствовала, предостерегала, что дарить целый дом в качестве сюрприза — это перебор, но Отец настаивал на том, что жест должен быть широким. Ну и что в результате? Дом стоит пустой, лишь ветры воют в щелях закрытых ставень, а Адам пока что как-то справляется, стал самостоятельным, что имеет свои плюсы; в принципе Отец мог бы им гордиться, если бы увидел, каким хозяйственным и экономным стал его сын, быть может, он наконец смягчится и приедет его навестить, к чему Мать постоянно склоняет Отца — съездить к сыну в гости. Тем временем Адам идет по больничному коридору, сегодня у него дежурство в приемном покое, но осталось еще несколько минут, вот он и заглядывает в ординаторскую, старшие коллеги как раз изучают рентгеновский снимок, Адам внимательно разглядывает его, супит брови, спрашивает, чей это позвоночник, старшие коллеги иногда еще подтрунивают над ним, новичок, ну а этот новичок уже пару раз блеснул знанием и интуицией, что не может понравиться коллегам, во всяком случае не сразу, самый старший из старших коллег понимает беспокойство в голосе Адама, новообразование на продвинутой стадии, старший из старших коллег понимает, что ситуация плохая, что придется как-то сказать пациенту, это нелегкий и выматывающий опыт, старшие коллеги уже столько ночей не спали в своей жизни, думая о том, как подготовить человека к смерти, а этот Адам новичок, ему придется научиться, потому что в больнице нужны не только знание и интуиция, но и крепкая психика, Адама следует проверить, и коль скоро этот счастливчик все еще что-то бормочет о служении и миссии, то в самое ближайшее время на него возложат одну важную миссию; тем временем Адаму уже пора идти в приемный покой, потому что там очередь.
Время чудесного стечения обстоятельств. На кушетке сидит парень, можно даже сказать — мужчина, похоже, что сильно поломался. Адам тут же узнаёт его. Он запомнил его как хорошенького парнишку, а то и мужчину, когда начинал больничную практику в травматологии, он думал, что такие красивые мальчики любят по-мужски порезвиться и, прыгая, могут себе что-нибудь сломать, логично? — логично! — никому из таких пока еще не удалось уберечься, чтобы, скача, ничего себе не сломать, не вывихнуть, не растянуть по крайней мере, поэтому Адам брал дежурства в травматологии, не только положенные по графику, но и подменяя коллег в ожидании дня, когда попадет к нему этот хорошенький мальчик, а то и мужчина, он называл его в мыслях своим Красавчиком, так что воспользуемся случаем, упростим дело, и с этого момента мальчик, а то и мужчина будет просто Красавчик, тем более что Красавчик во всей этой истории может сыграть громадную роль, если только он не вспомнит, что Адам — это тот самый гомик, который пристраивался к нему в автобусе. Однако Красавчик ведет довольно интенсивный образ жизни, изобилующий стрессами и событиями гораздо более яркими, чем рука гомика в автобусе, у Красавчика за плечами целая жизнь, поэтому в нем иногда проглядывает мужчина. Нечего бояться, Красавчик не узнаёт Адама, у него в голове гораздо более важные заботы, он зарабатывает свой хлеб, работая в отрасли высокого риска, в последний раз его ведь чуть не сцапали, это совсем не просто обирать фраеров по вокзалам так, чтобы ментам не попасться на глаза, кроме того, надо следить, чтобы не зарываться, лучше красть часто, но по мелочи, и тогда, в случае чего, на тебя навесят небольшую социальную опасность, правонарушение, а это совсем другая песня, чем преступление; честное слово, нелегко красть, чтобы пройти по статье не преступления, а только правонарушения. В свободное от работы время Красавчик с приятелями во дворе занимается брейк-дансом, они в этом деле действительно мастаки, кое-кто даже совсем забросил хулиганство, чтобы больше времени оставалось на тренировки, а с тех пор, как они стали выигрывать на соревнованиях, это просто выгодно; у Красавчика талант, хотя он немного ленится, на соревнованиях остается в тени приятелей, но тренировки вообще оказываются полезными, бибои очень гибкие, бегство от полицейских через вокзальную толчею, когда каждый так и норовит подставить тебе ногу, воистину экстремальный вид спорта; Красавчик нравится приятелям по вокзалу своей гибкостью, он часто бравирует и вырывает у мамочек сумочки, чтобы потом устроить показательный отрыв от преследования. Ну вот и поломался, но он гордый и не пошел в травмопункт; только когда у него рука распухла и он не мог лечь на бок так, чтобы ребра не болели, он пошел к врачу и вот теперь сидит в очереди, ждет и не знает, что Адам тоже ждет не дождется его, хотя добросовестно принимает всех пациентов, не может позволить себе работать спустя рукава, потому что это служение, миссия, он ведь на самом деле так думает, пациенты уже успели полюбить его, скоро, глядишь, конверты понесут.
Чудо свершилось: крепкий полуголый бычок сидит перед ним на кушетке, Адам теперь может, да что там может, просто обязан потрогать его, прощупать, вправить, он может делать это открыто, это его право, да что там право — обязанность, Адам ведь врач, и в этой чудесной ситуации он врач, и только врач, но как дотронуться до Красавчика, которого он так долго ждал, и не потерять при этом контроля над собой, как его осмотреть и не прижаться; Красавчик ждет, когда сможет доверить доктору свои кости и даже тело, у полуголого Красавчика на торсе нет ни единого волоска, Адам даже не смел мечтать о такой мальчиковости в мужчине, голая и гладкая, скульптурно облепленная мышцами и мерно вздымающаяся грудная клетка, соски твердые, через приоткрытое окно поступает свежий воздух и доносится веселый шум с детской площадки, боже, какие же твердые должны быть у него мускулы, думает Адам и надевает тонкие резиновые перчатки, хотя предпочел бы их снять перед Красавчиком, как Рита Хейворт в «Джильде», предпочел бы дать парню прочувствовать чувственность ситуации, потрогать его мальчиковую мужественность голой рукой, но он знает, что тогда бы он совсем расклеился, продемонстрировал бы свою слабость к Красавчику и потерял бы его доверие: только в качестве врача имеет он право лицезреть эту доверчивую преданность, это смиренное принесение на его суд своих костей и тела; и, если бы не высокое призвание, Адам вылизал бы все раны на теле паренька.
Он начинает трогать его, ощупывать, чтобы проверить места возможных переломов, тут у тебя болит, и тут, и тут, мой бедный болезный Красавчик, от ран страдающий, смилуйся надо мной, давай полюбимся; хоть кто-нибудь когда-нибудь дотрагивался до тебя так чувственно, изведал ли ты хоть раз такую нежность, наверное, нет, Красавчик, потому как ты жмуришь глаза, дрожишь, но наверняка не от боли, мои руки успокоят твои боли, я знаю чужую боль как свою собственную, ты весь в шрамах, на тебе полно следов боевых схваток и пожаров, следов поражения и позора, я читаю по твоим шрамам, как по наскальным письменам, ты, Красавчик, с историей, нехорошие люди заставили тебя терпеть столько боли, что ты впал в зависимость от боли; если у тебя ничего не болит, ты не чувствуешь, что живешь, ведь правда, мой Красавчик, ты боли не боишься, ты боишься ласк, боишься, потому что не знаешь их, приятное ослабляет чутье, усыпляет бдительность, кто-нибудь мог бы к тебе залезть, украсть тебя у тебя самого, это опасно, ты свой, свой парень, а то и мужчина, свой, а то, пожалуй, и мой, Красавчик, ты сейчас как собака из приюта, которая не знает, что человеческая рука может не только бить, но и гладить; загладил я тебя, Красавчик, догадываешься небось, что я давно уже понял, что с тобой, уже давно должен был отправить тебя на гипс, ты стал таким ласковым, что уже несколько минут даешь мне гладить себя, смотри, я и перчатки снял. Адам спохватился, что не заметил, когда у него сами собой снялись перчатки, ох, надо это немедленно прекратить, призвать к порядку врача, эй, врач, который раньше сидел в Адаме, куда ты подевался? Теперь надо поговорить по-врачебному, потому что Красавчик, того и гляди, подумает, что здесь происходит что-то неладное, не обычный осмотр. Надо аккуратненько остановиться, чтобы не разбудить в Красавчике злую собаку, вдруг сообразившую, что она подчинилась коварной нежной руке; Адам боится: перестанет гладить, и его укусят, в Красавчике дремлет страшная сила, Адам чувствует ее через кожу, он хотел бы познать эту силу, о Матерь Божья, хотел бы, но не сейчас, сейчас надо парня поскладывать, посклеивать, дать ранам затянуться.
— Ничего не поделаешь, руку — в гипс, грудную клетку — на перевязку, так что в ближайшее время не попрыгаешь.
Красавчик зол, но делает вид, что он еще злее; ведь и сам догадывался, насколько все серьезно, с ерундой не пошел бы к врачу. Красавчик зол, потому что этот докторишка, от которого пидором несет на километр, трогал его как-то так незаискивающе, так позитивно, что он мог бы еще посидеть на этой кушетке, теперь-то ему понятно, почему Дзяра любит ходить на массаж, а Красавчик думал, что Дзяра просто пыль в глаза пускает; вот только докторишка этот скорее прощупывал его, а не массировал, Красавчик позволил ему пощупать себя и к тому же почувствовал себя при этом хорошо, мужчина затрепыхался в парнишке, берегись, докторишка, Красавчик сейчас как разозлится да как рявкнет на тебя через мегафон парнишки мужской проблемой:
— Какой, на хрен, гипс? У меня на будущей неделе соревнования…
Да только, видно, не слишком грозно прозвучало, вдобавок докторишка может спросить, по какому виду спорта соревнования, а это хороший повод, чтобы начать долгий разговор, завязать знакомство, Красавчик сам себе не верит, что в присутствии докторишки он сделался таким паинькой, в сущности, сам ему подставился, лучше уж поскорее выйти отсюда с направлением и дверь на всякий случай закрыть поплотнее, да что там закрыть, просто хлопнуть дверью, так чтобы сидящие перед приемным покоем тетки направили на него осуждающие взгляды.
— Ну чё вылупилась, старая калоша?!
За дверью Адамова кабинета Красавчик снова стал самим собой, получилось стать собой.
Магнитофон надрывается, парни танцуют, а Красавчик стоит, как суслик в степи, и только может наблюдать со стороны, для него соревнования закончились, а если кто-нибудь скажет ему что-нибудь поперек, врежет гипсом и нос сломает. Красавчик выглядит недовольным, но на самом деле он еще недовольнее: ни на соревнования, ни на гоп-стоп, ни на что он теперь не годный, парни предпочитают не провоцировать его; самому ему радоваться тоже особо нечему, потому что не так болит у него сломанная рука да ушибленные ребра, травмы — обычное дело, Красавчика гложет что-то погорше, но парни не вникают, парни танцуют. Красавчик более чем зол, причем на себя, ребра у него болят при глубоких вздохах, как, например, сейчас, когда ему осталось только вздыхать: для него непереносимо смотреть на все эти акробатические трюки, парни едут на соревнования, они никогда еще не были в такой хорошей форме; Коля, как заплел дреды, вертится на голове, точно волчок; Красавчик оставляет свою компанию, выходит на улицу, смотрит на людей, осматривается по сторонам, ищет (кого ищешь, Красавчик, не стыдись, скажи); Красавчик начинает сам себя бояться, потому что его кожа затосковала (по ком она тоскует, не бойся, скажи), непреклонный Красавчик расходился, разволновался, разметался, мнет в кармане листочек с адресом и телефоном, который оставил ему на всякий случай (кто тебе оставил, Красавчик, достань, покажи нам, а мы прочтем) докторишка по имени Адам; Красавчик еще раз проверяет адрес.
Адам возвращается после дежурства, он не слишком наблюдателен, куда ни посмотрит, везде он видит постель, в ней, уставший, едва зароется, уже и за хлебом не идет, уже и о Красавчике нет сил думать, в том-то и был весь смысл: как бы так впрячься в работу, чтобы сил не оставалось думать о парне, которого он скорее укутал, чем перевязал, лично, от чистого сердца и любовно обвивая бинтом крепкий и одновременно нежный торс, и, несмотря на то что, прощаясь с парнем, он оставил парню (на всякий случай) свой адрес и телефон, он понимал, что, пока у Красавчика не срастется, у Адама не будет этого самого всякого случая встретиться с ним. Он мог бы еще рассчитывать на улыбку фортуны, именно для этого он снял квартиру в непрестижном районе, в этом не самом паршивом городе он нашел самый дерьмовый район, полный распоясавшихся парней и до беспамятства пьяных мужчин, не так уж и близко от больницы, но дешево и с большей, чем в любом другом месте, вероятностью наткнуться на парня, а то и на мужчину, которого, как мы теперь знаем, зовут Красавчик. А и наткнулся бы, фортуна сегодня ему улыбается, наткнулся бы, если бы заметил, что Красавчик с помятым листочком в кармане неумело прячется в подворотне соседнего дома, ну, может, и не прячется, а просто довольно ловко вписался в нишу, способность мимикрировать — один из самых полезных навыков его профессии, а Красавчик способный вор, но это в обычные дни, сегодня он робкий мальчик, а то и мужчина, который затаился для того, чтобы как бы ненароком столкнуться с доктором, возвращающимся с работы домой, разговориться, а потом уж и не знает, что дальше, он пока не придумал, тяжело ему думается, через этот корсетик из бинтов он не может глубже вздохнуть, а вот как раз об этом и спросит, можно ли его снять или хотя бы как-то ослабить, спросил бы, если бы его заметили. Адам проходит мимо и доходит до своего дома, даже нет сил поговорить с соседом, который улегся на подоконник и ждет доброго слова; сосед целые дни проводит на подоконнике, у безработных много времени, чтобы наблюдать за улицей, подкладывает подушку и смотрит, иногда его сменяет жена, в данный момент тоже безработная; бывает, и вместе в окне появляются, когда сын в школе и не надо его обслуживать, предпочитают из окна, чем по телевизору, потому что в телевизоре ничего интересного нет, одни сериалы, в которых ненастоящие полицейские преследуют ненастоящих воров, бандитов и убийц, а у них из окна, в прямом эфире и без абонентской платы, полиция самая что ни на есть настоящая, показывается здесь редко и неохотно, а уж бегущего полицейского в жизни никто не видел, бегущий полицейский — это в американском кино, в этом районе полицейские боятся выйти из машины, а патрулирование сводится к следующему: так петлять по улицам, чтобы не наткнуться на какое-нибудь правонарушение, а уж тем более, упаси боже, на преступление; в этом районе полицейские реагируют на вызовы неспешно и неохотно, едут неспешно и без мигалок и сирен в надежде, что авось все само собой утрясется, тот мужик не выбросит из окна ту тетку, крики ребенка за стеной утихнут, те, кто кого-то там били в сквере, наконец кончат бить и сами разойдутся, а тот, кого побили, сможет сам собраться и успеет вернуться домой, а если он потерял сознание, то это в первую очередь вопрос к скорой помощи, не станут же они допрашивать человека в бессознательном состоянии; если бы полицейские вовремя реагировали на каждый вызов в этом районе, у них резко упала бы статистика раскрываемости, реагировать быстро они тем более не собираются, кому надо за такие деньги жизнью рисковать. Сосед обращает внимание на нескольких временно трезвых и в здравом уме мужчин, затаскивающих крышку от канализационного люка на тележку и быстро убегающих со своей добычей:
— Теперь уж и средь бела дня крышки-решетки воруют, гады. Потом человек пойдет впотьмах и еще ноги переломает.
Когда жена соседа чем-нибудь занята внутри квартиры, сосед комментирует ей в режиме реального времени все, что происходит на улице. И отсутствие событий тоже.
— Слышь, молодой доктор уже пришел домой. Он мне даже нравится, представляешь, сам не курит, а сигареты носит, будто ждет, вдруг кто попросит его дать закурить. Сейчас никого, только собака эта носится, которая слепая на один глаз. Воняет у нас в подъезде, не иначе опять нассали сопляки. Майзелев сынок с мячиком идет, наверное к нам, к сыну. А нет, еще куда-то пошел.
Жена садится и помогает сыну делать задание по математике, ну ладно, ладно, пусть не помогает, а только наблюдает, как тот делает, потому что у самой никакого понятия, о чем там в тригонометрии, сынок-то уж на два класса грамотней, чем она, и очень хорошо; ходит он в школу, чтобы из нее выйти в люди, надо за ним следить, пока хорошо у него дело идет; жена соседа любит ходить на собрания, потому что, хоть все эти мамаши приходят прямо из торгового центра разряженные-напомаженные, все равно у ее сыночка оценки лучше, чем у ихних детей, он даже подтягивает слабых, как учительница велела, того гляди, сам скоро станет зарабатывать репетиторством больше, чем они получают пособие; сейчас вот только отвлекся, потому что Майзелев сынок прошел с мячиком.
— Мам, можно погулять?
— У тебя уроки, сделаешь — погуляешь.
— Мам, потом сделаю…
— Ты, чертов лоботряс, не понимаешь, что тебе говорят?! Сделаешь без разговору, не то получишь по первое число!
Сын начинает хлюпать носом и ныть, что он только что пришел со школы, что ему бы сейчас немного отдохнуть, что мать его не понимает, потому что сама не устает — сидит целый день и скучает; отец оказывается более понятливым:
— Оставь ты его в покое. Будешь на него орать, совсем соображать перестанет. Иди, сынок.
Парнишка тотчас же с грохотом отодвигает стул и подбегает к отцу, а тот, не покидая своего наблюдательного пункта, дает ему пару монет:
— Слетай мне за сигаретами, а на сдачу купи себе конфет.
Малышу не надо повторять дважды, он стрелой пролетает мимо матери, которая пытается схватить его, а потом верещит на мужа (ее мелодичное сопрано гибнет в этой дыре; вся улица в одно мгновение закрывает окна):
— Куда ты его в магазин посылаешь, если у него задание на завтра еще не сделано!!!
Довольно с нас одной этой фоновой сцены, остальное при монтаже состыкуется, добавим только, что ребенок по дороге в магазин налетает на сильно разозленного Красавчика (доктор разминулся с тобой, Красавчик, и даже головой не кивнул, не поприветствовал, ты расстроен, пытаешься понять, специально он это сделал или просто не заметил, и на всякий случай злишься). Красавчик демонстрирует железную хватку здоровой руки, поднимает пацана за шкирку и держит над землей, сучащего ногами, пытающегося освободиться.
— Отстань, я за сигаретами отцу!
(Эй, Красавчик, не сердись на малолеток, зря теряешь время, Адам только что пришел домой, может, еще не лег спать.)
— Плюнешь дальше, чем я, тогда отпущу.
Красавчик опускает парня на тротуар, втягивает носом, отхаркивает тяжелую флегму из самых глубоких пазух и наконец с силой выплевывает ее на другую сторону улицы, почти достав до противоположного тротуара; парнишка ловчее: никакие сопли не могут сравниться со старой жвачкой; у ребенка в карманах много всякой гадости, жвачка уже давно иссохлась в твердый шарик, ну и пожалуйста, сейчас выстрелила из его рта точно артиллерийский снаряд, противоположный тротуар взят, свобода завоевана, можно бежать в магазин за дешевыми сигаретами и новой жвачкой.
Красавчик выходит из укрытия, сосед занят «выстраиванием» жены, хоть он и закрыл окно, но все равно отчетливо слышны визг, поток брани, настойчивый, как джазовое соло бездарного саксофониста, который громкостью пытается восполнить отсутствие техники; крик пролезает через дрожащие стекла, сосед огрызается и т. д., во всяком случае, Красавчик может какое-то время незаметно стоять под домом Адама и смотреть в сторону окон на его этаже, в которых ничего не видать; он мог бы свистнуть, но не хочет обращать на себя внимание, лучше сразу войти внутрь.
Адам уже спал бы, если бы не телефонный звонок Матери; Мать расспрашивает, беспокоится, говорит, что скучает. Адам дремлет с трубкой у уха, уже без ботинок, без носков, брюки тоже практически снял; ладно, пусть мамаша выговорится до конца и даст ему наконец поспать после дежурства, но она еще только это и еще вот это, совсем забыла, ну и конечно, должна ему сказать, что уже все растолковала Отцу, уже его уговорила и что он уже совсем не сердится, понимает, что стремления сына надо уважать, а с домиком ничего не станет, может подождать, так что ты, Адась, скажи нам, когда лучше всего к тебе приехать, мы бы тебе чего-нибудь привезли, а я бы поубирала у тебя, погладила бы, у тебя-то небось совсем нету времени такими делами заниматься, ну, так когда можно тебя навестить в этом городе… Адам говорит, что ему все равно когда, лучше с утра или в обед, а может, в воскресенье. Адаму действительно все равно, он даже не понимает, на самом ли деле он слышит стук в дверь, или это ему только снится, нет больше сил говорить (стук повторяется, он явственнее, чем полудрема). Адам встает, как лунатик подходит к двери, открывает и оказывается лицом к лицу с Красавчиком.
Сон как рукой сняло.
5
Пока Жене не захочется покинуть постель, постучаться в дверь и вызвать Роберта на разговор, ванная — одно из немногих мест ненарушаемого уединения на территории дома. Душ слышен через дверь; Роберт уже давно вымылся, а сейчас просто сидит, собирает мысли последних нескольких часов, упорядочивает их, тревожно замечая, что все они концентрируются вокруг состояния его здоровья и все тяжелы, потому что обросли недобрыми предчувствиями. Душ изливает воду, а душа изливает печаль каждый раз, когда Роберт пытается думать о протекшей, как вода сквозь пальцы, жизни; самое время вспомнить, что ты смертен; смерть тоже думает о нем. Роберт не боится смерти, он боится болезни, больницы, вони дезинфекционных средств в процедурном кабинете, в операционной, он боится сине-белого жесткого больничного пододеяльника, баночки с компотом, который он будет не в состоянии выпить, но больше всего он боится боли. Боль уже давала знать о себе, посылала сигналы, предупреждала, отправляла телеграммы, проверяла его стойкость, каждый раз позволяя себе все больше, даже вот только что, под душем, она провела испытательный взрыв где-то в позвоночнике, ну да ладно, небось у каждого иногда постреливает в пояснице. Роберт уже понюхал первые цветочки боли, он боится, что, не ровен час, все в нем болезненно расцветет. Он пытается представить, как будет выглядеть во власти страдания, свою борьбу за право на безболезненность. Можно ли привыкнуть к боли? Какой она будет? Неотступной, непереносимой, диктаторской, не терпящей возражений, или она сомнет его до основания в несколько мгновений на одре болезни? Роберт боится кнопок над кроватью, которыми пользуется пациент, чтобы вызвать медсестру; вызовет и молится, чтобы пришла поскорее и сразу с нужным уколом, а не так, чтобы дежурила одна из тех молодых, которые приходят и спрашивают: «Что с вами? Ах, болит? Ну хорошо, сейчас я сделаю вам укол», а потом снова уйдет к себе в дежурку найти лекарство, приготовить инъекцию и вернуться, а на все это уходит время, минуты судорожного теребления пододеяльника и сминания простыни; Роберт боится минут, во время которых он весь будет отдан такой боли, что даже не застонет, потому что испугается, что боли могут не понравиться его стоны, что в наказание она может усилиться; стонать можно только тогда, когда укол начинает действовать и ты чувствуешь, что боль говорит «пока» (и это хуже всего, смертельно больные стонут не от боли, а от скорби, что боль никогда не говорит «прощай», а всегда «пока», «бывай»; «бывай» — самая изощренная из формул прощания, потому что боль знает: смертельно больные уже не существуют, а только бывают; здоровые живут постоянно, больные — только в минуты просветления, их жизнь дала трещину, время просветлений — время собирания все более мелких осколков и попытки их склеить; смертельно больные здоровы только в осколках, во фрагментах, уже не получится, чтобы все фрагменты были одновременно готовы к жизни, но случаются минуты, в которые большинство из них мобилизуется, — и тогда больные чувствуют что-то вроде облегчения). Роберт ищет выход из камеры дурных предчувствий, — в конце концов, приговор еще не вынесен, во всяком случае не оглашен, последняя встреча со специалистом должна произойти через несколько десятков часов, и в течение этого времени, как бы нездорово, болезненно и даже смертельно слабо он себя ни чувствовал, он будет все еще по эту сторону — в мире здоровых; пока он не знает ничего наверняка, пока последний из полученных анализов не будет детально изучен и добавлен в качестве доказательства против него, он все еще по эту сторону жизни. Даже если он неизлечимо болен, Жена ждет его в постели, и, быть может, именно сейчас подворачивается уникальный случай стать счастливым отцом, а вернее, тот самый случай, чтобы существо, которому он даст жизнь, получило бы гарантию счастливого детства. С тех пор как он покинул сущий ад родительского (но о них тсс!) дома, Роберт не разговаривал со своим отцом до самой его смерти; мертвый отец не перебивает, не встревает в разговор с целью унизить, мертвый отец слушает и молчит, как могила, в которую его опустили; с тех пор как он покинул тот адский дом (тсс!), Роберт уверен, что лучше всех со своими отцами находят общий язык дети, родившиеся после смерти отца.
Жена лежит в постели и непохоже, что она ждет не дождется мужа, читает модный женский журнал — на самом деле читает, а не просто листает, и хуже всего то, что она вчитывается в ряды букв, прикидывающихся словами, в колонки слов, прикидывающихся предложениями, и в предложения, прикидывающиеся текстом, и делает она это в уверенности, что таким образом получает дневную порцию чтения, необходимого для правильного духовного развития и поддержания умственной активности. К книгам Жена обращается редко, а когда читает их, практически тут же засыпает, лежа, сидя, вечером, средь бела дня — все равно: литература ее усыпляет, а модные журналы — нет; Роберт недоумевает, не пропитаны ли их страницы каким-нибудь возбуждающим средством. Жена говорит, что не читает книги с тех пор, как Роберт перестал писать; таким хитрым способом она придает своей умственной лени измерение демонстративного поста, голодовки протеста; это его, Роберта, вина: он был ее любимым писателем, над его книгами она никогда бы не заснула, другие книги навевают на нее скуку, так что он может больше ей не предлагать книги других писателей. Жена лежит и читает, одеяло сползло у нее с ноги, слишком откровенно обнажив все самое сокровенное, лоно безгрешно раскрылось и дремлет или, скорее, симулирует дремоту, игриво нацелившись на Роберта, его взглядом вдохновляемое, потому что совсем не кажется напряженным, призывно влажнеет, так что не подлежит сомнению, что Жена все-таки намеренно принимает такую позу, а случайное сползание одеяла и сгибание ноги не такие уж и случайные: Жена искусно выбрала эту позу и придала ей вид случайности; Жена — мастер создавать иллюзию случайности, ее маленькая грудь не выносит бюстгальтера, зато она прекрасно годится для якобы случайных выглядываний между бортами не застегнутой доверху блузки, в декольте во время неловко ловкого наклона, в, казалось бы, плохо подобранном, слишком просвечивающем платье; Жена любит играть на чувствах мужчин, потому что всегда выигрывает. Роберт начинает церемониал прохождения языка по ноге с самого низа до самого верха. Жена пока еще не протестует, она любит эту неспешность, распаленная пипочка ждет своей очереди, теоретически она горит от нетерпения, но это как раз и есть самое приятное; если бы Роберт слишком быстро добрался до пункта назначения, он испортил бы всю игру, он должен кружить, нежно вылизывая промежность, приближаясь по депилированным окрестностям, пока Жена не почувствует, что готова воспарить; только тогда ему можно тихонечко постучать в дверь, а принц-язык может приступить к методичному открыванию замка, в котором сокрыта принцесса-горошина, а потом уже сильнее, энергичнее, быстрее, с обеих сторон, вдоль и поперек губами в губы, тем не менее не отрываясь от главного объекта — принцессы-горошины, он не может потерять ее с языка, да и незачем терять, врата замка все равно останутся закрытыми, особенно если их пытаться пробить тараном. Как только Роберт прекращает поцелуи и пытается поместить отвыкший от работы член в тепленькое местечко, Жена хватает его за волосы и призывает к порядку или просто отпихивает, объясняя, как всегда:
— Ты ведь знаешь, что нам нельзя это делать.
— Опять какие-то фантазии.
— Нельзя: беременность убьет меня, я больна.
— Ничем ты не больна, а кроме того, человечество придумало пару верных способов предохранения.
— Но ни один из них не дает гарантии на сто процентов!
И так кончается очередная попытка зачать ребенка, который мог бы родиться уже после его смерти. Роберт пытается еще раз, но не может подлезть со своими нежностями и поцелуями, Жена обижена, холодна, закрыта. Роберт тем не менее пытается силой (уже много месяцев Жена называет сексом примитивное разрубание узла его страстей: она берет в свои руки штурвал семейной лодки, а через несколько минут идет в ванную вымыть руки, тогда как Роберт, почувствовав облегчение, засыпает), сегодня он твердо намерен любиться с ней во что бы то ни стало, потому что потом, когда боль в нем основательно поселится, такого случая уже может и не представиться.
— Перестань клевать меня своим… Я же тебе ясно сказала: нет! — Жена встает, поправляет пеньюар, не оставляя ему шансов. — Или ты успокоишься, или я иду спать к родителям.
— Боже, я с тобой больше не выдержу.
— Ты умеешь только брюзжать и стращать, уж больно ты на язык ловок.
Роберт раскрывает книгу, Жена возвращается в постель, берет журнал, но только на минуту, она взвинчена, буквы перестали прикидываться словами, она не может читать, хочет погасить свет и уснуть, а этот опять при свете с головой уйдет в чтение, надо что-то сделать, чтобы его выключить.
— Написал сегодня хоть что-нибудь?
Роберт не отвечает, уперся и, видать, на самом деле собирается читать, несмотря на упреки, что не пишет; ничего ведь так и не написал, и Жена об этом прекрасно знает, иначе не стала бы спрашивать. Она находит под одеялом его член, еще горячий, но отвергнутый, обиженный. Жена снисходит к нему, берет его в рот и не собирается выпускать до тех пор, пока не получит репарации; обычно это длится недолго, впрочем, процесс можно и ускорить, поскрести коготочками; так даже удобнее, не надо идти в ванную, достаточно проглотить, потом повернуться спиной и спать. Свет он погасит сам.
— Сколько я с тобою сплю, никогда мне ничего не снится, слышишь?
Роберт не лжет, ему никогда ничего не снилось, он пытался уговорить себя, что сны ему снятся, только он не может вспомнить их, во всяком случае, он всегда был как бы отрезан от снов и всегда переживал это как свою неполноценность, но, когда его спрашивали, хорошо ли он спал, ему не на что было пожаловаться, и действительно: кошмары его не беспокоили, спал он в полной отключке, ровно, слепо. «Даже зверям снятся сны, — думал он. — Я несчастен. Жизнь без снов — это жизнь без смысла, — думал он. — А ведь есть люди, которые и разговаривают во сне, более того, разговаривают на неизвестных им языках», — жаловался он мысленно. Из того, что ему не снились сны, он делал метафизические выводы: ему казалось, что отсутствие снов — это признак отсутствия души, и боялся, что жизнь после смерти — этот бесконечный сон бессмертной души — обойдет его стороной; молитвы о даровании сновидений также не давали результата. «Бог не слышит меня, потому что я молюсь только умом, а не душой. Потому что я человек бездушный» — вот какие мысли терзали его.
— Слышишь?
Жена не слышит его, что-то бормочет и вертится во сне, Роберт решил потревожить ее, потому что догадывается, что у Жены эротический сон, он ревниво смотрит на нее, ему кажется, что Жена изменяет ему с ним же самим (ему в голову не приходит, что Жене может сниться кто-то другой). Из-за стены доносится передаваемая в это время по радио молитва, минуту спустя молитва приближается со стороны двери в портативном радиоприемнике, поднесенном к уху Тещи, которая каждый день на заре приходит проверить, чтобы зять не проспал. Превыше всего Теща ценит семейную гармонию и порядок, она верит, что порядочный человек — это такой человек, который подчиняется определенному порядку, принципам гармонической жизни; Теща борется за порядок в доме, заботится о завтраке для мужчин. Она разделяет традиционные ценности, в числе которых борьба за семейную гармонию, а потому она крутится по кухне в халате, заваривает чай, ставит тарелку с бутербродами на стол; мужчины садятся за стол в выходных костюмах. Тесть открывает ноутбук и читает под кофе последний выпуск интернет-газеты, потом вбивает свою фамилию в поисковик и проверяет, где что сказано о нем нового за последние двадцать четыре часа, не важно — плохого или хорошего, потому что хуже всего будет, если в какой-то из дней ничего нового не появится, Тесть не хотел бы дожить до такого дня, когда не найдет о себе никакой свежей информации; Тесть боится не столько смерти, сколько несуществования. Он боится, что мог бы скатиться в несущественность, панически трепещет от одной только мысли, что настанет такой день, когда его поступки, речи, все, что он сделает, станет несущественным и в СМИ не будет никакого упоминания; несущественность — это несуществование. Тесть еще в детстве заболел мыслью иметь улицу своего имени, с той поры он всегда расспрашивал о тех, в честь кого названа та или иная улица; где бы он ни появился, везде он читал таблички с фамилиями тех, в честь кого названа улица, и проверял, чем тот прославился; детство Тестя выпало на то время, когда улицы называли в честь так называемых деятелей; когда нельзя было найти никаких сведений о том, в честь кого названа улица в маленьком городке, старшие говорили: «Наверное, это был какой-то деятель», так что Тесть решил, что будет деятелем, что бы это слово ни значило. Со временем он понял, что деятель — это такой человек, деяния которого существенны, заметны, фиксируются и остаются в памяти, чаще всего именно потому, что он — представитель властей, а значит, его деятельность влияет на ход всех важных дел и, как знать, может, и истории. Тесть пребывает у кормила власти так давно, что, видимо, не выжил бы, если бы его лишили власти. Он тогда мог бы действовать, сколько душе угодно, но никто не обратил бы на это никакого внимания. Тесть со страхом ждет того дня, когда не найдет о себе ничего нового в прессе. Есть еще одна немаловажная привилегия, от которой отвыкнуть в городе с низкой пропускной способностью дорожной сети невозможно: Тестю, как высокопоставленному деятелю с депутатским иммунитетом, положена мигалка, благодаря которой вечно забитые улицы для него не являются проблемой: когда он едет со спецсигналом в правительственном лимузине, машины сами расступаются, словно Красное море перед Моисеем, нет такой пробки, которую мигалка не смогла бы выбить; Тестю пока еще не случалось стоять в пробках, он не знает, как это иногда бывает приятно, Роберт не разговаривал с ним об этом.
— Опять меня цитируют.
Сегодня Тесть очень доволен, вчера он был в хорошей форме: мало того что он довольно удачно выступал в сейме (большинство депутатов из его фракции испытывают трудности с формулированием мысли, так что прибегают к его врожденному ораторскому таланту, Тесть — записной оратор, голос своей партии, хорошо смотрится в СМИ, его невозможно вывести из равновесия), так он еще добавил в кулуарах, там всегда говорят то, о чем не принято говорить с трибун, но журналисты рассчитывают как раз на эти его неофициальные высказывания, цитируют его как «депутата, который просил не называть его имени», но и так всем известно, о ком речь, Тесть в качестве депутата, просившего не называть его имени, — любимец СМИ, он получил предложение от нескольких солидных издательств опубликовать свои высказывания в книге под названием «Депутат, который просил не называть его имени», но Тесть пока что не соглашается, он пока подождет, он не хочет вступать в конкуренцию с зятем; в конце концов, кто писатель — он или Роберт? Тем временем Тесть читает вслух свое исключительно остроумное интервью, а Теща, которая уже соблюла утреннюю гармонию, подала завтрак и поправила мужу галстук, начинает сердиться:
— Почему опять неофициально, почему без упоминания фамилии? Это говорит об отсутствии личной смелости. Это свидетельствует о том, что совесть нечиста. Это худший вид трусости и конформизма. Его преподобие всегда говорит прямо и без обиняков, он не боится, что кому-то это может не понравиться. Достаточно только начать служить Истине, и человек сразу перестает бояться; может быть, тебе как-нибудь попробовать?
Тесть и эту чепуху, прямо из радио перенятую, пропустил бы мимо ушей и не стал бы комментировать, но за столом сидит Роберт, как раз доедает завтрак и прислушивается, а в присутствии Роберта Тесть обязан остаться хозяином положения, а потому отвечает:
— Моя дорогая, дипломатия требует до определенного времени сообщать некоторые сведения анонимно. Здесь преследуется одно: чтобы само общество первым под ними подписалось.
И прежде чем Теща успеет еще что-нибудь выдать, Тесть меняет тему; он вежливо, но решительно (как он сам говорит, он никогда ничего не достиг бы в жизни и особенно в политике, если бы не вежливая решительность) спрашивает Роберта:
— Ну и как там писательство?
— Да никак. Нет вдохновения.
— Вдохновение? Оно нужно поэтам. А вот если у тебя не хватает идей, я мог бы посодействовать…
— Я не говорю, что у меня нет идей. Просто я не могу писать.
— Что это значит? Что это за цацканье какое-то, нянченье с собой? У тебя есть талант, вот и возьми себя в руки, садись и пиши…
— К сожалению, никак. Не могу. У меня слова устали.
Роберт откашливается, не кончает завтрака, допивает кофе, благодарит, встает из-за стола и направляется к выходу. Тесть в бешенстве, ему претит такая невразумительная позиция, активный политик не может понять художника в состоянии релакса, активный деятель раздражен бездеятельностью творца, потому что творец обязан творить. У Тестя есть еще надежда, что это просто такое кокетство и что на самом деле Роберт потихоньку крапает себе какой-нибудь эпохальный роман, но прячет до поры до времени, предпочитает хранить его в тайне; так, наверняка именно так дело и обстоит, недаром же дочь уверяла его, что Роберт гений и вскоре получит Нобелевскую премию, ну а премия — ясное дело — сделает Тестя еще более уважаемым в глазах окружения; воспитать под собственной крышей нобелевского лауреата — это вам не шутки, здесь надо терпеливо ждать, присматривать, создать тепличные условия, для того он и устраивал Роберта на тепленькое и непыльное местечко, чтобы у того было в день несколько часов полного спокойствия; гении трудны в общении, они чудаковаты и капризны, Роберт наверняка что-нибудь да пишет, только не хочет сглазить; но довольно спекуляций на эту тему, надо будет все проверить, еще раз послать к нему девушку на разведку, и пусть она только попробует вернуться с пустыми руками — враз ее уволит.
Роберт беспомощен, он сидит в подвале, смотрит в монитор компьютера и не хочет приступать к писанию, потому что единственное, что приходит ему в голову, так это роман о писателе, который не может написать роман; писать о невозможности писать — это чаще всего последний гвоздь в гроб писателя, который не может писать. Роберт не хочет быть писателем в состоянии кризиса, он вообще не хочет быть писателем, он хочет, чтобы писалось само собой, как это было у него когда-то, незаметно, без усилий; как только он замечает, что написал несколько фраз романа, герой которого писатель в кризисе, он немедленно уничтожает весь текст (всегда с помощью backspace и никогда с помощью delete, Роберт подсознательно идет за стрелкой влево, предчувствуя, что это правильное направление; лишь бы только Тесть об этом не узнал).
Роберт смотрит через подвальное окно, открывающее вид на ноги, и вспоминает, что когда-то сказал ему старый мастер, когда еще пути-дороги Роберта никто не отслеживал с семейной наблюдательной вышки, когда он не обязан был спрашивать разрешения на изменение маршрута, когда еще он захаживал к людям, с которыми мог поговорить, а не просто потрепаться; Роберт истосковался по разговору, изо дня в день он слышит вокруг себя только треп. К сожалению, в подвале судебного архива не с кем поговорить, зато есть на что посмотреть, если выпадет теплый денек, такой как сегодня. Роберт вспоминает слова старого мастера, которые он услышал в ответе на вопрос, что надо делать, чтобы само писалось. «Genius loci[4], молодой человек, тебе нужен genius loci, художник должен найти свое место, такое, в котором он заключит мир с духами, в котором он будет без слов понимать дух стола, дух стула, дух чашки с утренним кофе: ты, молодой человек, должен избегать бездушных мест. Из того, что ты мне рассказал, следует, что живешь ты в бездушном месте; и, как бы ты там ни напрягал все свои чувства, тебе будет казаться, что кто-то туго стянул твою голову тюрбаном, душащим всякую мысль, все твои мысли покажутся тебе мелкими, ни одна из них не будет достойна увековечения. Ты должен избегать таких мест, такие места враждебны интеллекту; даже если тебе удастся выкрасть незаписанные истории у других мест, когда ты их принесешь с собой в место бездушное, из них немедленно выветрится genius loci и они станут никакими, лишенными ценности, ты будешь пытаться строить из них свое повествование, но ощутишь лишь немощь. Тебе, молодой человек, следовало бы переселиться; есть ведь такие места, в которых духи постоянно пируют, куда они любят ходить в гости, и, когда ты садишься творить, они тут как тут и перекрикиваются, стараясь опередить друг друга своими подсказками, каждый из них первым хочет нашептать тебе прямо в душу свою историю. Это места, в которых когда-то жил творческий интеллект; даже если творцы давно их покинули, а то и вовсе умерли, их творческий интеллект пропитал каждый квадратный метр этих мест, которые только и ждут нового постояльца, чтобы вдохнуть в него творческие импульсы. Так что, молодой человек, бросай-ка ты это свое бездушное место, поищи для себя место, где обитает genius loci, осмотрись повнимательнее, найди свой угол и приспособь к нему вид из окна, это очень важно, у каждого должен быть ежедневный контакт с природой, пусть даже только через окно. У каждого за окном должно расти хоть одно деревце, хоть часть дерева, хоть пара веток, чтобы видеть, как другой живой организм реагирует на ветер и слякоть, у каждого перед взором должно быть свое дерево, круглосуточно доступное на экране окна, постоянно меняющееся, подвижное на ветру, в гаме птичьего щебета, цветущее или роняющее листья, спокойно принимающее любое время года, долгожитель. Люди должны учиться у деревьев, они не должны соглашаться на квартиры, из окон которых не видно ни одного дерева, и уж ни в коем случае нельзя соглашаться на квартиры, из окон которых видны другие окна, окна в окна в колодцах старых домов, окна на обшарпанные и вонючие, всегда затененные дворы старых домов, такие окна тоже всегда бездушные глазницы бездушных квартир, в таких дворах люди как раз чаще всего выбрасываются из окон, в таких дворах люди, замыслившие самоубийство, усилием воли обрывают балконы и падают вместе с ними вниз, на чахлые газончики, обосранные соседскими таксами. Из своих окон люди должны видеть кусок неба и кусок дерева; я говорю вовсе не об окнах с видом на море, ни о террасах у подножия гор, я говорю о праве каждого человека на ничем не загораживаемый вид на краски неба, облаков, листьев и коры; человек, который добровольно отказывается от такого пейзажа, — человек бездушный; человек, которого вопреки его воли лишили такого пейзажа, которого приговорили к отсутствию пейзажей, — самоубийца; человек духовный, который мучится в бездушном месте, лишенный возможности повседневного контакта с природой хотя бы через окно, такой человек, даже если он пока не наложил на себя руки, все равно самоубийца, он не живет, он всего лишь оттягивает самоубийство, в его голове нет больше мыслей, кроме как о самоубийстве, он погибший человек». Тогда Роберт еще не работал в подвале и не успел расспросить старого мастера, что он думает о виде из окна на человеческие ноги, не успел с ним поговорить о том, чему могут научить ноги; потому что вскоре мастер выбросился из окна своей квартиры в старом доме, его тело упало на всегда темный и студеный, как колодец, двор, на который он смотрел в последние годы жизни.
И вдруг обнаженные ноги, знакомые, показываются за окном, а над ними прелестная шпионка в коротенькой юбчонке, что выдает себя за Практикантку, приседает и очаровательно делает ладошкой козырек над глазами, вглядываясь в окно его подвала. Роберт обескуражен, никогда до сих пор он не сталкивался с таким нарушением порядка, это меняет суть вещей, целое мировоззрение рухнуло, потому что мир подглядывает теперь за Робертом глазами красотки-Практикантки, Роберт не знает, как себя держать, куда спрятаться так, чтобы его не обнаружили; но обнаженные ноги исчезают, а это может означать, что сейчас они направляются к его подвалу и у него появится возможность поговорить или хотя бы обратиться к девушке, которая, если способна говорить, наверняка умеет так же прелестно слушать. Роберт устраивается за столом, принимая рабочую позу, выжидает, ага, уже слышно, подходит, ноги ее понесли, каблуки своим стуком предвещают ее скорое появление. Вот и она, стучится, входит, улыбается заискивающе и очаровательно, так что Роберт впервые в жизни замечает, что у него на руках волосы: они встали дыбом, он опускает рукава.
— Вы что, снова заблудились?
— Нет… Я… только хотела сказать, что знакома с вашими книгами… Читаю…
Вот те раз — Тесть, должно быть, решительно и на грани приличия потребовал немедленного прогресса в следствии, коль скоро Практикантка пошла ва-банк, неуклюже попытавшись выдать себя за Почитательницу Таланта; Роберту так бы хотелось верить в то, что эта девушка засыпает с его книгами под подушкой, что он решается развеять миф сразу:
— Что вы говорите? А какую конкретно вы читали?
Практикантка заливается румянцем (нет, видимо, нужды говорить, что выходит это у нее очаровательно), выпячивает грудь, хлопает ресницами (на экзамене это всегда помогало), голос переводит в более высокий регистр, она беззащитна, как эмбрион, в такие минуты Тесть должен чувствовать непреодолимую потребность защитить ее эфирное существо и усадить к себе на колени.
— В смысле… Э-э-э… Чита-а-аю, но не лично…
— В смысле?!
— Просто… просто я читаю о вас… Много писали в газетах. А здесь-то что вы делаете? Целыми днями в этом подвале? Вы, наверное, пишите что-то?
Очень, ну очень не хочется Практикантке, чтобы ее уволили из секретариата Тестя, она не вдается в детали, ей неохота вдаваться в дискуссию с этим трупно-бледным, нездорово выглядящим типом, она никогда не была сильна в дискуссии, молчала, хлопала ресницами, этого хватало, и так все всегда искали понимания именно в ее глазах, а этот нелюбопытный, кажется, смотрит на нее свысока; расслабься, парень, нечего на меня так смотреть. Практикантка начинает крутиться по комнате, все разглядывать, высматривать подробности; когда она подходит к окну, к излюбленному наблюдательному пункту Роберта, как бы пытаясь вжиться в мировоззрение любимого писателя, то окончательно проваливает порученную ей миссию.
— Он, по крайней, мере заплатил тебе за это?
— Что? Кто? О чем вы?
— Не прикидывайся. Не тебя первую он посылает сюда.
Он предлагает ей стул — присаживайтесь, Роберт не позволит ей уйти ни с чем; она так прелестна, в другое время и в другом месте это на самом деле было бы большим плюсом.
— Самое главное — выбрать правильную исходную точку зрения. Так ведь? Что видно?
Практикантку вовсе не радует, что этот немодный, припорошенный нафталином тип собственноручно сажает ее на стул; когда Тесть сажает ее себе на колени ну и все такое прочее, это хотя бы записано в налоги, это выгодно, в депутатском бюро Практикантка впервые в жизни зарабатывает выше средней по стране, так что старый сатир может иногда ее посадить себе на колени и все такое прочее, тем более что человек он влиятельный, хорошо одет и от него хорошо пахнет, не какой-нибудь там свинопас с соломой в сапогах — настоящий депутат; а тут что? Не пойми что из себя представляет, и никакой он не писатель, а туда же — лапы распускает, да еще будет сажать ее, как ребенка, на стул, да еще на женщин снизу велит ей смотреть, ну вот еще одна прошла; глаза Роберта сразу ей показались какими-то неприятными с первого взгляда, какие-то такие бестолковые, такие… от правильной линии куда-то в сторону глядящие, да все и так ясно, смотрит он этими своими извращенными глазами на женщин, и никакой он не писатель, а самый настоящий извращенец, псих, обмылок, трухач; чего ему надо от нее, зачем велит смотреть?
— А что там может быть видно? Там только чьи-то ноги, и все.
— И все? А вы видели, кто сейчас прошел?
— Откуда я могу знать кто?
— Девушка идет на пересдачу. На ней была темно-синяя школьная юбочка. Она идет уже третий раз, большинство ее подруг сдали, сегодня она впервые идет одна. Ступает основательно, чуть по-мужски, громко выстукивая каблуками по тротуару. После проваленного экзамена у нее была неуверенная походка, может, даже что-то выпила с горя… Ну а этот, кто он?
Идут ноги в костюмных брюках и черных мокасинах, Практикантка подходит, задирает голову, виден еще несессер в руке; теперь уже ничего не видно, ноги прошли.
— Какой-то тип идет… на работу?
— Для работы слишком медленно. Шесть секунд. Это темп безработных и студентов.
— Но у него была в руках папка, и одет он в строгий костюм.
— Согласен. Он лишь недавно потерял работу. Когда он работал, то ходил вдвое быстрее. Мокасины у него блестели, как лаковые туфли, теперь потускнели, чистит их небрежно, могу поспорить, что сегодня он не брился.
Роберт прав, большинство ног в городе он узнаёт безошибочно; за стенами подвала, на поверхности, с тех пор как он стал вырабатывать свой особый взгляд на мир, с тех пор как научился смотреть людям прямо в ноги, он всегда ходит с опущенной головой; он читает по ногам все тайны; большинство людей ежедневно делают хорошую мину при плохой игре, но перед Робертом они безоружны, потому что если и умеют надевать маски, то только на лица, а ноги остаются незамаскированными, и если бы еще они умели ходить аккуратно, незаметно, но слишком мало кто обладает такой способностью; со времен детских уроков катехизиса люди полагают, что если кто к ним и присматривается, то только сверху, с высоты птичьего полета, например ангелочки, преобразившиеся в аистов, Господь Бог — в чей-то бинокль из чьего-то окна (после Он выдаст высшее решение, ибо самые важные решения всегда поступают сверху), ноги же не важны, они вне поля зрения, ведь земля не венецианское зеркало, перспектива нижней перспективы ничтожна, и ею можно пренебречь.
— Достаточно наблюдать и делать выводы. Все имеет свое значение — состояние обуви, частота смены брюк, количество и размер петель на колготках.
В течение какого-то времени Роберт пытался делать заметки на каталожных карточках, и оказалось, что из этого хаоса проклевывается повторяемость человеческих судеб; чтобы облегчить фиксацию и не проглядеть в нужное время ни одной пары ног, он заменил буквы на цифры, слова — на символы, фразы — на графики. Он думал, что должен по горячему следу насобирать как можно больше информации, а потом в свободное время он все расшифрует, перепишет набело, но тут пришла весна и в воздухе запорхали стаи пипок (началось все с того, что как-то раз, собираясь на концерт, одна эстрадная звезда забыла надеть трусики, чем и запустила моду), Роберт впал в зависимость от своего привилегированного положения в подземелье; пока он прислушивался к людям и даже подслушивал их, ему было легко переложить это на язык литературы: до него доходили слухи о том о сем, а он их записывал; как только он стал подглядывать, слухи перестали занимать его; Роберт стал скопофилом — вместо того чтобы писать, он рисовал в тетради вагины; а ценность премудрых значков, символов, графиков оказалась ничуть не выше ценности нарисованных им пипок. Тетрадь в прекрасном кожаном переплете, которую он получил в подарок еще в те времена, когда писал, под блеск фотовспышек, от одной из влиятельных поклонниц, когда еще писал и не успел пропитаться отвращением к салонам, когда ему еще льстило восхищение экзальтированных кокоток (отвращение к салонам со временем пришло к нему главным образом из-за хищнической активности так называемых салонных львов, перед которыми он был безоружен; эти салонные завсегдатаи при его появлении напрягали разом мозги и бицепсы, многозначительно шепча: «Как вы считаете, не принижен ли в наше время греческий идеал калос кагатос?»[5], он ретировался, его вогнутость пыталась избежать их выпуклостей и попадала тогда к салонным завсегдатайкам, задорным кокоткам, которые, окинув его испытующим взглядом, непременно заявляли: «Я вас представляла совершенно иначе, а вы, оказывается, такой молодой», когда же он покорно пожимал плечами, не находя слов, чтобы извиниться за это расхождение реальности с фантазиями, подходил другой завсегдатай, уводил его в сторону и, пытаясь склонить к салонной беседе как бы по-дружески врученным бокалом паршивого мерло, говорил: «Не слушайте вы их, это пустейшие люди», а когда уже Роберт с надеждой изображал с ним союзника по изгнанию, тот рубил с плеча: «Литература кончилась на Достоевском, как считаете?»; когда же ему удавалось вырваться и из-под этого гнета, оказывалось, что его хочет умыкнуть к своей группке одна львица, которую его неопытность явно возбуждала. «Не пейте вы эту гадость, — говорила она и тянула Роберта за руку. — Я похищаю вас» — и начинала представлять его своей компании, состоящей из завсегдатаев другого салона, в который те потихоньку как раз и собрались уходить; удовлетворив свою потребность представить новичка, а вернее, растерявшегося в этой обстановке писателя, львица оставляла его на растерзание новых собеседников, но сразу после первых «Ах, это вы», «Как же приятно познакомиться с вами», «Поздравляю с новой книгой, хотя, признаюсь, еще не читал» они уходили в себя, пыжились, тужились, хорохорились и хохотали, просто-таки ухохатывались, нюхая друг у друга шеи, аккуратно и так по-салонному потчуя друг друга анекдотами и сплетнями, и уже Роберта не было среди них, быть не могло, он отступал, уходил, закрывал двери и посреди холодных улиц, обдувавших его шею, застегивал плащ, поднимал воротник и делал первые шаги к свободе); но те времена давным-давно прошли, тетрадь, заполненная вагинальными исчислениями, представляла собой убедительное доказательство неверия в писаное слово, свидетельство его безмерного безверия; Роберт может избавиться от нее, но веры от этого не прибавится, впрочем, тетрадь и так вернется к нему, скорее всего еще сегодня.
— Пожалуйста, отнеси это моему тестю, скажи ему, что это мой роман.
Практикантка осторожно гладит обложку тетради, обложка — деталь понятная и необычайно существенная, Практикантка не берет в руки книгу, если ее обложка неряшливая и непривлекательная, солидный переплет и суперобложка — непременное требование, книга должна выглядеть прилично, не всегда же ее дочитывают до конца, собственно говоря, чаще всего ее недочитывают даже до конца первой страницы, а случается и так, что чтение книги завершается на обложке и титульных листах, поэтому Практикантка, ласково поглаживая стильную кожаную обложку тетради, чувствует, что получила в руки серьезную литературу, она не ожидала такого успеха, она, конечно, надеялась, что ей удастся вытянуть из этого чудака хоть что-нибудь, что смогло бы удовлетворить Тестя, но никак не думала, что получит весь роман, да еще в такой шикарной обложке; Практикантка водит пальцами по тиснениям на кожаном переплете и делает это с таким инстинктивным шармом, что Роберта начинает перекручивать оттого, что не его кожу она гладит, и от этого кручения у него появляется боль в позвоночнике, сильнее, чем когда бы то ни было раньше, он не знает, какую позу принятие чтобы было не так больно, наверняка защемление нерва, сейчас пройдет, объясняет он себе очередные прострелы; Практикантка ничего не замечает, хмурит очаровательный лобик над открытой тетрадью, густо заполненной пачкотней, — да это просто извращенец какой-то, чтобы такую роскошную тетрадь так изуродовать, что это за человек, и еще гонит ее, такой нелюбезный, по всему видать, что не научился вежливой решительности от своего Тестя; Роберт просит Практикантку выйти, он дольше не может сдерживать боль в укрытии, начинает стонать так, как будто сам себе подпевает, — ну же, выходи поскорее; закрывает за Практиканткой дверь, остается один на один с болью, болью незнакомой, болело и раньше, но не так; Роберт чувствует, что началось что-то неотвратимое; уже завтра он узнает от специалиста, временные это недомогания или передовые отряды смерти трамбуют в нем почву под будущий лагерь.
Комментатор, можете себе представить, сам Комментатор собственной персоной недоумевает, почему поляки ползают по полю как сонные мухи, анализирует одну-единственную ошибку, которая вызвала все последующие и в результате привела к пропущенному мячу, мы проиграли значительно менее имени-тому противнику, наши футболисты не показали той страсти в игре, какую мы ожидали после бойких интервью и прогнозов; Комментатор объявляет конец мечтам, конец прекрасным снам; приключение с кубками кончилось для нас на этот раз, впрочем, как и всегда, слишком рано; Тесть неистовствует перед телевизором, сейчас он не на стадионе, не в колпаке в цветах национального флага, потому что команда играет на дальнем выезде, таком же дальнем, как и следующие выборы.
— Да они же паралитики! Белые, желтые, черные, красные — все кому не лень отымели нас по полной программе. У нас какой-то антифутбол в генах!
Комментатор спрашивает приглашенного специалиста, согласен ли он, что мы первый тайм играли как во сне; специалист соглашается и добавляет, что игра у наших не сложилась, а если бы сложилась, результат мог бы быть противоположным; Тесть не выдерживает, выключает телевизор, не в силах сдержать эмоции:
— В том-то все и дело, что наши замечательные парни выходят на поле, стоят и смотрят, складывается у них сегодня игра или нет, а противник тем временем просто лупит по воротам и забивает голы.
Теща вся в глажке (утюг в ее руке — один из символов семейной гармонии); с некоторых пор она замыслила очередную диверсию; она размышляет, как повлияли бы на медийный имидж Тестя плохо отглаженные брюки.
— Эти инвалиды гроша ломаного не стоят, а ты нервничаешь. Жаль, что люди не слышат, какие выражения ты позволяешь себе дома.
Жена пробегает по первому этажу, муж куда-то пропал, суета нарастает, потому что отсутствие Роберта становится все более и более осязаемым. Ну вот, пожалуйста, и в большой комнате его нет, может, родители видели, может, он футбол смотрел.
— Не было здесь Роберта?
Тесть сегодня вдвойне взбешен, паралитикам не удалось вызвать у него сочувствие к себе после того, как его зять насмеялся над ним прямо в глаза его собственной секретарши.
— Твой муж не интересуется спортом.
— Какой это спорт? Двадцать два бугая спотыкаются о собственные ноги, а тысячи лохов сидят перед телевизором.
— Во всяком случае, за это свое спотыкание они получают деньги. Не то что твой…
Тесть кивает на лежащую на столе тетрадь — солидную снаружи и весьма несолидную внутри. Тесть, до самого конца свято веря, что эти записи — зашифрованный текст гениального романа будущего лауреата Нобелевской премии, дал тетрадь на проверку аналитикам, самые светлые головы контрразведки ухлопали целый день только для того, чтобы потом объяснить Тестю, что кто-то над ним издевается.
— Взгляни, весьма поучительно. Я его на место устраиваю, чтобы у него были тепличные условия, а господин литератор месяцами от скуки цифирьками тетрадку заполняет да похабными рисуночками! Ты его, по крайней мере, спрашивала, как он семью содержать собирается неписанием?!
— Ты хотел зятя от искусства? Получил! Кто говорил, что не позволит нам жить без регистрации брака?!
Теща, эта в буквальном смысле слова iron[6] lady, просит уволить ее от шума и снова становится на защиту семейной гармонии; отец и дочь ведут себя слишком эмоционально, эмоции и страсти исключают возможность достижения семейной гармонии: там, где верх берут эмоции, гармонии конец; в жизни, в том числе и в семейной, прежде всего следует руководствоваться разумом, ибо сон разума рождает чудовищ.
— Ну знаешь! В таком тоне обращаться к отцу!
Жена уже проверила каждый уголок дома, понятно, что Роберт ушел; Тесть, должно быть, отчитал его решительно и нелицеприятно, а он, наверное, обиделся и ушел; Жена начинает бояться страха, который снова мог бы на нее напасть, обидно — столько дней удалось выдержать, она уже так хорошо стала себя чувствовать, что ей даже стало как-то не по себе; страх наверняка где-то спрятался и только ищет повод, чтобы снова напасть; внезапное исчезновение Роберта как раз и может стать таким поводом, а вдруг он ушел недалеко, а вдруг он в сарайчике и спокойно ковыряется в железках, проверим, тем временем заглянем в тетрадочку, которая папу вывела из себя; Матерь Божья, что это такое? (Страх застучал в барабан.) Все эти гадости, да в подробностях, что все это значит? (Страх начинает бить в загрудину.) Боже, сделай так, чтобы Роберт оказался в сарайчике, чтобы смог все путем объяснить. (Страх начинает рвать дыхание.) Там? Или его там нет? Надо войти внутрь с платочком у носа, потому что здесь царство пыли, а насморк только что прошел.
— Роберт! Ты здесь?
Здесь. Он сидит на полу, спиной опираясь на стену. Очень больно. Боль невыносимая. Нет сил подняться, все, копец, его застукали на страдании.
Жена не знает, что сказать; Роберт выглядит так, будто он сломался или перегорел, на манер унитаза или лампочки в спальне, может, она сама сумеет справиться с этой поломкой; если бы сломалась стиральная машина, она призвала бы на помощь Роберта, но вот сломавшийся Роберт — это проблема, которую она не предвидела; страх подсказывает Жене, что Роберт, возможно, уже не подлежит ремонту.
— Наверное, тебе надо сходить к врачу.
6
Сегодня снова ставят Кальдерона, Роза все еще официально значится в составе труппы, это привлекает зрителя, но в программке рядом с ее ролью стоит надпечатка с фамилией заменяющей ее актрисы; люди звонят перед спектаклем, спрашивают, будет ли Роза играть сегодня, и получают неизменный ответ: «Понимаете, точно знать это невозможно, можем гарантировать лишь то, что, если она придет пусть даже за пять минут до начала, она сыграет», поэтому зал всегда полон, зритель ждет, но сегодня он будет в очередной раз разочарован; Роза сидит в огромном кресле перед домом и вспоминает текст пьесы, она знает, во сколько начинают, и точно в это время она начнет собственный спектакль у себя дома, она будет произносить свои реплики точно в те же моменты, что и ее дублерша на сцене, с той лишь разницей, что в домашних условиях публика будет представлена собакой и занятым своими делами Господином Мужем; стресс и нервная дрожь, как и риск внезапного приступа сонливости и срыва спектакля, в этих условиях полностью исключены.
Погожий день, свежий воздух, вода из горного источника в ручейке за забором, не жизнь, пани Роза, — сказка; папарацци нечего фотографировать, завистливо смотрят они со своих охотничьих номеров на женщину, сидящую на веранде, укутанную одеялом, спокойно читающую; все в ней и вокруг нее такое нескандальное, люди на это не клюнут, папарацци со скуки заснут и попадают с деревьев, даже ее собака заснула, хоть теперь в этой тишине она так ухо интересно навостряет, как будто что-то слышит, ну да, кто-то подъезжает, неужели что-то произойдет, телескопические объективы в состоянии готовности, внимание, кто это, ах, это всего лишь Господин Муж возвращается с работы, собака срывается и бежит к воротам, Господин Муж открывает их пультом, въезжает на территорию владения, начинает здороваться с собакой, дразнить ее, тормошить, как всегда. Господин Муж с собакой у нас уже был, хозяйка, приветствующая Господина Мужа на веранде, тоже; может, какой-нибудь семейный скандальчик, ну же, хозяюшка, не исчезай, пожалуйста, в недрах дома, а то мы так работу потеряем; нет, все-таки вошла, а если уж вошла, то не выйдет, через стекла ничего не видно, нет, ночь ради нее сидеть они не будут, папарацци сматывают удочки, по пути еще заедут проверить, как там в семье их соседа, знаменитого спортсмена.
— Как ты сегодня? — Господин Муж, как всегда нежно, справляется о самочувствии жены, а дело вот в чем: если Роза чувствовала себя сегодня хорошо, то она приготовила что-нибудь вкусненькое, когда же у нее плохое самочувствие, она спит, вместо того чтобы стряпать; Господин Муж старается что-нибудь унюхать, а Роза тем временем нюхает его, придерживает за воротник и вдыхает воздух вокруг него, ей знаком этот запах, только не может вспомнить откуда. — Голодный как волк… — Господин Муж высвобождается, идет в ванную вымыть руки перед едой, но за закрытой дверью сам себя обнюхивает, черт побери, ничего не чувствует, а она вроде как что-то учуяла, собачий нюх, переодеться, что ли, на всякий случай.
Роза любит смотреть, как Господин Муж ест, в его лице она нашла ценителя своего кулинарного искусства, Господин Муж никогда не осмелился бы отобедать в городе, по крайней мере хоть в этом отношении брак оказался удачной инвестицией, вся карьера на пиццах из микроволновки, а тут на тебе — чревоугодие в чистом виде, никогда не знал, что еда может быть такой вкусной; он боится, что ему будет трудно отвыкать, — это одна из причин, в силу которых Господин Муж не допускает мысли о разводе. Если наследство бабушки Зеванны останется с Розой и ей придется сменить профессию, она откроет ресторан; приготовление изысканных блюд улучшает ее самочувствие, в этом действе есть что-то от выкладывания мандалы: искусные и длительные приготовления всегда кончаются одинаково, пустые тарелки оказываются в мойке, а Господин Муж шарит в холодильнике, чтобы найти чем перекусить, хотя бы схватить копчененькой колбаски, ведь не дегустатор же он — нет, он ценит старания жены, все это очень вкусно, только, может, порой слишком диетично; ритуал послеобеденного перекусона колбасой решает проблему. Что там у нас сегодня, о, супчик для начала, очень даже аппетитно пахнет, и вкус тоже весьма и весьма, разве что чуть жидковат, Господин Муж с удовольствием выхлебал бы его как можно скорее, чтобы сразу приступить ко второму (он выпил сегодня много кофе и ощущает дискомфорт в желудке, отреагировавшем на суп сердитым ворчанием), но сначала он должен повосхищаться; Роза любит смотреть, как ест Господин Муж, она опробует на нем новые идеи, она знает, что его способности различать вкус ограниченны, а его кулинарные пристрастия примитивны, в этом смысле Господин Муж — типичный пример идеального клиента ресторана; Роза находится на этапе составления идеального меню, из которого исчезают слишком авангардные для Господина Мужа блюда; Роза тем не менее не хочет отказываться от экспериментов. Вот и сегодня: суп, в общем, нормальный, есть можно, что вовсе не значит, что кому-нибудь когда-нибудь захочется его заказать, на это нужна смелость; проверим, сможет ли типичный экземпляр идеального клиента преодолеть предубеждения.
— Нравится?
— Обалденно. А что это?
— Крем… из розовых мухоморов.
Господин Муж поперхнулся, перестал есть, застыл над тарелкой; вид такой, как будто подсчитывает, сколько минут осталось ему жить.
— А они, случайно, не ядовитые?
— Случайно — да. Но после соответствующего приготовления — нет.
— В смысле если их проварить как следует…
Типичный клиент испытывает сильный стресс, возможно, даже совершенно теряет аппетит, крем из мухоморов, стало быть, годится не для идеального меню, а скорее для списка блюд по спецзаказу.
— Не бойся. Тебе хоть раз хоть от одного из моих блюд было плохо?
Господин Муж все еще боится двинуться, всматривается в недоеденный суп. «Так должна выглядеть моя смерть? — думает он. — Я всегда представлял ее в образе женщины, — думает он. — Костлявая, скелет с косой, дама в белой вуали, разумеется, но чтобы суп?!» — думает он и спрашивает:
— Это такие красные с точечками? Они на самом деле неядовитые?
— Нет, ты их не знаешь. Ты думаешь о красных мухоморах, которые на самом деле только слегка ядовитые, зато сильно галлюциногенные, в древних племенах шаманы ели их и впадали в транс, поэтому на них распространялось табу, и этот предрассудок сохранился до наших дней, возможно, как атавизм; с детских лет мы рисуем ядовитые грибы в виде мухоморов с точками.
Суп снова стал супом, но Господин Муж больше не хочет есть его, ему бы чего-нибудь поосновательнее, мяса, что ли; он заглядывает в кастрюли, о, вот и котлетки, к сожалению соевые, ничего не поделаешь, придется помочь себе колбасой; Господин Муж теперь уже уминает котлетки, но все еще думает о грибах, не дают они ему покоя, столько разных видов, легко ошибиться, надо бы научиться различать грибы, но жалко тратить на это время; и даже если кому-то нравится собирать грибы, то какой смысл в удовольствии, которое можно себе позволить от силы две недели в году, именно столько продолжается осенний грибной сезон; лучше уж рыбу ловить, разумеется морскую, круглый год доступное мужское приключение. Господин Муж разбирается в рыбе, он мечтает о мерлине; Господин Муж еще в холостяцкий период своей жизни в свободное от всех балансов время зачитывался Хемингуэем — это хорошая, проверенная, мужская литература, отвечал Господин Муж, когда его спрашивали, почему именно Хемингуэй; он садился за Хемингуэя по-хемингуэевски, в старом шерстяном свитере, помнящем еще школьные годы, со стаканчиком виски, начинал водить взглядом по страницам и думал о мерлине; при этом ему совершенно необязательно было читать, сам процесс приготовления к чтению его вполне устраивал, он так ни разу и не дочитал до конца ни одной из его книг, может, оно и к лучшему: при его падкости на хемингуэйщину он мог бы потянуться и к более опасным реквизитам; Господин Муж должно быть предчувствовал, что дальше, чем свитер, виски и мечты о Мерлинах, продвигаться не следует, так что он посещал коммерческие рыболовные базы, где ловил форель на спиннинг и давал себе обещание в ближайшем будущем выкроить время на настоящие мужские средиземноморские, а то и океанические приключения; тем временем у Розы начались проблемы со здоровьем, у Господина Мужа — проблемы с женой, хоть она и готовит прекрасно, разбирается в грибах и прочем зелье, ходит, как ведьма, по опушке леса вокруг дома и всегда чего-нибудь насобирает, а потом творит из этого кулинарные шедевры, может, порой слишком изысканные; о да, Роза — ведьма: она ведает, что краешка леса было бы достаточно, чтобы накормить роту. Или отравить армию.
С некоторых пор Господин Муж стал допускать просчеты, он рассчитывал на конфиденциальность и просчитался, он вынужден очередной раз объяснять, что, когда он дома, ему нельзя звонить, потому что жена рядом и слушает, Господин Муж говорит в трубку, просит, чтобы она успокоилась, потому что занимает в его сердце первое место, но его слова поднимают на смех; Господин Муж занимает ответственный пост и в этом качестве не может позволить себе безответственное поведение, говорит в трубку, чтобы она выбросила это из головы, к сожалению, его слова не обладают той силой, какую они имеют в финансовых переговорах, Господин Муж встревожен, он всегда избегал людей, которых невозможно просчитать, в бизнесе самое главное — взаимное доверие, он говорит в трубку, чтобы она верила ему, он ведь обещал ей, что подаст на развод, только он хотел бы избежать скандала: Господин Муж неосмотрительно повышает голос. Роза стоит за дверью и слушает; у нее все хорошо, когда она подозревает Господина Мужа в чем-то очень-очень нечестном, она совершенствует ремесленные способы подслушивания, она уже знает, который из бокалов, если его приложить к стене, лучше остальных передает звук. Господин Муж громко и четко произнес ругательство, Розе это не нравится, при ней он никогда не ругался, а в профессиональных разговорах он пользуется строго официальным языком, и Розе хотелось бы знать, кто до такой степени вывел Господина Мужа из равновесия, куда он собирается такой взбешенный, что хлопнул дверью кабинета; она встает у него на пути:
— С кем это ты разговаривал? С ней?
Господин Муж, пытаясь уклониться от Розы, ловко отворачивается, как всегда, прибегает к уклончивому ответу, это гнусно.
— Я не знаю, о ком ты говоришь, я разговаривал по работе.
— Мне каждую ночь снится, что ты изменяешь мне…
— Ну и что? Я теперь должен извиняться за твои сны? У меня работа, так что попрошу оставить меня в покое.
Господин Муж смотрит на нее мертвенным взглядом, Роза боится этого взгляда, она знает, что он означает: так мертвенно смотрят люди, которые врут на голубом глазу; ее глаза оживились, наполнились слезами, Роза вянет от вранья Господина Мужа. Самой ей никогда не удавалось соврать; когда она всего лишь пробовала обмануть кого-нибудь, ее сразу выдавал румянец; даже если речь шла о мелкой лжи во спасение, у нее это проходило с величайшим трудом и сразу же так ее коробило, что, будучи не в состоянии удержать ложь на устах, она краснела от неуверенности, поверил ли ей обманываемый, проверяла, заглядывая ему в глаза, и первым результатом этой ее проверки становились ее улыбка и ее разоблачение. Роза отнюдь не наивная, она простодушная: она полагает, что в человеческой натуре нет места для бескорыстного зла, она считает, что зло начинается там, где кончается бескорыстие; Роза не верит, что человек может вредить другому человеку без причины, точно так же она никогда не могла понять тех, кто беспричинно врет.
Господин Муж, например, врет для того, чтобы не потерять навыка, в его профессии это очень важно, систематическое вранье повышает класс мастера; Господина Мужа уже несколько раз проверяли на детекторе лжи, и он выигрывал солидные суммы в соревновании со знакомым детективом; знакомый детектив, после того как сам проиграл внушительную сумму, собрал других детективов, которые, понадеявшись на машину, проиграли еще более внушительные суммы; Господин Муж мог бы зарабатывать на жизнь исключительно враньем, детектив предлагал совместный бизнес: он взял бы на себя организацию выступлений, а Господин Муж раз, может, два раза в месяц врал бы как по нотам, потому что не изобрели пока такого детектора лжи, который смог бы обнаружить, что он врет; как мы уже знаем, Господин Муж не стал человеком мелких интересов и мелкого вранья, он предпочел врать глобально, или, как он сам это называет, убеждать людей. Господин Муж знает, что гений лжи должен быть убедительным, а для этого должны быть соблюдены два условия: всегда говорить то, во что люди хотят верить, и всегда врать так, чтобы верить себе самому. Господин Муж чувствует себя клятвопреступником, ибо безответственная клятва разве не является уже ложью в зародыше? Люди не должны клясться друг другу в верности до гроба, потому что им принадлежит не будущее, а лишь совесть; Господин Муж добросовестно лжет Розе для ее же собственного блага — ей нельзя нервничать.
Роза смотрит в глаза Господина Мужа, ложь не находит места в ее голове. Она надеется, что и в голове Господина Мужа она тоже не найдет места; Роза обводит взглядом его лицо и ищет ложь в дрожании век, в уголках губ, нелюбимые глаза смотрят на Господина Мужа с очень близкого расстояния — и не видят ничего живого; Роза не дает ему пройти, хватает его за ногу, сжимает так, чтобы было больно, требует еще одной лжи:
— Поклянись, что не изменяешь мне…
Господин Муж охотно бы поклялся в своей верности, но именно в этот момент у него зазвонил мобильник, Роза одной рукой держит его за промежность, другой вынимает телефон из кармана; Господину Мужу на самом деле несладко. Номер не определяется, на голос Розы кто-то с той стороны отвечает молчанием и разъединением; Господин Муж высвобождается из захвата, выворачивает Розе руку и отбирает телефон, цедя сквозь зубы угрозу:
— Никогда так больше не делай.
Баланс страданий тоже должен сходиться: Господин Муж удерживает в болезненном заломе руку Розы ровно столько, сколько она держала его за пах, если не дольше, Господин Муж хочет быть справедливым, он хочет проучить ее; Роза заставила его взвыть, так пусть теперь сама немножко повоет. Господин Муж сочувствует Розе, но не может ей помочь, он хочет, чтобы она запомнила эту боль надолго, как он до сих пор помнит тот случай, когда в школьные годы силач из их класса выкручивал ему руки на переменах, а когда Господин Муж говорил, что, дескать, больно, силач начинал разглагольствовать: «Должно болеть, обязано болеть, боль учит, чем раньше узнаешь боль, тем легче тебе будет в жизни»; силач был первым учеником и любимчиком учителей, поэтому бесполезно было на него жаловаться, значительно позже Господин Муж узнал, что парень этот один к одному повторял все то, чему его учил отец, безнаказанно измывавшийся над ним в течение одиннадцати лет; прежде чем парень повесился в чуланчике на чердаке, он успел отослать письма тем, в ком он был уверен, что не станут замалчивать его страдания; Господин Муж простил ему уроки боли на переменах между уроками, впрочем, все прошли через силача, у него было солидное преимущество в росте и весе, он терпеть не мог подлиз, никто не знал ни дня, ни часа, в который его призовут на болезненные учения; не все пошли с классом на его похороны, но наверняка все простили ему; причиняя боль Розе, Господин Муж может не беспокоиться о том, простит она его или нет, потому что она, бедняжка, как раз заснула и ничего не вспомнит; как жаль, такой урок, и впустую.
В эту ночь Господин Муж работает что есть сил, в поте лица, как передовик производства наслаждений, разогнался, точно бешеный паровоз; но кого же он так умело прессует в ритме фабричного станка, да так, что возгласы разносятся по всему дому, кто же так охотно отдается сопящему передовику, кто позволяет ему опускаться в забой так глубоко; подождем, потому что с этой позиции не все видно; Господин Муж уже вышел на финишную прямую, объявил, что вот сейчас, вот-вот, уже, но слышит умоляющее бормотание, чтобы не сейчас, чтобы еще немножко, ну чуть-чуть, но Господин Муж уже не может остановиться и несколькими порциями выгружает весь запас, и все внутрь, как Господь велел; в конце концов, должен же Господин Муж хоть кого-нибудь оплодотворить, идет демографический бум, влиятельные бизнесмены уже радуются третьим отпрыскам, в то время как он даже еще не приступил к размножению. К сожалению, мы не сможем узнать, чье же тело оказалось таким гостеприимным для Господина Мужа, потому что он как раз обмяк и опал на это тело и заслонил его от нас, что ж, посмотрим хотя бы на то, что доступно взору: на щиколотку с очень даже приличненьким браслетиком, посмотрим на пальцы ног, ритмично поджимающиеся и расправляющиеся, будто они пытаются поймать убегающий оргазм, присмотримся к этим ухоженным и покрашенным черным лаком ноготкам; это наверняка молодая и привлекательная женщина. Роза, спящая в соседней комнате сном праведницы, сном, который ей обеспечил лично Господин Муж, тоже молода и привлекательна; да, у Господина Мужа хороший вкус.
7
Адам собственноручно разрезал гипс на предплечье Красавчика, похоже, что кость срослась правильно, надо только восстановить мышцы, Адам будет контролировать ход реабилитации, если Красавчик четко будет выполнять требования врача, а не кинется снова в авантюры. Адам замачивает тряпочку в миске и протирает его кожу; ему нравится мыть всего Красавчика, отмывать его от запаха улицы, ему нравится, когда Красавчик перед ним мокрый, но и вытирать его потом полотенцем, стричь ему ногти на пальцах ног (на руках Красавчик сам обгрызает), срезать мозоли, натирать ароматным кремом, проводить депиляцию; Адаму нравится все, что позволяет ему делать Красавчик, Адам стал для него самым внимательным санитаром, потому что, хоть Красавчик и не из пугливых, он пока еще не может справиться с тем, что произошло с ним, что происходит каждый день: ранее ему было неведомо удовольствие обладать безгранично и безоговорочно преданным ему любовником, верноподданнически прислуживающим по первому же его требованию.
Треснутые ребра тоже срослись, Красавчик может дышать полной грудью, безболезненно переворачиваясь с боку на бок, когда ему снится какой-нибудь кошмар, это важно, потому что спит он беспокойно, каждую ночь мечется и выкрикивает проклятия в адрес своих сонных преследователей; с тех пор как он поселился у Адама, ему есть чего бояться. Живет он тайком, нелегально, никто ни за что никогда не сможет об этом узнать; на случай неконтролируемой утечки информации у Красавчика есть, как ему кажется, готовый ответ: водил клиента за нос, чтобы добраться до его денег, потому что доктор на самом деле богатенький, он только прикидывается бедным, его родители чуть ли не срут деньгами, присылают ему тоннами; понимаете, парни, хорошо иметь своего толстенького давал у (Красавчик знает, что в этой истории парни пролетят мимо самого главного, потому что одна деталь будет колоть им глаза: в каком смысле давала? Ты чё, пидор?). Красавчик никакой не пидор, в этом смысле он ни-ни, самое большее — давал у себя отсосать, доктор классно отсасывает, девочки могли бы у него поучиться, ну и что с того, что они вместе спят, вы сами-то что, никогда не спали в одной постели с мужиком? А если ночью зябко, то можно даже и прижаться, поиграть птенчиками для сугреву; если для вас это лесопосадки, тогда валите куда подальше, потому что лесопосадки — это на зоне, но откуда вам это знать, небось, суки, не сидели.
— Сегодня у меня дежурство. Не забудь взять ключи, если захочешь выйти из дому, — говорит Адам и застегивает куртку, остановился в дверях, ему хотелось бы поцелуя на прощание, он хотел бы дождаться того утра, когда Красавчик просто поцелует его и пожелает удачного дня, но пока им придется еще немного друг с другом поцапаться, ничего не поделаешь, время поцелуев еще не пришло.
Адам выходит, Красавчик сегодня на него даже не взглянул, опять, должно быть, испугался самого себя. Адам знает, что Красавчику известно о загашнике; Мать стала присылать деньги, Адам отказался от первоначального замысла — отсылать их обратно, — он справился бы и без этой помощи, но тем не менее он прячет деньги в «Справочник врача общей практики» между страницами с Neoplasmata ossium et articulationum и Myeloma multiplet Plasmoqtoma лишь затем, чтобы Красавчику было что украсть. Адам заботится о своем воре, подсовывает ему легкую добычу, постоянно пополняя запасы, даже написал благодарственное письмо Матери, небезосновательно надеясь на более частые поступления вспомоществований; Адам согласен: пусть Красавчик крадет в доме, если уж он иначе не может, все лучше, чем шляться с приятелями, пусть он снова приступит к тренировкам; но Адам не понимает: красть в одиночку, в пустом доме — все равно что пить с отражением в зеркале, а Красавчик и не обворовывает его, просто берет причитающийся ему гонорар; украсть что-нибудь — с превеликим удовольствием, но только в городе.
Адам уже не так охотно, как раньше, соглашается на подмены, он больше не остается после работы, хоть пациенты привыкли, что этот молодой доктор обследует внимательнее остальных и всегда успевает принять каждого; старшие коллеги удивлены, как быстро он подрос до их уровня, шустряк, завершил период выдвижения, теперь пациенты носят ему как ненормальные. Наверняка носят; Адам не отказывается, научился уже класть конверт в ящик вроде как мимоходом, непроизвольно, не переставая разговаривать с пациентом, так, будто вручение и прием конверта происходили где-то не здесь, бывают ведь в жизни такие минуты, в которые два человека соединяются в молчаливом понимании, допустим два выдающихся моральных авторитета, профессора философии и литературы, пользующиеся всеобщим уважением граждан, проводящие регулярно в любимом кафе диспуты, прославляющие на всю страну столик, за которым они сидят; представим теперь, что они случайно сталкиваются в борделе: молчаливое взаимопонимание не позволяет им узнать друг друга, уровень взаимного смущения был бы слишком высок, у них от этого пропала бы потенция, так что они расходятся будто никогда в жизни и не были знакомы, а на следующий день как ни в чем не бывало ведут за чашечкой кофе спор о понятиях, категориях, ни словом не упоминая ночную встречу; если двое одновременно приходят к мысли, что скорее ничто, чем что-то, то им нечего стыдиться, потому что ничего и не было; пациенты вручают Адаму конверты так, будто они этого и не делают, Адам принимает их так, будто вовсе ничего и не берет; берет, разумеется, ради того, чтобы Красавчик не бросил его, потому что боится: если у него нечего будет красть, он останется один. Адам боится остаться сиротой; однажды переночевав здесь, Красавчик навсегда украл у Адама одиночество, если же теперь он бросит Адама, то сделает его сиротой. Адам не отказывает пациентам во внимании, он обследует их не менее тщательно, чем прежде, но, к сожалению, он не может посвятить им времени больше, чем записано в контракте. Теперь Адам кончает прием минута в минуту и бегом спешит домой в надежде, что Красавчик уже ждет своего слугу, теперь Адам в нерабочее время несет частную службу, при мысли о которой у него захватывает дух. Вы только посмотрите: только что вышел из больницы, а уже на своей улице, должно быть, бежал всю дорогу, иначе почему так запыхался, вот он уже, прыгая через три ступеньки, преодолевает лестницу, посмотрим, сможет ли его что остановить.
— Эй! Сынок!
Голос прогудел, как из преисподней, усиленный эхом и прозвучавший так, будто сам бог обиделся, что Адам думает о нем как о чем-то, что мы обозначаем с маленькой «б»; Адам останавливается, как пристало медику; если кто-нибудь просит, то, скорее всего, может просить его о помощи, даже если это сам б(Б)ог. Представляете, ситуация: ничего вокруг, только голос, один звук — и никого; Адам растерян, не знает, куда смотреть, думает: ну ладно, допустим, б(Б)ог существует, коль скоро так объявился, но какие претензии мог бы он иметь к Адаму, что тот возлюбил мальчика в мужчине? Нет, даже Бог с большой «Б» не может иметь к нему претензий: пока любовь безгрешна, она ведет к добру; Адам желает добра Красавчику, хочет его вывести к свету, заблудшую овцу в стадо вернуть. Чего т(Т)ы хочешь от меня, б(Б)оже, думает Адам, а если это не т(Т)ы, то кто тогда меня звал, чего от меня хотел?
— Эй!
Адам отчетливо слышит, идет за голосом туда, где никого нет, хотя голос сердца велит поспешить в противоположную сторону, туда, где Красавчик уже наверняка в одних боксерках, ах, сколько же придется всего понапридумывать, чтобы стянуть их с него, а потом натешиться, потрогать, подержать так, подержать сяк, ну и вообще; Адам неуверенно приближается к Никому и только на середине улицы видит человека в канализационном люке; ну да, крадут крышки, случилось однажды, что пьяный упал и просидел под землей всю ночь, ну а этот выглядит так, как будто он перепадал во все люки в городе, причем головой вниз, этот вне себя от ярости, что освободиться не может; Адам смотрит с ужасом на исполосованное лицо: обе брови кровоточат, левый глаз страшно заплыл, нос свернут; где был бог, когда зло измывалось над этим человеком?
— В чем дело?
— Какие-то засранцы меня отделали… И за что… Много у меня, что ли, было, одна мелочь… За двадцать злотых нос мне сломали… И часы сняли, которые и так слова доброго не стоили…
Адам помогает ему выбраться, мужик пытается встать, и нога подгибается у него в колене, он падает и лишь потому не теряет сознания от боли, что вдупель пьяный; Адам вызывает скорую, спрашивают, прислать врача или сам справится (Красавчик ждет… А если не ждет? Если он ему уже успел надоесть? Если на месте, то будет и после; если его нет, то лучше узнать об этом как можно позже), нет, врача не надо, Адам сам справится.
Красавчик уже спит, голый, пораскидал одежду на полу, должно быть устал, неужели пустился в загул? Спит на боку, крепко спит, зато его птичка на воле; интересно, что ему снится? Адам уже без сил после случая с пьяницей, протокол о телесных повреждениях, дача показаний и все остальное, сейчас он сам разденется и прильнет к жаркому Красавчику на так называемый стульчик, ложечка-в-ложечку, поймает нежненько его птичку и заснет с нею в руках, разве что Красавчик проснется и сам захочет чего-нибудь еще. Адам подбирает с пола его брюки и рубашку, кладет их на стул и замечает в нескольких местах пятна крови. Немедленно проводит осмотр Красавчика: весь он прекрасен и нет ни пятна на нем, ни царапинки, что-то бормочет сквозь сон и снова укутывается в одеяло. Адам относит одежду Красавчика в ванную и забрасывает в стиральную машину. Даже если б(Б)ога и нет, не все позволено: Адам знает, что завтра он будет вынужден задать несколько неудобных вопросов, а Красавчик очень любит удобства; вон как разлегся, всю постель занял. Адам ложится рядом, дотрагивается до него и думает, что теперь он должен все делать так, как если бы завтра предстояло умереть.
Отец уже припарковался, но оба с Матерью пока сидят в машине, недоверчиво проверяют адрес на листочке и сравнивают с номером на доме: к сожалению, все совпадает; нашли улицу, нашли дом, но петь им расхотелось, хоть Мать от радости, что Отца наконец-то удалось уговорить навестить сына, спела по дороге все хиты их молодости. Отец наконец выходит из машины, встает руки в боки, смотрит на дом, в котором живет его единственный сын, и буквально кипит от гнева и презрения (в деревне стоит новенький, пахнущий краской домик-картинка, а этот живет здесь, в обоссанной дыре, разваливающейся халупе, боже мой, но нет, ничего не скажу, ничего не скажу, не стоит нервничать, вот только пуговку на воротничке расстегну, а то аж душно сделалось). Мать тоже выходит из машины ошарашенно, не знает, вынимать ли ей сумки с банками-компотами-разносолами-грибами — всем, что сынок любит, или подождать, пока Отец войдет наверх и проверит, может, адрес не тот. Из окна на первом этаже сосед-подоконник смотрит то на приехавших, то на машину, в конце концов заговаривает с Отцом, который уже успел подавить в себе отвращение и хочет нырнуть в подъезд, провонявший кошачьей мочой.
— Добрый день. Хорошая машина. Я бы такую не оставлял без присмотра. Могу постеречь, в случае чего… Два злотых в час…
Отец глянул презрительно и гордо: что это за отродье человечье, что он себе думает, как он выглядит, как разговаривает, что это вообще за район — и не отвечает на предложение по охране движимости (ошибка: сразу видно, что человек не из города).
— Ну нет так нет… — говорит сосед.
Но Отец уже не слышит его, входит в старый коридор, запущенный, смердящий тухлятиной, взбирается по деревянной лестнице с просветами, через которые снизу все видно, он так старается сохранять достоинство в этом недостойном месте, что даже местный кабыздох склоняет голову от удивления — что, мол, это за гость явился, так достойно вносящий с собой запах сельской усадьбы, на всякий случай лает раз-другой, но неубедительно; Мать осталась далеко позади, сопит на лестничных площадках, думала, что где уж где, а в городе лифт доставит ее к сыночку, ей здесь совсем не нравится, непонятно, ремонт здесь, что ли, идет, строительство или разбор завалов, во всяком случае дом какой-то не совсем жилой; какая-то собака обнюхивает метки в углу коридора, на стенах исключительно мат нацарапан, ох, сынок-сынок, ты заслужил себе место поприличнее, в этом Мать с Отцом полностью согласна, но где же он, почему ее не подождет, ох, боженьки мои, просто дух уже вон, сколько же еще этих ступенек, да и скрипят так, что, того и гляди, проломятся.
Адам слышит стук в дверь, который час, кого это принесло, заспался, как всегда после дежурства, где Красавчик, моется, воду в ванной слышно; снова стук в дверь, ну же, Адам, открой наконец, проверь, кого там черт принес. Натягивает брюки и, спешно застегивая ширинку, захватывает кое-что молнией, стонет от боли, открывает дверь и в недозастегнутых брюках предстает перед Отцом собственной персоной.
— Папа! — громко говорит он, чтобы Красавчик в ванной услышал, может, хоть что-нибудь накинет на себя, и он сможет представить его как коллегу по работе.
У Адама серьезные трудности, потому что Отец уже переступает порог, а где-то там за ним наверняка телепается и Мать; как же это он так начисто забыл, а ведь они ему говорили, что собираются приехать, ведь достаточно было пораньше встать и объяснить Красавчику, что он вовсе не собирается выгонять его, но эти пару часов он спокойно мог бы пошастать по городу…
— Адам, сынок! В больнице нам сказали, что у тебя сегодня свободный день, мы хотели сделать тебе сюрприз…
Отец уже обнимает его по-мужицки, крепко, сердечно, долго держит в объятиях, до потери дыхания, соскучился, имеет право, ладно, пусть уж пообнимается; хлеба и соли никто ему не подал, но Отца не так легко обескуражить, он уже топает, входит в квартиру и смотрит, проверяет, заглядывает в комнату. Видит постель разбросанную, и не могут ускользнуть от его внимания две подушки, рядышком лежащие, два одеяла и простыня, в двух местах примятая, свежие следы сугубой интимности, частной, домашней, интимной двоичности. Оборачивается к сыночку радостно, его уже не беспокоят детали, дыра пусть и остается дырой, квартирка тоже, мягко выражаясь, в запущенном состоянии, но ничего, ничего, все ерунда по сравнению с чудесной вестью, которая, видать, у Адама в горле застряла, потому что стоит какой-то бледный, вялый и безмолвный, — весть для Отца фундаментальная, гораздо важнее той, которую совсем, почитай, недавно так праздновали они; теперь сынок спит не один, есть у него в квартире некое сопровождающее его по жизни существо, куда только подевалось, может, в магазин вышло, чтобы завтрак господину доктору сделать, а может, и само работает с утра и на работе аккуратно пребывает, но скрыть сыночку не удастся, что у него есть женщина; наконец-то есть женщина. Отец всматривается в простынные вмятины, пытается на их основании прочесть, воспроизвести, представить себе, какова же она, стройная или сбитенькая, красавица с пышными формами или хилая, как все нынешние, всматривается в постель, точно в Туринскую плащаницу, готов пасть перед нею на колени и Господа Бога нашего благодарить за то, что у сына есть женщина, женщина у него тут прихорашивается, а он не похвалится, не написал, да уж ладно; в ванной кто-то воду льет, стало быть, дома, дома сношка и уже никуда от них не денется, с минуты на минуту появится, ну а пока что она, как и нужно, прихорашивается, подкрашивается, придушивается, будущим тестям хочет показаться с лучшей стороны; Отец умирает от любопытства, волосы у себя на голове приглаживает и Адаму подмигивает, кивая в сторону ванной, Мать добирается до дверей с приветливой улыбкой в тот самый момент, когда Красавчик появляется голый и сразу суетливым движением перепоясывает себя коротеньким полотенчиком; не очень получается у него принять такую позу, в которой он с обеих сторон был бы достойно прикрыт; желая поклониться Отцу, нормально прикрытый спереди, он выставляет голую задницу в сторону Матери, во всяком случае обоих вежливо приветствует «здрасте, здрасте» и лишь после позволяет себе спросить Адама полушепотом, который призван выразить как бы неловкость, вызванную всей этой ситуацией:
— Не знаешь, где мое шмотье?
Как это, как это, думает Отец.
Если не сяду, то упаду, думает Мать.
Как такое возможно, думает Отец.
Боже, боже мой, боже, думает Мать.
Они возвращаются в безмолвии, нарушаемом побрякиванием банок в багажнике. Компоты, соленья, грибы. И, только выйдя из машины у дома, замечают, что кто-то снял с их машины все колпаки.
Это называется молчание. Адам и Красавчик сидят за столом и молчат. Они сели, чтобы серьезно помолчать. По некоторым вопросам просто нельзя разговаривать, их надо раз навсегда между собой замолчать, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений. Собственно говоря, молчит Адам, а Красавчик слушает его. Адам еще ни на кого никогда не повышал голоса, поэтому он ждет, когда у него все там внутри утихнет, чтобы можно было начать говорить спокойно. Красавчик не чувствует за собой вины, это всего лишь случайность, он ничего не слышал, он просто принимал душ, если бы он знал, что в доме есть кто-то, он не вышел бы; Красавчик молча ждет, пока Адам хоть что-то скажет, напряжение нарастает, оно невыносимо, он начинает играть часами.
— Откуда они у тебя? — спрашивает Адам так тихо и спокойно, что лучше ему не повторять свой вопрос, потому что второй раз так спросить не получилось бы.
Красавчик не сечет, кого, чего касаются претензии в столь неестественно холодном голосе; Красавчику такой голос знаком по составлению протоколов в полиции, и он ему очень не нравится.
— Что откуда?
— Откуда у тебя часы?
Ах вот оно что — его интересует недавно надыбанная побрякушка, старые советские часы, которые Красавчик снял с руки отделанного им типа только потому, что когда-то точно такие же дед подарил ему на первое причастие; дед был единственным человечным человеком во всей его гребаной семейке, только на его похоронах плакал Красавчик, а на могиле отца, этого старого хрена, он даже и не был, и не будет, достаточно и того, что мать там горькие слезы горькой заливает, а потом, заблеванная, засыпает на надгробной плите и ночью, когда ее похмелье разбудит, ревом своим будит полгорода, потому что выбраться с кладбища для нее проблема; потом люди говорят, что там духи, дети на День Всех Святых туда боятся ходить. Красавчик успел забыть о вчерашнем, подумаешь, событие, он всегда, когда встретится с каким-нибудь фраером, устраивает ему взбучку из принципа, не для корысти, главное, чтобы в городе был порядок, чтобы люди не боялись ходить по улицам, сорняки надо выпалывать, получит такой в морду, хряснет рылом о мостовую, сразу перестанет по пьяни шастать под окнами, шарманку разевать. Часы; да, блин, какого хрена, трогают его, что ль, эти часы?
— Как это откуда? Купил.
— Чего ты врешь?
— Ты, блин, вообще, кто тут такой, ты чего на меня как пес с цепи сорвался, вопросами заколебал? Я вообще где нахожусь? Я вообще с кем разговариваю?
Красавчик встает и начинает ходить, но квартирка тесненькая, только по кругу можно, глупо так ходить, лучше вообще уйти или сесть на место, недовольство — и даже гнев свой — выказав предварительно, например… например… о, вот, хотя бы стакан со стола смахнуть, о, пожалста, так лучше, стекло, звон; может, хватит, чтобы этот докторишка стал вести себя как положено.
— Ты участвовал в нанесении тяжелых увечий. Мне бы надо заявить в полицию, вместо того чтобы стирать твои окровавленные тряпки.
Красавчику послышалось, а? Этот пидор его еще и полицией пугает? (Красавчик, ты только спокойно, не сжимай так кулаки, наверняка ты не собираешься делать ничего плохого.) Красавчик хватает Адама обеими руками за ворот и поднимает на высоту своего лица. Адам думает, что вот он, момент поцелуя, что же с того, что в несоответствующую минуту, но нет, Красавчик просто хотел его оплевать с очень близкого расстояния, чтобы попасть прямо в рот, при этом его придушивает, еще сильнее сжимая его воротник; у Адама слезы навернулись на глаза, ему больно. Ему нечем дышать, и он делает открытие: насилие, которое впервые применено к нему в такой явной форме, тоже своего рода близость, это физическое унижение доставляет ему удовольствие, собственно говоря, ему хотелось бы, чтобы Красавчик не ослаблял хватки, чтобы он удушил его; Адам чувствует, что обмочился, но не только со страху.
— Это конец, понимаешь ты? — цедит Красавчик сквозь зубы.
Отпускает Адама и уходит, так хлопнув дверью, что отлетает кусок штукатурки у дверного косяка. Слышно, как он спускается по лестнице, еще видно, как он идет быстрым шагом под домом, но уже пропал за углом; значит, все. Он ушел. Нет, это еще не конец. Адам ощущает его слюну на своих губах, конец придет только тогда, когда она высохнет.
8
Уже все исследовано, хоть не все еще сказано; Роберт просил четко, ясно и многократно, чтобы, в случае чего, ему сказали всю правду, без ложного милосердия, теперь он ждет в кабинете, что скажет ему врач, вся история болезни перед ним, все анализы, так что пусть он наконец прекратит укладывать и перекладывать бумажки, шелестеть ими, откашливаться, вздыхать, пусть возьмет себя в руки, потому что это не самый приятный момент и он мог бы хотя бы из милосердия не затягивать его; Роберт готов к вердикту, три буквы, один слог, как последний удар молотка, забивающего гвоздь в гроб: рак.
Адам не должен был приходить на работу в таком состоянии, но ему стало страшно в пустой квартире, опустевшей, опустошенной; Адам не может в душе отделаться от Красавчика, отсутствие которого до краев заполняет его; Красавчик отсутствует, но очень болезненно отсутствует, его помнит не только квартира, но и больница, и этот кабинет, даже этот стул, на котором сейчас сидит испуганно ожидающий пациент; на Адама сегодня впервые в жизни выпала обязанность сказать больному о том, что ему не суждено выздороветь, Адам знал, что когда-то ему придется это сделать, теоретически он был готов, но на практике у этого его пациента есть имя, фамилия и история его жизни вне истории его болезни, вот сидит перед ним конкретный пациент и конкретно по-человечески смотрит на него; Адам думает: может, получится как-нибудь без слов сказать, как-нибудь выразительно промолчать, а может, пациент сам себе это скажет?
Роберт следит за пантомимой врача, и у него появляется надежда, что и на этот раз он с легким сердцем выйдет из стен больницы, как во времена юношеской ипохондрии, когда после очередных медицинских заключений исчезали фантомы недомоганий, снисходительно оцениваемых врачами максимой вроде: «Опять у вас что-то побаливает, а анализы такие, что позавидовать только, так что вам пора фамилию менять на Позавидзкий». У Роберта все еще теплится надежда, ее не становится меньше от молчания врача; когда Роберт входил в здание больницы, он был живым человеком, он не представлял себе, что может выйти из него в качестве умирающего. Ну же, лекарь-аптекарь, попытайся хоть что-нибудь…
Адам пытается (перестать думать о Красавчике):
— Ну, значит, так… В общем, не все так хорошо, как нам хотелось бы… Я уже вам говорил, что отнестись к лечению надо с полной серьезностью… А теперь нам придется пройти интенсивный курс химиотерапии… Никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, а ваш организм к тому же ослаблен… Вы обязаны мобилизовать волю к борьбе… Этому надо подчинить абсолютно все…
Моментально тело Роберта превращается в мешок чувствующих внутренностей; все игнорировавшиеся до сих пор покалывания, припухлости, потягивания и мелкие недомогания, которые каждый день напоминали ему о том, что он состоит из материи слабой, бренной и подверженной распаду, начинают болезненно разговаривать с ним, газы, скапливающиеся в кишечнике, желудочные соки, шипящие в желудке, все эти подкожные бульканья вдруг согласным и одновременным пением исполняют упорное memento для смешанного хора: «Сдохнешь, сдохнешь…»
— Знаете, я не хочу, чтобы семья знала. До сих пор мне удавалось скрывать болезнь… А это облучение… Мне можно будет приходить сюда или придется лечь?
— Собственно говоря, я уже сейчас не должен выпускать вас из стен больницы.
— Но… Вы вообще видите смысл? Ведь это лотерея. Сколько можно в нее выиграть: несколько месяцев, пару лет?
— Вы не должны так говорить…
Роберт знает, какой вопрос он не хочет задавать; он только что вспомнил, как много лет назад он едва успел до сумерек спуститься с Шалашиск к Паленице к последнему автобусу и, обогнув толпу туристов, столпившуюся у передней двери, единственной, которую водитель соблаговолил открыть и, того и гляди, закроет и отсечет опоздавших от счастливого роя внутри автобуса, подошел к водительскому окошку, постучал в него и спросил: «Господин водитель, а есть ли вообще шансы выбраться отсюда?» — на что водитель после короткого раздумья ответил: «Шансы есть всегда», закрыл окошко и медленно отъехал, увозя потных равнинников, мечтающих обсудить в закопанском коктейль-баре величие гор, увиденных из окна столовой турбазы.
Роберт знает, что от вопроса, который он не хочет сейчас задавать, вырастет пропасть между миром здоровых, к которому принадлежит врач, и миром смертельно больных, представителем которого объявили Роберта; так что он спрашивает, превозмогая себя, как бы даже не желая получать ответ:
— А есть ли у меня хоть какие-нибудь шансы выбраться из этого?
Адам знает, что в данном случае прогноз скверный, пациент протянет самое большее восемь месяцев, и то при условии, что его организм захочет посостязаться с оставшимися в анналах клиники рекордсменами, возможная операция сопряжена с высоким риском, равно как и с возможностью осложнений; Адам знает, что из этого человека жизнь вытекает по капле и что здесь медицина бессильна; Адам знает, что обманывать пациента в такой ситуации — значит красть у него время на примирение со смертью и на так называемое окончательное урегулирование своих дел, Адам знает случаи, когда обманутые люди умирали в неведении и им от этого вовсе не было легче; Адам пытается перестать думать о Красавчике, он хочет как-то объясниться с пациентом, но Красавчик лишает его дара речи; Адам лишь беспомощно разводит руками. Не следовало ему в таком состоянии приходить на работу. Ему хотелось бы сейчас поплакаться, пожалиться, поныть, постонать от бессилия, пустить какого-нибудь грустного контратенора, горячую воду в ванну, а потом кровь, но сейчас он не может, его слезы — ничто по сравнению с теми, что стекают по щеке только что приговоренного пациента; теперь самое время его послушать.
Роберт все еще не верит в смерть, но уже боится ее; ах, если бы можно было умереть без умирания, сразу, погаснуть, вытащить вилку из розетки, отключить мысли, мысли. Ему очень не хочется задавать врачу очередных вопросов, накопившихся у него: вступил ли в законную силу объявленный приговор, почему у него отобрали право на жизнь, на самом ли деле диагноз неотвратим, а не ошибся ли врач, не шутит ли он, на самом ли деле ему грозит безжалостная, костлявая, холодная, неподкупная смерть, такая, которая приходит не поговорить о жизни, а сразу приступает к делу, о такой ли смерти речь — о поистине смертоносной и убийственной, на самом ли деле речь идет о нем, неужели так-таки ничего не может помочь, даже если бы он дал себя заморозить, как Уолт Дисней, точно ли, что нет никакого спасения, а нельзя ли как-то притормозить время, успеет ли он совершить кругосветное путешествие, а что сам врач сделал бы на его месте, а что на самом деле правда — что будет очень больно или еще больнее? Роберту не хочется спрашивать, потому что не осталось для него больше хороших ответов; некуда больше бежать от времени.
— Понимаю, что я упустил время. Легкомысленно ввязался в очень нездоровый брак с женщиной, которую, судя по всему, никогда и не любил. Возможно, сделал я это ради денег, но просчитался. Мне все казалось, что по крайней мере половина жизни еще впереди. Что еще будет время все поменять. А тут на тебе — сюрприз.
Адам слушает внимательно, по крайней мере пытается (перестать думать о Красавчике), чувствует, что его скорбь по Красавчику глубока и слишком неуместна рядом со скорбью пациента по самому себе, он открывает ящик, достает клоранксен и, вместо того чтобы самому принять таблетку, подает упаковку пациенту:
— Вот, принимайте, если вам вдруг сделается грустно.
Роберт берет их без энтузиазма и прячет в карман; ему вовсе не грустно, что придется умереть, ему больше грустно оттого, что он так мало в жизни пожил, концентрация жизни в его жизни была слишком низкой, чтобы было о чем скорбеть.
— А вы знаете, что мне сейчас подумалось: коль скоро я не жил, как мне хотелось, то хоть, может, умру по-своему… Сколько вы отпускаете мне времени, если не лечиться?
— Мало. Во всяком случае, времени без морфина.
Адам хотел сказать это торжественно, смотря пациенту прямо в глаза, но нет сил, он потупил взор, словно ученик, вызванный к директору; он не хочет, чтобы слезы в его глазах были неправильно истолкованы, они адресованы только одному человеку (Красавчику).
— В таком случае я должен как-то подготовить к моему уходу.
— Кого?
— Мою жену… Она страдает истерией, очень плохо переносит мое отсутствие.
Адам видит в пациенте то же самое глухое отчаяние, которое вскипает и в нем самом, — видать, в одном черном озере их искупали; такое отчаяние требует уединения, оно не любит свидетелей; Адам через пациента обращается к самому себе:
— Вы должны обрести волю к жизни… а я пока что в вас вижу сильную волю к смерти.
— Скорее интерес, любопытство… В конце концов, это будет мое последнее большое переживание.
Роберт смотрит в окно: качаются ветки, ветер несет какие-то несвоевременные хлопья снега, которые кружатся в воздухе, кружатся, будто хотят упасть на весеннюю землю как можно позже, чтобы не растаять сразу.
— Пан Роберт… Смерти пока еще никто не пережил.
Пробка гигантская, все находится в экстатической обездвиженности, даже водители перестали ругаться, вышли из машин, закурили, разговаривают, играют в карты; Роберт думает, сколько же времени должно пройти, чтобы они вернулись домой пешком, бросив свои машины на том месте, где они сейчас стоят, сколько часов нужно пробыть в пробке, чтобы понять, что на этот раз из нее выбраться не удастся, потому что наступил день Страшной Пробки, в которой стоят рядами живые и мертвые, а вернее, умирающие, ведь Роберт пока еще non omnis[7]; «еще» — теперь ключевое слово в его лексиконе, сегодня он еще живой, в нем еще много сил, он еще может постоять в уличном заторе и предаться размышлениям о собственных похоронах, его еще занимает собственная бренность: он пытается подсчитать, сколько народу придет на его похороны, десяток с небольшим, может, несколько десятков дальних родственников, кто знает, может, и будут там какие-никакие официальные делегации городских чиновников, которые смерть его соответствующим образом оценят и сочтут достойной короткого прощального слова, ну, допустим заместители шефа отдела культуры. Только заместители, потому что в общепольской газете появится заметка о смерти Роберта вместе с уложившейся в одно предложение информацией о некоторых из его самых известных книг, а шеф отдела культуры лично появляется на похоронах только тех, кому общепольские газеты посвящают по крайней мере колонку; сам президент города появляется лично только в похоронных процессиях, провожающих на кладбище останки самых выдающихся представителей культурного сообщества, таких, кто заслужил целое приложение в общепольской газете, специальное приложение, которое уже при их жизни ждет в редакционном архиве их смерти и на журналистском жаргоне называется «морг», или, если совсем игриво, «холодные ножки». С тех пор как популярность Роберта по его собственному желанию упала, хотя он и оставался, наверное, самым популярным непишущим писателем в стране, значение его возможной смерти можно оценить как умеренное; Роберт может рассчитывать на упоминание в общенациональной газете и на колонку в региональной, впрочем подготовленную как бы по знакомству, потому что в редакции у него осталось несколько приятелей, с которыми в свое время он упивался до чертей, а также одна знакомая секретарша, с которой он периодически сливался в экстазе; каждый год она оказывалась одной из первых знакомых женщин, которых он видел в весенней одежде, когда мартовский снег таял и освобождал асфальт тротуаров. Стук ее каблучков приветствовал приход тепла, и каждый раз, каждый год, когда Роберт с неослабевающим восхищением смотрел на ее ноги, оголенные до общепринятого, но невероятно высокого уровня, всегда внезапный импульс велел ему набирать номер ее телефона и проверять, не захочет ли она с ним традиционно сжечь Масленицу, и, хоть она никогда не проявляла такого желания, он благословлял ее за то, что она возвращала ему ощущение вечности циклического времени. На ее искреннее чувство, вызванное его смертью, Роберт все еще мог рассчитывать, равно как и на появление нескольких давних друзей по возлияниям, но смерть его никогда не смогла бы вызвать ни национального траура, ни бюрократических дебатов на тему присвоения его имени школам, улицам, библиотекам; его уход, несмотря на вероятное присутствие пары десятков людей на похоронах, был бы, в сущности, незаметным, несущественным, незначительным. Разве что Жена подкинет региональной желтой прессе привлекательный материал, устроив истерику над его гробом; лучше было бы этого избежать. Роберту хочется покинуть использованное тело, он не понимает, почему он должен умирать вместе с ним, почему не может просто выйти точно так, как сейчас выходит из ставшей бесполезной машины, пробирается между машинами, уже на тротуаре выбрасывает ключи в урну и ничуть не переживает, что именно он застопорил движение. Идет себе, проходит мимо — как раз мимо кладбища.
Он уже знает, что сделает все, чтобы похороны обошли его стороной.
Роберт предчувствует, что в случае вечного и неотвратимого отделения душа, даже если она не будет постоянно тосковать по телу, наверняка рано или поздно захочет вернуться к нему, ведь даже убийца возвращается на место преступления. Ему кажется невозможным, чтобы бессмертная душа могла оказаться столь бездушной и могла забыть об удовольствиях и страданиях, которые она поровну делила с телом в течение десятков лет; учиняемый смертью разлад не может не оставлять в душе тоску по ее земной оболочке, даже если тело оказалось бы руиной, годной лишь на снос, ведь даже костюм, который носишь всю жизнь, или дом, в котором всю жизнь живешь, невозможно бестрепетно бросить, не вспоминать во снах. Если душе будет сниться тело, из которого она высвободилась, то лучше, чтобы это тело было оставлено в достойном месте, не в семейном склепе на прикостельном островке смерти и не в кладбищенской толпе других душ, задувающих лампадки над своими гробами, а в широком и безлюдном пространстве, устланном тишиной, ласкаемом туманами, — под журчание струй, на семи ветрах, в сносной легкости небытия.
Роберту не хотелось разлагаться, ему хотелось развеяться. Вот он и входит на кладбище, чтобы развеять сомнения.
На скольких же похоронах он бывал, на четырех, может, на пяти, и на всех в молодости, потом уже не мог, не хотел, не находил в себе сил, боялся чужой печали и никчемности соболезнований, пустых обещаний сочувствия, которые раздаешь лишь для того, чтобы как можно скорее удалиться и не встретиться с заглянувшими в смерть глазами родных и близких покойника. Кладбище — это свалка памяти; Роберт никогда не понимал, почему разговаривать со своими покойниками люди приходят именно на кладбище; неужели им кажется, что душа не сумеет проникнуть через остатки праха, трухлявую древесину и землю, или на самом деле думают, что место у надгробия — единственная доступная трибуна, а может, верят, что их возлюбленные покойники лежат там вповалку и весело переговариваются с соседями, ожидая смерти очередного родственника, который уляжется тут же рядом; почему они позволяют ксендзам отпускать своих близких в последний путь со словами о прахе, а сами обрекают их гнить в сырости и темноте? Роберт терпеть не мог католических погребальных традиций плебса, экзальтированных светских танатологов, бредящих о воссоединении с праматерью, о смиренном обретении своего места в пищевой цепи: даже если нежелание стать кормом личинок мясных мух, червей, ниматодов, многоножек и других тварей божьих считать проявлением эгоизма, у Роберта на этот счет не было никаких угрызений совести. Если осталось в нем еще хоть что-то достаточно здоровое, что может пережить его на земле, придавая жизненности жизни других, он с удовольствием этим поделится; остальное он предпочел бы оставить при себе.
У Роберта практически не осталось воспоминаний о родительском доме (о нем лучше помолчать), а самое яркое из них связано с отдыхом на море, он там был только с матерью, а когда их навестил отец, то, прежде чем он, как обычно, успел раздуть пожар (тсс!!), они втроем пошли на пляж; Роберт помнит песчаный берег, устланный тюленеобразными телами человечьего стада, и беспомощность отца, который, сгибаясь под тяжестью складных лежаков, искал взглядом свободное место и спрашивал: «Ну и где нам приземлиться?» Сейчас Роберт останавливается над тем местом, где лежит отец и которое бабушка после двадцати лет тактично ему уступила; странно, что похороны бабушки Роберт помнит гораздо лучше, чем похороны отца, может быть, потому, что Роберт, что называется, мысленно отсутствовал, потому что думал о матери, о том, как она оказалась бы в этой толпе чужих людей, среди так называемой новой семьи отца; он думал тогда: хорошо, что мать не дожила до этого, хоть, может, и почувствовала бы облегчение (хватит! не дождетесь!). Бабушка умерла, когда лютовала зима; Роберт помнит ужас, только не помнит, в чьих глазах, во всяком случае кого-то, кто видел, что могила полыхает огнем: «Я-то думал, что это адский пламень дает о себе знать старухе, иду проверить, а это, оказывается, могильщики не могли взять смерзшуюся землю, так они, чтобы разогреть ее, жгли остатки чьих-то гробов на том месте, где лежал дед». И все так, один за другим, один за другим, хоть при жизни не всегда им было по пути; неподалеку могила дяди и тети, это другое дело, эти лежат вместе по собственному желанию.
Роберт помнит про тетку — что ее становилось все меньше и меньше: когда она научилась жить без одной ноги, рак перекинулся на вторую, потом ей удалили одну грудь, и, прежде чем она успела спросить дядюшку, не перестанет ли он любить ее, если у нее вообще не останется груди, новообразование сожрало ее мозг. Дядюшка продолжал бы любить ее, даже если бы от нее остался только голос, он всегда говорил, что любовь можно проверить очень просто: что ты предпочитаешь — голос этого человека или тишину; он говорил, что любить — это значит одновременно прервать разговор, чтобы послушать дождь. Дождь шел и во время похорон тетки, на котором дядюшки не могло быть, потому что он лежал в морге, ждал, пока священника убедят, что самоубийство он совершил от отчаяния после смерти жены, так что его нужно похоронить вместе с ней, даже если костел возражает, даже если приходской священник сомневается; дядюшка повесился на дверной ручке (Роберта всегда поражала техническая сторона этого предприятия, но он понял, что сила неупокоенной покойницы как бы потянула его за ноги), когда дети неосмотрительно оставили его на несколько часов одного — на следующий день после смерти тети — в полной уверенности, что он принял при них успокоительные таблетки (а он их выплюнул, потом нашли у него в кармане). В конце концов ксендза удалось уговорить, только могильщики ворчали, какого хрена тогда вообще было могилу засыпать.
Некоторые из могильных плит в жутком беспорядке, как раз в западной части кладбища, где открыли угленосный пласт, который на пару лет продолжил жизнь шахты, до первого тектонического удара; шахтеров хоронили уже в восточной части. Роберт среди частично упавших надгробных плит находит ту, с которой всегда сползали лампадки, зажигаемые школьными группами; похороны учительницы были первыми, в которых он участвовал, и самыми памятными, возможно по причине увиденного трупа, выставленного на всеобщее обозрение в открытом гробу. Многолюдность на похоронах обеспечила ее профессия, но, если не считать всех классов (парами, парами) и педагогического коллектива, проститься с ней не пришел никто; это были похороны очень старой девы. Она преподавала географию, о которой не имела глубоких знаний, мир старой девы не отличался широтой горизонтов, необъятность земных просторов глумилась над ней, раздражала количеством недоступных стран; в сущности, география была самым неподходящим для нее предметом, если принять во внимание, что из всех географических маршрутов она освоила только один — тропинку от дома до школы и назад. Порой, когда она прихварывала, группа школьников шла навестить ее, раз или два в эту группу назначали Роберта, который запомнил зияющее у нее отовсюду одиночество женщины, постоянно испытывающей стеснение от всего неофициального и спонтанного; она могла существовать только в униформе, только в роли наставника, во всем же личном она, казалось, терялась и смущалась — те же самые детишки, которые дрожали перед ней между звонками, нагоняли на нее страх вне стен школы; когда она не могла их приструнивать, ставить оценки, когда не могла ими командовать, она делалась совершенно беспомощной. Их посещения ввергали ее в замешательство, она сердилась, что кто-то нарушил интимное пространство ее одиночества, но не могла так просто им об этом сказать, ведь они были в определенном смысле официальной делегацией, она знала, что это такое неписаное правило, вроде как принести угощение для всего класса в день своего рождения; пребывая на больничном, она была вынуждена считаться с визитом школьной делегации, впрочем, всегда эти визиты предварялись телефонным звонком, и она могла приодеться, подкраситься, убрать все следы постыдных тайн старой девы — но никогда не удавалось ей спрятать той грусти, которая таилась во всей обстановке, в горшках с карликовыми фикусами, прихваченными ею из учительской, в крашеных стенах с трафаретным узорчиком, в настенном коврике с папой римским — единственным в этой квартире изображением мужчины, в диване, заполненном каштанами, чтобы хворь не взяла. Но тем не менее брала, все чаще брала; она преподавала почти до самой смерти, а после облучения — никогда не снимая берет.
Роберт доходит до ряда больших семейных склепов-памятников, среди которых торчит пугающая пока еще пустой массивной глыбой, но уже с достоинством возвышающаяся крипта Тестей; этот домик пока еще только ждет своих постояльцев, но за ним уже следят и чтут как самую ценную семейную реликвию; Тести выкупили себе место, которому не угрожают тектонические неприятности, в зоне, предназначенной для самых достойных граждан, и уже при жизни имеют свое место на кладбище с выбитыми именами, датами рождения и незаполненным пространством для даты смерти, уже приходят чистить его, полировать мрамор, промывать буквы с таким почтением, как будто не за камнем они ухаживают, а мумифицируют останки, каждую неделю, после каждого кислотного дождя, после каждого порыва ветра, засыпающего кладбище листьями. Вьют себе гнездо для последнего упокоения, гордые тем, что членов их семьи погребут не в могиле, а в склепе (особенно Тесть был чувствителен к словам, которыми его жизнь можно было бы превознести, облагородить), приезжают на кладбище, как на дачу, только как-то не по себе им оттого, что не могут официально приходить сюда на День Всех Святых, когда на кладбище самое большое скопление народа, чтобы принести сюда цветы и зажечь поминальные лампадки; люди приняли бы их за идиотов, потому что все знают, что склеп пока пуст, вот ведь несчастье при таком счастье, ну что ж, и так можно прогуляться, послушать, что народ говорит, как им завидуют, как, придавленные громадой и великолепием склепа, выражают восхищение и перешептываются о том, как должно быть хорошо лежать в такой прекрасной усыпальнице, господской, королевской, здесь тебя землей не присыпают, только кладут на каменный катафалк, такой склеп невозможно не заметить, таким склепом невозможно пренебречь, в его тени можно укрыться от жары и дождя, а сколько он должен стоить, лучше не спрашивать; Тести любят послушать украдкой, но предпочли бы оказывать кому-нибудь посмертные почести в блеске фотовспышек; а что, если оба они происходят из семей долгожителей, да и, кроме того, бабушки и дедушки вбили себе в головы, что желают лежать на далеких от городской черты кладбищах, особенно родители Тестя, отнюдь не гордившиеся политической карьерой сына; они не захотели лежать в одном склепе с ним, мать Тестя, хоть и дышит уже на ладан, умеет так огрызнуться, что ее лучше не трогать, не то такого наворочает, а СМИ только того и ждут, особенно после того, как она сказала, что ей претит сарматский балаган сына под крестоносно-католический аккомпанемент невестки, и, если бы кто-нибудь из СМИ до нее дорвался, она по полной программе скомпрометировала бы Тестя, хотя бы своими рассказами про то, как пела над колыбелью сына «Интернационал», как повязывала ему на шею красный галстук, когда он шел на первомайскую демонстрацию; оставим в покое родителей Тестя, пусть живут как хотят и делают что хотят, лишь бы сидели тихо и не высовывались.
Роберт смотрит на стену склепа и не верит собственным глазам: рядом с именем и фамилией Жены он видит свои имя и фамилию. Должно быть, долго решались они на такой шаг, буквы выглядят недавними, вырезаны другой рукой, а еще на Роберте, кроме звездочки и даты рождения, успели поставить крестик.
9
Чтобы это было в последний раз, это недопустимо, такая ситуация больше нетерпима. Господин Муж настаивает, уговаривает, объясняет, что дом является объектом охоты фоторепортеров, что Роза больна и что нельзя так бессовестно пользоваться ее слабостями, что в собственном доме стало совершенно невозможно спать; тогда спите где-нибудь еще, слышит он, или наконец уезжайте и перестаньте всех обманывать, слышит он, только ведь ты никогда не сделаешь этого, потому что ты сволочь, слышит он; Господин Муж не потерпит такого тона в собственном доме, тем более что жена еще спит; Господин Муж слышит, что он не должен при любовнице называть жену женой, теперь уж ясно, что он никогда не разведется, он слышит также хлопанье дверцы и шум мотора отъезжающей машины. Слишком много шума; он заглядывает в спальню, Роза спит, Господин Муж и впрямь обессилен, он с удовольствием лег бы рядом с ней, вот только немного освежится. Он устанавливает в ванной зеркала так, чтобы было видно спину; ну вот, есть следы, на ягодицах тоже, но у Господина Мужа не может быть претензий, разве не его теория, что без когтей нет кайфа, что коготки должны работать, даже раздирать до крови, подсыпать в любовь щепотку боли — самое то: она его царапает, он тянет ее за волосы. В то время как их гениталии утопают друг в друге, Господин Муж любит пошалить, называя вещи своими именами, любит быть в постели разнузданным, но если при Розе он вынужден следить за словами, то любовница позволяет ему выговориться; вульгаризмы как специи, он любит в минуты страстного сотрудничества нежно назвать ее шлюхой, сукой или еще как-нибудь (чем самозабвеннее клянет ее, тем скуднее набор прозвищ), но сколько в этом пикантности: любовница горда тем, что именно с ней господин директор банка практикует так называемый хищный секс.
Роза стоит в дверях ванной и внимательно разглядывает Господина Мужа, который восхищенно изучает свои раны, будто новую татуировку; Роза не понимает того, что видит, нервничает, она только что проснулась, а тут уже новый повод заснуть.
— Боже милостивый, подкралась, точно упырь какой! — Господин Муж замечает, что его заметили, она испугала его, а кроме того, схватила его с поличным, он, словно только что выпавший снег, весь покрыт следами, и все следы ведут к любовнице, невозможно укрыться, нельзя оправдаться; Господин Муж знает, что должен сделать жене жесткую перезагрузку с самого утра, но ничего не поделаешь, она проснулась раньше обычного, это все из-за громкого разговора. И снова она обнюхивает его:
— Чей это запах? Кто здесь был? Что здесь происходит?
— Успокойся. Не порть нам день с самого утра.
— Но я чувствую… От тебя кем-то воняет… Кто тебя так расцарапал…
— Послушай, я из-за тебя опоздаю на работу, не устраивай сцен, а то снова упадешь, а у меня нет времени заниматься тобой.
— Зачем ты так со мной поступаешь? Ты мерзавец…
— Ты меня оскорбляешь, а после даже не помнишь этого.
И вот уже Господин Муж поддерживает ее, чтобы она не ударилась головой о кафель, берет Розу на руки и несет через порог в спальню. Кладет ее на постель, прикрывает; минут примерно через пятнадцать у Розы снова появится возможность встать, на этот раз с правой ноги, Господин Муж тем временем примет душ и оденется (сегодня обязательно водолазка, иначе следы не скроешь).
Какое счастливое пробуждение, лучи солнца врываются через щели в жалюзи, мелкая пыль танцует в воздухе, Господин Муж насвистывает в ванной, Роза потягивается и встает, надо приготовить завтрак. Минуту спустя Господин Муж уже при полном параде, застегивает портфель, снова переборщил с Hugo Boss’om, сколько раз объясняла ему, что достаточно нескольких капель на шею, Роза проверяет, взял ли носовой платок, Господин Муж спрашивает, как ей спалось (лучше бы язык прикусил), поцелуй, хорошо, поцелуй, как всегда хорошо, любимый, Господин Муж уже спешит, весь в работе, в последнее время говорит о нескольких важных сделках, от которых многое зависит, поэтому уходит рано и возвращается поздно, вот и сегодня, возможно, тоже, так что, в случае чего, пусть Роза не печалится, потом они свое возьмут, уедут, никакого ноутбука, никаких мобильников, Господин Муж обещает дом в Тоскане, кьянти в тени кипарисов, долгие беседы и страстные поцелуи, но теперь ему надо лететь, чмок-чмок, пока, нет, бутербродов не надо, он что-нибудь перехватит в буфете или вообще устроит сегодня разгрузочный день, чтобы к ужину как следует проголодаться, нет, нет, Роза, не говори, что собираешься приготовить, пусть это будет сюрпризом.
Сегодня в плане своеобразный тест потребителя; с некоторого времени Роза обогащает меню, если можно так выразиться, целенаправленно, она готовит блюда из афродизиаков, веря в то, что, вкусив этой пищи, Господин Муж совсем потеряет от нее голову; оно конечно, Господин Муж ежедневно получает с едой кардамон, калган, скополию, женьшень и прочую дребедень, но отнюдь не из-за них он иногда ходит сам не свой и чувствует, что его переполненный жизненными соками дружок беспрерывно посылает в мозг сигналы; факт, что у Господина Мужа случаются такие дни, когда он переходит на ручное управление уровнем адреналина в промежутках, свободных от бизнес-встреч, — и не любисток тому причиной, просто Господин Муж позволяет себе припудривать нос (голова остается трезвой, а средств на кокс класса люкс у него достаточно), понятно, не каждый день, он умеет держать интервал; Господин Муж удивлен, что Всемирная организация здравоохранения не выступает с рекомендациями раз в пару дней вдыхать чистый снег; ведь бывает так, что человек просыпается утром с тяжелой головой, а контрагенты уже выстроились в очередь, но Господин Муж не может позволить себе вытянуть пустой билет, перед началом рабочего дня он смазывает в себе все шестереночки, и бывает, что двойного эспрессо недостаточно, когда обстоятельства вынуждают подольше сохранять активность.
Сегодня в качестве основы будет студень из костного мозга; таксист привез кучу костей, думая, что готовится праздник для собачки, нет, уважаемый, это для мужа, что вы так удивленно смотрите? Роза высыпает кости на стол, их надо разбить тесаком, Роза знает, как справиться, это не займет много времени, впору задаться вопросом: зачем все это надо? Доктор велел сосредоточиваться на какой-нибудь деятельности, чтобы отгонять мрачные мысли, но что делать, если вопрос «зачем» начинает тормозить движения? Роза откладывает кости и принимается за что-то новое, она хочет врезать, втереть, вбить в котлеты вопрос «во имя чего?». У нее не получается это, она добавляет вино к воде в кастрюле, ставит ее на медленный огонь, но ответа на вопрос о смысле нет и там.
Роза усаживается на табурете и смотрит на кухонный раздрай, все меньше видя; она не знает, куда девалась ее жизнь. Она даже не знает, когда ее потеряла.
Господин Муж пытается найти точное определение для того состояния, в котором он оказался: он обескуражен, нет, это слишком слабо, «расстроен» тоже звучит недостаточно остро, может, «сбит с панталыку», да знать бы, что это за панталык за такой; «дезориентирован» — о, это уже лучше, точнее, но поищем еще, разглядывая вместе с Господином Мужем, как парни на веревках снимают самый большой билборд в городе, лицо большого формата искривляется в гримасах, когда большое полотно, неравномерно выгибаясь, сползает вниз, еще мгновение — и Роза, свернутая в рулон, ляжет на мостовую. Господин Муж ничего не знает о причинах; парни тоже не знают, они получили халтуру и рады, им оплата идет от метража, сегодня они снимают, завтра будут клеить тоже какое-нибудь лицо, но они даже не знают, чье конкретно. Господин Муж опечален, а заодно напуган, он хотел бы об этом поговорить, выяснить, окончательно ли Роза перестала быть лицом большого формата, или это результат лишь временного падения ее популярности, а не знак ли это крушения ее карьеры, но кого, где спросить, с кем поговорить, люди, ау, плакаты с моей женой убирают, не знаете, что бы это значило? Господин Муж должен выкроить время, чтобы все обдумать, проанализировать, может, обществу стали известны какие-то негативные факты о Розе, может, ее болезни был придан какой-то негативный контекст и общество перестало сочувствовать, или уход из сериалов ослабил ее имидж, или явное снижение появляемости в СМИ и посещаемости тусовок вызвало падение узнаваемости и в результате привело к снижению показателей продвижения продукта; странно, но Господину Мужу не по себе именно сейчас, когда Роза перестает на него смотреть во всех ключевых и стратегических пунктах города, хотя раньше коллеги куртуазно шутили, каково должно быть мужу, жена которого глядит на него изо всех мест одновременно. Господин Муж чувствует себя ущербным, приниженным, будто у него срезали погоны, это задевает его лично, как же ему теперь вести переговоры под злобные ухмылки и шепотки, он даже не знает, что ответить, если вдруг кто спросит якобы для разрядки атмосферы, так, между прочим, чтобы отвлечься от напряжения деловых переговоров: «А как здоровье уважаемой супруги? Мы заметили, что плакаты поснимали… Наверняка будут менять на более новые, наверное, что-то новое готовится с ее участием, не так ли?» Господин Муж представляет себе десятки разных способов, какими потенциальные контрагенты могут отреагировать на исчезновение лица самого большого формата с городских стен, он заготавливает десятки ответов, которые смогли бы позволить ему удержать нервы в узде и сохранить сильную позицию в переговорах, но он знает, что шансов никаких, этим бизнесом управляет дьявол, этот интерес питается подробностями, лицо Розы, смотрящее с билбордов, было серьезным атрибутом успеха; напротив офиса Господина Мужа тоже висело ее изображение, и, когда переговоры шли вразрез с его планами, он прерывал их вроде как для того, чтобы косточки размять, открывал окно и как бы между прочим, для разрядки атмосферы, обводя взором город, показывал на билборд, а вон моя жена, простите, совсем забыл, что должен был позвонить ей, и это производило впечатление, Господин Муж выходил на минутку вроде как позвонить домой, а потенциальные контрагенты подходили к окну и понимающе кивали; демонтаж портрета Господин Муж так легко им не объяснит, тем более что не может объяснить это себе самому.
— Как, уже сегодня? Ну да, действительно… Нет, ничего, просто истек срок договора, закончился контракт, ты ведь знаешь, что новый контракт я не подписывала… Ты будешь сегодня пораньше или опять очень много работы? Как это не ждать с ужином… Мгм… понимаю… Я, конечно, все понимаю, но…
Роза бьет по трубке кулаком. Господин Муж сегодня выговорил себе право на беспрецедентно позднее возвращение и разъединился, прежде чем она успела выразить протест. Перед Розой еще один свободный день, домашняя фауна видит утомленность хозяйки и, вздыхая, снова кладет голову на лапы, с хозяйкой в таком состоянии нет шансов на прогулку в лесу, хозяйка в таком состоянии самое большее почешет тебя за ухом и начнет жаловаться, ну вот, начала:
— Опять нас с тобой хозяин оставил… И что нам теперь делать… Псинка любимая… Тебе-то хорошо…
Роза знает, что для человека нет ничего более угнетающего, чем привычка мириться с тем, что тебя не любят, принять это как нечто должное, естественное, как правило, лишь изредка подтверждаемое исключениями. Тогда каждое утро приходится снова и снова убеждать себя в том, что даже самые простые вещи имеют смысл; сразу после одинокого пробуждения в слишком широкой постели обратиться к себе со словами медсестры, которые та говорит доходяге-пациенту: «А теперь встанем, откроем окно, проветрим квартиру, умоемся»; Роза боится, потому что со временем дело может дойти до того, что, испуганная внезапной бездыханностью, она будет вынуждена по нескольку раз на дню напоминать себе: «Ой, мы должны дышать, если перестанем дышать, то больше не поживем, а ведь так хочется хотя бы еще немножко, несмотря ни на что, а?» Нелюбимым мало что удается, их неживая жизнь порастает плесенью, их души задыхаются. Розой восхищались, восторгались, ей поклонялись, но в поисках любви она была вынуждена столкнуться на своем жизненном пути с Господином Мужем, теперь столь жестоко отсутствующим; у нее стало больше времени, чем жизни. Она дала имена всем цветам, она разговаривает с ними каждый день, но они все равно гибнут; Роза не знает, что с ними происходит; она, не видя смысла держать их на голодной диете, упорно подливает им воду, но они увядают (смерть сначала откладывает яйца в цветочных горшках, потом настает время проклевывания из яиц, ветер распахивает ночью окна, трескаются зеркала, кто-то уходит из жизни, опадают лепестки). Она гадает на опавших лепестках. Ее клонит в сон, но от сна она устает еще больше. Когда человек спит в одиночку, лезвие дней отрезает от него кусочек за кусочком.
Господин Муж возвращается перед рассветом, ему тоже приходится нелегко: одна стережет, чтобы он с ней засыпал, другая — чтобы с ней просыпался. Снимает ботинки, гладит зевающую собаку, которая пришла поприветствовать хозяина, помахать хвостом и теперь потягивается. В кухне горит свет, Роза забыла погасить? Нет, сидит за столом, наверное, заснула, вид такой, будто из последних сил ждала его к обеду; над едой летает муха. Господин Муж берет тарелку со студнем, вздрагивает, смотрит на Розу; боже, она не спит, у нее открыты глаза! Или спит? Машет рукой у нее перед лицом, нет реакции, даже не моргнула; Господин Муж боится дотронуться до нее, может, она уже холодная. Минуточку, в конце концов, смотрит она на него или нет, может, это она спит так, с открытыми глазами, и не такие вещи случаются; Господин Муж делает несколько шагов влево, несколько шагов вправо, но он все еще не уверен, смотрит на него Роза или нет, или это всего лишь оптический обман, как в музее, когда портрет, кажется, смотрит на посетителя.
— Я не спала из-за тебя всю ночь, — говорит Роза и поражается услышанному: оказывается, испуганные мужчины точно мальчишки: от страха они кричат фальцетом.
10
Красавчик мой, Красавчик, зачем ты покинул меня.
Адам изгнан из себя; его тело лежит и поносит его: сам виноват, сам довел до изгнания; у него нет сил поднять руку, он тяжело дышит, лежа на спине, и ждет, пока не полегчает (надо лежать, иначе вырастет горб, ожидание — камень на шее, от которого растет горб). Он абсолютно недвижим, он теперь чувствительный, как сейсмограф, он замечает малейшее дрожание, духи боятся прятаться по углам, потому что каждый скрип половицы привлекает его внимание. Весь дом содрогается до основания регулярно каждые полчаса, когда автобус проезжает по дырявому асфальту, рюмки и стекла в буфете звенят, стукаясь друг о друга, фаянсовая чашка каждый раз перемещается на несколько миллиметров к краю. Каждый день, вернувшись с работы, Адам заводил будильник и передвигал чашку вглубь буфета; теперь имеющиеся в квартире часы больше не отмеряют время, а фаянс опасно близок к краю (вот сколько всего происходит, когда ничего не происходит; все еще существуют моменты, которые сейчас отвлекают его: сколько автобусов должно еще проехать, чтобы чашка преодолела край полки и упала; а упав, она разобьется вдребезги или распадется на несколько кусков, а может, она так удачно упадет, что не пострадает; подождем: если вдребезги, то Адам больше никогда не увидит Красавчика, если на куски — будет его видеть, но ничего ему это не принесет, кроме страданий, а если чашка останется целой — Красавчик вернется). Единственный повод, из-за которого Адам не хочет умирать, — это страх перед тем, что человек, говорят (может, оно и на самом деле так), перед смертью видит еще раз всю свою жизнь; как, должно быть, это тяжко для самоубийц: только захотел прервать просмотр тяжелого фильма перед самым концом — так нет тебе, просмотри еще разок с самого начала. Кто только придумал такую пытку? Тишина, за окном лает собака, за стеной лаются соседи, чьи-то разговоры, кто-то моет посуду, над потолком шум, стук, пение, выскользнуло мыло; да, жизнь повсюду клубится, и так бестактно. Зачем, о Красавчик, ты покинул меня? Такой болезненно-далекий, зачем ты лицо свое отвратил? Кишки и те никакого уважения не имеют к его немому отчаянию — как тут умирать от тоски, когда в животе урчит. Адам хотел бы самому себе умилиться, умереть гордой голодной смертью, а тут такое обыденное урчание, громкое, бессовестное; Адам пытается быть выше ворчания пустого желудка, выше его скорбной песни, ведь он поклялся сохранять тишину и неподвижность; но автобус проезжает, чашка падает, Адам срывается с постели и смотрит: чашка упала плашмя, внешне вроде осталась целой, только треснула в нескольких местах, но, если ее тронуть, как пить дать развалится на куски. Адам заволновался, задвигался, удержаться невозможно, Красавчик ведь где-то есть, если его можно еще хоть раз увидеть, услышать, коснуться, нет такой цены, которую не стоило бы за это заплатить. Адам заглядывает в кухню, в раковине высится гора грязной посуды, он берет стакан из-под сока и смотрит на муравьев внутри. Обнюхивает себя и не узнает собственного запаха; значит, правда, что если человек не моется несколько дней, то к нему возвращается его первоначальный запах, и это не вонь потного тела, а какой-то животный, стайный, слегка мускусный запах, теперь он знает, что в нем убивает мыло и дезодоранты, и сразу вспоминает запах Красавчика, которому случалось завалиться в постель сразу после его уличных походов, и тогда от него пахло улицей, как будто кожа схватывала и удерживала все, чем за день успевала пропитаться: кокс, помойка, терриконы, вонючие подворотни, бычки, старый матрас, на котором танцуют парни, кожура от апельсина, уворованного с вокзального лотка, смрад сточных вод с соседней станции аэрации. Нет его, нет нигде, темная ночь спустилась в самый полдень; коричневая вода течет из труб. Адам слышит звонок, хватается за телефон, но это кто-то из больницы беспокоится, интересуется, требует объяснений и оправданий отсутствия. Адам не реагирует. Он наблюдает за муравьями.
Мать всегда говорила: если тебя что-то гнетет, начни с того, чтобы навести вокруг себя порядок, тебе может показаться, что все и так чисто, все и так убрано, но присмотрись повнимательнее и всегда найдешь какие-нибудь невытертые полки, скопления пыли на шкафах, паутину под обивкой стульев, а если даже вчера последнего паука ты всосал пылесосом, пол блестит от мастики, окна такие чистые, что птицы бьются в них, а грусть тем не менее не отпускает тебя, принимайся за наведение порядка в порядке, даже если бы это свелось к простой перестановке стульев с места на место, перестановке книг на полках, и ты обязательно в конце концов наткнешься на не замеченный тобою ранее островок грязи и обрадуешься ему, верь мне, сынок, если тебя что-нибудь удручает, принимайся за уборку, и тогда ты подготовишь себя к наведению порядка в себе самом. Адам окидывает взором бардак, не знает, с чего начать; ботинки уже кричат «почисть нас», но он не может собраться с духом. Он так долго лежал, что даже соскучился по сидению, присел на табурет и почувствовал перемену. Он знает, что ему надо приняться за работу, но у него не хватает духу, однако он уже начинает ощущать его отсутствие. Ладно, хоть так. Он начинает с уборки мусора. (Выглядит Адам неважно, и, когда он выносит мусор во двор, бомж с мешком собранных по помойкам бутылок принимает его за конкурента: «Вали отседа, сынок, енто моя территория. Без тебя все уже собрано».)
Сердце у него раздулось; за что он ни возьмется, оно давит на него, будто захватывает в теле все новые и новые пространства, обустраивая оккупационные зоны во всех органах: печень, почки, кишечник, легкие превратились сейчас в сердца, в каждом уголке тела гнездится сердце и болит, делая шаг медленным, дыхание неглубоким, лишая аппетита; все внутренности, вместо того чтобы выполнять свои первоначальные функции, пульсируют, а сердце, вместо того чтобы биться, убивается; к черту такое сердце, которое не бьется, как ему положено, а выстукивает ритм безвозвратной потери. Что-то в нем необратимо сдвинулось, возникло какое-то роковое тектоническое несоответствие, разлом, после которого Адам перестал соответствовать сам себе. Он выходит из себя, чтобы не выйти на поиски Красавчика, но каждая неудачная попытка отвлечься выводит его из равновесия. Как это вынести, как из этого вылезти? У Адама не осталось сил на наведение порядка, он лишь возвращает себе видимость порядка ровно настолько, чтобы смочь выйти из дому (и встретить Красавчика), чтобы снова оказаться (с Красавчиком) среди живых.
Красавчик крутится самозабвенно, пацаны смотрят на него удивленно, в такой форме давно его не видали, бейсболки долой, это что-то новое, прикольная композиция, и эта музыка, латино, она как-нибудь называется?
— Йерва кубана, — отвечает Красавчик, возвращаясь в нормальное душевное состояние; он с удовольствием кому-нибудь набил бы морду, потому что даже от танца у него не прошла та скука, которая напала на него, как только он свалил от докторишки. У того, по крайней мере, были хоть какие-то условия и спокойствие, у матери он уже при входе споткнулся о пустые бутылки и растянулся во весь рост — чудо, что не порезался, на кухне грязь, все липкое, о том, чтобы помыть посуду, нет и речи, а стаканы здесь без надобности, старуха лакает прямо из горла, от раковины несет мочой, потому что туалет на лестничной клетке, и как компания напьется, то им далеко ходить влом, а кроме того (и так уже бывало), выберется мать или кто-нибудь из вечно пьяных ее собутыльников в сортир, так ключом не могут попасть в замок и льют прямо на лестницу, соседи уже жаловались администрации, Красавчик еще тогда заступался, ручался, говорил, зачем, дескать, вам затевать ее выселение, подождите чуток, скоро у нее почки откажут и она вообще перестанет ссать, и даже дышать, но мать оказалась крепким орешком, хоть и живет в грязи, но ни денатурата, ни еще какого химического говна в рот не возьмет, она — королева паскудного района, самые опустившиеся бомжи приходят к ней с бутылкой, чтобы титьки потискать, у нее двери всегда открыты, кто хочешь — заходи, украсть уже нечего, мать, расхристанная, приглашает к нескончаемому застолью, лакают, икают, рыгают, засыпают, просыпаются, чем-то заедают, в магазин выйдут (неохотно, от выпитого у них непереносимость солнечного света) и снова то же; иногда кто-нибудь достанет свое опавшее тряхомудие, и старуха мучит его, терзает, но безрезультатно, на этой малине происходят оргии, переходящие в агонии, алкоголики в состоянии умирания теребят друг у друга давно не действующие органы, потому что как сквозь сон помнят доциррозные времена, когда пьянка сопровождалась дамско-мужскими заигрываниями, времена, когда они были способны переживать и другие, кроме как скорая опохмелка, виды удовольствия. У Красавчика есть своя отдельная комнатка через стену с комнатой матери, откуда по утрам выходят какие-то призраки и просят одолжить пару злотых; Красавчик ненавидит их, поэтому не одалживает, но дает заработать: пойдешь в магазин на четвереньках — получишь пятерку, а если к тому же на поводке — целую десятку; они знают эти его приколы, иногда приходят по двое сразу, чтобы хватило на пол-литра, Красавчик тогда ведет до магазина на углу пару человеческих собак, но и эти забавы перестали тешить его, потому что алкаши давно забыли, что такое унижение, и достоинство пропили еще раньше, чем здоровье, днем зарабатывают себе разными пьянчужными способами: когда углядят кого-нибудь нового в баре, спрашивают, поставит ли им пиво, если съедят его кружку, или, когда от зубов осталось только воспоминание, прохаживаются под линией фуникулера, у людей из карманов всегда что-нибудь да выпадет — иногда мелочь, а бывает, что и весь кошелек, но это заработок неверный, сезонный и отнимающий много времени, так что лучше всего что-нибудь вытянуть из парня, Красавчик — добрый вор, непьющий, у него при себе всегда что-нибудь есть, правда, иногда он любит подурачиться, прежде чем добавит до бутылки. Красавчику не больно-то охота возвращаться в грязь, у доктора он мог, по крайней мере, нормально помыться, у матери ночью тараканы из щелей лезут, а по утрам пропойцы пристают к нему, клянчат деньги, Красавчику больше не хочется туда входить; смрад пьяного пота, дешевого курева, выпивки, пролитой на линолеум, начинают отступать под напором смрада смерти, которая, вместо того чтобы прибрать к себе какой-нибудь из этих человеческих останков, позволила втянуть себя в беспробудное питье, — того и гляди, ее саму пошлют в магазин за выпивкой; Красавчик не знает, что он сказал бы стучащей в его дверь смерти, явившейся попросить пять злотых; он предпочитает мыться в своей комнатке над раковиной с краном, из которого идет только холодная вода, ему снова придется сбрить все волосы на голове, потому что немытая голова чешется, особенно ночью, спать невозможно; короче, тоска безумная — вроде как докторишка фраер, пидор, петух, но давал Красавчику что-то вроде ощущения нужности, а теперь черт знает что внутри, вокруг и вообще, и отплясаться от этого не удастся, йерва кубана; может, какой-нибудь скачок поправит дело?
(Адам видит, что Красавчик кончил танец и прощается с приятелями, стало быть, надо поскорее ретироваться и замаскироваться; Адам пока не готов заговорить с Красавчиком, он только выследил его и наблюдает за ним из укрытия, пытается высмотреть свой шанс.)
— Дзяра говорил, нехрен мелочиться — если что тырить, так сразу крест с Гевонта[8], и в металлолом…
Приятель Красавчика, погоняло Лютик (если уж начнет мордовать, то по лютости своей не остановится, а рука у него тяжелая — Красавчик бьется об заклад, что он первым из всей компании получит пожизненное, статья сто сорок восемь, параграф два, пункт первый, тем более что лютостью он воспламеняется исключительно легко, и, если его не успеют от кого-нибудь оттащить, пиши пропало), его не оценили по достоинству за дерзкую кражу сабли с только что поставленного памятника; Дзяра, шеф и авторитет по части того, как красть, чтобы было выгодно, все еще брезгует металлоломом и о Гевонте сказал вроде как в шутку, но в сознании Лютика чувство юмора не ночевало, он не понимает, что такое шутка, кое-кому об этом болезненно напоминают свернутые набок носы и поломанные нижние челюсти, но тут ничего не поделаешь: он уже намылился, уже проверил по карте, далеко ли Закопане. Красавчик не знает, как ему объяснить, что дело это нереальное, что лучше подумать, как ловчее обрабатывать чуваков на перронах именно теперь, когда вокзальная полиция сменила кадры и усилила контроль, и все из-за того, что перед реальной угрозой отставки утопающий воевода схватился за соломинку и стал изображать из себя мэра Джулиани: акция «Непримиримость» или что-то в этом духе, так что воровство теперь хлопотное ремесло, а бросить силы на металлолом — нормальная тема, все по закону, металлолом могут собирать и пенсионеры; Лютик, да уймись ты с этим своим Гевонтом.
Адам уже созрел, пусть не до разговора, но до того, чтобы стать лицом к лицу, до прямого, испытующего взгляда, — теплится что-нибудь еще в Красавчике, что можно было бы раздуть, или только пепел остался; надо убедиться, тем более что Красавчик в последнее время показывается с каким-то мерзким лысым качком; Адам не думает, что в Красавчике произошел резкий перенос чувств, но опасается, что рослый мерзавец-бугай в спортивном костюме с мясницкой грацией прикончит остатки мальчишества в Красавчике, что от Красавчика останется только мужчина, топорно вытесанный из мальчика, который будет белые кроссовки начищать зубной пастой, обривать голову, колоться стероидами до тех пор, пока его член не размякнет и не опадет; нет, к Красавчику близко таких типов подпускать нельзя. Адам выходит им навстречу и, замеченный Красавчиком, не отводит взгляда и, проходя мимо, даже слегка прикасается к нему, на что Лютик недоуменно реагирует, почему, дескать, Красавчик не ответил на унизительное прикосновение какого-то пидора:
— Эй, старик, да ты чё в натуре? Знаешь его, что ли? Кто таков?
— Да не знаю я, хрен какой-то. Мне на каждого теперь внимание обращать, гнать куда подальше? Ты бы, Лютик, лучше держал себя в руках, а то, блин, чуть что — сразу в эмоции.
Адам еще глядит им вслед, но только этот ужасный накачанный бронированный бык враждебно зыркает на него, Красавчик прибавляет шаг, но бросает мимолетный, как некогда, взгляд на Адама, взгляд мальчика, а то и мужчины. Адам дал бы руку на отсечение, что не было в его взгляде ни гнева, ни презрения, а лишь удивление и страх; Адам уже все понимает — не время и не место, но они наверняка встретятся еще раз, чтобы поговорить, а значит, и послушать, вслушаться друг в друга; Красавчик существует, не все еще потеряно, это еще не пепел, но уже и не пламя, а скорее дым.
Лютик никак не может пережить, что Красавчик лишил его повода для маленького мордобойчика, а чё, ведь неприкрытая ж провокация, можно было фраерка проучить, научить, как надо ходить по улицам и кому в первую очередь следует уступать, научил бы его кодексу пешехода, правилу преимущественного прохода; какой-то Красавчик мягкий сделался в последнее время, нехорошо.
Действительно, нехорошо, Красавчику не по себе, он боится: Адам снова его коснулся, и что-то тревожное и приятное в нем проснулось и стало расти, когда они оказались рядом; Красавчик чует, что от этого нет спасения.
Красавчик больше не хочет быть мелким воришкой, ему надоела жизнь шестерки, пешки, надоело ездить зайцем в трамвае; если более оборотистые коллеги возят свои жирные жопы в «поршах», хватит с него вечного бегства от мусарни, когда более успешным приятелям городская стража в пояс кланяется; хватит жить через стену с матерью, которой он, блин, стесняется, когда у некоторых парней уже свои дома с бассейном; хватит, пришла пора отколоть номер, который позволил бы ему добиться независимости (или как вариант — срока, но эту мысль Красавчик от себя гонит). Тем временем доходы резко упали, потому что во все экспрессы понапихали агентов в гражданском, — новый метод, не знаешь, где сидит фазан, такого можно по ошибке принять за фраера и сунуть руку не в тот карман, и тогда вместо денег браслеты — и в каталажку, а там эти суки, если кого поймают, не цацкаются, руки сзади стянут так, что у клиента потом паралич, стакан в руках не удержит, к этому еще психическая обработка: дескать, у арабов ворам руки отрубают, так что нечего скулить; но ничего, «Интерсити экспресс» можно на какое-то время оставить, в обычных пассажирских попробовать, но тоже осторожно, потому что охрана порасклеивала листовки-предупреждения, люди начитались и запаниковали, каждый руку на кошельке держит, чуть ли не змей прячут в карманах; похоже на то, что приходит конец вокзальной работы, слезы наворачиваются, столько времени такие легкие деньги, всем хватало, а со сколькими сдружила такая работа, а теперь вся гоп-компания рассыпалась по остановкам, по рынкам, стадионам, каждый работает только на себя; Дзяра тоже злой, потому что у него дело падает, но он подкован на четыре ноги, у него команда, собирающая в центре дань за крышу; уютненький бордельчик в пригороде открыл, пока что одни украинки, но загримированные под таек, по пьянке и в потемках легко можно спутать, а уж как пойдут с девочкой в номер — обратного пути нет, сто пятьдесят за час, платить вперед на входе, так что Дзяра продолжал вокзал пасти только из сантиментов и экономического принципа диверсификации источников дохода; что правда, то правда, надо быть всесторонне развитым, время такое. Красавчик ведь сам добровольно попросился, чтобы, в случае чего, Дзяра о нем вспомнил, а тем временем готовится совершенно особый номер: Лютик, психофанат Зеленых, верный и солидный завсегдатай сектора болельщиков, один из самых задиристых фанатов, нарезающий на руке зебру после каждой победы, убедил начальство своей команды, что не должно быть так, чтобы у Красных, их извечных соседей-противников, были богатые спонсоры, а если конкретно: на ближайший матч должны приехать несколько бизнесменов, готовых инвестировать в клуб; Лютик вызвался организовать такой слэм, чтобы все спонсоры со страху сделали под себя и навсегда расстались с мыслью о футбольных инвестициях; Красным надо устроить закрытие стадиона и устрашение бизнесменов, нельзя допустить, чтобы наша любимая Зелень валандалась во второй лиге, а гребаные Краснушники сколачивали себе команду на кубки, — ни за что; в общем, Лютик ищет людей для перемаха, и план таков: перед матчем каждому на разогрев бесплатная амфа, к концу первого тайма сбор внизу сектора — типа чтобы флаг повесить, потом поджигаем на изгороди шарфы Красножопых, натягиваем шапки с прорезями для глаз и выбегаем на поле, бежим в сторону вражеского сектора и, как только менты вступят в дело, врезаем им и ждем поддержки; как только прозвучит: «Отстань от болельщика, сука», другая часть нашей банды ударяет в кордон со стороны крытой трибуны, важно подобраться как можно ближе, чтобы у всех випов стало мокро в портках, по пути тотальный погром, вырывание сидений, переворачивание туалетов, ну и важно, чтобы те, кто на поле, перед уходом подожгли траву, распердуха должна быть очень зрелищной, такой, чтобы Красные потом собирали на ремонт стадиона, а не на кубковый состав. Красавчик не спрашивает, что ему перепадет со всего этого, понятное дело: речь идет об идее, во-первых, АСАВ[9], во-вторых, ПФС[10], в-третьих, старая блядь Краснуха, в-четвертых, единственная моя любовь — Зелень, а вообще, в случае чего, риск для него минимальный, к тому же в камере приятнее, чем на хазе у матери, да и кормят регулярно и бесплатно, в любом случае больше чем на сорок восемь часов не посадят и заметают только исключительных лохов, видеокамеры ему тоже не страшны: даже если Красавчик получит пожизненный запрет входить на стадион, он всего лишь наемный исполнитель-гастролер, сам на матчи не ходит и это его никак не колышет. Другое дело Лютик — тот сломался бы, повесился на розе[11]; ну тогда он устроит бойкот лиги, ноль поддержки на все игры, только плакат с надписью «Зеленые — это мы, а не вы», правление этого не выдержит, смягчится, отменит запреты; разве можно так обижать самых верных своих фанатов, хотите, чтобы были пустые трибуны? Лютик исключительно бдительный, потому что ему слили информацию, что в секторе Зеленых есть стукачи и даже переодетые менты, так что надо для этого дела отобрать самых верных своих людей, а в отношении Красавчика никаких сомнений, поэтому он на него рассчитывает. «Да ладно, да ладно», — неуверенно говорит Красавчик и соглашается на участие ради душевного спокойствия, все равно ничего лучшего ему не предлагают, а то, что Адам продолжает ходить-кружить-следить за ним, по следам его ползает, пути его вынюхивает, крошки после него подбирает, то тут, то там появится вроде как случайно, чтобы в глаза ему взглянуть, старается быть тактичным, чтобы не отягощать ненужными осложнениями мальчика, упрятанного в мужчине, — как отнестись к этому, Красавчик пока не знает.
Адам, словно Господин Тень, мог бы уйти за Красавчиком на край света, по тропам его периферийных перипетий. Пожалуй, так он и на матч за Красавчиком увяжется. С этим надо что-то делать, нельзя больше прикидываться, что он ничего не замечает, того и гляди, Лютик сочтет, что Красавчик привел за собой хвост, надо Адама предостеречь, объяснить, предупредить его, что ли. Но как? Надежнее всего — по телефону; вечером, прервав молчание, но сохранив лицо, а вернее, единственную в этой ситуации допустимую позу (позу принимающего решения; того, кому, собственно говоря, все равно; того, кто имеет моральное превосходство, потому что удачнее прикидывается, что ему все равно), навязать по телефону новые принципы, а вернее, один главный принцип:
— Слышь, хорош таскаться за мной.
Адам даже не удивлен; он знал, что это не родители: те прервали с ним всякую связь со времени последнего визита к нему; из больницы тоже не звонят, потому что он выпросил себе короткий отпуск; в это время телефон должен молчать, в это время Адаму обычно снится телефонный звонок, и он просыпается по нескольку раз, желая снять трубку; если бы он спал крепче, возможно, ему мог бы присниться разговор с Красавчиком, но, увы, его сон запутался, в его снах ему пока не удается вовремя поднять трубку, ему снится сон, что ему снится сон, он даже во сне понимает, что спит, и, может, именно поэтому он всегда просыпается до того, как успевает в своем сне поднять трубку; но сейчас настоящий телефон звонит по-настоящему, Адам хватает трубку, и успевает услышать голос Красавчика, и даже дать категорический ответ:
— За кем хочу, за тем и хожу.
— Ты даже не представляешь, в какой ты жо… в смысле во что ты вляпался. Они тебя зае… короче, они тебе покажут, где раки зимуют.
Какая-то прекрасная борьба мальчика с мужчиной происходит в Красавчике, Адам восхищен его попытками подавить в себе вульгаризмы; что ж, видать, Давид лишил Голиафа дара речи, чаша весов качнулась — победа! Красавчик сам себя выдал на полуслове, теперь уж Адам точно знает: сколько бы ни пришлось ждать, он своего дождется и парень в Красавчике через мужчину прогрызется и вернется к нему, уже отцеженный от хама, в виде экстракта паренька, которого следует на путь истинный направить и опеку над ним нежную, самую нежную установить.
— Не бойся вернуться ко мне. Все образуется, все уляжется. Мы с тобой сами все уложим.
Красавчик уж и не знает, как ответить, он хотел бы рявкнуть жестоко и устрашающе, но скорее склонен сам себя сосватать Адаму; он открывает рот, чтобы выразить протест на варварском диалекте, но слова лопаются у него на губах словно мыльные пузыри, Красавчик не находит в себе силы сопротивляться, он от этого весь зарделся, ему уже хочется к Адаму сейчас, немедленно, так что лучше повесить трубку. Благие намерения или нет, но для тебя, Красавчик, это прямая дорога к искушению, так что уж лучше дай соблазнить себя ему, чем кто-то другой совратит тебя на стадионное беспутье, так иди же к нему, туда, где тебя ждет нежная постель, туда, где ты сладко выспишься, добрым словом привеченный; куда ты идешь, Красавчик, не туда путь твой, холодно, поверни вон туда, теплее, уже тепло, еще один поворот, до конца улицы по прямой — и станет совсем горячо.
Станет горячо: Адам открыл, потому что подумал, что это Красавчик стучит в дверь, что наконец, мужскую шкурку где-то навсегда сбросив, парень пришел к нему, да и кто бы еще мог прийти в такую пору и после такого разговора, если не Красавчик собственной персоной; но кто это такие некрасивые и чужие, выглядывающие один из-за другого, и этот третий, с рожей отвратительной и мерзкой, откуда-то знакомой, кто этот изверг с головой лысой и гладкой, как кость, — кто они, зачем пришли сюда, чего хотят? Непозволительно задержался на секунду в своих размышлениях Адам, не успел дверь перед ними захлопнуть да на засов закрыть, лоб гладкий и тяжелый, как палица, приветственно мозжит ему нос, а может, оно и к лучшему, потому что эта первая боль концентрирует на себе все внимание, Адам не чувствует ударов, которыми его осыпает Лютик, а это больно для хрупких ребер, Адам даже не стонет, он пока не знает, в чем дело, а у него уже столько переломов, и от удара в солнечное сплетение у него перед глазами темнеет… (сколь же хрупка структура человека, сколь немощны его члены и при всем этом так трогательно терпеливы, когда срастаются)
…сознание возвращается, когда Лютик поднимает его с пола, ставит перед собой и бьет ладонью наотмашь по щеке, чтобы удостовериться, что его слышат:
— Ну и что теперь?
Исключительно уместный вопрос, Адаму самому хотелось бы знать, сломают ему еще что-нибудь или нет, можно ли уже приступать к зализыванию ран.
— Чего ты вынюхиваешь? Кому стучишь?
Адам даже не пытается защищаться, просить пощады, он смотрит на Лютика совсем без страха, что они еще могут сделать ему, расширить ассортимент травм парой дополнительных, добавить ножевые раны, но ведь раны — это будущие шрамы, и чем больше их будет на его теле, тем больше он будет похож на Красавчика, ну давай, ударь еще, пожалуйста, у меня уже щек не хватает подставлять, думает Адам, а Лютик чувствует, что разливается в нем тот род остервенения, которому он обязан своей кличкой: лишь учует чужую боль — и уже ничего не видит, ничего не чувствует, кроме нее, бьет Адама еще и еще, и каждый раз сильнее, разъяренный отсутствием сопротивления, бьет по нему, как по боксерской груше, и требует реакции:
— Ну, защищайся, пидор! Сражайся, сука, защищайся, защищайся!!!
Страдание нарастает. Красавчик тоже страдает; он уже был в садике, но гусыню не успел поприветствовать, потому что более проворные лисы на нее напали, и ему пришлось отстать на лестничный пролет, и теперь он ждет в подворотне, молясь о том, чтобы парни оттащили Лютика вовремя; он не может вмешиваться, иначе нарвется на вопрос, что он тут делает, сам ли хотел со стукачом расправиться, а может, сотрудничает с ним; Красавчик ждет в подворотне и впервые в жизни плачет от бессилия, это не фильм со Стивеном Сигалом, он не поспешит на помощь и не раскидает напавших ударами карате, не получит медаль за преданность и отвагу, он может только ждать, выжидать, прислушиваться, пока все не утихнет, пока Лютик со своими приспешниками не уйдет; Красавчик рванет наверх; лишь бы не было слишком поздно.
Они сбежали по лестнице быстро и тихо, никто из них даже не засмеялся, это недобрый знак; Красавчик минуту ждет, смотрит им вслед, да, ушли, надо полагать, не вернутся; он идет наверх. Дверь приоткрыта. Видна кровь. Адам сидит на полу там, где его оставили. Лучше не смотреть.
Он жив, хоть до конца жизни его лицо будет напоминать ему о том вечере. Возможно даже, он улыбается; сейчас мы увидим это отчетливее. Красавчик смочил полотенце и, как реставратор, открывающий взору многоцветье картины, смывает с Адама кровь; так, уже видно лучше; Адам и впрямь улыбается. Как знать, не станет ли теперь его лицо более бандитским, чем у Красавчика: нос перебит и свернут, факт, что называется, налицо, об остальном узнаем, когда опухоль спадет, но, судя по другим лицам, обработанным Лютиком, изменения будут радикальные; у Лютика есть свой стиль, он как художник среди психопатов — бьет и при этом ваяет людские лица; если бы его жертвы поставить в рядок, то глаз знатока легко бы заметил общие для всех них характерные черты (но чье лицо хочет он вылепить в других? кто отважится задать ему этот вопрос? что-то желающих пока не видать). Это настоящая сцена из фильма: Красавчик омывает покалеченное лицо Адама, никогда еще в жизни он не был столь нежным; Красавчик знает, тоже из фильмов, что обмывание ран героя, как правило, предшествует сцене поцелуя и его постельного продолжения, хорошо было бы подчиниться этому правилу, тем более что ум Красавчика не находит в эту минуту ничего лучше среди известных наркотически-успокоительных средств, но как его поцеловать в эту кровь из носа и из губы, а, ладно, пусть это будет кровавый поцелуй, зато мужской, пусть это будет началом их братства на крови, братства мужчины с мужчиной, а не пидора с пидором (пока что, как нам известно, ничего такого у них не было); Красавчик целует Адама взасос, слизывает кровь с его языка, сглатывает ее как свою.
Его отпуск продлится, теперь уже за свой счет; а сколько ему пришлось упрашивать в больнице, чтобы его отпустили домой: они ему — тяжелые травмы; он им — какое там, уже почти не болит; они — старичок, ты ничего не чувствуешь, потому что ты в шоке; он — я врач и могу справиться с ситуацией; они (Красавчику) — тогда вы хотя бы проводите его домой, а лучше, если с ним побудете какое-то время, если можете; Адам заливается краской под бинтами и пластырями. Ну да ладно, все уже прошло, оба лежат, прижавшись друг к ругу, Адам — в бинтах. Счастливый, он слушает вылеченного им парня: его умиляют попытки Красавчика говорить красиво, он никогда раньше так не говорил, все в нем изменилось; он говорит твердо, решительно, до правильной речи ему еще очень далеко, а если оно и проскакивает, звучит пока неестественно, еще кое-где он должен продираться через старые привычки, но это прекрасно. Сейчас это самое прекрасное в Красавчике: что спрятанный в нем мужчина, этот хам из хамов, отступил, а мальчик в нем победил и, не охватив еще этого явления до конца умом, он уже инстинктивно пытается пользоваться невооруженным, мягким языком, употребляя правильные формы (Адам ему в этом помогает).
— Я же говорил тебе, что тебя отпиз… что ты доиграешься, если будешь за мной шастать (ходить)… Хорошо, что они меня, блин, не выделили (встретили)… а то бы рассекли (заподозрили), что я с тобой… что мы… блин, только об этом подумаю, как…
Довольно; Адам закрывает его рот рукой. Не надо говорить, надо подумать, где теперь будем жить.
11
У Роберта в разговорах постоянно звучала одна тема: все только и ждут, когда из-под его пера выйдет неудачный роман, поэтому он и медлит. Фактически это частный случай графомании — мания неписания. Долгое время он жил на деньги от своего последнего, самого известного романа, получившего всеобщее признание; и тогда он почему-то втемяшил себе в голову, что должен сделать перерыв, да подольше, чтобы набраться сил и отстраниться от прошлых текстов; успех романа сильно поправил его дела, Роберту уже не нужно было писать для хорошего самочувствия, тем более что именно тогда он познакомился со своей будущей Женой и начал семейную жизнь; в окружении доброжелательно к нему настроенных людей, радуясь близости принадлежащей только ему привлекательной женщины, он совершенно перестал корить себя за то, что не пишет, можно сказать, он потреблял успех, который, впрочем, был неоспоримым, — благосклонно настроенные критики не скупились на восторги, критически настроенные говорили, что просто роман идеально попал в тему; так или иначе, никто не счел его книгу неудачной. Со временем он стал жаловаться на то, что все только и ждут, когда из-под его пера выйдет неудачный роман, — так он поначалу говорил Жене и Тестям, объясняя, почему совсем не пишет; нет, конечно, книги он подписывал, блистал остроумными комментариями на тему литературной и окололитературной жизни, но писать свой новый, на этот раз неудачный, разумеется неудачный, как он говорил, роман решительно отказывался. На вопрос Жены: почему же «разумеется неудачный», как он мог вбить себе в голову такую нелепицу, он отвечал, что последний роман был перехвален, и все несчастье состоит в том, что завышенная оценка была поверхностной, и все те, кто им бессовестно восхищался, теперь должны чувствовать себя обязанными принизить оценку его нового романа, должны с нетерпением ждать его неудачного романа; чтобы он смог в будущем стать по заслугам оцененным писателем, он должен принести в жертву «неудачный роман», должен принять критику, ощутить вкус поражения, должен позволить всем тем, кто начал задним числом стыдиться своих громогласных похвал, теперь публично отхлестать его за его новый, неудачный роман, за литературное недоразумение, каковым этот роман должен предстать; он говорил, что удачный роман в этих условиях невозможен хотя бы из тех соображений, что его последний, необычайно удачный роман описывал страдания, из-за чего благожелательно настроенные критики сочли его пронзительным, а критически настроенные критики сочли его циничным, эксплуатирующим человеческие эмоции, хотя и они не отказывали ему в убедительности описаний страдания главного героя; Роберт не писал свой второй роман, потому что и этот, второй, должен был бы рассказывать о страдании. Проблема состояла в том, что он не мог искренне писать ни о чем, кроме страдания, но ни в коем случае не хотел писать роман о невозможности написать роман о чем угодно, кроме страдания; его новый роман, если бы он в конце концов приступил к его написанию, должен был бы, как и предыдущий его роман, описывать страдания, его герой, как и герой предыдущего романа, должен был бы заниматься прежде всего страданием, скорее всего, он страдал бы точно так же, как и герой предыдущего романа, из чего благожелательные критики первого романа должны были бы признать второй его роман попыткой воспользоваться проверенной рецептурой по написанию пронзительного романа, критически же настроенные критики должны были бы счесть эту книгу свидетельством творческого увядания и автоплагиата; поэтому он долго отказывался писать свой новый роман, а когда Тесть устроил его на должность в подвале суда, чтобы он мог уединиться в тишине и попытаться что-то написать, пошли ноги за окном и всякое такое, что, как он говорил, утомило его слова. Он объяснял, что не может писать очередную книгу о страдании, что у него нет ни малейшего желания, но ни о чем, кроме страдания, он писать не может, в конце концов он мог бы написать неискренний роман, что расходилось бы с его целью (а его целью была литературная искренность), поэтому он мог бы написать искренний роман о невозможности написать роман о чем-то, кроме страдания, но у него не было ни малейшего желания, это был бы явный крах, говорил он, табуны кретинов получили бы пищу, говорил он, писать о невозможности писать — литературное самоубийство, говорил он и вполне логично не начинал работу над новой книгой. Когда Жена заставала его за работой в кабинете, еще задолго до того, как кабинет превратился в — как она его язвительно называла — мемориальный зал, еще когда он служил Роберту как мастерская писателя, итак, когда она заставала его за писанием, он говорил, что это ерунда, что это написано без веры, а кроме того, слишком мало, чтобы слепить из написанного неискренний роман о тепле и радости жизни, отвечающий ожиданиям издателей, равно как и меценатов, главных редакторов, министров, всех тех культурных надсмотрщиков, которые постоянно советуют ему «написать на этот раз что-нибудь теплое, позитивное», потому что «народ и так уже устал от всего, что творится вокруг», «вот мы и ждем, что по крайней мере художники слова перенесут нас в какой-то другой мир», а если конкретнее — «в мир теплый и позитивный»; он не верил, но обязательно хотя бы раз в день садился за стол и пытался думать о мире тепло и позитивно — не получалось; он не умел и страдал от этого неумения, отказывался писать и призывал Жену, тогда еще охотно вживавшуюся в роль принадлежащей ему привлекательной женщины, тогда еще клевавшую на приманку удовольствий, призывал ее, а потом все шло по такой схеме: Жена спрашивала, удалось ли ему хоть что-нибудь написать, Роберт отвечал, что пока еще не до конца рассеялся сумрак его души, Жена спрашивала, может ли она ему как-то помочь, Роберт отвечал, что, конечно, она может вместе с ним совершить великий акт жизнеутверждения, который наверняка вдохновит его на творческое завершение остатка дня, и, говоря это, пытался подманить ее поближе к письменному столу, а когда Жена начинала ретироваться, вопрошая, не трактует ли ее господин писатель слишком утилитарно, он отрезал ей путь к двери, поворачивал ключ в замке и прятал его в карман брюк, Жена начинала нервически хихикать и говорила, что он должен сосредоточиться на работе и наконец-то начать писать, Роберт отвечал, что не может схватить вдохновение, передвигал компьютер на край стола, чтобы освободилось место, и уговаривал Жену лечь на стол, Жена оказывалась безоружной и подчинялась его уговорам, как, впрочем, и собственным страстям, но предупреждала: «Только боже упаси тебя описывать, как ты меня тут на столе», после чего, то есть после начала совместного ритмичного жизнеутверждения, время от времени выдыхала слабым голосом: «Ты мой писатель…»
Роберт доволен собой, ему удалось дождаться нужного момента: пришло время романа. Смерть, при всех ее недостатках, имеет то достоинство, что сильно продвинет его творение; как у автора, уже отошедшего в мир иной, у него будет значительно более благосклонная критика, и, что самое важное, он сам придаст себе окончательный контекст. Роберт смертельно серьезно думает о том, чтобы начать писать, но в данный момент он должен испариться.
Все измельчало. Ребенком он приезжал сюда каждый год в летние и зимние лагеря; теперь, четверть века спустя, у него странное чувство, которого следовало ожидать: заборчики, барьерчики, тротуарные бордюрчики, ограды скверов, наконец, сама кирпичная стеночка вдоль бульвара над рекой — все измельчало, скукожилось; в памяти Роберта все осталось на уровне роста десятилетнего мальчика, и теперь он должен смириться с уменьшением всего вокруг на сорок сантиметров. Может, это не он вырос, а мир уменьшился; может, это не он исчезает, хоть его угнетает напророченная смерть, а это мир вокруг него увядает; может, он боится не того, что его не хватит, а что ему не хватит мира, что мир съежится, став недоступным для чувств, и Роберт останется один, без декорации, без публики, с душой столь же бессмертной, сколь и бесполезной в пустыне вечности. Прямо с утреннего автобуса, еще до апогея дневной жары, еще до разгара летнего сезона, по пустым, сонным улицам идет он к нижней станции фуникулера, входит по ступенькам, которые когда-то были ступенями, и, хоть в прошлом они были выше и круче, он помнит, как бегал по ним гораздо быстрее ленивых взрослых, — он, более легкий телом и душой, потому что не думал тогда о том, что каждый его шаг где-то записан и сосчитан и что с каждым шагом он становится ближе не только к продавцу мороженого и киоску с новым «Жбиком»[12], но и к тому, что, согласно путеводителям общей медицины, должно было означать неосвященное мученичество, без ангельских труб, без житийных писаний, без вознесения на небо.
Он садится на кресло фуникулера одним из первых в этот день, персонал предупреждает, что наверху еще очень холодно, советуют потеплее одеться; он едет, склоны безлюдны, небо чисто, лишь через пару часов его заполнят парапланеристы, если ветер поможет им, а все говорит за то, что именно так и будет; но пока безветрие, высокие ели стоят неподвижно, холодный воздух от движения фуникулера обдувает лицо Роберта — бодрящее предветрие. Ему на память приходит одна из давних максим Тещи, отчитывающей Тестя за любовь к дорогим костюмам: «Кто живет как мот, того после смерти на все стороны света размотает» — или что-то в этом роде, во всяком случае это должно было звучать своего рода предостережением, что останки расточителя вороны по бездорожью растащат (а может, лучше «враны»: с некоторых пор в католических СМИ, которые без остатка завладели умом Тещи, пошла мода на библейские архаизмы; «и враны разнесут кости твои непогребенные» — так по идее должна была звучать новейшая версия проклятия тем, кто грош не ставит ни в грош), как же хорошо, что уже скоро ему не придется это слушать и вообще ничего, кроме ветра, минуточку, кто это пел, что ветер приходит, чтоб нас отсюда сдуть, стереть наш след и засыпать наш путь, следы на дорогах, где мы прошли вдвоем, не то все подумают, что мы еще живем… Претенциозно получается, думает Роберт; а как думать о смерти, чтобы было непретенциозно, как непретенциозно умереть, что надо делать, чтобы просто отбросить коньки, без высокопарных воспарений, но в то же время не позволить этой банде католиков распоряжаться его прахом; ох какое удовольствие испытали бы они, вкладывая в его руки погребальную свечу, а в его уста — последнее святое причастие, лучше уж ветер, даже если кому-то покажется, что это напыщенно, пошло, что такому, как ни крути, творческому уму не подобает столь банальная мысль; плевать, в конце концов, это его смерть, не хватало еще, чтобы ему кто-то советы давал, как переселяться на тот свет. Даже если того света нет, ветер все равно есть, и Роберт верит в дуновение и хочет, чтобы именно ветер смерть-невеста принесла ему в приданое; на вечное отдохновение и вечный свет он не претендует, а коль скоро дух веет и ветер дует где хочет, Роберт хотел бы отсюда дунуть как можно скорее.
Вот и пришло это самое когда-нибудь, и ничего не сходится: где та хатка деревянная под Дзянишем (а ведь зарок себе дал, что когда-нибудь купит ее), где высокая грудь горянки (а ведь клялся, что когда-нибудь найдет себе девицу красну с лицом ясным, чтобы с нею любиться и, согласно Божьему наказу, размножаться и плодиться), где та гряда Высоких Татр (а ведь собирался когда-нибудь пройти ее до конца)? Почему жизнь его прошла в низине, если только в горах он чувствовал себя как в своей тарелке? Опомнился: того и гляди, обращусь в прах, надо сдержать данное себе слово.
Многие из его старых друзей по альпинистской связке забросили альпинизм ради так называемого парапланеризма; те, кому всегда не хватало воздуха, кому контакт со скалой не доставлял такого удовольствия, как свободный спуск до основания стены после восхождения, теперь просто парили над горами на парапланах, раскручивая поднебесный бизнес — коммерческие полеты, эти хорошо оплачиваемые инъекции адреналина для охочих до впечатлений воскресных туристов, а еще — фирменные корпоративы (и работы меньше, чем с чайниками, желающими покорить Монаха[13]). Рожденные ползать по предгорьям смогли взлететь над горами, озирая их с высоты птичьего полета; свобода частых полетов освободила их от земных страхов, именно парапланеристы, предпочитающие, чтобы их называли на немецкий манер гляйтерами (ибо какой же это параплан, если как раз они, в отличие от всех остальных, и летают в прямом смысле слова: без мотора, без жестких крыльев, птичьим чутьем выискивая воздушные потоки, с ветром на «ты»), именно они казались Роберту единственными, кто не злоупотребляет понятием свободы. Они ступали по земле легко, как будто только того и ждали, чтобы оттолкнуться и вновь взлететь; подсевшие на кайф свободного полета, понимавшие, что, если раз удастся оторваться от земли и благополучно приземлиться, возврата больше нет — больше ничто в жизни не даст такого удовлетворения; парапланеризм — это как героин, говорили они, это круче секса, а при этом, что для Роберта было важнее всего, они во всем непретенциозны: даже когда говорят, что там, наверху, они словно птицы, находящиеся во власти ветра, они абсолютно, буквально правы. Вот на одного из них и пал его выбор: Роберт должен с кем-то поделиться своими горестями и быть уверенным, что тайна Иова Многострадального не разлетится по близким и дальним знакомым; в противном случае это вызвало бы неловкость с обеих сторон, Роберт стал бы личностью избегаемой; действительно, с какой стати люди должны хотеть заглядывать в глаза смерти, они пока что по сю сторону далеко идущих бизнес-планов, кредитных дилемм, отпуска на следующий год и беспокойств о парниковом эффекте, а он уже со смертью ходит, мысля минутами, часами, днями, недели робко отсчитывая, тогда как она уже в нем отсчитывает каждую секунду. Все они едут сейчас на ярмарку, а он уже — с ярмарки.
Только парапланеристу можно верить, только ему можно спокойно довериться, поделиться своими проблемами; парапланерист никогда не скажет нет, если только ты не захочешь удержать его перед стартом, он занят исключительно тем, что ищет воздушные трубы, паруса над горами, избегает завихрений, чтобы не было схлопываний, слушает вариометр; его жизнь — сплошная подготовка к полету; эти ребята лишь делают вид, что их интересуют земные дела. Вот почему при встрече через много лет парапланерист обнимет тебя, многозначительно намекнет, что всякое дыхание Господа хвалит, что гора с горой не сходится, спросит, что у тебя, и сразу, прежде чем ты успеешь ответить, поинтересуется, а как насчет полетать в тандеме.
Как раз по этому вопросу приехал договориться Роберт, без церемоний, но не сегодня и не над этими горами, в обстоятельствах, специфику которых он объяснит, но не впопыхах, а спокойно, лучше всего на базе, за чаем с ромом. Нет, лучше перед базой, потому что человек-крыло должен следить за ветками деревьев: если начинают качаться, значит, есть поток, значит, будет полет, время летать, вскакивают один за другим и уходят ввысь.
— Понимаешь, старик, как бы тебе это сказать… Я с тобой, а как придет время, сам понимаешь, нет вопросов, для меня это даже дело чести, а пока что крепись, держи лапу, мне пора, смотри, какие потоки, как несет.
Ну все, заметано.
У него пересохло во рту; язык как будто обложен всем тем, что он откладывал на потом. У него болит все сильнее, и, наверное, уже не пройдет печаль по путям-дорогам, по которым он уже не пройдет. Женщины не его жизни будоражат его память (у других выбор был более удачным); Роберт свернул с пути, лег в траве и мстит себе за все не использованные в жизни случаи, истязает себя в стороне от многолюдья. Четверть века тому назад он так же отчаянно на том же самом месте гонял балду, но если тогда он прибегал к фантазии, то теперь к воспоминаниям. Вроде как ничего в том нет особенного, но ожесточенное отшельничество на этой высоте, в общем-то, истощает, Роберт через минуту будет слишком утомлен, чтобы собственными силами добраться до остановки; воды тоже неоткуда зачерпнуть, сбился, видать, с дороги, источники остались на другой стороне склона. А что, споткнется на оползне, запутается в колючках густого кустарника или просто притомится в лесу — и не переживет ночных заморозков; если раньше он представлял себе смерть в горах только как героическую, то сейчас самое время сменить свое мнение. Надо бы ему помочь, мы готовы потерять к нему остатки уважения. А что, если дать ему слегка в Розе запутаться? Тем более что домик ее неподалеку стоит, высоко над долиной, эдаким во всех смыслах особняком, в глухомани, ловцы сенсаций больше не прячутся по укрытиям, потому что показатель ее медийности за последнее время упал вместе с рекламными плакатами, на которых было ее лицо; так почему бы не столкнуть друг с другом эти два одиночества? Ведомый инстинктом и силой воли, Роберт все равно ведь дойдет до так называемых первых построек, так пусть же это будет забор знакомой нам усадьбы; а мы посмотрим, что из этого получится.
— Боже мой, что с вами?
Лай собаки привлек внимание человека женского пола, Роберту повезло, едва он успел нажать на звонок у ворот, как присел у забора, ослаб, болевые приступы случались все чаще и становились все более продолжительными, а боль все сильнее. Совсем недавно ему казалось, что, возможно, он привыкнет к ней, если начнет тренировать выдержку, точно так же как и в обычной здоровой жизни после каждого цикла упражнений он увеличивал нагрузку, ну скажем, количество отжиманий, так и теперь, во время болезни, он каждый раз будет стараться прибегать к анальгетикам хотя бы на несколько минут позже, четко соблюдая наложенное на самого себя ограничение; еще совсем недавно ему казалось, что с болью можно совладать, но теперь она все чаще посылает его в нокдаун; баланс простой: боль прибавляет в силе, а Роберт становится слабее. С трудом добрался он до первых построек, нажал на кнопку звонка с надеждой, что кто-нибудь откроет, и свился в клубок, чтобы переждать приступ; пригвожденный болезнью, он пока не в силах подняться, не говоря уже о приветственных любезностях и объяснениях; он ждет, пока боль отступит (волна, похоже, стала спадать, еще чуть-чуть — и будет сносно, но таблетку придется принять, вот только в горле пересохло, без глотка воды не проглотить).
— Простите… Сейчас пройдет. Если можно — стакан воды.
У Роберта пока нет сил поднять голову; он видит до пояса человека женского пола, видит домашний халатик, а через неплотно прилегающие полы — ноги, красивые и знаменитые; Роберт узнаёт их, а по ним и женщину, часто легкой походкой проходившую мимо его подвальчика; выразительные ноги, прибегавшие к исключительно выразительным шагам для рассказа самых разных историй, своих собственных и чужих, ноги актрисы, которые после каждой премьеры шли иначе, порой трагически, порой комично, в зависимости от сыгранных ролей, а порой и сгибались под тяжестью бездарно написанной жизни.
— Да, конечно, сейчас принесу, — доносится до него откуда-то сверху.
Он видит, как ноги быстро удаляются, не теряя достоинства ни на минуту; Роберт помнит, что всегда, неизменно, безотносительно к тому, какое повествование эти ноги выстукивали перед его окошком, вне зависимости от настроения и погодных условий, их отличала поступь, исполненная достоинства, свойственная женщине благородной, знающей себе цену и не ищущей постоянно подтверждения этого своего знания; в достоинстве ее поступи было своего рода примирение с жизнью, непринужденность бытия, необязательность существования, перед которой Роберт не мог устоять, потому что сам был опутан угрызениями совести и хитросплетением невыполненных обязательств; он тяжело, меланхолически, теряя ритм, тащился по этой жизни, будто был плохо пристроен к собственным ногам.
Боль отпускает, Роберт может подняться; он опирается на забор и смотрит в сторону, откуда приближается, показывается, является во всем своем великолепии — в прекрасном достоинстве и достойной красоте — Роза, относительно которой в другой жизненной ситуации Роберт принял бы ряд первых же пришедших в голову экстренных и радикальных решений, потому что она видится ему озаренной своего рода сдержанной развязностью, невинной распущенностью, моложавой зрелостью, мудрой наивностью, хрупкой твердостью, суровой нежностью, открытой скрытностью, экстравертной робостью, благосклонной недоступностью, каких он еще никогда не видал; она предстанет перед ним как женщина, лучащаяся обилием парадоксов, но внутренне симметричная, возможная и в то же время невероятная; принимая из ее рук стакан, Роберт чувствует, что ради такой женщины он мог бы отдать жизнь (однако он немедленно призывает себя к порядку, поскольку у него немного осталось, что он мог бы отдать). Он пьет и смотрит на ее ноги: «Да, на таких ногах, даже совсем чуть-чуть пройдясь, можно далеко уйти»; в нем по-солдафонски встрепенулась самцовая и скандальная мысль: «Тебя увидел, и, поверь, во мне проснулся дикий зверь», — подпевает забытый баритон из района гипофиза; Роберт слишком торопливо встал, в башке у него завертелось, и ему снова пришлось сесть, потому что он уже перестал понимать, что он говорит вслух, а что про себя; Роза спрашивает, не вызвать ли скорую, Роберт категорически возражает, после чего моментально слабнет, обмякает, Роза пытается поддержать его, полы ее халатика так удачно распахиваются, что на мгновение показывается грудь, свободная и красивая; ох как же мало теперь ему надо, чтобы потерять чувства от впечатлений, он еще раз извиняется и, отчасти сам, отчасти влекомый Розой, добирается до садового кресла, чтобы уже в нем приступить к заговариванию беспокойства.
— Спасибо большое, мне сейчас будет лучше… Просто я ослаб, понимаете, полез в горы без провианта и малость заблудился…
— Вы, наверное, нездоровы? Скоро муж придет с работы, он мог бы вам помочь, довезти до города…
— Честное слово, в этом нет нужды, вот только чуток передохну, если позволите. Ничего серьезного, не бойтесь.
— Это хорошо… А то знаете, мне никак волноваться нельзя. Что бы я делала, если бы вы здесь у меня потеряли сознание…
Господи, что это за тарабарщина, кто, в конце концов, пишет ему эти диалоги, затем ли ангелы-хранители толкнули его, смертельно больного, в руки совершенной женщины, чтобы он обменивался с ней нехитрыми любезностями? Что это за сериальные пошлости, неужели он не способен на кавалерийский бросок? Когда же, если не сейчас? Почему он не соберется с силами и не решится на последний рывок многоопытного мастера обольщений? Эх, если бы он только собрался с силами и хотя бы попытался заболтать даму в давнем своем стиле, э-эх, если бы хотя бы при первом своем появлении на сцене он не предстал тщедушным прохожим, таинственным доходягой, рахитичным дохляком, в котором не отыщешь и следа былой силы, в котором невозможно узнать дремлющую в нем мощь, которая еще совсем недавно позволяла ему покорять даже самых холодных и неприступных женщин; Роберт вспоминает, как это было, когда после первых успехов своих легкой рукой написанных сборников любовных рассказов он укладывал девушек единственной фразой, «под себя» укладывал, жонглируя автоцитатами, мастерски нанизывая друг на друга эрогенные слова, с ловкостью фокусника вытягивая сокровенные залежи бесстыдства из самых саркастически настроенных дам; было время, когда Роберт распалял огонь страсти как в девушках, так и в замужних дамах одним лишь своим появлением: его невзрачный вид и мягкий нрав как бы противоречили тем сексуальным скандалам, которые он мастерски описывал в превосходной прозе, и каждой хотелось проверить, как такое получается, что некто, производящий столь неэффектное впечатление, умеет, как никто другой, разжечь чувственный огонь одним лишь словом; довольно было задавать ему вопрос: «Откуда вы черпаете свои идеи, если можно поинтересоваться?» — и он уже не должен был отвечать иначе как смущенной улыбкой, он не должен был ничего говорить и, как профессиональный подонок, знал, что его затейливые шепотки и без того гнездятся в уме каждой хоть раз заглядывавшей в его пикантные излияния на бумаге.
Роберт знает, что на сегодня все, что он уже не может рвать «на себя», потому что с некоторого времени он непохож на себя, можно сказать, долгое время он не в себе (а что такое быть «собой», «в себе», о каком таком «себе» речь — о том ли, в котором жилось легко, просто и приятно, с которым жилось в согласии, или о том, кем он стал со временем, подвившим, апатичным и ностальгирующим по прошлому, даже по бесцветному и мрачному, потому что в прошлом была жизнь, в прошлом было здоровье, а в будущем, причем уже в ближайшем, — только догорание); он и выглядит, и мыслит нездорово, а соблазнение не входит в расчет, он не знает, как надо соблазнять свидетельницу его чахлости; если бы он только попытался заговорить с Розой как искуситель, пародия на самого себя выдала бы его, потому что время незаметно загнало его в предсмертный закоулок, а в таких закоулках нет места для пламенных любовных романов, нет больше времени бросаться в погоню за любовью всей жизни, там слишком тесно, только страх и страдание вырывают для себя куски пространства. Роза присела рядом и всматривается в него с искренним беспокойством, по всему видно, что она не привыкла не то чтобы поднимать, а даже принимать гостей, присутствие незнакомого мужчины ее явно смущает; Роберт знает, что у него осталась только одна карта, с которой он может пойти, — ведь с подвальной, лягушачьей точки зрения он знает все мелочи ее жизни, и если он их ловко поскладывает, то может оказаться, что он знает о ней больше, чем она сама знает о себе; так почему бы не попытаться рассказать ей о ней, по крайней мере несколько минут он будет наслаждаться тем, что его слушает женщина, изящнее всех сложенная из парадоксов, феноменально противоречивая, — он будет говорить ей, откуда он знает ее, и в душе проклинать несвоевременность, потому что несовпадение во времени — это ирония судьбы, подсовывающей его мужественности, увядшей на исходе жизни, такую женственность.
Роза слушает. В том, что ее узнали, нет ничего особенного, в последние годы ее не узнавали только люди, которые долго жили за границей, или люди не от мира сего, чья жизнь проходит в библиотечном уединении, те, кто последовательно практикует интеллектуальное вегетарианство и ничем из явлений обыденной жизни не интересуется, такие питаются исключительно текстами, кичатся отсутствием в их жизни телевизора, демонстрируют презрение к репертуару кинотеатров, пьесы они тоже предпочитают читать, а не смотреть, слушают только любимую радиостанцию, на волне которой звучит исключительно серьезная музыка, серьезная литература и серьезная информация; откуда же, черт побери, у них будет время на несерьезные увлечения, откуда им знать идолов несерьезной поп-культуры, от одних лишь слов «идол» и «поп-культура» их начинает тошнить, от одного лишь сочетания частицы «поп» со словом «культура» им становится дурно (массовой культуры не существует, а есть лишь, дорогие мои, взращиваемая на питательном бульоне жизни культурная масса, культурная пульпа, миазмы, выделяемые массами, не имеющими отношения к высокой культуре, так что попрошу не забивать нам головы вздором; оно конечно, фамилию госпожи Розы мы наверняка когда-то слышали, мы ценим благородство ее профессионального выбора, и, если госпожа Роза когда-нибудь станет озвучивать серьезные тексты, мы даже будем готовы послушать ее, однако пока мы не видим причин, в силу которых нам следовало бы поверить в то, что она для нас личность неизвестная, и это нас, дорогие мои, ничуть не принижает, так же как и в наших глазах не принизит вас тот факт, что вы не знаете цитат: «Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen»[14], — это сидит у вас в ушах, хоть вы можете и не знать, кто и при каких обстоятельствах сказал это, и что с того? Нет, это было не на Бебель-плац в тридцать третьем, первая догадка не всегда верна, тем не менее мы не считаем, что этот факт умаляет ваше достоинство); итак, в качестве иконы поп-культуры Роза привыкла к утомительной для нее узнаваемости, за многие годы она усовершенствовала искусство мимикрии, надевая даже в пасмурные дни темные очки, кепку и невзрачную одежду, и все равно ей почти никогда не удавалось зайти незамеченной в продуктовый или подойти к газетному киоску; охотники за автографами еще туда-сюда — эти довольствовались росчерком ее руки, хуже всех были те, кто, пользуясь уникальным случаем встречи со звездой на вершине славы, задерживали ее вроде бы только на минуточку, чтобы вроде бы от всего сердца поздравить с удачной последней ролью, а потом вдруг скатывались на тему последних сообщений желтой прессы и пытались прощупать, правда ли то, что пишут о ней, и, даже если она скажет, что не знает, что о ней пишет желтая пресса, и прежде, чем успеет добавить, что ее это вообще не интересует, они чувствовали себя обязанными сообщить ей, как выглядит ее жизнь с точки зрения читателей желтой прессы; Роза в глубине души начинала проклинать свою воспитанность, из-за которой ей никогда не удавалось быстро отваживать от себя любопытствующих, она не умела избавляться даже от самых настырных, не могла выдавить из себя обычное «простите, я очень спешу», потому что в детстве ее научили, что никого нельзя прерывать на полуслове, а тем более старших; судьбе было угодно, чтобы самые назойливые и располагающие самым богатым набором свежевысосанных из пальца сведений о Розе были как раз пожилые дамы, обожающие задерживать ее «на минуточку» и делать обзор прессы в полной уверенности, что тем самым они делают ей большое одолжение, ведь не читает же она дешевые цветные журнальчики, а потому и не может знать, что с ней происходит; о да, пожилые дамы прекрасно разбирались в ее жизни, лучше, чем она сама; Роза провела изрядную часть жизни в этих остановках «на минуточку» во время ее походов в магазин и в выслушивании сплетен о себе. Узнаваемость в сочетании с хорошими манерами привела к тому, что изо дня в день цена, которую приходится платить за славу, росла; как знать, может быть, именно эти милые старушки и вогнали ее сначала в усталость, потом в сонливость и наконец в нарколепсию.
Роза слушает: у этого человека, несомненно, сдвиг по фазе, хотя говорит он толково, не пустословит, рассуждает логично и воспринимает адекватно, а стало быть, перед ней дьявольски интеллигентный псих, впрочем, он не кажется опасным, его приятно слушать, потому что он не пытается делать вид, что знает и понимает больше, чем на самом деле сумел понять (этим он отличается от приведенного Господином Мужем психиатра). В том, что Роберт узнал ее, нет ничего удивительного; если что и поражает ее, то наблюдательный пункт, из которого он подсматривал за ее жизнью, то знание, каким он обогатился, разглядывая все из своего подвального окна; ее приводит в смущение та ловкость, с которой он сшивает клочки ее жизни в целое; это беспокоит ее, но в то же самое время ей трудно устоять перед любопытством. Он хитро расставил силки: если она привыкла смотреть на свои фотографии, сделанные из укрытия, то слушать историю, собственноножно ею выхоженную, — для нее нечто новое, поэтому слушает она внимательно.
— …последняя премьера, должно быть, прошла удачно. Вы возвращались из театра радостным шагом, босиком, со шпильками в руке, а под руку с вами шел тот же самый мужчина, что и всегда. Потом я вас уже никогда не видел. В смысле ваших ног…
— Мы переехали жить сюда… Потом я попала в аварию, заснула за рулем, вот, а теперь у меня… большой перерыв в работе. Я должна прийти в себя.
Роберт прервал рассказ в точно рассчитанный момент, чтобы дать Розе почувствовать, что он еще не все рассказал, что есть еще подробности, которые не ускользнули от его внимания, а дьявол кроется именно в них (абсолютно уверенный, что хорошо спрятался). Тот-же-самый-мужчина-что-и-всегда, то есть Господин Муж, старался, правда, не допускать оплошности и не появляться в публичных местах с любовницей, более того — они решили не выходить в одно и то же время с работы, так что вместе их никогда не видели, но их ноги проделывали один и тот же путь тем же самым спешным и неритмичным способом, Роберт не мог не заметить, что эти ноги как бы симпатизируют друг другу и нетерпеливо спешат друг к другу навстречу; в разработанной Робертом типологии шагов они занимали свое особое место, из них можно было легко подобрать пары, шаги двух любовников — как котильоны, их тайную общность выдает поступь, отмеченная пороком; у Роберта нет ни малейших сомнений: Роза и Господин Муж больше не ходят вместе, Господин Муж теперь вообще не ходит, он скорее прохаживается, причем вроде как один, а в сущности — с другой, но, между нами говоря, очень даже аппетитной парочкой ног. Роберт чувствует, что его шансы соблазнить ее велики; с незапамятных времен известно, что один из самых действенных способов — соблазнение возможностью отомстить: женщине сообщили, что ей изменяют, она жаждет отмщения, и кто окажется поблизости, у того и будет, что называется, стопроцентная возможность овладеть ею, и лишь какой-то невероятный кикс мог бы испортить всю игру, кикс или желание сыграть в благородство, а в данном случае обычное фраерство; жажда дать ответ на оскорбление столь велика, что ответную измену не практикуют только женщины с поистине разбитыми сердцами, самые безнадежные, остаток своих дней проводящие в воспоминаниях о потерянном счастье и в вечерних молитвах. Оставаться «благородным» в таких условиях — сомнительная добродетель: так что давайте договоримся, что Роберт по собственной инициативе не выдаст Розе секрета Господина Мужа, он будет нем как рыба, если только она сама не захочет вытянуть из него информацию; согласитесь, что это честная постановка вопроса; и тогда Роберт прибегает к рискованному финту, представляя дело так, что ему уже пора:
— Простите, совсем заговорил вас. Мне уже значительно лучше, я думаю, пора попытаться добраться до деревни.
— Нет-нет, что вы, останьтесь, пока муж не придет. Я здесь все время одна, ни с кем не общаюсь, так приятно было вас послушать…
(Неужели рыбка соблазнилась на червячка?)
— Вы только не поймите меня превратно, но коль скоро вы так много замечаете…
(А червячок такой толстенький, извивается, совсем не видать крючка.)
— Может, вы еще мне расскажете…
(Поплавок дернулся.)
— Не видели ли вы моего мужа… ну в общем… не со мной?
(Клюнула!)
Роберт придерживается принципов. Роза слушает. О многом узнает. Не засыпает.
Господин Муж сегодня пришел вовремя, — возможно, отныне так и будет, потому что в отношениях вне дома произошли неожиданные перемены, случился какой-то непонятный срыв, дела приняли непредвиденный оборот и т. д.: Господин Муж уже три раза слышал от любовницы, что его нет в ее планах на очередной день; в первый раз это не произвело на него никакого впечатления, он принял это за шутку, кокетство — словом, женский каприз, и все тут; во второй раз он почувствовал себя задетым, ему не удалось остаться хладнокровным, он рявкнул в трубку что-то резкое; на третий день он попытался сыграть в молчанку, не просить о свидании, не посылать эсэмэсок и ждать, пока она первой не опомнится, но, само собой, не выдержал, позвонил, ну и облом: ее мобильник был выключен, причем в то самое время, которое он узурпаторски называл их временем, потому что в это время она обычно выключала мобильник по той простой причине, что трахалась с ним; Господин Муж два часа безуспешно пытался ей дозвониться, а когда любовница включила телефон, то сразу же позвонила ему и раздраженно спросила, не съехала ли у него крыша, потому что у нее высветилось сорок четыре неотвеченных вызова; Господин Муж спросил, что она делала, после чего сам на повышенных тонах принялся ей рассказывать, чем и с кем она наверняка занималась; в ответ любовница сказала ему, что все правильно с той только разницей, что она называет это не перепихоном, а любовью, и разъединилась. Наскоро подбитый баланс убедил Господина Мужа, что если он, несмотря ни на что, желает продолжать внебрачные отношения, то обрекает себя на слишком высокие эмоциональные издержки. Наступило время смирения; Господин Муж сегодня подъедет к дому вовремя, горя нетерпением узнать, какие новые кулинарные изыски ждут его дома.
Но что это за неожиданный гость, что он тут делает, как случилось, что Роза впустила какого-то мужика, — очень подозрительно все это выглядит.
— Дорогой… Пан Роберт спускался с гор и почувствовал себя плохо, я пригласила его, чтобы он дождался тебя; я думаю, мы должны отвезти его домой.
Роберт возражает, он не хотел бы обременять хозяев; Роза спрашивает риторически, что будет, если он снова почувствует себя плохо, к тому же уже смеркается, где это видано — выгонять человека на ночь глядя; Господин Муж охотно подхватывает мысль поехать в город, говорит, что жена права, что он должен отвезти гостя, делая акцент на единственном числе, чтобы Роза поняла, что ей придется остаться дома; Роберт задумался: когда в последний раз он слышал из уст женщины слово «смеркаться», он задумался, какой смысл имеет остаток его жизни, если он не сможет провести его рядом с этой женщиной и слушать, как она спрягает глагол «смеркаться», он раздумывает, что надо сделать, чтобы остаток жизни слушать, как Роза отгоняет его страх перед неизбежными сумерками; Роза пошла что-нибудь накинуть на себя, вот теперь они могут ехать; Господин Муж какое-то время стоит рядом с Робертом и неловко пытается заговорить с ним, что, дескать, все теперь слабеют, погода такая переменчивая, давление падает, но не договаривает, просит извинения и делает скачок в сторону Розы, чтобы отговорить ее от поездки, ну зачем ей ехать, он сам съездит туда и обратно, а она тем временем могла бы что-нибудь приготовить поесть, он в высшей степени обеспокоен, что обед до сих пор не готов, ведь он уже попросил у нее прощения за последнее свое опоздание, а с тех пор он всегда возвращается пунктуально, все вернулось в норму, так почему, черт побери, до сих пор не готов обед, чем она занималась все это время, разговаривала с каким-то бродягой, откуда он такой на них свалился, неужели Роза не понимает, как это легкомысленно — впускать чужих на территорию усадьбы? Роберт думает, как бы раздобыть номер телефона Розы, у него в голове уже роятся мысли о первой любовной эсэмэске, которой он мог бы выманить ее из гнездышка и уговорить вместе разгонять сумерки, ловит себя на том, что впервые после посещения врача он забыл, что скоро умрет; Роза думает, как бы так элегантно дать Роберту номер своего телефона, чтобы он не почувствовал себя сконфуженно, ее вовсе не беспокоит, что Господин Муж заметит это, совсем напротив, она с большим удовольствием демонстративно вручила бы Роберту свою визитную карточку, Роза истосковалась по спонтанным демонстративным выпадам против Господина Мужа, а пока что для начала она берет Роберта под руку и ведет его к машине, выразительно глядя на Господина Водителя; Господин Муж пока не знает, что его понизили в должности и переименовали, но уже подозревает, что ситуация радикально изменилась и дома. И как после этого не поверить, что несчастья ходят парами, ну ладно, проводила мужика к машине, дескать такой слабый и вообще, но садиться рядом с ним на заднем сиденье — это уже легкий перебор, Господин Муж будет сердиться, тем временем машина срывается с места с диким визгом шин. Роберт не ожидал, что соблазнение на месть пройдет как по прописи, хрестоматийно; Роза провокационно склоняет голову ему на плечо; Господин Муж видит это в зеркальце и притормаживает, будто хочет остановиться; Роза непозволительно расчувствовалась, того и гляди, разомлеет от первого встречного. Если Роберт чего-нибудь боится, то только семейных сцен, он не знает ничего более унизительного и утомительного, чем пассивное участие в чужом семейном скандале; скандал с собственной Женой по сравнению с этим кажется пустяком; начиная с детства, когда он часто, совершенно не желая того, оказывался на линии огня между родителями (но о них тсс!), он панически боится очутиться на поле битвы между супругами; Роза говорит этому господину за рулем, чтобы он не переживал, что она не собирается засыпать, и в этот момент кладет в карман Роберта визитную карточку с написанным на обороте магическим приказом: «Позвони»; Господин Муж не верит собственным глазам, а это довольно опасно, когда он за рулем, поэтому он решает сосредоточиться на дороге, а поговорят они на обратном пути, решает он.
Под звуки подъезжающего к дому авто уже формируется комитет по торжественной встрече Роберта; женщины практически синхронно вышли на порог и встали, уперев руки в бока; для Тещи это естественный жест, исходная позиция для охвата явлений земной юдоли; стойка фертом для Тещи — способ выражения ее неприятия того, как идут дела (каждый день руки в боки она слушает, как его преосвященство на своей частоте говорит об участившихся святотатствах, о падении нравов, о процветающих в многострадальной отчизне полякофобии и жидомасонстве; Теща упирает руки в бока и кивает головой с самого утра до самого вечера, вот, дескать, времена настали, орел пястовский[15] теперь в терновом венце; Теща ждет инструкций, как ей поддержать борьбу за спасение унижаемой и разграбляемой страны, правда, до сих пор речь шла только о финансовой поддержке для его преосвященства, который от имени Тещи и всех друзей его радиостанции собирает средства на защиту креста от язычников), а дела идут так, что ее дочь — и этого, который не пойми как себя ведет, Жена — теряет сознание; он уже и на работу перестал ходить, пропадает целыми днями и даже не считает нужным проинформировать семью, куда он направляется и когда намерен вернуться, такое нарушение субординации вносит дисгармонию в семейные отношения; Теща, конечно, понимает, что у Роберта трудный период, с удовольствием поговорила бы с ним, но если Роберт намерен довести ее дочь до нервного срыва, то она чувствует себя обязанной вмешаться; хорошо, что Тесть ни о чем не знает, в последнее время у него своих забот по горло, и лучше его не раздражать; Теща сочиняет язвительную речь, у нее есть на это право, в конце концов, это ее дом, Роберт обязан подчиняться правилам семейной жизни, всенепременно, добавим, гармонической; сочиняет и тут же мысленно перечеркивает, потому что ей в голову приходит идея значительно более интересная. Роберт прощается с кем-то там в машине и уверенным шагом направляется к дому, с выражением лица, в котором нет и намека на чувство вины, ох, и как же он доволен собой, а Жена между тем едва дух переводит от нервного напряжения; Теща знает, как с него посбивать спесь, в свое время она была директрисой гимназии, годы практики превратили ее в мастера ставить всех на свои места, Роберта в этой ситуации нет смысла отчитывать, его следует унизить, так что от имени комитета по торжественной встрече она громко и четко, так чтобы этого сопляка принизить в присутствии тех, кто привез его, а стало быть, своего рода сообщников, кто-то ему даже рукой на прощание машет, через приспущенное стекло не разглядишь, но, похоже, женщина, тем более нужно поставить его на место (громко и четко):
— А-а-а, наконец-то наш бунтовщик вернулся!
12
Ничего, что не было обеда, зато будет прекрасный ужин; Господин Муж наверняка проголодался, но, демонстрируя твердость духа, закрылся у себя, перебрал хемингуэевскую библиотечку и решительно налил себе двенадцатилетнего виски. На такой аперитив надо приготовить какой-нибудь суперответ, у Розы нет времени на эксперименты, к счастью, под домом растет дурман, из которого она сделает ему салат. Роза уверена: это будет самый незабываемый ужин в жизни этого господина.
Господин Муж не может сосредоточиться на книге, лучше просмотреть старые балансы, список расходов, сделанных много лет назад. Это больше, чем рассматривание старых фотографий, это как чтение собственных дневников; все задокументировано из месяца в месяц, изо дня в день, все разнесено по категориям: материалы для работы, обеды в столовой, продукты для дома, услуги проституток (эти фигурировали под рубрикой «пирожное») и т. д., все точно, без пропусков, в столбиках, в табличках, в графиках, Господин Муж листает старые балансы и ностальгирует по жизни, которую можно просчитать, предусмотреть, проконтролировать; брак внес решительные изменения в характер графиков, дезорганизовал таблицы, разрушил столбцы, записи утратили былую симметричность и повторяемость; категория непредвиденных расходов, которая в холостой жизни Господина Мужа играла лишь вспомогательную роль, теперь стала одной из основных. Господин Муж сделал глоток шотландского виски и воскорбел душою о судьбе всех мужей этого мира, которым женщины бесповоротно разваливают балансы. (Где свитер? Старый добрый хемингуэевский свитер в этой ситуации незаменим, в старом свитере приятно погрузиться в кресло и в думу о мире без женщин.)
Но лучше будет отвар. Роза добавит его в вино, у листьев дурмана неприятный вкус, он мог бы и не съесть нужного количества. Зато мясо она приправит щепоткой белены.
Несмотря на закрытую дверь, Господин Муж чувствует доносящиеся из кухни запахи; голод сильнее гордости, он с удовольствием посмотрел бы, что она ему состряпала на сей раз, разговаривать при этом не обязательно.
Стол накрыт.
Господин Муж не может устоять.
Господин Муж так наворачивает, даже приятно посмотреть; Роза подливает ему вино, покусывая при этом багет, присматривается, следит, чтобы он не отравил собаку, — Господин Муж любит бросать ей, а вернее ему — кобель, как-никак, — куски со стола, после чего может с ним делать все что хочет, например вести долгие самцовые разговоры, поглаживать, почесывать растянувшегося на ковре пса; но сегодня любимца лучше держать подальше от стола, инстинкт мог бы ему не подсказать, что Хозяин ест что-то очень нехорошее, что лучше этого даже не нюхать, удивительно, что это ему так нравится, то ли из Розы такой умелый кулинар, то ли у Господина Мужа такие примитивные гастрономические притязания, что зерна дурмана в мясе он принимает за острую приправу, да и вкусовые рецепторы у него после виски притупились, и экстракт из белены в красном вине производит впечатление дубильного вещества, так что нечего нос воротить, надо пить и есть, коли жена кормит, настоящий мужчина должен любить острую еду; Роза сегодня и впрямь постаралась, сапожник Стелька[16] мог бы у нее поучиться изобретательности.
Не жаль ли ей его? Конечно жаль, ведь Роза хорошо знает, сколько ему придется натерпеться, чтобы перестать врать; сыворотка правды для патологического лжеца — высшая мера наказания, но что же ей оставалось делать, если Господин Муж всегда отпирается; Роза чувствует себя обмазанной его враньем, просто ей захотелось наконец отмыться.
Начинается.
У Господина Мужа уже появился первый тик, он даже не замечает его, чистит тарелку кусочком хлеба, должно быть не на шутку проголодался, даже не подумал поделиться с собакой. Под глазом у него начинается пульсация; Господин Муж делает жест, будто хочет отогнать муху с лица, рука тоже судорожно подрагивает.
— Что-нибудь холодненькое попить дашь?
Ах, он ведь собирался не разговаривать с ней, но что-то очень уж зажгло в желудке после этого блюда, аж в нос шибануло и дыхание какое-то прерывистое стало, страшно сухо в носу, слизистая совсем высохла, что она ему такое подала, что происходит? Господин Муж начинает гоготать — ему вовсе не до смеха, но тем не менее он заходится в смехе и не может перестать, как будто само тело его смеется, да и тело как не его — что это оно такое вытворяет, руки двигаются сами как хотят, и смех этот — не смех, а какая-то кошмарная икота, которую невозможно прервать, постойте, как это говорят, чтобы прошла икота, надо кого-нибудь испугать, нет, не так.
— …наверное, самому испугаться, хехехехехехехе-хехехехехе, минуточку, я это вслух? Хехехехехехе-хехехехехехехехехеххе.
— Вижу, что тебе понравилось.
Это Роза, но нет полной уверенности в данный момент, нет никакой уверенности, Господин Муж даже не может отличить слов от мысли, ему кажется, что он отвечает ей, смех прекратился так же внезапно, как и накатил (но уверенности все равно нет).
— Обожаю твою кухню. Если бы Ханка умела так готовить…
Роза включает диктофон на случай, если вдруг заснет, потому что это довольно впечатляющее зрелище: скополамин подействовал, Господин Муж в сильном возбуждении, он ходит вокруг, наклоняется в разные стороны, у него целый букет тиков, у него приступ словоизвержения. У Розы должна быть гарантия.
— Ханка?
Опять этот смех, неподконтрольный, против его воли, смех перехватывает его дыхание, а это уже совсем не смешно; Господин Муж задыхается.
— Хехехехехехехехехехехехехехехех. Йыхыхыы… Что ты мне дала? Ханка, моя Ханка, любовница, эхэхэхэхэхэхэхэхэхэх. Ты знакома с ней, только не помнишь. Она нервная, ужасно ревнует к тебе, не хочет верить, что хехехехехехехехехехе как только ты перевозбудишься, то сразу йыххххыыыы засыпаешь, хехехехехехе.
Господин Муж кашляет смехом, пытается сесть и встать одновременно; только что он заметил, что у него две пары ног, и он начинает отбивать ими чечетку, Фред Астер отдыхает; отбивает чечетку и не перестает говорить (зато перестал смеяться, хотя смех не прекратился, тогда кто же смеется, что теперь смеется, может, это стайка грачей, которая села на полки и на люстру; прилетели посмотреть на его танец):
— Она приходила сюда иногда такая бывала бесстыжая вообще тебя не стеснялась говорила что делает тебе жесткую перезагрузку знаешь что у тебя так ты никогда не помнишь почему заснула лучше не знать поверь но уже все кончено не переживай тебе нравится как я танцую?
Роза может больше не смотреть на все это, может даже заснуть — самой усыпляющей оказывается упорная мысль о том, чтобы ни в коем случае не заснуть, впрочем, об этом можно больше не беспокоиться: диктофон работает, Господин Муж так восхитительно откровенен; получится на самом деле не запись — сказка.
Его глаза потемнели от расширившихся зрачков; лучше, чтобы он не видел своего отражения, после чертова зелья во всех зеркалах дьявол поселяется. Господин Муж как раз проходит параноидальный этап; он даже здесь оказывается банальным — какое воображение, такая и паранойя:
— …замучен и погребен я из мертвых воскресну как говорит святое писание хотя я не гожусь для этого лучше всего поехал бы на рыбалку а то вообще нет ни минуты времени для себя все время уходит на исцеления да наставления еще надо следить чтобы не разнервничалась разговаривал я с иудой снова просил меня назначить заместителем ты не представляешь какой это несчастный человек ну вот опять я тебе говорю а ты снова засыпаешь какой груз я вынужден тащить хочу чтобы меня распяли в моем свитере не спи чтобы ты нащелкала фоток как меня будут прибивать специально зарядил батарейки если бы вдруг появился бог хотя нет от него пленка всегда засвечивается надо иметь какие-нибудь специальные фильтры не спи пожалуйста проверь не ржавые ли у них гвозди я всегда опасался столбняка я такой великий а ты спишь мне нужно на воздух на воздух…
Господин Муж растет со страшной скоростью, если он сию же секунду не выйдет из дому, он застрянет между стенами, между полом и потолком, ой, надо поскорее бежать из дому; вот он уже в саду машет руками во все стороны, пытаясь сорваться в полет, как жаль, что Роза проспала этот момент. Он достиг опушки леса, задел несколько елок, но попросил у них прощения — видимо, больше не взлетит. Господин Муж исчезает в гуще деревьев.
Через несколько часов лес станет будничным. Господин Муж отойдет от сна, которого и не было, в папоротнике, с хвоей в волосах, с клочком мха во рту, грязный, исцарапанный и страшно перепуганный. Он увидит вокруг себя густой ельник, услышит голоса ночного зверья и почувствует, что умер (если бы не старый верный свитер, он мог бы и не пережить эту ночь). Ему посчастливится: полнолуние станет его союзником, Господин Муж сможет пробираться в полумраке, в конце концов он набредет на старую дорогу и попадет домой перед рассветом. Застанет Розу за прослушиванием записей его голоса, хоть и не будет в состоянии понять, как он мог говорить нечто подобное; особенно невероятным покажется ему его признание в супружеской неверности.
— Ты, ведьма, ты хотела меня убить.
— Слишком маленькая доза. Я хотела лишь одного: чтобы ты больше не обманывал меня.
— Как ты можешь это слушать?
— Как ты мог сделать такое со мной?
— Ты знаешь обо всем и… не бесишься? Тебя не клонит в сон?
— Нет.
— Как такое возможно?
— Видимо, я больше не люблю тебя. Я хочу, чтобы ты покинул дом.
— Ты не должна оставаться одна.
— Я не должна оставаться с тобой.
— Я наверняка не заслуживаю прощения, но… Я хочу, чтобы ты знала: мне очень жаль.
— Я прощаю тебе измену, но не могу простить ложь.
Уже наступило завтра. Роза сама вызвала психиатра; у Господина Мужа нет времени, он пакует вещи, набралось много (дом он оставил ей, остальное его). Психиатр умно говорит, по крайней мере успокаивает, одобряет ее решение, женщина ее формата не должна губить свою жизнь с обманщиком, потом сообщает полуофициально, как бы даже конфиденциально, скорее как психолог, что женщина такого формата должна быстро вернуть себе силы путем принятия смелого, но в данной ситуации единственно возможного решения: неудавшиеся союзы надо разрывать после первых же тревожных симптомов, потому что потом опухоль разрастается и высасывает всю положительную энергию, человеку становится невмоготу жить; психиатр должен признаться, что знает об этом из личного опыта, и откровенно должен сказать ей, что он с нею всем сердцем, вот увидите, вы снова полюбите жизнь, не надо бояться одиночества; а Роза и не боится (она думает о Роберте), она предпочитает, чтобы психиатр поменьше психологизировал, она хочет услышать новый диагноз, ей не терпится снова жить.
— Все указывает на то, что причиной приступов было сильное вытеснение. Вытеснение, а не амнезия. Вы не хотели мириться с тем, что вам изменяют… отсюда и бегство в болезнь. Подсознательно вы чувствовали, что это может удержать мужа. Петля начала затягиваться… Сочувствую вам и в то же время радуюсь, потому что, похоже, худшее позади. Как вы себя чувствуете сейчас?
— Легче. Как камень с души.
13
— Господин доктор, — (в Роберте сейчас энергия здорового человека), — пожалуйста, только правду, как долго еще мое состояние не затронет… не затронет мужские функции?
Адам не особо много может сказать Роберту, а из того, что может, ничего утешительного. Адам помнит, как ноябрьское солнце будило в деревенском доме бабочек на чердаке; они безумствовали, вылетали через щели, отдельные попадали в его комнату и бились об оконные стекла, требуя свободы, даже пусть на несколько часов, до первого убийственного холода; он всегда открывал им окно, и каждая предпочитала зимовке за шкафом несколько минут свободного полета над осенней стерней. Роберт сильно возбужден, похоже, что сейчас он переживает одно из тех выздоровлений, которые, как правило, предшествуют окончательной фазе смертельной болезни; Адам не может сдержать удивление, ведь в этом человеке никогда не было столько жизни, он даже не заикнулся о страхе смерти, он рассказывает ему о женщине, с которой познакомился и которую обязательно когда-нибудь ему представит, и феномен которой он пытается ему объяснить бесконечной серией сравнений, среди которых Адаму что-то говорят только Алегретто из Седьмой симфонии Бетховена и гол Марадоны на мексиканском чемпионате мира. Это всё типичные симптомы любовного безумия, Адам кое-что знает об этом, да и сам впал в него, с тех пор как Красавчик окончательно стал мальчиком, а то и парнем и старательно шлифует над его ухом упругость фраз, с тех пор как самозабвенно совершенствует в танце свою гибкость, а заодно (под окном Адама) гибкость и упругость своей попки; а надо сказать, что он никогда не танцевал так хорошо, дворовые бибои все под впечатлением, Красавчик считается фаворитом ближайших соревнований, он всегда был в прекрасной форме, но всегда оставался каким-то скованным, его стеснял мужчина, теперь же на Красавчика не наглядишься, такие у него кошачьи движения, так он держит ритм, из акробата он превратился в танцора; парни говорят, если он не потеряет формы, то может наконец вытанцевать себе имя, а не шарить по чужим карманам.
Роберт решился на лечение; проблема состояла в том, что уже слишком поздно, чтобы из этого что-то вышло, Адам знает об этом, но Роберт внезапно судорожно ухватился за краешек жизни и силой воли, подпитываемой любовным дурманом, готов долго еще держаться. Нет смысла дополнительно травить этого человека, но, учитывая решительное желание пациента бороться с болезнью, Адам прописал плацебо, немного анестетиков и легкий антидепрессант, пока хватит; пациент перейдет на уколы без мысли о смерти, а это самое важное. Смертельно больным дано особое видение, оно становится возможным благодаря окончательной перспективе, такие люди видят больше, а вес их слов, похоже, точно отмерен; Роберт внезапно становится серьезным и не столько сам начинает говорить, сколько какая-то посмертная мудрость вещает его устами:
— Я, доктор, тебе кое-что скажу, потому что ты еще молодой и не успел профукать жизнь. Слушай и запоминай: существует семь смертных грехов, но самый главный из них — лень. Под многими именами будет она маскироваться; угрюмость или меланхолия — любимые ее обличья. Не поддавайся праздности, потому что, стоит ей тебя заграбастать, ни за что не отпустит. Ночи проспишь, дни прозеваешь, от трудностей уворачиваясь, усилий избегая; ты станешь слепым и глухим ко всем стихиям. Червь станет заботиться о тебе. Вместо радости ты будешь испытывать зависть ко всем, кому жизнь в радость. Ты перестанешь жить, ты начнешь плесневеть и с плесенью на устах будешь топтаться на одном месте, ненавидя песни других.
Так сказал Роберт, так ему сказалось. Сейчас он идет на укол. Ему страшно; смерть ему не страшна, а вот уколы — страшны, сколько себя помнит, со времен школьных прививок и потери сознания в медкабинете. Медсестры меняются на дежурствах, и каждая делает укол по-своему: точно тот же объем шприца, та же самая толщина иглы, а как все по-разному. Те, что с обручальными кольцами, всегда какие-то отсутствующие, собираются парочками или группками и над головой пациентов обмениваются друг с другом опытом молодых жен и матерей, их разговоры возносят их высоко над кушеткой, муж приносит тринадцатую зарплату, вот мы в перекрестке и гульнули на широкую ногу, рекламная акция была — лосося выкинули, а я в жизни никогда лосося не ела, не напрягайте мышцы, и даже думала, что не понравится, потому что тунца я, например, не перевариваю, согните в локте и подержите пару минут, а знаешь, что мой Ясек учудил, у меня свободная минутка выдалась, а он, видите ли, мишку не хочет, подавай ему собачку, ну даю ему, а сама сижу, кроссворд разгадываю, а он опять: не та, видите ли, собачка, ему тогда лучше мишку, ну даю ему мишку, а он снова, что не то, я тогда к нему: чего ты, в конце концов, хочешь, а он, мамочка, я хочу, чтобы ты меня любила, в какую ягодицу сегодня делаем, представляешь, такой маленький, а такой умный; эта рыжая вечно чем-то недовольна, приходится подрабатывать в скорой, она вкалывает шприц движением мастера игры в дартс, точно ягодица Роберта — это мишень, которую надо поразить, пусть и с самого близкого расстояния, но хотя бы тренируя при этом локтевой сустав: вонзает иглу, а потом молниеносно впрыскивает весь миллилитраж, а ведь должна по идее знать, что так болит сильнее всего, особенно если попадается болезненное лекарство (потому что бывают и безболезненные, Роберт удивлен, что самыми болезненными оказываются как раз анестетики), умножающее боль моментальностью инъекции, может, этой рыжей только того и надо, чтобы было больно, потому что, когда Роберт говорит ей, что немного побаливает, если укол делать так быстро, она, уже занятая чем-то другим, уже поставив галочку против его фамилии, возражает: «А на что, собственно, жаловаться, если только немного побаливает?»; она не смягчилась, даже когда Роберт надел красные боксерки с дедами-морозами — самый позорный вариант мужского нижнего белья, на какой только он мог решиться, — с надеждой, что, может быть, хоть рассмешит ее, да только не станет она обращать внимание, кто у себя что с задницы стягивает, если она всего лишь хотела проверить гибкость своего локтевого сустава, а нетерпеливый шприц уже выбрасывал капельку в воздух, давая сигнал к атаке; да и новенькую если взять, то же самое: хоть молоденькая, но какая-то мешковатая, взволнованная вся, так старается, чтобы он не почувствовал укола, что Роберт обычно чувствует его как укол сразу тремя шприцами, а уже совсем невыносимым становится, что, беспрерывно вереща, как будто это может смягчить боль, она облекает все в уменьшительно-ласкательную форму, приглашает его присесть на табуреточку и подождать, пока приготовит укольчик, а когда Роберт слышит «А теперь будет немножечко больно», он молится про себя, чтобы игла не сломалась, когда у него инстинктивно напрягутся ягодицы. Сегодня ему повезло: дежурит панна Воздушная, руки которой в нежности прикосновения дезинфицирующей ваткой места будущей инъекции не имеют себе равных, которые легкостью, с какой незаметно вводит ему в мышцы иглу, могли бы соперничать с самой умелой комарихой; осторожностью, которая направляет ее руки, когда она медленно вводит в ткани Роберта медикамент, она напоминает спасателя, ползущего по тонкому льду к проруби с тонущим. Панна Воздушная — добрый дух хосписов, всем почему-то хочется, чтобы она была рядом, говорят, что рядом с ней смерть смягчается (действительно, панна Воздушная не считает, что страдания облагораживают, и поэтому милосердно вводит пациентам смертельную дозу морфина; в будущем, в совершенно другой, грустной сказке она ответит за это перед судом, пусть не перед Страшным, но не менее беспощадным, потому что облегчать человеческие страдания в этой стране считается преступлением).
Адаму хочется быть с Красавчиком, Красавчику хочется быть с Адамом; затруднение в другом: им хотелось бы неприкрыто хотеть друг друга, в свете дня и под сенью закона, а это не так просто. Они отнюдь не стремятся выставить себя участниками гей-парадов; в этих местах выйти из укрытия все равно что высунуться из окопа под прицел снайпера; взять хотя бы первый попавшийся пример: всего-то и сделали что несколько дружеских, совершенно невинных снимков вместе, а уж чего только не пришлось выслушать Адаму, когда он получал фото (чтобы больше сюда не приходил!), а на выходе, в дверях, услышал за спиной смачный плевок, приправленный смачными тирадами. Ну не получается, никак, придется парням сматываться; но чтобы в деревню… Домик вроде как стоит пустой, ключи ждут, как Мать ему потихоньку, как бы между прочим сообщила по телефону, хоть и добавила, что если бы Адам захотел поселиться с этим… (она не знала, как Красавчика назвать, в ее лексиконе не было нужного слова, прервала речь, и стало понятно, что Красавчик для Матери надолго останется «этим»… пока что невозможно рассчитывать на что-то большее), так вот, если бы он захотел привезти с собой этого… то она за Отца не ручается, потому что старик скорее подпалит дом или под детский приют его определит, хотя все записано на Адама, да только и у Отца своя правда есть. Лучше, конечно под приют, потому что Красавчик, почитай, сирота, от Адама родители тоже отказались, хоть Мать теперь клянется, что никогда ничего подобного не говорила, она лишь не может душою смириться, понять, за какие грехи такое наказание, ведь Бога она не хулила, сына окрестила, под причастие подвела, а как ладненько смотрелся он в костюмчике на фотографии перед первым причастием, вот и сегодня только взглянет на карточку ту, так сердце на кусочки и разобьется, так она слезами и умоется, и оплачет безвозвратную потерю. Мать считает, что незачем жить, коль скоро венчания церковного не дождется от сына, вот если бы хоть какая надежда была на перемену — если Адась согласится лечиться, потому что это болезнь такая, а мальчик ее ни в чем не виноват, обязательно какое-нибудь средство да должно найтись… Адам не заморачивается на тему, захочет ли исконно польская деревня приютить двух влюбленных пареньков, окна им не повыбивать, дом их не подпалить, собаками их не потравить, с амвона их не проклясть; в голове Адама рисуются даже более крутые меры, но в одном он уверен: оба хотят хотеть друг друга открыто, в свете дня и под сенью закона, а тому кварталу, где они жили, — хана, темная звезда ему светит, Красавчик только что из-под нее выбрался, и чем дальше от ее лучей окажется, тем лучше, несмотря ни на что и вопреки всему — лучше.
Пора на соревнования, это важное дело, ребята говорили о шикарных призах: фирменная толстовка (с капюшоном) и штаны-зуавы, просто и элегантно;
Красавчик застегивает сумку, пожимает руку Адаму, их пальцы переплелись, им хотелось бы вместе, но пока им нельзя; Адам приедет поболеть инкогнито. Автобус ждет, парни собираются на площади перед вокзалом, Красавчик уже бежит через сквер, по газону, через насаждения, а на тротуаре лавирует между собачьими кучками, осталась последняя улочка, последний рывок, чтобы не опоздать, ой, видимо, опоздает: Лютик с дружками, вот так встреча, точно, не разойтись.
— Привет, пропусти, нету времени, еду на соревнования.
— На какие, блин, соревнования? Чё пургу гонишь? Ты на матч с нами ехать обещал, и что в итоге?
Красавчику не удастся вырваться; его уже качки в спортивных костюмах обступили, бычья самцовость силою в четыре профессиональных вышибалы, подручных Лютика, к стене его припирают.
— Кто-то ментам настучал, и нас вообще не впустили на стадион. А мы им за это их машину расхуячили, я, блин, резиновой пулей получил, парней, блин, из водометов, а знаешь, что потом газеты написали? «Несмотря на мелкие инциденты перед стадионом с участием приезжих хулиганов, на поле и на трибунах царила прекрасная спортивная атмосфера». Червонцы нас поимели. И как ты думаешь, кого теперь все подозревают? Кого в районе считают стукачом? Можешь нам сказать, куда ты в последнее время запропал? Без мордобоя признаешься или сразу тебе порвать твою крысиную пасть?
И хоть нет больше в Красавчике мужчины, того, у которого от такого оскорбления зашумел бы тестостерон в висках, глаза кровью бы налились, из носа пар бы повалил и кулаки сжались бы в убийственном гневе, инстинкт подсказывает ему, что лучшая защита — это нападение, по крайней мере его имитация:
— Так, в чем проблема? Если не слабо, попроси дружков сделать кружок и выходи один на один.
Красавчик все еще думает успеть на автобус: если бы они чуток расступились, он рванулся бы ракетой, в старте с места он спец. Рассчитывает на мужской гонор Лютика, на этот отягощенный условностями ритуал мордобоя, на весь этот прасамцовый кодекс, который велит принять вызов, потому что иначе — позор, и вообще; Красавчику с некоторых пор это без разницы. Частично получилось: компашка перестает стискивать, отступают, коль скоро обещано зрелище, жаль только, что не могут поставить у букмекера на своего. Лютик, к сожалению, мотает головой — как это понимать? Он отказывается от поединка, вроде как признает, что не мужчина?
— Не, ничего у тебя не выйдет. Со стукачами не дерутся, стукачей карают.
Лютик замахивается, чтобы начать очередную пластическую операцию, его лапа обладает поистине убийственной силой при условии, что он не промахнется; Красавчик увертывается, раз, другой, третий, Лютик машет лапой и не может попасть, его дружкам это кажется даже забавным, Красавчик, собственно говоря, уже танцует — танец нырков, уверток; если бы соревнования проводились по этой дисциплине, то Красавчик наверняка выиграл бы их, но здесь ставка повыше; Лютик взбешен, потому что над ним издеваются в присутствии его же свиты, а кроме того, сбывается его самый кошмарный из снов — сон о бессилии: все его удары мимо, он не может дотянуться до лица, которое ему так хочется размозжить, набить, отделать, и чем больше он не может его достать, тем большую кару изобретает, но над ним смеются, а Красавчик танцует себе и танцует; у Лютика лопается терпение, он достает нож. Танцы перед ножом — дело рискованное, даже во имя собственного спасения. Лютик хочет поженить Красавчика с косой, как будто не знает, что он уже с другим помолвлен. Самое время сделать официальное заявление:
— Спрячь ножик, а то меня поранишь. И сам заразишься геевской кровью. Не знал, что я гей, дружище? Понимаешь, не мог я поехать на стадион, потому что мой парень не хотел выпускать меня из постели. Да и я его тоже. Такого перепихона эта дыра еще не видела. А если ты хочешь проверить мое алиби, поспеши, потому что скоро мы отсюда сваливаем. А теперь сделай мне приятное и поцелуй меня в попку.
Бог, честь, отчизна и смерть сексуальным извращенцам звучат в одном ухе Лютика, а в другое ипохондрическая гомофобия шепчет ему, чтобы вел себя аккуратнее с ножом, кровь не пускал, не то СПИД подцепить не долго, Лютик безоружен против такой постановки вопроса; и как он мог раньше не заметить, а ведь столько лет провел вместе с геем, пили из одной бутылки, столько раз одни и те же комары их кусали… Он серьезно обеспокоен, у него опускаются руки; Красавчик пользуется этим и стрелой вылетает из окружения. Никто даже не пытался его догонять. Стоят и смотрят, как он исчезает.
— Во чешет, Затопек[17], — прошамкал пожилой прохожий.
— За какой такой топек? — спрашивают те, что помоложе.
За городом автобус пустеет, сзади — неразговорчивые рабочие, уставшие после смены, спереди — Скшыпошко, Бартошко и Конопцына вдобавок, на сей раз помалкивают, наговорятся позже, пока что только таращатся, высматривают, как Адам с Красавчиком вместе едут, сумки везут и за руки время от времени берутся, не случайно и подозрительно; стало быть, правду люди говорили, а теперь и куры раскудахчут, собаки раздают, кошки размяучат, за час вся деревня узнает, кто с кем приехал, и наверняка захочет разузнать, надолго ли и зачем.
— И едут всё и едут, да всё норовят в чужой монастырь со своим уставом, — первой прерывает молчание Скшыпошко, обращаясь неизвестно к кому, но так, чтобы кто надо слышал.
— Точно, город — это город, а деревня — это деревня, — подхватывает Конопцына и выразительно смотрит на кого надо.
— Что в городе пройдет, деревне не подойдет, — непроизвольно в рифму, но все же по теме высказывается Бартошко, так чтобы до кого надо дошло.
— Да заткнитесь вы, бабы, и не лезьте, черт бы вас побрал, к людям! — рявкнул водитель, в последнее время особенно раздраженный, потому что развод у него растянулся длинной соплей. И Скшыпошке, которая, как обычно, за его спиной стояла, надпись на стене кабины указывает, что, дескать, нечего водителю мешать во время езды. — Читать умеете? Тогда живо на место, предназначенное для пассажира. И нечего мне тут за спиной маячить, не то в поле высажу.
До конечной остановки полная тишина, хоть в бабах чуть не закипело, когда водитель свернул с маршрута и подъехал под самый дом родителей Адама.
— Нечего парням тяжести таскать.
И еще помахал им на прощание, а что, пусть старые квочки тухлые яйца со злости снесут; водитель так растоптан несчастным браком с женщиной-ката-строфой, что, если бы ему кто предложил еще раз выбрать, тоже предпочел бы с парнем жизнь связать, потому что они, эти гомики, знают, что делают, они правильно мыслят, подумал он, подъезжая к остановке.
Встали Адам и Красавчик у калитки и собираются войти, не теряют надежды.
А дома как раз бульон припозднившийся, потому что работы было много; Отец ест и говорит, Мать слушает, хоть тема уже оскомину набила; с последнего посещения сына Отец никак не может просто о севе, погоде или конях, все как-то презрительно надо ему пройтись насчет того, что случилось:
— У животных и то такого не увидишь, чтобы конь на коня вскакивал, а не на кобылу. Я этого понять не могу. А бульончик-то добрый, добавочки попрошу.
Добавка замирает в половнике на полпути к тарелке, потому что нежданные гости в дверях стоят, сын единственный и партнер его, на этот раз одетый просто и элегантно, в блузе и штанах, вытанцованных на соревнованиях.
— Вон отсюда! — говорит Отец вместо приветствия, встает и показывает рукой на дверь. — Оба, немедленно, не то не знаю, что сделаю. Это мой дом.
И уж чуть не схватил сына за руку, и уж чуть не выпроводил как в старые добрые времена, когда все было такое, что крестьянский, мужицкий ум был в состоянии понять, но рука Адама занята, Красавчик держит ее и придает силу; и уж как бы теперь Отец ни разошелся, Адам не отступит, пока не получит того, за чем пришел:
— Тогда попрошу ключи от моего дома.
Отец встает лицом к лицу перед Адамом и смотрит ему прямо в глаза, будто взглядом этим хочет его за дверь выпихнуть; до сих пор сын никогда этого взгляда не мог выдержать, всегда смиренно опускал голову — даже когда пытался протестовать, ничего не смел сказать Отцу прямо в глаза, его мужской, мужицкий взгляд, поданный в сыром виде, был непереносим; теперь же Адам, хоть глаза его разболелись, хоть он сощурился и заморгал, не уступает ему, выдерживает отцовский взгляд; взгляд этот отцовский до того тупой, до того мужицкий, осоловелый, без малейших шансов на взаимопонимание, ядовитый и василисковый, твердый и ненавистный, что Адама смех разобрал: Отцу так страшно хочется быть страшным, что он становится гротесковым, пузырь враждебности чрезмерно раздул, и Адам не может удержаться от смеха, но это не злобная усмешка, а скорее удивление, что ярость так легко становится жалкой, это улыбка радости, потому что впервые можно сказать громко и четко то, чего он ждал всю жизнь и что так легко получилось, когда за руку держал Красавчик:
— Я больше не боюсь тебя, папа.
14
В спальне горит свет, Жена стоит рядом с кроватью и смотрит на Роберта, до нее постепенно доходит, что происходит, что ее разбудило: Роберт что-то шепчет, бормочет, губы делает трубочкой, все это кажется ей слишком сладострастным; Жена стягивает с него одеяло, расталкивает, Роберт садится на кровати и недоуменно смотрит на нее.
— Ты разговаривал во сне.
Роберт обводит взглядом спальню: где это он, что это за женщина и что вообще происходит, почему сейчас середина ночи?
— Ты разговаривал во сне, — говорила Жена, будто схватила его за руку с поличным на месте преступления, будто зачитывала окончательное безжалостное решение суда присяжных, будто с сего дня его имя в газетах должно будет обозначаться только одной буквой; имеет ли что сказать обвиняемый в свое оправдание?
— Ну да, действительно, мне что-то снилось.
— Но ведь тебе никогда ничего не снится!
— Да я и сам удивляюсь.
— Ты можешь сказать, кто тебе приснился?
Роберту приснилась женщина, которая ничего от него не требовала, с которой он пил из одной кружки, ел с одной тарелки, спал в одной постели, ощущал ту же самую сладкую дрожь под кожей и говорил с ней в один голос. Разговоры с которой были таким бальзамом, что им было жаль молчать даже тогда, когда они любились. Это была та самая женщина, которую он хотел видеть рядом с собой, когда он будет лежать на смертном одре.
— Само собой, ты, — соврал Роберт. — Кто еще мог бы мне сниться?
— Но меня зовут не Роза!
— Ну значит, ты снилась мне в образе какой-то другой женщины.
Пора. Уже сумерки, а скоро будет совсем темно. Лет сорок с небольшим его тело как-то само по себе вставало и бродило между вами, на все времени хватило — и на праздность, и на дело, теперь пора заснуть, шабаш, гонка финиширует, пришло время занять последнее место; Роберт для себя уже нашел его. Не здесь. Он собирает сумку.
Жена кружит по дому, прикасается к стульям, перилам, вазам, проверяет. На своих ли они местах, не потеряли ли они своей стульчатости, перильчатости, вазовости; коль скоро Роберту стали сниться сны, то все возможно, все позволено, даже то, что Бога нет. Она бы пожаловалась маме и папе, собрали бы семейный совет с целью решительного обращения к разуму Роберта, но сейчас другие вещи занимают их, к Тестю нельзя приставать с ерундой в то время, как какие-то политические авантюристы, как он их называет, ополчились на него. Тесть хочет знать, кто за этим стоит и кто заинтересован в том, чтобы убедить нескольких из его бывших секретарш в том, что шлепанье по попке и усаживание к себе на коленки очень даже подпадает под определение «домогательства сексуального характера», кто научил их, чтобы они непременно вспомнили, какие еще вроде как приветственные спонтанные действия позволял себе их бывший шеф, и вполне ли они уверены, что давали ему разрешение на нечто подобное, а если и давали, то не под начальственным ли нажимом. Тесть не считает себя виноватым, но партия уже сделала ему предложение, от которого невозможно отказаться: или он снимет с себя депутатский иммунитет и очистится от обвинений, или его исключают из партии. Ничего он с себя не собирается снимать, будут еще какие-то левацкие сопляки объяснять ему, как надо обходиться с женщиной, эдак скоро и вовсе окажется, что целовать даме руку — сексуальное домогательство, дарить ей цветы — взятка, а делать комплимент — вербальное насилие; именно так пытается организовать свою защиту Тесть перед лицом СМИ и домашних, особенно Тещи, которая триумфально и возвышенно длит свое тихое существование, без сочувствия присматриваясь к упадку мужниной карьеры. Его преподобие мог бы гордиться ею. Ее личное участие в отыскании зацепки на самого непотопляемого представителя вражеской группировки трудно переоценить. Достаточно было переписать из записной книжки мужа телефоны практиканток, стажерок и секретарш, пропорхнувших через его депутатское бюро за последние пару лет; очень оказалась недурная коллекция. Теща один-единственный раз обратила его внимание на то, что не стоит держать номера телефонов, по которым, как он заявлял, давно не звонит; Тесть один лишь только раз пообещал ей выбросить их в ближайшее же время; Теща один лишь раз предложила ему свою помощь в наведении порядка; Тесть один лишь раз с вежливой решимостью ответил, что справится сам; Теща передала список телефонов (естественно, анонимно) журналистам из газеты, которую она (так ее научил его преподобие) презирает, но при всем при том цель оправдывает средства, а цель была в высшей степени благородной: убрать политика, деятельность которого радиостанция давно уже не поддерживает и даже больше — слегка осуждает, потому что его группировка заблудилась на путях Истины, а заодно — вернуть мужа в семью, пусть он на старости лет рыбалкой займется, перед телевизором посидит, пазлы поскладывает; а политикой уж сама Теща с удовольствием займется, с Божьей и Богоматери Лихенской помощью.
Жена суетится, заглядывает в кабинет Роберта, видит, как он сражается с молнией, которую давно уже надо было бы сменить; придется сумку сколоть булавками.
— Это что такое? Снова куда собрался?
— На тот свет.
— Ты думаешь, что это смешно?
— Не знаю, зато пытаюсь быть искренним.
Мигрени и истерики, подождите немножко, потому что на наших глазах проклевывается прекрасный образчик женского гнева, пускает почки, набирает полную грудь воздуху и изо всех сил выплевывает его прямо в Роберта:
— О чем ты говоришь?! Что с тобой происходит в последнее время?! Пропадаешь неведомо где, меня даже не спрашиваешь, вот и теперь вижу уложенную сумку — объясни, в чем дело?!
— Я ухожу.
— Ты? Ты… Ты дебил!! Уходишь?! Он, видите ли, в голову себе вбил, что может так просто уйти! Собрать манатки и смыться! Ты считаешь, я заслужила такое отношение?!
— Я не сказал, что ухожу от тебя. Как бы это тебе объяснить: я ухожу от всех вас, совершенно, просто исчезаю.
— Просто?! Что ты такое говоришь?! Да ты ненормальный!! Тебе надо лечиться!!
— К сожалению, лечиться уже поздно.
— Ты дрянь!! Ты идиот!! Ты… графоман!!!
— Не мало найдется таких, кто поаплодировал бы тебе, но это уже ничего не изменит. Понимаешь, я откладывал эту минуту много лет, все уговаривал себя — на следующей неделе, самое большее через месяц, соберу манатки и уеду, начну другую жизнь; и так я откладывал свою жизнь со дня на день. Но все имеет свой конец. Теперь тебе придется научиться жить без меня.
— Нет, так дела не делаются!! Ты не имеешь права!! Я твоя жена!!
— Это правда, несколько лет тому назад я взял тебя… принял тебя за кого-то другого.
Роберт застегивает сумку и проходит мимо ошалевшей Жены к выходу. Но уже на лестнице, когда он спускается в гостиную, его догоняет крик, плач и скрежет зубовный; Жена пытается схватить его, но, устраненная с пути (решительно, но вежливо — наконец-то научился!), она падает на пол и разыгрывает припадок, Роберт знает, что не должен обращать на это внимание, Жена не позволяет ему удалиться, хватает его за брючину и тащится по полу за Робертом, невозмутимо шествующим к гостиной, ему не хотелось бы устраивать там сцену; не тут-то было: на крик прибегает Теща и видит, как ее дочь, уцепившись за ногу мужа, сползает вслед за ним по лестнице, Роберт высвобождается, но Жена стаскивает с него ботинок и взывает к Теще, чтобы та не позволила ему пройти; Теща перегораживает дорогу, Роберту приходится пробиваться, он теряет силы, Жена снова бросается на него, все трое падают, катаются клубком, пищат, стонут и плюются. Тесть входит в гостиную, прилично накачанный алкоголем и транквилизаторами; он чувствует, что лучше всего было бы порубить на мелкие кусочки этот клубок змей, эту семейную группу Лаокоона, снимает со стены представительскую сарматскую саблю, подкручивает ус и во имя Божие начинает рубить воздух, Теща прощает Роберту и пытается предотвратить трагедию, умоляет мужа одуматься, но Тесть уже вошел в фехтовальный раж, на фехтовании у него вообще пунктик, он обязан что-нибудь немедленно порубать, Теща считает, что если порубать, то лучше всего супчик, но Тесть предпочитает начать со свечей, кресел, стульев, картин; он протыкает все, что ему попадается под руку. Теща вступается за семейные реликвии; Жена впадает в ступор с мужниным ботинком в руке; Роберт в одном ботинке убегает. Бежать недалеко; Роза уже ждет под домом, в машине с включенным двигателем.
Пусть хоть немножко поживут вместе, не станем их торопить. Пусть коротко, но счастливо. Потому что потом…
Роберт больше не хочет. Он просит Розу, чтобы та позвонила панне Воздушной, а потом чтобы села на кровати рядом с ним и держала его за руку. До самого конца. Когда он плавно и безболезненно перенесется в свою детскую комнату. Вот и мама, она только что поцеловала его и пожелала спокойной ночи, хотя ему вовсе не хочется спать сразу после детской телепередачи. Почему другим можно в это время смотреть телевизор, а он должен обнять зайчика и заснуть по приказу. Один в пустой комнате. Он не хочет, не хочет, не хочет. Вот если бы можно было закрыть глаза, открыть их и сразу увидеть утренний свет, чтобы снова в твоем распоряжении был целый день, игры, самокат, качели и горки. Не гасите только свет. Есть тут кто?
Эй, жизнь! Ты ведь не оставишь меня одного?
15
Роза выходит из здания театра, стайка поклонников просит автограф, какой-то молодой мужчина вручает ей букет цветов; радостная, идет она дальше по улице, проходит мимо здания суда и приоткрытого окна подвального помещения, в котором формировался специфический взгляд Роберта на мир; кто-то теперь там обитает, какой-то грустный господин переставил стол так, чтобы сидеть спиной к окну, сидит работает.
Господин Муж в этот момент дает чаевые не самой девственной из девушек, он может себе позволить это: его балансы снова сходятся.
Красавчик прибивает табличку с номером на дом Адама; Адам спрашивает Мать, которая в этот самый момент принесла бутерброды, вышел ли Отец из размышляльни, в которой заперся в знак протеста; Мать отрицательно мотает головой, но сообщает, что хотя бы начал разговаривать и все указывает на то, что скоро у него это пройдет.
Теща дает первое в жизни интервью в качестве самостоятельного политика и очень недовольна, что, вместо того чтобы спрашивать о ее программе, спрашивают о ее муже; Тесть же в это самое время проверяет, сколько раз за последние сутки его фамилия появилась в Интернете, и впадает в бешенство оттого, что так много, потому что причина — интервью его жены.
Жена под опекой Психиатра исключительно удачно приходит в себя, особенно с того момента, как он ей объяснил, что, в сущности, люди могут жить только в других людях, а депрессия — это всего лишь бездомность, от депрессии страдают люди, которым не в ком жить, а посему предложил открыть перед ней свою дверь.
Роберт жадно во все это всматривается: он пока еще не привык видеть все вместе одновременно.
Хожув, 2005–2008;
Кремс-Штайн, 2008
Примечания
1
Поляки до сих пор верны древнему славянскому обычаю ставить изображения святых на развилках дорог. — Здесь и далее прим. пер.
(обратно)2
«Из Европы, сэр, как и все мы» (англ.).
(обратно)3
Прерванное соитие (лат.).
(обратно)4
Гений места (лат.).
(обратно)5
Прекрасный телом и душой (греч.). Понятие, означавшее в Древней Греции совершенного человека и гражданина — олицетворение аристократического идеала.
(обратно)6
Железо, железный; утюг (англ.).
(обратно)7
Non omnis moriar — не весь я умру (лат.).
(обратно)8
Гевонт — горный массив в Западных Татрах (высота 1894 м); на вершине железный крест высотой 15 м.
(обратно)9
All cops are bastards — Все полицейские ублюдки (англ.).
(обратно)10
ПФС — Польский футбольный союз.
(обратно)11
Роза — фанатский шарф.
(обратно)12
«Капитан Жбик» — самая длинная (53 тетради) серия польских комиксов.
(обратно)13
Монах — скала в Польских Татрах (2067 м).
(обратно)14
«Где жгут книги, там в конце концов будут жечь людей» (нем.) — Г. Гейне. «Альманзор» (1821).
(обратно)15
Государственный герб Польши. Пясты — первая польская княжеская и королевская династия.
(обратно)16
Сапожник Стелька — персонаж польской сказки, умеет справиться с любой задачей, потому что ему помогают все те, кому когда-то он помог.
(обратно)17
Эмиль Затопек (1922–2000) — легендарный чешский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион; в 1948–1954 гг. не проиграл ни одного старта на дистанции 10 000 м.
(обратно)



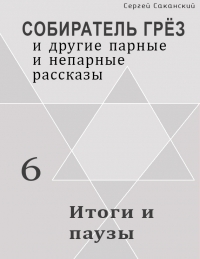




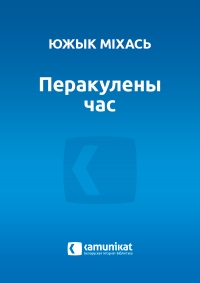
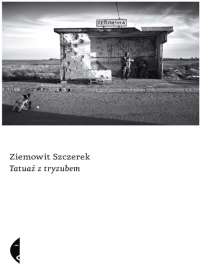
Комментарии к книге «Как сон», Войцех Кучок
Всего 0 комментариев