Наталия Соколовская РИСОВАТЬ БОГА Роман
– Соня! Соня! Иди сюда! Да скорее же.
«Господи, какая она нерасторопная». Славик сидел на полу в прихожей, возле стенного шкафа, служившего кладовкой, и разбирал содержимое картонной коробки, последней, забытой, из самого дальнего угла. Вытаскивал и сортировал то, что давным-давно укладывала в коробку его покойная мать, разбирая и сортируя содержимое каких-то предыдущих коробок, и так же, как он сейчас, «избавляясь от хлама», откладывая то, что «может быть, еще пригодится».
Возле Славика на полу лежала перетянутая бечевкой стопка вышитых крестом салфеток, а рядом стопка маленьких наволочек для «думок», – были раньше такие подушки в обиходе чуть не каждой семьи, да перестали быть. Славик вспомнил мамино «положи думочку под щеку, сладко спать будешь», вспомнил прохладу туго накрахмаленной наволочки, потерянный уют… Для чего они теперь, и подушек такого размера в доме нет. Славик вынул из стопки одну наволочку, остальные отложил на выброс.
«На выброс» уже лежали голубым плюшем обтянутые громоздкие альбомы для фотографий, пустые, а сами фотографии, матерью не однажды отобранные из отобранных и, наверное, важные, Славик положил отдельно, потому что выкинуть за просто так на помойку всех этих ему уже незнакомых или смутно знакомых людей с лицами и одеждой утерянного фасона – было неудобно. «Жгла ведь она, чего ж это оставила. Тоска-то какая».
Славик вспомнил «костер», который мать устроила в старом ведре, во дворе их дома, за год до смерти. Вспомнил, как выскочила из подъезда молодая горластая дворничиха с криком: «Чего жжете-то, вон хлопья по всей территории летают!»… Вспомнил и слезы матери, растерявшей, как она потом сказала, «значительность момента». Дворничиху Славик с тех пор боялся и обходил стороной, даром что та была соседкой с первого этажа.
Пачку перетянутых атласной ленточкой писем он, вздохнув, тоже отложил для разбора. Настроение испортилось. Он не хотел вникать в эти свидетельства, подтверждающие прямо или косвенно и его, Славика, существование. Ему это было не нужно. Мешало. Ведь он знал, что его нет.
Собственно, кутерьма с перетряхиванием коробок произошла из-за Левушки, а то стояли бы они в кладовке до второго пришествия, или до того дня, когда сын прилетит после их смерти переоформлять на себя квартиру.
Сын позвонил неделю назад из Владивостока, где жил с женой и дочерью уже пятнадцать лет, занимаясь в местном университете какими-то немыслимыми системами с бесконечно большим числом степеней свободы. На сей раз он обрушился на Слвика с критикой за небрежное отношение к истории семьи. «Случайно в Интернете наткнулся. Почему я должен со стороны что-то узнавать? – спрашивал Левушка. – Может, это совпадение. Но тогда я хочу убедиться». И просил поискать в коробках, потому что в детстве он с бабушкой в них копался и, кажется, что-то там видел.
Славик обеими ладонями похлопал себя по груди, стряхивая пыль с домашней курточки.
– Ну и где же ты?
Как большинство тихих, неконфликтных людей, сердиться он умел по пустякам.
Пришла Сонечка, посмотрела на взъерошенного мужа, оценила масштабы беспорядка, ничего не сказала.
– Вот, Соня. – Последние годы Славик редко называл жену уменьшительным домашним именем. – Посмотри, что это.
– А?
Славик запустил пальцы в пегий венчик на голове, качнулся и промолчал. Бессмысленные «а?» на каждый значительный и малозначительный вопрос его очень раздражали.
Начались Сонечкины переспрашивания с тех пор, как она вышла на пенсию, то есть давно. И естественно, в своей справочной службе 09 никаких «а?» она себе не позволяла. Первое время Славик терпеливо повторял сказанное, но однажды, то ли случайно, то ли намеренно, замешкался. Каково же было его удивление, когда Сонечка, не дождавшись повтора, после секундной паузы дала исчерпывающий ответ.
Сонечка взяла в руки жестянку из-под монпансье «ландрин», открыла и, разглядывая содержимое, шевельнула пальцем ветхий обрывок газеты с иностранными буквами.
– Славик, это челюсть. Протез. Верхний. Кажется, мужской.
Как Сонечке удалось установить половую принадлежность протеза, было не ясно. Славик поднял голову. Сонечка, не дожидаясь вопроса, сказала «а?» и сама же ответила:
– Задние зубы такие крупные.
– Чей он? – Славик стал рассматривать на свет пожелтевшую пластмассу.
– Что-то я такое припоминаю… Да! Мама рассказывала. Это, кажется, дядя Гриня с войны привез. Надо ему позвонить.
Младшему брату Сонечкиной матери было крепко за восемьдесят, жил он на другом конце города в семье своего сына, из дому не выходил, но регулярно давал о себе знать телефонными звонками по красным датам советского календаря, а также на Новый год.
Славик слышал, что с войны привозили машины, мебель, сервизы, шубы, иногда целыми вагонами. Но чтобы челюсти… Про это ему ничего известно не было.
– Хорошо, спросим. Но помнит ли он.
– Дядя Гриня помнит все. – Сонечка присела на корточки рядом с мужем. – Он помнит даже, сколько платил партвзносы, пока их еще положено было платить.
Дядя Гриня не только помнил сумму последних партвзносов, но умудрялся по одному ему понятному алгоритму рассчитывать ее и дальше согласно собственной пенсии, постоянно меняющейся вместе с ростом инфляции. На его прикроватной тумбочке лежал партбилет, а рядом с кроватью стояла трехлитровая банка из-под грушевого компота, куда дядя Гриня ежемесячно опускал партвзносы. Скопленные таким образом деньги он завещал перевести на счет компартии. И это несмотря на то, что спустя два года после войны «руководящая и направляющая» дядю Гриню сильно обидела, сделав День победы будним днем и почти на двадцать лет лишив его и всю страну кровью добытого праздника.
Славик спрятал протез в нагрудный карман и полез в коробку. На дне ее лежал последний предмет: морковного цвета папка на молнии, с желтой надписью «50 лет Великого Октября. Материалы конференции». Папка содержала тетрадь в темной кожаной обложке. Тетрадь была старая, с обтрепанными краями, страницы пожелтели, некоторые были вырваны под корень. Фиолетовые чернила соседствовали с карандашом, почерк был разборчивым, но многие фразы и даже абзацы не читались совсем.
Приглядевшись, Славик понял, что написаны они не по-русски.
– Наверное, про это Левушка говорил.
Славик перелистывал страницы, некоторые выпадали, и он водворял их в тетрадь с поспешностью, с какой ребенка водворяют в кроватку, не желая приучать к рукам.
– Надо почитать, – сказал Славик без всякого энтузиазма. – Или сразу Леве отправить? Пусть сам разбирается. И что значит «узнавать из Интернета»?
Мысль о том, что кто-то что-то знает про «историю семьи», была ему неприятна. Да и что было знать? Ничего в ней не было такого, чего не было у всех.
– Письма и фотографии оставь, остальное обратно в коробку, я на помойку снесу.
Опираясь на Сонечкино плечо, Славик начал подниматься с пола. И за те несколько секунд, что он поднимался, Сонечка успела коснуться его руки своей щекой – и засмеялась.
Этот беспричинный смех раздражал Славика так же, как и Сонечкины «а?». «Ну, что смешного сейчас было?» – скорее даже не спрашивал, а восклицал он.
Сонечка ласково смотрела на мужа выцветшими, бывшими синими глазами и не отвечала. «Вот видишь, ничего!» – отвечал он за Сонечку, и прения, не начавшись, заканчивались.
Славик вздохнул и пошел в комнату. Тетрадь он забрал с собой.
__________
Славик принадлежал к той категории населения, для которой рекламки возле метро уже не предназначались. Бойкие девушки и юноши протягивали направо-налево листочки с информацией об услугах и товарах, но Славика упорно игнорировали. Точно он был невидимкой. Ничего странного для Славика в этом не было. Он знал, что лично его – нет. И не обижался. Вороны его тоже не замечали. Одну такую он встретил прошедшей весной, возвращаясь из магазина.
Ворона купалась на газоне, в растаявшем сугробе. Собственно, до конца сугроб не растаял, а только загустел и почернел от придорожной копоти, и ворона самозабвенно заныривала в маслянистую, наваристую черную жижу.
Это была самая счастливая ворона на свете. Клюв ее был приоткрыт от удовольствия, маленькие глазки возбужденно сверкали, а по голове и крыльям, антрацитово блестя на солнце, стекала грязь. Выныривая, ворона каждый раз быстро осматривалась, нет ли поблизости какой опасности, будь то машина, человек, или кошка, и снова продолжала купаться. На Славика, стоявшего в трех шагах от нее, ворона не обратила никакого внимания.
Вороны Славику нравились, чего нельзя было сказать о голубях. Причину своей нелюбви к этим птицам Славик объяснить не умел. Раньше, когда верхняя соседка, теперь уж покойница, подкармливала голубей на подоконнике, Славик неизменно страдал от звука, исходящего от птиц, – утробного звука, похожего на урчание незаглушенного мотора.
На просьбу кормить голубей «где-нибудь в другом месте» соседка не реагировала. А ходить скандалить Славику было неудобно, поскольку работали они на одном заводе, – он рядовым сотрудником планового отдела, она контролером ОТК. Да, собственно, скандалить ни он, ни Сонечка не умели, что, против ожиданий, наводило на него тоску.
Такие же, как он и Сонечка, пенсионеры, тоже наводили на него тоску. Ему хотелось, чтобы никого их не было, их, когда-то цветущих «членов общества», готовых сносить любые трудности, «лишь бы не война», их, кто на первомайских и ноябрьских демонстрациях бодро шел мимо трибун с бумажными цветами в руках и детьми на закорках… Теперь они были ему отвратительны.
В метро и на улице он видел прежде всего их. Его взгляд безошибочно выделял среди толпы таких же, как он, неприкаянных, но с деловым видом снующих в поисках «где подешевле». Он узнавал в них себя, они раздражали, от них хотелось избавиться, они были подтверждением и усилением его собственной слабости.
Славик с болезненной отчетливостью помнил и старуху, из авоськи которой вывалились и раскатились по полу автобуса яблоки «с чуть подгнившим бочком», и ее, под общими взглядами, такое жалкое «ничего, можно вырезать и кушать».
Помнил супругов в метро: худые, с желтоватыми лицами, одетые «бедно, но чисто», они, судя по тележке на колесиках, этому современному атрибуту каждого пенсионера, ездили отовариватьсяна какой-то дальний и менее дорогой продуктовый рынок. Выходя из вагона, старик в толчее задел мужчину лет сорока. Крепыш в кожаной куртке выскочил, пнул ногой тележку и успел заскочить обратно в вагон, прежде чем двери закрылись.
Поезд уехал, старик виновато глянул ему вслед и начал обеими руками выравнивать завалившуюся на бок тележку, а жена, поднимая с перрона банки, громко, с расчетом на идущих мимо людей, выговаривала мужу за невнимательность.
Славик понимал, что эти ежедневные странствия предпринимаются не только ради экономии, но и с другой целью: для заполнения оставшегося от жизни времени. Это понимание не вызывало у него сочувствия. Оно вызывало отчаяние.
Тихие, стыдные переговаривания в очередях собесов и поликлиник были отдельным переживанием Славика. Он слушал их, закрыв глаза, отгородясь, не участвуя. «А какая у вас пенсия?» «А рабочий стаж? Как „не засчитали пять лет“! Надо доказывать!» «Знаете ли… Обивать пороги, собирать бумаги… Цена вопроса сто рублей. Унизительно, в сущности…». И обиженныйответ: «Ну, раз вы такой (ая) богатый (ая), что вам сто рублей не нужны…» А через минуту опять за свое: «Сколько вам в этом году прибавили?»
В переходе метро, на спуске, Славик уже несколько лет встречал человека, продающего старые книги. Видимо, их у него в домашней библиотеке было предостаточно. Выходил старик не каждый день, а по мере надобности, то есть довольно часто. Невысокий, стершийся, в мешковатом сером пальто, на фоне серой стены он выглядел как барельеф. Книги он держал так, чтобы всем удобно было видеть название. Прижатые к груди, они напоминали Славику таблички, которые немцы перед казнью вешали на грудь партизанам. Да и вся фигура старика, стоящего возле стены, казалась Славику похожей на одну из тех, с газетных фотографий, которые он с обморочным ужасом рассматривал в детстве.
Последняя книжка называлась «Униженные и оскорбленные». Теперь он вспомнил об этом с усмешкой: «Эмочка бы оценила».
Эмочка была соседкой Славика по лестничной площадке. Кумушки во дворе называли ее между собой «сумашайкой». Вероятно, за недостаточную причесанность и погрешности в одежде. Как выяснилось позже, сумашайкой Эмочку любовно называли и ее друзья, но эти уже за совершенную одержимость литературой вообще и поэзией в частности, и еще за брак с «пионером» Гошей. Конечно, второй муж Эмочки никаким пионером не был, но повод для острословия все же имелся, учитывая десятилетнюю разницу в возрасте супругов.
Страсть к изящной словесности передалась Эмочке по наследству от ее матери, Ираиды Романовны. Славик хорошо помнил старуху с волосами цвета черненого серебра, гладко зачесанными и собранными на затылке в пучок: когда Левушка учился в школе, Славик заглядывал к соседям, чтобы взять «что-то по литературе». В старших классах сын заходил уже сам, и Эмочка стала снабжать его книгами не только по школьной программе, но и по «внеклассному чтению», причем исключительно на свой вкус, как выяснилось позже. «Вот и нахватался-то», – досадовал задним числом Славик.
Мать Эмочки была из «старых большевиков». Так состоялось первое и последнее знакомство Славика с чудом сохранившимся представителем подвида. Имя своей дочери она дала по принципиальным соображениям. «Эмочка» было сокращенным от «Эмилии», но сама безобидная на первый взгляд «Эмилия» была, как всем поясняла Эмочка, в свою очередь сокращенным от «Энгельса, Маркса и Ленина». Окончание досталось Эмилии в довесок как девочке. Мальчика назвали бы, разумеется, Эмилем.
Но больше детей у Ираиды Романовны не случилось: через год после рождения дочери ее, вслед за мужем, забрали. Муж сгинул на Соловках, а Ираида Романовна спустя без малого двадцать лет из своего Карлага вернулась, и в самый раз: лагерная наука пригодилась Эмочке, которая очень скоро, уже подкованной, отправилась по стопам родителей: с компанией молодых романтиков она тоже решила «подправить» в который раз «искривленную линию партии». Но о том, что и Эмочка «была в местах не столь отдаленных», Славик узнал гораздо позже.
В присутствии Ираиды Романовны Славик робел. Исключительно прямо держа спину, она сидела за столом и разговаривала не только с классиками русской литературы, но порой и с придуманными ими персонажами. Причем так, будто они все находились в комнате.
Пока Эмочка рылась в книжных залежах, Славик скромно переминался в прихожей и прислушивался к тому, что говорила Ираида Романовна, например «человеку с белой бородой», как она описывала своего собеседника. Тут было и про несогласие с непротивлением, и поздравления по поводу того, что Кити благополучно разрешилась от бремени, и еще что-то про арест, не то ее собственный, не то Пьера Безухова, речи которого она весьма натурально подражала, хохоча басом и повторяя: «Кого арестовали? меня арестовали? мою бессмертную душу арестовали?», и снова: «Ха-ха-ха!».
В разговоре она оставляла аккуратные паузы, внимательно выслушивая своего невидимого визави. Собеседников у Ираиды Романовны иногда было трое-четверо, и, судя по всему, они тоже между собой разговаривали и даже ссорились. Порой Ираида Романовна хлопала в ладоши, останавливая спор и призывая Чернышевского и Добролюбова быть снисходительнее к Ивану Сергеевичу, а Ивана Сергеевича не ругаться «уж так» на Федора Михайловича, а то с ним, не ровен час, падучая случится.
Отдельно доставалось от Ираиды Романовны поэту Некрасову. «Про одержимость холопским недугом и стон, который песней зовется, – это, великолепно, Николай Алексеевич, в самую точку, но вот любовная ваша лирика, уж простите, сплошное нытье…»
Иногда Ираида Романовна начинала сердиться на Эмочку за пренебрежительное отношение к гостям: «Своих чаем угощаешь, а моих-то что?» И Эмочка послушно вынимала из буфета парадный чайный сервиз и шла ставить чайник.
Как-то она даже призналась Славику, что стесняется переодеваться, потому что ей кажется, будто комната полна чужих людей.
В общем, сумасшествие было семейное и окончательное, но именно к Эмочке решил Славик идти за помощью. Интуитивно он чувствовал, что в этом доме ему помогут разобраться с непонятной тетрадью.
__________
<Шесть дней назад поезд доставил меня на Восточный вокзал, пропитанный самым домашним и самым волнующим из возможных запахов: запахом паровозной гари. Этот запах повсюду одинаков. Он подсказывает, что между родиной и чужбиной нет расстояния. Движешься одновременно вглубь и наружу. В направлении себя – здесь и себя – там. Душа – это отсутствие горизонта. Об этом я думал, стоя на привокзальной площади в утренних сумерках конца октября.
Привычка сравнивать все со всем работала помимо моей воли, и я смело и не совсем уж без оснований предположил, что губернаторский дворец в моем тихом Люблине – уменьшенная и упрощенная копия роскошного вокзального здания за моей спиной. Косвенное подтверждение единства места и времени, всегда.
Я не стал доставать письмо с планом, который начертил мне Хенрик: разыскивая дорогу по бумажке, люди кажутся приезжими, даже если родились в соседнем квартале. А я решил с первого шага стать частью города, слиться с ним.
«Постарайся выбраться. Париж пойдет тебе на пользу», – писал Хенрик. Не знаю, любил ли я этот город раньше. Но я хотел его, это точно.
Габардиновое пальто и шляпа-борсалино придавали мне уверенности. Шляпа принадлежала моему старшему брату, канувшему в безвестность на самом излете Великой войны. А пальто – отцу, он погиб в двадцатом под Казатином. И не исключено, что от пули, пущенной уже его двоюродным братом: с той частью семьи, что в самом конце прошлого века отправилась за лучшей долей вглубь империи, связь была давно утеряна.
Пальто мать перешила незадолго до моего отъезда, а шляпу вычистила и сменила ленточку на тулье. «Ну, вот. Уж теперь ты будешь выглядеть, как настоящий парижанин. Только возвращайся, Тео». Она никогда не называла меня полным именем.
Я стоял на площади с чемоданом в руке и озирался, и вид у меня, наверное, был дурацкий, потому что продавщица цветов, молодая и быстроглазая, отошла от террасы кафе, где грелась возле гудящей жаровни, и поинтересовалась, куда мне. Я назвал адрес, и она сказала, что удобнее всего на метро. Хенрик тоже писал об этом. Но я решил идти пешком, хотя метро было для меня в диковинку.
Цветочница рассмеялась. Она повидала многих приезжих и знала, что творится у них в душе. Указывая мне направление, она повторила жест апостола Петра, и дешевые браслеты звякнули на ее запястье, как связка ключей.
Я шел по Страсбургскому бульвару, стараясь дышать медленно, чтобы унять сердцебиение. Чувство было как перед близостью.
На Севастопольском бульваре я зашел в банк и получил по чеку некоторую сумму. Не бог весть какую, но сон, преследовавший меня несколько дней перед отъездом – стою посреди города без малейшей наличности, – уже не грозил обернуться реальностью.
На площади Шатле я пил кофе в маленькой закусочной, курил одну сигарету за другой и чувствовал, как не переставая дрожат мои пальцы. Почему-то я знал, что больше не увижу свою мать, знал, что не вернусь в заштатную нотариальную контору, где провел пять лет в должности помощника нотариуса, дожидаясь, когда освободится место, и тайком записывая стихи на канцелярских бланках.
Я знал, что повторяю путь, проделанный до меня многими. Путь, который, после меня, проделают многие. Путь, похожий на перетекающие из одного в другой бульвары, по которым я шел. Это было гордое чувство, оно доставляло мне одновременно грусть и радость, оно не умаляло, а поднимало меня. Растворяясь в прошлом, я одновременно растворялся в будущем. Бессмертие, данное в ощущении.
С моста я долго смотрел на солнце, которое клубилось выше и правее Нотр-Дам в желто-зеленых, выпуклых, пастозных, как на картинах Ван Гога, облаках, и чувствовал, что лечу в сияющую воронку, и целиком отдавался этому влечению.
Бульвар за площадью Сен-Мишель пошел вверх, совсем немного, но два дня в дороге и нервное напряжение сказались: я вдруг устал, и чемодан сделался тяжелым. Спрашивать у прохожих, на каком автобусе добираться, значило дезавуировать себя и превратиться из человека, который возвращается, – в приезжего. Я решил продолжать путь, полагая, что нужная улица недалеко.
Моя терпеливость была вознаграждена, когда я увидел, как возле Люксембургского сада стайка детей с небрежно повязанными шарфами, в коротких пальто, перебегает дорогу под приглядом воспитательницы. Их голые худые ноги в сползших к ботинкам гетрах были невероятно трогательны.
И только в улочках между бульварами Араго и Порт-Руаяль я плутал, пока не нашел нужную, самую узкую, с протянутыми между домами веревками, на которых тихо колыхалось исподнее вперемешку со скатертями и мужскими рубашками.
Пожилая консьержка в коричневой грубой кофте и поднятых на лоб очках открыла мне дверь и передала ключ от комнаты, которую снял для меня Хенрик.>
__________
Стех пор, как Славик был у Эмочки в последний раз, а случилось это перед отъездом сына, в квартире ничего не изменилось, разве что книг стало еще больше. Штабелями они располагались вдоль стен, подпирали потолок. Эмочка заметила взгляд гостя и радостно всплеснула руками:
– Это еще не всё!
«Всё» оказалось в ванне. Она была заполнена книгами до краев. Славик онемел. Поскольку вопрос напрашивался сам собой, Эмочка, беспечно тряхнув седой челкой, сказала:
– А моемся в бане, тут ведь рядом! – Самые обыденные вещи Эмочка умудрялась произносить с восклицанием. – Как поживает Софья Александровна?
Вопрос в ее исполнении тоже заканчивался интонационным взлетом и как бы не подразумевал ответа. «Наверное, она очень счастливая», – подумал Славик, и сам себя одернул: как можно быть счастливой, отсидев десять лет… да и с дочерью… что-то он слышал, какая-то давняя, страшная история…
Предположить, что подобную жизнерадостность семидесятитрехлетней Эмочке внушает ее шестидесятитрехлетний муж, Славик не мог. А свечение было налицо.
«Даже» свое половинное еврейство Эмочка переносила легко. Тогда как в Славике его половинка вызывала сложное чувство, которое он мог бы охарактеризовать как чувство неловкости, и он радовался, когда и без того неявные признаки национальности начали в нем стираться благодаря достаточно раннему облысению и поседению. Правда, всякая неловкость прекращалась, стоило только ему вспомнить, что его нет.
– Видите ли, Эмилия Аб… – Славик привычно запнулся на отчестве.
– Да-да! Абрамовна. – Легко согласилась Эмочка.
– Видите ли, недавно мы с женой нашли в семейном архиве… – Славик и сам не понял, зачем приплел несуществующий архив. Может, обилие книг в квартире так на него подействовало, – …нашли одну вещь. Но прежде я хотел вас спросить: говорит ли вам что-то фамилия Полян?
– Так это же ваша фамилия, Станислав Казимирович! – Эмочка даже на стуле подпрыгнула.
– Да. Но… Может, кто-то еще.
– Ну, конечно! Есть еще поэт… Очень малоизвестный. Малоизвестный даже в узких кругах филологов. Замечательный, кстати, поэт! Его книжка есть в Публичке. Кажется, одна на весь город. А может, и на всю страну!
На Славика дохнуло не то жаром, не то холодом. Ему показалось, что гости Эмочкиной матери присутствуют в комнате всем составом.
– Так что же вы не говорили…
– Но ведь и вы не говорили! Неужели – родственник? Надо же! Левушка никогда звуком не обмолвился, а ведь открытый мальчик!
Насчет открытости сына можно было бы и поспорить, но точно не сейчас.
– Он не знал… И моя мама ничего никогда не рассказывала…
Наверное, вид у Славика был потерянный, потому что Эмочка сочувственно погладила его по руке:
– Извините, мне и в голову не приходило… Я думала, случайное совпадение… однофамильцы. – И добавила точно в утешение: – Мне о Поляне с конца сороковых известно, но для исследователей его имя всплыло в начале девяностых, когда архивы КГБ начали открывать…
Славик встрепенулся:
– Так еще же нет ничего определенного… Скорее всего, и впрямь, однофамильцы…
Он хотел встать и уйти, но Эмочка неожиданно строго посмотрела ему в глаза:
– Подождите. Вы сказали о каком-то предмете… Все-таки, что вы принесли?
Славик уже понял, что просто так ему отсюда не выбраться. Вздохнув, он достал тетрадь.
– Вот… Я, собственно, не знаю. Имеет ли это какую-то ценность.
Эмочка бережно приняла тетрадь из рук Славика, открыла, начала читать.
Она перевернула одну страницу, вторую, третью. Лицо ее выразило крайнюю степень заинтересованности, а потом удивления и восхищения.
– Боже ж ты мой! Вы прочли?
– Так… Полистал. Там какие-то люди… не наши… Я не понимаю…
– Ведь это, несомненно, он. Теодор Полян! Откуда у вас тетрадь? Это же чудо какое-то!
Собственная фамилия, произнесенная другим человеком столь уверенно, восторженным тоном и даже с восклицанием, – поразила Славика. Он-то ведь знал, что все его бытование в этом мире – не более чем случайный промельк света, как тот, что он помнил из какой-то невероятной глуби детства и который ему, может быть, только примстился.
– Станислав Казимирович! Вы меня слышите? Откуда у вас эта тетрадь?
– Что? – Состояние у Славика было такое, точно он вдруг увидел себя в зеркале, которое раньше его не отражало. – Ах, да… Мама сохранила. А откуда у нее, не знаю…
– Вы не должны это так оставить. Надо расследовать.
Славик почувствовал дурноту и слабость одновременно.
– Нет-нет… не хочу… не могу… Я старый уже.
Эмочка стала гладить ладонью кожаную обложку, словно успокаивала, утешала. Это был жест, которым в детстве мама утихомиривала его, плачущего. Славик следил за движениями Эмочки, как завороженный. А потом она сделала и вовсе странное: взяла тетрадь и потерлась о нее щекой.
– Неужели вы не понимаете?
– Да что же такое я должен понимать?! – Славик ненавидел себя и тот день, когда решил обратиться за помощью к соседке.
– Вы должны помочь ему… В лагере, в Ухте, где я отбывала срок, рассказывали, ну… Может быть, это был апокриф… – Славик поднял брови на незнакомое слово, и Эмочка уточнила: – Легенда… Это нужно… Всем нужно. – Эмочка вдруг перешла с прошедшего времени на настоящее. – Это… – Она подыскивала правильные, точные слова. – Это придает сил… Так вот. У нас рассказывали о поэте… В январе сорок второго немцы всё наступали, и лагерному начальству было приказано избавляться от заключенных… Узнав об этом, несколько человек подняли восстание… Среди них был Полян. И еще рассказывали, что одна женщина, из вольнонаемных, она…
Станислав Казимирович сидел, каменно сцепив на коленях руки, и смотрел в пол. Эмочка замолчала. А потом придвинула тетрадь к Славику:
– Заберите. Я не хочу вамрассказывать.
Станислав Казимирович очнулся, вспыхнул:
– Но вы поймите, поймите, я устал, мне уже все поздно! – Он чувствовал подступающие слезы.
Эмочка смотрела на него с сожалением.
– Может, все-таки стоит попробовать? Знаете, у меня был товарищ. Просто хороший человек. Никакими особыми, как говорится, талантами не отличался. И вот он, когда стал терять зрение, начал рисовать. Понимаете, Станислав Казимирович? Это никогда не поздно.
__________
<Первый вечер ноября был необычным. С Хенриком и Серафимой мы договорились встретиться в кафе. Серафима – подруга Хенрика. Она русская, работает портнихой в швейной мастерской. Хенрик уже третий год в Париже. Он служит наборщиком в типографии, где, среди прочего, печатается польская газета. Вряд ли моему другу удается тут использовать знания, полученные на лекциях по римскому праву, которые мы слушали в люблинском университете. Да и правду сказать, тогда от скуки мы больше таращились в окно, на двор с единственной клумбой и торчащей посреди нее чахлой пальмой в кадке.
Хенрик и Серафима живут рядом, через дорогу. Вечером они никогда не закрывают ставен и не задергивают шторы, их мансарда выше тех, что напротив. И они могут вдоволь смотреть на закаты, – занятие, любимое мною с детства. «Ну, что, опять?», – качала головой мама, когда ясными вечерами, а таких было много в нашей местности, я отправлялся на чердак, чтобы, пробравшись между влажными и холодными соседскими простынями, приникнуть к круглому окошечку и смотреть, как солнце из раза в раз исчезает за горизонтом. И всегда, напрягая глаза до боли, я пытался удержать его над землей или, поправ законы оптики, последовать за ним взглядом, как если бы в мой мозг была вмонтирована фотокамера с видоискателем.
На моем третьем этаже, мне не хватает этих закатов. Порой не хватает и косого солнечного луча, пересекающего комнату. Впрочем, возвращаюсь я, как правило, ближе к ночи. Остальное время просто шатаюсь. В этих бесконечных прогулках есть что-то томительное, ищущее своего разрешения. Иногда я чувствую себя настолько переполненным, что слезы наворачиваются на глаза. Вчера пожилая дама, сидевшая в кафе за соседним столиком, спросила, не нуждаюсь ли я в помощи. Я ответил, что совершенно счастлив, и она приветственным жестом приподняла чашечку с кофе.
«Наверное, американка», – заметил Хенрик. Его и раньше нельзя было назвать романтиком. А еще он сказал, что на деньги, которые будет присылать мне мать, сдавая часть нашей люблинской квартиры, далеко не уедешь. «Но ничего, – сказал он, – работа в этом городе для тебя найдется, ты же у нас полиглот». Действительно, в моей семье традиционно говорили на польском, русском, а также на идише. Потом я добавил к этому неплохой французский.
И еще Хенрик обещал, что, когда у меня наберется стихов на книжку, на такую книжку, которую я сам хотел бы видеть, то преференции в его типографии мне обеспечены. А вчера он дал мне адрес кафе, того, где мы встретились сегодня вечером, и уточнил: «Это возле улицы Сены».
Я пришел в назначенное место раньше. Все утро я писал и ничего не ел, только пил вскипяченную на горелке воду, курил и писал. Я не чувствовал времени. Когда пишешь, оно течет по-иному, делается разряженным или даже отсутствует вовсе. Иногда оно сублимируется в строчки, иногда – нет. Но неправильно считать его потраченным впустую: порой только спустя годы узнаешь, чем обогатилась душа на границе миров.
Я вошел в кафе, и несколько молодых людей, игравших в карамболь правее барной стойки, повернули головы в мою сторону и поздоровались. Я прошел вглубь помещения, поделенного на купе скамьями с высокими спинками. И скамейки, и столы между ними были из темного коричневого дерева. У задней стены я заметил площадку для танцев и маленькую эстраду, на стульях лежали инструменты.
Посетителей было еще не много. Через проход, близко от меня, сидели мужчина и девушка. Они заканчивали ужин и тихо переговаривались, кажется, по-русски. Чуть дальше, лицом ко мне, сидела старая женщина в черном. Перед ней на столе дремала черная лохматая собачонка. Подперев рукой щеку, женщина курила, и когда пепел с ее папиросы падал собаке на спину, та приоткрывала подслеповатые глазки и слабо виляла хвостом.
Я вдруг понял, что голоден и, когда подошла официантка, приветливая, с трогательной ямочкой на левой щеке, попросил принести полбутылки анжуйского и дежурное блюдо, сегодня, судя по записи на доске перед входом, это была тушеная говядина с овощами.
Официантка передала мой заказ на кухню, а возле дамы в черном поставила поднос с дымящейся тарелкой, графинчик белого вина и разрезанный на несколько частей багет. Собачонка без всякого понуждения поднялась и перекочевала со стола на колени старой женщины, тут же слившись с фоном ее платья.
Входили новые посетители, завсегдатаи, они здоровались со старой дамой, хозяйкой заведения, как следовало понимать.
За соседним столом рассмеялась девушка. Природа смеха и плача схожи. Порой, не видя человека, трудно понять, смеется он или рыдает. Но ее смех нельзя было перепутать ни с чем. В нем слышалась тихая, теплая и, может быть, безотчетная радость. И ничего больше.
У девушки была короткая прямая стрижка с челкой до бровей. Свет, исходящий от двух конусообразных ламп, свисавших с потолка, переливался на ее каштановых волосах. Смеясь, девушка закинула голову, и я увидел у нее под скулой, чуть ближе к шее – лиловый подтек. На белой прозрачной коже он смотрелся чудовищно.
Официантка принесла поднос с едой и вином. И наконец-то пришли Хенрик с Серафимой.
Тут же раздались приветствия, вперемешку французские и русские, адресованные не только мне, но и моим соседям. «Мы знали, что вы сегодня тут! Рита, Виктор! Перебирайтесь к нам. Это Тео. Тео, это наши друзья».
Я встал. Рука девушки была сильной и легкой. Ни следа маникюра на ногтях. «Запомни это местечко, Тео! Своих тетушка Жюльет угощает в кредит», – и Хенрик потеснил меня в угол, усаживая друзей.
Официантка принесла еду и вино. Для Риты – бокал, на треть полный темно-золотым арманьяком. Рита целиком умостила основание бокала в ладони. «И мне это же, Селестина, – крикнул официантке Хенрик. – Только двойной и со льдом».
«Не разыгрывай из себя американца, Хенрик. – Рита опять рассмеялась и подняла бокал ближе к свету. Содержимое просвечивало сквозь лунки ее ногтей. – Арманьяк теплый напиток, он должен согревать, при чем тут лед. И пора бы уже запомнить, что это не аперитив».
Чтобы не смотреть на синяк под скулой, я смотрел на Ритины руки. Они были детские, совсем детские.
Хозяйка закончила трапезу и встала за стойку. Собачонку она перекинула через шею, как горжетку.
В какой-то момент Рита и Виктор пошли к эстраде. Виктор взял со стула аккордеон, Рита скрипку. Когда она прижала ее подбородком к плечу, я подумал, что ей, наверное, больно. Я и не знал, что скрипка может оставлять такие следы.
Они играли долго. Пары танцевали. И Хенрик с Серафимой тоже. Я пил вино и курил. Вернувшись, Хенрик сказал: «Он просто ее друг. Ничего такого». А Серафима начала говорить о том, как на прошлой неделе они с Ритой были на лекции, устроенной советским полпредством, и еще про какие-то брошюры. «Перестань, дорогая, – Хенрик поморщился. – Перестань. Не стоит улыбаться ГПУ. Вы проиграете». Если верить тому, что пишут в газете, которую он набирает в своей типографии, – проиграют.
Подошла Рита, и я пригласил ее танцевать. Виктор продолжал играть. Глаза его были полузакрыты.
Мы танцевали два танца подряд, и Рита успела рассказать, что ее родители живут в Кламаре, под Парижем, что работает она в оркестре мюзик-холла, это на улице Гэте, рядом с домом, где у нее маленькая съемная квартирка, и что во вторник, когда нет представлений, и днем по воскресеньям она приходит в кафе мадам Жюльет, «ведь это тоже заработок, и к тому же здесь мило». Потом она опять играла.
Около одиннадцати все закончилось. Виктор спешил на метро, а Хенрик остановил такси, и мы поехали провожать Риту.
Уже втроем мы возвращались пешком по бульвару Монпарнас. Хенрик взял под руки меня и Серафиму, и до конца жизни я буду благодарить его за этот жест, потому что вдруг вспомнил другое прикосновение, непростительно забытое к концу вечера.
Когда мы с Ритой закончили танцевать, я повел ее на место. Случайно задрав короткий рукав кофточки, я коснулся нежной, никогда не знавшей загара кожи на внутренней стороне ее руки. Эта вспыхивающая белизна все время отвлекала меня, пока Рита играла. И теперь я почувствовал, прежде всего, не Ритину руку, а свою собственную шершавую сухую ладонь, причем так, как если бы она принадлежала другому человеку.
От удивления я сделал гладящее движение сначала вверх, потом вниз, к сгибу локтя. По тому, как дрогнули Ритины брови, я понял, что жест мой она почувствовала. Лицо ее было веселым и ласковым, и руку свою она не убрала.
«Любовь во Франции происходит очень быстро», – сказал, прощаясь, Хенрик, а Серафима потрепала меня по щеке.
Да, вспомнил. Белль. Так зовут собачку мадам Жюльет.>
__________
Дни обходили их дом стороной. Солнце всходило, поднималось в зенит и заходило, но это не имело отношения к их дому, хотя в комнате, где жил мальчик, бывало светло, и даже солнечный луч иногда падал из окна, и шел наискосок, от левого угла в правый, как луч фонарика, когда мальчик искал завалившиеся за диван шахматные фигурки.
Их трехэтажный дом стоял в глубине двора, но часть улицы и даже высокий серый дом на противоположном берегу Обводного канала были хорошо видны в широкий проем между домами напротив.
Столик, на котором мама пеленала мальчика, когда тот был совсем крохотным, стоял возле окна. И уже месяца в три мальчик поворачивал голову, чтобы увидеть, как светятся увитые лампочками буквы на крыше высокого серого дома на той стороне канала. Он смотрел на них и смеялся. Они подмигивали ему, а в ненастные дни они казались особенно яркими. Когда мальчик подрос, он по этим буквам учился читать.
Иногда он оставался один до позднего часа, – это если отец был в командировке, а маму срочно вызывали на ее завод. Тогда он сам укладывался спать и ставил свою раскладушку не в углу за ширмой, а так, чтобы видеть, как на другой стороне канала светятся буквы. Все же с ними было веселее. Они были похожи на елочные украшения. Мальчик смотрел на них, пока не начинали слипаться глаза, а потом засыпал.
В детский сад мальчика не отдавали, с ним приходила сидеть бабушка. Хотя, если говорить честно, ни минуты она не сидела, а бегала по длинному коммунальному коридору на кухню и обратно, то с супом, то с кашей, то с компотом, и все пыталась накормить мальчика, потому что, говорила она, к сытому организму никакая хвороба не пристанет, и еще по нескольку раз на дню она прикладывалась губами к его лбу, проверяя, нет ли температуры. И в коридор она его играть не пускала из-за сквозняков.
Соседка обозвала бабушку чокнутой, на что бабушка ответила: «Пусть чокнутая, лишь бы никому не бежать ночью за врачом», – и посмотрела на нее беспокойными слезящимися глазами.
В школу мальчик шел сам, а забирала его первый год бабушка. Иногда она отправлялась в магазин, или по каким-то своим делам, и тогда мальчик выходил поиграть в коридор.
Для игр ничего лучше этого коридора и придумать было нельзя. Во-первых, там было полутемно, во-вторых, почти возле каждой двери стоял шкаф, как правило, не запертый на ключ и наполовину пустой, по крайней мере, пока хозяева были на работе вместе со своими пальто и шубами. В-третьих, сундуки, коробки и ящики, громоздящиеся вдоль коридора, напоминали крепости. Словом, для игры в войну или в прятки коридор отлично подходил.
Детей в их квартире было мало: девочка с повадками сорванца Ава, ее писклявая сестра детсадовского возраста, да ученица ФЗУ – дочка соседа из комнаты, что находилась в углу, против самого входа в квартиру. Так что «подходящей» была только Ава. Хоть она и была на три года старше мальчика, с ней можно было играть и в полярников, и в подводников, и даже в футбол маленьким красно-синим резиновым мячиком.
А девочку из угловой комнаты никто никогда толком не видел: и она, и ее мать уходили-приходили тихо, по коридору передвигались бесшумно, на кухне появлялись, когда там никого не было, в отличие от главы семейства, который, возвращаясь из своих рыболовецких командировок, любил в выходной день подолгу сидеть посреди кухни на табурете и балагурить с соседями.
Мальчик запомнил босые расставленные ступни с розовыми нежными пятками, странно шевелящиеся пальцы и то, как сосед однажды прихватил ногами подкатившийся к табуретке мяч, выждал, что станет делать мальчик, а когда тот все же приблизился, небольно щелкнул его по лбу и сказал, добродушно усмехаясь: «Расти, щурёнок».
У Авы был «нормальный» дедушка – старый. Хотя бабушка считала его молодым. Но по-настоящему молодым был дедушка мальчика. Он был даже моложе его отца. Фотографический портрет темноволосого мужчины с высоким лбом и смеющимися глазами висел на стене в комнате.
Имя «Ава» осталось в памяти мальчика благодаря айболитовской собачке и Авиному дедушке. Когда подружки кричали ее имя, вызывая во двор погулять, дедушка величественно появлялся на балконе и объявлял: «Авочка сейчас не принимает». Красная, как собственный пионерский галстук, Ава сердито оттирала деда от перил и кричала, что уже спускается. Дед недоуменно разводил руками и отправлялся на кухню варить кофе одному ему известным способом, с корицей и солью, при этом он привычно напевал арии из русских опер, которые, как сказала Ава, «еще с царизма знал все наизусть».
«И мальчики кровавые в глаза-а-ах…», – мычал себе под нос Авин дедушка, а босоногий сосед косился со своей табуретки: «Что это ты, белая кость, распелся». И дед, не поворачивая головы, парировал: «Нам песня строить и жить помогает», – а потом, держа в руке с оттопыренным мизинцем маленькую фарфоровую чашечку и старательно обходя глумливым взглядом табуретку с соседом, рассказывал всем, присутствующим на тот момент в кухне, «что означает для нашейкультуры белый цвет».
Мальчик знал, что сосед был из тех, кого называли «ответственными работниками», и работу делал тяжелую. Однажды, сидя в укрытии, сооруженном с помощью старого ковра, перекинутого поверх соседских сундуков и ящиков, мальчик слышал обрывки разговора: сосед жаловался своей жене на огромные, трудновыполнимые планы, которые «спускают сверху». Это было понятно, ведь и у мальчика отец работал с утра до ночи и приходил домой «выжатый, как лимон». И еще мальчик расслышал про нервы. «Аж ноги преют от нервов», – сказал сосед. И потом про то, что «приходится глушить». Мальчик понимал, что на рыбалке глушить рыбу динамитом нехорошо, но ведь «поставленные партией и правительством большие задачи» надо выполнять, так говорили по радио.
Вообще-то сосед был не злой. Он очень смеялся, увидев, как Ава с мальчиком, играя в прятки, забирались в шкафы, стоящие вдоль коридора. Как-то он даже принял участие в игре «поиски клада»: нужно было найти спрятанную среди сундуков и ящиков белую жестяную, расписанную сказочными птицами заморскую коробку, которую мальчик нашел в столе у отца и вынес из комнаты, чтобы похвастаться этой красотой перед Авой.
А еще у мальчика был свой ангел. Мальчик видел его только раз, в одну из тех ночей, когда родителей не было дома.
Он уже почти заснул, уже погрузился в блаженные, самые сладкие воды первого сна, как вдруг что-то вытолкнуло его на поверхность. Он открыл глаза и увидел силуэт ангела, стоящего у него в ногах. Что это ангел, мальчик догадался по смутному очертанию крыльев, сложенных за его плечами. На фоне окна голова ангела светилась по контуру. Наверное, из-за лампочек, украшавших буквы на той стороне канала.
Мальчику стало страшно, он отвернулся к стене, зажмурился и перестал дышать. В голове у него сильно зашумело, и внутри стало что-то стучать возле самого горла. «Не бойся, это сердце, – потом объяснила мама. – Прежде ты его просто не чувствовал». Когда мальчик заставил себя открыть глаза и посмотреть, ангела уже не было.
В тот учебный год, когда отец ушел на Финскую войну и погиб, мальчик был уже в третьем классе.
В конце зимы у них случилось ЧП: из сумки, забытой учительницей, кто-то во время перемены выкрал зарплату. Мальчик сознался, что это сделал он.
Сознаваться оказалось не трудно. Трудно было, когда собрали весь класс, и в присутствии директора и завуча началось дознание. Опрашивали каждого: где находился и что делал, поминутно. Фамилия мальчика находилась ближе к концу списка. Никто не сознавался. Но ведь кто-то украл? Так, может быть, виноват именно он? Может быть, он сделал это неосознанно, как бы во сне, и просто забыл об этом?
Мальчик шаг за шагом представил себе, как отделился от гудящей в рекреации толпы однокашников, как зашел в пустой класс. Солнце светило прямо в окна. Форточки были открыты, и холодный воздух клубами пара проникал в помещение. Все это мальчик помнил необыкновенно отчетливо. Он помнил ряды парт, учительский стол на маленьком возвышении, о которое он всегда спотыкался, выходя к доске. И лежащую на стуле коричневую сумку. И еще он помнил голубей. Они толклись на подоконнике и страшно урчали.
Когда его спросили, куда он спрятал кошелек, ведь прошло всего два часа, и никто из школы не выходил, он ответил, что из форточки уборной бросил его своему знакомому мальчику, с которым состоит в одной организации. Времени, чтобы придумать ответ, у него не было, и он сказал первое, что пришло на ум. Это звучало убедительно, ведь говорили же по радио: все преступники состоят в организации.
Мальчик и сам не понимал, зачем сознался. Может, потому что знал, что виноват.
Директор школы внимательно посмотрел на мальчика и велел подойти. «Да у тебя жар, – сказал он, пощупав его лоб, – ступай-ка домой».
Вечером его забрали в больницу с диагнозом скарлатина. Он лежал в отдельном боксе, голова у него пылала, бабушка сидела возле кровати, ее слезящиеся глаза были близко-близко от его лица, а рядом, тоже в отдельном боксе, умирала девочка. То, что девочка умирает, он понял по тому, каким голосом она просила: «Дайте камфары! Скорее, дайте камфары!» И еще, очень звонко: «А где мой пионерский галстук? Принесите его!»
Про галстук было самое главное, он хорошо понимал умирающую девочку. Это и для него было важно, ведь уже скоро, двадцать второго апреля, их класс должны принимать в пионеры, и, значит, его не примут за дело.
Пока он болел, к маме приходила учительница, и сказала, чтобы они не волновались: настоящих воров нашли: кто-то из учителей увидел в магазине, как двое его одноклассников закупали консервы, копченую колбасу и сухари, чтобы «бежать на войну».
__________
– Соня! Ты говорила с дядей Гриней?
Славик решил, что начнет разбираться с новонайденными семейными реликвиями с малого, то есть с челюсти, которая в данный момент лежала в серванте, в розетке для варенья.
– Я оказалась права, Славочка. Челюсть дяди-Гринина. Он привез ее из Европы.
– Звучит красиво. И что, он ограничился этой информацией?
– Нет, Славочка, конечно не ограничился.
– Ну так, может, мы перестанем переговариваться через стену?
Жена тихо рассмеялась, закрутила в кухне краны и пришла в комнату.
Не то чтобы Славику очень хотелось знать историю дяди-Грининой челюсти. Но это расследование хоть как-то отдаляло его от основного, неумолимо на него надвигавшегося расследования: что значила для его семьи и для него лично тетрадь в коричневой кожаной обложке.
– Сначала он не понял, о чем речь. А потом удивился, что челюсть сохранилась.
– Откуда она у него?
– Купил. В Варшаве, в сорок пятом.
– Больше там ничего не было, что ли?
– Не знаю… Они туда после восстания вошли.
– Какое восстание в наступающих войсках, Соня? И вообще, какое восстание? Что он тебе наговорил?
Сонечка обиделась, отвернулась, как всегда делала, собираясь заплакать.
– Вот и позвони ему сам. Ты же знаешь, я могу напутать.
– Ну хорошо. Не сердись. Что он еще рассказывал?
– Он, Славочка, рассказывал, как его мотострелковая дивизия в составе Первого Белорусского фронта под руководством маршала Рокоссовского… – Сонечка говорила, подняв глаза к потолку, точно урок отвечала… – Да, кажется, я правильно все запомнила, – как его дивизия вошла в Польшу. И дошла до Варшавы. – Славик удовлетворенно кивнул, и Сонечка продолжила: – А потом они с августа сорок четвертого по январь сорок пятого стояли под Варшавой, на другом берегу Вислы.
– То есть как «стояли»? Полгода стояли? Он так и сказал?
– Да, так он сказал. А за это время в Варшаве началось восстание против фашистов. И что-то страшное там было.
Славик этот фрагмент отечественной истории или не знал, или напрочь забыл. Собственно, помнить или знать историю было никогда не обязательно. Чувство общего величия заменяло память.
– И дядя Гриня стоял и не вмешивался?
– Не вмешивался. Но когда он говорил мне про все это, он такое произнес, такое, что повторить невозможно. И даже не извинился, что перед женщиной ругается.
– А потом?
– Потом Рокоссовского сменили на Жукова. Взяли Варшаву. Там, в руинах, жизнь все-таки теплилась. И вот ходил как-то дядя Гриня с товарищем своим, однополчанином, по городу. Смотрят – рынок, и на нем идет кое-какая торговля. Скорее и не торговля, а мена. И там дядя Гриня увидел человека. – Сонечкины глаза округлились, в интонациях зазвучали эпические нотки. – Человек тот сидел на расстеленном старом одеяле, а перед ним стоял раскрытый чемодан. На поднятой крышке было приделано зеркальце, узенькое такое. А сам чемодан был доверху полон зубными протезами. Дядя Гриня сказал, что, только приблизившись, понял, что это протезы. Издалека он решил, что человек продает битые чашки. И вот люди останавливались, примеряли протезы, клали назад, еще примеряли. Кто-то покупал. Тот, который продавец, он то ли сказал, то ли показал знаками, не знаю, но в том смысле, что человеку хоть два камня в рот закинь, так он ими пищу перетирать будет. Ну, дядя Гриня купил у него несколько протезов. Может, для друзей. На будущее. – Сонечка достала из серванта протез, покрутила в руках. – Этот, видать, никому не подошел.
История была страшная, но рассказывала ее Сонечка с удовольствием от самого процесса общения с мужем: не часто ей доводилось так долго удерживать его внимание, говоритьс ним.
– Соня, – Славик с беспокойством посмотрел на челюсть. – Скажи, рядом с Варшавой какие города ты в Польше знаешь?
Сонечка задумалась и ахнула.
– Треблинку знаю. Но это, правда, деревня. А еще… – Сонечка закрыла глаза и втянула голову в плечи. – Еще Освенцим… Но это не рядом с Варшавой, нет-нет… Еще знаю Майданек. Но это не город… А, кроме того, ведь там повсюду сражения шли…
– Ну, что же ты все только такоевспоминаешь.
– Ты же спросил… Ты ведь тоже про этоподумал.
– Знаешь, Соня, я даже не сомневаюсь, человек с чемоданом был обычным зубным техником. – Славик говорил как можно увереннее. – Я не хочу думать ни о чем другом. К тому же эти протезы могли американцы по ленд-лизу прислать, а тот, который продавец, просто стащил их откуда-то… И вообще… С челюстью мы разобрались. Пусть пока полежит, а потом… – Он задумался. – Потом мы ее похороним. Все-таки она не просто, а с той войны. А, Соня?
– Разве так бывает, Славочка, чтобы протез хоронить?
– Да как еще бывает! Вон, Тамара, над нами, дедов протез похоронила. Тайком от своей бабки. Недавно мне призналась. Бабка мужа в крематории сожгла, а протез остался. Хоть и работали мы с ней вместе, но, правду сказать, вздорная была особа. А где у нас атлас, Соня? Ну, карта какая-нибудь? Раз уж про Польшу заговорили, давай посмотрим.
Скоро карта Европы, советского еще образца, была найдена в старом секретере сына. Расстеленная, как скатерть, она заняла собою весь круглый обеденный стол. Географическую карту Славик не видел со времен института и теперь с интересом рассматривал ее. В самом центре была Польша.
– Вот, Соня, Варшава. Вот отсюда дядя Гриня и привез челюсть. – Почему-то физиологичное «челюсть» на слух воспринималось лучше чужеродного «протез». – А где тут Люблин? Как же все странно связано… В тетради есть про Люблин. Оноттуда родом.
Славик сказал о поэте в третьем лице, не называя фамилии, иначе ему начинало казаться, что он говорит про себя. Чувство у Славика было такое, словно он наделяет себя чужими, не присущими себе качествами, словно он примеряет чужую жизнь, перекладывает на себя обязательства, взятые другим человеком.
Из коричневой тетради Славик прочитал только самое начало, откладывая расследование, к которому призывала соседка Эмочка, на потом. И даже звонок Левушки и его строгое «Ну, что новенького?» – не возымел никакого действия.
Славик еще раз окинул взглядом карту. Моря, горы, долины, реки, города, большие и маленькие селения, все это наполненное людьми пространство, каким-то прекрасным и страшным способом поделенное на страны и одновременно единое, – все оно было сейчас здесь, возле него, рядом.
Славик нашел маленькую точку на карте, осторожно коснулся ее пальцем и мысленно произнес: «Полян родом оттуда», и еще раз посмотрел вниз. Голова у него закружилась, как это бывало в детстве, перед прыжком в воду.
__________
<Месяца за три до приезда сюда со мной случилось маленькое происшествие. Теперь я знаю, что это был знак.
Я бродил по одному из люблинских предместий. В тот солнечный июльский полдень улицы казались вымершими. Из-за садовых оград выкипали наружу кусты роз, – белых, чайных, красных, – над ними гудели шмели.
С боковой улочки вывернул почтальон. Его старый велосипед дребезжал по булыжной мостовой. Проезжая мимо меня, почтальон, здороваясь, приподнял форменную фуражку.
Я снова продолжал свой путь в одиночестве, бездумно и счастливо. И вдруг увидел птицу, сидящую на низкой каменной балюстраде. Птица сидела боком ко мне и, чуть поворачивая головку, следила за моим приближением. Кажется, это была сойка: розово-пепельное тельце и голубая полоска на крыльях.
Я думал, еще миг, и она улетит, но птица не двигалась. Когда до нее оставалось не больше метра, я растерялся. Птица будто ждала меня. Пройти мимо, сделав вид, что ее нет, что ничего необычного не происходит, значило упустить какой-то невероятный шанс. Пройти просто так – было бы величайшей глупостью, пренебрежением к доверию птицы, ее терпеливому ожиданию, пренебрежением к случаю, что свел нас на этой пустынной жаркой улице.
Я замедлил шаг, а потом, все еще не веря в происходящее, протянул руку и погладил птицу по шелковистой спинке. И только потом она улетела.
Было странно, что я должен продолжать свой путь, словно ничего не произошло. И никого не оказалось рядом, кто мог бы подтвердить, что это – было. Подушечками пальцев я все еще чувствовал сотканное из капилляров и воздуха дрожащее тело птицы.
«Это была моя душа», – сказала Рита. Мы проснулись поздно, пообедали в дешевом ресторанчике возле ее дома, а потом гуляли в саду Обсерватории. Было пасмурно, под ногами крошилась наледь, оставшаяся после вчерашних заморозков, только что закончился мелкий январский дождь, и на голых ветках висели капельки, много-много капелек на равном расстоянии друг от друга. Рита наклонила ближайшую ветку и начала собирать их губами, одну за другой, сколько могла достать. И это было продолжением вчерашнего дня. Теперь все дни будут продолжением вчерашнего дня. Прошедшее настоящее.
Вчера все вышло случайно. Просто я спросил – эта ее внезапная бледность и вдруг ледяные руки, почему это. Не думаю, что мой вопрос был бестактным, даже если речь шла об обычном женском недомогании. Рита как раз высыпала на язык порошок из бумажного пакетика с латинской надписью pulvis foliorum digitalis.
Она поставила стакан с водой, села и закрыла глаза: «Просто иногда я умираю. На несколько секунд. Но ничего, это проходит».
Я опустился на ручку кресла, чтобы быть ближе к Рите. А может быть я стоял рядом и только склонился к ней. Не помню. Я не чувствовал своего тела. Такого со мной никогда не бывало, чтобы я совсем не помнил, где находится мое тело, и не чувствовал его. И звуки тоже пропали. Я весь сосредоточился на ощущении Ритиных прохладных губ. То, что я делал, было похоже на то, как Рита собирала дождевые капли с ветки в саду Обсерватории. Я запомнил только, что дышал медленно и глубоко, как при засыпании, и еще тот миг, когда ее губы дрогнули, отвечая мне.>
<…Хенрик оказался прав. Поиски работы завершились совсем близко от моего дома, в маленьком нотариальном бюро на улице Дагер. «Ведь это тоже заработок». Именно так выразилась Рита. И заработок постоянный. Переводя с языка на язык документы, эти свидетельства человеческой жизнедеятельности, становишься участником бесконечной интернациональной комедии, книги жалкой и величественной одновременно. «Быть секретарем общества…» Заманчиво, но, думаю, не вполне безопасно по нынешним временам.
Вчера опять приходил тот господин. У него сухие волчьи глаза, редкие, гладко зачесанные волосы и военная выправка. Он говорит по-французски с легким польским акцентом. В здешнем вавилоне быть уверенным в чьей-либо национальности невозможно. Не исключено, что он русский, в кармане его пальто, явно из хорошего дома, я заметил советскую газету. Он перехватил мой взгляд и поинтересовался, не из России ли я. «Нет, но бывший подданный». Господин понимающе кивнул.
Он приходил, чтобы составить завещание: библиотека отходит друзьям, так же как и некая бедная родственница, которую они должны содержать до конца ее жизни. Не слишком ли сентиментально для человека с такой брутальной внешностью?
Он сказал, что на следующей неделе придет снова. До сих пор у меня перед глазами его короткопалые руки и плотно сбитая, какая-то вульгарная фигура.>
__________
Никогда прежде Эмочка на «воскресники», как она называла свои воскресные поэтические сборища, Славика не звала, и вдруг позвонила накануне и почти в приказном порядке велела быть.
К гостям Славик привычки большой не имел. Вели они с женой существование довольно замкнутое. А тут незнакомые люди, немолодые уже, острят напропалую, хохочут, пьют вино, и, главное, взахлеб читают наизусть стихи.
Славику, чье знакомство с отечественной и зарубежной словесностью закончилось «слабенькой четверкой» на школьном экзамене по литературе, очень быстро стало не по себе. Он забился в угол, под портрет Ираиды Романовны, и тихо пил чай с куском сладкого пирога.
Кто-то из присутствующих начал игру в «продолжения». Один человек начинал стихотворение, другой подхватывал. «Слишком в Гамлете режут и колют. Мне милее куда „Три сестры“…», – начинал Гоша. «… Где все тихо встают и уходят. И выходят навек из игры…» – подхватывала Эмочка. «Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены…» И кто-то следующий продолжал: «Мы брать преград не обещали. Мы будем гибнуть откровенно, мы…» Сознание Славика цепляло что-то близкое. Он чувствовал, – стихи были красивые, большинство грустные. И все без исключения – «про любовь». Так почему-то казалось Славику.
Эмочка дурачилась, кокетничала, и говорила вещи несусветные. Например, про годы, проведенные в лагере, сказала: «Было такое счастливое время! Мы с утра и до ночи говорили стихами!» Муж Гоша смотрел на нее с обожанием.
А еще Славик стал свидетелем необъяснимого превращения: чем больше Эмочка читала стихи вслух, тем меньше лет можно было ей дать. Лицо разглаживалось, распрямлялась спина. Весь облик ее начинал дышать. Об омолаживающем эффекте поэзии Славик ничего не знал. Он вообще о ней ничего не знал. Кроме того, теперь, что он состоит в дальнем родстве с поэтом. Сомневаться в том, что они родня, уже не приходилось: тетрадь Славик дочитал почти до конца.
В самом начале вечера Эмочка, представляя гостям соседа, заметила между прочим, что он дальний родственник Теодора Поляна. «Как, того самого?» – воскликнул кто-то. А еще кто-то процитировал: «Эта птица над головой – может быть тобой…»
«Странно… Вот странно-то… – думал Славик. – Он, которого давно нет, он – есть. И в гораздо большей степени, чем я. И эти люди знают его, и он что-то для них значит, и так странно, что жизнь его имеет отношение к моей…» Чувство действительно было необычным: точно его, Славика, собственная жизнь приобретала объем, недостающий смысл, внутренний жар, а главное – получала обоснование…
Перед тем как расходиться, на посошок традиционно читали стихи по кругу. Славик вжался в кресло, как в парту, надеясь, что пронесет.
Когда пришла его очередь, он замахал руками, прося не трогать его. Но компания зашумела, стали требовать стихотворения, «любого, хоть из школьной программы, мы напомним, если забудете!», и – аплодисменты.
Славику вспомнился только «Анчар». Потому, наверное, что это было самое первое «взрослое» стихотворение, которое он выучил наизусть. Еще в первом классе, в тот год, когда по всему городу висели портреты Пушкина, и читать стихотворение он должен был на каком-то важном школьном мероприятии.
Славик закрыл глаза и начал: «В пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной…» Он вспомнил вдруг, как поправила его учительница: «Не „раскалённой“, Славик, а „раскалéнной“, заучи». И сейчас, спустя почти семьдесят лет, он почувствовал, каким твердым, неизбежным, металлическим звоном было налито это слово…
Он и не предполагал, что помнит текст. Строчки всплывали в памяти сами собой, берясь как бы ниоткуда. Славик читал и видел внутренним взором ряды скамеек, учеников и учителей, и на задней стене, напротив сцены, портрет Пушкина в окружении портретов вождей, и весь актовый зал школы, мрачный, глубокий, похожий на аквариум.
«…С его ветвей, уж ядовит, стекает дождь в песок горючий…» – благополучно дочитал Славик до середины стихотворения и вдруг на словах «Но человека человек» сбился. Может быть, так произошло потому, что и тогда, десятилетия назад, заучивая стихотворение, он сбивался на этих рядом стоящих одинаковых существительных, похожих на словесную головоломку.
Славик открыл глаза и снова произнес, пробуя на слух: «…человека человек». И вдруг чей-то голос помимо его воли, но внутри него, тихо воскликнул: «Господи… Господи… да как же это…»
Смыслы множились, ускользали от понимания, выплывали новые. При многократном повторе два слова, два человека – владыка и раб – непостижимым образом слились в одно невероятное, мифическое существо, в трудно представимый, замкнутый на самом себе организм – человекочеловек.
Славик замолчал окончательно.
Несколько мгновений стояла тишина, а потом Эмочка подскочила, хлопнула в ладоши и велела читать следующему, отвлекая общее внимание от Славика. А он, сидя в своем углу, вдруг почувствовал необыкновенный душевный подъем, почти экстаз, сопутствующий внезапному озарению, как с ним было на днях, когда он, преодолевая себя, читал коричневую тетрадку.
Ему приходилось опускать непонятные слова и целые фразы на других языках, домысливать, воссоздавать то, что осталось на вырванных страницах, а главное – воодушевляться чужой жизнью, которая, стало вдруг казаться Славику, была брошена ему, как спасательный круг. И теперь благодаря внимательному чтению, благодаря довоображению целого по фрагментам, – жизнь эта, пусть трудно, но усваивалась, становилась своей.
__________
<Все свободное время мы гуляем по городу, иногда заходим в музеи. Мы как будто родились для этих прогулок.
В апреле мы спускались к реке, шли вдоль освещенных солнцем нижних набережных, иногда Рита прижималась к прогретой каменной стене, она прижималась к ней грудью, раскрытыми ладонями и щекой, и, блаженствуя, закрывала глаза.
Теперь мы частенько отправляемся на восточную окраину города, в сторону Шарантона, туда, где Марна впадает в Сену, чтобы проверить, как поживают лебеди. Они плавают у самого берега. «Знаешь, в детстве я думала, что это такие специальные русские птицы. Царевна-лебедь и все такое…» Рита смеется. И потом, без всякого перехода: «Ты такой красивый». И обнимает меня. «Ну и что, что я чуть выше. Мы одной масти, и отлично смотримся рядом. Интересно, если у нас будет ребенок, он будет синеглазым в меня или в тебя кареглазым».
Мы идем, и она говорит разные смешные вещи. От некоторых у меня дух захватывает. «Я люблю твое лицо, – говорит она. – Особенно когда ты сочиняешь свои стихи и когда хочешь меня».
Во второй половине дня солнце светит нам в спины. По нашим теням невозможно понять, кто мы и сколько нам лет, старики мы, прожившие вместе жизнь, или совсем юные люди, которые, может быть, расстанутся завтра навсегда. Прошедшее настоящее продолженное.
Рита смотрит на свою тень и поправляет волосы. Она не носит шляпок, терпеть их не может, говорит, что шляпки – это превратно понятая женственность. И перчаток не носит. Она любит прикасаться ко всему руками. Даже к скульптурам в музеях. Разумеется, пока смотритель не видит.
Шарфов она тоже не носит. Темное пятно под скулой ничуть не беспокоит ее. И, кажется, ей доставляет удовольствие смущать мужчин в кафе и на улице. «Пусть думают, что ты страшно ревнивый», – говорит она и смеется.
Мы больше не возвращаемся к январскому разговору. Но теперь мне кажется, что я существую в двух временах: в том, где есть Рита, и в том, где ее уже нет. Эта тяжесть двойного существования испепеляет меня.
Все мое лучшее, все божескоево мне пробуждается благодаря Рите. Я узнаю себя, благодаря ей. Смогу ли я соответствовать этому дару?
Сегодня мы сидели в Тюильри, возле пруда, и смотрели, как рыбы, крупные, коричнево-рыжие, высовывают из воды раскрытые рты в ожидании хлебных крошек. А рядом также попрошайничали голуби. Они подходили совсем близко к нашим стульям и урчали. Не знаю, но почему-то меня беспокоил этот звук.
Рита достала из сумки пакетик с остатками вчерашнего багета и стала скармливать его попеременно рыбам и птицам. «О чем ты думаешь?», – спросила она. «Я думаю о счастливцах, которые догадаются выловить этих откормленных карпов и зажарить. А заодно и голубей. Смотри, они уже летать не могут от сытости».
На самом деле я думал о том, что означают слова «порок сердца», и о том, что было вчера, когда Рита не открыла мне дверь.
Уходя, я забыл ключ. Когда я вернулся, в одной руке у меня был пакет с покупками, в другой связка книг из библиотеки. Я постучал, поддерживая книги подбородком, но ответа не последовало. Я стоял под дверью, наполняясь ужасом. В этом чувстве была нежилая, последняя пустота, оно было как дом, предназначенный к сносу.
Уйти Рита не могла, ей пора было собираться на работу. Может быть, я постучал недостаточно громко. Но тишина в комнате была такая кромешная, что стучать снова я не решался.
Я стоял под дверью и молил Бога, чтобы он избавил меня – от чего? И почему – меня? Почему в этот миг я думал о себе? Я как будто заранее со всем согласился, предал Риту, и думал только о том, как перенести утрату.
И вдруг я расслышал легкий сухой выдох, похожий больше на покашливание. Ее привычный выдох, когда она просыпалась.
Прислонясь лбом к двери, я плакал. Я обещал себе никогда больше не думать о худшем. Рита с таким достоинством переносит болезнь, и я не должен беспокоить ее своим страхом, не должен мешатьей.>
__________
За неделю Славик побывал в двух местах, где прежде никогда не был. В Российской национальной библиотеке, которую Эмочка по старинке запанибрата называла Публичкой, и Федеральной службе безопасности, по-простому ФСБ. Последняя аббревиатура, за которой скрывалась «известная организация», не нравилась Славику меньше предыдущей. С ней, вроде бы, ничего такогосвязано не было.
На оба похода Славика подвигла соседка из квартиры напротив.
О том, что «ни разу не побывать в Публичке стыдно», Славик и не догадывался. В своей, политеховской библиотеке бывал, когда учился. А потом как-то хватало журнала «Наука и жизнь», со временем Левушкиной «Юности», да газет из киоска.
Двойные двери, выходящие на площадь Островского, были огромными и тяжелыми. Славику пришлось открывать их обеими руками. Внутри ему сначала показалось все похожим на театр: гардероб, фойе, буфет, красное дерево и бархат в коридоре.
Когда он при входе заполнял бумаги для пропуска, в графе цельнаписал, как велела Эмочка, – «исследование». Этот собственноручно заполненный документ возымел на Славика странное действие: ему показалось, что он дал расписку Теодору Поляну в том, что не оставит его.
В огромном Алфавитном каталоге на «Полян Теодор» не было ни одной карточки. Это могло означать, что никакого Теодора Поляна не существует, что он плод поэтического воображения Эмочки и ее друзей. Но как же тогда дневник и книга, которая упоминалась в нем. Славик испугался. Почему-то именно теперь ему стало до зарезу нужно, чтобы Полян существовал.
Беспомощно озираясь, Славик бродил вдоль длинного пустого коридора, между желтыми каталожными шкафами. В каждом шкафу имелось по множеству выдвижных каталожных ящичков, и все это не кончалось, и было похоже на кукольный морг из зарубежного фильма ужасов. Ко всему прочему внутри библиотеки было очень душно. Славик почувствовал дурноту.
В этот момент кто-то подхватил его под локоть.
– Вам помочь? – Неизвестно откуда возникший молодой человек внимательно смотрел ему в лицо. – Да не волнуйтесь вы так. Сейчас все будет хорошо. Я библиограф. – Как бы в доказательство, молодой человек похлопал себя руками по полам синего рабочего халата. – Что вы ищете? – И он указательным пальцем поправил сползающие с носа очки.
От пережитого волнения Славик не мог выдавить из себя ни звука и молча протянул бумажку с именем и фамилией.
– А! Но это, кажется, книга еще довоенная будет, да и вышла не у нас. С этим надо в Генеральный каталог. – И молодой человек, все так же поддерживая Славика под локоть, повел его в сторону зала с большим столом посередине. – Подождите тут, – сказал он и исчез за какой-то дверью.
Мимо Славика бесшумно ходили читатели и сотрудники библиотеки, никто не обращал на него внимания, и он стал потихоньку успокаиваться. Он сидел и прикидывал, как отсюда, с Невского, лучше добраться до Литейного: заявление, составленное с помощью Эмочки, лежало у него в нагрудном кармане пиджака. Именно Эмочка надоумила его не разводить канитель, а «убить двух зайцев разом». «Станислав Казимирович, раз уж вы решились, действуйте».
И даже Левушка, когда Славик отчитался ему «о проделанной работе и дальнейших планах», довольно хмыкнул в трубку: «Да, ты, батя, крутой, оказывается».
– Ну, вот. Я же говорил, все будет хорошо. Я вам и бланк заказа заполнил. Только свои данные впишите.
Славик достал ручку. На бланке уже стояла его фамилия. И шифр. И год: тысяча девятьсот тридцать шестой. И место выхода: Париж. И название книги: «Прощание с птицей».
– Однофамильцы? Такое совпадение?
Славик хотел согласиться, что совпадение, так было бы проще, но преодолел себя и отрицательно мотнул головой.
– Он мой родственник. Я только теперь узнал. Спасибо вам большое, молодой человек. Если бы не вы…
И Славик двинулся в сторону читального зала с надписью «Ленинский» над входом, он уже проходил мимо него.
– Нет-нет, вам не туда. Это единственный экземпляр, редкая книга. Вам в Зал основного фонда.
Славику понравилось, что не в Ленинский.
– А почему название не сменили, вроде бы…
Молодой человек снова поправил сползающие очки, наклонился к уху Славика и таинственным шепотом сказал не то всерьез, не то в шутку:
– Вот именно «вроде бы». У нас не так давно Салтыков-Щедрин из предбанника исчез в неизвестном направлении, да бюст Екатерины уборщица разбила, все равно что твоя Аннушка масло разлила. И дела никому нет. Но это название осталось. Сплошной Булгаков. Чудеса, правда?
Славик не понял почти ничего, но кивнул. А молодой человек снова заговорил обычным голосом:
– Но у нас с вами своя задача. И от того, как мы ее выполним, очень многое зависит.
И, прежде чем испариться, он указал Славику на дверь в конце коридора.
__________
<Вчера состоялся странный разговор с Серафимой. Мы встретились в кафе мадам Жюльет, как и три дня назад, когда Виктор, в сущности, отчитывал Риту.
Виктор преподает в Русской консерватории. Играть к мадам Жюльет он ходит ради удовольствия. Или ради Риты. Это одно и то же.
«Хочешь поднять Советам статистику по возвращенцам? Очнись, – сказал тогда Виктор. – Последнее, что ты запомнила, уезжая из России, это ложа в Мариинском. Золото и голубой бархат. Это было на Рождество, через неделю тебе исполнялось шесть».
«Да, голубчик». Рита щурилась на дым, идущий от моей сигареты, и маленькими глотками пила арманьяк. Похоже, я застал рецидив давнего спора. «Да, голубчик. Та последняя зима была хороша: белая и длинная, как второй акт „Лебединого“». Она словно поддразнивала Виктора.
«Знаешь, любовь к русской зиме может тебе дорого обойтись. Твои родители слишком часто принимали у себя заезжих краснобаев и слушали ангажированных писак в монпарнасских кабаках. Ты пошла по их стопам, веришь всему, что говорят на ваших идиотских сборищах при полпредстве». Вот что он сказал, прежде чем уйти, ни с кем не простившись.
Остаток вечера Рите на старом разбитом пианино аккомпанировала мадам Жюльет. Белль тихонько подскуливала хозяйке. И, надо сказать, у нее это неплохо получалось.
Вчера у Серафимы был выходной, а Хенрик работал. Подозреваю, она не хотела говорить со мной при Хенрике. У Серафимы острые ускользающие зрачки и напористая речь. «Не обращай внимания на Виктора, он просто не хочет, чтобы Рита уезжала, – сказала она. – Их семьи приехали сюда в августе семнадцатого. Перед Советами они чисты. Разве только происхождение».
Лексикон у Серафимы соответствующий. Как из той листовки, что давно валяется на столе в Ритиной комнате. «Родина ждет тебя!», такая там шапка, а дальше текст с апострофами вместо твердых знаков. Сплошное заикание.
«И вообще дело не в снеге и зиме, что за ерунда. Виктор не знает про письмо. Здесь мы все равно никогда не станем своими. А там бесплатное лечение у лучших врачей, даже бесплатная операция, если понадобится. Медицина у них достигла фантастических успехов».
Письмо пришло месяц назад. Его написала неблизкая родственница Ритиного отца. Рита перечитывала его несколько раз. В нем еще было про то, что можно продолжить обучение в консерватории. Разумеется, бесплатное.
Потом Серафима сказала, что, по имеющимся данным, в Ленинграде живет моя дальняя родня, и я могу написать им, если захочу. Интересно, откуда тамзнают обо мне, и от кого эти данные, и откуда они у Серафимы.
Впрочем, дурацкий вопрос. Дело у них поставлено на широкую ногу.
«Мы с Хенриком тоже собираемся». Ничего подобного от Хенрика я не слышал. «Во всяком случае, я – точно». Мое молчание раздражало Серафиму. «Что скажешь?». Сказать мне было нечего. Все зависит от того, какое решение примет Рита.
Скоро я сдаю в типографию мою книгу. В ней стихи на польском, русском и несколько на французском. Она посвящена Рите.>
<Вопрос о нашем отъезде решен. Я понял, что все мои уговоры остаться – бессмысленны. Это не упрямство. Это непреодолимое Ритино желание двигаться навстречу собственной судьбе. И я не могу препятствовать ей в этом.
Советские паспорта будут готовы через месяц. А вчера мы вернулись из Нормандии. Что-то вроде свадебного путешествия.
Неделю назад Рита стала моей женой. Мы быстро уладили формальности в мэрии нашего округа. Свидетелями были Хенрик и Серафима. После отправились ужинать к мадам Жюльет. На лохматую макушку Белль по случаю торжества был водружен розовый бант. Виктор не пришел.
Утром следующего дня в машине, взятой напрокат, мы выехали из Парижа. «Неизвестно, как скоро мы сможем приехать во Францию, а есть вещи, которые лучше не откладывать на потом». Она прекрасно водит, смеется: «Если бы не взяли в оркестр, устроилась бы шофером, женщина за рулем это шик, так выражаются наши эмигрантские дамочки». Водить Риту научил отец, она сказала, что довольно лихо гоняла на его подержанном «рено», пока автомобиль совсем не развалился от старости и ее лихачества.
В начале октября погода не слишком устойчива. Всю дорогу Рита приговаривала: «Нам повезет, там, куда мы едем, не должно быть ни одного облачка, это очень, очень важно. Ты увидишь, так и будет».
Я не спрашивал, куда мы едем. Когда мы отправлялись бродить по городу, я тоже никогда не спрашивал маршрут. Я доверилсяРите и получаю наслаждение от этого. Доверяться ей – это как быть «немножко в руках Бога»: не знаешь, что случится через секунду, но надеешься на лучшее.
Рядом с Ритой все всегда не важно, любая насущная проблема рядом с ней мгновенно теряет значение. Даже такое чувство, как ревность, становится бессмысленным и стыдным: Риту ни с кем нельзя делить, поскольку и себе она не принадлежит.
Она исподволь вовлекает меня в иную реальность, приучает к ней, она дарит бесценный опыт: учит меня дышать по ту сторону бытия, а я, глупец, все еще цепляюсь за привычные предметы и суждения. То, что происходит с Ритой, похоже на осуществление величественного замысла. Я не должен принижать его своей тревогой, своей жалостью.
Я не думал о том, что с Ритой, когда она за рулем, каждую секунду может случиться ее «временная смерть», потому что знал, все будет продолжаться дальше, будет продолжаться в любом случае… Ах, Рита, Рита, эта птица над головой – может быть тобой…
Мы ехали в сторону океана, облака были низко, а земля высоко, путь наш лежал через маленькие нормандские городки, в центре которых стоял неизменный, как бы везде один и тот же памятник, памятник жертвам Великой войны.
К вечеру первого дня мы приехали в Алансон, тихий и немного мрачный, остановились в дешевом привокзальном отеле, поужинали и пошли бродить.
Над входом в собор, вдоль карниза, сливаясь с цветом стены, сидели голуби. Они казались частью орнамента. Они спали.
Перед тем, как войти, Рита покрыла голову моим шарфом. Служба заканчивалась. Внимание Риты привлекли книги, которые в церковной лавке вместе со свечами и дешевыми распятиями продавал низкорослый молодой послушник с лицом, изъеденным оспой. Точнее, одна книга, на обложке которой была помещена фотография прелестной девушки в монашеском облачении. Выражение лица у нее полудетское, почти кокетливое. Тереза из Лизьё. «История одной души».
Послушник заметил интерес Риты и, смущаясь, протянул ей книгу. «Если мадмуазель будет угодно… Пожалуйста… Это святая Тереза. Видите ли, она родилась в нашем городе, а умерла в Лизьё. Книга… она о любви». Послушник покраснел и смолк. И посмотрел на Риту.
Я достал деньги, и послушник мотнул головой: «Нет, за книгу не надо…»
Я купил маленькое серебряное распятие, и мы вышли.
Утром, когда я проснулся, Риты в постели не было. Накинув мою рубашку, она сидела возле окна и читала вчерашнюю книгу. Глаза ее, когда она обернулась, показались мне черными.
«Тео, послушай только, что она пишет… Вот… „Кругом росли маргаритки – одного роста со мной“. Это же, как в садике позади моего дома, ты помнишь?»
Конечно, я помнил. Только во дворе Ритиного дома на улице Гэте росли не маргаритки, а наперстянка. Маленькая рощица из высоких плотных стеблей с бледно-лиловыми колокольцами.
Однажды мы проснулись утром, точно кто-то позвал нас, и подошли к окну. В сером рассветном сумраке прямые стебли наперстянки стояли неподвижно, по отдельности друг от друга и одновременно вместе. Они стояли осмысленно, не шевелясь, как на молитве.
Рита быстро накинула шаль, спустилась вниз и встала среди них, и оказалась одного роста с ними, и что-то начала шептать им. Так было, в то утро.
«Но это не всё, Тео. Слушай: „Никак я не научусь умирать“. Как хорошо, как легко сказано, и даже будто с досадой, правда? Оказывается, и умирать надо учиться. Вот что. Как видно, ученица я неважнецкая. – Рита рассмеялась. – У меня ведь тоже ничего не получается. А вот еще: „Я больше не верю в свою смерть“. Это совсем, совсем мое чувство… Тео, когда она умерла, ей было двадцать четыре, почти как мне сейчас».
Рита задернула шторы и легла ко мне. Я обнял ее, замерзшую, и прижался лбом к ее спине. Хорошо, что она не видела моих глаз. «И какое точное название. Не просто „История души“, но – „ однойдуши“… Понимаешь?» Она пошевелила под одеялом ногами. Она любит прижиматься к моим ступням своими, и лежать так. Говорит: «От и до. Для полноты чувствования». Просто невероятно. Как будто она растет из меня.
Мы выехали через два часа. «Надо спешить, – сказала Рита и посмотрела на небо. – Все будет так, как я задумала».
День был ясный, дорога петляла по возвышенности, чуть заметно кренясь вниз, и за грядой холмов мне все время мерещился океан, но потом возникала еще одна гряда, и потом следующая, и каждый раз видение океана было обманкой.
«Я верю только в страдание», – на эти пропущенные Ритой строчки я наткнулся, пока листал книгу, а Рита спала, прижавшись ко мне холодными ступнями.
Мы ехали молча. Ритино воодушевленное ожидание передалось и мне. «Любить – значит разбрасывать цветы», – так писала маленькая монахиня, ровесница моей Риты… Да, да, разбрасывать цветы, лиловые колокольчики наперстянки, медовые маргаритки, все цветы всех садов и всех полей…
Дорога была пустой, и ехали мы так быстро, что пространство проходило сквозь нас, проникало в наши поры, перемешивалось с нашей кровью, меняя ее состав. Моя душа, разлитая в мире и побуждающая меня к этому движению вперед, соединялась со своей ипостасью, обитавшей во мне. Вот это слияние и рождало чувство счастья. То же самое происходило и с Ритой. И когда мы сначала поднялись на последнюю гряду холмов, а потом спустились в долину, где присутствие океана стало почти реальностью, мы были уже другими, но, может быть, гораздо в большей степени самими собой, чем в начале нашего путешествия.
Когда мы обогнули Авранш, солнце спустилось совсем низко. «Должны успеть», – сказала Рита и перевела дух.
Дорога еще раз вильнула, и вдруг мы вылетели на пустое место, где не было ничего, кроме неба, от зенита до горизонта и по всей его линии одного ровного густого цвета: словно в топленое молоко плеснули чернил, да, теплого молочно-чернильного цвета.
Впереди тускло пылал, не давая бликов и не оставляя разводов, солнечный шар, уже задевший краем океан, который был в десятке километров от нас и которого мы не видели. А посреди отмели, которая была частью этого океана, рядом с малиново-алой, нестерпимо близкой громадой солнца – высилась ему равновеликая, темная, устремленная ввысь громада аббатства.
Только они и были перед нами. И мы на всей скорости летели по направлению к ним.
Это был самый лаконичный и самый значительный закат в моей жизни.
Немного отдохнув в монастырской гостинице, мы отправились вверх.
Узкие улочки были освещены масляными плошками, и чем выше мы поднимались, тем меньше их становилось, и все же окончательной тьмы не наступало, хотя рядом не было источника света, кроме звезд сверху и вокруг нас.
И было еще что-то, что делало эту феерию на краю океана величественной, как восхождение на костер, и обыденной, как вечер возле домашнего очага.
И этим «чем-то» был запах дыма из труб, запах жилья, оставшегося у нас под ногами.
Утром, стоя у подножия аббатства, мы видели только прямую крепостную стену и небо над ней, как если бы все устремленные вверх улочки, церкви, и сам собор покоились на дне огромной коробки.
Но по мере того, как мы отъезжали, громада позади нас распрямлялась, росла, словно живая, приподнималась на цыпочки, показывала все свои изгибы и складки, и смотрела, смотрела нам вслед. И чем дальше мы отъезжали, тем мучительнее было терять ее из виду.>
__________
Славик вышел из библиотеки, прижимая к себе локтем Левушкину школьную папку, в которой лежала отксерокопированная книга. «Любить – значит разбрасывать цветы», – так сказала маленькая монахиня, Тереза из Лизьё. Написанные на русском, польском и французском, стихотворения в этой книге были похожи на разбросанные цветы.
Славик до сих пор чувствовал пальцами шелковистую бумагу, то, как шевелилась она под его рукой. «Бумажный запах январских роз», – так было сказано в одном из стихотворений, и так же сухо, почти неуловимо, пахли страницы книги.
И еще: от них шло тепло, похожее на то, которое шло и от страниц дневника.
Однажды Славик, не довольствуясь очками, стал разбирать записи Поляна с лупой: максимально приблизившись, было не только легче читать, так было легче понимать.
Жирные и волосяные линии сохраняли подрагивание руки, обрывались или длились, повторяя дыхание пишущего, толчки его сердца. Сильный нажим оставлял след на нижних страницах, перо царапало, иногда рвало бумагу, иногда едва касалось ее. Почерк был живым. Славику казалось, что буквы возникают прямо у него на глазах, что палец его идет след в след за пером автора.
…Над Невским в холодной ноябрьской дымке висело солнце. Времени еще было достаточно, Славик шел в сторону Литейного, чтобы сесть на троллейбус, и думал, как правильно сделал, что зашел в библиотечный буфет. Во-первых, он был сыт «за сущие копейки». Во-вторых, обогатился впечатлениями, на которые и не рассчитывал.
Буфет был крошечный, и располагался под широкой лестницей, неподалеку от дамской уборной. Он напоминал одновременно и школьный, и заводской буфеты, в очередях к которым Славику приходилось проводить не так мало времени, и на буфеты в домах отдыха советской поры, где им с женой случалось отдыхать по профсоюзным путевкам. Даже рукописная табличка с требованием «Убирайте за собой посуду» была «оттуда».
Тут тоже вдоль круглой стеклянной витрины тянулась очередь. Правда, небольшая. За стеклом лежали пирожки, пирожные с кремом, вареные яйца, шоколадки, стояла сметана в стаканах и вазочки с салатом оливье. Сверху прилавка лежало отпечатанное на машинке меню. Славик заглянул и удивился: рисовая каша с маслом стоила одиннадцать рублей, две сосиски без гарнира двадцать.
Пожилой мужчина профессорского вида, сидя за пластиковым столом на шатком пластиковом стуле, внимательно ел гречишку, неподалеку от него дама в кружевной кофточке, с красиво уложенными седыми волосами, пила чай с принесенным из дому бутербродом. За стойкой юноша прихлебывал кофе из щербатого стакана и писал что-то в блокнот. Молоденькая женщина в рабочем халате соскребала алюминиевой чайной ложкой мороженое со дна вазочки… Наука и культура ютились здесь в обстановке весьма непритязательной, и даже унылой, но держались с достоинством.
И еще Славик с удивлением понял, что в некоторых читателях и сотрудниках библиотеки он узнавал тех самых пенсионеров, которые так угнетающе действовали на него в метро и на улице.
После горячего чая и рисовой молочной каши Славик размяк. Покидать библиотеку ради «известной организации» ему не хотелось. Он сел на широкий подоконник в вестибюле, напротив буфета, и стал ждать, не появится ли еще раз тот фантом-библиограф, так быстро и хорошо один раз уже все устроивший. Но его не было. Зато на мраморной лестнице Славик заметил девушку. Она шла вниз, и вдруг замерла на предпоследней ступеньке. Лицо ее было чуть склонено, глаза смотрели в книгу, которую Славик не видел. Вообще, руки девушки казались пустыми, а взгляд, устремленный в пространство перед собой, – рассредоточенным и вместе с тем внимательным, и вся она вдруг напомнила Славику известную ему по журнальной репродукции картину, изображавшую молодую прядильщицу с невидимой нитью в руках.
Через минуту видение читающей и одновременно прядущей девушки пропало, но осталось тихое напряжение, разлитое в воздухе, и шло оно не от работающих труб парового отопления, а от мерного жужжания невидимого веретена…
…Здание, в которое с одной из боковых улиц вошел Славик, так же, как и главное здание, давило размахом и основательностью. Строилось оно с пониманием задач, на века. За входной дверью, у себя под ногами, он увидел выложенную плиткой цифру 1933. Год окончания строительства. «Начинали, наверное, в тридцатом, когда я родился…» Славик осторожно перешагнул зашарканные квадратики.
В большом светлом, с множеством дверей по периметру холле стояли стулья. Посетители тихо разговаривали. Около нужной ему двери очереди не было, а сама дверь была чуть приоткрыта. Славик мялся, не зная, принято ли здесь стучать или надо ждать, пока хозяин выглянет сам.
Плотный красивый мужчина в добротном костюме, при галстуке, вышел из соседнего кабинета, зашел в тот, возле которого топтался Славик, и жестом пригласил его внутрь. От мужчины пахло дорогим одеколоном. Славик вошел.
Вдоль кабинета стоял буквой «Т» стол. Окна выходили на улицу, но были плотно завешены. Дневной свет не проникал в помещение. Мужчина сел и в этот момент зазвонил телефон. Славик остался стоять. Разговаривая, мужчина знаком показал Славику на стул.
Славик очень хотел рассмотреть кабинет, но «таращиться» ему казалось неприличным, и он сидел, демонстративно глядя в пол, и только иногда поднимал глаза, а, поднимая их, каждый раз видел за спиной мужчины занимавшее половину стены вышитое панно: поясное изображение Железного Феликса в анфас. Работа была исполнена тщательно, с любовью. Правый угол панно, прямо над плечом хозяина кабинета, занимал еще один портрет, поменьше, и тоже Дзержинского, но уже в профиль.
Сначала Славик подумал, что это обман зрения. Однако, сомневаться не приходилось: оба портрета на стене изображали одного и того же человека. Причем, Дзержинский на втором портрете, глядя вперед, умудрялся как-то особенно неприятно скашивать узкий глаз на Славика.
Мужчина закончил разговор и поинтересовался у Славика о цели визита.
Славик начал объяснять, но сбился, достал из пиджака заявление. Мужчина протянул руку, и Славику пришлось привстать и потянуться через стол, чтобы отдать бумагу.
В заявлении, кроме просьбы позволить ознакомиться со следственным делом Теодора Поляна, была изложена история семьи, насколько он знал ее по обрывочным и смутным рассказам матери, да вот теперь и по дневнику.
Мужчина внимательно читал, а Славик старался не глядеть на второй, меньший портрет, на уродливо скошенный к самому виску глаз. Кроме того, он мучился чувством неловкости. Ему казалось, что и собой, и этим заявлением он допускает бестактность, невольно показывая, что помнит, тогда как прилично было бы уже и забыть.
Чувство это было настолько сильным, что Славику хотелось извиниться перед хозяином кабинета за свое присутствие здесь.
Мужчина дочитал, спросил у Славика номер его домашнего телефона, сказал, что в течение месяца ему позвонят, и положил заявление в папку.
– Я могу идти? – Славик поднялся со стула.
– Конечно, всего доброго, Станислав Казимирович.
…Славик летел домой, как на крыльях. Он был счастлив, что справился. Ему казалось, что все самое трудное теперь позади.
__________
<…Иповсюду эти распаренные восторгом лица!
Что сделалось с людьми и почему так быстро происходит расчеловечивание?
Я думал, что радиоприемник у нас в коридоре испорчен. Почему «у нас» и почему «в коридоре»?
Начну по порядку.
Сначала мы ехали поездом до Гавра. И я все время чувствовал, что слева, среди долин и холмов, лежат погруженные в живые сумерки и Алансон, и Лизьё, и то рвущееся к небу аббатство на скале. И было это – как ноющая боль в сердце.
Утром мы сели на пароход, который шел в Ленинград. Пароход назывался «Андрей Жданов». Я спросил у капитана, кто это.
Оказывается, еще есть пароход «Мария Ульянова». И так далее. Пароходы. Паровозы. Турбины. Шахты… Титанический мир.
Две недели мы жили в лучшей гостинице города, «Астории». Рита была счастлива, и это главное. И совсем главное: она водила меня по городу.
Я спросил: «Как же ты можешь помнить, ведь тебе было шесть?»
Она ответила: «Рассматривала старую карту, и мне рассказывали».
От нашего пристанища было всюду рядом. В первый же день Рита повела меня к Мариинскому театру. Теперь он «имени С.М.Кирова».
Театр – нежная бирюза при архитектуре цирка: один из имперских сюрпризов. На недавней майской демонстрации видел плакат, который несли, высоко подняв на древках и растянув чуть не на всю ширину проспекта 25 Октября, двое красноармейцев: «Цирк – массам». Неужели это только мне таквидно.
На Петроградскую сторону, к дому, где Рита провела первые шесть лет жизни, мы шли по Кировскому мосту, а потом еще километра три по Кировскому же проспекту. Мы свернули на Большую Пушкарскую (наконец-то ласкающее слух, естественноеназвание), и наши с партийным деятелем пути разошлись.
Канонизация позавчерашнего покойника выглядит, пожалуй, пристойнее канонизации вполне живых людей, что происходит здесь на каждом шагу. Кем рядом с этим сонмом небожителей должны чувствовать себя остальные: равновеликими им или ничтожными смертными? Прометей, добывший людям огонь, не удостоился таких почестей, а ведь парень здорово пострадал. И хоть бы одна электростанция его имени!
Петроградская сторона напоминает некоторые улицы на левом берегу Сены.
По просьбе Риты нам досталибилеты на «Лебединое озеро». В роли Зигфрида – солист с грузинской фамилией. Мне здесь все кажется символичным. Топорная, оглушающая символика. Приме-балерине зал аплодирует чуть не стоя. Но по настоящему стоя, с какой-то необъяснимой экзальтацией, – людям в царской ложе. Это Рита говорит «царская», а средних лет дама, локтем толкая мужчину во френче, восторженно шепчет: «Посмотри, кто в правительственной!» В правительственной некто вполне мизерабельный – круглый, зализанный и тоже во френче. Здесь такая униформа.
На четвертый день мы отправились искать Ритину тетку, троюродную сестру отца, так, кажется. Адрес был на конверте. Вторая линия Васильевского острова.
У двери одна кнопка и список фамилий с количеством звонков, кому сколько звонить. Последняя цифра – десять. Нужную нам фамилию мы не нашли и позвонили один раз.
Открыла седая дама, сказала через цепочку, что такойздесь уже нет. Задержалась взглядом на Ритином пальто и туфлях. Выражение лица у нее было испуганное.
Когда оформили наши документы, выяснилось, что жить, по крайней мере, первое время, мы будем за городом. Это место называется Гатчина. Грубое слово. На мой сегодняшний слух, по крайней мере, звучит как оплеуха. «Знаешь, там есть дворец и парк», – так сказала Рита, и обняла меня.
В Гатчину надо ехать около часа по железной дороге с Балтийского вокзала. Мы сели на трамвай неподалеку от гостиницы, при нас было только самое необходимое, и, конечно, Ритина скрипка и мой ремингтон, из-за которого возникли некоторые проблемы с пограничниками. Почти все вещи, книги, кое-какая утварь застряли на таможне. Сотрудник НКВД, курирующий нас, обещал доставить их в новое жилье.
Ехали мы не долго и почти все время прямо. Когда мы вышли на привокзальной площади, и я увидел здание вокзала, то не смог сдержаться, поставил чемоданы на мостовую и закрыл руками лицо: этот вокзал был почти копией Восточного вокзала в Париже.
Мне показалось, что я схожу с ума или что всё вокруг нас, всё, кроме этого вокзала, – сон, который снится нам с Ритой, и мы вот-вот проснемся одновременно, как тогда, на улице Гэте, когда Рита шепталась с наперстянкой.
Вокзал стоит в глубине небольшой площади. Наверное, поэтому я не видел его, когда приезжал в этот район к своему родственнику. Наше родство сводится к общим прадедам и общей фамилии. Он никогда ничего обо мне не слышал. Его семья живет на углу Международного проспекта и Обводного канала, адрес мне дал наш куратор. Я был один, без Риты: не знал, какой прием будет оказан, и не хотел ставить ни ее, ни их в неловкое положение.
Меня угостили чаем с вареньем. Я рассказал им об отце и брате, о маме, которая осталась в Люблине. О том, как оказался в Париже. Муж и жена с беспокойством вглядывались в мое лицо, но, кажется, были рады мне. Иногда мне казалось, что им хочется дотронуться до меня. О себе говорили скупо: он специалист по гидротурбинам, она инженер на заводе, сын сейчас у бабушки.
После чая мы смотрели семейный альбом. На одной из старых фотографий я нашел своего маленького отца. Я знал, как он выглядит, по снимкам из альбома, хранящегося у нас дома в гостиной, под зеркалом, в верхнем ящике комода, рядом с коробочкой, в которой лежат, полуутопленные в красный бархат, шесть серебряных чайных ложек с гравировкой из двух переплетенных букв «П» на черенке, латинской и русской. Точно такая ложечка лежала теперь рядом с моей чашкой. Свидетельство когда-то давно поделенного общего приданого.
На стене, позади меня, висел портрет молодого мужчины. Я видел его отражение в зеркале напротив, и время от времени невольно возвращался к нему взглядом, потому что сходство наше было поразительно.
Хозяин, видимо, понял мои мысли. «Отец. Его убили весной девятнадцатого, давно», и подчеркнул голосом последнее слово. Он немного помялся, все-таки я был чужим, но продолжил: «Мне было двенадцать, из-за постоянных простуд и недоедания у меня развилось воспаление легких. Как-то ночью мне было особенно плохо, и отец побежал за врачом. К городу подступали белые, хождение в ночное время разрешалось только по специальному пропуску. Отец не вернулся. Утром температура у меня спала, кризис миновал. Мама ринулась на поиски отца, люди научили, куда надо идти. Выяснилось, что его, действительно, забрали, и посадили в камеру. Случайноэто оказалась камера с приговоренными. Их всех расстреляли на рассвете. Маме было сказано: „По недоразумению“».
Я обрадовался, что он сумел побороть себя и сказал правду. Так было справедливо по отношению к его отцу. А еще он рассказал, оттаяв и улыбаясь, о том, как отец, преодолев черту оседлости, приехал в начале века из Белой Церкви, что под Киевом, в Петербург, чтобы учиться на инженера путей сообщения, а его дед, то есть уже чуть ли не наш общий прадед, все слал и слал родственникам письма с сетованиями, что Иосиф «совсем отбился от лавки».
Мне показалось, что этим воспоминанием ему хотелось, пусть ненамного, но приблизиться к тому далекому времени, когда наша семья еще могла считать себя одним целым.
Я подарил им свою книгу. Когда мы выходили, он выглянул первым в мрачный, заставленный шкафами и сундуками коридор. Там никого не было.>
__________
– Зачем ты спросил «Я могу идти?» Что еще за холуйство? Все те же «шторки»!
Голос сына дрожал от злости. Славик уже сто раз пожалел о том, что рассказал ему о своем визите туда.
«Шторки» давно стали кодовым словом, которое в устах сына обозначало трусость и конформизм.
Обидный смысл «шторки» приобрели в начале восьмидесятых, во время одного из редких семейных обедов, потому что студент Левушка своим присутствием родителей не баловал.
Когда приступили ко второму блюду, сын принялся по своему обыкновению «митинговать», нести маразматиков во власти в самых раскованных выражениях и достаточно громко.
Вот тогда-то Сонечка встала и задернула соломенные шторки, висевшие вместо двери между большой комнатой и прихожей. Видимо, Сонечка думала, что благодаря этой эфемерной преграде Левиным воплям будет сложнее проникнуть на лестничную площадку и стать достоянием общественности.
Однако сын углядел в этом бессмысленном, но вполне безобидном действии иную подоплеку. Он счел этот поступок демонстративным: родители не просто боялись, они показывали ему, что не согласныс ним.
Впрочем, Славик вполне отдавал себе отчет: у истоков расхождения сына с режимом стояла не соседка из квартиры напротив, а их собственная семья.
Все началось с приема в пионеры, на котором Левушку из пионеров выгнали. Сын вернулся красный, в слезах, с криком, что ему отказали в доверии и теперь все кончено. Они с Сонечкой работали, дома была только еще живая на то время Сонечкина мать, которая попыталась успокоить внука и заодно понять, что же произошло.
Оказалось, что когда Левушке торжественно повязывали галстук, он перед всей пионерской дружиной школы отдал салют каким-то неправильным, возмутительным, как сказала старшая пионервожатая, способом. Воспроизвести жест Левушка категорически отказывался. Подействовали только долгие увещевания бабушки, что «надо во всем разобраться и впредь не повторять ошибки». Когда внук поднял руку, бабушка даже не спросила, кто показал ему, как надо отдавать салют. Ясно было, что накануне вечером он тренировался с мамой.
Ругать внука бабушка не могла, тем более из-за этого. Тем более что она сама была косвенной причиной случившегося.
Истоки Левушкиных неприятностей крылись в середине тридцатых годов, когда ее, поповскую дочку, во время очередной идеологической чистки выгнали с работы. И должность-то была не бог весть какая – делопроизводитель на резиновой фабрике, – а вот, поди ж ты, выгнали. Ее муж, то есть Левушкин, так никогда им и не увиденный, погибший на грядущей войне дед, в знак протеста против увольнения жены «положил партийный билет». А он все же был инженером завода по производству электрооборудования. Его тоже уволили. Но дело могло кончиться куда хуже.
Для семьи настали бедственные времена. Муж устроился рабочим в котельную, но денег не хватало. И тогда Сонечкина мама, а Левина бабушка, начала шить. Она не только обшивала всю семью, но шила на заказ, и семья могла сводить концы с концами.
В день объявления войны она сидела за столом, обметывая швы на очередной заказной кофточке. Услышав по радио речь товарища Молотова, она воткнула иголку в скатерть и побежала к соседке.
День был суматошный и страшный. После обеда Сонечка помогала матери убирать со стола и, сметая рукой хлебные крошки, напоролась на иголку, которая вошла в среднюю фалангу ее указательного пальца, да так глубоко, что пришлось ехать в больницу оперировать. Сухожилие было повреждено, и две фаланги с тех пор висели.
Конечно, Левушка всегда знал, что палец у матери больной, что никакого повисания быть не должно. И для всех осталось полной загадкой, в какой момент и что заклинило у него в голове, когда на приеме в пионеры он бессознательно воспроизвел этот жест.
Через год Левушку все-таки в организацию приняли, но никакого воодушевления по этому поводу у него уже не было.
Наверное, с тех пор и другие символы революции стали вызывать у сына разную степень отторжения, потому что даже на стоящем на вечной стоянке крейсере «Аврора» Левушку каким-то образом однажды укачало до рвоты.
А может быть, все началось еще раньше, в старшей группе детского сада, с которым Левушку отправили в летний оздоровительный лагерь…
В первый же родительский день Славик и Сонечка поехали навещать сына. Они сидели в лесу, на опушке, и пытались накормить Левушку домашними вкусностями, а он все твердил про какого-то Какадина. «Аладдин? Сынок, ты, наверное, говоришь про Аладдина?» «Не-е-е-т! – потеряв терпение, взвыл Левушка. – Какадин! Я не хочу какадин! А они поют все время! „Смело мы в бой пойдем за власть советов, и, как один, умрем в борьбе за это!“ Не хочу я умирать! И мертвого часа их не хочу-у-у-у!»
Сын всегда казался Славику веселым жизнерадостным мальчиком. Неужели он не был счастлив? Неужели не мог притерпеться? В конце концов, не такая ужасная вещь винегрет: если не любишь свеклу, можно ее выковырять и кушать так… Слишком горячая вода в банный день? Славик представил себе запотевший кафель на стенах, пар, бьющие со всей силы колючие струи душа и очередь из голых детей к ванне, в которую их ставят одного за другим. Приятного мало, но остальные не орут, значит, вода терпимая?
Помнил ли сын веселые купанья в лягушатнике, запуски воздушного змея, умного ручного ворона Яшку, от цепких когтей которого у него так и остались светлые шрамчики на внутренней стороне предплечья? Помнил ли то хорошее, что было?
Славик, когда начинал думать о своем детстве, из плохоговспоминал весеннее хлюпанье воды под колесами грузовика, переправлявшего их по Ладожскому озеру на Большую землю, и беспрерывную скороговорку матери над своим ухом: «Отче наш, Отче наш, Отче наш…», и так до самой Кобоны. А в Кобоне, в самом здании станции, длинный стол, и на нем целые караваи хлеба, и тарелки с дымящейся пшенной кашей, и то, как кричала санитарка: «Ешьте помаленечку, товарищи, помаленечку, дистрофикам нельзя много, не то помрете!» И еще Славик помнил теплушку поезда, который уже из Кобоны увозил их дальше, в эвакуацию. И то, как на остановках с грохотом откатывались двери, и голос снаружи спрашивал: «Мертвые есть?» Мертвые были. Их сгружали за руки-ноги и снова ехали.
Славик помнил, что, чем дальше они продвигались вглубь страны, тем свободнее становилось лежать, а это было важно, потому что у него начался жар, он метался, и все время хотел скинуть с себя и одеяло, и чужой ватник. И еще он помнил, как на одной из остановок мама, переодевая его, охнула, и он, проследив направление ее взгляда, увидел в швах своего теплого байкового белья мелкое шевеление. И он подумал тогда: «Раз я лежал на вшах и даже не чувствовал их, значит, я умер», и совсем не испугался этой мысли, ведь еще до войны он решил, что его не существует…
Бывало, что Славику удавалось поговорить с сыном по душам, когда тот уже стал взрослым. Случались у них минуты, когда сын виделотца. Потому что однажды он так и сказал: «Папа, мне кажется, что тебя просто нет»… Как будто заглянул в его, Славика, такой закоулок сознания, в который и сам Славик запретил себе заглядывать.
«Ты помнишь мое письмо про атомную войну? – спросил как-то сын. – Я написал его из пионерского лагеря». Славик не помнил. Казалось бы, как можно не помнить такое, а не помнил. И Левушка рассказал про занятия по гражданской обороне, про плакаты с изображениями людей и животных после атомной бомбардировки, и про бомбоубежища в разрезе, и про то, как надо рыть щель, про марлевые повязки и противогазы, в которых они маршировали… Про все, что вдалбливали им на солнечной полянке между купаньем и обедом. «Ну, вот. И я написал вам письмо. Я не просил забрать меня из лагеря. Все же я был большой мальчик, и понимал, что вы работаете. Но я просил, что раз уж так получается, и мы скоро все умрем, то можно ли мне завести собаку, о которой я столько мечтал, и чтобы она побыла со мной хоть немного, пока не упадет на нас эта проклятая американская атомная бомба… Мне казалось, что это было очень взрослое, мужественное письмо».
Спросить, получил ли сын ответ, Славик побоялся, но то, что собаки у них никогда не было, помнил точно. Да и ждал ли Левушка ответа? Судя по всему, дети не слишком-то рассчитывали на родителей, если бегали в соседнюю рощу молиться. «Да. Представляешь, убегали с другом Серегой, смотрели на небо, в просвет между березами, и просили Господа Бога, чтобы вы нас забрали отсюда, чтобы скорее все это кончилось: линейки, горны, дежурства, гражданская оборона, рейды, подъем и спуск флага… И маршировки под „взвейтесь кострами синие ночи“. Мне до сих пор мерещится ночь, вздыбившаяся над землей, как атомный гриб… А еще… забыть невозможно… этот заколдованный лес из сказки, который шевелился в темноте за фанерными стенами нашего домика…»
Но имелись у Левушки воспоминания, в которых был непосредственно задействован и он, Славик. Одно было просто-таки его собственным воспоминанием. Он и представить себе не мог, что сын что-то тогда заметил, запомнил и, главное, – понял.
Они шли вместе в детскую поликлинику, а впереди них, по дорожке, пересекавшей садик, шли старуха и девочка. Славик помнил, что была именно старуха, а не пожилая женщина: то ли как-то специально повязанный на голове платок, то ли бесформенная темная кофта, из-под которой свисала длинная юбка, – указывали на это. Девочка была лет девяти, ровесница Левушки. Славик вспомнил чудесную, пшеничного цвета косу на ее спине, и то, что старуха несколько раз оглядывалась и что-то говорила, довольно громко. Славик ничего такого не ожидал, и поэтому не сразу сообразил, что слова старухи относятся к нему с сыном. Сказано было что-то про «жидов, которые тут везде». Девочка тоже оглянулась, да так быстро, что коса взлетела над ее плечом, а потом ответила старухе: «Мальчик же нормальный». Действительно, в мать светловолосый и светлоглазый, Левушка мало был похож на темноглазого брюнета Славика.
Искоса Славик посмотрел на сына. Тот шел рядом, и, кажется, ничего не слышал. Выражение его лица было отрешенным. Славик не знал, что предпринять. Догнать старуху и спросить: «Что вы себе позволяете?» Или, может быть: «Как вы смеете?» На себя Славику было наплевать, он, при собственном отсутствии в этом мире, мог стерпеть что угодно. Беспокоился он о сыне. Но поскольку тот никак не среагировал, Славик решил промолчать, чтобы еще больше не позориться.
Славик подозревал, что и на край света, во Владивосток, сын в конце концов укатил не потому, что в исследовательском институте место хорошее предложили, а чтобы от родителей быть в надежном, обеспеченном расстоянием и дорогущими проездными билетами, далеке. Это было обидно. Но в глубине души Славик считал себя виноватым. И обиду свою воспринимал как заслуженную.
«Национальный вопрос» всплыл еще раз уже в Левушкины студенческие годы. В университет он поступил легко, за счет собственных способностей, белобрысости, слову «русский» в пятом пункте паспорта и неопределенной, польско-растительной фамилии Полян.
В университете, к Сонечкиной трепетной радости, стали появляться у него девушки, и сплошь красотки. «Откуда они все – такие?» – с мужской гордостью за сына поинтересовался как-то Славик. «А с филфака, – рассмеялся Левушка. – Там их специально выращивают. Не знал, что ли?»
Из всех прочих девиц надолго задержалась одна: черноглазая, с милым вздернутым носиком, Нина. Приводил ее Левушка и днем, когда они с Сонечкой были на работе, и вечером, когда Сонечка могла сполна насладиться обществом приветливой, всегда внимательно смотрящей в глаза Нины. «Хорошая девочка». – говорила Сонечка сыну. «Хорошая, – соглашался сын. – Нинка любит всем нравиться. Вот и вам хочет понравиться». «Так что же, неискренняя, что ли?» – недоумевала Сонечка. «Отчего же неискренняя. Очень искренняя. Это такой синдром отличницы. Знаешь? Навык и желание все делать правильно. Ну, как в школе: по каждому предмету ответить то, что нужно преподу, с учетом его личных требований».
Сонечка из этой речи мало что поняла, кроме того, что если Левушка в Нину и влюблен, то не слишком. И об этих своих сомнениях она сыну сказала. «А! – Левушка махнул рукой. – Не вникай, ма. Она у меня для другого». Простодушная Сонечка хотела было поинтересоваться, для чего же «другого», да вовремя спохватилась.
Сонечка внутренне осуждала сына. Ей было понятнеенаходиться на стороне Нины, которая явно метила Левушке в жены. А иначе как было объяснить ту кастрюльку с овощным супом, вполне, кстати, приличным, и стираную рубашку в ванной?
Привел Нину как-то Левушка и к соседке напротив. И в той продвинутой диссиденствующей компании девочка проявила себя положительно. Она читала наизусть стихи запрещенных поэтов и под ироничным взглядом Левушки лихо цитировала Венскую конвенцию. Она ровно сидела на стуле в своей аккуратной короткой юбочке, и колени ее приятно круглились. Эмочкины гости мужеского полу вдохновенно блистали очами, а Эмочка хохотала: «Ну, прямо, Сусанна и старцы!». Льву она охарактеризовала девочку как «умненькую и, кажется, совсем-совсем свою».
Однажды Славик стал невольным свидетелем разговора, который, нисколько не таясь, вели Нина и Левушка: они пили чай на кухне, Сонечка пошла по магазинам, а он в прихожей менял набойку на своем ботинке.
Сначала говорили о том, о сем, что-то незначительное. Потом Нина спросила:
– Слышал? Додька бумаги на отъезд подал. И Штейны собираются. А чего ты, Левка, молчишь, что ты наполовину еврей? Вот я же свою половинку не скрываю?
Славика в коридоре аж в жар бросило, так запросто девочка все эти непростые для него слова выговаривала.
Сын хмыкнул:
– Во-первых, четверть – не половина. Во-вторых, еврейство по материнской линии считается, а мать у меня русская с некоторой примесью литовской крови, раз уж о процентах у нас речь пошла. В-третьих, кто ты есть – это твое личное дело. В-четвертых, что значит «молчу»? А кому и что я должен говорить? Кого это, кроме соответствующих органов, прости, е…т?
Славик бросил тюкать своим молоточком и затаился. Голос сына звучал внешне миролюбиво, но последний глагол не сулил ничего хорошего. К тому же, Славик и предположить не мог, что сын способен так говорить с женщиной.
Нина, чуть меняя тему, заговорила о «притеснениях и прочих мерзостях».
Со всем этим Левушка спорить не стал, и даже уточнил:
– Знаешь, Нинок, ради борьбы с системой я могу и не четвертным, а вполне целым евреем заделаться, и даже в паспорте национальность поменять. Лишь бы такие, как ты, свободомыслящие и продвинутые, мне в душу не лезли и не мешали быть тем, кем я себя считаю.
Такой Левиной реакции Нина, видимо, не ожидала. Но привычка числиться в хороших девочках оказалась сильнее желания «доискиваться правды».
– Ладно, Левка, не кипятись, чего там.
В кухне произошло какое-то двигание табуретами. Вероятно, Нина решила быть поближе к Левушке, чтобы ей известным способом загладить оплошность. Воспользовался ли этим сын, Славику было не видно. Зато дальнейшая Лёвина речь слышна была весьма отчетливо.
– Вот ты мне вчера про профессора своего аналогичное плела. Почему он национальность свою скрывает… Ну, ладно, я с тобой сплю. Это, положим, накладывает обязательства. А он-то что тебе должен? Он же не открещивается. Он молчит. Перед кем ему отчет держать? Чего ему в грудь-то себя бить? Ты ж, Нинок, филолог, тонкая натура. У него сестра и мать, сама говорила, живьем в ров легли под Гомелем. А тебе, что, хочется, чтобы он звезду Давида на лбу себе рисовал?
Нина сердито двинула табуреткой, встала, начала набирать воду в чайник.
«Вот какой Лева упертый. Оседлал осла и поехал. Сколько можно-то». Славик жалел Нину, к тому же он хотел выбраться из коридора, но не знал, как сделать это незаметно. То, что говорил сын про Нининого профессора, за чтоон защищал его, брал его сторону, было понятно Славику. Он не хотел понимать, а оно само собой понималось. Славик даже подумал, что говорит все это Лева для него. Потому что знает: сидит отец в проклятом коридоре и деваться ему некуда.
А Леву форменно несло, и закрывать тему он не собирался.
– На той неделе мы с тобой в курилке вашей стояли, и мимо твой профессор шел. А ты прекрасно знаешь, что ему не нравится, когда девушки курят. Так что ты сделала, помнишь? Ага. Молчишь. Ты быстренько целую половину родопины в урну бросила, даже не захабарила. Я прямо обалдел. Он все понял, остановился, улыбается, а ты чуть не в реверансе присела, так тебе хотелось пай-девочкой выглядеть.
Славик мучился, не зная, как ему выбраться из своего нечаянного узилища и, наконец, придумал. Он поставил недочиненный ботинок на место и осторожно повернул замок входной двери. Но все-таки узнать, чем дело кончится, ему хотелось, и он замер на низком старте.
– Как-то все это несимпатично, Нинок, получается. Ты на лекциях киваешь, в рот ему смотришь, а на экзаменах в руки, когда он оценки в зачетке твоей рисует. Знаки внимания ловишь. А за его спиной ревизией его жизни с посторонними занимаешься. То – не сказал. Это – не сделал. Говоришь, он на факультетском парткоме не стал вас выгораживать, когда вы свою газетенку самопальную по рукам пустили? А чего ради вас защищать, когда все вы такая же дрянь, как та партийная сволочь, да и хуже еще, потому что с высоты своей, так сказать, внутренней свободы умудряетесь другим несвободу навязывать? А насчет отъезда… Тебе-то лично – для чего валить отсюда? В коробочку с тушью плевать надоело? Что такое особенное ты тамсобираешься делать, чего здесь делать не можешь?
Левушка явно издевался, провоцировал Нину. И непонятно было, для чего. И почему его так заклинило на профессоре, который к нему лично не имел никакого отношения.
По движению в кухне Славик понял, что пора ретироваться, и тихо вышел на лестничную площадку. Через несколько минут Нина, с криком «рехнулся совсем, проповедник чертов!», сбежала по лестнице вниз.
Левушка постоял, подождал, когда хлопнет дверь, потом, сунув голову в лестничный пролет, подмигнул отцу:
– Давай, батя, возвращайся. Показательное выступление окончено.
После этой истории Нина сошла на нет. А во Владивосток сын уехал и вовсе со своей бывшей однокурсницей, и жил там с ней мирно и любовно, а словесные баталии, которые ни выиграть, ни проиграть невозможно во веки веков, привычно вел с отцом по телефону.
__________
<Нам с Ритой дали десятиметровую комнату в бывшей усадьбе, точнее, во втором этаже маленького флигеля для прислуги, в малонаселенной квартире. Собственно, «населять» дальше и некуда, тут всего две комнаты и общие с соседями коридор и кухня. И, разумеется, «удобства». Так это здесь называют. Удобства – это уборная, стены которой выкрашены до середины темно-зеленой масляной краской.
За это время Риту и меня, по очереди, несколько раз приглашали на беседы в НКВД, на Литейный. Были очень любезны, расспрашивали о родителях, о друзьях. Когда Рита поинтересовалась судьбой своей родственницы, той, что прислала письмо, ее попросили не беспокоиться об этом.
Меня расспрашивали о характере моей работы в Люблине и в Париже, насколько тесно я был связан с эмигрантскими кругами. У них уже есть моя книга.
На всех беседах присутствовала стенографистка.
Рите была обещана работа в оркестре Областной филармонии. Мне в издательстве, переводчиком.
Наши соседи – семья из четырех человек: муж, рабочий-механик с местного аэродрома, жена, их одиннадцатилетний сын и пятилетняя девочка. Женщина работает медсестрой в местном больничном пункте. Она выглядит старше своих лет, у нее изможденный вид, она худая, с большим животом, скоро ей снова рожать. У соседей комната поделена надвое фанерной перегородкой.
В коридоре, около входа в кухню, находится единственная на всю квартиру радиоточка. Круглая черная тарелка вещает беспрерывно, от гимна до гимна: последние известия, оперные арии, детские и взрослые радиопостановки следуют одни за другими. Особенно популярно духоподъемное хоровое пение. Выключать радио не позволяют соседи, говорят, не положено, мало ли что. Дверь в их комнату все время приоткрыта.
Поначалу я думал, что радиоприемник испорчен или трансляция идет с чудовищными помехами, такой шум несся оттуда. Он был сродни бешеному ливню, когда тот под порывами ветра внахлест идет по земле. Оказалось, что этот звук – овации. Диктор так и сказал: «Овация достигает стихийной вихревой силы при появлении товарища Сталина». И вот что я заметил: когда трансляцию дают в записи, время аплодисментов не сокращают, сколько бы они не длились: пять, десять минут, или больше.
На всю квартиру один кран с холодной водой, над кухонной раковиной с отбитой эмалью. Утром в ней моются голые по пояс соседи.
Через кухню протянуты веревки, на которых сушится белье, постельное и исподнее. Поначалу Рита впала в прострацию. С трудом заставляла себя выйти из комнаты. Потом привыкла.
Однажды застал ее в слезах. Она сидела, прижимая к лицу свои шелковые чулки. Пятки на них были ровно срезаны ножницами. Никого, кроме соседки, дома не было. Муж на работе, мальчик в школе, девочка в детском саду. «Понимаешь, это последняя пара, последняя. В магазине таких не купишь». Ни до, ни после не видел ее плачущей.
Сейчас середина июня, время белых ночей. В парке цветет сирень. Он прелестный, немного запущенный. По ночам в нем поют соловьи. Окно нашей комнаты все время открыто. Я задыхаюсь от нежности и горечи. Моя любовь к Рите – род послушания. Вот что это такое.>
<На фоне очередного процесса идет широкомасштабная подготовка к столетнему юбилею смертиПушкина. Нет, не «очередного». На этот раз, похоже, что-то особенно грандиозное. Непрекращающаяся истерия в газетах, как по тому, так и по другому поводу. Вот образчики: «Только теперь, в сталинскую эпоху, слава Пушкина стала подлинно всенародной…». И рядом: «Зорче глаз, выше революционную бдительность», «В эти дни одно слово у всех на устах – расстрел!», «Приговор приведен в исполнение. Контрреволюционное отребье мечом народного правосудия стерто с лица земли…»
А как же «милость к падшим»? Если, конечно, предположить, что «падеж» напал на добрую треть страны.
С оркестром ничего не вышло. Риту даже на прослушивание не пригласили. Наш куратор предложил ей работать с французскими туристами, останавливающимися в «Астории». И добавил, что, если у нее будет желание, она может играть в ресторане при гостинице. Еще в ее обязанности входит писать отчеты о разговорах приезжих между собой и с ней.
Мое издательство находится недалеко от НКВД, на одной с ним линии. Три дня я должен быть в присутствии, остальное время могу работать дома. Не знаю только, кому нужны в Польше и Франции переводимые мной бесконечные и самого среднего качества статьи и стихи о Пушкине. Зачастую ко мне обращаются из «Ленинградской правды», просят сделать обзор польской и французской периодики. Материалы мне предоставляются незамедлительно, они здесь выписывают всё. Иногда я вижу свои переводы в газете, но сильно отредактированные и снабженные соответствующим комментарием.
Вчера немолодая редакторша, похожая на тех, кого здесь называют «из бывших», придя в нашу комнату, дрожащим от негодования голосом говорила, что « теперьдаже дружеская антисоветская шутка должна караться». И еще о ярости, которая ее «физически душит», когда она думает об «этих нелюдях».
У нее и правда началось что-то вроде нервной икоты, и машинистка Людочка, побежала искать успокоительное. Отпаивая валерьяновыми каплями редакторшу, Людочка лепетала про то, что и вправду, «как же проглядели-то, ужас кругом такой, что душа принимать отказывается, и только, знаете ли, усилием воли заставляю себя понять, что это реальность». «Но ведь правда же, правда, еще два года назад такне было», – наивно повторяла она. Интересно, сколько усилий понадобится этой милой девочке, чтобы окончательно задавить в себе то человеческое, что пробует сопротивляться в ней внешнему безумию.
Рита наблюдается у врача Покровской больницы. Старенький профессор-кардиолог. Мы ездим к нему почти в самый конец Васильевского острова. Он прописал лекарства, но главное, велел не перегружаться ни физически, ни эмоционально.
Мы с Ритой никогда не говорим о том, что происходит вокруг. И дома стараемся бывать реже: соседка родила, и ребенок, девочка, очень беспокойная, все время плачет. Соседка говорит, это оттого, что молока не хватает.
Пока не настала зима, мы много гуляли, ходили в музеи, в Филармонию. Но теперь темнеет так рано, что хочется домой, в тепло. И даже в воскресенье мы редко выбираемся в город.
На широком подоконнике нашей кухни стоит пузатая трехлитровая банка. Это аквариум. Хорошо, что окно выходит на северную сторону, иначе рыбы, маленькие серые гуппи, непременно сварились бы. Аквариум – любимое развлечение соседского сына. Личный кинотеатр. Возвращаясь из школы, мальчик, пока хватает дневного освещения, сидит возле окна и наблюдает за тем, что происходит в аквариуме.
А там едва ли не каждую неделю появляется новое потомство: микроскопические, почти прозрачные рыбки. Гуппи – живородящая порода.
Соседский мальчик со спокойным, совсем не кровожадным интересом наблюдает, как взрослые особи поедают мальков. И так раз за разом. При таком положении дел проблема корма для рыб у соседей, наверное, решена.
Когда приплода становится так много, что аквариум напоминает кишащий муравейник, мальчик берет меньшую из двух, висящих над их кухонным столом поварешек, и отсаживает в кастрюльку некоторое количество рыб. Чем обусловлен его выбор, для меня загадка.
Потом он обхватывает банку обеими руками, несет к раковине, и смотрит, как ее содержимое с характерным хлюпаньем втягивается сливным отверстием.
Покончив с этим, он наполняет банку свежей водой и водворяет оставшихся рыб на место. Эта процедура повторяется примерно раз в месяц.
Однажды я все-таки поинтересовался, почему он такделает.
«Как?» – спросил мальчик, и удивленно посмотрел на меня малоподвижными серыми глазами.
Иногда я тоже подхожу к подоконнику, сажусь на табурет и смотрю сквозь банку с рыбками на улицу, искаженную призмой воды. Там идут люди и едут машины.>
__________
Звонок раздался раньше, чем ожидал Славик. Он втайне надеялся, что вообще не позвонят, а если и позвонят, то откажут, и никуда идти «знакомиться с делом» ему не придется.
В общем-то, ему для его разысканий вполне хватало и библиотеки, куда он теперь ходил почти как на работу, уточнить то-другое, да еще поездок на Ланское шоссе, к переводчику с польского, и на 10-ю Красноармейскую, к специалисту по французской литературе: Славику нужно было разобраться с несколькими местами в дневнике, написанными на этих языках.
Погружение в чужую жизнь давалось ему трудно. И все-таки через нее его собственное существование стало наполняться мерцанием, о котором он или не знал, или не помнил.
Когда он сидел, склоненный над страницами дневника, в тишине комнаты ему слышалось мерное жужжание невидимого веретена, как тогда, в библиотеке, и пряжа, скрученная в буквы, распрямлялась под его пальцами, становилась нитью, вилась и вела все дальше и дальше, уже как бы помимо его собственной воли.
…От похода тудаон долго открещивался, пока соседка Эмочка однажды не сказала, сердито тряхнув седой подростковой челкой: «Ну, как же вы не понимаете, Станислав Казимирович, ведь вы же у него единственный. Больше у него никого нет. Это все равно как могила, которую надо найти и положить на нее цветы. Конечно, могильник НКВД существует, здесь, недалеко… Туда свозили уже убитых, сваливали в общие рвы и засыпали негашеной известью, так что…»
Славик про могильники знал. Это когда скот, больной сибирской язвой, забивают и зарывают в землю, или вот теперь могильники радиоактивных отходов. Но для людей… И еще «здесь, недалеко»…
Вечером ему было плохо. Сонечка бегала вокруг него с корвалолом и валидолом, плакала, хотела вызывать неотложку, но он не велел. У него ничего не болело. Нечему было болеть, все нутро у него было вынуто. А вместо нутра теперь в нем находилось то, о чем вчера он еще не знал и не думал, или запрещал себе знать и думать, и что вдруг вошло в его жизнь и расположилось в ней так, точно было там всегда.
Он обо всем рассказал жене, и пожалел. Сонечка мелко засуетилась, испугалась. Стала говорить: «Боже мой, Боже мой… Но ведь за что-тоих убили, значит, в чем-то виноваты… не может ведь быть, чтобы совсем ни за что…»
Это была подлая, гадючья мысль. Славик рассердился, обозвал жену дурой и прогнал от себя. А потом лежал и, зарываясь лицом в подушку, стонал от стыда. И не потому, что был несправедлив к жене. А потому, что Сонечка за негопроизнесла вслух то, о чем он, проникаясь к самому себе отвращением, думал.
И вот теперь ему позвонили и пригласили прийти. Но почему-то не туда, где он уже был, а в главное здание. Женщина приветливым спокойным голосом продиктовала номер местного телефона и попросила не забыть паспорт. Она же на другой день встретила его у бюро пропусков.
Прежде чем войти в здание, фасад которого занимал целый квартал по Литейному и несколько кварталов вглубь по Шпалерной, Славик стоял на противоположной стороне проспекта, на остановке, как будто ожидая троллейбуса, и наблюдал. Мужчины средних лет и молодые, в штатском и в форме, переговариваясь, улыбаясь, входили и выходили из деревянных, массивных, довоенных дверей. Может быть, это были уже совсем новые двери, просто воссоздали их по лекалу прежних.
Сотрудница учреждения была из архивной службы. Она повела Славика к лифту через массивный холл, от которого широкая лестница, покрытая ковром, шла вверх. Славик не заметил, на каком этаже они вышли, он волновался до дрожи в коленях и от самого факта своего присутствия здесь, и потому что женщина сказала, что сначалас ним хочет встретиться ее руководство.
Они шли по длинному коридору, от которого тянулись куда-то вглубь здания другие коридоры, и когда Славик позволял себе глянуть в сторону, он видел, что некоторые были перегорожены решетками.
Потом по другой, совсем не парадной лестнице, они спустились на этаж ниже, а, может быть, поднялись на этаж выше, Славик не запомнил. Здесь помещение стало совсем обыденным, похожим на старую бесконечную ленинградскую коммуналку. В узком коридоре Славик заметил несколько деревянных чуланов, напоминавших дачные нужники.
Они еще раз завернули и оказались в темноватом холле, стены которого до середины были обшиты красным деревом. Возле одного из кабинетов женщина попросила его подождать и заглянула внутрь.
– Проходите, пожалуйста, Станислав Казимирович! – Она впустила его в кабинет и ушла.
Навстречу ему поднялся средних лет мужчина в штатском. Он представился, поздоровался со Славиком за руку и пригласил сесть, указав на узкий столик, торцом придвинутый к его письменному столу. Помещение было теплым и светлым. Большое окно выходило во внутренний, залитый солнцем двор. На подоконнике стояли горшки с фикусами и папирусом. Славик почему-то вспомнил, что такие же горшки были в кабинете его школьного директора. Он сел и по-ученически сложил руки.
– Станислав Казимирович, дело, которое вы запросили, сохранилось. И вы сможете с ним ознакомиться. Более того, мы сделали для вас ксерокопии нескольких листов. – Мужчина положил руку на коричневую папку с завязками. – Вот оно.
Мужчина замолчал, разглядывая Славика, точно прицениваясь к нему. Славик тоже молчал. Солнце грело ему спину. Сначала это было хорошо, но теперь стало беспокоить. Он чувствовал, что вспотел. И еще он чувствовал свою, тяготившую его, зависимость и от этого мужчины, и от милой женщины-архивариуса, и в то же время ничем не объяснимую приязнь, чуть ли не любовь к ним.
– Станислав Казимирович, скажите, а для чего вам это нужно?
Славик, еще ни слова в этом здании не произнесший, замешкался с ответом. Не мог же он повторять здесь про могилу и цветы. Он разлепил ссохшиеся губы и тихо ответил:
– Просто… чтобы знать.
Мужчина поднял брови:
– А почему же тогда вы не запросили дело, которое имеет к вам гораздо бóльшее отношение?
Славик вытянул шею из потного воротничка рубашки. Сердце колотило ему в ребра, как в колокол. Голова гудела. Солнце пекло спину немилосердно, а попросить пересесть он не решался.
Мужчина продолжал рассматривать его, как насаженное на иголку насекомое: изучающе и бесстрастно.
– С каким делом вы будете работать сначала?
Славик молчал. Мужчина нажал какую-то кнопку, и появилась архивистка.
– Я вас оставляю. Можете не звать меня, когда закончите.
Он опустил плотные шторы на окне, включил настольную лампу и вышел.
__________
<Несколько человек в нашем издательстве взяты. В том числе и та пожилая редакторша. Но… «Всюду жизнь». Репродукции этой картины здесь невероятно популярны. Аллегорическая Мадонна с младенцем возле окна арестантского поезда, царских времен, разумеется. Мне запомнились тонкие прутья тюремной решетки. Что мешало трем арестантам-волхвам, стоящим за спиной женщины, выбить решетку одним ударом руки… Нет. Они радостно умиляются ребенком и продолжают свой скорбный и смиренный путь. Сие исподволь обучающее пособие выставлено в витринах книжных и писчебумажных магазинов.
Влюбляться, рожать детей, обустраивать жилье, помогать старикам, ходить в театр и на футбол, кататься на лодке в ЦПКиО, ездить летом в Крым… Инстинкт самосохранения, включенный механизм, инерция, привычка жить, привычка притираться ко всему, привычка терпеть… Без этого, наверное, люди начали бы кончать самоубийством в массовом порядке. Представляю себе этот коллективный (распространенное здесь слово) прыжок из высотного здания, охваченного пламенем.
То, что происходит со мной и Ритой, похоже на смерч. С наружной его стороны несутся, поднимаясь по спирали все выше и выше, обломки жилья, корабли, вырванные с корнем деревья, скомканные ветром птицы, животные, люди, чьи искаженные ужасом лица припадают к прозрачной стенке смерча, как к стеклу машины, упавшей в реку, и сами реки, сорванные с земли и вставшие дыбом…
Но внутри смерча есть минуты тишины и покоя, и, если поднять голову, можно видеть над собой чистое синее небо. Такова и наша теперешняя жизнь.
Стоят хорошие дни. Начало июня, белые ночи, что-то мятежное, волнующее начинается в крови. Я вышел из издательства за час до конца рабочего дня и вдруг увидел впереди себя, на противоположной стороне Литейного, Риту. Она шла в своем светлом летнем пальто, ветер трепал ее волосы, но по напряженной спине и чуть приподнятым плечам я понял, что ей плохо, и понял, откуда она идет. Я не стал нагонять ее, а пошел следом.
Она свернула на Невский, – только так она называет этот проспект, и от меня требует того же, – и медленно двинулась по солнечной его стороне в направлении Адмиралтейства. На нее обращали внимание: молодые люди улыбались ей, смотрели вслед, девушки с легкой завистью оглядывали ее не местного кроя пальто и изящные туфли.
Солнце светило Рите в лицо. Завтра выступят веснушки, подумал я. Так было, когда мы в первые же теплые дни шли гулять на парижские набережные.
Дойдя до Елисеевского магазина, Рита зашла внутрь. Я последовал за ней, хотя в роли соглядатая чувствовал себя отвратительно.
В огромном торговом зале, освещенном сотнями лампочек, повторяющими растительные узоры бронзового декора, было довольно много покупателей. К некоторым прилавкам тянулись очереди. Я отыскал глазами Риту. Она стояла возле вмонтированной в стену витрины, за стеклом которой в подсвеченной воде степенно плавали крупные, коричнево-рыжие карпы. Иногда рыбы поднимались к поверхности и высовывали наружу открытые рты. А Рита стояла и смотрела.
Я расслышал, как продавщица рыбного отдела обратилась к ней: «Выбрали, гражданочка?». Рита сомнамбулически кивнула и отвернулась от витрины.
Она обошла весь магазин и встала в очередь возле фруктового отдела. На высоких прилавках громоздились пирамиды из яблок и апельсинов, каждый фрукт лежал в собственной белой бумажной розеточке.
Рита купила два апельсина и спрятала их в сумку. Остальные тоже покупали по два-три фрукта, редко больше, это ведь «дорогое удовольствие».
…Я нагнал Риту уже на перроне Балтийского вокзала и с некоторым усилием изобразил неожиданную встречу.
Вечером я видел, как соседские дети ногтями отдирали кожуру с апельсинов и впивались зубами в мякоть. По их подбородкам стекал оранжевый сок, это было наслаждение. Теперь я по крайней мере знаю, откуда берутся апельсиновые корки во всех углах нашей коммунальной кухни.
Когда мы легли, Рита сказала: «Сегодня они требовали, чтобы я вызвала сюда родителей. Но я не стану им писать». «Они напечатают письмо на машинке и подделают твою подпись». «И пусть. В письме не будет кодовых слов, о которых мы договорились». «Значит, ты предвидела все это?» Рита долго не отвечала, а потом прижалась к моим ступням своими. «Давай убежим». «Ты же знаешь, что это невозможно». «Мы сделаем невозможное. Я ведь хорошо вожу. Пойду в библиотеку, возьму какое-нибудь пособие по пилотированию. Вдруг получится угнать самолет. Аэродром рядом. До финской границы рукой подать». «Нас собьют, как только мы поднимемся в воздух».
За приотворенным окном начали выводить свои рулады соловьи. Комната наполнялась запахом цветущих лип, таким сладким, таким утешительным… Рита молчала, ее дыхание было спокойным. Я решил, что она спит, как вдруг она сказала: «На прошлой неделе я была у врача. Я беременна».>
<…Белые ночи закончились, но дни все еще очень длинные, и соседский мальчик много времени проводит на кухне, слушая радиотрансляцию и наблюдая за рыбками в своем аквариуме. Он редко играет с ровесниками. Может быть, после одного случая, который чуть не стоил ему жизни.
Все случилось во время школьной военизированной игры. Его мать показала нам фотографию отряда на построении. Два ряда мальчишек девяти-одиннадцати лет: короткие штаны, лямки крест-накрест поверх белых рубашечек, остро торчащие коленки, на головах каски с приклеенными звездами, в правой руке деревянная винтовка, на левом боку противогазная сумка, из которой гармошка шланга тянется к уже надетым противогазам. Женщина не смогла опознать на фотографии среди других детей своего сына.
Когда прозвучал сигнал «В атаку!» и все побежали, воздух в противогазе мальчика мгновенно кончился. Но он продолжал бежать, потому что не хотел подводить отряд, а остановиться можно было только по команде. В глазах у него потемнело, и он упал, захлебываясь собственной рвотой.
Военрук стал проверять его противогаз, и выяснилось, что кто-то, шутки ради, слегка перетянул шланг старым шнурком от ботинка. Я представил себе немолодого бодрого отставника, и то, как он брезгливо вытирает о траву пальцы.
Раз или два в неделю, по вечерам, к нам стучит сосед-механик. Он почтительно кланяется из дверей Рите, а мне говорит: «Выходи, Федор», так он переиначил мое имя, и мы идем на кухню играть в шашки, он обучил меня этой игре и теперь страшно сердится, когда я выигрываю.
Он хороший человек, с гордостью рассказывает о том, как его «ценят на работе». И даже если ему приходится писать о нас с Ритой отчеты в органы, это ничего не изменит в моем отношении к нему. Я не позволю себе относиться к нему по-другому.
Иногда мы вспоминаем прошлое. Сам он деревенский, с Новгородчины. Его отец погиб в германскую. Я не понял, о какой войне речь, он пояснил. Так здесь называют Великую войну, на которой пропал мой брат. О своем старшем брате сначала он сказал только, что его, кажется, расстреляли в начале двадцатых. Спустя некоторое время сосед вернулся к этой истории. Правда, в тот день был один из советскихпраздников, и он крепко выпил.
Воспоминания у него смутные, мучительные. «Пошел служить брат после гражданской в чеку. И вот брали они разбойную банду в районном центре, неподалеку от их деревни. А там засада, и кто-то на брата показал, что это он предупредил, потому что в той банде одним из заправил был родственник Лизки Разбеговой, а он с той Лизкой как раз хороводился. Арестовали его, и вот сидит он в чрезвычайке с простреленной ногой, в ту самую ночь ногу ему и прострелили, но и это его не спасло от подозрений. Ну, сообщили нам, что так-то и так. Мать велела мне дома оставаться, а сама запрягла лошадь и в райцентр поехала. Дальше я по рассказу земляка своего знаю. Завели ее в камеру, где брата держали, а тот лежит на полу, на шинельке своей, подняться не может. Обрадовался, когда мать увидел. А она постояла над ним, посмотрела, а потом говорит: „Это тебе за то, что батюшку нашего деревенского помогал вешать“. Повернулась и вышла».
Голос его был лишен всякого выражения, сам он пьяненько покачивался на табуретке. И даже не подозревал, что произносит текст античной трагедии.>
__________
Домой Славик не заглянул, а сразу позвонил соседке. Всю дорогу он сдерживался, а теперь его прорвало. Слезы быстро катились по его щекам, но слова вылетали изо рта еще быстрее:
– Я знал, знал, ничего этого не надо было делать, это все вы виноваты, зачем заставили меня, зачем голову мне морочили? Зачем я пошел, что я вам сделал плохого? Что? Я вас ненавижу с вашими стихами. Вы все сумасшедшие. Этого ничего не было, ничего не было, ничего…
Он задыхался. Эмочка сунула ему в руки стакан с водой, но Славик все расплескал на себя и на пол.
– Разденьтесь, Станислав Казимирович, не стойте в прихожей, миленький, ну, дайте я вам помогу. – Эмочка сняла с него шапку, кашне, начала вынимать из рукавов пальто его трясущиеся руки. – Не надо ботинки снимать, не надо, проходите так, я сейчас.
Она усадила Славика за стол, побежала на кухню и вернулась с разведенными уже «морозовскими» каплями.
– Пейте-пейте, ничего, что горько. Я чай поставила. И пирог есть, Гошка вчера из кулинарии принес. Я ведь, сами знаете, неумёха. Маме не пришлось меня этим премудростям обучать, да и мне потом… Слоеное тесто от дрожжевого до сих пор не отличаю. Смешно, правда? Только вот, Станислав Казимирович… – Она дотронулась до его плеча, потому что Славик, обессиленный истерикой, сидел теперь с каким-то безучастным, потусторонним видом. – Станислав Казимирович, вы меня слышите? Что значит «ничего не было»?
Славик не отвечал. Он сложил руки на столе и опустил на них голову.
Ничего не было. Того дня, когда в кладовке был найден дневник Теодора Поляна, – не было. Самого дневника не было. Книжечки «Прощание с птицей», посвященной Рите, тоже не было. Не было фантома-библиографа и девушки с книгой-прялкой. Не было кабинета в доме на Литейном. Не было листов, которые он там пытался читать и по которым, как с ледяной кручи, все соскальзывал и соскальзывал его взгляд. Ничего не было.
Но самое главное – не было той декабрьской ночи, когда за окном так страшно урчали голуби.
– Простите меня, Эмилия Абрамовна. Простите.
Славик распрямился, вытер салфеткой мокрое лицо.
– Пустое, Станислав Казимирович. Вы у нас герой. Такое выдержали. – Эмочка разлила чай по чашкам, нарезала пирог, достала из буфета початую бутылку коньяку. – Вот, еще с прошлых посиделок.
– Я не герой. И я не выдержал. Если бы вы только знали, какя не выдержал! Ведь если бы не этот дневник… – Славик опять всхлипнул и закрыл лицо руками. – Если бы не дневник, я бы так и умер, и… это ужасно!
– Пейте чай, Станислав Казимирович. После поговорим.
Славик глотнул чаю, обжег рот, закашлялся.
– Нет-нет. Я должен сейчас все рассказать… Видите ли… Декабрьской ночью тридцать девятого года жизнь моя кончилась.
Он расстегнул ворот рубашки.
– Сначала все было хорошо. Я пришел из школы, на улице было холодно, и мы в нашем коммунальном коридоре играли с соседской девочкой… Кстати… Нет, это после… Так вот, мы играли. Потом я сам разогрел себе обед, потом сделал уроки. Вечером пришли с работы родители. Мама занималась хозяйством, а мы с отцом слушали радио, шла какая-то постановка, и еще разобрали одну партию в шахматы, он учил меня. Когда пришло время ложиться спать, я расстелил свою раскладушку, в углу комнаты, за темно-зеленой матерчатой ширмой с длинными коричневыми разводами. Сквозь эту ширму настольная лампа отца мне всегда казалась солнцем, проглядывающим сквозь толщу воды. Я смотрел на расплывчатый контур лампы, и, засыпая, воображал себя рыбкой в аквариуме…Ну, вот. Отец открыл форточку, он всегда так делал, когда я ложился. В прохладе засыпать было очень приятно. Он подходил ко мне и подтыкал со всех сторон одеяло. И еще он каждый раз гладил меня по голове. Я до сих пор помню его ладонь, вот здесь. – Славик коснулся рукой затылка. – В тот вечер, как и всегда, мама и отец сидели за столом, пили чай, о чем-то тихо разговаривали, смеялись. Я уже засыпал, когда во дворе остановилась машина и хлопнула дверца. Я слышал звук незаглушенного мотора за окном. Он наполнял утробным урчанием весь двор, проникал в комнату. Родители замолчали, а через минуту раздался стук в нашу дверь. Вошли двое мужчин и дворник. Я не видел их, но отец сказал: «Здравствуй, Степан». Так звали нашего дворника. Отец всегда с ним здоровался. Мужчины стали что-то двигать, вынимать и бросать на пол. Мама сказала: «Тише, если можно. Мальчик спит». А мотор за окном все работал. Я отвернулся к стене и лежал неподвижно. Когда кто-то отодвинул ширму и чужие руки полезли под матрас, я не шевельнулся. Страх мой был таким, что я физически чувствовал, как растворяюсь в нем, исчезаю. Мне даже легче стало от этого. И вдруг я понял, что не быть – единственный выход, спасение.
Подспудно я чувствовал: в том, что сейчас происходит, может быть моя вина, только я не позволял самому себе сознаться в этом. Я помнил, как несколько дней назад отец спросил, не брал ли я что-либо в его столе. Я сказал, что искал цветные карандаши. То, что я брал поиграть красивую расписную коробку, я почему-то утаил.
…В комнате стало тихо. Некоторое время я еще слышал, как во дворе урчал мотор. Наконец, машина уехала, я провалился в сон.
Утром я спросил у мамы, где отец. «Его забрали, на войну, на Финскую, ты же знаешь, теперь война». Так она ответила. И я поверил ей.
Славик перевел дыхание, глотнул из чашки. Руки его дрожали.
– Понимаете, Эмилия Абрамовна, все время я жил так, словно ничего не было. Как будто меня самого нет. И вот сегодня этот человек, в кабинете… мне казалось, он презирает меня. Удивительно. Вы понимаете? – Славик наклонился, поднял с пола школьную папку. – Я ведь два дела смотрел: Теодора Поляна и моего отца. Я так не хотел идти… Потому, наверное, что – знал.
Славик отодвинул чашку, тарелку с пирогом. Достал отксерокопированные листы, разложил на столе.
Хлопнула входная дверь. Пришел с работы Гоша. Заглянул в комнату. Покачал головой:
– У-у! Как тут у вас все серьезно.
И отправился на кухню готовить себе ужин.
– Там на папке самой, поверху идет: «Центральный архив ВЧК – ОГПУ – НКВД». Такие буквы страшные. На что-то похожи… Не вспомнить никак… А вот… – Славик протянул Эмочке ксерокопию документа. – Постановление об избрании меры пресечения. Тут есть слова «Достаточно изобличается в том…» Это как же?
– Язык их, юридический. В моем постановлении тоже было такое.
Славик достал очки.
– А это что же такое? Из дела Теодора Поляна. «…заслан в СССР иностранными разведками и действовал здесь в тесном сотрудничестве с недобитыми троцкистами…» Это что, Эмилия Абрамовна?
– Видите ли, это стандартное обвинение. Еще со времени процесса по делу Объединенного троцкистско-зиновьевского центра. В общем, я дам вам почитать. Литературы много есть по этому вопросу.
– Вот-вот. Литературы. Как раз про нее. «…Засылка в Советский Союз контрреволюционной литературы… белополяк… приехал в СССР с женой, гражданкой Франции, для того, чтобы вести шпионскую и террористическую деятельность». Эмилия Абрамовна, но ведь это сумасшествие… Для чего это? Зачем они их выманили?
– Ну, может быть, по принципу: «В большом хозяйстве и малое сгодится…» И потом, ведь какой маховик был запущен… Тысячи сотрудников, кабинеты, отчеты, планы. Станислав Казимирович, миленький, тут бесполезно искать логику, и здравый смысл здесь ни при чем.
Славик взял следующую бумажку.
– Вот. Протокол первого допроса. Всего три вопроса и три ответа. А написано, что длился он с двенадцати ночи до половины четвертого утра. Что же они с ним делали все это время?.. А у отца моего написано, что арестован за связь с врагом народа. И тоже – шпионская деятельность. И что он собирался переправлять за границу сведения о наших гидроэлектростанциях… И еще вот. Протокол обыска. Изъяты паспорт, научные книги на иностранных языках, серебряное распятие, белая эмалированная заграничная коробка, содержащая переписку с гражданами иностранных государств… Вы понимаете, Эмилия Абрамовна, белая коробка… Там, на одном из допросов, отец объясняет, что в конце сентября тридцать девятого Теодор Полян оставил у него эту коробку с перепиской: его – с матерью и Хенриком, Риты – с ее родными… Но все равно они это как доказательство использовали. И теперь вот. Последнее. «Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик… Таким образом доказана виновность Поляна К.Б. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58-8 и 8-11… К высшей мере уголовного наказания – расстрелу…» Что же это? – Славик потерянно смотрел на бумаги. – А вот еще документ, уже пятьдесят девятого года. «Приговор Военной Коллегии Верховного суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления». То есть как отменить? Он ведь уже в исполнение приведен! Кто же ответит за это? Кто? И еще знаете, что мне та милая женщина архивистка сказала: «Почему вы до сих пор документы не оформили, вам ведь ежемесячная компенсация к пенсии полагается, за отца»… Ком-пен-са-ци-я! – Славик мелко трясся.
Эмочка разлила коньяк по рюмкам.
– Пейте, Станислав Казимирович, будет легче. А знаете, ведь они могли встретиться, ваш отец и Теодор Полян. Во внутренней тюрьме. На очной ставке, например. Или в коридорах. Правда, заключенных, если их вели навстречу друг другу, охранники заталкивали в шкафы. Деревянные такие ящики.
– Да-да! Я видел такой! Видел! Я был в том коридоре! Но я ничего не понимаю. Ведь они же – люди…
– Это вы о ком?
Славик поднял глаза. Голос жизнерадостной веселой Эмочки сделался вдруг тихим и страшным.
– Послушайте. Когда закончился срок моей ссылки, я два года еще оставалась на поселении. Там вышла замуж. Тоже за бывшего заключенного. Мы жили в деревне, неподалеку от лагеря. Мы и еще несколько человек, мужчин и женщин. В нашей деревне жила санитарка из лагерного медпункта. Мы бегали к ней на аборты. – Славик вздрогнул. К таким откровениям он приучен не был. Сонечка все свои женские дела в молодости обустраивала тихо, и его ни во что такое не посвящала. К тому же из кухни вернулся Гоша, и становилось как бы вдвойне неловко. – А вы ничего, Станислав Казимирович, не бледнейте. Вы что, слова «чистка» не знаете? Мерзкое такое, гинекологическое слово. По самому естеству скребет. У нас государство на этом слове стояло с двадцатых годов. Вычищали кулацкий элемент, мещанский, буржуазный, священников, шпионов, двурушников, нарушителей дисциплины, морально разложившихся… Не слышали? Ну да. Вас же не было… Ох, простите, простите… Просто за живоезадело… Так вот и на поселении нашем, стало быть, свои чистки происходили. У санитарки лагерной инструментов не было. Только шприц и йод. И она этот йод в матку заливала шприцом. Боль была адская. Вся слизистая сгорала. Но вычищало исправно. Уже потом, на воле, спустя несколько лет, я родила девочку. Она была хорошенькая, умная. Но, знаете, такая… ранимая очень… Будто без кожи, как после ожога. Когда ей было восемнадцать, она выбросилась из окна.
Гоша обнял жену, прижался своей седой головой к ее седой голове. Опять выпили молча. Славик прислушивался к тому, как разливается по животу тепло. Это ощущение успокаивало.
Эмочка пошла в другую комнату, вернулась с двумя папками, в которых лежали ксерокопии и компьютерные распечатки документов, вырезки из журналов и газет.
– Вот. Сейчас готовится к публикации. Это малая толика. Будет несколько томов. В этой папке документы, свидетельства. А в этой часть расстрельных списков. Здесь каждый сможет найти свою фамилию… Взгляните.
Славик листал долго. Потом взял другую папку. На одной из страниц остановился.
– «…Капитан ГБ Молохов…» «ГБ» – это инициалы его?
– «ГБ» это «государственная безопасность».
– Ах, ну да, да… так вот дальше: «…Награжден постановлением ЦИК СССР орденом Красной Звезды „за особые заслуги в борьбе за упрочение социалистического строя“… В 1937 году за самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией награжден ценным подарком: радиолой с комплектом пластинок… В 1939 году арестован за превышение полномочий… Наград не лишен… В 1941 году судимость снята, в партии и на службе восстановлен… В 1944 году награжден орденом Ленина. Умер в 1980 году…» В восьмидесятом! Уже теперь! А за что его арестовали?
– Ну, это во время «пересменки», когда на место Ежова Берию поставили.
– А вот тут что-то про «особые заслуги»?
– Он, Станислав Казимирович, модернизацию провел. Сам придумал, и даже эскиз сделал таких двухкилограммовых березовых дубинок – «колотушек». Ими удобно было заключенных оглушать. В случае сопротивления. Или когда приговор приводился в исполнение. Чтобы не метались, чего доброго, и не мешали себя убивать. Но были и еще способы. Если, например, в камере расстреливали, можно было раздеть человека догола. Голый человек, знаете ли, как-то по-особому беззащитен, руками размахивать, скорее всего, не станет. Ну, а ежели везли… то, пока до места расстрела ехали, могли выхлопные газы пустить в кузов. Иногда уже и пуль тратить не приходилось. Просто во рвы сбрасывали.
Вместить в себя эти знания Славик не мог, это было все равно как добровольно напиться яду.
– Да ведь фашисты так делали! А тут… Советские люди… И кругом… жизнь… – Славик беспомощно обвел глазами книжные стеллажи, подпиравшие стены. – Знаете, Эмилия Абрамовна, сейчас, когда вы говорили, со мной вдруг случилось, как тогда, ночью, в детстве, или, как нынче, на Литейном. Я выключился. Перестал воспринимать.
– Это, Станислав Казимирович, защитный рефлекс. Но знаете… рефлексы годятся для собачек Павлова.
– Так как же… Эмочка… Гоша, миленькие… Если один человек с другим человеком такое сотворял, значит, можно – всё?
– Ну, вот. Вы почти цитируете. Да только, что еще? Чего ж больше-то, если ужевсё?
Раздался звонок в дверь, и все трое вздрогнули. Гоша пошел открывать. На пороге стояла Сонечка.
– Вы простите меня, пожалуйста. И ты, Славочка, не сердись…
– Проходите, Софья Александровна, проходите.
Эмочка встала навстречу соседке, а Славик сидел, сил подняться у него не было. Сонечка с беспокойством вглядывалась в лицо мужа.
– Мне так неловко. Но я три часа назад видела в окно, как Станислав Казимирович шел домой. Я поняла, что он к вам заглянул… Столько времени прошло, и я испугалась, не случилось ли чего…
На ней была зеленая домашняя блузка, а на голове белый ситцевый платок, она всегда его повязывала после мытья. «Что ж она так легко одетая вышла-то, холодно ведь на лестнице», подумал Славик, и стал собирать со стола бумаги.
– Спасибо вам, Эмилия Абрамовна. Мне о стольком нужно еще вас расспросить.
В коридоре Славика качнуло, и он оперся на плечо жены. А она жестом, которым сестры милосердия подхватывали раненых солдат, обняла его, чтобы вывести из боя, в котором не было ни побежденных, ни победителей.
__________
Славику снился сон. Была какая-то станция, товарный поезд, вроде того, в котором он с мамой ехал в эвакуацию. Ни деревьев, ни жилых домов кругом не было, а только поезд и земля, над которой дрожало дымное марево, и в нем, как в толще воды, плавало солнце. И еще были рельсы, которые и впереди, и позади поезда обрывались.
И вот поезд стоял посреди земли, и никуда не ехал. И сдвижные двери телячьих вагонов были открыты на обе стороны. И к этим дверям была очередь из мужчин и женщин, молодых и старых, и все они были голые, но стыда никакого не было. И конца-края очереди не было тоже.
Одни входили в вагоны, другие оставались там, третьи выходили с противоположной стороны, потом и те, что оставались, выходили, а заходили новые, а те, прежние, снова вставали в очередь, и так повторялось раз от разу. И гул стоял над землей от их голосов.
А мимо проходили обычные люди, в обычной одежде, кто в довоенной, какой ее Славик из детства помнил, кто в послевоенной, а кто и совсем в нынешней. И тех, кто в очереди к вагонам стоял, они не видели, и самих вагонов не видели, и не слышали того, что говорили те, из очереди.
А говорили они на разных языках, и не друг с другом, а каждый как бы сам с собой. И Славик отчего-то все понимал.
Дети говорили с родителями, а родители с детьми, и возлюбленные говорили со своими возлюбленными. И все это были слова прощенья и любви, и были они – как свет во тьме.
А люди, которые шли мимо, те, как в мороке, чем дальше от поезда отходили, тем тяжелее им было двигаться, точно ноги у них свинцом наливались, и все они были тут, и никуда не могли деться.
И вращение их было, как вращение пустых жерновов.
И Славик откуда-то знал, что если бы эти обычные люди увидели и услышали других, из очереди, и сказали бы «да, и видим вас, и слышим, и не оставим вас», и если бы подошли к ним и перемешались бы с ними, и прижали их к сердцу своему, то морок бы прошел, и всякое хождение по кругу кончилось бы.
__________
<Некоторые воспоминания кажутся мне сейчас, в наших обстоятельствах, неуместными. Излишне сентиментальные, они вдруг перестали быть похожими на правду. И мне нужно сделать определенное усилие, чтобы уверить себя – это было. Это как из окопа вернуться в мирную жизнь. Но когда я позволяю себе помнить, возникает ощущение света, направленного одновременно со всех сторон, поднимающего меня.
Я вспоминаю свое первое посещение Лувра. Первое, потому что все следующие разы я обходил картину, о которой хотел бы оставить эту запись.
Итак, я стоял возле портрета Джоконды. Не перед, а именно возле, потому что, когда я встал чуть поодаль, и произошло все чудесное.
Я смотрел на женщину сбоку, так, словно она была только частью другой картины, другого, более грандиозного замысла, который интуитивно я чувствовал, но которого не знал.
В свой замысел художник включил и картину, и толпу перед картиной, и меня, того, о чьем существовании он не мог знать, а мог только надеяться на то, что кто-то догадается сделать правильно. Наверное, главная удача моей жизни, – кроме Риты, разумеется, – что этим «кем-то» оказался я.
Люди стояли перед картиной и тихо гомонили на разных языках. И поскольку лица их были обращены к картине, то казалось, что каждый человек разговаривает сам с собой, или, что одно и то же, исповедуется той женщине, каждый на своем языке. А я со стороны смотрел одновременно на нее и на них.
Все вместе мы образовали треугольник, в основании которого была картина и люди перед ней, а вершиной которого был я, и именно благодаря мне контур замкнулся, и по нему пошло нечто, похожее на электричество, и это нечто мгновенно и многократно усилило и ускорило все мои чувства. Я вдруг понял, что плачу, а отчего плачу, не понял. Может, от той любви и жалости, которыми я вдруг наполнился и к разноязыкой толпе перед картиной, и к женщине на картине. Все шлюзы внутри меня прорвались, слезы градом катились по моему лицу, но мне и в голову не приходило их стесняться.
Никогда больше я не подходил к портрету Джоконды. Я боялся, что томожет не повториться.
И еще я думаю, что теперьузнал тайну, которую женщина на картине сумела скрыть от всех, кроме художника. Во взгляде ее были одновременно превосходство и робость. Губы ее улыбались одновременно сочувственно и снисходительно. А еще у нее были припухлости вокруг рта и глаз, чуть сонное выражение лица, и руки, закрывающие живот…
Все это я видел теперь в моей маленькой беременной Рите.>
<Вчера я застал Риту в кухне. Она сидела на краю табуретки, обняв за плечи соседского мальчика, и вместе они рассматривали рыб в банке-аквариуме.
Рита стала рассеянной. Наверное, из-за беременности. На днях резала картошку для ужина. Чищенная белая картофелина казалась одного цвета с ее пальцами. Я попросил Риту быть осторожнее с ножом. Она сказала, не оборачиваясь: «Кому теперь нужны мои руки. С музыкой покончено». К скрипке она больше не прикасается. И даже темное пятно на ее шее стало понемногу исчезать.
Сегодня вечером играли в шашки с соседом. Играл он кое-как, мысли его были заняты другим. Не закончив партии, он достал из кухонного стола поллитровку, плеснул в суповую тарелку постного масла, накрошил черного хлеба и лука.
Долго собирался, прежде чем начал говорить. Наверное, он меня боится так же, как я должен был бы бояться его. Но я давно сказал себе, что буду жить так, точно ничего этогоне происходит. Иначе можно сойти с ума. Наконец, он заговорил. Хорошо, что ему тоже удалось перебороть себя.
…Две недели назад арестовали его сменщика. Живут они большой семьей в деревне, в десяти километрах от Гатчины. Через три дня приехали за его братом. Тоже забрали. А у них отец, старый уже, помирал. Помер. Лежит на столе в гробу, кругом родня, бабы плачут. Опять «воронок» у ворот останавливается. За отцом приехали. Вошли в избу, смотрят. Молодые ребята совсем, лет по двадцать пять. Стали покойника доставать из гроба. Говорят, а может, он так притворяется, откуда нам знать. Может, это вы специально похороны разыгрываете, чтобы мы его не забирали. А у нас приказ. Взяли с двух сторон под руки, как пьяного, отволокли в машину, сунули на заднее сиденье, двое по бокам сели, и уехали.
Бабка, жена его, к аэродромному начальству вчера приходила, выла, в ногах валялась, помогите вернуть, чтобы похоронить-то по-людски… Так-то…
Мы выпили. «Что ж тут поделаешь», сказал сосед. Я часто слышу здесь эту фразу. В трамваях от пассажиров, на улице от прохожих, на работе от сослуживцев, и дома от соседей. Ее произносят спокойно и негромко, как бы машинально. Это вопрос, на который никто не ждет ответа. Присловье. И Рита теперь часто им пользуется.
У этой фразы есть варианты: «Ну, уж как-нибудь» или «Чего ж ты хочешь».
Я вспоминаю фотографию, которую видел давно в одной французской газете. Может быть, время добавило подробности, которых на фотографии не было. Но теперь я помню ее так. Небольшая комната, а скорее, загон. Ощущение закрытого пространства – точно. И в нем находятся телята. Их много для такого маленького помещения. Они стоят, прижавшись другу к другу боками, не пытаясь выбраться, и, подняв головы, с напряженным вниманием смотрят в одну точку: в объектив фотоаппарата. От этого возникает чувство, что они смотрят тебе прямо в глаза. Из подписи следует, что фотография сделана на бойне.
Сосед разлил по стаканам остатки водки. Она очень вкусная, особенно когда заедаешь ее пропитанной постным маслом коркой черного хлеба и кружочком лука.>
__________
То, что соседка с пятого этажа избегает его, Славик понял давно, с тех пор, как переехала она в их дом еще в начале семидесятых вместе со своим мужем, вышедшим в отставку военным. Вот только причина такой неприязни была Славику непонятна, потому что ему-то как раз новая соседка понравилась, было в ней что-то необъяснимое «свое». А потом чувство это затерлось и пропало, и даже здороваться он с ней при встречах перестал, после того, как она ему раз-другой не ответила.
Вскоре муж у соседки умер, детей у них не было, и стала она жить одна. А не так давно шустрая бабенка из соседнего подъезда взяла над ней, стареющей и болезненной, что-то вроде шефства, и частенько Славик мог видеть, как идут они вместе из магазина, или прогуливаются по двору, потому что «просиживать на лавочке со старухами» соседка не любила.
И вот, спустя двадцать почти лет, Славику снова показалось, что он эту женщину знает. И о том, откуда идет это знание, он теперьтоже стал догадываться. Но все-таки следовало убедиться, что догадка его – верная.
Славик долго собирался с духом, прежде чем подняться на пятый этаж и позвонить. В коридоре послышалось шарканье, потом оно затихло. «В глазок смотрит», – понял Славик. Чувствовал он себя отчего-то виноватым. А как иначе он мог себя чувствовать, если столько лет его демонстративно обходили?
Наконец, замок повернулся и дверь приоткрылась. Соседка разглядывала его через цепочку и внутрь пускать явно не собиралась.
– Августа Игнатьевна, пожалуйста… – Славик боялся, что соседка захлопнет дверь перед его носом, и хотел подыскать нужные слова, но выскочило только детское: – Пожалуйста… поговорите со мной.
Дверь закрылась и снова открылась.
– Проходите.
Он вошел за хозяйкой в квартиру. Везде были следы достатка. Но еще тогодостатка, середины и конца семидесятых. Женщина указала ему на кресло возле стеклянного журнального столика. Сама села в кресло напротив.
– Я, наверное, в чем-то провинился перед вами. Тогда простите… Знаете, мне кажется, мы с вами были знакомы когда-то.
Женщина закурила. Тяжелые серебряные браслеты на ее руках тихонько позвякивали друг о друга.
– Врачи не велят курить. А я не слушаюсь их. Муж сколько раз просил бросить, и не смогла. Сначала как будто – успокаивало. Потом успокаивать перестало, а привычка осталась. – Женщина смотрела на него сквозь клубы дыма. Выражение ее глаз было Славику непонятно. – Конечно, вы знали меня. Мы жили в одном доме, на Обводном канале. Еще до войны.
– Боже мой! Так вы – Ава? Но как же я… Что-то такое я чувствовал, но… Вы ведь как будто стеной от меня отгородились. Не мог же я навязываться.
– Не извиняйтесь. Женщины с возрастом меняются катастрофически. Я-то вас сразу узнала. Заставляла себя сомневаться, но… Чем дольше приглядываешься к человеку, тем больше прежние черты проступают. Время как бы вспять идет. К тому же я ухо ваше увидела, с раздвоенной мочкой, оно у вас такое необычное.
– Да, правда… – Славик коснулся уха. – А я и забыл.
– То есть как «забыли»? Себязабыли?
Они замолчали надолго.
На стене Славик увидел двойной портрет девочек.
– Это же сестра ваша, младшая, я вспомнил!
– Она давно умерла.
Женщина опять замолчала, предоставив ему самостоятельно выходить из ситуации. И Славик, наконец, собрался с силами, чтобы задать главный вопрос: в чем же его вина?
– В чем же моя вина, Августа Игнатьевна? Тут, знаете, так случилось… В общем, мне нужно все знать.
– Вины вашей нет никакой. Я когда увидала вас… Славик… я перепугалась страшно. Не могла поверить, что это случайное совпадение. И уговорила себя, что вас – нет. Но в первый миг… Знаете, я решила, что это онвсе подстроил.
Славик вжался в кресло. «Да она, может быть, того… От возраста и одиночества это бывает».
Женщина рассмеялась низким, хрипловатым смехом заядлой курильщицы.
– Нет-нет. Я из ума еще не выжила. Хотя… разве все мы… – рукой с сигаретой она указала в окно, на противоположные дома. – Разве все мы не сумасшедшие, если живем, как ни в чем не бывало. Ну, так вот… Я, когда вас увидела, подумала, что онспециально нас собирает вместе, чтобы наблюдать за нами было удобнее. Что он держит нас на всякий случай. И, значит, все годы, что я с мужем по военным городкам и местным и гэдээровским моталась, следы, так сказать, заметала, – все насмарку. Знаете, я ведь и замуж за военного вышла, потому что боялась, защиты искала. Я и не любила его совсем, прости меня, Господи… И вот как-то все забываться стало. Да и сама жизнь на коду пошла. А тут – вы.
– Да кто же «он», Августа Игнатьевна?!
– Кто он? А соседа нашего помните?
Славик покачал головой. От той квартиры он помнил темный коридор со шкафами, кухню и ангела…
– Соседа из угловой комнаты не помните? У него еще жена и дочка были, которых он прятал от жильцов.
– Постойте… Это который босиком ходил?
– Тот самый.
– Он в рыбпромхозе каком-то работал, кажется… Я подслушал, случайно, у меня там укрытие было…
– Помню. Рядом с его дверью. Я сама там иногда пряталась.
– Я слышал, как он жене своей говорил, что рыбу динамитом глушили, потому что планы большие «спущены». Это тогда меня поразило.
– Рыбу… Смешно.
– Боже мой! – Славика аж подбросило. – Глушили! Я ведь только что прочитал…
– Вы дедушку моего помните?
Славик зажмурился и увидел в конце коридора, в солнечном квадрате дверного кухонного проема, высокую статную фигуру.
– Про него соседи говорили «из благородных»…
– Еще бы… Дед мой Императорское училище правоведения закончил, служил в Департаменте полиции… Он был хорошим адвокатом. А соседа нашего он сразу вычислил. Бабушке назвал его «гнидой энкавэдэшной», а уж она, перед смертью, мне рассказала… И ведь мог же дед после переворота уехать, и семью увезти, но не уехал. Наверное, когда заштатным юрисконсультом на «Красном треугольнике» пришлось дорабатывать, сто раз пожалел. А про соседа нашего я от деда только одну фразу слышала. Презрительную такую: «Этот, из пожарных рекрутированный».
– Почему «из пожарных»?
– Пожарная охрана в ведении НКВД находилась. А в начале тридцатых кадров уже не хватало. Вот и набирали…
– А как же он деда вашего не… того…
– Я думаю, боялся.
– Разве такое возможно?
– Холопское нутро. Значит, все возможно. Боялся и только злее делался.
– Но как же эта история со мной связана?
– Как с вами личносвязана, я не знаю. Но однажды ночью, поздно, вся квартира спала уже, а я вышла в коридор. Мне в туалет надо было. И вдруг дверь вашей комнаты тихо-тихо так, как в страшном каком-нибудь сне, открывается, и я на пороге вижу соседа. Я испугалась, потому что мы нос к носу оказались, и глаза у него были такие… бешеные, охотничьи…
Сердце у Славика подпрыгнуло к самому горлу и перед глазами закрутились яркие огоньки.
– А в руках у него что-то было?..
– Не знаю. На нем бурка была. Он в кухне еще хвастался, что на юбилей ему подарили. В самые холода он ее дома носил. Не помните? С приподнятыми такими, острыми плечами…
– Так вот оно что… Это, значит, в ту ночь было, когда я ангела видел… Так это я эти плечи спросонок за сложенные крылья принял!.. О-о-о-й! Да что же это такое… – Славик закрыл лицо руками. – А я-то всю жизнь думал, что ко мне ангел прилетал… – Он пригнул голову к коленям и сидел, тихо покачиваясь.
– Ангел… Он схватил меня за волосы и впихнул в шкаф. Я не помню уже, чей это был шкаф. Там шуба висела. Так он меня лицом в эту шубу. Я задыхаться начала, давлюсь, полный рот мокрой шерсти… И он так, руками, больно, по моему телу, как при обыске… По груди, и между ног… А я же девочка совсем, тринадцатый год. Успела подумать, что теперь всё, пойду в канал топиться… А он: «Только пикни кому-нибудь, что меня видела. Я с тебя глаз спускать не буду. Всю твою жизнь. Так и знай».
Она замолчала, вытерла уголки глаз ладонями, взяла из пачки следующую сигарету.
– Вы не представляете, как это на меня подействовало. Когда война началась, я рада была! Сосед здесь остался, их контора всю блокаду продолжала план выполнять… Мы с мамой, сестрой и бабушкой только в начале декабря эвакуировались. Дед не поехал. Он умер, в феврале… Но… – Женщина беспокойно двинулась в кресле. – Мне так неловко, что я спрашиваю. Простите, но все-таки… Как вы оказались в этом доме?
– Я понимаю, все понимаю, Августа Игнатьевна, вы не волнуйтесь… Тут бабушка жила, мама моей мамы. Тогда это тоже коммуналки ведь были. После войны мы, благодаря ей, смогли из эвакуации вернуться в Ленинград. Она нас вызвала. Наша комната на Обводном пропала, ее какой-то военный с семьей занял. Мама судиться и доказывать не могла. Бабушка нас к себе прописала.
– А наши две комнаты за нами остались. Знаете, я так надеялась, что в дом бомба попадет!.. К счастью, когда мы вернулись, егоуже не было. Соседи сказали, он еще в сорок втором, летом, занял бельэтаж, где-то на Староневском. Не знаю, правда ли. А эту квартиру муж получил, когда комиссовали его…Да-да, конечно же, наша с вами встреча – чистая случайность… – И она еще раз испытующе посмотрела Славику в глаза. – Но, раз уж я нарушила обет молчания… Раз уж я заговорила с вами, я хочу рассказать. Теперь я знаю, что вы сможете понять. Вы не курите? Угощайтесь. – Славик бросил курить давно, когда первый раз по-настоящему прижало сердце, но теперь достал из пачки тонкую сигарету, щелкнул зажигалкой и с удовольствием затянулся. – У нас была дача, и не дача, а развалюха, доставшаяся мужу от деревенских родственников, домик и сотка земли в пригороде, до войны этот пригород дальним мог считаться, а теперь совсем близкий, почти в черте города. Местность красивая, сухая. Песчаники, сосны… Мы там бывали наездами, а как дачу стали использовать с начала семидесятых… После смерти мужа я всё продала… Так вот. Километрах в полутора от нашего дома был военный объект. Засекреченный страшно. Еще в конце тридцатых пустошь огородили зеленым забором, глухим, высоким. Старожилы из местных рассказывали кто что. Одни говорили, что там бактериологическое оружие испытывают, другие про химическое оружие говорили, третьи про секретные опыты над людьми. Иногда там стрельба слышалась. Это охранники ворон стреляли, со скуки, наверное. Ну и собаки сторожевые лаяли. В семидесятых, при нас уже, забор меняли. Знаете как? Старый убрали, а за ним сразу новый стоит, готовенький. Кто-то из соседских детей прибежал, рассказывает, что в заборе дырочка оказалась, от сучка. В нее разглядели часть территории. Да ничего особенного. Лес. Два домика каких-то. Чаны стоят. Может, собак кормить. На другой день тот глазок уже заделан был, с обратной стороны. Рассказывали, еще раньше кто-то на сосну пробовал залезть, посмотреть, что там происходит. Так по той сосне пальбу охранники открыли, и больше никто не любопытствовал. А однажды туда парашютиста ветром отнесло. Военный аэродром был неподалеку. Его отпустили, под подписку о неразглашении. И каждый вечер в одно и то же время к воротам этого секретного объекта подъезжала крытая черная машина. Так продолжалось до восемьдесят девятого года, представляете? – Она замолчала. Взяла новую сигарету. – Хорошо, что Муська не видит, сколько я курю. Она не плохая. Но, знаете, уж слишком хлопочет.
Славик понял, что говорит Августа Игнатьевна о той женщине из соседнего подъезда, которая вроде как опекает ее.
– А у сестры вашей что ж, детей не осталось?
– Дочь. Она хорошая. И тоже несчастная. И, думаю – нет у нее ко мне… чувств родственных, что ли. Но я сама виновата. Редко виделись, пока она росла. А главное… Ведь я после истории с соседом отгородилась ото всех. Так жизнь и прожила… Но я не закончила…В заборе, окружавшем тот объект, кроме ворот была еще калитка. И только один человек выходил через эту калитку и возвращался. Старик-сторож. Он единственный между тем и этим миром курсировал. И походка у него была такая замедленная, прихрамывающая… Местные мужики его подлавливали, поили, думали вызнать, что там, за забором. Но он ни разу не проговорился, сколько бы ни выпил. Лицо у него было… Обычное, никакое. Фуражка со сбитым околышем глаза прикрывала. Вроде, не задевал никого, а местные дети жаловались, что пугать любит. Вдруг со спины подойдет и как крикнет: «Смирно!» Он мимо нашего дома в магазин ходил. Иногда, если я во дворе что-то делала, останавливался, смотрел. Мне всякий раз не по себе становилось. А однажды подошел к самой калитке. Подмигнул так мерзко и спрашивает: «Ну, что, боишься?» Как угодно, а я знаю, это сосед наш был. И до сих пор он ходит…
Славик замахал руками, всем своим видом показывая, что совершенно исключает такую возможность, что таких совпадений уж точно не бывает, а тем более «до сих пор»… Он боялся, что Августа Игнатьевна опять начнет сомневаться в его, Славика, случайном, неумышленном появлении в этом доме, и замкнется, перестанет его видеть, как это уже было прежде.
– Да у вас просто идея-фикс, Августа Игнатьевна! Простите, я все понимаю. Я сам, сам, всю жизнь свою… Но с чего вы взяли, что сторож того объекта и наш сосед…
– С того… Знаете, даже зимой, когда листвы нет, а только стволы и голые ветви, всегда можно мертвое дерево от живого отличить. Так и здесь. Приглядитесь. А «тот объект» – тайное кладбище НКВД. Туда убиенных свозили. Вот что он сторожил.
Августа Игнатьевна тяжело поднялась из кресла. – Ах, Славик… простите, что я вас так называю… но какой же вы наивный, какой же вы еще… маленький… И вообще, пойдемте чай пить на кухню. Это, конечно, не комильфо, но мы же соседи, в конце концов. Да, кстати, о совпадениях… Вы помните те буквы, на крыше высокого дома, по ту сторону канала, они еще светились вечером и ночами? Вы по ним читать учились. Забыли? Вам было пять, наверное, а я уж «взрослая» была, в школу ходила. Ваша бабушка все что-то жарила-парила на кухне, а вы ставили табуретку возле подоконника, забирались на нее коленками, водили пальцем по стеклу и читали.
Славик смутно помнил, что буквы какие-то были, и что он смотрел на них, и что светились они по ночам, он, вроде бы, тоже помнил.
– Да, кажется… что-то такое простое, обычное совсем.
Августа Игнатьевна усмехнулась:
– Да, простое и обычное… «ГОССТРАХ СССР» Вот что это были за буквы. Они и сейчас там есть. Только звучат чуть иначе… А вы подумали, что я сумасшедшая… Не краснейте, знаю, что подумали. И поставьте, пожалуйста, на огонь чайник. Теперь ваша очередь о себе рассказывать.
__________
<Неделю назад Рита сказала, что ее арест дело решенное. «Нет, – ответил я, – всё из-за твоего состояния, это нервы, никаких объективных причин, и, потом, ты ждешь ребенка, они не посмеют». Лучше бы я не говорил такие глупости. В Ритином взгляде было только сожаление.
В четверг я поздно вернулся с работы после очередного собрания: одобряем, призываем, проклинаем, приветствуем… Сплошное рычание. И, разумеется, сталинсталинсталинсталин…
Рита лежала в кровати, укрывшись до подбородка одеялом. Когда я вошел, она подняла голову и сказала, что не сделала ужин, очень устала, и попросила извинить ее. Когда я захотел подойти и обнять Риту, она остановила меня жестом, выпростав из-под одеяла руку: «Пойди на кухню, приготовь что-нибудь, и я тоже поем с тобой вместе».
В квартире стояла непривычная для этого часа тишина. Вышел на кухню сосед, ногой задвинул под плиту таз с замоченным бельем, немного темной воды выплеснулось на пол. Я спросил его, где старшие дети. «Жена к матери своей отправила, умучили они ее совсем». Он курил возле окна. Пепел от его «беломора» падал в банку с рыбами.
Я резал помидоры и огурцы, выкладывал на тарелку сыр и хлеб. Есть особенно не хотелось. Хотелось просто посидеть с Ритой за столом, возле открытого окна, и рассказать ей о стихах, которые после долгого молчания опять во мне начинались, может быть, так некстати, а еще я хотел рассказать ей о том, как это бывает, когда стихотворение, вдруг, всё разом, возникает внутри, подобно сгустку тепла, как мучительное и нежное «м-м-м-м», и вовсе не нуждается в словах, потому что оно уже есть, но знаю об этом только я, и только от моего усилия зависит, явится ли оно в мир.
Я поставил тарелки на поднос и пошел в комнату, а сосед все стоял и курил.
Рита спала, и когда я окликнул ее, она не отозвалась. Я склонился над ней. От Ритиной щеки шел жар, и дыхание было горячим. То, что «никак не получалось» у Риты, я преодолевал не единожды. Я столько раз мысленно пережил ее смерть, что потерял чувство опасности… И вот теперь весь накопленный страх обрушился на меня.
Вдруг я все понял. Я встал на колени и осторожно просунул руки под одеяло. Простыни, полотенца, все, чем было обложено ее тело, все было горячим и влажным. От кровати шел запах бойни.
Как же я мог не чувствовать приближения катастрофы? Нет, неправда. Я все время ждал катастрофы, я жил внутри этой катастрофы, я был ее эпицентром, и поэтому пропустил её.
Наверное, я что-то сказал. Может быть, крикнул, потому что Рита открыла глаза и попросила пить. Когда я поднялся с колен, она увидела мои руки и снова закрыла глаза. «Я по-прежнему не верю в свою смерть, Тео, – сказала она. – Но я заслужила ее. Я всех нас погубила».
Я напоил ее из ложки, даже приподняться она не могла, и сказал, что бегу за врачом. Но Рита с неожиданной силой схватила меня за руки. «Не смей, не смей, если любишь меня хоть немножко. Я не хочу в тюрьму. Мне уже лучше. Скоро все пройдет, ты увидишь. Я люблю тебя. Пойди, умойся».
На кухне у окна по-прежнему курил сосед. И таз с темной водой по-прежнему стоял под плитой.
«Где ваша жена?» – спросил я. Вместе мы прошли в их комнату. Женщина сидела за столом, прямая и страшная. «Вы не можете ее так оставить». «Она очень просила меня. Она сказала, что никто не согласился, к кому она обращалась. Она сказала, что, если я не сделаю, она утопится в пруду, как та, месяц назад, которая не нашла, кто бы ей сделал аборт. А у меня есть опыт. Но она обманула меня, она сказала, что два месяца, а был четвертый…» Женщина говорила сухим шепотом, руки ее крест-накрест были прижаты к груди. «Я пыталась остановить кровотечение, но срок был такой большой. Если вы покажете на меня, то он не управится с детьми, их в детский дом отдадут. И еще, заберите вот это, заберите, мне не надо…» Она подошла к детской кроватке, приподняла матрас и достала маленькое серебряное распятие из Алансона. «Она этим расплатилась. Заберите».
Когда я вернулся в нашу комнату, Риты уже не было.>
<Сентябрь 1939 года. Советские войска вошли в Польшу.
Полагаю, участь моя решена окончательно.>
__________
Славик стоял на площади перед Балтийским вокзалом и беспомощно озирался. Он давно здесь не был. Ему казалось, что он никогда здесь не был. Площадь была заполнена маршрутками и людьми с чемоданами и дорожными сумками. По периметру стояли киоски с цветами и павильончики кафе. Трамвай на площади давно уже не ходил. Даже следа от трамвайных путей нигде не осталось. Вдоль Обводного канала сплошным потоком двигался транспорт.
Славику вдруг захотелось пересечься, совпасть в одной точке с Теодором Поляном, когда тот вышел из трамвая на этой же площади почти семьдесят лет назад. Он попытался вспомнить, где была трамвайная остановка в его детстве, и, кажется, вспомнил, и встал на то место.
Славик рассматривал здание вокзала и впервые удивлялся его красоте, точно никогда раньше не видел его со стороны, точно что-то всегда застилало ему взор.
Стоя на привокзальной площади, он вдруг представил себе карту, расстеленную дома, на круглом обеденном столе. И ту, первую страницу дневника, где Теодор Полян описывает свой приезд в Париж.
Славик мысленно соединил Белую Церковь, Люблин, Париж, Ленинград, опять Белую Церковь… Ломаный круг замкнулся. И произошло это благодаря ему, Славику.
От этой мысли он испытал невероятный восторг. И внезапно вспомнил, что подобное чувство когда-то уже испытал, давно, но здесь, совсем рядом, в кухне их коммунальной квартиры, и, может быть, накануне или после того дня, когда к родителям приходил Теодор Полян.
День тогда был будний, потому что никто не готовил, не мыл посуду и не стирал, и он, придя из школы, мог свободно гонять свой мячик. По приемнику, висевшему над дверным проемом, шла какая-то радиопостановка, кухня была залита солнцем, он набивал мяч, посуда на полках чуть позвякивала в такт его ударам. И вдруг постановка закончилась и началась музыка. Он не расслышал ее названия. Играл оркестр, и музыка была такой, о которой его мама говорила – «захватывающая». Славик встал возле дверного проема и, подняв лицо к тарелке радиоприемника, слушал. Он и сейчас не смог бы описать ту музыку, но он запомнил звуковые волны, которые раскачивали его, и свое желание слиться с ними. Витой матерчатый шнур спускался от приемника к розетке, и больше всего Славику хотелось выдернуть штепсель и сунуть пальцы в отверстия, чтобы музыка пошла прямо через него…
Кто-то тронул его за руку. Славик вздрогнул, открыл глаза. Молодой человек участливо вглядывался ему в лицо.
– Вам плохо? Проводить вас?
Славик сморгнул слезы. Вытер их со щек перчаткой.
– Нет, все хорошо, спасибо, мне тут, рядом, я дойду.
Он пересек площадь, вышел на набережную и обернулся. Над крышей вокзала дрожало пропитанное паровозной гарью марево, и в нем растворялось низкое декабрьское солнце. И в темной глубине этого закатного сияния что-то угадывалось, что-то такое, что имело прямое отношение к его, Славика, жизни, и во что он никогда не смел верить. «Счастье… Вот счастье-то…» Он поймал себя на том, что уже несколько раз мысленно повторил слово «счастье», причем применительно к себе. Он удивился. Ему не понятно было, почему, откуда возникло это слово именно теперь, когда столько беды, своей и чужой, обрушилось на него…
Языком он коснулся пластмассового нёба у себя во рту: на другой день после разговора с Августой Игнатьевной, утром, когда Сонечки не было дома, он решился.
Сначала он сидел, склонившись над картой, и в лупу снова и снова рассматривал города, которые имели отношение к егоистории. А потом и другие города, о существовании которых он никогда не знал, но которые теперь оказались вдруг так близко. Чем дольше он смотрел, тем сильнее ему хотелось рассеяться в этом пространстве и одновременно втянуть его в себя, поместить внутрь. И тут он почему-то вспомнил о зубном протезе с варшавского рынка.
Он достал его из серванта, вымыл хозяйственным мылом, и надел вместо обычного. Ему было страшно, и даже возник позыв к рвоте. Но он преодолел себя. Протез был тесноват, и к концу дня сильно натер десну. Славик полоскал рот содой и терпел, и даже на ночь его оставил, вспомнив как когда-то давно, когда он только начал всерьез то, что называется «заниматься зубами», протезист посоветовал: «Не снимайте на ночь». И пояснил почему: «Во сне организм как бы адаптируется к постороннему предмету, начинает воспринимать его как часть себя». Действительно, на следующее утро Славику стало легче. К тому же он чувствовал странное удовлетворение от того, что сделал это.
Сейчас, спустя десятилетия оказавшись в местах своего детства, он решил не проверять, на месте ли те буквы, по которым он когда-то учился читать. Не стал он и переходить на другую сторону Обводного, чтобы посмотреть на дом, где когда-то жили он и Ава. Он понял, что приехал сюда только ради площади и вокзала. И, как оказалось, ради слова «счастье», всплывшего с самого глубокого дна зимнего сумрачного заката.
Вечер выдался хороший, безветренный, температура чуть ниже нуля, домой Славику не хотелось, и он решил поехать в центр, прогуляться.
Была середина декабря, и город, уже украшенный к Новому году, белый и золотой, напоминал декорации зимней сказки в Мариинском. Славик вспомнил, как мама рассказывала ему о походе в театр, их, всех троих, когда они были еще вместе, накануне того последнего Нового года. Давали «Спящую». Спектакль был длинным, он устал и спрашивал: «Ну, когда же она проснется?», а потом и сам заснул, счастливо притулившись к отцу…
Славик шел по Невскому, над которым висели светящиеся гирлянды. Заглядывал в витрины магазинов и кафе. Перед Гостиным двором постоял возле искусственной елки. Потом свернул на Большую Конюшенную и дворами Капеллы пошел на Дворцовую.
Дома, на столе, накрытом географической картой, его ждал дневник, уже расшифрованный и с помощью Гоши частично набранный на компьютере и распечатанный. И мысль об этом волновала Славика до спазма в горле, волновала так же, как рассказ Эмочки о январском дне сорок второго года, том дне, когда конвойные вывели группу босых, полуодетых заключенных на сорокаградусный мороз и посадили в снег. План начлагеря стал понятен, и тогда к заключенным, растолкав конвой, прошла женщина. Задержать ее не посмели, она была врачом лагерной санчасти. Она опустилась на снег рядом с одним из замерзающих зеков и так с ним и осталась.
…В тот вечер, когда Эмочка рассказывала о гибели Поляна, они засиделись допоздна. Гоша суетился вокруг них сначала с валерьянкой, потом с водкой. Позвонили Сонечке, она пришла, села, смущаясь, на краешек стула, пригубила водки, засмеялась, но глянула на мужа и по-детски прихлопнула рот ладошкой.
Уже прощаясь, в коридоре, Славик наклонился к самому уху Эмочки:
– Вы представляете, что случилось… – шепот его был горячим и сбивчивым. – Представляете… Я ведь только через него смог себя понять… и, кажется, полюбить. Представляете…
…На Дворцовую площадь Славик не вышел, а встал посреди Певческого моста. Он стоял и смотрел.
Сумерки от зенита окончательно спустились к горизонту. Зимний дворец светился изнутри. Ангел, подхваченный лучами прожекторов, парил в темном беззвездном небе. А по самой площади, по бальному ее паркету синхронно, легко и бесшумно кружились четыре тяжеленные снегоуборочные машины, и движение их непостижимым образом совпадало с музыкой, которая шла из невидимого динамика.
Может быть, это была та самая музыка, которую он слышал в детстве, на их старой коммунальной кухне, может быть другая.
Она звучала одновременно мрачно и радостно, она придавливала и в то же время поднимала, и, главное, она продолжала звучать, даже закончившись.
__________
Проснулся Славик поздно, жены дома не было. Как-то она умудрялась бесшумно, так, чтобы не потревожить его, выходить из своей комнаты, завтракать и отправляться по делам. Тишина в квартире была особенная, зимняя: сухая и солнечная.
Сначала никаких мыслей в голову Славику не приходило, вместо них было только состояние покоя и радости. Потом стали возникать не мысли, а голоса. Левушкин голос произнес: «Ты, батя, не волнуйся, дело доделывай. А если что, денег я пришлю, чтобы дневник Поляна издать». Слова эти не были плодом воображения. Сын действительно так сказал, узнав, что Славик вместе с Эмочкой ходили в издательство, на разведку, и что ничем путным поход пока не закончился.
Для начала дня это было хорошее воспоминание. Лежа в постели, Славик наслаждался тишиной внутри и снаружи себя, и тем, что ничего у него не болело: ни привычные суставы, ни десна, которая, кажется, сумела-таки притереться к варшавскому зубному протезу.
Следом за фразой сына всплыл, правда, не сам рассказ, а воспоминание о том, что Эмочка что-то рассказывала про урок рисования. Однажды соседка уже «поставила ему на вид» своего друга, который, начав слепнуть, принялся учиться рисовать. А теперь последовало вроде продолжения. Но рассказ ускользал из памяти, и Славик забеспокоился, потому что в нем было что-то такое… важное.
Соседка назвала его притчей и добавила: «Знаете ли, от анекдота до притчи расстояние порою в один шаг».
«Урок рисования… урок рисования», – несколько раз повторил про себя Славик. «Девочка… Да!» Он вспомнил. «В старшей группе детского сада идет урок рисования. Все рисуют, кто что хочет. Воспитательница ходит между столами, наклоняется над одной из девочек, спрашивает: „А что ты рисуешь?“ „Бога“, – отвечает девочка. „Но Его же никто не видел!“ „Теперь увидите“».
«Вот, – сказала Эмочка. – Вот то, что все мы делаем.»
…Он лежал и раздумывал над тем, какой лично из негополучался рисунок, и от этого размышления постепенно перешел к другому: как мог появиться в их доме дневник Теодора Поляна. Он давно начинал думать об этом, да каждый раз что-то его останавливало, мешало довести мысль до конца.
А всё сходилось к одному: дневник принес тот механик, сосед Поляна по гатчинской коммуналке. «Мог ведь выбросить. Или просто забыть… Но сохранил», – с благодарностью подумал Славик. «Соседу Полян передал дневник до своего ареста, иначе его конфисковали бы при обыске. А потом уже сосед не побоялся, приехал с дневником к нам, на Обводный, где неизвестно что его ждало…»
Чем дальше Славик прослеживал путь дневника, тем беспокойнее ему становилось.
Равновесие, с которого начался день, оказалось хрупким. Славик встал, пошел на кухню. Завтрак, накрытый салфеткой, стоял на столе. «Чего же она опять ушла?» Славику захотелось, чтобы жена была дома и чтобы можно было поговорить с ней о чем-то постороннем, не имеющем отношения к той давней истории…
Однако, останавливаться было поздно.
«Дневник появился у нас в доме уже после ареста отца, иначе он был бы в описи изъятых при аресте вещей. Значит, мама впустила в дом человека, который мог оказаться кем угодно, и приняла от него дневник, и этот поступок мог стоить жизни нам обоим. А потом она взяла дневник в эвакуацию. И, значит, когда мы ехали на грузовике по Ладожскому озеру, дневник был с нами, и в теплушке он лежал, скорее всего, в материнской сумке между мной, завшивленным, и тем человеком, которого на следующей остановке выволокли за руки и ноги из вагона… И я ничего не знал о дневнике ни тогда, ни потом…»
Славик выпил пустого чаю. Есть ему не хотелось. Он вернулся в комнату, к столу, на котором, поверх географической карты, лежали ксерокопии документов, дневник и стихи Теодора Поляна.
«Дальше… В конце пятидесятых и отец, и Полян были реабилитированы, посмертно. Вот справки. Значит, кто-то обращался с ходатайством. И этим кем-то мог быть только один человек. Мама. И она никогда ничего мне не говорила об этом… Почему? Щадила меня?»
И сам вопрос, и ответ на него доводили Славика до замирания сердца и были тягостными, страшными, как сон про лифт, который падает в шахту и никак не может достичь дна.
Но что же было в дневнике Теодора Поляна, в этой истории одной души, такого, что заставляло людей спасать его, подвергая риску собственную жизнь? Славик попытался найти подходящее слово, и нашел только одно: красота.
Он сложил перепечатанные страницы дневника, отксерокопированные стихи, все документы в Левушкину школьную папку и пошел в издательство.
__________
Славик уже подходил к метро, как вдруг увидел на противоположной стороне улицы жену. Сонечка шла в обратную от дома сторону. Она не спешила, никакой хозяйственной сумки, свидетельствующей, что она идет в магазин или из магазина, в руках у нее не было. Она просто шла. Судя по всему, из недавно построенного роскошного торгового центра – к небольшому садику, чудом уцелевшему среди уплотнительной застройки.
Это явление гуляющей самой по себе жены вдруг поразило Славика. Он свернул от метро и двинулся за ней следом.
Славик давно уже заметил, что утром Сонечка куда-то уходит. «По хозяйству», – решил он для себя и забыл об этом. Теперь он попробовал вспомнить, когда эти утренние пропадания начались, и понял, что года четыре назад минимум. Но что, кроме одиночества, могло заставить старого уже человека уходить из дому и вот так бродить по улицам?
Славик увидел, как Сонечка остановилась на перекрестке, пропуская машины, а того шофера, который притормозил, пропуская ее, поблагодарила улыбкой и наклоном головы. Славику показалось, что когда-то давно он видел уже и такой наклон, и такую улыбку. Но не в жизни, а, может быть, в кино… И вдруг ему вспомнился старый черно-белый фильм. Он назывался «Дорога». Да-да. И фамилия актрисы вспомнилась – Мазина! Вот на кого была похожа его Сонечка – на маленькую, беззащитную, трогательную героиню того фильма. А он не сумел ни заметить, ни понять, ни оценить этого…
Он вспомнил, как недавно, возвращаясь из библиотеки, увидел Сонечку. Точнее, ее голову, смешно торчащую в окне. Он знал за женой такую привычку: садиться перед окном, как перед экраном телевизора, смотреть во двор, и шепотом, с удивлением или восторгом, комментировать увиденное.
Заметив пересекающего двор мужа, Сонечка подскочила, сразу обозначившись в окне до половины. Славик увидел, что лицо ее просияло, и что ей очень хотелось помахать ему, и что она сдержала себя.
Славик за общим ходом жизни уже и забыл, что жена вообще любила восхищаться, у нее просто потребность была какая-то в восхищении, и для того, чтобы удовлетворить эту потребность, годился любой повод.
Когда они летом ездили на дачу, она всякий раз указывала ему на березы. И всякий раз он не мог понять, в чем дело, потому что электричка в этом месте делала поворот, и предмет Сонечкиного восхищения терялся из виду прежде, чем Славик успевал толком разглядеть его. Но теперь, задним числом, он вдруг обо всем догадался.
Две березы стояли у самого края озера. А высокий когда-то берег с каждым годом все сильнее и сильнее оползал, и березы, корни которых еще крепко цеплялись за землю, стволами все ниже кренились к озеру, и это была неминуемая гибель. Но в какой-то момент оба дерева, точно сговорившись, вдруг выгнулись уже над самой водой дугами, и, поправ законы местного тяготения, начали расти опять вверх.
Сколько же лет потребовалось, чтобы дошло до него то, что, не умея объяснить словами, пыталась сказать ему Сонечка!
…В издательство Славик пришел совершенно разбитый. Он устроился в своем привычном уже закуте между лестницей, лифтом и разлапистой пальмой, и стал ждать. Ни один из редакторов, с которыми Славик успел пообщаться в свои первые приходы сюда, ничего внятного на его предложение издать стихи и дневник ответить не смог. Все переводили стрелки на главреда, а точнее, на главредшу. Но та либо «уже уехала», либо «еще не приехала», либо была «на совещании».
В первый раз он пришел в издательство с Эмочкой, у которой здесь работала корректором дочка одного из ее воскресных прихожан. И мысль, что Славик должен сделать книгу Теодора Поляна, тоже принадлежала ей.
Ни к какому «деланию книг» Славик приспособлен не был, но странное чувство двигало им, придавало решимости. Может быть, то самое чувство, которое заставило и его мать, и гатчинского соседа Тео, спасти дневник.
Явление двух взволнованных и взлохмаченных стариков с сияющими глазами и сбивчивой речью произвело среди сотрудников издательства определенный эффект. По одиночке и парами они, как бы невзначай, заглядывали в редакторскую комнату, где Славик и Эмочка излагали суть дела сначала редактору литературы классической, потом редактору литературы современной. Фамилию Поляна все слышали впервые, что являлось большим минусом, так как «неизвестный автор, да еще и со стихами, это, знаете ли, большая проблема».
Около часа Славик и Эмочка дожидались под коридорной пальмой главредшу и слушали, о чем говорят сотрудники, выходя перекурить на лестничную площадку.
Разговоров «о высоком», как на Эмочкиных посиделках, тут не было. Обсуждались в основном производственные моменты. Некоторые слова звучали чаще остальных. Например, «продвижение и продажи». Но больше всего Савику врезалось в память слово «торговля».
«Торговля хочет», «торговля не берет», «торговля рекомендует», «торговля требует» и даже «торговля думает». Последняя абстракция более всего поразила воображение Славика. Так же как лишенная на его взгляд логики фраза, раздраженно брошенная одной из курильщиц: «Они умеют хорошо продавать только то, что само продается». И тут же оказалось, что средства нужно вкладывать в продвижение именно того, что продается и так хорошо, «даже если оно дерьмо полное».
После этой бессмыслицы Славик вообще перестал что-либо понимать, кроме одного: ни стихи, ни дневник Теодора Поляна к этому празднику жизни, скорее всего, не имеют никакого отношения.
Эмочка весело покрутила седой головой:
– Ну, вот, Станислав Казимирович, невольно мы с вами стали свидетелями отвратительных таинств туалета старой графини.
Славик беспокойно дернулся. Он решил, что соседка начала потихоньку заговариваться, а чем это кончается, он знал на примере ее матери.
Эмочка рассмеялась:
– Не пугайтесь. Это из «Пиковой дамы». А ведь как подходит к издательской кухне! Правда, чудесно, что при такой кутерьме им удается иногда выпускать хорошие книги?
Вероятно, элемент чуда во всем происходящем действительно имелся, раз вышла в этом издательстве книга автора, чью фамилию Славик не запомнил, а запомнил только слова Эмочки, что звучит она «как пылающий куст». «Прямо какая-то купина неопалимая! – добавила Эмочка и еще сказала: – Проза у него – как Синайская пустыня, залитая беспощадным солнцем истины. В ней не спрячешься…» Про Синайскую пустыню Славик мало что знал, но ясно было, что оценку Эмочка дала наивысшую.
Однако из разговора в курилке выяснилось, что и «по этому автору продажи зависли, и торговля уж не знает, что и делать». Надо полагать, что вся вина человека с горящей фамилией заключалась в том, что умер он, не дождавшись ни одной литературной награды, которая протаранила бы дальнейший путь его книгам.
В следующие свои посещения застать главредшу на месте ему опять не случилось. Зато, сидя в углу под пальмой, он узнал, что за глаза в издательстве ее называют «хлыстовкой», что проработки за ослушание и нерадение она устраивает «в лучших комсомольско-партийных застойных традициях», хотя с виду «нормальная тетка, или хорошо косит под свою», и что «вообще смотреть смешно, как престарелый завпроизводством во время летучек роняет слюни на ее выставленные коленки».
Кроме прочего Славик обогатился информацией о том, что лучший автор – это почивший в бозе бездетный сирота, так как от наследников, не говоря уже о финансовых, происходит и много других хлопот. Тут Славик начал прислушиваться внимательнее, ведь сам он теперь некоторым образом являлся наследником Теодора Поляна, и, значит, потенциальным источником чужого беспокойства.
Картина, если верить услышанному, вырисовывалась занимательная: некоторые дети, внуки, правнуки, вдовы по отдельности или целыми семейными кланами могли не только сносно существовать за счет своего знаменитого родственника, но еще имели право осуществлять тотальный контроль над его творчеством.
Размахивая отчаянно руками, молодой человек, чем-то отдаленно похожий на библиографа из Публички, кричал, что ни за «какие коврижки» не станет переделывать свою вступительную статью только потому, что родственники писателя имярек не признают наличия в его жизни возлюбленной, которой посвящены несколько повестей, и из-за которой, кстати, вышеназванный писатель едва не свел счеты с жизнью, что, несомненно, повлияло на всю его дальнейшую прозу.
Славик, разморенный теплом, начал уже задремывать, когда в коридор выглянула секретарша и махнула рукой курящей публике: «Приехала!»
Народ начал из курилки расходиться, а Славик вдвинулся вместе с креслом глубже под пальму, потому что после всего услышанного – главредши робел.
За стенкой прошуршал лифт и остановился, двери раскрылись, и из них в коридор вышла Нина. Славик сразу узнал ее, хотя прошло с их последней встречи больше двадцати лет. Она почти не изменилась, разве что как-то заматерела. От нее исходило все то же настойчивое обаяние. Славика она не заметила, и, сбрасывая на ходу легкую шубку, прошла в кабинет.
Славик сидел и прислушивался к своим чувствам. Первым было почему-то чувство облегчения. «А хорошо все же, что Левушка отставку ей тогда дал», – подумал Славик. Вторым чувством было желание поскорее смотаться отсюда, даром что времени была потрачена уйма, и надежда напечатать книгу в этом известном издательстве все же еще имелась.
Славик вошел в лифт и нажал кнопку, но прежде чем медленные электронные двери закрылись, он успел услышать, как выглянувшая в коридор секретарша воскликнула: «Тут только что чел сидел! Его Нина Аркадьевна вызывает!»
На первом этаже ему встретилась бегущая с обеденного перерыва молоденькая корректорша, та, с которой и началась его издательская эпопея:
– Ой, Станислав Казимирович, здравствуйте! Получается что-то с книгой?
– Всё хорошо, Олечка, спасибо вам за хлопоты. У меня тут еще кое-какие варианты наметились. А не скажете ли вы мне, что означает слово «чел»?
– Да ничего особенного не означает. Нейтральное. Просто «человек».
…По дороге домой Славик раздумывал над нейтральным словом «чел». Он помнил, что сам по молодости употреблял слово «чувак», и что было оно скорее положительным. Левушка какого-то из своих приятелей смешно называл по телефону «чайником». Как малоприятное определение Славику запомнился «лох». Слишком умных и при этом оторванных от жизни людей не так, вроде бы, давно стали называть «ботанами». Из нынешних непропеченных телесериалов, от которых Сонечка уходила к своему окну, Славик узнал, что есть еще «лузеры» и «виннеры». В каких случаях эти слова использовались, ему было понятно. И понятно было, что для нынешнего непритязательного обихода они приспособлены гораздо лучше, чем «побежденные» и «победители», от которых так и веяло беседами Эмочкиной матери со своими невидимыми гостями. Но со словом «чел» Славик столкнулся впервые.
Короткое, оно походило на шляпку от вбитого в стену гвоздя. И что-то в нем было задевающее за живое. Что-то физиологичное. Будто человек как вид дал генетический сбой, мутировал. Славика передернуло. «Все же правильно я сделал, что ушел… Это ж просто фабрика какая-то. Завод по производству… Ну их всех… Денег Левушка пришлет, Гоша обещал дешевую типографию найти, вот сами все и сделаем, вот и хорошо…»
Начинался час пик. Народу в метро было битком. «Душно-то как… И ехать через весь город…» – голова у Славика кружилась, он расстегнул пальто и снял шапку. Кто-то уступил ему место. К нему вплотную подступали люди, но рассмотреть их было возможно только на уровне животов, и Славик закрыл глаза. Стало легче, головокружение прекратилось. Он ехал и вспоминал одну свою поездку, предновогоднюю.
Тогда, накануне Нового года, в метро было много плачущих женщин.
Тридцатого числа он возвращался из библиотеки, из нового здания на Московском проспекте. Вагон попался полупустой, и рассмотреть можно было всех. Две женщины, одна напротив него, молодая, и другая постарше, сидевшая поодаль, наискосок, – плакали. Не навзрыд, конечно, и не явно. А так, как это бывает в общественных местах, где надо «соблюдать приличия»: смаргивая набежавшие слезы движением ресниц или быстро смахивая их рукой, не меняясь в лице, изо всех сил делая вид, что ничего не происходит.
На Невском он пересел на свою ветку, и опять увидел в вагоне плачущую женщину. Отчего это было? Может, обиды, копившиеся весь год, теперь, накануне праздника, в самом неподходящем месте прорвались слезами. Или от одиночества они плакали. Кто знает.
Эпизод этот забылся, а теперь Славик вдруг представил себе на месте плачущих женщин Сонечку, и затряс головой, и замычал, как от зубной боли.
Как же он мог быть таким грубым? Ведь эти ее бесконечные «а?» оказались, в конце концов, страхом не понять что-то с первого раза и тем самым вызвать его неудовольствие.
А смех, который действовал на него так раздражающе… Ведь сказала она однажды: «Ну, как ты не понимаешь, Славочка, это же от радости… Просто у меня все внутри радуется, когда ты рядом…»
Пустой и, как казалось ему, беспричинный Сонечкин смех был реакцией ее организма на него, на его присутствие, но он почему-то не понял этого. А что он, собственно, дал ей, он, всю жизнь рядовой сотрудник планового отдела, безынициативный, как говорили о нем начальники, когда речь шла о повышении в должности. Несколько поездок в Крым да в Прибалтику, еще по молодости. Потом щитовая хибара на шести сотках в захолустном пригороде. Свое постепенное отчуждение. Машинальное совместное существование… И вот теперь все закончились одним – чувством вины перед женой. И, главное, поправить что-либо было уже поздно!
Слезы душили Славика. Кто-то протянул ему валидол. Он всхлипнул, закрыл лицо шапкой.
Наконец, объявили его остановку.
На воздухе ему стало легче. Он решил не садиться в автобус, а пройти пару кварталов пешком, продышаться. Неподалеку от дома, между припаркованными машинами краем глаза он заметил какую-то возню и остановился.
Две вороны копошились на заледеневшем асфальте. Сначала Славик решил, что они клюют и раздирают когтями какую-то ветошь. И вдруг увидел повернутую в его сторону птичью голову, и черные блестящие глаза, которые смотрели прямо в его глаза.
– Ах вы… твари!
Славик топнул ногой, замахал на ворон Левушкиной папкой. Но те продолжали клевать третью, распластанную на асфальте ворону. Может быть, это была та, – самая счастливая на свете ворона, которая прошлой весной, не принимая его в расчет, самозабвенно купалась в растаявшем сугробе.
Славик оглянулся, ища, чем бы кинуть. Подобрал пустую пачку от сигарет, бросил. Вороны разинули клювы, каркая, отгоняя его. Они ничуть не испугались и продолжили дробить раскинутые крылья.
– Гадины, гадины! Убийцы!
Так громко он не кричал ни разу, в горле у него клокотало, он, как щит, прижал к груди папку, и шагнул в пространство между двумя машинами.
Вороны, огрызаясь, неохотно взлетели, устроились на ветке ближайшего дерева и стали ждать, когда Славик уйдет.
Славик погрозил им кулаком и склонился над птицей. Одно крыло у нее было перебито полностью. Перья пропитались кровью. Ворона не двигалась и черным блестящим глазом внимательно смотрела на Славика.
– Дедушка, да вы не волнуйтесь. Подержите мой портфель.
Мальчишка лет двенадцати снял с себя шарф, осторожно сложил птице крылья, обернул ее шарфом, поднял.
– Куда ж ты ее?
– Домой отнесу. На лоджии будет жить, пока не поправится. Только сначала к ветеринару надо. У метро есть лечебница. Вы со мной сходите? А то я и портфель и ворону не донесу.
– А родители разрешат?
– Разрешат. Они добрые. Я год назад собаку привел. И ничего. А летом черепаху. На газоне нашел. У нее в панцире дырка была, до самого мяса. Может, она с балкона свалилась? Только ветеринар дорого стоит. Если постоите тут с вороной, я сгоняю за деньгами.
– У меня есть, пойдем.
Ветеринар осмотрел птицу, скептически покачал головой, но лангету на сломанное крыло наложил и укол антибиотика сделал.
Славик проводил мальчика и пошел домой.
__________
Жена встречала его на лестничной площадке.
– Что же ты, Славочка, что же… Мы с Эмилией Абрамовной уже хотели на поиски отправляться.
– Да вот… день сегодня какой-то… Все сошлось. Одно к одному. Я расскажу, попозже.
Он оперся на руку жены и тяжело преодолел несколько последних ступенек.
Ужин был накрыт, но есть ему опять не хотелось. Он следил за тем, как легко движется по кухне Сонечка, разогревая, подкладывая, наливая…
Он пожевал котлету, ковырнул несколько раз пюре, чтобы только не огорчать ее. Сидел, рассказывал, что случилось за день. Про издательство рассказал, про ворону. Только про то, что утром видел жену на улице и шел за ней, не рассказал.
Сонечка расспрашивала о Нине, качала головой, удивлялась, сама рассказывала о том, чем занималась днем, и тоже молчала про свои утренние прогулки.
Не очень вникая в смысл того, что говорит жена, Славик радостно вслушивался в ее голос, мелодичный, девический голос бывшей телефонистки. «Барышня», так, когда-то давно, он в шутку обращался к ней, передразнивая абонентов.
Остаток вечера он провел за столом, перечитывая дневник Поляна, раскрывая на заложенных страницах книги, взятые у соседки, отыскивая что-то на карте.
Сонечка ушла спать, а он все сидел. Карандашом провел линию от Люблина к Белой Церкви, потом от Люблина к Парижу, оттуда к Ленинграду, и от Белой Церкви тоже к Ленинграду, а оттуда на северо-восток, к Ухте, этот последний город он очертил кружком.
Рука у него дрожала, линии вышли неровные, и сам рисунок получился странный, ни на что не похожий. И все-таки похожий. Славик отодвинулся, рассматривая. Понял: так изображают созвездия на звездных картах. Он лег грудью на стол, прижался к нему, обнял от края до края и закрыл глаза.
…Зимнее солнце играло на ружейных стволах, и овчарки отхаркивали куски белого пара. Смертельный холод забирал его все глубже и глубже, а потом холод кончился, и он почувствовал возле себя чье-то утешающее присутствие…
– …Славочка, да что же это… Ты же ледяной весь, замерз.
Он поднял голову:
– А что, хочешь сесть рядом?
Жена не поняла, стояла, испуганно вглядываясь в его лицо. Но вдруг поняла все сразу, попятилась, заплакала.
Он схватил ее руки, стал целовать их, тянуть к себе:
– Сонечка, прости меня, Сонечка, прости, прости, если сможешь…
Жизнь, которую он пропустил, вдруг случилась с ним в последние несколько месяцев, одномоментно. Здесь было всё: детство, война, любовь, стихи, странствия, гибель, гибель, и снова любовь…
Ему хотелось обнять Сонечку, он встал, зацепился за стул, упал, и остался лежать. Но это уже не имело никакого значения.


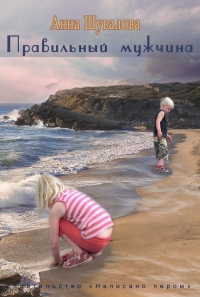






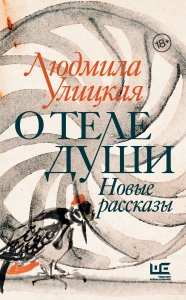



Комментарии к книге «Рисовать Бога», Наталия Евгеньевна Соколовская
Всего 0 комментариев