Симонетта Греджо Голыми руками
Посвящается Йамилет, Александре и Анне, замечательным женщинам, которых посчастливилось встретить моим братьям
Жюль не стал, как обычно, одергивать Джима: “Нет, только не она, Джим!” Он сказал: “Осторожней, Джим! Решайте сами, ты и она!” “Разумеется, осторожней, — подумал Джим. — Но чего опасаться?”
Анри-Пьер Роше Жюль и ДжимВ лошадях ему нравилось то же, что и в людях. Бурный ток крови, разжигавший неугасимый пожар. Он любил и почитал пламенные сердца и ощущал в себе загадочный и неукротимый порыв. Он твердо знал: как бы ни сложилась его жизнь, он всегда будет повиноваться этому властному неумолчному зову.
Кормак Маккарти Кони, кони…[1]В эту ночь — сколько их таких было? — я не сплю… Мысленно я возвращаюсь назад и снова думаю о нас, о том, что нам предстояло пережить и что мы пережили. Я пытаюсь понять, что заставило нас поступить так, как мы поступили. В какой момент жизнь дала нам шанс и почему мы им не воспользовались? Но изменить наш путь было бы равнозначно отречению от себя. Мы остались себе верны.
В день, когда все началось, — хотя правильней сказать “вернулось”, — мне даже в голову не могло прийти, что однажды вечером в моей берлоге, в моей норе, в этой деревянной избушке, вдруг кто-то ласково коснется моей щеки кончиками пальцев и это произведет эффект бомбы замедленного действия и не только изменит мое будущее, но и перевернет мое восприятие прошлого.
Это было в июне года четыре назад, если не больше. Точный день не помню, зато все остальное помню, как будто это было вчера, и теперь я этого уже никогда не забуду. Число — даже если по календарю начну искать — все равно не назову. Скажем так: это было в начале июня, потому что коровы начинают телиться в январе, а заканчивают в апреле, когда уже свежая трава пошла, — а та корова, к которой меня вызвали, как-то уж совсем припозднилась.
Когда я приехала на ферму, теленок успел высунуть передние ножки, но у коровы был узкий таз и она никак не могла разродиться. Кесарево делать было поздно, спасать новорожденного тоже. Я быстро сделала эмбриотомию. Глаза и щеки у меня щипало, я утирала пот плечом и локтем и вспоминала учителя с его густыми бровями, которые впитывали едкие капли. Мне ужасно не хватало его, когда случались подобные истории.
Дальше день протекал спокойно, но когда мне позвонил молодой животновод, в воздухе вдруг повеяло грозой. Одна из его молочных коров не вернулась на дойку. Мы нашли ее на лугу, она неподвижно лежала в траве и тяжело дышала. Я оставила фары включенными, чтобы что-то видеть, вставила катетер в яремную вену и ввела ей кардиотонический раствор с витамином С. Подняв глаза, я увидела, что в небе собираются черные тучи, озаряемые вспышками зарниц. Налетели первые порывы ветра, резкие, как будто кто-то в плечо толкал. Раствор струился медленно, капля за каплей. Я пошла к машине, взяла брезентовую накидку, вернувшись, протянула ее фермеру. Тот внимательно посмотрел на меня, и улыбка, первая за все время, озарила его лицо. У него были глубоко посаженные глаза, такие черные, что зрачков не видно. Щеки ввалились, рубаха и брюки болтались. Судя по всему, заботиться о нем было некому. Привычное одиночество сельских жителей. Пустыня.
Я ехала по спящему городку, когда пробило десять. Откинув верх машины, я полной грудью вдыхала влажный воздух, пахнущий молодыми платановыми листьями — терпкий запах, похожий на запах спермы. У меня было ощущение, что я одна в целом мире, от которого меня отделяет запотевшее ветровое стекло.
Домой я вернулась совершенно разбитая и, несмотря на голод, от которого сводило живот, мечтала только об одном: поскорее влезть под горячий душ, а потом — в кровать. Открывая ворота, я заметила в кухне свет. Уехала я утром, когда было еще темно, — наверно, забыла погасить. В голове, где-то позади глаз, пульсировала боль. Снова сев в машину, я прижалась затылком к подголовнику и стала массировать ладонями лицо, растирать пальцами виски. Когда выходила из машины, у меня вдруг захрустели колени. Одним словом, едва держалась на ногах.
Дверь оказалась незапертой. По телу пробежала волна адреналина — приблизительно то же ощущение, как если оступишься на лестнице и в последний момент уцепишься за поручни: еще миг — и полетела бы вверх тормашками. Из дома, из освещенной кухни, не доносилось ни звука, ни шороха.
Потом из глубины освещенного пространства, заслонив собою свет, возникла темная фигура и молча пошла на меня. Я едва успела сглотнуть, как кто-то заключил меня в объятия и сжал так, что я едва не задохнулась. Это был Джио.
***
Я сидела на ступеньках лестницы под залепленным скотчем стеклянным навесом, и коленки мои все еще дрожали, а гроза, висевшая в воздухе, по-прежнему готова была вот-вот разразиться, но медлила. Я следила за ним глазами: он встал, потянулся и пошел на кухню мне за сигаретой. Он был моего роста, тощий, с длинными руками и ногами, похожий на быстро выросшего молодого пса. Я стала заправлять в пучок выбившиеся пряди. Тут он вернулся, наклонился и вставил мне в губы сигарету, застав меня с беспомощно поднятыми руками — поза человека, который сдается. Он говорил, стоя передо мной и глядя на меня сверху вниз, разгоряченный и нервный, а я смотрела, как он открывает и закрывает рот, и мне казалось, что я вижу большую рыбу в аквариуме. Я не слышала, что он говорит, — я думала о тысяче разных вещей. О том, когда я его видела в последний раз. О его отце. О его матери. О своей матери — по странному сцеплению ассоциаций. Переведя дух, я попросила его начать все сначала. Он повторил последнюю фразу:
— А ты нисколько не изменилась, Эмма. Знаешь, ты в точности такая, какой я тебя запомнил.
Даже при том, что я ни на секунду ему не поверила, потому что вокруг моих глаз уже собрались морщинки, а в волосах поблескивали серебряные нити, я почувствовала, что он говорит искренне. Наверное, я действительно была для него той же самой Эммой, которой он заявил в три года: “Я буду любить тебя на всю жизнь”, той, кто мог заставить его выпить самую горькую микстуру и кто стриг ему ногти на ногах — эту процедуру он ненавидел больше всего на свете. Та самая Эмма, которой он на полном серьезе предложил подождать, пока он вырастет, чтобы пожениться. Я вспомнила, какой теплой волной меня окатило, когда я впервые взяла его на руки; вспомнила его карандаши, тетрадки, его надувные круги и игрушечные пожарные машины. Вспомнила, как, наигравшись, он засыпал у меня на груди, пуская слюни, засунув в рот большой палец. Все это промелькнуло в моем сознании, пока я сидела, выпрямившись, на крыльце, с гудящей головой, и смотрела на него. Линия рта, абрис виска, длинные стрелы бровей, прихотливый извив вихра на затылке — я знала их с закрытыми глазами. Я знала в нем все, знала изначально: даже его запах, даже манеру чуть раскачиваться, ожидая чего-то, и его затаенную веру в себя — без наглости, без вызова, — которую он получил в дар от добрых фей при рождении. Да и как я могла не знать его? Джованни соединил в себе двух человек, которых я когда-то любила, а потом потеряла и постаралась забыть, хотя у меня так ничего и не получилось. Я не видела его больше десяти лет, но в считаные секунды каждая черточка его лица, фигуры, рук воскресли в моем сознании так живо, как будто я все эти годы ни на минуту с ним не расставалась.
Только его басок был новым:
— Знаешь, Эммманюэль, ты имеешь полное право меня выгнать. Если ты не хочешь, чтобы я остался, скажи — я уйду.
Он помолчал, потом продолжал с ласковой насмешкой в голосе:
— Собственно, я могу уехать прямо сейчас. Чего проще: вызываем такси, я сажусь в поезд — вот и вся история. Но мне бы хотелось побыть хоть сегодняшний вечер. Я объясню тебе, зачем я приехал. А потом сделаю как ты скажешь. Какое бы решение ты ни приняла, я спорить не буду.
— Во-первых, не зови меня Эмманюэль. Теперь никто уже меня так не называет.
Он молчал. Я спросила:
— Как же ты меня нашел?
— Да проще простого. По нету. Ветеринаров по имени Эмма Адриансен не так уж много.
— А родителей ты предупредил? Они хоть знают, где ты?
Он мотнул головой.
— Ну что ж, — вздохнула я, — значит, звони теперь.
— Не сейчас, — заупрямился он. — Я голодный. Давай сначала съедим чего-нибудь.
— Ты позвонишь им даже не через минуту, а немедленно. А потом дашь трубку мне.
Он усмехнулся:
— Я ж говорил, ты все та же.
На нем были грубые башмаки, отрезанные по колено джинсы и футболка на несколько размеров больше, но при этом он выглядел вполне чистым и опрятным. А вот я была вся мятая, лохматая, одетая в какое-то старье, пропахшее навозом и лекарствами, и мне сделалось неловко. Не говоря больше ни слова, я отправилась принимать душ. Потом, завернувшись в банный халат, спустилась вниз, на кухню, где он громыхал посудой.
— Ты руки хоть вымыл?
— Слушай, Эмма, ты помнишь, сколько мне лет?
— Вот именно. Возраст катастроф.
Его длинные волосы задели меня по лицу, когда он садился рядом со мной за стол. Мимоходом я заметила татуировку — маленькую черную звездочку в ямке под затылком. Несколько минут он критически созерцал яичницу, потом снял очки в круглой металлической оправе и вытер их салфеткой. Прежде чем наброситься на еду, спросил:
— Что будем делать дальше?
***
Джио было несколько часов от роду, когда я увидела его впервые: крошечный человечек в руках своего отца, безволосая голова, широко раскрытые, еще ничего не видящие глаза, сжатые кулачки с малюсенькими, как зернышки риса, ноготками. В груди моей будто камень с места сдвинулся, из глаз потекли слезы, заливая щеки, рот, шею.
Рафаэль смущенно порылся в кармане и протянул мне скомканный носовой платок. Я бы предпочла, чтобы он обнял меня, утешил — но он отвел глаза.
Вечером того же дня, пока Миколь была еще в клинике, он зашел за мной и потащил праздновать рождение Джио. Всю ночь мы вдвоем бродили по кафе и барам и закончили празднование в каком-то мрачном бистро, куда не проникали лучи рассвета. В машине он меня поцеловал. Мы долго сидели обнявшись, отделенные от мира запотевшими стеклами, не обращая внимания на измятую одежду, на наши мокрые от пота лица. Казалось, мы сошли с ума. Он умолял, чтобы я простила его и вернулась. Никогда еще с тех пор, как Миколь вошла в нашу жизнь, с тех пор, как он меня бросил, он не говорил такого.
Наша с ним история закончилась в одну новогоднюю ночь, за три года до рождения Джио. Сама не знаю, как я выдержала этот удар. Просто сжала зубы и ушла, не успев распустить нюни. У меня не хватило тогда духу вернуться в свою мансарду. Первую ночь нового года я провела лежа рядом с больной мамой, прижавшись к ней и прислушиваясь к ее дыханию, к ровному и спокойному ритму ее сердца.
Мне понадобилось немало мужества, чтобы залечить раны и обуздать уязвленное самолюбие; мне пришлось просто заковать себя в броню, потому что, куда бы я ни пошла, я повсюду встречала их вместе. У нас были общие вкусы и пристрастия, общие друзья, мы ходили в одни и те же места — те же бары, те же кафе и рестораны. У нас был одинаковый распорядок дня, мы вообще вели приблизительно одинаковый образ жизни. Мало-помалу, сначала издалека, потом постепенно сужая круги, Миколь начала ко мне приближаться. Она была терпелива, настойчива и в конце концов меня приручила. Это было не слишком трудно — для меня в целом мире существовали только она и Рафаэль.
Наверно, благодаря молодости и определенной гибкости характера мне удавалось каким-то образом примирить любовь к Рафаэлю и восхищение, которое во мне вызывала Миколь.
Она была похожа на молодого спортсмена, никогда не знавшего поражений. Она была всем тем, чем я никогда не буду: Дэзи из “Великого Гэтсби” или Миколь из “Сада Финци-Контини”[2], которая бежит за теннисным мячом в диковинном, давно исчезнувшем парке. Вероятно, Рафаэль, как и я, был чувствителен к напористому очарованию тех, кому все легко дается. А может, ослепленный мужской жаждой обладания, он увидел в Миколь лишь грациозное создание с копной золотистых кудрей, или юркую ящерку с черными угольками глаз, или просто был зачарован ощущением, что встретил женщину, которая изменит его жизнь. Я, собственно, никогда не думала, что мы с Рафаэлем останемся вместе навсегда, я вообще об этом не думала, я просто его любила. У меня были любовники до него, были после — но с ним было ощущение, что он тот, кого я ждала, мой единственный, и я клялась ему в вечной любви. Он тоже мне клялся, и если бы Миколь не встала между нами, наша жизнь, наверно, сложилась бы иначе.
И вот теперь, почти двадцать лет спустя, ко мне в дом без предупреждения на ночь глядя вваливается их сын, жарит яичницу и спрашивает, что мы дальше будем делать, — а в воздухе висит первая в году гроза, и уже не терпится, чтобы она поскорей разразилась.
Некоторые события, от которых нас отделяют десятки лет, так живы в памяти, точно произошли только что. Какие-то минуты отпечатываются в памяти на всю жизнь. Сидя в темноте у открытого окна, завернувшись в старое одеяло и поставив перед собой стакан виски, я вспоминаю Париж восьмидесятых и квартал Марэ, черный, обшарпанный, сырой.
Какое-то время, довольно долго, Миколь, Рафаэль и я жили вместе в самом центре этого буржуазного района. Старинная квартира состояла из четырех больших залов с каминами и почерневшей кухни; потолки были высокие, полы — вытоптанные. Эту квартиру мы сняли у приятеля моих родителей, который сам тоже ее снимал, но уехал далеко и надолго. Это был оазис — последний оплот закона 48-го года “О найме жилья”, — достававшийся нам благодаря ходатайствам адвоката. На окнах красовались горшки с папирусом. Стенные проемы были заняты потускневшими старинными зеркалами, такими высокими, что закрадывалось подозрение — а может, их делали прямо здесь, в комнатах. Просторные камины, облицованные потрескавшимся мрамором, топились круглый год на полную катушку и остывали только в конце мая, когда на улице вот-вот должна была установиться жара.
Я окончательно бросила свою мансарду в Венсенском лесу и перестала ходить на занятия, когда случилась беда с мамой. На четыре ночи в неделю я устроилась работать в бар и большую часть времени проводила около мамы, снимая с отца бремя забот о ней и давая возможность передохнуть сиделке. Я старалась ни о чем не думать и принимала как есть странную атмосферу, в которой неожиданно оказалась. Наша совместная жизнь с Рафаэлем и Миколь сложилась как-то сама собой, и хотя каждый из них сохранил свою прежнюю квартиру, ужинать все собирались у меня, втроем или с друзьями, да и ночевали в основном тоже у меня.
Миколь была восхитительной избалованной блондинкой. Она была моложе нас с Рафаэлем, училась на факультете истории искусств и имела склонность ко всякого рода авантюрам. Наши комнаты напоминали палатки берберов — спали мы не на кроватях, а на матрасах, занимавших всю площадь пола. По утрам Рафаэль принимал душ, надевал белую рубашку и черный костюм и отправлялся на работу: строгий, сосредоточенный и педантичный. Зато ночью он преображался, становился собственной противоположностью: он был нежен, эксцентричен и исполнен вдохновения. Работал он в адвокатской конторе, специализировавшейся на защите прав человека.
Мы с Миколь вставали намного позже. Она сразу же забиралась с ногами в потертое кожаное кресло и пила чай. Я пила кофе. Завтраки наши длились бесконечно долго, за это время мы успевали выкурить первую пачку сигарет. Миколь любила надевать свитер с длинными рукавами, из-под которых виднелись лишь кончики пальцев, и шорты Рафаэля, доходившие ей до середины бедра; ее стриженые волосы кольцами вились на затылке и щекотали длинную шею. Мы были совершенно не похожи друг на друга, как будто принадлежали к разным биологическим видам. Она завораживала меня своим аристократизмом, жизнерадостной плотоядностью и веселым змеиным коварством. Своими чарами она пользовалась с простодушной жестокостью, нимало не заботясь о том, счастье сеет вокруг или страдание.
***
Расправившись с яичницей, Джио молча воззрился на меня. Я ковыряла вилкой в тарелке, едва притронувшись к содержимому. В конце концов я ее отодвинула и налила себе виски.
Джио так и не дал мне трубку, когда говорил с родителями. А я не настаивала и с облегчением отложила неприятный разговор на потом. Я чувствовала себя разбитой, выжатой, растерянной. Интересно, думала я, что может он знать о нашей истории и рассказывал ли ему кто о том, что было. Но кто мог рассказать? За исключением нас троих, никто ничего толком не знал, и я с трудом представляла себе, чтобы Рафаэль и Миколь поведали ему о наших странных отношениях. Наверно, в памяти Джио я осталась другом семьи, правда, другом с особыми полномочиями, разделившим с ним годы его младенчества и раннего детства. В общем-то, моя роль в его воспитании относилась по большей части к разряду семейных легенд. Кое-какие фотографии, любительские фильмы, отдельные комментарии. Я не решалась ни о чем спрашивать. И снова думала о времени, предшествовавшем его рождению, о том, что нам кажется столь эфемерным, но каким-то диковинным образом продолжает существовать.
В день свадьбы Миколь сверкала длинными ногами и худыми коленками, пряча округлый живот под кукольно-коротким белым платьицем, украшенным лебединым пухом. Она вышагивала на головокружительных каблуках и улыбалась кошачьей улыбкой с ямочками, вид у нее при этом был страшно глупый и невероятно сексуальный — она была похожа на куклу, наряженную каким-то чокнутым стилистом. А я сменила свои обычные джинсы, башмаки, ковбойку и кожаную куртку на штаны и тунику в индийском духе. Стоял конец апреля, было жутко жарко. (В Париже времена года сменяют друг друга не как положено — то вдруг накатит жара, то холод собачий, и город трясет как в лихорадке независимо от того, что там в календаре.) После роскошной и очень простой церемонии родственники разошлись, и вечеринка переросла в грандиозную тусовку. Кто-то предложил устроить пикник в парке Бют-Шомон.
Человек десять из ближайшего окружения вызвались раздобыть шампанское, пиццу и пончики, а также скатерти и одеяла. Мы пели, играли в прятки, ели, пили. Стемнело, возвращаться было неохота. И нас заперли в парке. Ночь была наполнена шепотами и звуками поцелуев, приглушенными смешками и тихими разговорами. Изредка в темноте раздавались резкие вскрики сов. Из парка мы выбрались только на рассвете: перелезли через решетку. Пьяные, с красными глазами и спутанными волосами, мы едва держались на ногах. Миколь растеряла свой лебединый пух, кукольное платьице позеленело от травы; она тащила за собой фату, к которой прицепился листик и несколько травинок. На руке у нее блестело новенькое обручальное кольцо, украшенное маленькими бриллиантами. Мы как-то очень сблизились в этот момент, прижались все друг к другу, как дети, купающиеся в одной тесной ванне.
Два месяца спустя на свет появился Джованни — легко и безболезненно, как съезжают с ледяной горки. А вечером того же дня его отец просил у меня прощения. Но прощения за что?
Джио спросил, можно ли ему доесть мою яичницу. Я подвинула к нему тарелку, а себе налила еще глоток и залпом выпила. Виски ударило мне в нос, из глаз брызнули слезы. Джио перестал жевать и посмотрел на меня, потом проглотил кусок и вытянул руку, чтобы коснуться моей, но я ее убрала.
Итальянка по происхождению, Симонетта Греджо живет во Франции и пишет на французском языке — по роману в год, пользуясь стремительно растущим успехом у читателей и у критики. “Голыми руками” — ее четвертая по счету книга. Парижанка Эмма, получив диплом ветеринара, уезжает в глухую провинцию. Днем она лечит животных на соседних фермах, принимает роды у коров и овец, а вечерами читает и наслаждается тишиной в своем домике на отшибе. Она не забыла пережитую в Париже драму, но научилась вспоминать о ней без боли. Жизнь Эммы течет одиноко, но спокойно — до того дня, когда к ней неожиданно приезжает пятнадцатилетний Джованни, сын человека, которого она за годы разлуки так и не смогла разлюбить.
***
Время идет до странности медленно, когда погружаешься в прошлое. Оглядываюсь на себя через годы: я похожа на русскую матрешку — самая маленькая, новехонькая, осталась где-то далеко, а последняя, самая большая, стоит пока, но краска на ней вся потрескалась. Ночи теперь прохладные, уже начинается осень. Я поплотнее заворачиваюсь в одеяло и зажигаю очередную сигарету.
На следующий день мы с Джио долго сидели на мостике около дома и разговаривали, свесив ноги над речкой, в которой струились по течению пряди водорослей. Вдруг над нами какой-то шелест. Подняли голову — зимородок: в отчаянном трепете крыльев слились в едином вихре синий, красный, зеленый, огонь и ртуть, — и тут же все исчезло.
Комары попрятались — их спугнул холодный ветер, принесший запах тины. Стрекозы продолжали носиться над водой, морща водную гладь. Потихоньку, играя в китайские тени, к нам подкралась темнота. Но мы были увлечены игрой в вопросы-ответы, этаким пинг-понгом, не менее утомительным для меня, чем детские “почему”. Было бы наивным полагать, что Джио импровизировал. Он все продумал заранее, наверно — в поезде, а может, еще раньше, до своего побега из дома.
— Я хочу бороться за будущее ради тех, кто придет после меня, во имя животных и растений и вообще во имя всего живого, что исчезнет однажды с лица земли.
Маленькая пауза, и снова:
— Знаешь, Эмма, я не боюсь говорить, что думаю и как все себе представляю, даже если надо мной будут смеяться за то, что я ничего не смыслю в экономике и в политике, а без них все мои заявления вроде как полная фигня. Но понимаешь, я считаю, что все гораздо проще, чем эти их рассуждения, которыми мне пытаются запудрить мозги. Надо дать людям то, чего им не хватает, — крышу над головой, пищу, образование, а животным вернуть то, что у них отобрали, — свободу. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, как делаются деньги. Обманом, спекуляцией на вооружении и на банках с газировкой в том числе. Для этого те, кому надо, специально развязывают войны. У меня нет готовых решений, но я не питаю ни малейшего уважения к тем, кто нами правит и кто должен предлагать выход из ситуации. Эти люди врут как дышат, а остальные делают вид, что верят им.
Я заметила, что его трясет после этой долгой тирады, но вид у него был тем не менее довольный. Я помолчала некоторое время, потом спросила:
— Ты говорил об этом со своими родителями?
— Не понимаю, причем тут мои родители.
— Вообще-то говоря, они за тебя в ответе, мой дорогой, — напомнила я. — И потом, они далеко не идиоты и могли бы тебе помочь… Что случилось? Чего ты смеешься?
— Сразу видно, что ты давно с ними не общалась.
— Что ты имеешь в виду?
— Сколько лет назад ты уехала? Когда родились близняшки?
— Что-то в этом духе.
— Хм! Ты бы их, наверно, не узнала.
Джио поймал на лету мошку, кружившую у него перед носом, потом раскрыл ладонь и выпустил. Я отважилась задать вопрос, который меня мучил:
— Они тебе про меня рассказывали?
— А с какой бы стати я сюда, по-твоему, приехал?
— И что же они рассказывали?
— Мне лично — ничего. Между собой говорили. Думали, я их не слушаю. Взрослые, очевидно, полагают, что дети глухие.
Мы долго молчали. Тонкий золотистый месяц застрял в ветвях черного дерева. Джио поднял глаза к небу, как бы прикидывая, сколько еще надо времени, чтобы меня убедить. Потом снял очки, протер стекла штаниной шорт и пробурчал:
— Как можно жить в мире, если ты не принимаешь то, что в нем происходит?
— Тебе только четырнадцать лет, Джио.
— Скоро пятнадцать. Но это ничего не меняет.
— На мой взгляд, ты поступил глупо. Ведь родители не разрешили тебе остаться. Ты и сам это прекрасно знал, еще до того, как позвонил им вчера вечером. Сейчас ты должен быть уже дома.
— Знаю… — вздохнул он. — Но, видишь ли, в школу мне только в сентябре, а ехать с ними в Тоскану я больше не хочу. Уж лучше автостопом на Аляску…
— Что ты имеешь против Тосканы?
— Пенаты бабушки с дедушкой. Ты ведь их знаешь? Ну слышала хотя бы?
— …
— Представь себе огромную виллу, обнесенную высоченными стенами так, что даже лучик не проникает. А все для того, чтобы не повредить старинные гобелены, которыми сплошь завешаны стены. Прислуга вся с иголочки, ну прямо семейка Адамсов… Продолжать?
— …
— Партии в бридж: с утра до вечера. Все друг с другом на “вы”. Званые ужины на террасе. Нас с сестрами туда приглашают, чтобы показать гостям, как собачек. Бабуля вместо Who is Who? “Божественную комедию” листает: только тех в гости зовет, чьи имена там упоминаются.
— Понятно. Это явно не ты придумал.
— Это мама по телефону кому-то сказала, но, ей-богу, это правда! А ты еще не знаешь, что такое партии в гольф с соседскими барышнями! Да они на площадке как коровы на балу! Ё-моё! Честное слово, я когда туда приезжаю, у меня только одно желание: свинтить куда-нибудь и в халупе-развалюхе поселиться!
— Пожалуйста, не выражайся так, это неприлично. А кстати, что ты собираешься делать на Аляске — охотиться на оленей и питаться ягелем? Довольно-таки, скажем, экстремальное решение, не говоря уже о том, что ты несовершеннолетний.
— Это самая большая глупость, которую я когда-либо слышал.
— Пусть так. Но ведь существуют законы.
— А я попытаюсь их обойти, эти твои законы.
— Красиво. Только они не мои.
— А у меня что, есть выход?
— Выход есть всегда.
— Не для моего возраста, старушка.
— Не называй меня старушкой.
— А ты не делай из меня идиота. Я тебя очень прошу.
При том, что я не стремилась выяснить, что он про меня слышал, я все же поняла, почему он приехал именно ко мне. Я, как и Джио, считаю, что насилие влечет за собой новое насилие и любая грубость по отношению к живому существу, человеку ли, животному ли, возвращается к нам бумерангом. Так или иначе, описание семейных каникул меня позабавило. Я представила себе Рафаэля, отказавшегося от своих якобинских замашек ради светских церемоний и целующего ручки маркизам со вполне бергмановским воодушевлением. Я не стала делиться с Джио этими мыслями, потому что меня куда больше занимала вторая ночь, которую он собирался провести под моей крышей, хотя родители ему строго-настрого наказали вернуться. Надо заметить, его непокорность и строптивость меня восхищали.
Мы не торопясь вернулись в дом, с хлюпаньем проваливаясь в шуршащую траву мокрыми от росы ногами.
***
На колокольне пробило два. Несколько секунд спустя издалека ответила другая колокольня. В зеркале отражается женщина с длинными, собранными в узел волосами, большая медная кровать, смятая постель, серые занавески на окне, за ними — чернота. Сон не идет. Наверно, с какого-то возраста время начинает давить вдвое сильнее, а у ночей включается обратный отсчет. Смотрю на себя в зеркале — размытое отражение той, кем я теперь стала. И снова думаю о нас троих — Рафаэле, Миколь и о себе самой. Все произошло как-то очень быстро. А я-то думала, что времени впереди хоть отбавляй.
Вспоминаю, каким стал Джио: нетерпение в глазах, нетерпение и доверчивость.
Его приезд положил конец долгому периоду спокойствия, длившемуся много лет. Я жаждала справедливости, была равнодушна к власти, мало заботилась о деньгах, свободу предпочитала любви, в красоте и природе искала утешения — и, потеряв все, приобрела знание кое-каких надежных истин — иных, чем та, которую называют Истиной с большой буквы, ради которой убивают и идут на смерть. Моя жизнь была похожа на меня самое. Я жила в ладу с собой и думала, что так теперь будет всегда. Я не знала того, что знаю теперь. А если б и знала, что бы это изменило?
После нашего разговора на мостике я вернулась в кухню мыть посуду, а Джио пошел спать. Лампочка над раковиной образовывала вокруг светящуюся полусферу, остальная часть кухни тонула в темноте. Сунув руки в мыльную воду, я осознала, что мною владеют противоречивые чувства: мне было очень тревожно и вместе с тем как-то весело. Со двора доносились крики ночных птиц, изредка где-то что-то шевелилось — то домашняя мышь прошмыгнет, то полевка в траве прошуршит. В кухне было тепло, стопкой стояли вымытые тарелки, стекали перевернутые стаканы. Я вышла на крыльцо и села на ступеньках покурить. Днем мне некогда, руки вечно в грязи, в соломе, в крови, ну и так далее, зато по вечерам или ночью наверстываю упущенное. Выкурив несколько сигарет, я вернулась в дом. Несмотря на усталость, уходить не хотелось, и все те же странные чувства боролись во мне: досада, тревога и какая-то странная веселость.
У комнаты Джио я остановилась: он заснул, оставив дверь открытой, свалив свои вещи на пол около кровати. Я колебалась лишь мгновение. Тысячу раз в кино я видела эту сцену, только на моем месте обычно бывают мужчины — они тихо входят в комнату спящей девушки и смотрят на нее.
Заложив одну руку за голову, другую вытянув вдоль тела, Джио раскинулся, голый, поперек кровати. Скомканное одеяло лежало рядом, подушка валялась на полу. На лице, склоненном к плечу, вырисовывался гребень орлиного, с горбинкой, носа — как у отца, — из тени выступал овал еще ни разу не бритой щеки, бархатистой и одновременно шероховатой, как наждачная бумага. Приоткрытые губы, пухлые и причудливо изогнутые, были в точности как у матери. На белизне простыни вырисовывались две длинные ноги, раскинутые в разные стороны, — прямые и крепкие ноги подростка, обожающего лыжи, бег и футбол. На икрах и лодыжках угадывалась первая поросль, в то время как остальное тело, без единого волоска, еще сохраняло трогательную бесполость. Длинные ступни свешивались над полом. У Джио были правильные черты, без асимметрии, которая отличала Рафаэля и делала его похожим на фавна, белая кожа Миколь и ее же карие глаза. И все же особое очарование хрупкого равновесия между детством и взрослостью принадлежало только этому мальчику. Как будто почувствовав мой взгляд, он, не просыпаясь, ухватил край одеяла, натянул его на себя и повернулся на бок, ко мне спиной.
Я никогда не была святой — ни сейчас, ни тогда. Моя личная жизнь в силу обстоятельств постоянством и регулярностью не отличалась, она тяготела то к распущенности, то к аскезе. Но даже если мой образ жизни давал мне физическую и моральную свободу, для женщин непривычную, то упрекать себя мне было, собственно говоря, не в чем. Кроме того, моя точка зрения на эту сферу была и остается нетрадиционной: я полагаю, что если бы женщины, чтобы рожать детей, должны были, как мужчины, испытывать оргазм, мир был бы не так густо населен. В моем самодостаточном одиночестве если мне чего и не хватало, так это прикосновения мужских рук — хотя, впрочем, не так уж часто это случалось.
Будь у меня возможность, я, пожалуй, удовлетворилась бы платными сексуальными услугами, но коль скоро ничего подобного не было и в помине, я выходила из положения как могла. До тридцати лет мне нравился секс, потому что я любила мужчин. Потом все стало наоборот: я терпела мужчин, потому что обнаружила, что люблю секс. Несколько месяцев кряду я могла жить, не думая об этом, затем на меня нападал сексуальный голод; я устраивала себе выходные и уезжала в какой-нибудь городок, где никто меня не знал. Там я ходила по сомнительным барам, пила вино и ждала, что будет. Спокойствие я обретала, проведя “нелегальную” ночь в объятиях случайного любовника. Сомнительное у меня было утешение: закрыв глаза, я всегда произносила одно и то же мужское имя.
Затем я старалась поскорее стереть все из памяти. Пару раз о моих загулах узнали в моих краях, но слухи быстро иссякли за недостатком подтверждений. Мне казалось, что фермеры и скотоводы ценят то, что действительно важно: мою добросовестность в работе. Я мчалась к ним по первому зову, у меня не было ни мужа, ни детей, чтобы отвлекать меня от врачевания животных. Больше десяти лет я работала без отпуска и даже по воскресеньям не брала выходных. Остальное их не касалось — так я думала.
Но и в этом мне суждено было разочароваться.
***
В суде мне задали вопрос, на который я не смогла ответить. Меня спросили, как, по моему мнению, — Джио ребенок или нет. Я молчала, не зная, что сказать. Если бы меня спросили сегодня, я бы ответила “да”. Да, это еще ребенок, но он уже мужчина, и даже немного старик — так иногда случается, что люди стариками рождаются и стариками умирают. Или не перестают быть детьми. Это, как правило, очень цельные натуры. Вот, к примеру, д’Оревильи, мой учитель. Или моя бабушка по отцовской линии — она умерла, упав с дерева, когда воровала у соседей абрикосы. Ей шел восемьдесят второй год.
— Я завтрак приготовил! С этими… как их… с тостами…. Только они в тостере малость того… перестояли.
Джио был свежий, после душа, в красных пижамных штанах — шелковых, но с обтрепанными штанинами — на голое тело и с кухонной лопаткой в руке. На столе стояли сковорода с жареным беконом, чайник и корзинка с подгорелыми тостами.
— Ну что, малыш? Как спалось?
— Дрых как сурок. Какая у нас на сегодня программа?
Я толкнула входную дверь, ничего не ответив. Я не пью по утрам чай, не ем тостов. Я выпиваю две чашки черного кофе, читая старую газету. И все это делаю молча.
Джио включил радио и стал пить чай с горелыми тостами. Я не слышала, как он подошел. Обернувшись, я столкнулась с ним. Он удержал меня за руку:
— Я не “малыш”, Эмма. Меня зовут Джованни.
Мы стояли так близко, что черт его было не различить. В уголке рта у него прилипла крошка. Мне хотелось ее стряхнуть, но я удержалась и высвободила руку:
— У тебя пальцы липкие. Теперь все будет в меду.
— Как же есть мед, не перемазавшись?
Я смотрела на него, пока он мыл руки. Спина худая, волосы разделены прямым пробором, во впадине под затылком черная звезда, на пояснице пушок. Он вышел из кухни и вернулся с посудой, поставил ее в раковину и включил воду, открыв кран на полную. Повсюду полетели брызги.
Я уменьшила струю:
— Тебе не нужно так много воды. Она тут дорого стоит.
Он тряхнул головой и пробурчал:
— Старая зануда.
Я пошла к себе наверх, унося чашку кофе.
В то утро я еще не пришла в себя после короткого беспокойного сна и некоторое время лежала в постели, слушая, как шумит ветер в листве и плещется вода в речке. Летом по шумам я легко узнаю, который час. В четыре еще темно и тихо. В пять начинают подавать голос первые птицы. Потом — взрыв птичьих трелей. Окно было открыто, свет проникал сквозь занавески, едва колышимые потоком воздуха. Мне было больно глотать, саднило горло. Под душем закружилась голова. Меня знобило. Медленные, почти приятные судороги пробегали по позвоночнику. И без градусника было понятно, что температура ползет вверх.
Когда я снова спустилась в кухню, Джио все еще ходил полуголый и расставлял по местам посуду. Я позвала его, он подошел с виноватым видом. Я вдруг забыла на мгновение, что собиралась сказать, и спросила, когда это он успел так вырасти. Сразу или постепенно?
— Шестнадцать сантиметров за один прошлый год, — с гордостью заявил он.
Я продолжала удерживать его рядом с собой и в замешательстве пыталась вспомнить, что хотела сказать. Наконец я вспомнила и открыла было рот, но он меня перебил:
— Понятно, мне пора сматываться. Ты меня выгоняешь?
Отводя глаза в сторону, я кивнула. Он изобразил протяжный театральный вздох и сказал, что ему надо позвонить домой. Я ответила, что он знает, где телефон. Он осторожно высвободился и, не глядя на меня и не оборачиваясь, пошел звонить.
***
Свою профессию я выбрала в знак протеста. Совершенно не переношу вида страданий, особенно если это касается беспомощных существ. Решив стать ветеринаром, я ничего еще не знала ни о себе, ни о мире, но инстинкты, вернее, предчувствия, в этом возрасте могут быть удивительно точными. К десятилетию папа подарил мне большую черепаху. Ее голова как у старой облысевшей дамы, выпученные, с косым разрезом глаза и добродушно-дьявольская ухмылка приводили меня в восторг. Я садилась перед ней на корточки и наблюдала, как она жует свой салатный лист. Я знала, в каких тенистых уголках она любит прятаться, замирая, глядя в одну точку, как будто прислушиваясь к звукам из другого мира. Однажды, когда у нас шли строительные работы, черепаха увязла в свежезалитом бетоне. Вытянув шею, она долго и отчаянно барахталась в быстро затвердевающей массе. Следы агонии застыли в бетоне концентрическими кругами. Я пришла слишком поздно. Не зная, чем ей помочь, я просто свернулась клубочком на крыльце и даже не стала никого звать на помощь — знала, что это бесполезно. Зато с детской горячностью и непреклонностью раз и навсегда решила посвятить свою жизнь животным.
Всем, что я знаю и умею в своей профессии, я обязана Тома д’Оревильи — я имею в виду не сами знания, но как их применять на практике. Он научил меня не доверять тому, в чем я уверена, и всякий раз пересматривать вещи, в которых давно перестала сомневаться. Не поддаваться настроениям, что, мол, “раньше лучше было”, признать, что санитарное положение в мире улучшилось и что наличие огромного количества фармацевтических фабрик — и ведь все прибыльные! — ведет к равенству. Благодаря ему я поняла, что все меняется, все пребывает в развитии. Надо просто научиться ждать.
Согласно его теории, наша с ним работа опиралась на четыре основополагающих принципа: знать — уметь — делать — объяснять.
***
Понтарлье, вечер, ноябрь. Ежась под пронизывающим до костей ветром, я чувствовала себя одинокой, потерянной, нелепой. На перроне остался только старик, он глядел на меня, крутя кончики длинных усов. Это был месье д’Оревильи. Он долго молча изучал меня, и недоумение его росло. Я почти слышала его мысли: “И на что она мне, черт побери? Вобла какая-то, кожа да кости”.
Мы обменялись рукопожатием, понуро глядя друг на друга. Его рука была сухая и узловатая. Мне хотелось спросить, не родственник ли он автора “Дьявольских ликов”[3], но я не могла вспомнить, действительно ли писателя так звали или это псевдоним. Мы молча двинулись к его машине. Я тащила свой чемодан и дорожную сумку, он теребил пожелтевшие концы усов. Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. Атмосфера была мрачнее некуда. И холод собачий.
Это было только начало.
В декабре на моих глазах убило человека. В тот день была метель: ветер достигал неслыханной силы, срывал одежду, беспощадно впивался в тело. На краю дороги, ведущей к хлеву, укрывшись под сосной, нас ждал фермер. Вдруг ледяной шквал тряхнул дерево, и вся лавина снега рухнула с веток на человека, засыпав его с головой. Когда мы с учителем его откопали, он был уже мертвый: ему проломило череп.
А весной я увидела двух окоченевших серн. Они висели на елке на высоте двух метров у меня над головой, как будто привязанные к сучьям. Сколько я ни крутилась вокруг, я не могла понять, как они туда попали. Учитель объяснил, что эти животные любят глодать кору, становясь на задние ноги, чтобы дотянуться мордой как можно выше. Ветки ели, опущенные под тяжестью снега, неожиданно поднялись, увлекая за собой серн. Потом снег растаял, а серны так и остались висеть где-то наверху.
Зимние месяцы были суровыми, таких холодов я в жизни не видывала. Приходилось накручивать на себя всю одежду, какая есть. В коровнике я истекала потом, а на улице дрожала от холода. Весной же на наш унылый городок и окрестные горы, черные, неприступные и прекрасные, обрушились косые ливни.
Пока я училась, Тома д’Оревильи не отходил от меня ни на шаг. Я с головой окунулась в работу, она отнимала у меня все силы. Вскоре я страстно привязалась к моему наставнику. Это был врач старой закалки, нутром чувствующий, где у бессловесного животного гнездится боль. Он умел понимать живых тварей; из всех стонов и криков умел вычленить именно тот, что подсказывал безошибочный диагноз. Чужая боль вызывала у него мгновенное сострадание, он был участлив к мукам своих подопечных. Несмотря на ласковые руки и добрые глаза, когда требовалось, д’Оревильи умел без колебаний и дрожи оборвать жизнь — так поступал бы Ангел Смерти, если бы Бог существовал и питал к нам хоть немного жалости. Я сопровождала учителя повсюду, больше учась на его примере, чем с его слов. Я привыкла превозмогать усталость, не обращать внимания на погоду, а главное — я научилась слушать. В этом мире, где все кричат, уже никто никого не слушает. Это был первый урок д’Оревильи. Уметь выделить из гула один-единственный голос и прислушаться к тому, что он говорит. Он не уточнял, что надо делать дальше, но я с легкостью понимала его скупые объяснения. Я и сама от природы не болтлива, так что мы были под стать друг другу — учитель и ученица.
Зима пролетела быстро. Мыслями я нечасто возвращалась к моей предыдущей жизни. Когда вдруг вспоминались Рафаэль, Миколь, Джио и малышки, я гнала эти воспоминания. Только на дни рождения и на Рождество посылала коротенькие открытки. Я никому не оставила ни адреса, ни телефона, чтобы ничто не связывало меня с прошлым. Для меня было облегчением жить среди людей, которые меня не знали и которым я не давала повода сблизиться со мной. Мне даже стало казаться, что я совершенно выздоровела, сбросила с себя бремя унижений и собственной ничтожности, залечила раны последних лет. В тридцать два года еще не поздно начать все с начала. Мне доставлял удовольствие мой новый статус, не менее значительный, чем статус доктора, потому что здесь, в горах, животные не менее важны, чем люди, иногда даже важнее. Я училась. Кроме того, я снова начала вести дневник, к чему подтолкнул меня д’Оревильи. Его собственные записки были полной противоположностью его наружности: аккуратные, изящные страницы, исписанные четким почерком с наклоном вправо, — такое благородство письма было сродни военным донесениям былых времен.
Сначала, рассказывал учитель, он записывал только события дня, потом как-то незаметно соскользнул к размышлениям о мире, людях, о жизни вообще. Одно время он даже думал опубликовать свои тетрадки под названием “Записки сельского ветеринара”, но потом отказался от этой идеи, потому что никто, кроме него, не в состоянии в них разобраться. Так, во всяком случае, выходило по его рассказам. Я же заметила, что сквозь его размышления проскальзывает слишком много деталей личного порядка и горечь, которую я, может быть ошибочно, объясняла себе несчастной любовью.
Как и д’Оревильи, я постоянно носила в сумке дневник и сборник стихов или роман. Они помогали мне коротать время, когда долгими ночами я дежурила в каком-нибудь коровнике, овчарне или конюшне. Нам с ним нравились одни и те же поэты — Верлен, Рембо, Аполлинер и классики, которых учитель знал наизусть. Но были среди них и Рене Шар, и Элюар, и Рильке. Д’Оревильи шутливо пожурил меня, когда я призналась в любви к Джеку Лондону, хотя при этом разделял мое пристрастие к “Уолдену” Генри Дэвида Торо. Мы даже читали друг другу вслух целые страницы.
Однажды, когда я сидела за рулем его пикапа (учитель отдал мне ключи в первый же день с таким видом, будто гору с плеч свалил) и мы по булыжникам, по скользкому гравию и крутым горным виражам катили к черту на рога, в какое-то неведомое захолустье, где нас ждали триста голов скота и пятьдесят человеческих душ, мой наставник поинтересовался, как так вышло, что я, в моем уже не самом юном возрасте, прохожу первую в своей жизни практику. Я уклонилась от ответа. Учитель вернулся к этой теме окольным путем.
— Знаешь, Эмма, когда я начинал, — сказал он, — в этой профессии было не больше четырех десятков женщин. А домашних животных было серединка на половинку — вернее, нет, три четверти сельских животных на четверть домашних, городских. После войны кошек-собак как-то не жаловали. Заводили только полезных — коров, лошадей, овец, кур… Вообще, когда мы учились, мы проходили более шестидесяти разных видов подковки. Теперь все это бесконечно устарело. Потом, в шестидесятые годы, из шести тысяч ветеринаров на страну вдруг откуда-то набралось восемьдесят женщин. Собственно, это было что-то вроде процентной нормы… Кстати, знаешь, что в мое время говорили про тех, кто заваливал экзамен?
— Да, по-моему, это такая вечная шутка… Не станут ветеринарами — станут врачами, не пропадут. Верно?
— Ну да… Что касается женщин, то их число вдруг скакнуло вверх. В восемьдесят четвертом их стало уже двести десять. А знаешь, куда они потом все подевались?
— ..?
— Замуж все повыходили. В основном за ветеринаров.
— Серьезно? И сколько же?
— Сто сорок пять.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что женщина сама себе враг.
Тем временем мы почти приехали. Я надеялась, что на этом он остановится, но он продолжал:
— Почему у тебя до сих пор нет своего кабинета, своей практики? Что у тебя произошло? Откуда ты взялась? Почему в твоем возрасте ты торчишь со мной?
— Действительно, почему?
Я прибегла к своей обычной уловке — стала закалывать волосы и уклонилась от ответа. Потом сказала:
— А что, собственно, плохого в том, чтобы выйти за ветеринара?
— Что же ты сама не вышла?
— Ну, потому что ни один из этих желторотых птенцов не мог сравниться с вами в плане мужского обаяния, дорогой шеф, — отшутилась я. И, перейдя на серьезный тон, добавила: — Знаете, что я на самом деле по этому поводу думаю? Мне кажется, что женщин, отказывающихся от самостоятельной карьеры ради того, чтобы быть ассистенткой или медсестрой у собственного мужа, становится все меньше. Когда-то, наверно, это было принято, но теперь уже нет. Столько вкалывать, чтобы выучиться, — и все зря? Я согласна, что среди молодых специалистов мало кто жаждет целый день возиться в крови и в грязи, но делать из этого такие глобальные выводы…
Он оторвал глаза от дороги, в уголках его рта пряталась улыбка.
— А теперь, наверно, последует панегирик в адрес женщин, у которых хватает мужества ступить на эту нелегкую стезю, хотя она, увы, ведет их к одиночеству… Или я ошибаюсь? Есть еще кое-что, чего ты не знаешь, девочка. В этой замечательной профессии процент самоубийств — один из самых высоких. Делай из этого сама какие хочешь выводы.
Я слишком разволновалась, чтобы отвечать. Он воспользовался моим замешательством и добавил:
— Ты знаешь, кто такая мадам Клод?
— Ну так, смутно… Известная владелица агентства девушек по вызову, кажется.
— Совершенно верно. Однажды какой-то журналист заметил ей, что ее девочки, несмотря на их хваленую элегантность, хорошее воспитание и широту взглядов, на самом деле жадные, корыстные создания. И бросают потом свое ремесло, чтобы выйти замуж за какого-нибудь промышленного магната или голубых кровей рантье. Знаешь, что мадам Клод ему ответила?
— М-м?
— Что женщины выходят замуж за тех, с кем имеют дело. Если бы к ее девочкам ходили слесари или каменщики, они бы и выходили за слесарей и каменщиков…
— Похоже, вы женоненавистник. И мизантроп в придачу.
— Ты недалека от истины, — вздохнул он. — Но возможно, это просто усталость.
***
Я очень хорошо помню день, когда учителю стало плохо. Стиснув зубы и тяжело дыша, он схватился за грудь и стал расстегивать верхние пуговицы рубашки. Пот стекал на его косматые брови, он раздраженно вытирал лоб. Я не стала ничего спрашивать, я вообще старалась на него не смотреть. Нам обоим было удобнее вести себя так, будто ничего не происходит. На следующий день ему стало лучше. Потом я забыла этот эпизод.
Весна плавно перетекала в лето. Спала я мало, по пять-шесть часов в сутки. Учитель обещал, что с июня работы поубавится, период родов кончится и можно будет немного передохнуть. Я побаивалась свободного времени, которое маячило впереди. Д’Оревильи становился мне все ближе — насколько это было возможно с таким сумасшедшим стариком, ревниво оберегавшим свое одиночество. Он цитировал Рильке: “Молю друзей чтить одиночество мое”, Сартра, рассказывал о том, как он начинал, о своей первой машине, “ситроэне” с кузовом седан, у которой было спереди два сиденья, а задние он убрал — там путешествовало медицинское оборудование и аптечка. Потом у него был “пежо-203”, совсем новенький, двери открывались задом наперед, а ремней безопасности, разумеется, еще не было в помине. Он показал мне у себя в кабинете свою старую фотографию: одна нога опирается на задний бампер автомобиля, рукава рубашки засучены и обнажают крепкие, как стволы деревьев, руки; могучая грудь, темная косматая шевелюра, голубые глаза и однобокая улыбка на упрямом, насмешливом лице. Я спросила, сколько юных дев попалось в его сети. Он ответил на удивление серьезно, что дев и в самом деле попалось немало, но подходящей — ни одной, и поменял тему разговора.
Сегодня, когда я вспоминаю его любимую шутку, она мне кажется такой же нелепой, как тогда, но если в то время я находила ее дурацкой, сегодня я вижу в ней зерно истины, которого тогда не замечала. Время от времени, с плотоядным оскалом, учитель повторял один и тот же вопрос, как детям рассказывают одну и ту же сказку: “Как ты думаешь, почему женщины смотрят порнофильмы до конца?”
Предполагалось, что я должна возмутиться, ответить, что женщины вообще не смотрят порнофильмы, тем более до конца, но всякий раз, как только я разевала рот, он обрывал меня, сам отвечая на заданный вопрос: “Чтобы узнать, поженятся ли герои в конце фильма”.
Если его анекдоты повергали меня в уныние, то всякие научные истории или случаи из жизни, наоборот, приводили в восторг. Я с нетерпением ждала его рассказов. Он объяснял, как делать глистогонное из папоротника, как заставить лошадь проглотить рвотный порошок или как однажды он оказался в совершенно темном хлеву, где фермер, потеряв сознание, упал на свиноматку. Или как однажды некая нетерпеливая подружка не захотела ждать, пока он примет душ, и блохи запрыгали с него к ней на кровать. Иногда мы вместе покатывались со смеху, словно были ровесниками и не знали в жизни никаких забот.
Однажды утром я долго напрасно ждала, сидя в кафе около его дома, где мы обычно встречались. Ночью его увезли на “скорой”. Я нашла его в палате маленькой городской больницы: он лежал, мертвенно-бледный, одного цвета со стенами и простынями, и ладони его были раскрыты, как во сне. В искусственном сне. Я осталась сидеть подле его кровати и провела так много часов, пустых и безрадостных. Смеркалось, а он все не просыпался. Когда розовый луч проник в палату, я прижала большой палец к запястью учителя: под кожей бился пульс. Это запястье напомнило мне лепестки увядшего цветка, и тут на меня накатило такое безысходное ощущение одиночества — его одиночества, моего… Потом вдруг он сжал пальцы и медленно их разжал, бессознательно ища мою руку. “Нужно побыть подле умирающего, посидеть подле мертвого, в комнате, отворенным окном ловящей уличный шум”[4]. Строчки Рильке. Когда-то мы вместе их читали.
На исходе ночи явилась медсестра и заставила меня уйти.
Назавтра было воскресенье, заняться нечем. Я пошла бродить по лесу: мне хотелось измотать себя, чтобы ни о чем не думать. После нескольких часов ходьбы я пришла к озеру Сен-Пуэн, темно-синему бриллианту в оправе зеленой листвы. Я разделась до трусов — во всей округе не было ни одной живой души — и погрузилась в воду, холодную, как горный ручей. Я старалась плыть как можно быстрее, чтобы согреться, и неожиданно вылезла на подобие островка. Я легла погреться на солнышке и задремала. Когда я проснулась, небо было затянуто плотным пологом туч, готовых вот-вот пролиться дождем. От берега меня отделяло несколько саженей, но преодолеть их оказалось настоящей мукой. Я почувствовала себя вдруг такой усталой, что подумала: вот бы не доплыть, пусть меня несет течением, сил нет бороться. Потом я, конечно, сама на себя разозлилась. Я была как алкоголик, который решил завязать, а сам с вожделением принюхивается к стопке водки.
Вечером в больнице мне сказали, что состояние господина д’Оревильи не улучшилось и что к нему нельзя. Никому! Да к нему никто, кроме меня, и не ходит! На обратном пути я встала на обочине, не могла вести машину: слезы застили глаза. Я уронила голову на руль и горько расплакалась. Я рыдала над собой — над собственной покинутостью и беспомощностью, над ним — над его одиночеством, которое он так ревниво оберегал, точно это было благо, а не проклятие. Я боялась того, что надвигалось. Без учителя я не знала, куда себя деть, и мужество покинуло меня. Я не хотела, не могла оставаться в тех местах одна, тем более осенью, которая практически уже началась, и зимой — а она тоже была не за горами. На что мне все эти размороженные пиццы среди ночи, и традиционный раклет по субботним вечерам, и походы на лыжах в выходные — без учителя все это не имело никакого смысла. Кругом только горы, одичавшие от одиночества лесорубы, женатый нотариус и обремененный семьей городской врач — все это было не мое, чужое. Я держалась только потому, что д’Оревильи был рядом, поддерживал меня, направлял и учил ремеслу с поистине ангельским терпением.
Прошло несколько недель, и его наконец выписали. Теперь мы знали, что отмеренное нам время истекло. Провожая меня на вокзал, он даже не пытался скрыть своего отчаяния. Пожелал мне счастливого пути, а потом повернулся и пошел прочь, не дожидаясь, пока придет поезд. А я осталась стоять на перроне, зачем-то подняв руки, напрасно ожидая, что он оглянется помахать мне напоследок.
***
Из-за осенней сырости пол у меня под ногами словно ожил. Выхожу босиком в сад, и низ брюк мгновенно становится мокрым от инея. На плечах — толстый плед, но я все равно дрожу. Несколько звезд еще блестят сквозь листву высокого дуба, по небу несутся клочья разорванных облаков. Между деревьев покачивается гамак — кусок ткани, выцветший от солнца и дождей, когда-то красный; он сопровождает меня повсюду. И почему какие-то вещи проходят вместе с нами через все наши злоключения и потери? То, что мы дольше всего храним и чем пользуемся, вовсе не то, чем мы больше всего дорожим.
Я поднимаюсь в спальню, неся в руках чашку горячего кофе, засунув под мышку плед. Ступеньки скрипят у меня под ногами, дом тихонько покряхтывает, точно человек, которого потревожили во сне, но так и не разбудили.
Вопреки моим опасениям, год, который я провела в обществе д’Оревильи, закалил меня. Страх столкнуться с трудностями профессии вскоре улетучился. Меня удивляло собственное нетерпение попробовать свои силы, ринуться в бой, применить на деле то, чему я научилась. И все ожидающие впереди трудности, включая одиночество, вдруг показались не такими уж страшными. Во мне невесть откуда взялись силы, какое-то неожиданное упрямство, которое меня окрыляло, опьяняло.
Дом, где я поселилась на следующие десять лет, назывался “Лувьер” — “Волчье логово”. Мне понравилось и название и адрес — дорога Каналь-де-Мулен (“Мельничный канал”), — когда вместе с неистощимым на предложения агентом по недвижимости я колесила по округе в поисках пристанища. Я выбрала край с мягким климатом, где весна была весной, лето — летом, где осени были долгими, а зимы — щадящими.
Дом мгновенно напомнил мне родительское гнездо — он казался основательным, надежным. Каким-то настоящим. Еще мне понравилось, что до ближайших соседей три километра. Дом стоял в конце дороги, спрятавшись от глаз за старинными дубами на берегу кишащей рыбой речушки.
Это была старая и крепкая каменная постройка, устоявшая под натиском времени, уродливая на вид, но удобная для жизни, сплошь увитая диким виноградом. Единственным украшением дома был кокетливый навес с разбитыми стеклами, которые надо было, конечно, поменять. Мою обитель окружал пустырь, заросший папоротником, колючим кустарником и бурьяном. Я расчистила только дорожку от ворот до гаража. В первое же лето я подвесила к нижним ветвям дуба красный гамак, в котором спала, когда ночи были особенно душными. В этот просторный гамак, покачивающийся на ветру, я заворачивалась целиком, точно в кокон; это было единственное, что я привнесла нового в заброшенный сад, где по весне оживала буйная растительность, высыхавшая к концу лета и умиравшая с пришествием зимы. Когда ветер ломал на деревьях сучья, я не подбирала их. Постепенно они обрастали мягким мхом и уходили в землю. Смена времен года сама заботилась о моих владениях.
Этот дом стал моим логовом. В нем начали скапливаться книги. Раз в три месяца я получала длинные письма от учителя: он терпеть не мог говорить по телефону и не умел пользоваться компьютером. Время текло незаметно: четыре письма — год долой. Всего таких писем на этот адрес мне пришло сорок.
Все свободное время я читала. Лучшая часть моей библиотеки включала классиков от Достоевского до Пруста, Музиля и Джойса. Часть более современная, живая и беспорядочная, являла собой ворох триллеров, старых американских детективов и изданий французской черной серии. Придя домой и чего-нибудь перехватив, я заваливалась с книжкой на диван в гостиной. Случалось, я там засыпала и просыпалась потом среди ночи с отпечатком книжного корешка на щеке. Я вставала, в полубессознательном состоянии поднималась по лестнице и кое-как добиралась до кровати, разбрасывая по дороге одежду. Мне казалось, что у меня больше нет прошлого, а будущее раз и навсегда определено. Что касается настоящего, я старалась о нем не думать: просто вставала утром, принимала душ и к вечеру падала в кровать, едва живая от усталости.
В сущности, это были мои golden days[5]. Я совершала многочасовые походы, чтобы добраться до хижины, примостившейся на высокогорном лугу; вскакивала ночью, чтобы мчаться по вызову к захворавшей корове, которая кружила на месте и мычала на звезды. Я с удовольствием сознавала, что у меня правильный захват, когда я помогаю самке разродиться. Случалось и залепить оплеуху какому-нибудь напористому фермеру, а потом как ни в чем не бывало распивать с ним кофе на кухне и по его смущенно-виноватому виду понимать, что снискала уважение не только как специалист, но и как женщина. Начинать каждый день все заново, не спрашивая себя зачем и лишь смутно сознавая, что то, что я делаю, правильно, и что я приношу пользу, и что мир становится хоть немного лучше оттого, что я нахожу в себе силы держаться, и так день за днем. И еще — ничего не бояться. Бутафорский револьвер, живший у меня на ночном столике, напоминал мне, что я одинокая женщина и, в принципе, все может приключиться.
Но ничего не приключалось. Прошли годы, и я выздоровела, раны мои зарубцевались. Я чувствовала себя неуязвимой, непобедимой. Правда, невозможно бесконечно обманывать память, от судьбы все равно, как известно, не уйдешь.
***
Наутро Джио уехал. Убедившись, что у него достаточно денег, чтобы добраться до Парижа, я отвезла его на вокзал, разобиженного и надутого, а потом отправилась навестить Анни.
Оставив джип в долине, я долго шла пешком. Не переставало моросить, но чем выше я поднималась, тем легче и прозрачнее становился воздух. Проходя по лугу, на котором паслись грациозные коровы с коротким выменем, я поскользнулась на коровьей лепешке и шлепнулась. Мои штаны оказались все в навозе, пришлось их снять и застирать в первом же ледяном горном ручье.
К полудню я добралась до фермы. Если б у меня было больше свободного времени, а Анни не была такой замкнутой, мы бы, наверно, подружились. Эта высокая женщина с черными волосами и обветренной смуглой кожей, сухая и поджарая, была для всех загадкой. Фермершей она стала в тридцать восемь лет, бросив карьеру в рекламе: приехала жить в горы, обзавелась стадом коз. Ей хватило нескольких месяцев, чтобы, поработав бок о бок с пастухом, овладеть азами нового ремесла. Никто так и не узнал, почему она это сделала.
Когда одна из ее коз заболевает, она лечит ее, как умеет, своими руками. Если вылечить не удается, она ее режет — тоже своими прекрасными загрубевшими руками. Она закоренелая нелюдимка, и к ней непросто найти подход. Анни почти не обращается ко мне за помощью. Сегодня, как это нередко бывает, я отправилась ее навестить, не дожидаясь, пока она меня позовет. После первого моего визита я решила, что не хочу брать с нее денег. Мы выяснили этот вопрос раз и навсегда и больше к этому не возвращались.
В доме у нее нет ничего лишнего: только кровать да шкаф, а в кухне — стол и два стула. При этом у нее есть сотовый телефон и ноутбук, работающий на солнечных батареях.
День мы провели, обихаживая ее стадо. Каждая была погружена в свои мысли. Я помогала ей чистить копыта животных, подхвативших грибок, который, если с ним не бороться, может поразить все стадо.
Ближе к вечеру мы пообедали жареной козлятиной с пряностями, деревенским хлебом, который я принесла, соленым маслом и крепким чаем. Глядя, как она режет хлеб, левой рукой прижимая его к животу, а правой орудуя ножом, направленным к себе, я подумала: и когда только она успела этому научиться? Это жест не из прежней ее жизни.
Как-то незаметно снова заморосило. В доме было уютно, гудела печка. С горы доносились привычные звуки. Я могла бы, как всегда, когда я к ней прихожу, наслаждаться несмолкающей тишиной природы и безмятежным покоем, но меня не покидало чувство горечи. Я оставила Джио в зале ожидания на скамейке, его сумка лежала рядом. На прощание я поцеловала его в макушку. И тут вдруг меня как иглой пронзило воспоминание: его младенческий родничок, еще пульсирующий, нежная кожица головы и первые шелковистые волосики.
Тут Анни решила со мной заговорить. С тех пор как мы друг друга знаем, она никогда ничего о себе не рассказывала, и уж тем более я никогда не слышала, чтобы она на что-нибудь жаловалась.
— Иногда все же трудно бывает.
Держа двумя руками пиалу с чаем, я кивнула в знак того, что слушаю. Она вздохнула:
— Одиноко не бывает никогда… А тебе?
Я молчала.
— Но иногда хочется, чтобы рядом был кто-то, с кем можно парой слов перекинуться. Поделиться.
Я снова кивнула.
— А то все время одно и то же в голове прокручиваешь. Варишься в собственном соку. Бывают дни, от старых мыслей некуда деться. И так же больно, как раньше.
Мы снова помолчали.
— Понимаешь, это был странный человек. Очень обаятельный. Можно сказать, обворожительный. Не будь он таким обворожительным, ничего бы и не было. Он всегда уходил, но потом, правда, возвращался. Такой живой, такой щедрый, когда был со мной, что я все ему прощала — исчезновения, вранье… все.
Несколько смутившись, я встала и пошла взглянуть, что делается снаружи. Она продолжала:
— Все вокруг знали, что он лжет, и все прощали.
Прошло несколько минут. Она налила мне еще чаю, потом себе. Я тихо спросила:
— А все — это кто?
Она продолжала, будто не слыша моих слов:
— Все. Это была ложь человека, который всегда и всем говорит “да”. И уж тем более женщинам.
Я отважилась еще на один вопрос:
— А что между вами произошло? Он бросил тебя?
— Да нет. Я знала, что у него есть другая женщина, и даже ребенок, но все равно не могла его прогнать. А потом он умер. Когда был у нее. Разрыв аневризмы. Идеальная смерть. Мне никто ничего не сообщил, потому что он вел параллельно две разные жизни, и никто не знал о моем существовании: ни она, ни его друзья. А я продолжала его ждать. И уже все, разумеется, в голове перебрала: и что он меня бросил, и что погиб. Страшнее всего была эта неизвестность, незнание. Весть о его смерти пришла через некоторое время, заказным письмом: это оказалась страховка, которую он оформил на мое имя, ничего мне не сказав. Тогда я решила все бросить. И вот я здесь.
Она замолчала, на этот раз надолго. Потом добавила:
— Странная вещь. Сначала я думала, что не переживу. Потом вообще перестала что-либо чувствовать. Абсолютная пустота. А теперь бывают дни, когда мне хуже, чем вначале. Я живу по тому же расписанию, что когда-то: подъем, завтрак, дела… Я сделалась фетишисткой. Могу ночь напролет не спать и все вспоминать подробности какого-нибудь вечера. Какое на мне было платье. Какая на нем была рубашка… И кто только придумал, что время лечит?
Дождь прекратился. Все теперь сверкало каплями: мох, камни, ветки сосен. Утесы лоснились от влаги. Из долины доносился перезвон колоколов. Блеяли козы; сторожевой пес, не желавший заходить в дом, пока я там, лаял за порогом. Я снова села к огню, но Анни не сказала больше ни слова. Она достала бутылку виски, и мы молча выпили, наблюдая через открытую дверь, как сгущаются сумерки.
Я попросила у нее аспирин и разрешения заночевать. Боль в горле, начавшаяся еще утром, усилилась, температура полезла вверх. Кроме того, я не находила в себе сил вернуться домой. Мне было хорошо знакомо состояние, о котором говорила Анни. Сколько бы времени ни прошло, боль жжет так же, как вначале.
На следующее утро она пошарила в сундуке и извлекла оттуда великолепный круглый сыр и нож с рукояткой из оливкового дерева: мне в подарок.
Остаток дня я дотянула уже с трудом, в воздухе висела мелкая изморось, она проникала повсюду, сковывала суставы, не давала продохнуть. Куртка воняла тухлятиной. Меня тошнило, лицо опухло, глаза стали как у китайца. Температура не снижалась, и, несмотря на промозглую сырость, мне было жарко. В голове все перемешалось: осмотры животных, беседы с фермерами, скверный кофе. Закончив дела, я вернулась к себе. Меня ждал пустой дом, запертый и хмурый; на кухне царили чистота и порядок; дверь комнаты, где спал Джио, осталась открытой. Прожитый день был похож на все предыдущие, а все последующие дни будут, по всей вероятности, такими же, как этот, — так думала я с грустью и облегчением. Я поднялась в спальню, сбрасывая по дороге одежду, и, уже раздетая, забралась под одеяло. И хотя от меня дурно пахло, на душ у меня уже не было сил. В голове все закружилось, замелькало, и водоворот потянул меня на дно.
Перед тем как впасть в забытье, я вдруг осознала свою трусость: я же не позвонила ни Миколь, ни Рафаэлю. Но почему, собственно, я должна им звонить? Ведь история с бегством Джио уже как-то сама собой разрешилась, мне не хотелось ничего больше об этом знать, не хотелось влезать в их дела.
Я ничего им не должна, они мне тоже. Ну и что, если ветер случайно раздул старые тлеющие угли? Мы стали так далеки, что нас ничто не могло бы соединить вновь. Во всяком случае, мне этого хотелось меньше всего на свете. Но если бы я была не так слепа и глуха, то заметила бы, что реальность отличается от моих представлений о ней и что мы по-прежнему связаны явными и неявными узами. Так толстые канаты состоят из множества тонких перекрученных веревок, и даже если они долго лежат под водой и гниют, то все равно не распадаются. Мне казалось, что эти два дня и две ночи, проведенные рядом с Джио, быстро перейдут в разряд воспоминаний — с некоторым ароматом неожиданности и легкого сожаления. Проваливаясь в беспамятство сна и болезненного жара, я увидела короткий сон: по мутному льду скользят люди, они столпились вокруг зияющей дыры — лед проломился и несколько человек ушли под воду; все суетятся, пытаясь вытащить утопленников, и тела видны сквозь толщу льда, но достать их невозможно.
На этом месте сознание окончательно покинуло меня, больше я ничего не помню.
***
Если бы я выиграла в лотерею много денег, очень много денег, то все равно ничего не изменила бы в своей жизни. Я не переселилась бы в другой дом и даже не стала бы покупать новую машину. Впрочем, это мне не грозит, потому что я никогда не играю в лотерею.
Более того, мне даже не хочется избавиться от морщин, снова выглядеть как в двадцать лет. Опять стать молодой? Зачем? Чтобы ковылять по Парижу на высоченных шпильках с глазами на мокром месте? Нет, морщины — это мои шрамы, пусть они остаются. Я не хочу делать вид, что ничего не было. Мое время принадлежит мне, как и морщины. Конечно, они мне не нравятся, и я вовсе не считаю, что пятьдесят лет — лучший период в жизни. Впрочем, пятидесяти мне еще нет. Только сорок семь. У меня еще три года в запасе, мне еще рано считать себя старухой, хотя и поздно — молодой.
Я провалялась в жару три дня. Сны мешались с явью, из прошлого в сумасшедшем вихре выплывали тени. Дождь кончился, в комнату заглянуло солнце. Я часами смотрела, как в его лучах танцуют пылинки. По ночам кричали совы: сначала длинный и протяжный зов самца, затем в ответ — целый каскад вскриков самок. Иногда по крыше легко пробегала ласка. Пищали мыши. Под напором ветра шелестела листва. Я вставала, шла вниз вскипятить воду, выдавливала в чашку лимон, бросала аспирин. Несколько раз принимался звонить телефон, но я не снимала трубку. И снова ложилась, закутавшись в старый халат. У меня не было сил сменить постельное белье, принять душ или хотя бы съесть что-нибудь. Меня трясло, потом бросало в жар, я покрывалась горячим потом, который вскоре становился ледяным.
На четвертый день вернулся Джио.
Держа в руках чашку с чаем, он сел на кровать. В вечернем свете сквозь белую ткань рубашки, тонкой, как крылышко мотылька, я различала контуры его плеч. Ворот был распахнут, рукава засучены. Я узнала горький и чувственный запах его туалетной воды. Он поставил на пол чашку, которую я не взяла, подошел к окну (я не закрывала его все эти дни) и задернул шторы.
Потом расстегнул рубашку и стащил ее, высвободив сначала одну руку, потом другую. Скинул башмаки, разбросав их в разные стороны. Расстегнул джинсы. Я и пикнуть не успела, как он лег со мной рядом.
Он обхватил меня и прижал к себе. Я боялась шевельнуться. Так мы и лежали, не говоря ни слова. Он был свежий, крепкий, я — горячая и потная. Вспомнилось, какое это было счастье держать его на руках, когда он был маленьким. И когда он засыпал, прильнув ко мне, меня захлестывала волна счастья. Мало-помалу я перестала дрожать, и мы, так и не проронив ни звука, заснули. Странная это была ночь: несколько раз я внезапно просыпалась, но тут же засыпала снова. И нежная: даже во сне он не выпускал меня из объятий. Как же давно я не спала рядом с кем-нибудь, кого люблю.
На этот раз он приехал с согласия родителей, вырвав у них разрешение в ходе бурных переговоров. Впрочем, он был не совсем честен, потому что моего разрешения он даже не спрашивал. Все это я узнала позже. Чуть позже, но все же слишком поздно.
***
Мне хочется найти свою фотографию, где мне двадцать пять. Не то чтобы она была очень удачной, не в этом дело, но резкий свет и сильный морской ветер подчеркивают сдерживаемую горячность молодой женщины, которая стоит, прижав руки к телу, точно сложенные крылья. На ней шорты и верх от купальника (два хлопчатобумажных треугольника — вся ее броня); на загорелых ногах — кроссовки, коленки расцарапаны.
Мне кажется, если я увижу эту фотографию, то пойму, какой я была и что со мной происходило. Пойму, почему принимала какие-то решения, что меня так ранило и почему я возомнила себя сильной. Почему отвергала всякую помощь. Если б я нашла это фото и увидела свое тогдашнее лицо, возможно, я бы примирилась с собой той. И смогла бы простить себя теперешнюю за то, что не утешила ту, не оживила ее сердце, не починила, как старую поломанную куклу. Я могла бы рассказать ей, чему я за это время научилась. Рассказать, что сила родителей, безграничная, пока ты мал, оказывается эфемерной, когда ты особенно на нее рассчитываешь. Что детство кончается в один миг. И еще, что если хочешь кого-то удержать, нельзя разжимать руки.
Мне было двадцать пять, я была старше всех на курсе. В тот момент, когда была сделана фотография, я как раз придумала себе тему для диплома. Она звучала так: “Ветеринар и эвтаназия: домашние и сельскохозяйственные животные”. Я презирала своих сокурсников, папенькиных сыночков, за то, что, учась, они могли не работать. Что касается меня, то я дважды откладывала вступительные экзамены в Ветеринарный институт: не хватало денег, хотя родители изо всех сил меня поддерживали. Для папы это было делом чести. Сам он каждый день спозаранку отправлялся на вокзал, страшно гордясь тем, что работает машинистом. Он втайне страдал оттого, что мама отказалась от карьеры концертирующей пианистки и всю жизнь просидела дома, давая частные уроки. Он надеялся, что я возьму реванш.
Мои родители были любопытной парой: папа происходил из простой семьи и этим почти кичился; мамины корни уходили в историю обедневшего дворянского рода. Они много спорили вначале, не сходясь во взглядах, пока не нашли точку соприкосновения в некоей форме анархизма, который именовали толерантностью. На самом деле это было просто безразличие по отношению к обществу, которое они оба не принимали. Их будни были наполнены маленькими трогательными знаками внимания друг к другу, взаимной заботой и нежными взглядами. Семейная жизнь удалась, но, как бы я их ни любила, моделью для подражания они для меня стать не могли. Мама была слишком строга, в штыки воспринимала каждый промах; папа, напротив, слишком мягок. Они не оставляли меня в покое: “Ты очень мало ешь, посмотри, в чем только душа держится”, “Ты чересчур легко одета”, “Ты слишком много развлекаешься, ты много пьешь, ты слишком много куришь” — я не знала, куда от них деваться.
В мае я свалилась с жутким гриппом и долго не могла выкарабкаться. Помню, в какой-то день из последних сил доползла до родителей, забилась в бывшую свою комнату, рухнула на кровать и заснула мертвым сном под сонаты, которые потихоньку наигрывала мама. Проснулась я двенадцать часов спустя и на столике около кровати обнаружила серебряный поднос, а на нем — чашку черного кофе. Я жила в тот раз у родителей, пока не выздоровела, и даже дольше. Меня холили и лелеяли. Десять дней каникул.
Потом я сняла недорогую мансарду в районе Венсенского зоопарка, и жизнь моя изменилась. До этого я ютилась в студенческом общежитии. Непросто это было: я с трудом переносила тесное соседство однокашников, к тому же круглосуточное. Теперь достаточно было перейти через Сену, и я оказывалась в одиночестве. Моим официальным местом жительства оставался родительский дом — безликое строение, густо увитое плющом, приобретенное в конце 50-х на скромное мамино наследство. Вокруг дома был сад, шум Парижа долетал туда как будто издалека. Я любила этот дом детской любовью. Могла часами сидеть у окна в гостиной и смотреть в пустоту. Тень качающейся ветки, болтающаяся по ветру плеть плюща — мне хватало их, чтобы замереть в прострации и ощутить покой и умиротворение, освобождавшие меня на время от всех забот и от себя самой. С тех пор во мне развилась способность абстрагироваться ото всего, что меня окружает, и открываться навстречу крошечному неожиданному счастью. Возможно, именно поэтому впоследствии я никогда не впадала в уныние. В любой момент я могла погрузиться в этот отстраненный мир и услышать, как мама играет “Гольдберг-вариации”.
Дом, мой дом. Эти уютные будничные слова всегда остаются для меня воплощением старого и строгого ухоженного жилища, тысячу раз ремонтированного, стоящего на окраине города, как на берегу моря или на краю пустыни. Остров, оазис, прибежище, которое я ношу внутри себя.
Я встаю, потягиваюсь. Мои шаги глухо звучат в пустой комнате. В окно врывается наполненная жизнью ночь, несущая тонкий аромат недавно опавших листьев и терпкий запах мокрого торфа.
Снова сажусь на корточки, накрывшись пледом, точно вождь краснокожих у огня, только вместо трубки — зажженная сигарета.
Я опять вспоминаю то лето, когда мне было двадцать пять. За мной стал ухаживать длинноволосый юноша с темными глазами. Впервые я увидела его в кафе, куда он приходил вместе с группой других студентов-юристов, и они часами о чем-то спорили. Однажды он повысил голос: кто-то из друзей позволил себе насмешку, назвал его большевиком и недобитым коммунистом. Так я узнала его имя: Рафаэль.
Потом была наша первая встреча у меня в мансарде: раскаленный воздух, струи холодной воды, брызжущие из душа и сулящие немного свежести. Он подошел неожиданно, одетую втолкнул меня под струю, сам встал рядом. Дальше — долгий и нежный поцелуй, который все длился, не кончался. Я хотела высвободиться, поскользнулась. Он подхватил меня, не дал упасть. Свет померк, все окутал черный бархат. Он встал передо мной на колени, расстегнул на мне молнию, спустил джинсы до середины бедер. Я не помогала ему, не сопротивлялась. Он попросил поднять одну ногу, другую, стянул с меня мокрые штаны, бросил их в сторону. Я замерла и не двигалась. Он встал, стащил с себя джинсы и плавки. Я открыла глаза: взгляд мой упал на его воздетый пенис, опушенный черным руном, кожа вокруг была белая, выше шел загорелый живот, мокрая майка, прилипшая к груди, мокрые черные кудри, змеящиеся вокруг лица, пылающие щеки и впившийся в меня горящий взгляд. Я увидела себя его глазами: рубашка облепила грудь с четко проступившими темными бугорками, скрещенные руки заслоняют мокрые трусики — он не стал их снимать, он продолжал целовать меня, а потом взял мои ладони и положил на ту часть своего тела, которая была устремлена ко мне. Он ласкал себя моими пальцами, как будто я была лишь орудием. Я снова закрыла глаза. В этот момент он повернул меня к стенке, отодвинул тонкую ткань трусиков и вошел в меня. Щекой я прижималась к прохладной плитке. Все продолжалось так долго, что у меня начали дрожать колени. Мы опустились на дно душевой кабинки, я села на него верхом и увидела тысячи белых слепящих звезд, сыпавшихся на меня, жгущих меня. Я снова закрыла глаза, и мы дошли до конца.
На следующий день мне позвонил папа и сказал, что мама оступилась и упала. Она разбила голову. Оказывается, в последние месяцы она не раз уже теряла сознание.
Мой мир пошатнулся и начал разваливаться — сначала медленно, потом все быстрее, пока окончательно не рухнул и система моих ценностей не разлетелась вдребезги.
Подсознательная память гораздо прочнее памяти осознанной, которую можно стереть в один миг. Подсознательное живет почти до самого конца, помогая совершать привычные движения, например ездить на велосипеде, когда все остальное, вплоть до собственного имени, уже погрузилось в темноту. И если пальцы все еще помнят, как застегивать и расстегивать пуговицы, то сознание все равно гаснет, от старого страха остается смутный испуг, от боли — только слезы, причину которых найти уже невозможно. От детства остается неясная тоска по чему-то, которая может заставить вас вдруг сделать что-нибудь несуразное, например сесть на тротуар, когда вам уже за пятьдесят. А от потерь остается ощущение незащищенности, беспомощности.
Шли недели, мама все время жаловалась на слабость и на головокружения. Она говорила, что чувствует себя как на корабле во время качки. Кроме того, ее преследовали запахи: то протухшие яйца, то белые цветы, то жавель или горелая древесина. Мы водили ее по врачам, делали всякие обследования.
Все это время мама играла без остановки: Лист, Моцарт, Сати, Бах… Однажды утром она встала, надела черное концертное платье с блестками и снова села за рояль; она играла до боли в пальцах и после каждого номера вставала и раскланивалась. Папа взял отпуск. Я нашла дневную работу в кафе, кроме того, четыре вечера в неделю работала в ночном баре.
Потом — это было в тот же год, в ноябре — папа позвонил мне утром и сказал, что мама пропала. Мы искали ее двое суток. Нашли на кладбище Пер-Лашез, где она, в ночной рубашке, спала у подножия памятника Шопену. Ее доставили домой, и мы наняли сиделку. Но сиделка оказалась не нужна, потому что теперь мама спозаранку усаживалась перед инструментом, опустив голову и свесив руки, и так сидела дни напролет.
Тридцать первого декабря, перед тем как идти с Рафаэлем праздновать Новый год, я зашла ее навестить. От нее приятно и привычно пахло ландышевым мылом и кремом для рук. Чудные пепельные волосы были, как всегда, заплетены в косу и закручены в пучок, вот только пробор был не на месте. Я расплела маме косу и причесала ее как надо. Папа сидел у камина и читал газету. Он сказал, что предыдущие дни прошли благополучно. Лечение давало результаты, от новых лекарств маме становилось лучше, она снова начала улыбаться и даже смеяться. Ее смех — вот чего нам с отцом больше всего не хватало с того момента, как она заболела. Нам очень хотелось верить в счастливый исход, но в глаза друг другу мы смотреть не решались.
В такси Рафаэль сжал мое лицо ладонями и прошептал: “Я от тебя просто с ума схожу”. Присутствие шофера смущало меня, хотя он, казалось, был сосредоточен на том, как объехать пробки.
На вечеринке Рафаэль, сидя рядом, мурлыкал мне на ухо слова какой-то песни, когда в дверях возникла фигура девушки. Она держала в руках пальто и обводила присутствующих внимательным взглядом, будто кого-то искала. С десяток человек танцевали, кто-то целовался, остальные хохотали, не выпуская из рук бокалы. Взгляд девушки остановился на Рафаэле. Я увидела, как он изменился в лице, отстранился от меня, взял свой бокал и встал с места. В ушах у меня зашумело — этот звук был похож на треск шелка, который вспарывают острием клинка.
Очень хочу найти ту старую фотографию — ее сделал Рафаэль во время каникул. По вечерам, когда пляж пустел, мы с ним валялись на теплом песке и рассказывали друг другу свою жизнь. Он мог часами говорить о своих мечтах и планах. А я могла часами его слушать. Ночью мы купались, потом снова целовались, и где-то нас ждала прохладная свежая постель. Случалась, я кричала от наслаждения, тогда он зажимал мне рот ладонью, склонялся надо мной, умолял успокоиться, как будто я кричала от боли, баюкал, пока я не приходила в себя. И только когда я окончательно успокаивалась, он снова принимался меня целовать, жестокий и ласковый одновременно, страстный и вместе с тем рассудительный. Если бы не эта ловкость в делах любовных, может, я и простила бы ему, что он меня бросил. Не обладай он этим талантом, я бы легко его забыла.
Может, это фото до сих пор валяется где-нибудь среди моего хлама, а может, кануло в небытие во время бесчисленных переездов. Может, я найду его однажды на дне какой-нибудь коробки или в страницах книжки, но мне именно сейчас не терпится его увидеть и вернуться на мгновение в тело этой девушки, такое гладкое и ладное, и снова ощутить в себе ее слепую отвагу, нетронутость несчастьем и злом. Ее бесстрашие, дерзость, доверие к судьбе.
Я должна объяснить этой девочке, что если любишь, то за свою любовь надо бороться, ее надо защищать от нее же самой и от других. Что мужчины — трусы, хлюпики и идиоты. Что они пойдут за той, которая сильнее, и если даже поймут, что ошиблись, слабость и самолюбие не позволят им вернуться.
Больше всего мне хотелось бы увидеть глаза этой девочки. Ее упрямый, горящий взгляд. Обжигающий жар этих глаз, напоминающий спичку, сгорающую в черном стекле.
***
Комната по-прежнему погружена во мрак. Темный призрак кошки скребется в дверь, просит, чтобы впустили. Я открываю, призрак входит, прыгает на кровать, начинает урчать. Я тянусь за новой сигаретой, но пачка пуста. Надо идти вниз за другой пачкой, снова варить кофе, бросить еще льда в мой согревшийся стакан с виски. Но я не двигаюсь, я сижу в кресле у кровати, завернувшись в плед, и вспоминаю все, что было, и ночь никак не кончается.
Наутро после возвращения Джио у нас не было времени ни поговорить, ни обсудить что-либо. На рассвете меня срочно вызвали на конный завод в пятидесяти километрах от дома: их штатный ветеринар был в отпуске. Десять минут спустя мы уже сидели в машине. Между нами стоял термос с кофе, в руках у меня был апельсин. Переключая передачи, я вгрызалась в его мякоть, по подбородку и рукам тек сок, руль стал весь липкий, но это был мой обычный утренний ритуал — кофе, на ходу съедаемый апельсин; я за рулем, светает, первый луч вот-вот пробьется сквозь ветровое стекло, и над полями поднимется пар.
Джио молчал, это было спокойное молчание, не подразумевавшее никаких вопросов. Как будто все заранее обговорено и решено, а остальное не имеет значения. После четырехдневной передышки я чувствовала себя окрепшей. Все остальное, разумеется, могло и подождать.
К счастью, ветеринар я хороший. Я жалею животных и при этом тверда, я осторожна, но не боязлива. К быкам я подхожу с безоглядной беспечностью, с лошадьми, правда, не столь самоуверенна. Даже рядом с крошечным пони я чувствую себя неловкой неумехой. Лошади непредсказуемы, на мой взгляд. Они мгновенно чувствуют мою робость и пользуются этим. Однажды какой-то жеребец-производитель зажал меня в угол своего стойла и так наподдал мордой, что я едва не потеряла сознание. Искры из глаз — это вовсе не идиома, это реальность. А потом, как ни в чем не бывало, он подставил мне шею, прядая навостренными ушами, подрагивая кожей и кося темным, как вода в колодце, блестящим глазом. Я не могла удержаться, чтобы не погладить его ноздри.
Это соединение красоты, непредсказуемости и угрозы всегда было для меня воплощением опасности.
Когда мы приехали на завод, нас встретили два конюха. Они повели нас мимо каких-то строений. Навстречу неслось ржание элитных лошадей. На денниках можно было прочесть их имена: Нежная Ночь, Сорри Энджел, Лунный Свет, Роза Марена.
Вскоре мы добрались до аккуратного, просторного денника, где лежала больная кобыла. Глаза ее слезились, бока раздувались и опадали. Рядом с ней на табурете сидела молодая женщина, которая меня и вызвала. Волосы у нее были растрепаны, одежда измята, руки дрожали. Должно быть, она не спала всю ночь и много плакала: красные глаза были обведены темными кругами, на бледных щеках остались серые разводы.
— Ее зовут Билавд, — только и сказала она.
Я внимательно осмотрела кобылу и не нашла ничего, кроме сильной изношенности организма — она просто была очень стара. Молодая женщина следила за моими движениями не мигая. Я закончила осмотр и опустила глаза. Женщина коснулась моего плеча маленькой грязной рукой, приглашая меня подняться, потом заглянула мне в глаза и спросила:
— Все кончено, да?
Ее фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Я кивнула в ответ. Тогда она встала перед дрожащей кобылой на колени, припала головой к ее шее, и светлые волосы смешались с седой гривой лошади. Меж тем я стала готовить шприц и сильную дозу барбитурата. Все это время Джио стоял не двигаясь в углу конюшни и наблюдал за происходящим. Теперь он подошел, взял женщину под локоть, помог ей подняться и увел на улицу.
Эвтаназия — вещь нелегкая. Сколько бы ты это ни делал, все равно никогда не привыкнешь. Ты расписываешься в своей беспомощности, в невозможности помочь и пресекаешь в себе реакцию сострадания. Смерть сосредоточена в твоих пальцах, ты не пускаешь ее выше. Просто надо, чтобы кто-то это сделал. Вот ты и делаешь.
Некоторые ветеринары используют для этого пистолет, в особенности когда речь идет о лошадях. Это жесткое средство, хотя и быстрое. Я предпочитаю средства мягкие. В смертоносный раствор я добавляю снотворные и транквилизаторы, включающие опиум, которые воздействуют на центральную нервную систему и подавляют боль, а еще препараты, содержащие морфий и вызывающие приятные галлюцинации. Смерть — очень важный момент в жизни живого существа… Потом последовали страшные пять минут — ледяное одиночество полубога, вершителя судеб, в руках которого и жизнь и смерть. Мир, в который привел меня д’Оревильи и в котором нет права ни на сомнения, ни на заминку.
Когда ржание, хрипы и биение копыт прекратились, вернулась хозяйка лошади. Она присела на корточки и принялась гладить неожиданно длинное, бездвижное тело. Она ничего мне не сказала и даже не подняла головы, когда я выходила. Я думаю, ей не было тридцати. На пару лет старше своей кобылы. Вместе с Билавд ушли в прошлое ее детство и юность.
Выйдя на улицу, я зажмурилась от солнца. Хозяин завода и Джио ждали моего возвращения. Я не стала останавливаться, только сказала, что счет пришлю по почте. Не могу брать деньги, когда убиваю.
Мы шли к тому месту, где я оставила машину. Вдруг Джио бросился назад: он увидел в загоне жеребят, приплод этого года. Их гривы сияли в лучах солнца, когда они трясли ими, нюхая пучок клевера, протянутый Джио.
Потом Джио вернулся и спросил, сколько может стоить такой жеребенок. Я назвала ему приблизительную цену и добавила, что спаривание удачного производителя может равняться иногда моему двухгодичному заработку.
— Ого! — ахнул тот. — Это за пять-то минут физических упражнений! — И громко засмеялся.
Вернувшись в “Лувьер”, я позвонила его родителям. Трубку взяла Миколь. Голос у нее был приглушенный, как будто сквозь дымку. Я хорошо знала этот голос — он мог быть горячим, нежным, гневным. Я много лет его не слышала, но теперь было ощущение, что мы продолжаем начатый когда-то разговор. Ни затруднения, ни смущения — слова рождались сами собой, наполненные давно знакомым смыслом, звучали обычные шутки, коротко прерываемые серебристым смешком, который вдруг возникал и так же неожиданно обрывался. Эскападу своего сына она восприняла с деланой легкостью — ничего страшного, подростковые выходки, обычная история — так, во всяком случае, она говорила. Рафаэль отреагировал куда менее спокойно, он был удивлен, даже обижен, потому что считал, что у него с сыном доверительные отношения: как же это могло случиться, что тот ему ничего не сказал? Миколь поблагодарила меня за любезность, за то, что я пригласила ее сына к себе на летние каникулы. От самоуверенности этого мальчишки я просто остолбенела, но Миколь я ничего не сказала — ну что ж, так тому и быть.
***
Ночь все тянется и, кажется, никогда не кончится. Паркет вздыхает у меня под ногами. Небо по оттенку напоминает глаза новорожденного, когда еще непонятно, какого цвета они будут. Время раскрыть ставни еще не настало.
Когда мне было тринадцать, мы поехали с мамой в горы. Жили мы в пансионе с балконами, тонувшими в цветах герани, и со ставнями, в которых были прорезаны сердечки. Для меня это был дом Белоснежки. Кормили нас диковинными блюдами, например омлетом с вареньем или супом из хлеба и диких овощей, и еще ягодными пирогами. Окно нашей комнаты смотрело на горы. Мама каждый день играла на расстроенном пианино пансиона, вздыхая по своему домашнему инструменту, который, впрочем, она тоже всегда ругала. Вечером она укладывала меня спать и, когда думала, что я заснула, долго гладила по голове.
Я в энный раз перечитывала “Снегурочку” и “Зов предков” Джека Лондона, мои любимые книжки той поры.
Однажды, выйдя ни свет ни заря, мы с мамой отправились в горы, к леднику. Небо было еще совсем темным, но день обещал быть безоблачным и ясным. Вещей мы с собой взяли немного, лишь небольшой рюкзак, а в нем — два свитера, два яблока, кусок сыра да термос с кофе, приправленным капелькой виноградной водки. Воду мы тащить не стали, потому что почти по всему пути били ключи, и только верхняя часть тропы шла по голому и крутому склону. Мы пустились в дорогу бодрым шагом, какое-то время спустя остановились перекусить и тут же снова двинулись дальше, потому что небо стало стремительно затягиваться облаками, хотя было по-прежнему тепло. Мама меня поддразнивала: я едва за ней поспевала. А она шла вперед ритмичным, уверенным шагом заправского альпиниста. Вскоре мох и сосны сменились острыми голыми скалами, поросшими приземистым высокогорным кустарником, усеянным мелкими ярко-белыми цветочками. Мы лихо взобрались на перевал, седловина представляла собой узкую полоску мелких камушков. По обе стороны разверзались пропасти. Один склон был покрыт круглыми сыпучими камнями, другой необыкновенно красив и опасен, его укрывал похожий на детское одеяло пушистый снег. Мама велела не смотреть вниз.
Когда до ледника оставалось не более получаса, небо заволокло низкими тучами и воздух мгновенно сделался ледяным. Мы натянули свитера и продолжали путь. О том, чтобы вернуться, не могло быть и речи: ведь мы еще не дошли до цели. Облака меж тем сгрудились у нас над головой. Они висели так низко, были такими страшными, в них скопилось столько электричества, что у меня захватило дух, но я ничего не сказала маме. Она уверенно шагала вперед, как будто у нее не было другой цели, кроме как поскорей оказаться в эпицентре бури.
И буря разразилась. Над нашими головами словно лопнул небосвод. В считаные секунды мы промокли до нитки. Мама остановилась. Глаза у нее неожиданно потемнели — я никогда раньше не видела ее такой. Она не могла оторвать взгляд от стремительного потока, несущего камни, — потока, который еще недавно был тропой. Сделала мне знак: быстро в сторону! Не проронив ни звука, мы опрометью бросились вниз, по целине, через луга, по мокрой скользкой траве. Мы не только вымокли, но и все извалялись в грязи. Башмаки скользили по осыпям, по подвижному, живому склону, мы не позволяли себе даже перевести дух: скорей вниз! Но худшее ждало нас впереди.
Вокруг, как снаряды, начали разрываться молнии. Мама схватила меня за руку. Мы прибавили ходу и каким-то чудом с грехом пополам добежали до одинокого сарая. В нем было сухо. Сарай был наполнен сеном и соломой. Мама велела мне раздеться и принялась растирать сухой травой. Потом она растерла себе тоже руки и ноги, мы оделись и стали ждать, когда гроза стихнет, по очереди отхлебывая горячий крепкий кофе. Сахар и градусы вернули нас к жизни. Я быстро опьянела, а у мамы вокруг рта залегла необычная складка. Я спросила, почему она там, наверху, взяла меня за руку — ведь мы все равно обе спотыкались и падали.
Мама сказала: если бы в одну из нас попала молния, мы бы погибли вместе. Шесть лет постепенного, неизбежного, ежедневного спуска в преисподнюю. Ступень за ступенью по лестнице, ведущей вниз. Шесть лет меня не покидало чувство вины за каждую минуту, что я проводила не рядом с ней. Шесть лет она таяла у нас на глазах, уменьшалась, усыхала, как будто стремилась оставить после себя одни кости.
Прекрасные мамины руки. Ее нежные, все видящие и все понимающие глаза. Изящные ножки с высоким подъемом. Ее грация, ее ласковые слова. Привычка гладить меня по волосам. То, как она бесшумно открывала дверь моей комнаты, чтобы поставить на столик у кровати чашку кофе. Ее молчание, куда более умное и красноречивое, чем любые слова. Ее самоотверженная любовь к отцу. Ее нежная и золотистая, как персик, кожа. Ее запах — запах чистоты. Ее глубокое контральто. Все это, исчезавшее вместе с ней, с ее сознанием. Строгая красота ее существования, ее самодисциплина, часы, посвященные темперированному клавиру, ее страсть к барокко, ее необыкновенное туше — черное солнце и зеленая струящаяся вода.
Я помню кассету, которую она записала мне в подарок к шестнадцатилетию — итальянские концерты Баха. Она играла их с закрытыми глазами, руки ее летали над клавишами, как золотые стрекозы в лучах света, шея была склонена, губы приоткрыты — она дышала музыкой. Из-под ее пальцев сыпались каскады дивных звуков, рождались радость и печаль, тоска и надежда, чистое, незамутненное счастье. Она принадлежала к тому разряду людей, которые отдают себя единожды, раз и навсегда, и, дав слово, никогда от него не отступают. Своего рода мадам де Турвель[6], которой легче умереть, чем сойти с выбранного пути. Упрямая, цельная, несгибаемая натура.
Я часто спрашивала себя, откуда в ней эта мудрость, это внутреннее знание того, как надо, эта спокойная уверенность, умение в нужный момент принять нужное решение и никогда не мучиться потом сомнениями, никогда не жалеть о том, что сделано.
Да, людские законы несовершенны, но не так несправедливы, как другие, высшие законы, которые нами всеми правят, но понять и принять которые невозможно. Хочется думать, что хотя я многое потеряла с годами, но все же кое-что приобрела, — да только, боюсь, это не так. Потери и приобретения неравнозначны, равновесия нет, а к Господу Богу с претензиями не ходят.
В какой именно момент начинается умирание? Мама жила музыкой и ради музыки. Однажды она положила руки на клавиши, но играть не смогла, а осталась сидеть, будто в прострации, и на клавиатуру закапали слезы. Потом она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Взгляд ее был прозрачным и чистым — таким, как в далекие времена. Она попросила меня подойти. Я присела около нее на корточки, чтобы заглянуть ей в лицо. Она взяла мои руки и попросила выслушать ее, от начала до конца, не прерывая.
В юности, бывает, загадываешь наперед: кажется, это так просто — умереть, едва только появятся первые признаки распада. Это настолько само собой разумеется, что живешь взахлеб и ни о чем не думаешь.
А признаки старения — от них отмахиваешься. Первый седой волос? — вырвать! Плечо заныло и не проходит? — давний ушиб! А когда говоришь себе наконец, что больше не можешь, — куда девается жизнь? Кто и в какой момент и по какому праву может принять решение?
В наши дни в Голландии и в Бельгии продаются такие коробочки, на бонбоньерки похожи, в них — средство, чтобы красиво уйти из жизни. Стоят эти коробочки недорого, и ваш личный врач может без труда раздобыть вам такую. Эпикур учил не бояться смерти, он говорил: “Когда она пришла, тебя уже нет, а коли ты есть, это значит, что нет ее”. Уйти из жизни до того, как сам себе опостылеешь, — вот, на мой взгляд, самое ответственное из всех возможных решений.
***
Эммочка моя дорогая!
Пишу тебе на скорую руку, потому что прочел тут в газетах неожиданные вещи — что у тебя неприятности. Похоже, на тебя всех собак спустили, и я очень тебе сочувствую. Если это как-то тебя утешит, хочу тебе сказать, что никогда и ни за что не поверю, что ты могла совершить что-нибудь дурное, ведь я хорошо тебя знаю. И даже если бы выяснилось, что ты убила кого-нибудь, я бы догадался, что на то у тебя были серьезные причины. Кому как не мне знать, что дурное к тебе не липнет. Твой пессимизм, как и мой собственный, в наши дни — это скорее признак духовного здоровья, он не позволяет нам спокойно смотреть, как все естественным путем скользит по наклонной плоскости. Даже сознавая, что это ни к чему не приведет, что это нам только навредит, мы все равно будем действовать, как нам подсказывает совесть. У тебя совесть в высшей степени порядочной женщины. У меня — совесть старого анархиста, любящего показать жизни нос.
Ты знаешь, где меня найти. Если это доставит тебе удовольствие или может каким-нибудь образом оказаться полезным, приезжай. Приезжай в любом случае, потому что я хочу кое с кем тебя познакомить.
Твой старый друг
Тома д’Оревильи.
Это письмо д’Оревильи — из того немногого, что мне удалось спасти. У меня так мало осталось дорогих вещей, в основном воспоминания — но они всегда при мне, точные и ясные, как будто я смотрю отснятый фильм.
Я до сих пор чувствую запах смолы в лесу, по которому мы шли однажды ночью, помню улыбку, не сходившую с уст Джио, помню счастье, которое я испытывала от того, что он рядом, — нечто похожее должен был испытывать мой старый добрый д’Оревильи в те времена, когда мы были вместе: счастье пополам со страхом потери.
В тот вечер мы с Джио поздно тронулись в путь: то одно, то другое мешало выехать. Разумнее было дождаться утра, но фермер, который меня вызвал, страшно нервничал. Мы уже проделали половину пути, когда пошел дождь. Сначала это был редкий летний дождик, но вскоре он превратился в настоящий потоп. Окрестный лес потонул во тьме. Вода волнами заливала ветровое стекло, окна запотели, в придачу сгустился туман. Абсолютно ничего не видя перед собой, я опустила стекло и продолжала вести машину, высунув голову наружу. Я старалась ехать вдоль белой полосы, которая была едва видна, а порой и вовсе исчезала. Мы двигались так медленно, что мотор в конце концов заглох; Джио разразился радостными воплями. Я знала его так хорошо, что наперед могла угадать, что он скажет. Так и вышло:
— Класс, Эмма! У нас авария!
Я была зла и ничего не ответила. Мы проехали еще с десяток километров, как вдруг поперек дороги стрелой мелькнуло что-то рыжее. Удара мы почти не почувствовали, зато услышали отвратительный и мокрый сосущий звук, еще более жуткий оттого, что кругом была тьма-тьмущая. Мы с Джио одновременно выскочили из машины, оставив дверцы открытыми, и стали в свете фар искать на дороге животное, но не нашли ни следов крови на асфальте, ни тела под колесами — только ливень поливал непроглядную темноту. И вдруг, как во сне, машина поехала и соскользнула в кювет. О том, чтобы вскочить в нее, не могло быть и речи: слишком опасно. Мы молча смотрели, как она скользит дальше, бессильные что-либо изменить. Наконец джип уперся в груду веток и замер, застряв тремя колесами в кювете. Джио безмолвно воздел руки к небу. Понятное дело, самим нам машину не вытащить. И позвонить невозможно: мы вне зоны покрытия. Я кое-как заперла джип, и мы двинулись в путь пешком, подняв воротники и спотыкаясь о сломанные ветки, ориентируясь на еле видный огонек, мелькнувший где-то впереди.
Это оказалось придорожное кафе. Нам открыла женщина, которой могло быть от тридцати до пятидесяти. Она была ни красива, ни некрасива, скорее просто потрепана жизнью. Заведение уже закрылось на ночь, но, рассмотрев нас сквозь стеклянную дверь, хозяйка все же решила нас впустить.
С нас текла вода, хоть выжимай. На Джио были только футболка и джинсовая куртка, от холода он стучал зубами. Я пустилась в сбивчивые объяснения. Хозяйка слушала меня вполуха, глядя на Джио. Она предложила ему сухую одежду, пока эта не высохнет. Потом повернулась ко мне, покачала головой и пробормотала:
— В такую погоду и собаку на улицу не выгонишь.
С нас быстро натекли лужи. Хозяйка ушла и вернулась с полотенцами и двумя толстыми свитерами. Она спросила, не хотим ли мы перекусить — у нее осталось рагу под белым соусом. Потом добавила:
— В этом возрасте своих детей лучше видеть на фотографии, чем пасти их с утра до вечера, и ваш сын, мадам, похоже, не является исключением.
При словах “ваш сын” Джио поскреб затылок и стал рассматривать потолок.
Рагу оказалось превосходным. Пока мы уплетали его, женщина, которую звали Франсуаза, рассказала нам свою жизнь и историю Сен-Семфорьен-де-Буа — так называлась деревушка, в которую нас занесло. Она единственная в этих краях еще сопротивлялась запустению. Родившись в этих местах, Франсуаза их любила, и ей было грустно видеть, как все бегут прочь: сначала закрылась булочная, потом школа, брошенные дома ветшали или же их скупали англичане, которые наведывались сюда только летом. Я никогда прежде не слышала выражения, которое она употребляла: “деревня холодных постелей”. От этих слов у меня мороз пробежал по коже.
Ее сыну, Себастьену, было десять, он спал на втором этаже. А папаша, тот “давно свалил, поминай как звали. Ну и скатертью дорожка”. В целом она была вполне довольна жизнью, Себастьена она обеспечивала всем необходимым, а что до мужчин, то в ее возрасте без них вполне можно обойтись — “не правда ли, мадам?”.
Подъев с тарелки соус, Джио поломался, прежде чем согласился взять добавку. Разделавшись и с ней, он начал зевать, прикрывая рот рукой. Я тоже была едва жива от усталости, но стеснялась попроситься на ночлег. На улице продолжало громыхать, потоп не собирался стихать. В такую ночь, да еще в такую глушь ни один эвакуатор, понятное дело, не доедет. Хозяйка внимательно посмотрела на нас — сначала на меня, потом на Джио. Смущенная, я подумывала вернуться к машине: как-нибудь переночуем. В конце концов, у меня в багажнике брезент и, хотя он предназначен для животных, на этот раз сгодился бы и для нас.
Джио снова смачно зевнул. Хозяйка улыбнулась:
— Вы можете переночевать наверху на кухне, если хотите, только тесновато будет: у меня топчанчик там, на всякий случай. Если вас это устроит, ночуйте на здоровье. — И снова повторила: — В такую ночь хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит.
Франсуаза проводила нас по узкой лестнице наверх. На кухне и в самом деле стоял узенький диванчик, в придачу еще и короткий. Она приготовила нам простыни, две подушки и три жестких одеяла, пахнувших нафталином и старой лавандой.
Потом она вышла, потушив свет и оставив гореть только лампочку под вытяжкой.
Джио тут же завернулся в одеяла и заснул глубоким сном, как в гнездышке, свесив с дивана ноги. В тишине был слышен только скрип дерева и стук дождя по крыше. Я не шевелилась, боясь его разбудить. Когда сумрачная кухня, наполненная запахами жарки и чистящего порошка, окрасилась сиреневым светом утра, я встала, надела свитер, предложенный хозяйкой, и подошла к окну. Даже в кухне было холодно, сырость пробирала до костей. Небо было еще темным, но облака кое-где порозовели, и даже появился намек на золотой свет. Вокруг дома на утреннем ветру, со звуком шумящего ливня, раскачивались деревья. Сев на стул, я положила локти и голову на подоконник и стала изучать ночных бабочек, заснувших на оконных откосах: они были как будто нарисованы; ус дикого винограда цеплялся за открытый ставень. В такой позе нашла меня хозяйка, когда она вошла, чтобы приготовить завтрак. В руках она несла нашу высохшую одежду и вместо приветствия бросила:
— Ну что, как спали?
Она начала суетиться у плиты, а Джио, проснувшись и потягиваясь, промычал:
— Доброе утро, мадам, спасибо. Господи, ну до чего же есть-то хочется.
На столе меж тем появились кофе, молоко, масло, длинный батон и баночка домашнего варенья. В кухне быстро потеплело. Пока Джио, вертясь под одеялом, натягивал трусы и джинсы, в дверь чинно вошел Себастьен: он был аккуратно причесан на косой пробор и облачен в костюм Зорро. Франсуаза налила ему какао, а Джио предложил намазать бутерброд. Мы заканчивали завтрак, когда хозяйка, извиняясь, попросила нас поторопиться, потому что в школу должен приехать психолог и у нее с ним назначена встреча. Мы выстроились гуськом, чтобы выйти на улицу, но процессия внезапно замерла: Себастьен остановился как вкопанный и заявил, что не двинется с места, пока не возьмет свою шпагу.
Пришлось Джио бежать наверх и искать шпагу.
***
Если бы мне сегодня задали те же вопросы, что задавали в суде, что еще я могла бы добавить к сказанному? Ребенок ли Джио? Конечно ребенок. С чего бы мне вдруг оправдываться, коль скоро решения я принимала в здравом уме и твердой памяти. Джио должно было исполниться пятнадцать — конечно ребенок, кто же еще? Умный ребенок, изворотливый, как мартышка, идеалист и — что совсем не часто бывает в этом возрасте — хорош собой. Но возраст — это последнее, о чем думаешь.
В пятнадцать лет в некоторых штатах Америки человек считается достаточно взрослым, чтобы водить машину — то есть чтобы разбиться самому и убить других, — но пиво ему не продадут нигде. В пятнадцать лет (и даже вплоть до восемнадцати) в Европе нельзя смотреть порно — при этом пятнадцатилетняя девушка совершенно легально может пользоваться противозачаточными средствами, стать матерью или родить анонимно и отдать своего ребенка в приют, а также исполнять свои родительские обязанности без разрешения собственных родителей. В пятнадцать лет вы не по ту и не по эту сторону черты, вы точнехонько посередине, хотя можете уже знать много всего такого, что и в более солидном возрасте не все знают.
Джио поспевал на двух фронтах. Он ловко балансировал между детскостью и взрослостью, прекрасно при этом сознавая, что если по одну сторону барьера возникают неприятности, то расхлебывать их приходится и по другую сторону тоже.
Я давным-давно поняла, что мы все обладаем феноменальным чутьем: мы предчувствуем и притягиваем свою судьбу. Так, мы с Джио, каждый со своей стороны, невольно торопили события, и траектории наших судеб были так же неумолимы, как траектории движения звезд. И мой возраст, и его возраст были лишь элементами общего движения, неизбежным результатом которого должно было стать столкновение.
Ну что еще сказать? Он поглощал за день килограммы риса с молоком. Порой на него нападал вегетарианский раж, и тогда он заглатывал целые миски йогурта с финиками и миндалем, связки бананов и чуть не целые стога овса. Потом шли огромные бутерброды с нутеллой и пакеты тертого пармезана. Ко мне он относился с иронией — беззлобной, но порой жестокой. Например, однажды я заставила себя пойти к парикмахеру и, вернувшись, сообщила об этом Джио: как же, такой подвиг, можно сказать, совершила. И что же он ответил? “Бедняжка! Парикмахерская оказалась закрыта?”
Иногда, сидя в саду в шортах, он вдруг ретировался в дом — если какая-нибудь мысль или порыв ласкового ветерка смущали его воображение. А ванная комната после него напоминала поле брани: повсюду валялись мокрые полотенца, клочья пены для бритья висели по стенам, а разводы зубной пасты обнаруживались чуть ли не на потолке. В шкафах дверцы и ящики не закрывались принципиально, зато половики и коврики, его заклятые враги, могли оказаться в самых невероятных местах.
Разговоры наши напоминали диалоги дебилов:
— Слушай, Эмма, а что ты больше всего любишь?
— Ну, пожалуй, вешать белье во дворе. Особенно белые простыни. Ждать, пока они высохнут. И когда их потом складываешь, они хрустят. На них приятно спать. А ты?
— Печь вместе с моими сестрами кексы. А что ты ненавидишь?
— Короткие носки… Короткие носки на мужчинах.
— Ты серьезно? А что ты ненавидишь больше всего на свете?
— Больше всего на свете — белые короткие носки.
— Да ну тебя! Я правду спрашиваю! Ну что ты прямо терпеть не можешь?
— Короткие белые носки в сочетании с мокасинами на шнурках.
— Ну да, согласен, это уродство.
— Но при этом у Бельмондо — знаешь, “На последнем дыхании”? — именно такие короткие белые носки, и это не мешает ему быть фантастически привлекательным… Так что… Ну а ты?
— Я? Чувих, которые целуются со жвачкой во рту. Они засовывают ее под язык, потом целуются взасос, а потом продолжают жевать.
— А я, между прочим, знала когда-то парня, который прятал жвачку за ухо.
— Ты что, правда?
— Нет, я придумала. А отчего тебе больше всего грустно?
— Когда я вижу кошек и собак, которых приготовили к празднику животных. Чтобы их кто-нибудь взял. А их никто не берет. А ты? Чего ты больше всего боишься?
— Забыть.
Джио не умел сидеть сложа руки. Для начала он срубил сухие ветки, распилил их, отнес в гараж; потом покрасил ставни на первом этаже и входную дверь; вытащил из гостиной, где пылилась мебель, деревянный стол и два плюшевых кресла и устроил уютный уголок в саду между двумя огромными кустами папоротника. Здесь мы теперь ужинали при зажженных свечах, которые он вставил в подсвечники — не знаю уж, где он их раздобыл. Над нашими головами деревья образовывали тенистый свод, получалось что-то вроде беседки, где мы подолгу засиживались после завтрака. Еще мы ездили в город за покупками. Булочница пихала Джио гостинцы — пирожные с кремом, а хозяйка мясной лавки приговаривала: “Какой у вас милый племянник”.
Как-то на рынке Джио захотел купить меда нам на завтрак. Мы остановились у лотка пожилой женщины. У нее были седые волосы и румяные, как свежие яблочки, щеки. Она посоветовала не откладывать на потом, а купить меда прямо сейчас, потому что это последний, больше уже не будет. Джио спросил почему. Она рассказала, что фермер на соседнем участке начал накануне косить в два часа дня. В этот час собирают мед примерно пять пчел на квадратный метр. Она умоляла его подождать до вечера, чтобы дать пчелам вернуться в ульи. Но он с высоты своего комбайна ответил: “Делать мне больше нечего!”
— Это тем более глупо, что его участок под паром, там одна трава, он вообще мог бы ее не убирать, — жаловалась женщина. — В результате, поскольку его площадь — десять гектаров, он погубил пятьсот тысяч пчел. А в придачу по меньшей мере столько же бабочек, стрекоз, сверчков и только что вылупившихся птенцов куропаток. Пчелы-сторожа ждали рабочих пчел весь вечер и все утро.
Фермерша объяснила Джио, что пройдет двадцать один день, прежде чем новые рабочие пчелы начнут собирать нектар. И главное, именно они опыляют овощи и деревья, с которых мы снимаем плоды, составляющие тридцать пять процентов нашего рациона.
Мы с Джио смолкли и помрачнели: мы были ужасно злы на того фермера. Джио процедил:
— Скажи, Эмма, из двух зол — какое хуже: быть кретином или быть сволочью?
Я ничего не ответила.
Джио очень любил животных и сочувствовал им. Я своими глазами видела, как он спасал из кухонной раковины ящерицу. Он не пользовался розеткой, если вокруг нее паук сплел паутину. А однажды я застала его в обнимку с бездомным котом: бродяга обхватил его лапами за шею, и оба спали безмятежным сном.
Джио часто спрашивал меня, почему я не заведу кошку. Никак не унимался: ведь столько их шастает по саду, трется об ноги, просит поесть. Ну что стоит оставить при себе одну или двух, а может, и…
— Ну да, и так до бесконечности. А почему именно эту, может, лучше другую? Или ту, что придет потом?
— А почему нет?
— Я заведу кошку, когда найдется такая умная, что будет готовить мне завтрак.
— Не смешно. Они и так делают все, что умеют. Они вон подарки тебе носят: то полевку, то домашнюю мышь.
— Терпеть не могу мышей на завтрак.
— Ну и зря! Все твои несчастья оттого, что ты на завтрак бутерброды ешь, а не мышей.
Домашних животных мне заводить не хотелось, но Джио и приблудный кот становились все дружнее. Это был рыжий котяра с толстыми щеками и разодранными в драках ушами. Едва он слышал голос Джио, как начинал мурлыкать. Нарекли его Нилом.
Вечером, когда мы возвращались домой, Нил бежал нам навстречу, распушив хвост и жмурясь от удовольствия. Это был великолепный охотник, неизменно угощавший нас своей добычей — птицами и землеройками, которых он выкладывал на пороге. Доказав таким образом свою преданность, он с аппетитом их сжирал. Привыкнув к тому, что пищу надо добывать самому, он не играл со своими жертвами, а просто перекусывал им хребет точным, как шприц или скальпель, движением челюстей. Жертвы его умирали быстро и безболезненно.
С моего молчаливого согласия Нил остался у нас.
Джио был на седьмом небе от счастья. Вернее, он просто был счастлив. Он был таким, каким я помнила его в детстве: то без меры веселился, то превращался в неотесанного увальня, временами начинал дуться или ворчать. В целом с ним было приятно, к тому же между нами установились отношения “учитель — ученик”. По ночам, правда, все складывалось иначе, чем между мной и д’Оревильи.
Рафаэль и Миколь регулярно звонили, но были в основном зациклены на своих заботах. По сути, их мало интересовало, что у нас происходит.
***
Те, кто причинил нам боль, имеют над нами неограниченную власть. Не потому ли, что мы страдали из-за них, мы любим их больше, чем следует? Или просто они пользуются нашей чрезмерной любовью, чтобы делать нам больно?
Помню, был сентябрь, дождливый вечер, уже стемнело. Миколь вернулась домой, скинула куртку и туфли и, не глядя по сторонам, юркнула в ванную. Прошло довольно много времени, я удивилась, что в ванной тихо, и постучала. Она не ответила. Я приоткрыла дверь. За длинной белой шторой ничего не было видно. Я вошла и отдернула штору.
Миколь лежала на дне ванны, ее голова с мокрыми прилипшими волосами была склонена к правому плечу, глаза закрыты, тело покрыто пеной, из которой выступали только худенькие плечи и грудь. Я хотела ее разбудить, протянула руку, но сразу же отдернула. Тихонько окликнула — она не шевелилась. Я испугалась и шлепнула ее по щеке немного резче, чем бы мне хотелось. Ее голова качнулась и ударилась о край ванны. От этого глухого звука мне сделалось страшно. Миколь приоткрыла и снова закрыла глаза, под веками мелькнул сероватый белок. Она показалась мне безумно тяжелой, когда я вытащила ее из ванны. Голую я дотащила ее до туалета, сунула два пальца в рот, склонила ее голову над унитазом и дождалась, чтобы ее вырвало. Убедившись, что в желудке ничего не осталось, я завернула ее в большую простыню и оттащила в кухню. Усадив на стул, мокрой тряпкой обтерла ей лицо. Она молчала и не реагировала. Я заставила ее выпить холодного кофе, который оставался в кофеварке, поддерживая ее рукой под спину. Она принялась бормотать что-то бессвязное. Но одну фразу я все же разобрала:
— Я не стерва… Ведь я не гадина, Эмма?..
Я перетащила ее на кровать. Она уговорила меня не вызывать врача. Я легла рядом и стала утешать ее, как ребенка, продолжая с ней разговаривать, чтобы она снова не заснула. По щекам ее катились слезы, из носа тоже текло, она утиралась простыней. Я хотела позвонить Рафаэлю на работу, но она меня удержала. Икая и всхлипывая, она рассказала, что произошло.
Они поссорились. Они с Рафаэлем были очень разные, смотрели на все и воспринимали все по-разному. Он предложил разорвать отношения, которые ни к чему хорошему все равно привести не могли. Сердце у меня едва не остановилось при этих словах. Я встала. Миколь тоже встала и, шатаясь, поплелась за мной. Я задыхалась и старалась не отрывать глаз от старого мраморного пола, чтобы не смотреть на нее. Воцарилось долгое молчание, прерываемое только ее рыданиями. Потом она коснулась моей руки, и я увидела, что она падает. Я подняла ее и отнесла на кровать. Как оставить ее одну в таком положении, кто-то ведь должен быть рядом? Она снова начала плакать, тихо-тихо, и стала гладить мне лицо, а потом покрывать его робкими мокрыми поцелуями. Ее трясло, руки были ледяными, красивый рот распух, она льнула ко мне, ища поддержки. Я обняла ее, и она снова стала меня целовать, только теперь поцелуи ее были чувственными. Она припала к моему рту солеными, страстными губами, и прошло долгое мгновение, прежде чем мне удалось высвободиться. Она попросила платок. Вытерев лицо и переведя дух, она перестала всхлипывать, оперлась о подушки и пролепетала с трудом:
— Ты первая, кому я скажу это, Эмма. Я жду ребенка. Рафаэль еще ничего не знает. Вот и все…
В этом положении минуту спустя застал нас Рафаэль. Он безмолвно вырос на пороге, устремив на нас растерянный, испуганный взгляд. Я встала с кровати. Остаток ночи я провела на огромном диване, занимавшем полкухни.
Утром, сидя на табурете и глядя, как в стиральной машине крутятся грязные простыни, я прислушивалась внутри себя к новому ощущению, будто потеряла что-то ужасно важное и никогда мне это теперь не вернуть. Но вместе с тем я понимала, что жизнь резко переменилась и все будет теперь по-другому. И возникло чувство какой-то новой чистоты.
В тот вечер, когда родился Джованни и Рафаэль заявил, что мне достаточно сказать слово, одно лишь слово… когда он признался, что больше не может, что иссяк, что ему претят светские замашки Миколь и осточертели попреки тестя с тещей, чьи вкусы и политические убеждения он на дух не переносит… в тот вечер, когда мне было смертельно одиноко — как бывает одиноко в Париже, когда нет денег… и когда на губах еще не остыл его поцелуй, и кожа еще хранит ощущение горячего соприкосновения с его телом… и когда мне так хотелось сказать “да”… — я все же сказала “нет”. Что это было — глупость, трусость, великодушие? Так или иначе, я сказала: нет, слишком поздно, ты ошибаешься, как уже ошибся однажды.
Рафаэль хотел ко мне вернуться, как мужчины обычно возвращаются в свое привычное логово, пусть не очень красивое, зато удобное, — а я отправила его назад к другой женщине. В тот вечер я рассталась с ним на пороге его дома и вернулась к себе только час спустя. Оказалось, что у меня не хватает денег на такси.
***
Пятнадцатилетие Джио мы праздновали у речки. Мы сели на мостик, как в вечер его появления, откупорили бутылку шампанского, и я подарила ему два подарка: черную футболку с надписью белым No family, no problem[7] и здоровую бутыль мыльных пузырей. Деревянный мостик был старым и скользким, и мы подложили под себя свитера. Джио разлил шампанское, мы чокнулись. Когда день угас, оставив в небе розовое марево, мы вытащили свитера, на которых сидели, и надели на себя.
— По большому счету, мокрая задница лучше, чем простуженное горло, — изрек Джио.
Мыльные пузыри садились на зеркальную гладь и лопались. Потом стало темно, и мы перестали их различать. Мы сидели рядом и прислушивались к плеску струящейся воды, пока сырость не заставила нас ретироваться.
Я не спала в эту ночь. Я восторженно смотрела на его лицо: гладкая кожа, казалось, светилась изнутри, а ресницы были черными как смоль и блестящими. Он дышал легко и ровно. Он спал, я над ним не спала.
Его одежда темными кучками валялась по всему полу: где снял, там и бросил. От него веяло жаром. Во сне он дрыгал ногами. Это не были резкие взбрыки, скорее едва заметные сокращения мышц, плавные и волнообразные, похожие на протяжные вздохи. На шее у него пульсировала вена. Он спал, как спят щенята, волнуясь и вздрагивая во сне. А я молилась, чтобы мне было даровано еще тридцать или сорок лет, зим, осеней и весен.
Хватит ли у меня мужества исполнить данное себе в юности обещание и остановиться, прежде чем…? Весна, лето, осень, зима… Может быть, однажды осенью… Может быть, у меня не хватит духу пережить последнюю зиму… Это лето было золотистым. По вечерам в небе сновали тысячи ласточек. Поля были аккуратно подстрижены под ноль. Иногда на опушку леса выходили косули в поисках уцелевших колосков.
Ужинали мы поздно вечером, обязательно во дворе, потому что жара стояла удушающая. За день стены дома нагревались под палящими лучами и ночью отдавали тепло. Внутри находиться было невозможно. Лужайка перед домом превратилась в джунгли, на ней разрослись громадные зонтичные цветы, под ними колыхались травы пониже и потоньше. Папоротники вздымались, как гигантские монстры, тянущие во все стороны свои лапы: зеленые и жесткие у основания и желтые на концах. Ночи были бескрайними оазисами с россыпью звезд по черному бархату неба. А дни — ровной чередой будничных дел и занятий.
Между мной и Джио соткалась тонкая паутина незаметных жестов, несказанных слов и фраз, избитых шуток, за которыми мы оба прятались. Он рассказывал мне, какие группы любит: например, Genesis до того, как оттуда ушел Питер Гэбриэл, или Pink Floyd периода Dark Side of the Moon. Наши беседы не имели ни начала, ни конца, Джио целыми днями сыпал шутками, каламбурил, нес всякую чушь, и все ради того, чтобы меня рассмешить, потому что смеюсь я редко.
— Ну же, расслабься, ты имеешь дело с царем огня, — заявлял он, делая барбекю в тридцатиградусную жару.
Дни были рассеянные, растерянные, ночи — душные, затаенные, изматывающие.
Наши отношения зависли в хрупком равновесии, больше похожем на отсрочку, и уже ничего нельзя было изменить — ни того, что было, ни того, что будет.
***
Чувствовалось, что жара подходит к концу. В небе все время грохотало, воздух был густой, тяжелый, гнетущий. Я попросила Джио скосить траву. Весь день он сражался с гигантскими зонтичными зарослями и могучими папоротниками, валившимися к его ногам. Скошенные травы мгновенно начинали вянуть и наполняли воздух терпким ароматом, к которому примешивался запах обнажившейся земли. От всего этого голова шла кругом, мы задыхались и кашляли. Джио едва успел поставить косилку на место, как хлынул ливень. Он прыгнул ко мне под навес, где я ждала его с полотенцем в руках. Голый по пояс, весь мокрый, он стал отряхиваться, отбиваясь от меня, пытавшейся надеть на него фуфайку. Потом он вытолкнул под дождь меня и не пускал под навес, спихивая со ступенек. От ледяного душа у меня застучали зубы, я пыталась засучить рукава рубашки, которые болтались ниже пальцев, но мокрая ткань липла к коже. Мне было так холодно, что я вся покрылась гусиной кожей. Кончилось тем, что я сорвала с себя рубаху и бросила ее в Джио, а он схватил меня в охапку, прижал к себе и не давал шевельнуть даже пальцем, потому что я готова была кинуться на него с тумаками. Вдруг мы услышали голос:
— Есть кто-нибудь?
Мы едва успели отскочить друг от друга, как в поле нашего зрения возник разносчик пиццы, перепутавший адрес.
В этот момент зазвонил телефон. Пока Джио шутил с посыльным, пытаясь убедить его оставить пиццу нам, я взяла трубку. Это была Миколь: она сообщила, что у нее умерла мать.
Последний поезд уже ушел. Договорились, что на рассвете я отвезу Джио на вокзал и отправлю первым же утренним.
— Выходит дело, ей пришлось расстаться со своими гобеленами, — съязвил Джио, когда я сообщила ему о смерти бабушки.
Если бы мне нужно было в трех словах описать нашу последнюю ночь, я бы сказала: темная, свежая и жаркая. Темная, как его глаза, свежая, как его рот, и жаркая, как его руки, как все его тело.
Разбудил меня вопль. Не до конца проснувшись, я села в постели и тут же получила оплеуху. Тогда я разлепила глаза: передо мной стояла Миколь. Мы вытаращились друг на друга, и вдруг она сложилась пополам, точно получила удар в живот. Джио пробормотал что-то невнятное и повернулся на другой бок.
Выяснилось, что Миколь, не в силах ждать до утра, решила сама приехать за Джио и вместе с ним ехать в Тоскану. Поскольку, когда она села за руль, была уже глубокая ночь, звонить она не стала.
Пока они с Джио ругались, я пошла в кухню варить кофе.
— Я требую, слышишь, требую, чтобы ты мне сказал! — Если можно кричать вполголоса, то Миколь именно кричала.
— Что именно ты хочешь знать, мама? Объясни, я не понимаю.
Я была удивлена, насколько Джио владеет собой. Он говорил спокойно, уверенно, почти непринужденно. Никогда я не слышала у него такого голоса.
— Что произошло?
— Когда?
— Прекрати надо мной издеваться. А не то…
— Что, хочешь меня ударить? Как только что Эмму? Ты хочешь поколотить нас обоих?
— Чем вы занимались?
— Ты прекрасно это видела сама. Мы спали.
— Спали? Вы спали? Вместе? Полуголые?
Миколь задыхалась. Я слышала, как Джио отодвинул стул и пошел на кухню, где я пережидала бурю. Он наполнил стакан водой из-под крана, и, когда обернулся, я с удивлением обнаружила, что он улыбается.
— Ну что, ма, тебе лучше?
— Нет, мне не лучше и лучше не станет, если ты будешь продолжать надо мной издеваться. Я твоя мать, а ты мальчишка несовершеннолетний. Я могу отправить тебя в коллеж-интернат, и ты нескоро оттуда выйдешь. Что касается Эммы…
— Ты лучше у меня спроси, я тебе отвечу.
Последовало молчание. Из моего укрытия я хорошо видела все, что происходит в комнате, но вернуться туда у меня не хватало духу. Я смотрела на Миколь. Щеки у нее запали, худые торчащие ключицы были плотно обтянуты кожей. Она сидела, уперев локти в стол, наклонив голову, прижавшись лбом к сплетенным пальцам. Кроме обручального кольца, на ней было еще кольцо с бриллиантом — больше никаких украшений. Ударила она меня не сильно, но бриллиантом задела губу. Царапина болела.
Она резко выпрямилась и встала, подошла к стулу, где бросила куртку, достала из кармана пачку сигарет. Руки ее дрожали. Ей было страшно — страшно услышать от Джио что-нибудь такое, что она не в силах будет принять. Страшно узнать правду. Джио бросился к ней, взял из ее рук зажигалку, помог прикурить.
Десять минут спустя мы вышли из дома.
Она сказала на прощание:
— На этом история не заканчивается.
Джио, как дурачок, радостно закивал. Потом сел в машину, я — в свою, и мы разъехались.
Почему Миколь напустилась не на меня, а на Джио, застав нас в постели? Она была вне себя от ярости, от ревности, она почувствовала его нежность ко мне, когда он инстинктивно встал между нами. Что еще могла она мне сделать, кроме как ударить? И вряд ли она вспомнила в тот момент, что невинность, которой она требовала от сына, не была свойственна ей самой. Или, приревновав, она жаждала мести? А может, думала, что можно украсть у матери любовь сына, как крадут любовь мужчины у другой женщины? Слишком много было такого, что она не могла произнести при Джио. Поэтому она сдержалась.
Все, что я могу сказать в свое оправдание, — это что в какой-то момент спать вместе стало менее неприличным и бесстыдным, чем смотреть друг другу в глаза. События развивались медленно, но неумолимо, и в конце концов произошло то, что произошло. Сначала мы поддались страстному порыву, затем все больше уступали любопытству, не знающему ни границ, ни табу, ни отвращения. Первое время Джио бывал иногда обескуражен, случалось, терпел поражение, но он был азартным игроком и всякий раз бросался в бой с новым воодушевлением. Бывает, что есть тело, но нет головы; бывает, есть только голова, но нет сердца; бывает только тело без сердца, а бывает еще сердце без головы и без тела. У нас с Джио было все.
Я дорого заплатила за его взросление, но готова продолжать.
***
В вихре событий, который всех нас подхватил и понес, всплывает одна забавная история, которую я узнала позже. И даже когда белый свет кажется не мил, я все равно веселюсь, вспоминая ее.
На вилле покойной бабушки Джио и его сестрам, облаченным в траурные одеяния, быстро наскучило изображать печаль. Так или иначе, престарелую Аду Малеспини мало кто любил при жизни, а уж после смерти и подавно.
Покойная возлежала в гробу, а чтобы присутствующие не очень топали, на них надели войлочные тапки. Близняшки Адзурра и Аллегра, под предводительством Джио, ретировались в задние комнаты виллы, где учинили ревизию старым, покрытым пылью сундукам и секретерам. Наверху они обнаружили огромный кедровый шкаф, битком набитый меховыми манто: там были белая норка, леопард, соболь, тюлень и канадский волк. Джио произнес пламенную обличительную речь, разъяснив, какое это варварство — убивать тюленьих детенышей, чтобы шить из них дамские пальто, чем довел сестричек до слез. Кончилось тем, что они решили извлечь “бедных зверушек” из страшного шкафа и устроить им торжественные похороны.
Церемония состоялась темной ночью при свете факелов и позаимствованных на террасе светильников. Разумеется, родители устроили разбирательство, но, несмотря на угрозы и наказания, ни Джио, ни близняшки так и не признались, где упокоились “бедные зверушки” из бабушкиного шкафа.
***
Около десяти часов провела я, сидя на охапке сена в хлеву, где запер меня фермер. Спина болела от ударов, голова кружилась, мне хотелось есть, пить, я мечтала о чашке чая, кофе, стакане воды, о зеленом яблоке, тарелке супа, глотке виски. Выбраться из заточения было невозможно: снаружи меня заперли на висячий замок, а дверь была крепкая. Подозреваю, что фермер, который это сделал — я хорошо его знала, мы десять лет общались, — сделал это не по своей воле. Хотелось верить, что не по своей. Мой сотовый остался в машине. Совершенно в моем духе: блокнот и карандаш в кармане, а телефон — бог весть где. Я ждала, когда что-нибудь произойдет.
В последнее время все очень переменилось. Когда я приехала в город за покупками, булочница попросила меня выйти из ее лавки, а мясник сообщил, что жена запретила ему меня обслуживать. Сказав это, он ретировался и спрятался в морозильном отсеке, красный, как кусок мяса, который он только что разделывал.
Вернувшись домой в Париж, Джио стоял на своем: “Это мое личное дело, а вам должно быть стыдно задавать мне такие вопросы”. То же самое ответил он подростковому психиатру, которого пригласила Миколь, после чего тот принял приличествующую ситуации мину и ретировался подобру-поздорову.
Но Миколь не сдавалась. На все ее расспросы о том, что же между нами произошло, Джио отмалчивался и только мотал головой — защищал меня, как она считала. Он все отрицал — но так, что Миколь ему не верила. Наконец она довела его до белого каления, и во время грандиозного скандала он завопил, что да, он спал со мной все лето, что это было лучшее, что произошло с ним в жизни, и уж этого никто у него не отнимет. Миколь побелела и завопила в свою очередь, что она с самого начала это знала. Рафаэль попытался вмешаться, Джио начал кричать, что это неправда, что это он так просто сказал, но никто его уже не слушал, потому что Миколь собралась уходить, держа за руки рыдающих близняшек. Стоя в дверях, она начала диктовать свои условия. Она заявила, что, пока Рафаэль не подаст на меня в суд, она домой не вернется и пусть тогда они с Джио разбираются сами как хотят.
Я знаю все это от Рафаэля, который мне позвонил. Судя по голосу, он был на грани и изъяснялся обрывками фраз:
— На месте Джио… Собственно… Вообще-то говоря… Если это правда… Да нет, считай, что я ничего не говорил…
Он объяснил мне, что бессилен против Миколь: иначе это развод, развал семьи, он потеряет Адзурру и Аллегру — в общем, будет война. Он дал мне понять, что даже переговоры невозможны, потому что это не единственное, в чем может упрекнуть его Миколь.
Мне показалось, он вот-вот расплачется, но он повесил трубку.
Не переношу плачущих мужчин. Не потому, что это как-то принижает их в моих глазах, а потому что плачут они, как правило, по ничтожным, недостойным слез причинам. Чаще всего жалеют самих себя.
Существуют голоса более материальные, чем тело. Бывают голоса, которые смущают покой, сводят с ума — и такие, что, наоборот, успокаивают, утешают. Голос мамы был низкий, грудной, с раскатистыми “р” немного на итальянский манер. Голос отца — проникновенный, хрипловатый, несмелый, неуверенный, часто замирающий в поисках нужного слова.
Голос Рафаэля… Мне достаточно было закрыть глаза, чтобы его услышать. В нем звучали нотки теплые, как ласка. Некоторые его слова я не могла вспоминать без дрожи. Но как заткнуть уши, если голос идет у тебя изнутри?
Запертая в хлеву с коровами, я, как и они, пережевывала свою жвачку. Животные смотрели на меня немигающими глазами. Мне хотелось, чтобы у меня было побольше времени. Все так стремительно неслось куда-то. Я многого не успела сказать Джио.
Мне позвонила Анни, позвонил д’Оревильи. Они спрашивали, все ли у меня в порядке “несмотря ни на что”. Я отвечала, что все нормально. Для человека, связанного по рукам и ногам и стоящего на краю обрыва, куда его тихонько подталкивают, все действительно было ничего. Оба предложили мне пожить у них несколько дней, отдохнуть, собраться с мыслями. Но отдохнуть от чего? С какими мыслями собраться? Я же не могла предложить Джио руку и сердце, чтобы спасти честь семьи. И на сластолюбивого старичка-профессора, не устоявшего перед чарами какой-нибудь лолиты, я тоже не похожа. Хотя, по правде говоря, если бы мой случай относился к одному из названных, мне бы вынесли менее суровый приговор.
Дело близилось к вечеру. Одна из коров не сводила с меня больших спокойных глаз, изо рта у нее текла слюна. От коровы приятно пахло травой и молоком. Хлев казался мне обителью покоя. За стенами свистел ноябрьский ветер, но он не нарушал царящей внутри тишины.
Вдруг корова перестала жевать и насторожила уши. Раздался звук мотора, скрежет тормозов, шуршание гравия под колесами. Хлопнула дверца, мужской голос что-то сказал, ему ответил истеричный женский смех. Моя передышка закончилась.
***
Не знаю, как распространяются слухи. Не знаю, кто первым разнюхал эту историю и решил развить тему. Я получила повестку в суд — и тут все началось.
Сначала в местной прессе появилась саркастическая заметка — должно быть, в тот день больше нечем было поживиться. Хроникер придумал удачное на его взгляд название: “Лув-стори”.
Потом ко мне заявился журналист. Я выпроводила его, но он отправился за материалом в город. После чего однажды утром я нашла около дома караулившего меня фотографа. Аппарат его я разбила вдребезги, но он умудрился-таки тиснуть мой портрет в газете. Это было унылое фото на документы. Где он его раздобыл, так и осталось для меня загадкой.
Потом все покатилось под горку. Дня не проходило, чтобы в прессе не появилась какая-нибудь новая статейка — они множились, как грибы после дождя. Несколько раз мне звонила ассистентка какого-то телеведущего, предлагала выступить по телевизору и рассказать “про это”, не показывая лица. Потом позвонил какой-то издатель с предложением обсудить возможность публикации “моей версии событий”. Начали звонить и вовсе неизвестные личности и делать всякие непристойные предложения — пришлось сменить номер телефона, но и это не помогло. Дальше на меня набросились женщины с обвинениями, что у меня нет своих детей и я знать не знаю, каково это быть матерью, поэтому только такая сука, как я, могла “изнасиловать бедного ребенка”. После этого я перестала брать трубку и только проверяла поступавшие сообщения.
Впрочем, до этого момента моя жизнь еще почти не изменилась. Так человек, которого прошила пуля, в первые секунды еще ничего не чувствует и продолжает идти вперед.
По вечерам, вернувшись домой, я кормила нашего с Джио приблудного кота, который ночевал у меня на кровати и баюкал меня своим мурлыканьем, если мне не спалось. Нил охотился на задворках в зарослях розмарина, и потому от него всегда хорошо пахло. Я гладила его между глаз, где у него были две мягкие складки, как у мыслителя, чесала за драными ушами. По правде говоря, это противоречило моим принципам: доверяясь нам, животные не приобретают, а теряют. Человек эгоистичен, он хочет лишить животное свободы, подсунув взамен плошку дрянной еды. Я утверждаю это не как ветеринар. Я ничего не имею против сухого корма, но именно из-за того, что мы пихаем в себя невесть что, земля нас больше не хочет. Кладбища забиты трупами, не успевающими разлагаться. Пестициды, консерванты, неперерабатываемые отходы, зловонные выхлопы и прочие гадости — все это вместе превращает нас и наших животных в общую живую массу — отторгаемую природой. Когда я умру, я хочу, чтобы меня сожгли. Или же пусть меня зароют в сосновом гробу, самом дешевом и примитивном, какой только есть на свете. В гробу, который быстро сгниет. Ничего не может быть лучше.
Несмотря ни на что, я держалась. Говорила себе, что это дурной сон, что он кончится, я встречусь с Миколь и сумею убедить ее не доводить дело до судебного процесса. Пять лет тюрьмы? Но за что? 75 тысяч евро штрафа? Да у меня их все равно нет. Конечно, можно конфисковать дом и закрыть счет в банке, но больше у меня взять нечего. Ничего другого у меня действительно не было и нет, и это, как ни странно, меня утешало.
Дверь хлева неожиданно открылась. Я вскочила на ноги, сердце бешено заколотилось. Пока я днем сидела на соломе, на меня в какой-то момент накатил панический страх. Я вдруг поняла, что все было подстроено и просчитано. Я приготовилась к нападению, к агрессии, к вымещению злобы, возможно — к побоям. В дверь ворвался порыв холодного ветра, поднял столб пыли. Коровы замычали. Прежде чем выйти наружу, я пальцами причесала волосы, стянула их резинкой в хвост — смешной жест, но это было все, что я могла сделать, чтобы как-то придать себе храбрости, чтобы заставить ноги двигаться к выходу. На дворе уже стемнело. Ноздри защекотало от запахов: дым, прелые листья, мокрая земля, навоз. Я сощурилась. Было мягко, сыро, изморось обволакивала деревья и кусты беловатым облаком. Вдалеке лаяли собаки. Яркий прожектор над входом в сарай разгонял ватный уют вечера. Передо мной образовался проход, по обеим сторонам которого стояли люди, неподвижные, как изваяния. Можно подумать, они ждали появления праздничной процессии, несущей под балдахином фигуру Девы Марии.
При моем появлении какая-то женщина харкнула мне под ноги. За моей спиной стоял фермер, которого я хорошо знала, он придерживал дверь хлева. Это немного придало мне смелости, потому что я не верила, что этот человек может причинить мне зло. Год назад я помогала ему и его жене принимать роды у сотни овец: кровь, грязь, пуповины, слизь, помет… изнеможение. Когда мы закончили, мы выпили за рождение новых ягнят, за нашу совместную работу, за наше здоровье. Десять лет подряд я помогала им, не щадя сил. Мы хорошо знали и уважали друг друга. Я лечила его скот, ела на его кухне, шутила с его женой и его детьми. Теперь я заглянула ему в лицо. Он опустил глаза. Значит, все эти нелегкие годы будут забыты в мгновение ока… а из-за чего, собственно? Откинув волосы со лба, я стала поочередно вглядываться в этих молчащих людей: замкнутые лица, рабочая одежда. Странно было видеть их вместе. У булочницы глаза лезли из орбит — так пристально она на меня смотрела: открыв рот, задыхаясь. Мясник прятался за спину жены. Фермер, у которого я лечила кобылу по имени Бижу, жался к своей. Никто из них не выдержал мой взгляд, все отводили или опускали глаза.
Эти люди, обычно думающие только о работе и о том, сколько они за нее выручат, нашли время собраться, чтобы вынести мне приговор! Неужели я нарушила какое-то страшное табу? Что на самом деле явилось искрой, от которой все взорвалось? Может быть, истинной причиной враждебности стала та жизнь, которую я вела, столь непохожая на жизнь других? Ведь ради этого они бросили свои дела и собрались в дождливый осенний вечер здесь, у двери сарая. Должно быть, я всегда казалась им подозрительной: одинокая женщина, без мужа, безо всякого намека на личную жизнь. Я должна была жить с мужчиной и иметь детей — или, во всяком случае, страдать и сетовать на судьбу, что этого мне не дано. Я же играла не по правилам, я вообще никаких правил не соблюдала. И даже не давала себе труда притворяться — это, наверное, было хуже всего. Именно этого они не могли мне простить.
Мне было страшно, когда я шла мимо них к машине. Но, после того как фермерша плюнула в мою сторону, ничего больше не произошло. Они стояли не двигаясь, и их немая ненависть, их нескрываемая враждебность были для меня знаком, что мне следует убраться.
Я полагала, что они ограничатся оскорблениями в мой адрес и унижениями, которым меня подвергли.
Но, вернувшись к себе, я обнаружила, что дом мой разорен. Мебель была сломана, диваны и матрасы выпотрошены, книги сброшены с полок и разорваны, из стен выдернуты розетки, лампочки все перебиты. Я обошла дом, ноги у меня подкосились, и я сползла по стене на пол. Так я и осталась сидеть, обхватив голову руками, онемев от изумления, ярости и отчаяния.
А с кухонной двери на меня смотрел мертвыми глазами пригвожденный к ней кот по имени Нил, прирученный Джио.
Наутро я бросила в машину дорожную сумку, заперла “Лувьер” и, не оглядываясь, навсегда уехала их этих мест.
***
Вечером того же дня я приехала в Понтарлье. Д’Оревильи ждал меня. Волосы его были по-прежнему густы, только совсем поседели. Зато усы, как и раньше, победоносно торчали в стороны. Кажется, он лишний раз убедился в том, что я не создана для ремесла сельского ветеринара — как в тот день, когда я только приехала к нему. Я поставила сумку на землю, чтобы пожать ему руку, как и в первую нашу встречу, но он, подойдя ближе, крепко обнял меня и долго не выпускал, так что я успела почувствовать его сухие крепкие руки на своей спине, худое узловатое тело, дряблую шею и исходивший от него запах — трав, смолы, мокрой древесины. Мне нравился этот запах. Не одеколона — а человека, который работает на свежем воздухе. И здоровье его явно поправилось — он выглядел гораздо лучше, чем когда мы расставались. Даже одежда его имела более ухоженный вид: теперь уже не возникало ощущения, что он только что из конюшни. На нем была холщовая рубаха в клетку, старательно отглаженная, и добротные ботинки для ходьбы по горам. Удивительная вещь, с приходом старости некоторые только молодеют. Даже лицо его было более гладким, чем в былые времена.
Он перекинул мою сумку через плечо, а я, вместо того чтобы обменяться с ним приличествующими случаю любезностями, вдруг спросила без обиняков, не родственник ли он знаменитому писателю. Он вопросительно вздернул брови и ничего не ответил.
Мы оставили мою машину в городе, пересели в его джип (полный привод, одна из последних моделей) и стали взбираться вверх по горе, к деревеньке, где он жил, почти на самой границе со Швейцарией. Мир, который открывался моему взору, был гораздо красивей, чем в моих воспоминаниях. Стройные стволы высоких сосен были окутаны лишайником, контуры гор были мягкими, пушистыми, лишь кое-где из них торчали камни, из-за которых порой выглядывали лани.
Д’Оревильи вел машину и беседу одинаково легко. Любезный, как никогда, он рассказывал, что работы хватает, что он ездит то туда, то сюда, что вот купил-де новый джип, — “Слышишь, как мотор тихо работает, даром что в гору ползем?”. Что даже зимой добирается на нем до самых далеких ферм. “В наших краях работы хватает”, — снова повторил он, поглядывая на меня и топорща усы. Я молчала. Убаюканная теплом внутри машины, разговорчивостью д’Оревильи и его радушием, я начала понемногу приходить в себя. Мой дорогой д’Оревильи был человеком, каких больше нет на свете, — с виду грубоватый и неприветливый, он, как оказалось, умел быть галантным и чутким, когда этого требовали обстоятельства. У меня как будто глаза открылись. До чего же он, оказывается, молод. Как старая монета, которую потерли песком. И кожа совсем молодая, туго обтягивающая лицо.
В долине выпавший недавно снег растаял, но по мере того как мы поднимались, его становилось все больше: сначала он длинными валиками лежал вдоль дороги, потом легкой поземкой покрыл бетон. Когда мы поднялись еще выше, под колесами захрустела тонкая корочка, похожая на сахар. Стояла безлунная ночь. Мы взрезали черноту фарами, а потом она снова смыкалась позади нас в неизменном и чистом соединении черного и белого.
Наконец мы добрались до маленькой сонной деревушки и подъехали к высокому дому из камня и бревен, выделявшемуся на фоне еловых зарослей. Окна светились.
От гаража до дверей мы шли уже по довольно глубокому снегу. Пришлось попрыгать на пороге, постучать ногой об ногу, чтобы его стряхнуть. Д’Оревильи собирался открыть ключом дверь, как вдруг она открылась сама, и на пороге возникла женщина.
— А я вас жду, — сказала она, улыбаясь.
В камине горел огонь. У огня на уютном глубоком диване и в двух кожаных креслах спали два пса и внушительных размеров кот. В былые времена д’Оревильи не хотел заводить домашних животных, и я была с ним в этом согласна. Значит, он, как и я, в конечном счете сдался.
На маленьком столе был сервирован ужин: картофельный салат, мясная нарезка, сыры, ломти хлеба в корзинке с белой салфеткой, бутылка красного вина и мерцающие в отсветах пламени бокалы. Д’Оревильи коротко и смачно чмокнул жену в губы, она ответила ему с изяществом. Потом она протянула мне руку и снова улыбнулась. У нее было нежное лицо с высокими скулами, удачно скрывавшими возраст, который наверняка не сильно отличался от возраста моего друга; голубые глаза и короткие кудрявые волосы, тоже совершенно седые. Она была красива, выше меня ростом, с прямой спиной и величественной осанкой, но строгий вид смягчала улыбка. Посмотрев мне прямо в глаза, женщина сказала, что столько про меня слышала, что можно сказать, она меня уже знает. “И даже одно время немного ревновала”, — добавила она, выходя из комнаты. Это надо же, за старика д’Оревильи воевали две женщины! Мы остались с ним наедине: я была немного смущена, а он (жена называла его “мой Том”) весь светился от радости. Он подмигнул мне и заговорил, снижая тон, чтобы она не услышала:
— Ее зовут Элен. Красавица, правда? Она мне приглянулась еще в детском саду, так что, считай, я больше пятидесяти лет о ней мечтал. А она рано выскочила за муж, но, увы, не за меня. Столько времени зря потрачено… В прошлом году, представь, муженек променял ее на какую-то молодуху. Вот идиот! Она все вздыхала, что жизнь кончилась… Моя бы тоже кончилась, если б она меня не захотела. Я ухаживал за ней как одержимый. Ну и задача, скажу я вам, достучаться до разума женщины! Ох уж эти девчонки! Мало того, что жизнь вам спасаешь, так еще и спасибо скажи… — Его глаза светились нежностью и смехом.
Элен вернулась в гостиную, и мы принялись за ужин. Мы ели, ворошили угли в камине, гладили животных, смеялись, смотрели на огонь и размышляли. Это был первый вечер из целой череды сердечных и светлых вечеров.
Все следующие дни я спала на мягкой уютной перине, завтракала всякими вкусностями, бродила по лесу, обсуждала свои проблемы с двумя людьми, слишком умными и доброжелательными, слишком всепонимающими, чтобы меня осуждать. Учитель назвал Джио “молодым олененком”, и мы засмеялись. Элен призналась, что не понимает.
— Годовалые олени обычно ведут себя вызывающе и всячески демонстрируют свои только-только выросшие рожки, — пояснил учитель.
Выслушав мою историю во всех подробностях, д’Оревильи и его жена согласились, что самое правильное — встретиться с Миколь и уговорить ее забрать из суда заявление.
Эти дни пролетели быстро, как пролетают все счастливые дни. Элен и Тома баловали меня, словно дочку, которой у них не было. С ними у меня от души как-то отлегло, я перестала нервничать. Мне было хорошо до последней ночи.
В последнюю ночь я лежала без сна, боясь шевельнуться, и смотрела на темный квадрат окна. За стеклом кричала сова, издали ей отвечала другая — жутким, душераздирающим криком. Это был вопль боли и ужаса перед разлукой, перед неизбежностью и беспощадностью смерти. Сон не шел. Дрожа как в лихорадке, уступая душившим меня рыданиям, я с грехом пополам дождалась утра. Видя мое перевернутое лицо, мои деликатные друзья не стали ни о чем меня спрашивать. Д’Оревильи на прощание крепко обнял меня и тихонько сунул мне в карман черную кожаную записную книжку: подарок на грядущее Рождество. Он шепнул мне на ухо:
— Помни, девочка, мой совет. Это совет старого безумца, но все же я тебе его дам: невозможно ни все понять, ни устроить все как надо.
***
Широкие мазки кистью на стенах комнаты удлиняются к концу ночи. Я наслаждаюсь остатками тьмы и покоя, зная, что скоро настанет час, когда надо будет снова приниматься за какие-то дела.
Я глажу страницы, переписанные маминой легкой рукой, потому что нотная бумага с напечатанными на ней нотами состарилась и истлела. Мама называла такие ноты “спящей музыкой”. Она любила читать музыку на бумаге. Говорила, что время отступает, когда в голове музыка обретает ритм и звучание. Она называла это свободой.
Первый мамин инструмент был “гаво”, миниатюрный кабинетный рояль. Родным пришлось продать одну из последних фамильных картин, чтобы его купить, но не могло быть и речи о том, чтобы столь одаренное дитя играло на каких-нибудь “дровах”. Семья возлагала все надежды на эту девочку, строгую, упрямую и молчаливую, с недюжинными способностями к музыке. Поэтому когда она влюбилась в папу, а потом вышла за него замуж, бабушка с дедушкой оставили неблагодарную дочь в покое, выделив ей причитающуюся долю наследства, но навсегда закрыв для нее свое сердце.
— В этой семье, — часто повторяла мама, — либо ты бог, либо никто. Не важно, что ты получил Гран-при или с отличием окончил консерваторию. Ты обязан быть лучше всех, без вариантов. Дальше — хуже, потому что потом оказывается, что все первые ученики наступают друг другу на пятки и то, что когда-то было исключением, становится правилом. А ты обязан стать лучшим из лучших. И еще надо, чтобы тебе везло.
Что касается меня, то больше десяти минут я выдержать за пианино не могла. Даже будучи совсем маленькой и сидя у мамы на коленях, я отбивалась изо всех сил. А вот слушать могла вечера напролет. Скарлатти, Вивальди, Гендель, Рамо, Дебюсси… Хотя последнее произведение, которое я слышала в мамином исполнении, было совсем другого толка. Это был Light, “Свет” Штокхаузена. Сейчас я держу в руках именно эти страницы. Для мамы сочинение Штокхаузена было очень важным — это была метафора космоса, что-то такое, что она безуспешно пыталась мне объяснить. Прослушать его целиком я смогла лишь много лет спустя.
— Оно построено на сериях по двенадцать звуков в каждой, и каждый звук, каждая нота — это как частицы вселенной, — объясняла мама. — Какое счастье, что Штокхаузен стал музыкантом, а не писателем, иначе я бы никогда этого не узнала.
Мама никогда ничего не читала. Когда я принималась ее увещевать, она говорила:
— Жизни хватает только на одну страсть, Эмма. Ты сама поймешь когда-нибудь.
Эти ноты лежали у нее на столике в изголовье, когда в ее глазах, затуманенных болезнью, вдруг мелькнул прежний огонь: гнев, вызов. Она тихо проговорила:
— У меня больше нет сил. Девочка моя, помоги мне.
В этот последний вечер я дала маме лекарства, сказав на прощание:
— Спи спокойно, мама. До завтра.
На рассвете я встала, чтобы открыть окно. Она уже давно перестала дышать. Тогда я легла рядом с ней, уткнулась носом ей в шею и стала вдыхать ее запах, потому что больше никогда в жизни я его не почувствую и мне будет его не хватать до самой смерти.
Что было в следующие дни, я помню смутно, записей в дневнике по этому поводу никаких нет. Что мне запомнилось, так это как тяжело дышал отец. Он перестал есть, перестал пить и только буравил меня взглядом, не задавая никаких вопросов. Самое страшное в боли любимого существа — это невозможность взять его страдания на свои плечи. Страшнее нет, чем когда не можешь помочь.
Когда мамы не стало, отец протянул недолго. Он вдруг разом постарел. Когда он двигался, его суставы скрипели, как старые сучья. Говорят, из-за разбитого сердца не умирают. Может, оно и так, но мне кажется, что умирают оттого, что жить не хочется. Умирают, когда все становится безразлично.
Потом не стало и папы. Я продала дом, мебель, раздала одежду, подарила мамин рояль и уехала.
***
Декабрьский вечер между Рождеством и Новым годом. Один из самых темных, самых искристых вечеров в году. Я ждала ее в парижском кафе, где мы в былые времена часто завтракали и курили, пока из пепельницы не начинали вываливаться окурки, а еще плакали и хохотали и даже однажды — но это уж совсем давно — встречали Новый год. Я сидела и ждала. Это одно из тех мест, где назначают встречи, где те, кого все знают, не узнают никого, а те, кто знает вас, делают порой вид, что вас не заметили.
Миколь опаздывала. В этом она вся — никогда не приходит вовремя. С ней никогда не знаешь, действительно ли вы договорились о встрече или кто-то из вас что-то перепутал. У нее всегда все сложно, как будто каждый ее шаг отмечен сомнением. Не знаешь, к чему готовиться. Более того, она может позволить себе в последнюю минуту передумать и никому при этом ничего не объяснить.
Я выпила порцию виски. Пригубила вторую. Все вокруг начало потихоньку плыть, когда наконец появилась Миколь. Она принеслась, запыхавшись, почти на час позже и даже не сочла нужным извиниться. На ней был тонкий свитер, плотная нитка жемчуга на шее, черные бархатные брюки. Женщина из итальянского кино. Из фильмов Антониони — “Ночь” или “Приключение”.
Я открыла было рот, но она меня перебила:
— Ты хотела меня видеть — я пришла. Только не надо оправдываться. Ты ничего не можешь мне объяснить. Меня вообще от тебя тошнит. Я знаю, что было между тобой и Джио. Я знаю все.
— Что все?
— Прекрати. Даже не пытайся.
Я молчала.
— Мне даже в голову не могло такое прийти! И главное — ты!
Я продолжала молчать. Она не унималась:
— Ну хорошо, выкладывай. Если есть что сказать, говори. Только не надо врать.
И тут вдруг случилось то, чего я меньше всего хотела, — слова начали сами вылетать у меня изо рта, я не могла их остановить:
— И это говоришь мне ты?.. Не врать?
Она не ожидала. Я продолжала:
— Ну что ж, давай начистоту. Ты ведь этого хочешь? Мы ведь никогда не говорили о прошлом!
Ух как она на меня посмотрела! Так бы и изничтожила меня и пепел по ветру развеяла!
— Что ты такое несешь?
Тут во мне вскипела ярость, вспомнились мои страдания, мое одиночество, мои потери. Все, что я долгие годы пыталась в себе подавить, выплеснулось наружу:
— А что ты думала? Что я буду собирать крошки с твоего стола? Что мне больше ничего не нужно? Думала, так легко от меня отделаешься?
— Ты сошла с ума, Эмма. У тебя брызги изо рта. Какая гадость!
— Подумаешь, слюной брызнула! Мне и не такое приходилось терпеть. Только ты всего этого знать не хочешь.
— Ты сама во всем виновата. Только ты, и никто другой.
— Я не про Джио.
— А про что же тогда?
— Про то, что было раньше. Ты прекрасно знаешь.
— Да ты бредишь, бедняжка.
— Да, бедняжка. Несчастная идиотка, которая полагала, что жизнь удалась, потому что любимый мужчина рядом. Увы, нам на голову свалилась ты.
— Все это было сто лет назад! Ты мне уже надоела. И не думай, что я все это так оставлю… Ты за все ответишь. Хватит с меня. Я пошла.
Она встала, начала собирать свои вещи. Я тоже вскочила, обогнула стол, с силой посадила ее обратно. На ее лице, исказив черты, мелькнул страх. Проходивший мимо официант остановился, с беспокойством глянул на нас, потом пошел по своим делам. Я села и продолжала, снизив тон:
— Тебе все же придется меня выслушать.
Она процедила:
— Так и быть, раз уж ты настаиваешь. Кстати, скажи, сколько времени это длилось у вас с Рафаэлем? Даже после нашей с ним свадьбы? И даже после рождения Джио? А может, и после того, как родились близняшки… До самого того момента, когда ты наконец уехала? Так ведь? Тебе мало было того бардака, что ты устроила для нас троих, тебе Джио теперь подавай! В общем, ты хотела вляпаться в дерьмо — ты это получила.
Она захлюпала носом, достала бумажный платок, высморкалась. Рафаэль, тот всю жизнь с собой носовые платки носит. Она — нет. Миколь продолжала:
— Ты в самом деле думаешь, что я ничего не видела, ничего не замечала? Просто я ждала, что это рано или поздно кончится само, запутается настолько, что невозможно будет продолжать. В сущности, я оказалась права. Ну что, теперь ты довольна? Я могу идти?
Очень тихо, так что Миколь пришлось ко мне наклониться, я сказала:
— Нет. Мы еще не закончили.
— Сколько пафоса!
— Скажи, ты помнишь тот вечер? Разумеется, помнишь, как такое забыть?
— Какой вечер?
— Когда ты объявила, что ждешь ребенка.
— Ну и что?
— Джио родился в конце июня.
— Ну и что из этого?
— Десять месяцев спустя!
— Ах, вот оно что! Ну да, десять. Считать ты умеешь.
— Ты обманула меня, Миколь. И Рафаэля тоже. Ты нам обоим лапшу на уши вешала. “Я беременна, я беременна…” Ты лгала. Ему-то ты что рассказала? Впрочем, мужики — дурачье, не так ли? Они предпочитают не знать, как там все происходит. Тебе крупно повезло, девочка.
— Теперь все это старо как мир. Было, да прошло, Эмма. Быльем поросло.
— А, понятно, значит, тогда еще было не поздно.
— Перестань. Все позади, понимаешь? По-за-ди.
— Вот заладила “позади, позади”. Как будто время может что-то оправдать.
— Просто, так или иначе…
— Что так или иначе? Ты победила? Ты это хочешь сказать?
На этот раз я не стала ее удерживать. Она встала, ничего не ответив, прямая, будто на голове у нее была стопка книг, оделась и, не снимая с лица высокомерной полуулыбки, ушла, не удостоив меня даже взглядом.
Официант, немного обеспокоенный, спросил меня: “С вами все в порядке?” Я кивнула. В глазах у меня стояли слезы. В старых зеркалах отражались горящие люстры. Одна из последних ночей старого года.
Рафаэль тянул целую зиму, прежде чем решился мне позвонить. Мы договорились встретиться в одном из маленьких бистро Люксембургского сада, — в том, что ближе всего к улице Медичи. На этот раз опаздывала я.
Я бежала бегом. Чтобы отдышаться, остановилась около фонтана с Акидом и Галатеей. Мне всегда казалось, что в томно-податливой позе юной девы куда больше жизненной силы, чем в объятиях держащего ее на коленях мужчины. Ее рука на затылке возлюбленного легко играет локоном. Именно эта деталь доказывает, что игру ведет она, а не он. Ускользнув от взгляда циклопа Полифема, я пошла дальше, на этот раз не спеша, туда, где ждал меня Рафаэль.
На воздух были выставлены хромые, ржавые столики. За одним из них сидел Рафаэль и помешивал ложечкой кофе. На каштанах набухли молодые почки, на клумбах буйствовали крокусы. С тех пор как я вернулась в Париж — я теперь жила здесь в ожидании суда, — мне постоянно не хватало зелени и природы, не хватало до крика.
Я прислонилась к заскорузлому стволу и стала рассматривать замысловатые узоры на коре. Люксембургский сад был почти безлюден, кроме Рафаэля, за столиками не было никого. Он сидел, чуть ссутулившись и вытянув ноги, черное пальто распахнуто, под ним — темный костюм без галстука и белая рубашка с расстегнутым воротом, открывавшим шею.
Он вскинул голову, как будто почувствовал, что я недалеко. Вокруг его глаз и рта залегли морщины, но даже резкие складки удивительно ему шли. Он сидел с отсутствующим видом, погруженный в свои мысли. Время от времени водворял на лоб соскальзывающие темные очки. Кудри его по-прежнему были черны, седина посеребрила только виски. В пальцах он крутил пакетик от сахара. Потом посмотрел на часы, запахнул на груди пальто, поежился, устроился поудобней на стуле и заказал еще один кофе. Он рассеянно поглядывал по сторонам. Я была готова к тому, что он вот-вот меня заметит, и тогда мне придется подойти, внятно и членораздельно произнести какие-то слова, изобразить радость, как будто мы — старые друзья, которые просто давно не виделись.
Но что мне тогда делать с желанием взять его за руку и нырнуть вместе с ним в тишину и полумрак первого попавшегося отеля? Что мне делать с моими воспоминаниями, от которых сжимается горло, с моей бессильной яростью оттого, что я выступаю в роли покинутой? Что мне делать со всеми моими годами одиночества, со всей моей жизнью, от которой хочется втянуть голову в плечи и зажмуриться?
Мимо, подняв за собой вихрь, пронеслась бегунья с длинными голыми ногами и болтающейся косой. Рафаэль проводил ее глазами, приподнял рукав пальто и мягкий манжет рубашки и снова поглядел на часы. Ему даже в голову не могло прийти, что я вдруг вообще не явлюсь. Я сделала шаг назад, в тень, и пошла прочь.
***
Бывают моменты, от которых зависит вся жизнь. Бывают комнаты, уходя из которых утром ты закрываешь за собой дверь, чтобы никогда не вернуться. Бывают зеркала, в которых мы оставляем частицу самих себя.
В моей жизни были ночи, когда я плакала навзрыд и казалось, выплачу все глаза. Были и другие, когда наслаждение оказывалось столь сильным, что превращалось в квинтэссенцию наслаждения. Еще были ночи, как эта, когда я просто не спала, а лежала в темноте с широко раскрытыми глазами и пыталась понять. Я снова чувствовала тяжесть сидящего у меня на коленях маленького Джио. Думала о моих друзьях, об Анни, о д’Оревильи, людях необычных, ни на кого не похожих, но живущих в согласии с собой. Сестра и дядя, мое утешение, моя семья, самые близкие мне люди.
Я вспоминала маму, склоненную над своим роялем. С каждым днем я скучаю по ней все больше, и легче мне не становится. Я вспоминаю единственного мужчину, которого любила в своей жизни, но когда настал момент протянуть руку и взять его, я от него отказалась. Вспоминаю ревность, которая пронзала меня, когда Миколь кормила грудью Джио. Я так и не знаю, любили мы с ней друг друга или ненавидели, — а может, и то и другое вместе.
Судили меня в исправительном суде[8]. Зал заседаний походил на столовую в старом загородном доме или на алтарь заброшенной церкви. На дальней стене медальон с изображением женщины со взбитыми волосами и босыми ногами, держащей в одной руке книгу, а в другой — положенный на книгу меч. Она смотрела скорее на орнамент потолка, чем на то, что происходило в зале. Два огромных полусферических светильника из молочно-матового стекла распространяли бледный свет, в котором мы все напоминали неумелых и растерянных актеров, плохо знающих свои роли. Судья произнес мое имя, я подошла к барьеру. Начало я помню:
— Вы Эмманюэль Адриансен?
— Да, но все называют меня Эммой, господин судья.
— Мадам, вы обвиняетесь…
Все остальное как-то стерлось в памяти. Я не сводила глаз с больших часов, на которых было начертано Lex, закон. Приговор я выслушала с невозмутимым спокойствием: три года тюрьмы условно с испытательным сроком. В этот момент я вспоминала, как Джио приготовил мне ванну и насыпал туда розовых лепестков, а потом сам влез за мной следом. И еще помню скомканные бумажные платки, как белые бабочки, разбросанные вокруг его кровати. И комариную сетку, которую он как-то ночью наполнил светлячками.
***
Моя сегодняшняя бессонная ночь мне не в тягость. Против пережитых невзгод лучшее лекарство — воспоминания и размышления. На рассвете, едва я набросила халат, раздался телефонный звонок. У Гранденов, моих соседей, — событие: кобыла рожает. Здоровенная першеронка, белобрысая, как поле овса. Фермер извинился, что поднял меня в такую рань, да еще в субботу. Он мялся, я ждала. Наконец он откашлялся и с усилием произнес: роды, пожалуй, будут нелегкие. Для него это была очень длинная речь.
Я хорошо знаю Гранденов. Их четверо: муж, жена и двое сыновей. Мальчишки у них крепкие и похожи между собой: глазищи большие, темно-синие, едва не черные, загорелые лица с крупными чертами и русый еж волос на голове, сходящий на нет на затылке и над ушами. Они никогда не тянут ко мне лицо для поцелуя, как это делают другие дети. Тем лучше, мне всегда не по себе от этих принудительных лобзаний. От фермеров обычно пахнет табаком, перегаром, застоявшимся кофе и потом длинных утомительных дней. Так что я особо ценю их искренние рукопожатия.
Мать семейства — мягкая, круглая, полная, она носит фартуки, делающие ее похожей на фермершу из американской глубинки. Впрочем, все Грандены будто сошли с американских фотографий, из того фоторепортажа, что был сделан в день похорон Роберта Кеннеди. Траурный поезд, следуя из Нью-Йорка в Вашингтон, пересек тогда пять штатов. Двигался он медленно, и по дороге вся Америка Фолкнера, Джима Харрисона и Кормака Маккарти выстроилась вдоль железной дороги по стойке “смирно”. Сняв шляпы, мужчины провожали глазами уходящую мечту о светлом будущем, которую обещали соотечественникам братья Кеннеди. Фотограф Пол Фаско сделал тогда без малого две тысячи кадров, высунувшись из окна поезда. К концу дня он сидел, сунув обессилевшие руки в ведро со льдом, — но зато в его аппарате остались снимки всех этих плачущих людей: мальчишек, размахивающих американским флагом, девушек, бросающих цветы, солдат в форме, вытянувшихся в струнку, прижимающих ладонь ко лбу в нескончаемом военном приветствии.
Кобыла, рожавшая впервые, тяжело дышала. Время от времени она подавала голос, но это не было обычное радостное ржание, которым она отвечает на сигналы моего автомобиля, когда я проезжаю мимо.
Мне пришлось проникнуть в отроги гигантской матки. В правой руке я держала ножницы, левой тянула. Мальчишки, выпучив глаза, наблюдали за происходящим. Я вытащила плаценту и разложила ее на чистом полу, чтобы проверить, цела ли она. В расправленном виде она похожа на лиловые шелковые штаны. Боясь дышать, разинув рот и засунув руки в карманы, совсем как их отец, стоявший позади, мальчишки следили за моими действиями. Они даже сделали шаг вперед, чтобы лучше видеть. А потом мы все вместе обмывали новорожденного жеребенка. Он уже мог стоять на своих паучьих ножках и тянул морду, пытаясь найти материнское вымя. Не помню, говорила ли я, что горжусь своими руками. Они у меня твердые и гладкие, как лощеная кожа. Под кожей проступают сухожилия кисти, ногти коротко обрезаны. Я никогда не надеваю перчаток. Роды надо принимать голыми руками. Мне кажется, у меня это от мамы. Хоть ей и не удалось сделать из меня пианистку, а руки ее, сильные и чуткие, я унаследовала. Не руки, а орудия, созданные для того, чтобы погружаться в самое нутро жизни. Я не ношу колец на пальцах, ничто не сковывает мои запястья. Мне кажется, я прошла по жизни с раскрытыми ладонями, пропустила сквозь пальцы время — как воду, как песок, ничего не удержав для себя.
Приняв жеребенка, я вернулась домой. Солнце, красное и низкое, светит по-осеннему, но это осень южная. Ночью все покрылось инеем — это случается нечасто в тех краях, где я теперь живу. Я стала плохо переносить холод — а может, просто не хочу его переносить.
Из окна кухни я вижу широкие поля, еще подернутые туманом. Вдоль канав топорщатся кусты, опутанные тонкой паутиной. Она развевается по ветру, как фата невесты. Вдалеке черные коровы вместе со своими телятами лежат в зарослях белых цветов. Каждая травинка сверкает на солнце в чистом утреннем воздухе. Я заряжаю кофеварку и ставлю ее на газовую конфорку, а потом иду к двери поцеловать приехавшего Джио. Его щеки по-прежнему напоминают бархат с наждачной бумагой пополам — то, что меня когда-то очаровало. Он приезжает ко мне каждые выходные и готовится к поступлению в Ветеринарный институт.
Я многому его научила, но и он научил меня многому. Злости и нежности, жестокости и ласке, и властности, которую сменяет покорность. Он вручил мне себя — и я приняла этот дар.
И надеюсь, сохраню его на некоторое время.
Памяти Фрог, Уилли, Миледи, Граффити и Клео
Слова благодарности
От всей души благодарю сотрудников виллы Юрсенар в Мон-Нуар, где в течение двух месяцев я писала и — мечтала;
Луизу из пансиона “Каза Гарибальди” в Сант’Анджело д’Искья;
Николетту Пачетти, читающую меня между небом и морем;
Изабель и Жана-Кристофа за райские врата в Телемскую обитель;
Изабель Крузе, Жанину Кальве, мою добрую волшебницу из Робиона, — и шлю поцелуй Коллетт и ее Помпону;
Капюсин, Анну, Франческу, Гийома, Г.П. и Стефано. А также Анну-Мари, Даниеля, Даду, Жана-Филиппа и Сурию, Франсуазу и Давида, the gang;
Рене Вюиллермоза;
Анну Кастанья и М.-К. Ромари;
Дельфину
и Вини.
Примечания
1
Перевод Сергея Белова. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
“Сад Финци-Контини” — роман итальянского писателя Джорджо Бассани и одноименный фильм, снятый на его основе Витторио Де Сика (1970).
(обратно)3
Имеется в виду французский писатель-романтик Ж.А. Барбе д’Оревильи (1808–1889).
(обратно)4
“Записки Мальте Лауридса Бригге”. Перевод Е. Суриц.
(обратно)5
Золотые деньки (англ.).
(обратно)6
Мадам де Турвель — персонаж романа Шодерло де Лакло “Опасные связи” (1782).
(обратно)7
Нет семьи, нет проблем (англ.).
(обратно)8
Исправительный суд — так называется во Франции суд, рассматривающий дела о проступках, подлежащих, в отличие от уголовных преступлений, легкому наказанию.
(обратно)







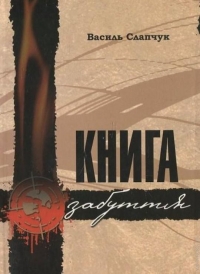

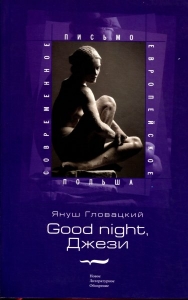
Комментарии к книге «Голыми руками», Симонетта Греджо
Всего 0 комментариев