Армандо Лопес Салинас За годом год
Ю. Уваров Предисловие
«Проблемы, которые меня прежде всего занимают, — это проблемы рабочего класса. Именно он, думается мне, определяет будущее литературы»[1] — так писал в 1966 году Армандо Лопес Салинас. В его романе «За годом год» рабочий класс Испании предстает перед читателем в страшное время репрессий, голода, нищеты, принесенных испанскому пароду франкистской диктатурой. Хотя книга рассказывает о событиях 1939–1952 гг., она не утратила актуальности и поныне, ибо в ней показано, как даже в самые тяжелые годы франкизма внутри общества и в первую очередь в среде испанского пролетариата зрели «гроздья гнева», закладывались основы солидарности и коллективного протеста. Роман «За годом год» обнажает корни, вскрывает истоки нынешнего массового движения, широкого недовольства режимом Франко, то есть таких явлений жизни испанского общества, которые существовали подспудно в 40–50-е годы, но выплеснулись наружу, стали так или иначе проявляться открыто в 60–70-е годы, свидетельствуя о необратимости процесса все углубляющегося распада фашистских форм правления в Испании.
Армандо Лопес Салинас достоверно изобразил страдания, боль и надежды испанских тружеников в первое десятилетие франкистской диктатуры. Он сам испытал тяготы и невзгоды, выпавшие на долю его соотечественников. Писатель родился 31 октября 1925 года в Мадриде и по окончании школы вынужден был зарабатывать себе на жизнь. Он сменил немало профессий: был рассыльным на обувной фабрике, затем в течение долгого времени копировальщиком и чертежником на электромеханическом заводе, затем профессиональным художником-декоратором. Среда мелких служащих и особенно заводских рабочих хорошо знакома Салинасу. Он с молодых лет мечтал написать книгу, которая передала бы то, что он испытал сам, что чувствовал и видел вокруг. Но только к середине 50-х годов благодаря некоторому ослаблению франкистской цензуры становится возможной критика отдельных сторон режима, отдельных негативных «случаев», разумеется, без всяких обобщений. Наиболее подходящей литературной формой для такого рода критики был рассказ, очерк или роман, по своему документальному характеру близкий к очерку. Армандо Лопес Салинас начал с рассказов, привлекших внимание читателей своей достоверностью, свежестью впечатлений и лаконичностью. Первый же сборник рассказов Салинаса был удостоен премии «Асенто», которая дается за лучший рассказ года. Он становится журналистом, профессиональным литератором.
В 1958 году Армандо Лопес Салинас вместе со своим другом и единомышленником Антонио Ферресом отправляется в Хурдес, один из наиболее отсталых, нищих уголков страны, расположенный на границе с Португалией. После чего молодые писатели выпускают книгу очерков «Путешествуя по Хурдесу», которая поведала миру о средневековой нищете испанской деревни. В августе 1960 года Салинас вместе с другим писателем его поколения, Альфонсо Гроссо, совершает путешествие пешком в низовья Гвадалквивира, в Южную Андалузию. Результатом этого похода явилась книга «Вниз по реке», прозвучавшая как обвинительный акт режиму благодаря репортерской документальности. Книгу не пропустила цензура. Поэтому «Вниз по реке» выходит в свет только в 1966 году в Париже с предисловием авторов, где говорится, что за прошедшие шесть лет в Андалузии ничего не изменилось.
Очерки были хорошей школой для будущего романиста и определили его манеру письма. По существу, из очерка о реальном происшествии вырос первый роман Салинаса «Шахта» (1960 г., на русский язык переведен в 1963 г.). Роман рассказывает о трагической судьбе крестьянина Хоакина, который пришел на шахту из деревни, гонимый нуждой, стал шахтером поневоле и погиб во время обвала. В этой книге молодой тогда писатель затронул самую больную тему для Испании тех лет — тему разорения деревни и чудовищной нищеты народа. Но уже и в «Шахте» ощущается взаимопомощь, солидарность в среде рабочих-шахтеров — зародыш будущего объединения в борьбе за свои права. Книга потрясла правдивостью, человечностью, остротой поставленной проблемы, и вскоре ее автор стал лауреатом высшей в Испании литературной премии Надаль и одним из наиболее известных прозаиков поколения, которое пришло в литературу в конце 50-х — начале 60-х годов. Советский читатель знает уже многих его представителей. На русский язык переводились книги Хуана Гойтисоло, Аны Марии Матуте, а также Хесуса Пачеко, Антонио Ферреса, Альфонсо Гроссо, Виктора Моры, Луиса Гойтисоло и некоторых других.
Великой заслугой этого поколения писателей перед испанской литературой является восстановление прерванных франкизмом связей с испанским критическим реализмом, обращение к жизни, возрождение социального романа. Однако это было не просто возобновление традиций испанского реализма конца XIX — начала XX веков, наиболее полно воплощенных в творчестве Б. Переса Гальдоса и В. Бласко Ибаньеса, — создавался реалистический роман нового типа, вобравший в себя достижения литературного мастерства XX века. Сохраняется острый интерес к актуальным проблемам, стремление разоблачить пороки современного общества, защитить человеческую личность — жертву социальной несправедливости. Но «неореалисты» прибегают к несколько иным средствам художественного выражения. Они отказались, например, от крупных по объему книг, романов-эпопей, типичных для Гальдоса и Бласко Ибаньеса. Романам молодых писателей 50–60-х годов свойствен динамизм, в их книгах значительно возросла роль диалога и внутренней речи, до минимума сведено авторское изложение, подчеркнуто беспристрастное и максимально объективное. Нередко роман представляет собой сцены-кадры, внешне не связанные сюжетом, но объединенные общей идеей или настроением. Правда, все это не было б полном смысле слова открытием молодых романистов — испанские писатели «поколения 1898 года» Р. Валье-Инклан, Пио Бароха, Асорин и их последователи уже пользовались подобными приемами. В 50–60-е годы сказалось также сильное влияние кинематографа, особенно итальянского неореалистического кино. Как бы то ни было, к этому времени в Испании сложилась целая школа нового реалистического романа, рассказавшая талантливо, убедительно и взволнованно правду о жизни своего народа в годы франкистского режима.
И роман Армандо Лопеса Салинаса «За годом год» был одним из самых типичных, наиболее показательных произведений этого направления испанской литературы. Однако в книге этой автор уже не рассказывает нам о каком-то отдельном случае или частном эпизоде, но дает обобщенную картину мрачной повседневности франкизма в наиболее тяжелые 1939–1952 годы. Естественно, что откровенная антифранкистская направленность помешала роману выйти в Испании, он выходит в 1962 году в Париже в испанском прогрессивном издательстве «Руэдо Иберико». В том же году роман «За годом год» был удостоен премии «Руэдо Иберико», которая присуждается лучшей книге года, вышедшей в издательстве.
В центре повествования судьбы обитателей старого, грязного, густонаселенного дома в Мадриде, точнее, одной из его квартир. Дом же в целом перерастает в своего рода символ Испании. Душная атмосфера фашистского режима по-разному влияет на жильцов этой квартиры, на их друзей и знакомых. Перед читателем, как на экране, проходят сцены-кадры, словно вырванные наугад, неочищенные «куски жизни», нарочито незаконченные, фрагментарные, обрывающиеся на полуслове. Говорят в основном только персонажи, автор ограничивается краткими описаниями фона действия, напоминающими ремарки драматурга. В книге нет сколько-нибудь развернутых характеристик действующих лиц, нет портретов, но в диалогах, в прямой речи героев ясно вырисовывается их нравственный облик, отчетливо проступают черты самых различных социальных типов в конкретных условиях испанского общества 40–50-х годов.
Как в минуту опасности особенно наглядно раскрывается человек, так и в трагически-напряженный момент жизни общества обнажается подлинная сущность людей, скрытая в иных, более спокойных условиях. Эта мысль придает роману внутреннее единство, цементирует его разрозненные сцены и эпизоды.
По-разному раскрываются герои книги в трудные и мрачные годы торжества франкистской диктатуры. Трамвайщик Матиас, прежде веселый, беззаботный, обаятельный, оказавшись без работы, столкнувшись с нищетой, становится жестоким к жене, озлобленным, эгоистичным и в конце концов уезжает, бросив на произвол судьбы жену и сына. Становится вором юноша Педро, сын погибших от бомбежки во время войны крестьян, племянник квартирантки Матиаса тетушки Ауреа. Да и сама Ауреа сгибается под тяжестью жизни: ради того чтобы получить комнату, она делается любовницей распутного старого мясника. Сестра Педро, Антония, правда, выходит замуж по любви за студента Луиса, но ей предстоит трудная борьба за полунищенское существование. Жена Матиаса Мария начинает спиваться и затем, чтобы не погибнуть, уезжает к сестре во Францию. Бедствует даже преданный режиму бывший участник бесславного похода Голубой дивизии в Россию дон Рамиро, человек ограниченный, но субъективно честный и недостаточно ловкий. Хотя он и получает место мелкого чиновника, а позже и квартиру, он не может прокормить семью на свою зарплату и вечерами подрабатывает на фабрике.
Однако не все страдают, голодают и бедствуют во франкистской Испании. В кафе, па улицах, в парикмахерской перед читателем мелькают богатые бездельники, мелкие и крупные спекулянты, пышно разодетые дамы — жены и любовницы крупных чиновников, дельцов и спекулянтов. Они показаны бессердечными и бессовестными, как бы увиденными глазами тех, кому приходится изо дня в день вести борьбу за кусок хлеба. Лишь наиболее ловкие, наглые, подлые процветают в условиях, созданных режимом Франко, — таков вывод, вытекающий из панорамы испанской действительности, развернутой в романе.
Однако не только нужда подстерегает испанского труженика. Он находится под постоянной угрозой оказаться в тюрьме по обвинению в подрывной деятельности, в помощи республиканцам. Весь дом, где живут герои книги, боится привратника, который пишет доносы на жильцов. В романе есть душераздирающая сцена свидания родных с политзаключенными, и читатель понимает, что из тех, кто сегодня пришел в тюрьму повидать родственника, завтра любой может оказаться за решеткой.
Книга Салинаса воссоздает мрачную, тягостную атмосферу Испании 40–50-х годов, являясь свидетельством того, как жили и страдали испанцы в это время. Большинство писателей поколения Армандо Лопеса Салинаса обычно ограничиваются подобным свидетельством. Поэтому их произведения мрачны, беспросветны, хотя и мужественны. Автор романа «За годом год» идет дальше многих своих единомышленников. Ему мало одного только свидетельства, пускай даже талантливого, достоверного, берущего за душу. Он ищет путей борьбы со злом, изображенным в романе. В самые страшные годы, когда, казалось бы, абсолютно невозможна была организованная борьба, писатель сумел увидеть людей, которые способны не сдаваться. Таков один из главных героев книги, молодой рабочий Хоакин, сын Матиаса. Юноша видит вокруг себя только нужду, горе, страдания, много грязи, подлости. Но у него хватает сил и мужества не опуститься, как его отец, не запить горькую, как мачеха, и не стать на путь воровства, подлости, обмана, подобно некоторым своим сверстникам. Постепенно он вырастает в сознательного борца против франкистской диктатуры. Революционное формирование Хоакина происходит под влиянием механика Энрике, бывшего республиканца, чудом уцелевшего после победы франкизма. Не только Энрике, но и другие рабочие их завода в условиях фашистского террора хранят боевые традиции испанского пролетариата и действуют, применяясь к этим условиям. Они раскрывают глаза молодежи и новичкам-рабочим (в большинстве недавним крестьянам или выходцам из разоренных режимом средних слоев), приучают их к организованным совместным действиям, добиваясь, например, чтобы улучшили питание в столовой или выдали спецодежду. Энрике, Хоакин и их друзья активно участвуют в подготовке общегородского бойкота транспорта, в действительности имевшего место в 1952 г. Сотни тысяч мадридцев (а также барселонцев) не пользовались в тот день транспортом, открыто выразив свой протест режиму Франко. Из книги Салинаса мы узнаем, как готовилась и как прошла эта манифестация, послужившая своего рода кульминацией для всего романа и для развития Хоакина. Он гордится тем, что вместе с другими готовил этот бойкот, когда идет пешком на работу в оживленной толпе. «Это был спокойный, уверенный марш трудящихся Мадрида». Хоакин изучает нелегальную в Испании марксистскую литературу, распространяет листовки, становится все более сознательным и убежденным борцом. Когда Энрике, выслеженный франкистской полицией, схвачен и брошен в тюрьму, Хоакин становится на его место. Таким образом писатель убедительно показывает преемственность революционных традиций республиканской Испании, которые не умерли даже в страшных условиях франкистского режима. На смену поколению 1936 года приходит молодежь 50-х годов и подхватывает эстафету борьбы. Борьба продолжается и будет вестись с новой силой.
Роман «За годом год» — не только достоверный и взволнованный документ о жизни и борьбе испанцев в тяжелое для них время, это талантливое повествование, внешне будто бы спокойное и сдержанное, но полное скрытой ненависти к режиму Франко и любви к трудовому народу Испании.
Ю. Уваров
МОЕМУ ОТЦУ. ВЕТЕРАНУ БОРЬБЫ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
Утром явился милисиано и сообщил, что самое позднее вечером мавры и легионеры вступят в селение. Тут же подоспели и другие милисиано. Они быстро раздали молодым парням несколько винтовок и охотничьих ружей.
— У них кавалерия, — предупредили милисиано.
Весь день среди крестьян только и разговоров было, что о делах на фронте. С каждым часом бои становились все жарче. Фронт приближался. В полдень прилетели первые самолеты; они бомбили и обстреляли из пулеметов шоссе и улицы селения. К вечеру бой уже развернулся у самого кладбища.
Более половины крестьянских семей убежали в горы. Другие ушли по мадридскому шоссе. Одни убегали поспешно, бросив все, унося только то, что было на себе. Другие, взвалив на повозки или навьючив животных, увозили весь домашний скарб, вплоть до упряжи и сельскохозяйственного инвентаря.
Семья Франсиско ждала до последней минуты: а вдруг бой выиграют свои. Долгие часы сидели они в хлеву, прижавшись к стене, примыкавшей к дому. Франсиско изредка бегал на командный пункт, расположенный в здании аюнтамиенто[2], пока однажды, вернувшись, не сказал:
— Придется уходить.
Жена Франсиско быстро одела детей: мальчика и девочку, еще совсем несмышленышей. Они не понимали, что творится кругом. Только чувствовали, как страх сжимает горло и неприятно сосет под ложечкой. Дети плакали, слезы текли из сонных глаз.
— Пошли, пошли, — торопил отец, распрягая мула и выпуская на волю маленькое козье стадо. — Они уже совсем близко, бери сына за руку и не выпускай ни за что на свете. А я возьму дочку.
Снова началась бомбардировка. Раздавался приглушенный расстоянием, размеренный рокот орудий, стрекотание пулеметов, треск винтовок, назойливый и упрямый, как пение птиц осенью.
— А как же дом? А как же вещи? — спрашивала жена Франсиско.
Они вышли на улицу. И в нерешительности остановились, не зная, куда идти. Потом бегом припустили к оливковой роще.
Жена Франсиско на бегу молилась, призывая на помощь всех святых.
— Господи, не оставь нас, не оставь.
Они бежали пригнувшись вплотную к оградам. В огородах заливались псы. Мужской голос крикнул им вдогонку из-за придорожной изгороди рядом с церковью:
— Стойте!
Они плюхнулись на землю, как раз когда раздался залп. Пули полоснули по церковной ограде. Несколько милисиано подошли к беженцам.
— Кто вы такие?
— Я Франсиско, с улицы Реаль, — ответил крестьянин.
— А я уж думал, вы легионеры, — пояснил один из милисиано. — Потому вас и обстрелял.
— Не волнуйся, враги еще не вступили. Береги патроны: они тебе скоро понадобятся, — сказал другой.
Семья Франсиско поднялась с земли.
— Ступайте, ступайте, — разрешили им милисиано.
Крестьяне снова побежали в сторону оливковой рощи, а милисиано, прижимаясь к фасадам домов, углубились в селение.
— Давайте хоть немного передохнем, — предложила жена Франсиско. — Присядем, что ли. мне дышать нечем. Сейчас пойдем, Пако.
— Надо идти, отдохнем в роще. Здесь нельзя задерживаться.
— А до хутора дяди Хуана еще далеко? — спросила женщина. — Хороший он человек, дядя Хуан.
— Не очень далеко, да надо выходить на шоссе. С часок примерно будет.
— А может, тут пройдем?
— Нет, тут нельзя. По шоссе лучше, вдруг еще на грузовике подвезут.
В оливковой роще уже прятались соседи, друзья знакомые, повсюду слышались голоса. Группа милисиано разговаривала с крестьянами.
— У них пушки и пулеметы. Ничего не поделаешь. Я так стрелял, что у ружья чуть стволы не разорвало. Все руки пожег, — сказал крестьянин, сидевший под старым оливковым деревом и смазывавший охотничье ружье. — А вот это, — продолжал он, кивая на ружье, которое лежало у него на коленях, — принадлежало Игнасио, я взял его, когда у бедняги оторвало голову.
Рассветало, когда они достигли шоссе. Холмы на дальнем краю селения уже скинули покрывало ночи. Горы на горизонте постепенно меняли цвет. Розовая трепетная дымка ползла по небу, гася звезды. Тени медленно отступали, цепляясь за бугры и купы деревьев при дороге. Свет заливал поля, открывая взору пойменные луга у ручья. Над Толедскими горами всходило солнце.
В селении трещали винтовки, словно по окнам хлестал холодный зимний дождь.
Семья Франсиско, остановясь передохнуть на пригорке у шоссе, оглянулась и посмотрела назад. Вдали поблескивали винтовки милисиано; марокканская конница пыталась обойти с флангов защитников Республики.
Там осталось их селение. В глубине дороги четко выступали его руины.
Подул ветерок. Дым пепелищ потянулся к западу, причудливо извиваясь в воздухе.
— Горят хлеба за рекой, — сказал Франсиско, и голос его, суровый и мрачный, дрогнул.
Но ветер донес не только дым, но и дыхание лета. Запах кустов хара и хлебов, соснового бора и пение птиц.
— Земля, жена! Наша земля! — с тоской сказал Франсиско. Он смотрел в поля. Высокие хлеба гнулись под тяжестью налитых золотистых колосьев. Они словно ждали рук косаря. Душа крестьянина разрывалась на части, тяжело падали слова:
— Только она и останется, когда вернемся. Земля, чтобы опять обрабатывать, чтобы снова построить дом.
Они стояли рядом, прижавшись друг к другу. Вся семья, точно крепко связанный сноп пшеницы. Глазами готовые вобрать в себя эту родную землю.
— А как же наши вещи? — повторяла мать.
В третий раз налетали самолеты. Они летели низко, чуть не задевая серым брюхом вершины олив. И снова грохот и страх. Длинная колонна беженцев прижималась к земле, словно полегшие посевы.
Матери бросались в кюветы, прикрывая своими телами детей. Самолеты поливали шоссе пулеметным огнем, а милисиано обстреливали их из винтовок. Повозки и грузовики, набитые беженцами, сотрясались, готовые вот-вот развалиться, но стоило самолетам улететь, как беженцы тут же снова пускались в путь. Убитые оставались на месте: трупы лишь оттаскивали к обочинам, чтобы на шоссе их не давили грузовики и повозки.
Вьючные животные кричали, словно люди, сметая все, что преграждало путь: мужчин, женщин, детей, повозки, других животных.
У рыжего мула с грязными боками было разворочено брюхо. Маленький мальчик, стоя перед ним на коленях, гладил его за ушами и пронзительно кричал:
— Папа! Папа! Смотри, у нашего Лусеро кишки лезут наружу!
Мужчина опустился на колени рядом с мальчуганом и вытер платком кровь на его руках.
— Будет у нас другой Лусеро, сынок, — сказал он, поднимаясь н усаживая себе на плечи ребенка.
Медленно, словно длинная гусеница, колонна беженцев вступила к вечеру в незнакомое селение.
— Не беспокойтесь, скоро прибудут грузовики и всех эвакуируют. Потерпите немного, — успокаивали беженцев местные жители.
Мужчины, милисиано и крестьяне отправились рыть окопы на окраине селения, а женщины и дети остались на площади дожидаться грузовиков.
— Увезти смогут только детей. Пришлют всего два грузовика, — объяснил собравшимся какой-то мужчина.
— И уезжать надо немедленно. Фашисты вот-вот нагрянут.
Времени на проводы не оставалось. Вдали уже слышалась канонада.
— Давайте! Скорей! Скорей! — крикнул офицер из дорожной полиции. — Марокканцы уже близко.
— На, дочка, возьми. Это адрес тети Ауреа, — говорила мать, царапая карандашом на клочке бумаги.
— Мы гоже скоро приедем, не беспокойтесь. Ну, вы уж большие, нельзя плакать, — добавил отец.
— Давайте, давайте, — торопил офицер.
Оба грузовика тронулись с места. Люди бежали за ними, размахивая руками, что-то крича.
Выехав за околицу, грузовики прибавили скорость, и провожающие замерли на месте, притихшие, подавленные…
Вдали ухали пушки.
* * *
Песчаные поля, окружающие Мадрид, погрузились в тишину. Республиканская армия, в течение трех лет защищавшая столицу, покидала позиции.
На мосту через Хараму, в Вильяверде, в Каса-де-Кампо, в Карабанчеле и Университетском городке не раздавалось больше ни единого выстрела.
Повисшие на колючей проволоке, распростертые на земле, которая уже наполовину приняла их, всюду валялись убитые как из одного, так и из другого лагеря.
Республиканские бойцы, лишившись оружия, чувствовали себя беззащитными. Они смотрели на траншей противника, где с винтовками на изготовку солдаты Франко молча дожидались наступления следующего дня.
Как и остальные товарищи из его части, капрал противотанковой артиллерии Энрике Гарсиа накинул шинель и побрел к кварталу Усера.
Вскоре показались первые баррикады, которые еще в начале войны воздвигли рабочие Мадрида. Город замер, погасив все огни. Патрули полковника Касадо с белыми нарукавными повязками Хунты Обороны прочесывали улицы и предместья города, разыскивая группы коммунистов, которые отказывались сдаваться.
— Предъявите документы, — приказал патруль.
Энрике и его товарищи порвали свои документы, как только покинули окопы. У них имелись лишь пропуска, которые им выдали в штабе бригады. Обыскав, их отпустили.
— Молодчики Касадо ловят коммунистов, — пояснил один из бойцов, когда патруль Хунты Обороны удалился.
В этой части предместья почти не оставалось целых домов. Артиллерийский обстрел и бомбы, сброшенные с «юнкерсов» и «савоев», перепахали весь квартал.
Дойдя до площади Аточа, Энрике с бойцом из его расчета направились по Пасео дель Прадо. Остальные пошли к Вальекскому мосту.
— Ты, кажется, холостой, Энрике?
— Да.
— А у меня жена и двое детей. Единственное утешение, что это кончилось, теперь хоть увижу их.
— У тебя прекрасные ребятишки. Я помню, ты показывал мне их фото.
— Да, отличные ребята.
— Тебя, Аугусто, по крайней мере хоть ждут дома.
— Сам не знаю, хорошо это или плохо. Как раз теперь и начнутся трудности.
— У всех они будут. Не надо забывать, что войну мы проиграли.
— Да, правда.
— И все же, как ни говори, а, наверное, это здорово приятно, когда тебя кто-то ждет.
— А ты куда пойдешь?
— Домой, к брату.
Они остановились, чтобы закурить по американской сигарете. Бульвар был безлюден. Лишь изредка на огромной скорости проносился автомобиль.
— Удирают, — пояснил приятелю Энрике.
При лунном свете можно было прочесть военные плакаты, наклеенные на фасады домов по левой стороне улицы.
— «Они не пройдут», — прочитал Энрике. — Да, грустно теперь читать такие плакаты.
— Мы не могли выиграть эту войну. Ничего не поделаешь.
— Да, им здорово помогали, нам меньше. Не удивительно, что они победили.
— Не знаю, — сказал Энрике. — Я совсем запутался. Порой думаю, надо было нам еще продержаться, ведь у нас оставалось десять провинций. Вот-вот разразится мировая война. По-моему, сторонники Касадо ошиблись.
— Считаешь, нам не поздоровится?
— По правде говоря, не знаю, но, что бы там ни случилось, мы должны смело смотреть вперед.
— Я тоже ничего не знаю. Говорят, тем, у кого руки не запачканы кровью, бояться нечего.
— Да, так говорят. Я сам ничего толком не знаю. Пока известно одно — шкуру с нас еще не спустили. А там видно будет. Нос вешать нечего.
Они подошли к главному входу в Ботанический сад. За решетчатой оградой ветер качал кроны деревьев.
— Недурная ночка.
— Да, недурная.
— Ну ладно, прощай. Коли ничего не случится плохого, увидимся. У тебя есть мой адрес? — спросил Аугусто.
— Да.
Оставшись один, Энрике принялся размышлять о своей дальнейшей судьбе, о том, что ждало его впереди. Быстро шагая, он думал о разговоре, который только что вел с Аугусто. «Многие теперь станут рассуждать так же. Все будут ожидать, что произойдет завтра. Одни со страхом, другие с радостью. А сегодня многие не смогут заснуть».
Ему стало жарко, и он расстегнул шинель. Посмотрел на небо: ночь стояла мирная, прекрасная.
— Завтра будет хороший день, вон как вызвездило, — непроизвольно пробормотал он.
Весь день он ни разу не вспомнил о брате. Но теперь решил пойти к Пабло и поговорить с ним и его женой Тересой. Он попросит у них свою всегдашнюю комнату, с окнами на улицу, из которых виден монастырский сад.
Пятиэтажный дом, где жил Пабло, стоял в самом конце улицы, напротив облупившейся стены монастыря. Ставни на окнах были плотно закрыты: все еще соблюдалась светомаскировка.
Когда Энрике подошел к подъезду, на монастырской колокольне пробило три часа ночи.
Он постучал в дверь молотком и, усталый, присев на ступеньки, стал ждать, когда откроют.
Через несколько минут дверь отворилась, на пороге показался мужчина. Он застегивал брюки. Голова у него была взъерошена.
— Что надо? Почему вы стучите так поздно? — спросил он.
— Простите, пожалуйста, — ответил Энрике, поднимаясь со ступенек.
— Вам что надо?
— Мой брат дома?
— А кто ваш брат? — поинтересовался привратник.
— Его зовут Пабло.
— Лейтенант уехал вчера.
Энрике достал портсигар и предложил:
— Закуривайте.
— Спасибо. Я уже давно не курю, и меня не тянет.
— А Тереса? Она тоже уехала?
— Уехали оба. За ними приезжала машина.
— А не знаете, куда они уехали?
Привратник, подняв воротник куртки, раскуривал сигарету.
— Давно уж не курил, почти и вкуса табака не помню. Когда приучишься дымить сушеными апельсиновыми корками, о табаке совсем забудешь.
Часы на монастырской башне прекратили свой размеренный бой. Энрике снова спросил:
— А они не оставили адрес, куда поехали?
— Нет. По моему разумению, в Валенсию, садиться на пароход. Вроде, они так говорили.
Привратник, засунув руки в карманы брюк и рассматривая Энрике, несколько раз глубоко затянулся.
Энрике больше ни о чем не спрашивал. Подняв воротник шинели, он медленно, тяжело и устало зашагал к центру города.
Пробирал предрассветный холодок.
* * *
Доехав до площади Куатро Камипос, он сошел с трамвая. Быстрыми шагами направился вверх по Браво Мурильо, свернул в одну из боковых улочек. Внизу, в конце улочки, лениво ползла повозка, запряженная мулами. Бездомная собака нехотя пересекла мостовую и улеглась на краю тротуара. Несколько мужчин, сидя на табуретках, прислонясь спиной к стене таверны и вытянув ноги, молча курили.
В подъезде, заваленном хламом, стайка мальчишек резалась в карты. В глубине виднелся большой двор; несколько женщин наполняли кувшины из общественного водопровода.
Женщина в черном платке высунулась из окошка деревянной будочки под лестницей. Виднелось одно ее лицо.
— Сеньор Кесада дома?
— А зачем он вам?
— Он мой друг, нужен насчет работы.
Женщина открыла дверь в будочку. Была она дородная, руки в красных пятнах.
— Да замолчите вы, не вопите, не то сейчас же отправитесь на улицу или по домам! — крикнула она мальчишкам. Потом, махнув рукой, обратилась к пришедшему: — Эти пострелята только и знают, что вопить целый божий день.
На некоторое время ребята прекратили игру в карты.
— Ступайте на второй этаж, он живет в комнате номер семь. Вам повезло, он, кажется, дома, я не видала, чтобы выходил. Пройдете немного по коридору направо, там и увидите.
Деревянная лестница с выбитыми грязными ступенями скрипела и стонала под его ногами. Из коридоров доносились гулкие, сонные голоса. Вдруг раздался визг, приглушенный смех.
Поднявшись на второй этаж, он побродил по длинному коридору, пока не нашел нужную дверь. Прежде чем постучать, поискал в карманах, достал щепотку табаку и аккуратно свернул самокрутку.
Позвонил в колокольчик и стал ждать. Ждать ему пришлось долго. «Наверное, спят, ведь еще часов девять утра». Он заглянул за занавеску в окошке рядом с дверью и снова постучал.
Женщина в выцветшем фиолетовом халате, с растрепанными волосами отворила одну из дверей в конце коридора и, посмотрев на него, снова затворила.
— Кто там? — спросил женский голос у самой двери.
— Маноло дома? Я Матиас, друг Маноло.
Дверь осторожно приоткрылась.
— Вы жена Кесады? Я его друг, товарищ по работе. Пришел навестить, не знает ли он чего нового?
— Проходите, — сказала женщина. — У нас тут, знаете, беспорядок. У меня пропала всякая охота прибирать.
— Вы не беспокойтесь.
Прихожая тонула в темноте; пахло сыростью, вареными овощами. В углу на стуле висел мужской костюм. С другого стула свисала мятая простыня.
— Садитесь, — пригласила женщина, убирая простыню. — Маноло еще спит, делать-то ему нечего…
В окно с улицы проникали солнечные лучи, окрашивая в золотистые тона кретоновые занавески, отделявшие спальню.
Матиас сидел и ждал. Вдруг занавески раздвинулись и высунулась голова друга.
— Обожди немного, я сейчас, — сказал Маноло.
Матиас приблизился к окну. Тихо проехала машина, подняв облако пыли, улица была пустынна, ни души; только несколько мужчин у таверны молча курили. Откуда-то доносилась музыка — играло радио. Ленивый голос что-то надоедливо бубнил.
— Проходи в комнату, Матиас.
Спальня была завалена вещами. В углу, в колыбельке, спал ребенок.
— Ну, как дела?
— Это как раз я у тебя хотел спросить, Маноло. Не знаешь ли чего нового?
— Вчера был в конторе. Сказали, что месяца через четыре, через пять рассмотрят все дела, тогда, мол, и узнаем. Та к ответили.
— Если бы достать справку о благонадежности, нас бы тут же вызвали. Вон у Леонардо двоюродный брат был всего лишь капралом у националистов, а посодействовал, и теперь Леонардо работает.
— Если эта самая проверка затянется, не знаю, что и делать будем, — сказала с порога жена Маноло.
— Ну, я думаю, эта штука надолго, тут надо набраться терпения. Чистки да проверки быстро не проводят, — заметил Маноло.
Он сел на край кровати, чтобы завязать шнурки на ботинках. Ребенок в колыбельке тихонько захныкал.
— Ну, Лито, детка моя, только этого не хватало, — запричитала мать.
— Надо бы отыскать такое место, где бы нам дали работу.
— Это не так-то легко.
— Что до меня, — сказала женщина, укачивая ребенка, — я согласна, чтобы Маноло пошел на любую работу.
— Я тоже согласен на любую, — подтвердил муж.
— Без рекомендации искать работу бесполезно, разве что у какого-нибудь друга, который не попросит никаких бумаг.
— Да, это верно.
Жена Маноло пригладила рукой волосы и снова, тихонько напевая, принялась укачивать ребенка:
— Если разревется — мы пропали, часа три не остановишь.
— В нашей семье она приносит заработок, — пробормотал Маноло.
— Кому-то надо зарабатывать, — отозвалась жена.
Кесада уже оделся. Внимательно посмотрел в окно на улицу.
— Какая сегодня погода?
— Опять будет жарко, — ответил Матиас, отворачиваясь от окна.
— Ну что, пошли?
— Как хочешь, — ответил Матиас.
Мальчишки в подъезде все еще играли в карты. Солнце ярко освещало мостовую.
— Давай купим сигарет. Жена дала немного мелочи, — сказал Кесада.
— У меня ни черта, даже завалящего реала не сыщется, — ответил Матиас.
— Пропустим по стаканчику и купим сигарет. Стаканчик вина никогда не помеха, только бодрит да прибавляет сил. Я заплачу.
В таверне пахло винным уксусом и мокрыми опилками.
— Ну а у тебя как идут дела?
Матиас облокотился о цинковую стойку и, отхлебнув вина из своего стакана, утерся рукавом пиджака.
— Я сыт по горло. Мне бы давно следовало податься в другое место. Если я даже тут устроюсь, ненамного лучше будет. Водить трамвай — не профессия, по крайней мере для меня. Я люблю, чтобы у меня в кармане звякало не меньше пяти дуро на личные расходы.
— А как твоя жена?
— Кое-как перебивается с квартирантами, мы сдаем две комнаты. Каждый месяц получаем по тридцать дуро. Только и хватает, чтобы оплатить квартиру да свет. И все. Как говорится, хуже некуда.
— Да, теперь не до жиру, быть бы живу. Если завтра меня вызовут в компанию, у меня зуб на зуб не попадет от страха. Прошли те времена, когда мы считали себя хозяевами земли и думали, что начнем зашибать деньгу почище министров. Я хочу только одного: немного выбиться и чтоб жена не ходила убирать чужое дерьмо. Не то чтобы мне стыдно, что она делает грязную работу, тут совсем другое дело.
— Будь моя такая, как твоя, у меня б совсем другая житуха была. Зарабатывай она хоть немного, я бы без монет не остался, — отвечал Матиас.
Оба друга некоторое время помолчали. Яркое солнечное утро врывалось в открытую дверь таверны. Мужчины, сидевшие на улице, казалось, дремали.
— Закуришь, Маноло?
Хозяин таверны предложил им сигарету из мелкого табака, которую они по-братски поделили пополам.
— С утра не курил ничего стоящего. Дымил каким-то хламом, — пояснил Матиас.
Две девушки пересекли улицу.
— Ну и красотки, — заметил кабатчик. — Как раз таких мне рекомендует врач.
Друзья посмотрели в ту сторону, куда уставился кабатчик.
— Да, — протянул Матиас, — за такими недурно приударить. Ножки что надо.
— Кажется, жарко, да? — спросил Маноло.
Матиас допил свой стакан вина.
— Ладно, я пошел домой, — сказал он.
— Заходи на днях.
— Хорошо.
— Не застанешь дома, приходи прямо сюда. Только тут и можно убить время.
— Иногда по вечерам у нас перекидываются в картишки, — сказал хозяин таверны.
Матиас вышел на улицу. Вприпрыжку, точно кузнечик, по брусчатке мостовой подкатил автомобиль. У фонаря о чем-то спорила группа парней. Автомобиль остановился у подъезда, и из него вышли трое.
Через некоторое время у подъезда собралась небольшая толпа. Вдруг из толпы выскочил человек и побежал, за ним бросились трое из машины.
— Это полиция, — тихо сказал кто-то в толпе.
Матиас, остановившийся посреди улицы, столкнулся лицом к лицу с убегавшим.
Это был молодой человек с перекошенным от страха лицом. Он весь обливался потом. На нем была черная короткая куртка и синие, как у рабочего-механика, брюки. На ногах альпаргаты. Он быстро скрылся в конце улицы, но трое постепенно нагоняли его.
Матиас протиснулся сквозь толпу. Люди молча и поспешно расходились. В минуту улица опустела, словно вымерла. Исчезли даже те, кто дремал у стены таверны.
Привратник пожал плечами. Голос его заглушал оправдания женщины. Она говорила тихо, растягивая слова. Руки ее нервно двигались в карманах передника.
— Так что с этим взносом уж три месяца, как вы тянете.
Женщина опустила голову. Потом подняла и, взглянув на привратника, тихо продолжала:
— Вы же знаете, как теперь трудно, но мы вам обязательно заплатим. Матиасу скоро дадут работу, уже обещали. Подождите еще немножко.
Привратник снова пожал плечами и обеими руками поправил ремень.
— За целых три месяца вы должны. Управляющий сказал: одно из двух — или вы платите, или он сдаст квартиру другим.
У женщины вспотели лицо и руки. Она прислонилась к стене коридора и достала из кармана передника платок, чтобы вытереть лицо. Взгляд ее словно приковали до блеска начищенные сапоги домового стража.
— Вы же знаете, как обстоят дела. Мы дожидаемся, когда закончится проверка Матиаса.
— Меня это не интересует. Вы обязаны платить за квартиру, и все. Больше ждать я не намерен. Отдам квитанцию управляющему, и расхлебывайте сами. И не плачьтесь. Я прекрасно знаю, что за птица ваш муж, никакой он не тихоня. Он копал окопы красным. Таких, как ваш муженек, я с удовольствием отправил бы в полицейский участок. Там бы уж он разговорился.
Женщина снова умолкла и еще ниже опустила голову. В домах, па улице, в магазинах и лавках — всюду шептались о происходящих событиях. Редко выдавался день без новых арестов.
— Я заплачу завтра, дон Доротео.
— Когда мне зайти получить деньги?
Женщина задумалась.
— Надо продать приемник, — пробормотала она.
— Так утром или вечером? — настаивал привратник.
— Лучше вечером.
— Хорошо. Но знайте: если завтра не внесете плату, послезавтра квитанции будут в суде.
Она затворила дверь и долго стояла неподвижно, вцепившись в щеколду и прислонясь лицом к стеклянному глазку в двери.
Тяжелые и твердые шаги привратника удалялись по коридору.
Наконец она отошла от двери. Пересекла прихожую и вошла в столовую.
— Слышал, Хоакин?
— Да, чтоб он сдох! Похоже, ему доставляет удовольствие мучить людей.
— Может, Матиас уже узнал что-нибудь насчет работы. Он пошел к одному приятелю.
— Может быть.
— Придется продать радио. Или радио, или часы.
— Дадут чепуху. Теперь все кинулись продавать, вот торгаши и пользуются, берут почти даром.
— Эх, если бы у твоего отца уладились дела…
— Кто знает, может, и уладятся. Не будем же мы вечно так жить.
— Я даже не знаю, к кому обратиться за помощью, у кого просить взаймы. В магазине уже задолжала больше тридцати дуро. Сегодня у нас ничего нет на ужин.
— У меня есть два дуро, — сказал Хоакин.
Он встал и порылся в карманах. Раскрыл ладонь и высыпал монеты на обеденный стол.
— Вот здесь один дуро, помню, у меня были еще деньги.
— Ты останешься без гроша.
— На трамвай хватит, и ладно. А завтра попрошу аванс, может, дадут.
Хоакин снова уселся на стул и стал читать газету. Мария отправилась на кухню готовить обед. В соседней комнате квартиранты Марии — женщина лет сорока с двумя племянниками, парнем и девушкой, — обедали, сидя за деревянным ящиком.
* * *
Матиас швырнул окурок на пол и со злостью раздавил его каблуком. Над улицей стояло полдневное марево. Отряд флечас[3], отбивая шаг, маршировал под барабанный бой. Мальчишки ритмично взмахивали руками. Пряжки на поясах и портупеях и рукояти мачете сверкали на фоне голубых рубах и черных брюк. Матово поблескивали округлые носки начищенных сапог.
Прохожие, которые прогуливались по улицам или возвращались с работы, останавливались и, высоко вскинув руку, приветствовали франкистское знамя и несших его юнцов. А они с деревянными винтовками на плече, печатая шаг, прямые и надменные, горланили военные песни. Двое рабочих, один с лестницей, другой с большим рулоном под мышкой, расклеивали плакаты на фасадах домов.
Некоторые прохожие громко читали надписи на плакатах. Матиас подождал, пока пройдет последний флеча, и пересек улицу. Устало и тяжело ступал он по тротуару. Тень медленно покачивалась в такт его шагам. Он даже подумал, какая она несуразно большая. Проходя мимо бара на углу, остановился, чтобы посмотреть на часы. Было без десяти два.
Он зашагал дальше. У подъезда дома толпились женщины, это была очередь в угольную лавку на другом углу улицы. Некоторые из них, сидя на табуретках, чинили белье или вязали на спицах мужские фуфайки.
— Сеньор Матиас, скажите Марии, пускай обедает спокойно, я уже поела. Она просила меня покараулить ее очередь.
Соседка поднялась с табурета и посмотрела на длинную вереницу женщин. Собралось не меньше ста человек.
— Раньше пяти мы наверняка не получим. И скажите ей, что щепки тоже дают.
Матиас кивнул. Женщины расступились, пропуская его в подъезд. Сквозь щели в дверях свет причудливыми узорами проникал внутрь.
Матиас вошел в лифт и увидел в зеркале напротив свое отражение. Он был среднего роста, крепкий, широкий в плечах.
Провел рукой по лицу. На щеках была щетина.
«Надо бриться каждый день. Черная борода сразу заметна. Неопрятный вид какой-то. Кесада прав, нельзя просить работу в паршивом костюме и небритым. По крайней мере чтоб не сразу сообразили, что ты рабочий. Пускай думают, будто ты сеньорито».
Первый этаж. Привратницкая. Физиономия привратника, глаза как у филина, вечно сидит, вперившись в окошко.
— Добрый день, дон Доротео.
Он поздоровался, едва сдержав усмешку, и тихо произнес несколько теплых словечек так, чтобы привратник не услышал. В доме и на улице люди ненавидели Доротео. Все желали ему поскорее подохнуть. Но и, конечно, боялись, а потому искали его дружбы или хотя бы расположения. Никто не хотел иметь в нем врага. Рассказывали, что из-за него несколько жильцов дома сидели в тюрьме. Он донес, будто они красные.
У Доротео почти не было приятелей. Очень редко коротал он вечер с каким-нибудь жильцом под стать ему самому.
Доротео был женат и имел двух малолетних дочек. Жена его — некоторые уверяли, что она похлеще мужа, — пользуясь страхом, который Доротео нагонял на людей своим мундиром, в крик ругалась и бранилась с соседями.
Подойдя к двери, Матиас постучал по стеклу костяшками пальцев.
Изнутри донесся шум торопливых шагов. Затем раздался щелчок выключателя.
— Это ты, Матиас?
Матиас на миг задержался в полутемном коридорчике, моргая.
— Матиас, — сказала жена, — я тебя совсем заждалась. Приходил привратник за квартплатой, сказал, если завтра не внесем, нам плохо придется.
Матиас ничего не ответил. Остановился перед открытой дверью. Засунув руки в карманы брюк, он смотрел на жену, словно не видя и не слыша ее.
У Марии было широкое смуглое лицо с выдающимися скулами.
— Ох, как я ждала тебя! Узнал что-нибудь новое? Есть какие-нибудь новости насчет работы?
— Нет, никаких, — ответил наконец Матиас.
Едва приметная улыбка замерла на ее губах. Она приподняла плечи и вдруг крепко обняла его:
— Ну, ничего не поделаешь!
Он чувствовал тяжесть ее тела, повисшего у него на шее, тепло ее груди, округлость живота, шершавую кожу рук и короткое жаркое дыхание.
— Оставь, Мария. Мне сейчас не до этого.
Матиас отстранился от жены, прошел через прихожую и сел за обеденный стол.
— Сеньора Луиса передала, что можешь обедать спокойно, раньше пяти ваша очередь в угольной лавке не подойдет.
В обеих соседних комнатах раздавались шаги их жильцов, голос женщины, по имени Ауреа, высокий и монотонный, как назойливый тягучий припев. Матиас попытался разобрать слова, но тут же отвлекся, застучав своими широкими, короткими пальцами по столешнице.
— Не стучи, меня это раздражает.
Хоакин отложил газету и спросил отца:
— Ну как, удачный поход?
— Пока ничего не известно. Говорят, нас несколько сотен, кого должны проверить, так что это займет много времени. Кое-кто, конечно, останется без работы.
— Но тебе-то должны дать. У тебя нет никаких политических грехов.
— Привратник заявил, что он нас, мол, раскусил, что будто ты копал окопы для красных, — сказала Мария.
— А тебе бы следовало придержать язык за зубами. С привратником надо быть поосторожней, еще, чего доброго, впутает нас в какую-нибудь историю.
— Я ничего ему не говорила, это он сам наплел.
— Вот что. Я не желаю знать никакой политики. Прежде не желал, теперь тоже. Каждый живет как умеет. Ну, был членом ВСТ[4]. Надо же было где-то числиться. А теперь должен за это расплачиваться.
— Знаешь, отец, — доверительно сказал Хоакин, — вчера я зашел в английское посольство за бюллетенем новостей и…
Матиас быстро взглянул на сына. Услышав его слова, он даже переменился в лице.
— Я запрещаю тебе ходить туда! Понял? Запрещаю! Не хватает еще, чтобы ты втянул меня в новую историю. Если тебе нравится заваривать кашу, действуй один, а меня в эго дело не впутывай, я знать ничего не желаю. Довольно с меня моих забот, а как там идет война, мне безразлично. Я ни за тех, ни за других. У меня нет ни работы, ни денег. Понял?
— Ладно, отец, — Хоакин встал. — Не беспокойся, ищи себе свои деньги. А я пойду работать.
— Вот так и надо. Не суй ни во что носа и приноси домой деньги.
Матиас сидел неподвижно, пока Мария накрывала на стол. Неприятно задетый словами Хоакина, он безучастно обводил взглядом стены столовой. Как раз напротив висел свадебный портрет: он с первой женой. За раму, в уголке, была засунута фотография новорожденного Хоакина. От Марии, второй его жены, детей у него не было.
Столовая была просторная, с большим окном и тремя дверями. Окно, сейчас открытое, выходило во двор. Виднелась кухня соседей, живущих напротив. Одна из дверей, тоже открытая, вела в супружескую спальню. Другая, плотно притворенная, отделяла комнату, которую снимала Ауреа с двумя племянниками. Третья дверь, всегда распахнутая настежь, вела в коридор и прихожую. Донья Пруденсия, другая их жиличка, занимала маленькую комнату с отдельным входом из коридора. Рядом с этой комнатой располагались кухня и уборная.
В углу столовой, застланная баскским пледом, примостилась кровать Хоакина. Она служила диваном, когда к Матиасу приходили гости.
Матиас, откинувшись на стуле, поставил ноги на перекладину стола.
За его спиной, на буфете, остановившиеся стрелки настольных часов, украшенные золочеными бляшками, показывали десять минут второго. Матиас, привыкший к тиканью, обернулся, снял часы с буфета и завел. Понаблюдал немного за ходом секундной стрелки.
— Что на обед? — спросил он громко.
— Картофельное пюре с треской, — ответила Мария из кухни.
— А хлеб?
— Я продала хлеб, чтоб купить немного рыбы.
— А покурить мне купила?
— На это не хватило.
— А Кесаде жена дала целую песету на табак.
Матиас скрестил ноги и снова откинулся на спинку стула. Мария вышла из кухни, чтобы включить радио.
— Ладно, давай обедать.
Мария поставила на стол пюре. В глубокой тарелке лежала желтоватая густая масса.
— Придется что-то заложить или продать. Завтра надо платить за квартиру. А это почти триста песет.
— Только не радио. Понятно? — сказал Матиас. — Ты знаешь, я люблю его слушать. Это мое единственное развлечение.
— Не считая часов да матрасов, за него только и могут дать триста песет.
— Радио — ни за что. Я сказал.
— Ни за что? А если нас выкинут на улицу, что ж мы, радио есть станем?!
— Вот жена Кесады умеет управляться получше тебя. Утром дала ему целую песету на табак.
— Не знаю, что там творит жена Кесады, а я не в силах творить чудеса. Я и так едва натягиваю на еду.
— Можно попросить в долг.
— У кого?
— Хоакин может попросить у себя на работе.
— Твой сын и так вовсю старается. На какие деньги мы питались всю эту неделю, как ты думаешь? На аванс, который он взял в понедельник.
Матиас ничего не ответил. Он покончил с пюре и теперь ковырял ножом рыбу.
— Могла бы сходить к этому своему дружку с телефонной станции. У него, кажется, неплохая должность? — заметил он.
Мария быстро взглянула на мужа.
— Неужели ты хочешь, чтобы я пошла просить у него?
— Попросить еще ничего не значит, мы, мол, нуждаемся.
Мария посмотрела в окно, во двор.
— Ты же знаешь, что между нами было. Он хотел, чтобы я осталась с ним.
— Это было давно.
— Неужели ты хочешь, чтобы я пошла к нему? Хочешь, чтобы я продалась ему?
Матиас снова замолчал. Мария встала.
— Этого ты хочешь?
Матиас не любил, когда ему возражали, он этого терпеть не мог.
— A-а, оставь меня в покое. Наверно, ты и на это не годишься.
За стеной, в соседней комнате, жильцы прислушивались к их разговору.
* * *
Ауреа продолжала лежать в кровати. В углу спальни Антония на корточках разжигала печурку.
Дым черными клубами поднимался к самому потолку. Оттуда он растекался по всей комнате, пачкая стены.
Девушка, задыхаясь от едкого дыма, то и дело кашляла. Кусочки сажи пристали к ее лицу. На лбу выступил пот и капельками стекал по шее на грудь.
— Тетя, — попросила девушка, — откройте, пожалуйста, окно и дверь, от этого дыма не продохнуть.
Ауреа нехотя поднялась, чтобы отворить окно и дверь. Она встала на постель и, облокотившись о подоконник, с жадностью принялась вдыхать чистый воздух.
Дворик был маленький, квадратный. Вверху, если высунуться из окна наполовину, можно было увидеть клочок синего неба.
Доносились различные звуки. Играло радио у Матиаса и в привратницкой. Соседка с верхнего этажа развешивала белье, свою еженедельную стирку. Надсадно плакал ребенок. Где-то пела женщина. Звякали тарелки, ритмично стучала швейная машина.
Вода с развешанного белья стекала по стене дома во двор. Привратница вылезла из своей кухни и, точно кошка, забралась на кучу хлама, сваленного в углу двора.
— Ну и неряха вы! Сперва бы выжали белье, а уж потом развешивали! Да-да, это я вам говорю, сеньора Эулалия. Не прячьтесь! — кричала привратница.
Девушка все еще сидела на корточках перед печкой. Вересковый уголь сильно трещал, сыпал большими круглыми искрами.
— Давай поживей, Антония, скоро придет Педро, а ты еще обед не приготовила.
Антония встала и пошла за кухонной утварью, которая лежала под кроватью.
— Если у меня когда-нибудь будет свой дом, сама себе не поверю, что так жила, — пробормотала она.
Антония среднего роста. Каштановые волосы ниспадают нечесаными прядями. На ней лишь комбинация: в спальне жарко. На босу ногу шлепанцы из красноватой материи.
— Вы только и знаете, что ворчать, тетя. Я не присела с утра, а встала в восемь. А Педро может и подождать немного.
— В работе ты совсем не похожа на свою мать, нет у тебя ее сноровки.
Антония посмотрела на тетку, скользнула взглядом по ее лицу. На миг девушка забыла о родстве, которое их соединяло, и оглядела тетку, как чужую.
— Вы только ворчите. Как откроете рот, так только пилите и пилите.
— Да, вот в этом ты похожа на мать, такой же длинный язык.
Антония промолчала. «Мама не ладила с ней. Говорила, что тетя Ауреа всегда себе на уме», — подумала девушка.
— Подвезло мне с вами, ох, как подвезло. Вот обуза! — не успокаивалась Ауреа.
А девушка вспоминала тот день, когда она и Педро впервые попали к тетке Ауреа. До тех пор они никогда не виделись, знали друг друга только по фотографиям. То было в день всеобщего бегства.
Дети рыдали, когда их сажали в грузовик. Отцы и матери, размахивая платками, бежали за ними вслед. Где-то граммофон играл гимн Риего. Бомбы сыпались на Оропесское шоссе. Среди дыма и пламени Педро и Антония в последний раз увидели своих родителей.
Два грузовика вмиг домчались до Мадрида. Город произвел неотразимое впечатление на брата и сестру: до этого они никуда не выезжали из своего селения, если не считать коротких путешествий на хутор к дяде Хуану, где их угощали виноградом. Она помнила все до мельчайших подробностей. Стоял вечер. Тот час, когда люди, окончив работу, медленно возвращаются домой.
По улицам, одетые кто во что горазд, патрулировали милисиано. Грузовики остановились на площади в предместье города. Дети спрыгнули с машин и уселись на бортик тротуара. Акации, окаймлявшие площадь (Антония это хорошо помнила), были в цвету.
— Хлеб с сыром, — кричали малыши и запихивали в рот цветочки. Группы мужчин и женщин обучались приемам рукопашного боя и владения оружием. Другие, которым выпала иная доля, наполняли мешки землей и перетаскивали их к тому месту, где отряды ополченцев разбирали мостовую, возводя баррикады из брусчатки.
— А ну, ребятишки! — Педро и Антонию подозвал водитель одного из грузовиков. — Пойдите сюда. Как вас зовут?
— Меня Антония. А это мой брат, его зовут Педро.
— Я привез их почти от самой Оропесы, — пояснил шофер лейтенанту карабинеров, который приблизился к ним.
— У вас есть родные в Мадриде? — спросил лейтенант у детей.
— Есть тетя. Ее зовут Ауреа.
— Их родителей, — понизив голос, сказал шофер, — сегодня утром расстреляли на шоссе из пулеметов.
— Вон оно что. Мы отправим вас к вашей тете.
Офицер подозвал бойца, обучавшего группу милисиано.
— Отведи этих ребят к их родным.
Карабинер проводил детей до дома, где жила тетя Ауреа. По дороге ребята забросали бойца вопросами. Все их поражало, все отвлекало от страшных воспоминаний: высоченные дома, шум городских улиц, машины, лифт в доме…
Они постучали в дверь, и изнутри раздался голос тетушки Ауреа:
— Кто там?
— Салют. Здесь живет Ауреа Лопес?
— Да. А что вам надо?
— Я привел к вам ваших племянников.
— Моих племянников?
Она помнила даже, какое платье было на тете Ауреа. Голубое, в обтяжку, с белым воротничком.
— Боже мой! — вскричала Ауреа, как только отворила дверь. — А где Пако и моя сестра? С ними что-то случилось?
Антония и Педро только расплакались в ответ.
Вскоре они привыкли к новой жизни. До того, как начались бомбардировки Мадрида, тетка устроила их в муниципальную школу, чтобы они учились грамоте. Позже только Педро продолжал посещать школу. Тетка Ауреа работала, и Антонии приходилось оставаться за хозяйку — готовить обед, прибирать квартиру. Ауреа была незамужней и домой являлась поздно, дома она почти никогда не обедала. Педро после уроков играл с товарищами на улице, а когда объявляли тревогу, спускался вместе с ними в подвал.
Они молчали, и Антония даже не пыталась нарушить это затянувшееся молчание. Всю ее жизнь, все ее юные восемнадцать лет в ней убивали надежду. И тем не менее внутренне она восставала против этого, борясь за свою молодость. И молодость брала свое.
Однажды, оставшись дома одна, Антония обнаженная встала перед зеркалом и долго рассматривала себя с каким-то новым, не ведомым ей чувством.
Вот уже полгода, как она работала в парикмахерской. Сначала ее заставляли прибирать помещение, а затем определили помощницей мастера, и она научилась делать прически. Подружки по работе в минуты отдыха болтали о своих любовных похождениях, о своих интрижках с мужчинами. Антонии еще не о чем было рассказывать. Она слушала подруг с печальной улыбкой, думая, что скоро наступит и ее очередь поведать им свои тайны.
Как-то она отправилась с подружкой по парикмахерской в кино. После сеанса за ними увязались два молодых человека. Подружка Антонии немного знала одного из них. Они остановились поболтать.
— Привет, как поживаете? — спросил знакомый подружки.
— Если не возражаете, мы вас немножко проводим, — добавил другой.
Звали его Луис. Он буквально не спускал глаз с Антонии, едва они встретились.
— Мы идем домой, — ответила Антония.
На площади Бильбао подружка распрощалась с Антонией. Приятели тоже разлучились — каждый отправился провожать приглянувшуюся девушку.
— Можно, я как-нибудь зайду за тобой? — спросил юноша Антонию.
У девушки екнуло сердце.
— Если хочешь, — сказала она.
На следующий день ей уже было о чем рассказывать в парикмахерской. А дома дела шли все хуже и хуже. Подходя к своему парадному, девушка преображалась. Радость, нетерпение, охватывавшие ее при мысли о встрече с Луисом, вмиг улетучивались.
Настроение тетушки с каждым днем ухудшалось. По пустякам она затевала нескончаемые ссоры. Даже деньги, которые приносил каждую неделю Педро, почти не смягчали тетку, она ходила хмурая и насупленная. А порой вдруг становилась нежной и любезной и показывала Антонии связку писем, которую хранила с самой войны.
— Это мне писал мой Эмилио. Бедняжку убили на Эбро.
— А какой он был? — спрашивала Антония.
— Блондин и стройный как тростинка.
Когда Ауреа рассказывала о своей прошлой любви, сердце Антонии наполнялось жалостью к тетке. Только с Педро тетя Ауреа никогда не ссорилась. Юноша вел весьма независимый образ жизни. Больше трех дней кряду он никогда не проводил дома. А иногда являлся только переночевать. Ему стелили на полу у кровати, на которой спали женщины. Педро укладывался не раздеваясь, он лишь скидывал пиджак и клал его себе под голову вместо подушки.
У Педро по временам водились большие деньги. Антония не знала, где брат добывает их, но не хотела его расспрашивать. Она знала только, что он работает официантом в пивной.
— Прибери немного в комнате, — сказала тетка. — А я смахну пыль. Сегодня меня погоняли в конторе, выжали семь потов, до сих пор бока ломит.
Антония принялась подметать комнату. Провела щеткой по узкому пространству между кроватью и стеной. Передвинула с места на место стул и чемодан, где хранилась посуда. Отворила дверь, чтобы выпустить пыль в коридор.
Мария, хозяйка квартиры, распевала песню, без конца повторяя припев. У нее был глубокий, приятный голос. Мария пела у себя на кухне, а слышно ее было даже во дворе.
«Наверное, опять напилась, — подумала Антония. — Вот уж несколько дней как пьет».
— Наша-то опять навеселе, — пробормотала Ауреа.
— Ничего удивительного, сеньор Матиас только и делает, что бьет ее. Как остался без работы, так всю вину за свои неудачи валит на жену. Вдобавок еще отбирает у нее деньги на табак.
— Она не умеет постоять за себя. Попробовал бы меня тронуть этот сеньор Матиас! Я бы ему мигом рожу на сторону свернула. Вчера дубасил ее в коридоре. В крик кричали, потому я все и узнала. Мария что-то заложила в ломбарде, и ей дали всего-навсего пять дуро.
— Сеньор Матиас знает свое дело туго, выкладывай ему каждый день по два дуро, а на остальное ему наплевать, — сказала Антония.
Раздался звонок у входной двери. Это пришел Педро.
— Бониато[5] уже готов, давайте обедать.
Педро был высокий и сильный парень. Блондин с синими глазами.
— Как дела? — спросил он, входя в комнату.
— Как всегда, — ответила сестра.
Все трое уселись за деревянный ящик, не сводя глаз с кастрюли. Тетка стала разливать хлебный суп. и каждый, следя взглядом за ложкой, считал, сколько кому достанется.
Педро, дожидаясь, когда остынет суп, чистил бониато. Потом нарезал его кусочками.
* * *
Первого апреля Энрике арестовали. У него не было штатского платья, и он продолжал носить форму республиканских войск; скрыться ему не удалось. Задержали его прямо на улице и вместе с сотнями других республиканских бойцов отправили на футбольное поле в Пуэнте де Вальекас, которое было наспех переоборудовано в концентрационный лагерь.
Каждый день сюда прибывали новые группы арестованных. Днем еще было не холодно, но по ночам пленникам приходилось тузить друг друга, чтобы хоть как-то согреться. Все трибуны стадиона, служившие арестованным постелями, были заняты. Только на самых верхних рядах солдаты охраны не позволяли никому устраиваться, потому что кто-то из арестованных покончил с собой, кинувшись оттуда головой вниз.
Через несколько дней сколотили первую партию пересыльных. Энрике попал в нее. В закрытых грузовиках их доставили на железнодорожную станцию и там погрузили в товарные вагоны. Путешествие — они останавливались чуть ли не на каждом полустанке — длилось три дня. И почти все это время вагоны были наглухо закрыты. Пленники не видели дневного света. Ехали в такой тесноте, что негде было прилечь. Воздух в вагонах был удушающе спертым. Пахло сыростью, потом, немытым телом. Моча, с трудом просачиваясь между досками, скапливалась на полу вагонов лужами.
В новом концлагере томились тысячи людей. Прямоугольник футбольного поля был обнесен двойным рядом колючей проволоки. По углам возвышались дозорные вышки с пулеметами, направленными внутрь лагеря.
После нескольких дней пребывания в лагере офицер-фалангист составил на Энрике карточку. Пленные выстроились четырьмя очередями к четырем деревянным столам, за которыми сидели следователи, ведущие допрос.
За одним из столов расположился офицер-фалангист, за другим — офицер из рекете[6]. За третьим обосновался военный священник, а за четвертым — альферес[7]. У каждого из них лежала кипа списков, напечатанных на машинке.
— Вставай в очередь к рекетисту, — посоветовал кто-то Энрике.
— Кажется, он ничего, — добавил другой боец.
Когда подошла очередь Энрике, офицер, посмотрев на него в упор, спросил:
— Как твое имя?
— Энрике Гарсиа.
Офицер порылся в списках. Отложив их в сторону, он сказал:
— Здесь тебя нет.
За соседним столом раздался голос фалангиста.
— Ладно, мы еще посмотрим, правда ли это. Я вам всем ни на грош не верю. В прошлый раз один тоже плел невесть что. А потом оказался матерым красным. Под конец совсем разошелся, орал лозунги перед расстрелом.
Офицер из рекете закурил сигарету и снова посмотрел на Энрике.
— Ты почему здесь?
— Меня задержали в Мадриде.
— Что делал во время войны?
— Служил капралом в противотанковом расчете на Центральном фронте.
— Какие политические должности занимал?
— Никаких.
— Ты из какой дивизии?
Офицер снова порылся в списках.
— Можешь идти, тебя нет ни в одном из списков. — сказал он.
Энрике возвратился к своим товарищам по несчастью. В лагере скопилось огромное количество пленных. Их уже негде было разместить. Каждая группа людей после дачи показаний направлялась в определенный сектор лагеря и уже не могла оттуда никуда двинуться, если снова не вызывали на допрос.
Бойцы-республиканцы спали под открытым небом, завернувшись в шинели. Никто не умывался, ни у кого не было смены белья. Дни тянулись тягостно-медленно, печально. Все были в напряжении, в ожидании беды, страшились услышать, как рупор громкоговорителя позовет в барак для нового допроса. Nоска и голод терзали пленников. На паразитов, облепивших тело, уже никто не обращал внимания, все чесались так, что на коже образовывались язвы.
Из отхожих мест, которые не вычищались, невыносимо воняло.
По обе стороны от Энрике спали двое пленных, задержанных на Валенсийском шоссе, когда они возвращались домой. Одному из них, совсем молоденькому, не было и семнадцати. Другой, уже в летах, весь день лежал на земле, неотрывно глядя в небо.
— Послушай, да перестань ты думать, — говорил паренек пожилому солдату. — Еще, чего доброго, свихнешься или заболеешь. Главное — не поддаваться, не падать духом.
— А что ты хочешь, чтобы я делал?
— Не знаю… Ну хоть встань, поговори с товарищами, а так того и гляди вынесут тебя вперед ногами.
Вести распространялись по лагерю с быстротой молнии.
— Вчера прибыла комиссия из Ла-Манчи. Увезли с собой несколько человек. Расправятся с ними на местах. Посадят в тюрьму или расстреляют.
— Солдат, мелкую сошку, говорят, отпустят.
По утрам их будили сигналом трубы, игравшей зорю. Капрал в сопровождении двух солдат раздавал по банке сардин и по одной галете на пять человек.
— Вот уж три дня не хожу по нужде. В нас и дерьма-то не осталось. Как ни стараюсь, ничего не получается.
— Если хочешь, я из тебя выковыряю.
— Ладно, давай!
Пленные помогали друг другу облегчаться с помощью консервного ключа.
Часто по ночам группы арестованных совершали побег. Одним это удавалось, другим нет. Тех, кого ловили при попытке к бегству, расстреливали на рассвете. В назидание выстраивали всех пленных, чтобы присутствовали при экзекуции.
За три месяца пребывания в концлагере Энрике страшно распух, он едва держался на ногах. Каждый день кто-нибудь из пленных умирал. Болезни беспощадно косили людей.
Однажды Энрике услышал, что по громкоговорителю его вызывают на допрос в большой барак. Когда он переступал порог конторы, ноги его сильно дрожали. По лагерю распространялись слухи о людях, вызванных на допрос и больше уже не возвратившихся назад.
В конторе стояла такая удушливая жара, что Энрике почувствовал тошноту. Однако, несмотря на зной, его била дрожь.
— Тебя зовут Энрике Гарсиа?
— Да.
— Ну так подпиши вот здесь. И можешь идти, ты свободен. Через две недели явишься в мадридскую капитанию.
Он взял бумагу и направился к бараку охраны. Дежурный внимательно просмотрел его документы и только потом приказал отворить опутанные колючей проволокой ворота.
Выйдя за ворота лагеря, Энрике оглянулся. Солдаты на дозорных башнях сидели у пулеметов. Не останавливаясь, Энрике направился прямо в Мадрид.
Поезда почти не ходили. Все станции были забиты беженцами, возвращавшимися домой. И никто не знал, когда отправится поезд или когда он доберется до места назначения. Составы подолгу простаивали без паровозов, и люди вылезали из вагонов, чтобы размять ноги и поискать еды в том городке, где застрял поезд.
А когда паровоз наконец прицепляли, люди штурмовали вагоны и устраивались кто как мог: одни ехали на буферах, другие — на крыше, третьи — где отыскали свободное местечко.
Энрике расположился на полу товарного вагона. Рядом с ним ехала семья: муж с женой и двое детей. В другом конце вагона дремали еще несколько человек.
Женщина разогревала на жаровне бобы.
— Подложи под низ кусок железа, не ровен час посыплются искры, — предупредил мужчина.
Энрике, не евший уже два дня, не мог оторвать глаз от кастрюли.
— Нет, — ответил мужчина. — Мы не из Мурсии. Мы приехали в Мурсию, как только началась война. Я служил во вспомогательных войсках. У меня нет трех пальцев на правой руке, — сказал он, словно извиняясь.
— Да помолчите вы, спать не даете, потом расскажете свою историю, — раздался недовольный женский голос из глубины вагона.
— Уже одиннадцать часов, не понимаю, чем вы возмущаетесь, — возразила женщина, разогревавшая бобы.
В вагоне пахло потом и дымом.
— Надо бы отворить дверь и немного проветрить.
— Хорошо, — сказал Энрике. У него страшно ломило ноги, но он встал и попытался сдвинуть тяжелую дверь товарного вагона.
— Погоди, — сказал мужчина, возвращавшийся из Мурсии.
Поезд медленно катил среди заброшенных полей. Было свежо, и Энрике раскатал рукава гимнастерки. Потом тяжело опустился на шинель.
Муж с женой о чем-то тихо беседовали в своем углу, детишки затеяли шумную возню.
— Смотри, Ансельмо. Как бы дети не вывалились на рельсы, — забеспокоилась мать.
— А я видел мышонка, — сказал один из малышей, обращаясь к Энрике.
— Он был малюсенький-малюсенький, а хвост во какой длинный, — добавил другой мальчик.
— А где он теперь? — спросил Энрике, беря малыша за руку.
— Убежал.
— А у нас дома были куры и кролики, — стал рассказывать старший из мальчиков.
— И еще лошадь.
— Лошади красивые животные, в начале войны у меня был отличный конь.
— А как его звали? Нашего звали Мавр.
— У моего была кличка Кордовец.
— А меня зовут Антонио.
— А меня — Эмилин.
— Ты был на войне?
— Да.
— А в наш дом в Мадриде попала бомба.
К Энрике, беседовавшему с детьми, подошла их мать.
— Совсем вас заговорили, — сказала она.
— Да нет, они очень славные ребята.
— Вы, кажется, едете один?
— Да, сеньора.
— Мой муж приглашает вас пообедать с нами. Ничего особенного, пустые бобы.
— Пилюли доктора Негрина[8].
— Я их очень люблю, они вкусные.
— Я вам очень благодарен, со вчерашнего дня ничего не ел.
— Боже мой! Со вчерашнего! Пойдемте, пойдемте с нами! Вы представить себе не можете, как мне жалко наших солдат. Бедняжки ни в чем не виноваты. Может, оттого, что у меня у самой мальчишки, но уж больно мне жалко матерей. Не дай бог, чтобы с моими детьми приключилось такое.
— Значит, вы только освободились из концлагеря? — спросил мужчина.
— Да, просидел три месяца с лишком, — ответил Энрике.
— Как странно, что вас отпустили, а я слышал, что всех, кто попадает в концлагеря, отсылают на принудительные работы.
— Я сам толком не понимаю, но ни о чем не спрашиваю. Выпустили, и вся недолга.
— Может, потому что забрали уйму людей, девать их некуда.
— Может, поэтому, — согласился Энрике.
От еды его немного разморило. По всему телу растекалась приятная истома. Ноги не так ныли.
— Ходилки мои плохо работают. Опухли уж больше месяца, — пояснил Энрике.
— Это все от голода и нехватки овощей, — заметил мужчина.
— И поэтому, и еще, наверное, из-за ревматизма.
Энрике, выкурив предложенную ему сигарету, задремал, убаюканный мерным покачиванием поезда. Вечером он проснулся.
— Где мы сейчас?
— Подъезжаем к Мадриду, нам повезло, нигде не стояли, — ответила женщина из угла вагона. Это она протестовала утром, когда Энрике завел громкий разговор с отцом семейства.
Подходя к станции, поезд дважды протяжно свистнул. На перроне стоял военный патруль: сержант и два солдата.
— Эй, приятель, куда это ты направляешься? — окликнул Энрике сержант.
Энрике показал бумагу, выданную в концлагере. Сержант внимательно прочел ее и, возвратив, сказал, что Энрике может следовать дальше.
Энрике вышел на привокзальную площадь и, растерявшись, с минуту постоял, смотря, как трамваи бегут по длинной улице. Дул свежий ветерок, и у Энрике затряслись колени. Сунув руки в карманы шинели, он зашагал вверх по улице.
Вдруг он остановился напротив бара. Прежде чем войти, посмотрел сквозь стеклянную дверь. Бар был почти пуст. Две девицы, по всей видимости легкого поведения, сидели на высоких табуретах, выстроившихся перед стойкой. Энрике порылся в карманах и достал немного мелочи. Сосчитав на ладони монеты, он попросил:
— Дайте мне чашку кофе.
— С молоком? — спросил буфетчик, протирая стаканы.
— Вы что-то сказали? — встрепенулся Энрике. Он смотрел на девиц и не прислушивался к словам буфетчика.
— Какой кофе вам подать, с молоком или без?
— С молоком.
Одна из девиц оглянулась, чтобы посмотреть на вновь пришедшего. Она положила на стойку черную сумочку и достала из нее пудреницу и губную помаду.
— Не очень-то у вас привлекательный вид.
— Какой есть.
— Откуда вы приехали, если не секрет?
— Прямиком из концлагеря.
Взгляд проститутки, скользнув по лицу Энрике, уперся в его сапоги. Она ничего не сказала и принялась пудриться.
Энрике медленно, маленькими глотками выпил кофе.
— Сколько я вам должен?
— Одну с четвертью.
Энрике снова пересчитал деньги, высыпав их на стойку. У него еще оставалось двадцать сентимо, а ему страшно хотелось курить.
— Почем сигареты?
— Из светлого табака по десять, — ответил буфетчик.
— Дайте мне две и огоньку, пожалуйста.
Пока буфетчик отправился за сигаретами, Энрике снова поглядел в измятую бумажку, которую вынул из бумажника. «Аугусто Перес. Сан-Педро, 3». Вертя бумажку в руках, он думал об Аугусто, о его судьбе. Найти друга — вот единственная надежда на спасение.
— Нате, прикурите, — предложила проститутка.
— Спасибо, — ответил он улыбаясь.
— Ничего, не горюйте. Как-нибудь все выкарабкаемся.
Выйдя из бара, Энрике глубоко вдохнул свежий воздух, поднимавшийся с реки, и, хотя ноги его все еще сильно болели, быстрее зашагал дальше.
Добравшись до улицы Анточа, он задержался у киоска, чтобы прочитать заголовки газет. Рядом остановился мужчина.
— Аугусто! — вскрикнул Энрике.
— Черт побери, Гарсиа? — удивился мужчина.
Оба долго смотрели друг на друга.
— Что ты тут делаешь в таком наряде?
— Да вот приехал, — ответил Энрике улыбаясь. — Меня только что выпустили из концлагеря.
— Я не знал, что тебя арестовывали, о других слышал.
Они снова молча посмотрели друг на друга.
— Да ты на несколько лет постарел, Энрике.
— Возможно. Иногда несколько месяцев стоят многих годов.
— Да, а я не знал, что тебя забрали.
— Ну, теперь все равно я на свободе.
— Меня не забирали, мне повезло.
— Рад за тебя, Аугусто. 7 ам вовсе не сладко…
— Арестовали Хименеса, социалиста, и Руиса тоже. Когда их забрали, я ничего поделать не мог. Теперь иногда хожу домой к Руису, отношу кое-что его жене. Он сидит в Санта-Риге. — Аугусто опустил глаза в землю. — Да, а Хименес уже не вернется. Хороший был товарищ.
Энрике ничего не ответил.
— А твой брат?
— О нем ни слуху ни духу. Привратник в их доме сказал, что он уехал в Валенсию на пароход.
— Пристроился где-нибудь в Мексике?
— Наверное.
— У тебя есть где жить?
— Нет, — ответил Энрике. — Мне некуда деться. Вот шел к тебе. И вдруг случайно повстречались.
— Я каждый день хожу сюда в это время, меня тут легко встретить.
— А что ты делаешь?
— Работаю в механическом цехе упаковщиком.
— Рад за тебя.
И они снова замолчали. Аугусто рассматривал своего друга.
— Ладно, пошли домой, — сказал он. — Там поговорим в более спокойной обстановке. Давай возьмем такси, хоть нам и недалеко. А то твой вид привлекает внимание. Ты еще не знаешь, как тут все переменилось.
Такси поднялось вверх по Аточе и свернуло в одну из боковых улиц. Остановились они у подъезда старенького дома.
— Вот здесь я и живу, — сказал Аугусто, вылезая из машины. — Ты у меня никогда не был?
— Нет.
— Сам не знаю, но почему-то всегда считал, что когда-нибудь ты ко мне зайдешь.
Они поднялись по лестнице на второй этаж. Аугусто открыл дверь в коридор. Ощупью в темноте добрались до выключателя.
Энрике оглядел комнату с кое-как побеленными стенами. В ней стоял стол и несколько стульев. В глубине виднелись кухонная плита и вход в другую комнату.
— Неплохая у тебя квартира.
— Вот что, Энрике. Первым делом надо что-нибудь подыскать тебе из одежды. В твоей показываться на улицу нельзя.
Аугусто вошел в спальню и стал рыться в шкафу.
— Пиджак немного порван на локте, но вполне сойдет. Хуже с брюками, того и гляди расползутся.
Энрике скинул с себя свое солдатское одеяние и облачился в одежду, принесенную другом. Брюки оказались ему великоваты.
— Пока не устроишься на работу, можешь жить у меня. Придется спать на полу, постелю тебе матрас.
— Скажи по совести, Аугусто, положа руку на сердце, я тебе не помешаю? Ведь прежде всего надо считаться с твоей женой. Прямо не знаю, как тебя благодарить. Я понимаю, как сейчас трудно, а у меня и медяка за душой нет. Лишний рот в семье большая обуза.
Аугусто похлопал друга по плечу и сказал:
— Все решено, приятель. Как-нибудь обойдемся. Пока оставайся у нас, и вся недолга. Разве ты не поступил бы так же, будь я на твоем месте?! Друзья всегда друзья — и в счастье и в беде. А впрочем, не думай, что я тебе предлагаю все это даром: вот устроишься на работу, станешь платить свою долю.
— А мне кажется, прежде надо послушать, что скажет твоя жена.
— Да ничего она не скажет. Мы с женой во всем заодно. В таких делах она всегда меня поддерживает. Она тебя знает. Я ей часто рассказывал о тебе.
— А где она?
— Пошла с ребятами прогуляться.
Энрике отодвинул стул от стола и сел.
Сгущались сумерки, с улицы Аточа доносился приглушенный шум.
— Как ты ухитрился приехать? — спросил Аугусто.
— Продал одному мавру часы, он дал мне за них десять дуро.
— Ты до войны был, кажется, механиком? — спросил Аугусто, хлопоча в кухне у печки.
— Да, а почему ты спрашиваешь?
— Может, удастся пристроить тебя в нашей мастерской. Как раз нужен человек, разбирающийся в моторах.
— Я в моторах кумекаю. Больше шести лет возился с ними.
— Ты не думай, у нас большая мастерская.
— Если не трудно, поговори с хозяином.
— Поговорю с мастером или инженером. Только должен предупредить, платят у нас паршиво. Теперь, знаешь, они повернули на старое.
— Догадываюсь. Но для начала любое дело годится, мне теперь не до жиру. Давненько не держал я в руках железки.
Аугусто вышел из кухни, чтобы открыть входную дверь.
— Это жена пришла, она так стучит, — пояснил он.
Женщина, целуя Аугусто, взглянула через его плечо на Энрике.
— Это Гарсиа, мой друг, я тебе о нем говорил.
Жена Аугусто рассматривала Энрике, солдатское обмундирование, валявшееся на полу.
— А это Элена, моя жена.
Энрике в свою очередь окинул взглядом женщину. На вид ей было лет тридцать, высокая, худая. С очень приятным лицом, зелеными глазами и большим ртом, сочным, словно лопнувший помидор.
Аугусто затеял возню с детьми, подбрасывал их в воздух, кружил. Оба мальчишки как две капли воды походили на отца.
— И тот и другой — твой живой портрет, — сказал Энрике.
— Не говорите ему об этом, а то он совсем голову потеряет, — улыбнулась Элена.
— А кто к нам пришел? — вдруг спросил один из мальчишек.
— Это твой дядя Энрике, — солгал Аугусто.
— Как вы поживаете? — поинтересовался другой малыш.
— Дядя Энрике несколько дней погостит у нас, — сказал отец сынишке, но при этом смотрел на жену.
Элена промолчала. Только снова посмотрела на Энрике. Она узнала мужнин пиджак и брюки на чужом человеке.
— Вы надолго приехали? — после короткого молчания, во время которого все трое переглянулись, спросила она.
— На несколько дней, если не помешаю, — ответил Энрике.
— Гарсиа поживет у нас, пока не найдет работу.
— Как скажешь, Аугусто.
Элена прошла в спальню, чтобы уложить детей. Донесся ее голос, она рассказывала им сказку. Когда ребятишки угомонились, Элена накрыла на стол и подала ужин.
— Сгоняли нас туда тысячами, — рассказывал Энрике. — Есть давали через день, обращались с нами как с собаками, даже хуже. Что днем, что ночью. Уму непостижимо, сколько может выдержать человек. Очень мало кому удалось вырваться оттуда. Я оказался в их числе.
— Ой, Аугусто, — вздохнула Элена, сжимая мужу руку.
— Сам не знаю от чего, то ли от холода, то ли от болезни, у меня сильно распухли ноги. До сих пор как подушки, — продолжал рассказывать Энрике.
— Ничего, главное, что ты их унес оттуда.
— Ой, Аугусто, говори, пожалуйста, потише. Эти стены из папиросной бумаги, поди узнай, кто за ними, — предупредила Элена, обращаясь к мужу.
— Вчера у нас в мастерской двоих забрали.
— Ты кого-нибудь видел?
— Нет, еще рано. Пока надо переждать.
Энрике смотрел на друга, на его жену, Элену. В соседней комнате громко посапывал во сне один из сыновей Аугусто.
— Все еще не верится, что я здесь. И не трясусь от страха.
— Если кто спросит про Энрике, скажешь, что это твой брат, приехал, мол, погостить немного.
Элена, кивнув головой, сказала:
— Вы, наверно, сильно устали? Я вам сейчас постелю.
— Нет, что вы. Не беспокойтесь. Я сам все сделаю.
— Ступай постели ему, — сказал Аугусто жене. — У него, видно, все кости ломит.
Ему постелили матрас у самого окна. Слышно было, как муж с женой тихо переговаривались в соседней комнате. В окно светила луна, вычерчивая на полу млечное квадратное пятно.
— Ну, как ты там, Гарсиа? — громко спросил Аугусто.
— Наверное, ему холодно, — сказала Элена. — Завтра устроим поудобней.
— Нет, мне хорошо, — ответил Энрике.
Потом, сморенный усталостью, повернулся на бок. Откуда-то доносились звуки радио.
— Если соседки пристанут с расспросами, скажешь, что это твой брат. Так будет лучше, поняла? — повторял жене Аугусто.
* * *
Педро уже не работал в пивной.
Парень, сидевший рядом с Педро, допив рюмку, сказал:
— Прошвырнемся на танцульку?
Педро смотрел в окно бара.
— Ну, прошвырнемся? — настаивал парень.
— Надо подождать Малыша, — возразил парень, стоявший у двери в заведение.
— Вот что, Лукас. Пускай этот Малыш не думает, что мы станем ждать его всю ночь напролет. Больно он нос дерет. Возомнил о себе.
Парень, стоявший у двери, поискал глазами взгляд Педро.
— Подождем еще чуток, — отозвался тот.
После слов Педро парень отошел от двери и приблизился к стойке, где стоял радиоприемник.
— А ну включи-ка машинку, хочу послушать музыку.
Буфетчик включил радио.
— Когда у вас будет кофе или сахар, я куплю, — сказал он.
— А сколько дашь?
— Кофе — по сорок дуро, как в прошлый раз.
— С прошлого раза подорожало, — сказал Педро со своего места.
— Могли бы позвонить Малышу по телефону.
— Зачем? Черт его знает где он шляется.
— Гуляет, наверное, со своей Долорес. Сами знаете, он не любит, когда ему мешают с ней гулять.
— Ох, уж эта парочка, сидит она у меня в печенках…
— Придурок ты, Хуан. Настоящий придурок, уж поверь мне, — перебил парня Педро.
— Ладно, согласен. Но не станем же мы торчать тут весь вечер из-за того, что Малышу и Долорес захотелось позабавиться в постели.
— Придурок и трепло. А стоит тебе увидеть Малыша, сразу в штаны наложишь.
— Ну, это еще посмотрим.
Лукас, обхватив голову руками и облокотясь на обитую жестью стойку, слушал радио. Он покачивался в такт музыке.
С улицы доносился шум трамвая, вспыхивали лучи автомобильных фар.
— Слышь, Эмилиано. Налей мне рюмку анисовой.
— Хорошей или из графина? — поинтересовался буфетчик.
— Хорошей.
— Такая по три монеты за рюмку.
— Ты давай наливай, а не болтай, сколько стоит. Не ты же будешь платить, как я понимаю.
У входа в бар остановилось такси.
— Явился, — громко сказал Педро.
— И конечно, со своей Долорес. Ну, что я говорил, мы ждем, а он развлекается!
Лукас выпрямился у стойки, Хуан перестал прогуливаться между стульями.
— Привет, — поздоровался он с вошедшим молодым парнем. — А ну-ка, Эмилиано, налей нам по рюмочке, ей и мне.
— Послушай, Малыш. От всех нас и так разит. Мы тут, пока тебя ждали, пропустили порядком.
— Ладно, это неплохо. Значит, не скучали.
— Не сердитесь, ребята. Это я виновата, что мы опоздали, — сказала девица, приехавшая с Малышом.
Малыш, закрыв глаза, спокойно осушил рюмку водки, которую поставил перед ним буфетчик. Потом лениво посмотрел в зеркало, украшавшее стену бара. В зеркале отражалась разноцветная светящаяся вывеска на противоположной стороне улицы.
— Будь я с тобой в постели, наверняка не скучал бы, ни за что не скучал бы, — шептал Хуан на ухо Долорес.
— Эй, Хуан, не выводи меня из себя. Я такое не потерплю и от отца родного. Попробуй только.
— Ладно, бросьте трепаться, и пускай он лучше расскажет о деле. Есть что-нибудь новенькое? — спросил Педро.
— За последние дни ничего. Я ходил к этому типу, как мы договорились. Он сказал, что еще несколько дней надо подождать.
— А когда он предупредит тебя?
— На следующей неделе, в понедельник. У меня с ним встреча на рынке Легаспи.
— Можно ему доверять? — спросил Лукас.
— А что ему остается делать. Я знаю про другие дела, в которых он увяз по уши.
Долорес развалилась на стуле и шершавым бортиком спичечного коробка подтачивала ногти.
— Эмилиано, дай мне апельсинового сока, — попросила она.
Короткая юбка ее задралась, обнажив голые колени. Она была без чулок.
— Эй, Малыш, одолжи мне хоть пяток дуро, а то у меня ни шиша.
Хуан мял в пальцах сигару, которой угостил его хахаль Долорес.
— Здорово. Ты меня все время подначиваешь. А как остаешься на бобах, у меня же бежишь просить.
— Ты всегда забираешь себе львиную долю.
— А как же иначе? Недаром у моего Фернандо есть ум, а вдобавок еще и друзья. А ты чего хотел? Чтобы я устраивал все дела, рисковал больше всех, а брал бы наравне со всеми? Так знай же, приятель, для каждого дела нужна голова, а она у меня имеется. И еще тебе не мешает знать: когда у старухи выпадают зубы, она питается одним супчиком. Для того чтобы грызть мясо, надо иметь клыки. Ничего, они еще у тебя вырастут.
— Ты, Малыш, больно мнишь о себе, потому что учился. Но не думай, что я дурак и сосу палец. Не надейся. Верно, я умею только читать да писать, но в том не моя вина. Я никогда не ходил в школу, как ты. Да, верно, я неуч, но далеко не дурак.
— Зато иногда здорово смахиваешь на него, — вставила Долорес.
— А ты помалкивай, — оборвал ее Малыш. — Ты же знаешь, я не люблю, когда бабы суются в мои дела. Мы сами все решим и уладим, раз и навсегда. Хорошо, Хуан, если тебе не нравится, можешь сматывать удочки, и дело с концом.
Парни пристально глядели друг на друга. Двое других ждали, что ответит Хуан. Долорес, улыбаясь, продолжала спичечным коробком точить коготки.
— Так-то, Хуан, если ты уйдешь, скатертью дорожка. Можешь, если хочешь, вернуться к прежнему, шляться по улицам, подбирать грязные бумажки и потом продавать их. А здесь командую я, и командую, потому что стою больше вас всех. Понятно? Я умею говорить с людьми, умею постоять за себя.
— Ты, Малыш, тоже был старьевщиком. Так что не дури мне голову.
Лукас и Педро посмотрели на Малыша. Он никогда не говорил им, что занимался таким низким промыслом.
Малыш долго молчал, прежде чем ответить. Наконец он заговорил, цедя слова сквозь зубы:
— Память у меня еще не отшибло, помню эти времена, потому-то я и здесь. Я решил, что лучше воровать, чем дохнуть с голоду, будто ты дерьмо, а не человек. И я наплевал на все. Мне тогда хотелось сгинуть со света, распрощаться с этой сучьей Испанией, прихватив с собой по крайней мере полмира. А теперь…
— Я согласен, — сказал вдруг Хуан.
— Так-то лучше, приятель. Посмотришь, сколько бумажек положишь себе в карман, если пойдешь со мной. А коли в один прекрасный день тебя подцепят на крючок, ну что ж, утешься тем, что жил шикарно, в свое удовольствие.
— Эх, прошвырнуться бы в Хай, потанцевать больно охота. — Лукас продолжал приплясывать у стойки, слушая радио.
— Держи пять дуро, всего за тобой будет тридцать. — Малыш (он еще не совсем успокоился) протянул банкноту Хуану.
Хуан не хотел брать деньги. Он чувствовал себя обиженным.
— Ладно, не заводись, бери. Лучше денег ничего в мире нет. За эти самые денежки у нас в Испании ухлопали миллион человек. Понял, сколько стоят эти бумажки?
— Можно бы позвать Пепу с ее подружкой, — предложил Лукас.
— В магазине их сейчас не найдешь, уже поздно, — сказала Долорес.
— В Хае полно баб.
— Из этих горяченьких, которые сон как рукой снимают.
Долорес хихикала. Малыш, обхватив ее за талию, прижимал к стойке.
— Не будь скотиной, мне же больно.
— А недавно ты совсем другое пела.
— Недавно было недавно.
— Пойдешь с нами или домой? — спросил Малыш у Долорес.
— Пойду домой.
— Поехали с нами, — предложил Малыш.
— Не могу, дома догадаются, поднимут шум. Сегодня опять приду поздно. Папаша мне такую бучу устроит. И так все время ругается, что я опаздываю к обеду.
— Скажи, что гуляла, зашла в кино.
— А, пускай говорят что хотят. Я сыта по горло их укорами, повеселиться не дают. Вот увидишь, в один прекрасный день брошу их и уйду с тобой.
— Слышь, Хуан? Вот какой женщины тебе недостает! — пошутил Малыш.
— Кончайте лизаться и пойдем скорее, — заторопил Хуан.
— Сколько надо платить?
— За все?
— Да, за все.
— Три за анисовую, три за коньяк, два за красное, один сок и одна можжевеловая.
— Сколько всего?
— Погоди немного, сейчас подсчитаю. — Эмилиано написал пальцем несколько цифр на влажной мраморной стойке.
— Двадцать семь песет ровно.
Малыш бросил шесть дуро на стойку.
— Сдачу можешь оставить себе.
Они вышли на улицу Фуэнкарраль. Вечерний воздух был жарок и душен. На остановке стоял желтый трамвай. Длинная очередь выстроилась у задней площадки.
— Поедем до Гран Виа на трамвае? — спросил Хуан.
— Пошли пешком, тут близко. А то, когда я стою в очереди и какой-нибудь тип с полицейским или ветеранским пропуском лезет вперед, я со злости готова лопнуть, — заявила Долорес.
Трамвай тронулся. На противоположной стороне улицы на кирпичной стене особняка кто-то намалевал огромными буквами:
АЛЖИР И ОРАН — ИСПАНЦАМ!
— Сразу видно, что немцы побеждают. Когда у них не ладится, и эти затихают.
— А ты что, интересуешься политикой? — спросил Педро у Малыша.
— Не очень. Но все же хотел бы, чтобы немцы потерпели поражение. На фронте я был всего несколько дней, но хватит мне этого на всю жизнь.
Долорес с Малышом шли впереди в обнимку. Следом за ними — Педро и остальные.
* * *
Вскоре после смерти матери Хоакина маленькая семья едва не распалась. Мужчины уже не садились у очага в кухне, где мать обычно склонялась над шитьем, поставив подле себя корзинку с нехитрым рукоделием. Дома стало холодно и печально.
Мать умерла в первый год войны. Она угасала постепенно, как угли в очаге, словно бы и не собираясь никогда расставаться с жизнью. Женщина она была тихая и в мир иной отошла с ясной, кроткой улыбкой, с какой меркнет тихий осенний вечер. Вот такой безмятежной и мягкой осталась она навсегда в памяти Хоакина.
Уже через несколько месяцев после смерти жены Матиас почти перестал являться домой. Он был полным сил мужчиной сорока двух лет, и Хоакин понимал, что у отца появилась женщина. Юноша — ему исполнилось пятнадцать, и отцу было явно не до него — перебрался жить к тетке с дядей.
— Твоему отцу надо скорей жениться. С такой бешеной кровью, если не женится, только хуже будет, — сказала как-то тетка Хоакину.
Вскоре отец явился за сыном, чтобы снова взять его домой.
— Вот что, Хоакин. Мария будет твоей новой матерью. Нам с тобой обязательно нужен уход и женская ласка.
Несколько дней спустя после свадьбы мачеха позвала к себе Хоакина. Это была еще молодая, с живым темпераментом женщина. Матиас работал в ночную смену, и его не было дома. Мачеха лежала в постели.
В жизни бывают обстоятельства, когда мужчина может плакать не стыдясь. Мария, видя усилия Хоакина сдержать слезы, спрыгнула с кровати.
— Не принимай все так близко к сердцу. Мы с тобой поладим, станем настоящими друзьями.
Хоакин ничего не ответил, молча смотря на мачеху. На ней была очень короткая ночная рубашка, едва прикрывавшая бедра.
— Дорогой мой, — говорила мачеха. — Я уверена, что мы втроем прекрасно поладим.
— Отец мог бы и подождать немного.
— Да ты не горюй, не принимай все так близко к сердцу. У всех помирают матери, уж такова жизнь.
Мария с первых же дней всячески старалась привлечь к себе юношу. Но, несмотря на ее старания, мир и спокойствие в доме царили недолго. Матиас принадлежал к той породе людей, которым все быстро приедается, особенно женщины. У него вечно были какие-то любовные интрижки. Про потасовки Марии с мужем знала вся улица. И кумушки на все лады судачили об этих баталиях.
Позже, когда война кончилась, жизнь в семье стала еще хуже. Мария запила. Сначала она приносила вино домой и, напившись в одиночестве, заваливалась спать, чтобы ни о чем не думать. Однако со временем она взяла привычку, возвращаясь домой из магазинов, заглядывать в таверну Иларио и пропускать там стаканчик-другой.
Матиас продолжал сидеть без работы. Был он мрачнее тучи. Казалось, постарел лет на десять. Каждое утро отправлялся он в трамвайную компанию узнать, как дела с его реабилитацией. И каждое утро возвращался домой ни с чем.
— Могла бы сходить к этому своему дружку с телефонной станции: может, куда порекомендует или хоть денег даст взаймы.
Мария отказывалась, но всякий раз с меньшей настойчивостью. Тогда Матиас набрасывался на нее с оскорблениями и бранью.
Хоакину, который несколько раз присутствовал при потасовках отца с мачехой, история эта представлялась грязной и отвратительной.
Отец с сыном тоже успели поссориться. Во время последнего семейного скандала Хоакин не сдержался:
— Хватит, отец, довольно. Оставь ее.
Мария, сжавшись в комок, забилась в угол спальни и исподлобья смотрела на пасынка. В ее взгляде было что-то странное, звериное. От Матиаса ее отделяла только кровать, за которую она спряталась.
Мария вытянула перед собой руки, словно загораживаясь от ремня, которым размахивал Матиас.
— Ты пьянчуга! — кричал Матиас.
Окно, выходившее в гараж, было открыто. Солнце разноцветными зайчиками играло в его стеклах.
— Я тебе покажу, сука проклятая!
Жена отвечала на ругань из своего укрытия. Ее тоже захлестнула волна злобы.
— Сперва сам посылаешь меня к нему, а потом бьешь за то, что пошла. Сукин сын! Сволочь, вот ты кто! Сволочь и сутенер!
Ремень просвистел в воздухе и опустился на плечи и руки Марии. Она взвыла от боли и бессилия.
— …сволочь!
Он ударил ее снова. На правой руке Марии вздулась кроваво-красная полоса.
— …сутенер!
Она сидела, скрючившись в своем укрытии. И несмотря на боль, сдерживала рыдания.
— Посылаешь к нему за деньгами.
— Оставь ее! Я сказал, довольно!
Хоакин схватил отца за руки. Вспотевшее лицо Матиаса было перекошено от злобы. Вены на висках вздулись, как толстые веревки, казалось, вот-вот лопнут.
— Не суйся не в свое дело! — крикнул он сыну.
Хоакин крепко держал отца за руки, не обращая внимания на его крики. С пола доносились стоны мачехи.
— Когда-нибудь он меня убьет, Хоакин. Непременно убьет.
— Как ты смеешь? — вопил Матиас.
— Оставь ее в покое.
— И это ты, щепок, говоришь своему отцу!
— Послушай, — сказал Хоакин. — Давай поговорим серьезно. Все дело в том, что ты не умеешь противостоять трудностям. Если у тебя нет двух дуро в кармане, ты готов головой в омут броситься, и плевать тебе на то, как жена достает эти деньги. Но стоит тебе получить деньги, как ты начинаешь корчить из себя оскорбленного. Надо взять себя в руки. Многие живут похуже тебя. Тебе не хватает только работы. А без еды ты еще не оставался. Другие вон по тюрьмам сидят.
— Так и знайте, — не поднимая глаз, процедил Матиас, — так и знайте. Однажды проснетесь, а меня и след простыл. Ни она, ни ты больше меня не увидите.
— Делай что хочешь.
— Этого еще не хватало, — ворчал Матиас. — Чтобы мой собственный сын стал на сторону этой… Только этого не хватало. Так и знайте, однажды проснетесь, а меня и след простыл.
Разругавшись с сыном, Матиас хлопнул дверью и вышел на улицу.
Хоакин был худым высоким пареньком. В четырнадцать лет он уже работал учеником в механической мастерской. Получал полторы песеты в день и читал все, что ни попадалось под руку. Когда умерла мать — это случилось в первый год войны, — ему исполнилось пятнадцать лет и он был полон любопытства ко всему окружающему. Он видел, как, озаряя ночи, полыхали пожары, слышал на улицах свист пуль. Познал голод и страх. Играя, облазил все пулеметные точки на баррикадах в своем квартале. Впервые в жизни проводил девушку. Поступил в среднюю школу и записался в ИФС[9].
Когда войска Франко вступили в Мадрид, ему исполнилось семнадцать. И снова он познал голод и страх, нестерпимый голод и не изведанный дотоле страх. Хоакин бросил школу, чтобы поступить в пекарню. Хозяин позволял ему пробовать свежевыпеченный хлеб. И хотя работа не очень нравилась Хоакину, он был доволен. По крайней мере дома было одним ртом меньше.
Однажды старший пекарь сказал ему:
— Не думай, что хозяин позволяет тебе обжираться просто так, у него свой расчет. Так он поступает со всеми новичками. Ты набиваешь брюхо горячим тестом и не трогаешь пирожных, а они куда дороже.
Хоакин очень быстро подружился с пекарем.
— Знаете, сеньор Хуан, не по мне профессия пирожника. Меня больше привлекает техника.
Часто они обсуждали разные вопросы. Сеньор Хуан умел слушать и затем высказывал Хоакину весьма справедливые суждения о многих вещах.
— Значит, так. Ты, я и все трудящиеся — мы образуем один класс. Но пока мы не осознаем, кто мы, пока не поймем все как следует — а это, между прочим, проще простого, — мы ничего не поделаем. Повторяю, все мы принадлежим к одному классу, и класс этот — рычаг, который движет миром. В производстве мы первые: мы печем хлеб, строим дома, делаем моторы. Словом, все производим мы. Но как только дело доходит до распределения и руководства, нас никто не зовет. Нам лишь платят, чтобы мы могли питаться и иметь силы для работы.
Иногда Хоакин делился с Хуаном своими личными заботами, рассказывал о домашних делах, просил у старшего друга совета.
— В таких вопросах советовать трудно. Мы живем в плохое время, время трудных испытаний. Твой отец, да и другие — не думай, что он в единственном числе, — не уразумели урока. Ясное дело, для того чтобы судить о человеке, надо знать о нем больше: как он живет сейчас, как жил прежде…
— Знаешь, — сказал он как-то Хоакину, — надо запастись терпением. Вчера я был на вокзале, провожал одного родственника. Видел там два состава, груженных оливковым маслом и рисом. На них висели таблички, я подошел прочесть. И что ж, ты думаешь, там было написано? «Испанские излишки для Германии». Надо ж, отчубучили: излишки!..
— Говорят, мы платим долги за войну, — сказал Хоакин.
— Я тоже так считаю, какие же у нас излишки…
Хоакин недолго проработал в пекарне. Он устроился на завод в предместье. Изредка навещал сеньора Хуана.
— Ну, как у тебя идут дела, паренек?
— Учусь, хочу стать мастером.
— Это хорошо. В один прекрасный день понадобятся рабочие, соображающие что к чему.
А вскоре учеба и работа заполнили все его время, и Хоакин перестал навещать своего друга.
Она подъела все, что нашлось в доме. На кухне было темно, но она не испытывала желания зажечь свет.
Мария пристроилась на низком, из гнутых прутьев, стульчике с камышовым сиденьем, прислоненном к кафельной стене, рядом с потухшим очагом. Наклонившись вперед, положила лицо на ладони рук, локти уперла в колени.
Оторвав взгляд от подола платья, почти бессмысленно Мария взглянула в окно, выходившее во двор. Там, за окном, начиналась еще одна ночь. Луна, круглая, как монета, внезапно вынырнула из-за соседней крыши, словно привязанная на веревочке. Затем взгляд Марии на миг задержался на голубой клеенке, покрывавшей кухонный стол. Местами она протерлась, и виднелась основа.
В голову лезли всякие глупости. Мысли, бессвязные и пустые, кружились в нескончаемом водовороте, не обретая конкретной формы. Она замурлыкала песенку, которую во все горло распевал кто-то на другом этаже.
Снова глотнула вина.
Песня внезапно замолкла. Мария некоторое время напряженно прислушивалась, ожидая, не раздастся ли она снова. Но до нее доносились лишь шум со двора да стук капель, падавших из крана.
Ей стало лучше. Какой бы несчастной чувствовала она себя, если бы не могла напиваться. Все печали и невзгоды, обрушившиеся на нее, причиняли ей физическую боль. Они комком застревали у нее в горле.
Еще глоток.
В кухню вошла Ауреа. Мария инстинктивно спрятала бутылку под стул.
Ауреа вздрогнула, когда зажгла свет.
— Что вы тут делаете в темноте, сеньора Мария? Ну и напугали вы меня.
— Не знаю. Вроде с потушенным светом лучше. Да и денег меньше уходит. А то к началу месяца слишком много набегает по счету.
Ауреа помешала Марии. Она словно нарочно пришла нарушить ее покой в этом тихом убежище.
— Каждый день все дорожает и дорожает, ну что за паршивая жизнь! — заметила Ауреа.
Она ходила от плиты к раковине. И при каждом шаге шлепанцы соскакивали у нее с ног.
— А к чему приводят эти повышения, сами знаете. Все больше и больше записей в тетрадке. Не представляю, до чего мы докатимся. Знаете, сколько я отдала за две булки хлеба? Не поверите. По три песеты за каждую, а в них и по сто граммов не будет.
Ауреа принялась мыть посуду, сложенную в раковине; потом ополоснула ее, подставив под струю воды. На руках ее виднелись пятна от наждачного порошка.
«Когда она наконец кончит свое мытье и оставит меня в покое?» И мысли Марии, скакнув, словно полевой кузнечик, унеслись к тому времени, когда она впервые познакомилась с Матиасом.
Видный мужчина был этот водитель трамвая. Молодой, смуглый, с очень приятной улыбкой. Мария была довольна. Она стояла на задней площадке вагона, прислонившись спиной к стеклу. Правой рукой доставала щепотки песка из специального ящика и через отверстие в полу сыпала на рельсы. Делала она это не задумываясь, смотря на широкую спину мужчины, который уверенно вел трамвай.
Мария прошла через весь вагон. Один из пассажиров, взглянул на нее, что-то сказал, но она даже не обратила на него внимания. Взявшись рукой за поручень, закрыла за собой деревянную дверь. Дверь немного заело, и она с силой дернула ее еще раз. Матиас обернулся и медленно затормозил у остановки.
— Как работается? — спросил он.
— Думала, что не справлюсь.
— А знаете, вам здорово идет эта блузка.
Еще бы ей этого не знать. Это была изумительная красная блузка, плотно облегавшая ее фигуру.
— Как вас зовут? — поинтересовался вагоновожатый.
— Мария.
— У меня была одна знакомая девушка, ее тоже звали Мария.
— Да? — протянула она. — И какая она была из себя?
— Совсем не похожа на вас, у нее не было такой красивой блузки.
Мария рассмеялась. Она знала, что у нее вызывающе крупный бюст. Округлые и крепкие, как римские груши, груди слегка дрогнули под легкой яркой тканью.
Один из пассажиров позвонил в колокольчик. Матиас тронул трамвай. Они пересекали площадь Сибелы.
Фонтан посреди площади был заложен мешками с песком. Авиация и артиллерия с холма Гарабитас часто бомбили и обстреливали из орудий Мадрид.
— Ну ладно, пойду получу за билеты, а то, видно, они очень торопятся заплатить за проезд, — сказала Мария.
И снова голос Ауреа вывел ее из задумчивости. Ауреа вытирала посуду белой тряпицей с голубой полосой.
— Вот тогда я и сказала моей племяннице: Антония, ты хорошая девушка, но, если я только увижу тебя с мужчиной, излуплю палкой. Тебе надо думать о работе и ни о чем больше и оставить разные глупости. Так ей и сказала.
На соседкиных часах пробило восемь вечера. Часы хорошо были видны Марии, они висели в столовой. Массивные стенные часы с длинным желтым маятником.
— Восемь часов, — сказала Ауреа, сосчитав удары. — Уж поверьте, сеньора Мария, сегодня я нипочем бы не встала. Так ломит и вертит с полудня одно место, с ума сойти можно. И все из-за этой ведьмы доньи Пруденсии. Такая назойливая старуха, я ей это прямо в глаза сказала. И кто ее просил снимать мою кастрюлю? Так затвердел горох, что не разгрызешь. А такой горох не каждый день купишь, по три дуро за кило платила. Не будь донья Пруденсия старухой, я бы ей всю рожу разукрасила.
Мария кивнула головой. В самом деле, старая карга была преотвратная скотина, но Ауреа ни в чем не уступала ей, особенно по части языка. А кроме того, Марии на все было положительно наплевать. Она мечтала лишь об одном — чтобы квартирантка поскорее убралась и дала бы ей спокойно предаться воспоминаниям.
Мария пошевелилась, расправляя затекшие ноги. Большим пальцем перекрестила, чтобы скорее отошли.
— Сейчас, сейчас ухожу, — сказала Ауреа. — Если придет племянница, не пускайте ее на улицу. Я сбегаю в лавочку к Хесусу за оливковым маслом и картошкой по карточкам. Вы читали сегодняшнюю газету? Напечатано, что дают по шестьдесят два грамма на человека. Будто этой малостью можно прокормить семью целую декаду…
Снова она осталась одна. Снова глотнула из бутылки. Недурное винцо было бы у Иларио, если б он не доливал в него столько воды. И еще дерет по четыре песеты за литр. Ох и тип этот Иларио. Не холостяк, а настоящий мышиный жеребчик. Всегда у него находится заветное словечко для женщин, будь то девушка или старуха.
— Что можно ждать от женщин? Расфуфырятся, намажут губы и пойдут вертеть бедрами, как кобылы. А что ждать от мужчин? Теряют голову от этих самых женщин. Неважно, молодые они или старые, у каждой все на своем месте. Ясное дело, если молоденькие… — разглагольствовал кабатчик.
Иларио был низенький, хлипкий. Всегда носил белую курточку, такую короткую, что едва прикрывала его тощий зад. Стоило поглядеть на него, когда он кидал взоры на дочку служащего из электрокомпании. Девушка была высокая, статная. Кабатчик так и пожирал ее глазами. Она позволяла любоваться собой и, уходя из бара, сильнее обычного вертела бедрами. Вообще бедра этой девицы были предметом восхищения всех завсегдатаев таверны Иларио.
У дочки служащего из электрокомпании были свои причуды. Когда Иларио, изощряясь в комплиментах, уверял, будто он «что-то увидел у нее», она спокойно отвечала:
— Ну и прекрасно. На здоровье! На то, что достанется червякам, можно поглазеть и холостякам.
Мария снова глотнула вина.
Во рту было сухо-пресухо, словно исчезла вся слюна. Вдобавок жара. Вены на оголенных руках слегка припухли. Кровь точно застоялась в голубых жилочках под самой поверхностью кожи.
Мария почувствовала, что покрывается потом.
Ей вспомнилось, что через несколько дней после того, как она стала работать кондуктором на трамвае, они отправились в рейс вместе с Матиасом.
Была суббота, и они вместе пошли получать жалованье. Перед окошком кассы им пришлось порядком подождать. Они шутили с товарищами, ее расспрашивали о житье в Париже.
— Да, я довольно долго была во Франции, у меня в Бордо живет сестра.
— А правду говорят про француженок?
— Я думаю, что они такие же, как все. По-моему, женщины всюду одинаковые. Ну, конечно, если дать больше свободы…
Марию всегда развлекало, когда ее расспрашивали насчет любви во Франции. Для большинства мужчин одинокая молодая женщина, пожившая в Париже, казалось, сулила неизведанные любовные утехи. И вдобавок легкодоступные.
— Ладно, Мария, мы подождем тебя у выхода, пойдем с нами пропустим по стаканчику.
— Хорошо, — согласилась она. — Пойду, если только вы меня не заговорите.
Матиас оказался рядом с Марией, когда они вышли на улицу. Стоял серый пасмурный вечер. По небу вскачь неслись тучки. Утром прошел дождь, и вода словно смыла краску с двери бара.
Часть улицы была не замощена. Рабочие, возводя баррикады, выламывали брусчатку на мадридских улицах и перетаскивали ее к передовой, к траншеям.
— А ну, первая кружка по кругу, как обычно.
Матиас был неподражаем. Неизвестно как, но он всюду успевал расплачиваться первым. Он попросил чего-нибудь на закуску.
— Нет ничего, кроме каперсов.
— Ну, раз нет…
— Нет, ничего другого нет.
На стене заведения красовался плакат военных лет, приколотый кнопками.
На плакате было изображено огромное ухо, и под ним стояла предостерегающая надпись:
ОСТОРОЖНО! НЕ БОЛТАЙ!
ТЕБЯ СЛУШАЕТ ПЯТАЯ КОЛОННА!
Мария продолжала вспоминать. Неиззестно почему, но воспоминания о тех далеких временах ярко вставали перед ее мысленным взором. Она помнила все до мельчайших подробностей.
Все сгрудились у стойки. У Матиаса был приятный голос, и он великолепно спел хоту. Среди этого шума, песен, громких возгласов, хлопков в ладоши и жарких споров Матиас нежно и ласково пожимал ей руку.
С холма Гарабитас начала бить артиллерия, то и дело раздавались взрывы. Это был методичный обстрел, он начинался всегда в одно и то же время.
— Уже начали. Вот послушайте, как сейчас им ответит «старушка».
«Старушка» была самая знаменитая пушка во всем Мадриде. По словам знатоков, она обладала неподражаемым голосом, отличавшим ее от всех остальных орудий.
И «старушка» отвечала.
— А как твой сынок, Матиас?
Матиас недавно овдовел. Жена оставила ему смуглого мальчика с чуть вьющимися волосами. Мария знала его по фотографиям.
— Учится. Ходит во вторую ступень.
— Он у тебя настоящий мужчина.
— Да, повыше меня ростом.
Матиас беседовал с Родригесом, старым вагоновожатым, про которого приятели говорили, что «у него живот больше, чем у бабы на сносях». Мария помнила, как Родригес смотрел на свои часы: высоко подняв брови и с великой важностью. Извлекая из кармана куртки свой «рос-коп», он долго рассматривал его, а затем так же важно клал обратно в карман. Делал он это поминутно, но Марии казалось, что тем не менее Родригес никогда не знал, который час.
— А как поживают твои, Родригес?
— Живут себе преспокойно в Валенсии. Я пока их не зову.
Родригес указал большим пальцем через плечо, намекая на железный дождь, льющийся на город. И важно продолжал:
— Старший сейчас в Гвадалахаре. Вчера только получил от него письмо. Хорошо потрепали они итальянских фашистов в Гвадалахаре. Кажется, некоторые драпали до самой Сарагосы.
Мария продолжала вспоминать прошлые времена. Через черный проем окна со двора доносились тысячи различных звуков.
Из крана нудно капало в раковину. «Хоть бы Хоакин починил его наконец. Уж десять раз говорила».
Донья Пруденсия возилась у себя в комнате. Дети на первом этаже, не переставая, хныкали. Мать отчитывала их за то, что они отказывались есть мучную болтушку.
Мучная болтушка. Гороховая каша. От гороха пучит, усиливается сердцебиение. Пухнут руки и ноги. А что она ест? Да самое дешевое. Кашу. Дерьмовую кашу. «Ну и собачья жизнь! Только об еде и думаешь. Проклятая жизнь, дерьмовая жизнь», — размышляла Мария, слушая, как мать отчитывает своих детишек.
Она снова приложилась к бутылке. Вина оставалось меньше половины, и оно отдавало кислятиной.
Зажглась лампочка в кухне напротив. «Какая худущая и безобразная стала эта сеньора Петра, — подумала Мария. — И это когда они хорошо зажили. Муж у нее сержант в интендантских войсках. Кофе разогревает. Хороший, настоящий кофе, не то что это дерьмо из лавочки». — Она почти возненавидела соседку за то, что та питалась лучше ее.
Мария развлекалась, наблюдая, как соседка процеживает кофе через матерчатую цедилку. Цедилка напомнила ей своей формой и цветом козье вымя. И она рассмеялась. Соседка сжимала пальцами цедилку, чтобы лучше отжать кофе, сжимала и давила, словно сосцы вымени. Из большого пакета достала сахар. Мария, словно завороженная, следила за каждым ее движением. Вспомнила, что на той неделе не выдавали сахара по карточкам и ей пришлось купить у спекулянтов. И снова с ненавистью взглянула на противоположное окно.
Шум у входной двери вывел ее из задумчивости. Она узнала шаги Хоакина и Антонии. Они о чем-то говорили и смеялись. Мария зажгла свет в кухне и притворилась, будто возится с посудой.
— Антония, — сказала она девушке. — Твоя тетя просила, чтобы ты подождала ее, она скоро придет. Пошла в лавочку отовариваться.
— Спасибо, — ответила девушка.
Хоакин опять куда-то уходил. Он пришел, только чтобы взять несколько книг. Но перед тем, как уйти, умылся под краном.
Мария опять приложилась к бутылке. Пот градом катился по спине. Ей было нестерпимо жарко, горели даже глаза, но она не чувствовала опьянения. Снова хлопнула входная дверь. И вскоре послышался спор между Ауреа и племянницей.
«Как пить дать, не пустит ее».
— В полдесятого чтоб обязательно была дома, — настаивала Ауреа.
— Но тетя, — возражала девушка, — сейчас уже девять. Ты отпускаешь меня только на полчаса!
В тот далекий день тоже было девять часов вечера. Побыв немного с товарищами по работе, они с Матиасом ушли, взявшись под руку. Забрались в ближайшее кино на продленный сеанс.
Шли два фильма подряд. После окончания каждой программы зрители вставали с мест и в знак одобрения поднимали вверх сжатый кулак или сплетали руки над головой. «Теперь, — подумала Мария, — времена переменились и зрители в кинотеатрах, наверное, в виде приветствия выбрасывают руку вперед».
Матиас был очень нежен с нею. Он ласкал и крепко обнимал ее.
— Мария, — с придыханием шептал он. — Я считал, что уже ни одна женщина на свете не вскружит мне голову, но я ошибался. Вы свели меня с ума, признаюсь в этом. Ну полюби меня, хоть немножко. Будь со мной поласковей, ну хоть разочек…
Они вышли из кино раньше, чем кончился сеанс. Над городом нависала темная ночь. Но, несмотря на поздний час, по улицам разгуливало много народу. Прожекторы метались, скрещивая яркие снопы света. Белые кочаны зенитных разрывов усеяли ночное небо. Вскоре зенитки замолчали, и было только слышно, как шел непрерывный бой в Университетском городке.
— Дубасят почем зря у клиник, — сказал Матиас.
Они шли молча. Через несколько минут Матиас снова принялся за свое:
— Дома никого нет, сын сейчас живет у дяди с теткой.
Мария посмотрела прямо ему в лицо. Матиас сгорал от нетерпения. Он опять крепко обнял ее.
— Никак не попаду ключом в замочную скважину.
— Давай я открою, — сказала Мария.
Сидя на низеньком стуле, Maрия улыбалась, вспоминая ту далекую военную ночь. И снова приложилась к бутылке. В восьмой раз.
Оставался всего лишь один глоток.
Муж, дом, квартиранты — все проваливалось в бездонную пропасть.
Она начала тихонько напевать.
В голове будто что-то застряло, тяжело давило виски. Мария привстала и, качнувшись, снова опустилась ка стул.
Последний глоток.
Пустая бутылка, упав на пол, покатилась под кухонный стол. В окнах, выходивших во двор, зажегся свет. И ей стало радостно, ужасно радостно. А потом грустно.
* * *
В соседней комнате, первой по коридору, жила старуха, торговка конфетами.
Она вечно ходила в одном и том же черном заляпанном халате, поверх которого надевала передник. Голову повязывала платком.
Старуха почти никогда не улыбалась. Никто не слышал от нее приветливого слова. Неизменно суровая, она восседала за своим высоким лотком с конфетами.
Торговала старуха с десяти утра до позднего вечера. По утрам, встав с постели, она съедала половину хлебного пайка, запивая его чашкой дешевого ячменного кофе. В обед она не покидала своего поста, а только съедала вторую половину хлеба с кусочком мармелада.
Лоток торговки стоял у самого входа в метро на станции «Кеведо». Кроме конфет, старуха промышляла хлебом и табаком. Хлеб и табак поставлял ей сторож из аюнтамиенто, он же взимал с нее налог за уличную торговлю.
Каждый вечер, возвратясь домой, старуха неизменно садилась на стул в уголке столовой и наблюдала, как ужинала семья Матиаса. Она не произносила ни единого слова и довольствовалась тем, что слушала радио.
Хоакина очень раздражало присутствие старухи, которая молча наблюдала за ними.
— Вы можете разогреть себе что-нибудь на ужин, печка еще теплая, — говорила Мария.
Донья Пруденсия поднималась со своего стула и шла yа кухню подогреть чашку солодового кофе и поджарить омлет.
Поужинав, она снова возвращалась в столовую и слушала радио, пока все не укладывались спать.
Иногда по вечерам три женщины затевали разговор за мытьем кухонной посуды.
— Вы хоть на свой заработок с лотка можете прожить, — говорила Мария, обращаясь к донье Пруденсии.
— А вдобавок у вас имеются и сбережения, — вставляла Ауреа.
— У меня? Сбережения? Откуда? — возражала торговка.
— Не отпирайтесь! Я не раз видела, как вы заходили в ломбард. Наверняка имеете там счет, и немалый, — уверяла Ауреа.
— Я зарабатываю только на жизнь, сами видите. А несколько медяков, что у меня в ломбарде, так это за место на кладбище для моего бедняжки покойного мужа, царство ему небесное, да и для меня. На вечное упокоение.
— Что у вас вечное, так это выгода, — язвила Ауреа, стараясь задеть торговку. — Печку ни разу не затопите, ни нарочно, ни случайно. Вы па уголь тратите меньше, чем слепой на журналы.
— Вечно вы жадничаете, — вставляла Мария.
— У нашей Ауреа язык без костей, мелет почем зря, — зло бормотала старуха.
— А наша старуха скупердяйка, каких мало, — раздражалась Ауреа.
— Вы могли бы жить припеваючи. В кино ходить не любите, одеваться вам не надо, никому не помогаете, денег не тратите. Могли бы питаться, как настоящая сеньора, — уверяла Мария, когда ссора между квартирантками немного утихала.
— И бросьте болтать о кладбищах и боженьке. Вам же хуже, если вы себе во всем отказываете. С каждым днем деньги падают в цене. Это яснее ясного, — выговаривала Ауреа. — Вчера еще картошка была по четыре песеты кило, а сегодня уже на два реала дороже. И кто знает, что будет завтра. Через год, наверное, будет стоить, как бриллианты.
— Если на себя не тратиться, денежки, как пить дать, заберут попы или государство.
Иногда по вечерам, когда у всех было хорошее настроение, донья Пруденсия, усевшись на стуле в кухне, предавалась воспоминаниям о счастливых днях своей обеспеченной жизни.
Женщины внимали ее рассказам с истинным наслаждением.
По-видимому, уличная торговка в свое время жила на широкую ногу.
— Моего мужа, — рассказывала она, — все звали дон Педро. Был он красавец мужчина, ростом повыше Хоакина. Видный и важный. Однажды мы отдыхали в Сан-Себастьяне.
— Так вы были богатая?
— Смотря что называть богатством. Устроены, слава богу, были неплохо. Дон Педро, мой муженек, — подчеркивала донья Пруденсия, — держал часовую мастерскую и очень прилично зарабатывал на починках.
— И он вам много оставил?
— Счет в ломбарде на пять тысяч дуро.
— Пять тысяч… — присвистнула Ауреа.
— Да, это были немалые денежки в те времена. — А теперь у меня не осталось и медяка, — сокрушалась донья Пруденсия.
— Да вы не бойтесь, я у вас не попрошу, — успокоила ее Ауреа.
— Будь у меня деньги, как вы считаете, я бы жила совсем по-другому, уверяю вас. Ела бы вкусные вещи.
Рассказывая о своем прошлом житье-бытье, донья Пруденсия всегда становилась сентиментальной. Она уходила к себе в комнату, долго рылась в большом бауле и наконец извлекала из него перламутровый медальон, оправленный в немецкое золото, и очень длинные сережки, которые, по ее уверению, были бриллиантовые. Как обычно, поцеловав медальон, она говорила:
— Какие были времена! Какие времена! Как мы питались! Парной цыпленок — две песеты, а оливковое масло всего пять реалов.
— И у вас нет никого из родных? — спрашивала Мария.
— Есть два племянника, живут под Барахасом. Иногда приезжают навестить меня; все хотят, чтобы я дала им деньги. Не знаю, с чего они втемяшили себе в башку, будто у меня полно золота и драгоценностей.
— А торговля конфетами обеспечивает вас? — интересовалась Ауреа.
— Нет, больше перепадает от продажи хлеба да табака. С пачки «Идеалес» получаю три песеты, а с булки — одну. Выдаются дни, когда сбываю по четыре пачки табаку и полдюжины булок.
— Да вы здорово разбираетесь в коммерции! — с изумлением восклицала Ауреа.
В иные дни, перемывая на кухне посуду, женщины затевали спор, который, как правило, кончался ссорой. Ауреа всегда плохо отзывалась о донье Пруденсии. А старуха в свою очередь накачивала Марию, передавая ей сплетни соседки или придумывая неприятные истории. Мария, смотря по настроению, кидалась то па одну, то на другую квартирантку.
— Да вы не знаете, сеньора Мария, что Ауреа наговаривает па вас. Уверяет, будто вы так втюрились в своего муженька, что, стоит вам увидеть его штаны, вы тут же забываете про взбучки.
Донья Пруденсия уходила к себе в комнату. Там она приводила в порядок лоток, подсчитывала дневную выручку. Затем укладывалась спать и спала до девяти часов утра.
* * *
Он оторвал взгляд от станка и посмотрел на металлические фермы в пролете цеха. Свет лился через зеленоватые стекла, усеивая пол маленькими солнечными квадратиками.
С минуту он прислушивался к шуму в цехе. Стоял стук и звон инструментов, мерный гул работающих станков, раздавались распоряжения мастеров, изредка работницы затягивали песню, скрипели вагонетки.
Хоакин работал в главном корпусе завода. Пятьдесят токарных станков различных размеров. Двадцать фрезерных. Десять автоматических строгальных. Десяток механических пил. Сверлильные, шлифовальные станки. Испытательные стенды для моторов. Столяры, электрики, слесари, чертежники, химик. Два инженера и пять техников. Административный отдел. Контора управляющего. Два грузовика с газогенераторами. Пикап марки «форд» и четыре водителя. И пятьсот рабочих: мужчин, женщин, подростков.
— А ну, прекратите петь, это запрещено! — кричал мастер работницам. — Не пытайтесь провести меня, — заявлял он ученикам.
Женщины умолкали, и мастер прохаживался мимо них, придирчиво рассматривая работу.
— Петь даже запрещают. По-ихнему, надо вкалывать без отдыха целый день за какие-то поганые четыре дуро, — пробурчал токарь, работавший рядом с Хоакином.
Хоакин молча установил линейку, которую держал в руках. Вставил резец в револьверный суппорт и пустил станок на малых оборотах. Стальная стружка, закручиваясь штопором, вилась вокруг шпинделя.
— Подай мне калибровку, Энрике.
— Ну как люди не станут лодырничать? — сказал Энрике, передавая Хоакину калибровку. — Заколачивают деньги на халтуре, а в рабочее время знать ничего не хотят.
— Ты все еще живешь у Аугусто? — спросил Хоакин Энрике.
— Да, все там, но мне уже осточертело. Аугусто хороший товарищ. Это он меня тут устроил, по дома у него слишком мало места на всех.
Оба рабочих помолчали; Хоакин замерял калибровкой деталь.
— Еще надо снять пять десятых, — сказал он.
— Селестино, Селестино, жена звонит тебе! — крикнул мастер со своего места.
Селестино и Антонио пилили доски рядом со станком Хоакина. Селестино работал старшим столяром, Антонио — подсобным. Селестино был лет тридцати, смуглый, худой. Женат, имел трех детей. Скоро ожидался четвертый. Прошло всего несколько месяцев, как его выпустили из тюрьмы.
— Меня обвинили в помощи восставшим, — объяснил он.
Селестино умел и любил поговорить, ученики его просто обожали. Он собирал их в обеденный перерыв и рассказывал истории времен войны.
— Я служил в кавалерии, был как конник Буденного в русскую революцию.
Селестино и Антонио были двоюродными братьями. Антонио вовсю старался вернуть своего брата в лоно церкви. Он носил ему пропагандистскую литературу, которую распространяли католические организации среди рабочих.
— Ну, парень, прямо не верится, что ты мой брат. Чисто восковая свечка, — недоумевал Селестино, когда Антонио всучивал ему листовку, распространяемую католическими группами.
— Там на собраниях говорят обо всем и совершенно свободно. Вот пришел бы хоть раз, сам убедился бы, — возражал Антонио.
— Рассказывай эти байки другим. Мне бы побольше зашибить денег, а не читать энциклики.
Селестино, поговорив по телефону, подошел к Энрике.
— Видал писульки, которые таскает мой братец? Втемяшил себе в башку, что пойдет на собрание священников и рабочих.
— Хорошенькое сочетание, — рассмеялся Хоакин.
— А может, ему там интересно, — заметил Энрике.
— Звонила жена. Передала, что мальчику стало лучше, — сказал Селестино.
Энрике достал табакерку и предложил товарищам закурить. Трое рабочих неторопливо свернули самокрутки.
— Осторожно, — сказал Хоакин. — Мастер идет.
— Этому стоило бы дать как следует, — процедил Селестино.
Мастер медленно шел между станками.
— Эй, Селестино, ты уж полчаса как чешешь языком. Пора бы и поработать.
— На любой работе бывает перекур. Я только закурил с ребятами, — возразил столяр, снова принимаясь пилить доски.
— Ну, как идут дела? — спросил Хоакин у Энрике.
— Плохо. Вчера слушал Би-би-си. Немцы под самым Парижем.
— Я слышал, французы плохо отнеслись к нам во время войны. Оставили нас в беде, пока немцы и итальянцы вовсю слали своим вооружение.
— Да, это правда, Хоакин. Теперь они за это расплачиваются. Но французские рабочие в этом не виноваты. Рабочие во всем мире такие же, как мы. Радуются и печалятся одному и тому же и борются за одно и то же. Я знавал и французов, и немцев, которые лезли под пули вместе с нами под Усерой. И итальянцев тоже.
Энрике глубоко затянулся. Потом медленно заменил деталь в станке.
— Когда люди как следует разберутся, что к чему, не будет больше войн. Нам, рабочим, войны не нужны, они нужны капиталистам. И пока на свете будут существовать капиталисты, не будет ни мира, ни радости. Они хотят украсть у нас правду. Я однажды слышал человека, который разбирается в таких вещах. Он сказал, что никто не имеет права жить за счет труда другого и что надо бороться за свободу, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
— Не говори так громко, тебя могут услышать. Мастер доносчик, потом все передаст хозяину, — предупредил Хоакин, оглядываясь по сторонам.
— Ты прав, но иногда я не могу сдержаться. Кровь ударяет в голову, и я выкладываю все, что у меня накипело на душе.
Хоакин разговаривал с Пересом, который подошел к нему за английским ключом. Переса хлебом не корми, дай только потолковать о своей неудачливой жизни.
— Я никому ничего плохого не сделал. Я был школьным учителем и на протяжении всех трех лет войны, как обычно, словно ничего не произошло, давал уроки. И вдруг меня ни с того ни с сего выгнали из школы. Истинная правда, Хоакин, я никому ничего плохого не сделал.
Хоакин с интересом слушал рассказы этого человека о своей жизни.
— Вам нечего оправдываться передо мной.
— Я получил письмо от нашего приходского священника, пишет, что устроит меня, чтобы я не волновался, у него, мол, есть влиятельные знакомые.
— Может, вас наказали за то, что вы учили недозволенным вещам? — спросил Хоакин.
— Я учил по программе, клянусь тебе. Учил грамоте, читать и писать, по официальной программе.
— Не беспокойтесь, все устроится. С помощью священника всюду можно проникнуть.
— То же самое говорит моя жена, но мне что-то не верится. Если б ты знал, как мне хочется снова попасть в школу! Это замечательная школа, из тех, что построили при республике. Стены выбелены известкой — одно загляденье, а при школе сад, где ребята могут играть на переменках. Приятно посмотреть! Я вставал рано поутру, пил кофе с гренками и шел давать уроки до полудня. После обеда немного спал и опять учил ребят до пяти вечера.
Хоакин терпеливо слушал. Ему было по-настоящему жаль этого человека. Вскоре бывший учитель замолкал. Он был худой и сутулый, руки, точно плети, висели вдоль тела, лицо испитое. Хоакин смотрел в его глубоко запавшие глаза.
— А теперь я подсобник на кузнице, — жаловался бывший учитель. Комбинезон на нем был застегнут на все пуговицы. На ногах старые пеньковые альпаргаты. «Должно быть, голодный как волк, — подумал Хоакин. — Комбинезон на нем болтается как на вешалке». Иногда они ходили вместе обедать к заводской стене. Учитель приносил с собой сушеные фиги, хлеб и помидор. Съев хлеб с фигами, он разрезал помидор на две половинки и, обильно посыпав солью, медленно жевал, смакуя каждый кусочек.
— Уверяю тебя, окажись я снова в школе, я, наверное, даже сразу не соображу, что мне делать.
Когда изредка рабочие обсуждали спорные вопросы или пытались протестовать против непорядков на заводе — Хоакин хорошо это помнил, — бывший учитель всегда оставался в стороне. Он испуганно озирался своими маленькими глазками и тут же исчезал в каком-нибудь темном углу.
— Мне кажется, все ваши требования вполне разумны, но я не могу их поддерживать, — откровенно говорил он. — Я не собираюсь прятаться в кусты, поймите меня правильно. Просто мне не хочется, чтобы за болтовню меня лишали школы. Мне должны дать рекомендацию, и, кто знает, может, придут за сведениями на завод. Кроме того, у меня нет рабочей профессии, как у вас, я умею только преподавать. Если меня выгонят с завода, куда я денусь? Я зарабатываю девять двадцать в день, и хотя это очень мало, все же лучше, чем помереть с голоду.
Рабочие на заводе уважали старого учителя. А он порой, вообразив себя опять в школе, собирал учеников и подмастерьев и рассказывал им историю Испании.
Когда пробило шесть, Хоакин направился к контрольным часам пробить выходную карточку. В цеху оставались лишь монтажники, работницы и ученики, которые работали сдельно.
Гул станков немного стих. Солнечные лучи едва касались верхнего края забранных решеткой окон.
— Что стряслось с этим ключом? — спросил у Хоакина кладовщик.
— Ничего, просто немного сорвалась резьба.
— Это у тебя сорвалась резьба. Мог бы поаккуратней обращаться с инструментом.
— Подумаешь, ничего особенного, — сказал Энрике, отдавая кладовщику свои инструмент. — Этот ключ уже совсем старый.
— Никакой он не старый. Это у Хоакина руки как крюки.
— Ладно, не придирайтесь. Уж у кого крюки, так это у вас. Не будь войны, до сих пор ходили бы за плугом в своей деревне.
Хоакин испытывал неприязнь к кладовщику. Эта антипатия была взаимной: кладовщик придирчиво просматривал инструменты, которые юноша сдавал ему, и всегда обнаруживал какой-нибудь дефект. И всякий раз, когда у них возникал спор, Хоакин думал, что только ради одного на свете ему бы хотелось быть сильным и крепким или по крайней мере иметь мощную правую: чтобы одним ударом в подбородок свалить этого мерзкого типа. Но набить физиономию здоровенному баску-кладовщику было явно несбыточной мечтой.
Хоакин мылся и причесывался у колонки, рядом со складским двором завода. Накинув пиджак на комбинезон и прихватив учебники, он вышел на улицу как раз в то время, когда заканчивали работу девушки-сверлильщицы.
Все двигались медленно. Вечерний воздух дышал жаром. Девушки шли с шумом и смехом, довольные, что наконец после долгого и тяжелого рабочего дня могут вдохнуть свежий воздух.
Подружки рассказывали друг другу о своих делах, о любовных приключениях. О танцах, на которые собирались пойти с париями из своего квартала.
— Слышала, как я отчитала нашу дежурную? — спрашивала одна девушка.
— Она большая стерва, — отвечала другая.
— Поругалась с ней из-за ее придирок. Стоит кому пойти в уборную, как эта стерва кидается к дверям считать, сколько минут ты там просидишь. Вот я ей и сказала: у вас нет никакого товарищеского чувства. Если мы идем передохнуть чуток в уборную, то только потому, что вы целый день шпыняете нас.
— Ну, рассказывай, как у тебя дела? — спросила другая девушка подругу. — Оставила своего Хулиана?
— Еще не знаю, — отвечала молодая работница. — Я с ним поссорилась.
— Почему?
— Такой номер выкинул в воскресенье, нахал паршивый. Отправился с приятелями на футбол и проторчал там до семи часов.
На крышах лачуг, лепившихся возле завода, лежали, греясь в лучах заходящего солнца, их обитатели. На свалке играли ребятишки, кубарем скатываясь с куч мусора. За улицей, по которой проходил трамвай, на песчаном пустыре лаяла собака.
— Ну что, поехали? — сказала одна из девушек.
— Куда? — спросила другая.
— Как куда? В Мадрид.
— Я не поеду. Я — домой.
— И когда ты побойчее станешь? Все торчишь у материнской юбки.
— У меня дома полно дел.
— Ну и скучища с тобой, подохнешь.
Хоакин шел рядом с девушкой. Звали ее Анита.
— Сколько тебе лет? — поинтересовался Хоакин.
— Семнадцать.
Девушка кокетничала с Хоакином; у нее были подкрашены глаза и губы. Она вызывающе смеялась.
— Что, нравлюсь тебе?
Хоакин посмотрел на свою спутницу, в ее красивое лицо. Девушка изо всех сил старалась скрыть хромоту.
— Нравишься.
— Осторожней с Хоакином, Анита! У него бесстыжие глаза, — рассмеялась, проходя мимо, подружка Аниты.
— Еще, чего доброго, сделает тебе ребеночка, а потом ищи ветра в поле.
— Это тебе следует опасаться твоего Хулиана. Вы вон как давно гуляете. А от гулянки, известное дело, недалеко и до всего прочего, — отпарировала Анита.
Девушка повернулась лицом к солнцу. Казалось, она старалась привлечь к себе внимание Хоакина.
— И всегда-то ты таскаешь свои книжки. Дал бы мне почитать одну. По воскресеньям такая скукота.
— Разве ты никуда не ходишь?
— Хожу в кафе послушать музыку. Подружки бегают на танцы в Просперидад. А я, сам понимаешь, — сказала она, глядя на свои ноги, — танцевать не могу.
— Я обязательно принесу тебе какой-нибудь роман.
— Только принеси хороший. Я люблю, чтобы в романе был счастливый конец.
Подойдя к трамвайной остановке, они остановились. Анита жила недалеко от завода. По пыльной дороге она пешком направилась в свой маленький домик в предместье.
* * *
Он ходил взад-вперед по платформе номер один. Сюда должен был подойти поезд. Так он прочел на металлической табличке у тупикового заслона, преграждавшего пути.
Он снова взглянул на станционные часы. Было ровно девять часов вечера.
— На сколько опаздывает почтовый из Бильбао? — спросил он.
— На час десять, — ответил железнодорожник, отмечавший на грифельной доске время опоздания поездов.
— Может, еще нагонит немного, — заметил другой железнодорожник.
— Прийти встречать поезд в назначенное время может только сумасшедший. Ну и дура же я. Могла бы позвонить, справиться по телефону, — в сердцах сказала какая-то женщина, увидев то, что написал на доске железнодорожник.
Матиас закурил еще одну сигарету и снова принялся прогуливаться по перрону. В кармане его куртки лежала телеграмма. Он получил ее в обеденный перерыв. Телеграмма была очень краткой: «Приеду почтовым Бильбао. Лусио».
Матиас вспоминал, когда он в последний раз виделся со своим двоюродным братом. «В тридцать пятом, Лусио как раз вернулся из предсвадебного путешествия».
На третьем пути пыхтел паровоз. В последний раз с шумом провернулись шатуны, и из-под колес повалили клубы пара, густого, белого, как тесто.
За крышей станции виднелись огоньки на разгрузочных механизмах привокзальных пакгаузов.
— Ну вот мы и опять в Мадриде, — сказал худой солдат, сходя с поезда.
— Хорошенького понемногу. До рождества никуда больше не подадимся, — ответил ему другой солдат. Он нес на плече деревянный чемодан, тяжело шаркая ногами.
С поезда сошла группа крестьян. У каждого сверток на плече и серп, заткнутый за широкий пояс.
— Послушайте, — обратились крестьяне к Матиасу. — Откуда отходит поезд на Валенсию?
Матиас снова сверял время и поэтому ответил, не глядя на крестьян:
— Вам надо на другой вокзал, на Южный.
— А где это будет?
Матиас отвел взгляд от циферблата и посмотрел на одного из жнецов. Сначала в лицо, потом на вельветовые штаны, на нехитрую обувь с резиновой подошвой.
— В Аточе. Можете поехать на метро.
Жнецы принесли с собой запах полей. И Матиасу захотелось поговорить с Лусио о былом. Воспоминание о родных краях налетело па него, словно порыв жаркого восточного ветра. Земля там была равнинная, сухая, открытая всем ветрам. Домики, ручеек, два каменных мостика, по которым едва можно было пройти. Таким запало в память родное селение: пыльные грунтовые дороги и шоссе, по которому изредка проносился грузовик. Да темная громада гор, сливавшаяся с низкими осенними тучами.
Сколько бегал он по этим пыльным дорогам мальчишкой! Сколько раз купался весной в ручейке! Ручеек протекал прямо за их домом, и Лусио и все ребятишки купались в нем голыми.
«Наверное, еще целы патроны, которые мы воровали у дядюшки Хуана. Мы утащили их как раз в то лето, когда собирались убить орла со Скалы мавра», — подумал Матиас.
В те годы Лусио казался Матиасу храбрецом и героем. Он был сильным и необузданным. Бросал камни дальше всех ребят, с ловкостью лисы перепрыгивал через заборы огородов. Плавал как рыба и всегда безошибочно находил норы ящериц. Лусио было тогда лет тринадцать-четырнадцать. Он был немного старше Матиаса и уже однажды целовал девушку.
Этот поцелуй пробудил невероятное любопытство у всей ватаги. Один из ребят, по имени Хуан, сын дядюшки Эулохио, даже спросил:
— Ну и как это было? Расскажи, расскажи!..
Лусио вспоминал, как они лежали под старой черешней, в тени. Брюхо набито до отказа, и никакого желания гонять по дорогам. Задрав ноги кверху, привалясь спиной к горячим камням на участке отца Хуана, они выдумывали самые невероятные приключения. Собирались украсть коня у священника и, оседлав его, проскакать по площади, там, где пересекаются дороги.
— Лола как раз кормила свиней. Я подошел к ней, обнял и поцеловал, — рассказывал Лусио.
Полуденный ветер лениво колыхал листья черешни. Сильно парило, и Лусио заснул, привалясь к стволу дерева.
Авторитет Лусио еще больше вырос в глазах ребят. Поцеловать Лолу — вот это действительно настоящий подвиг! Почти такой же, как украсть лошадь у священника или убить орла со Скалы мавра.
Даже ночью Матиас не мог успокоиться. Они спали вместе с Лусио на старой развалюхе в амбаре. В окошко виднелись часы на церкви и гнездо аиста. Тюфяк, набитый соломой, нещадно трещал.
— А Лола, что она сделала? — не утерпев, как и Хуан, поинтересовался Матиас.
Лусио хотелось спать, и он ничего не ответил. Засыпая, он думал об орле со Скалы мавра и о том, как бы добыть ружье, чтобы его застрелить. А Матиас всю ночь до самого утра прогрезил о дочери козьего пастуха Лоле.
Девять часов тридцать минут. По Северному вокзалу гуляет пронизывающий сырой ветер с реки. Два солдата из железнодорожной охраны, в портупеях, с пристегнутыми к поясу мачете, разговаривают с контролером, проверяющим перронные билеты. Носильщики ожидают в буфете прибытия очередного поезда. В зале ожидания третьего класса, повалясь на деревянные скамейки, спят крестьяне. Женщина с изможденным лицом кормит грудью ребенка. Пол в зале ожидания весь заплеван, кругом окурки и грязная бумага. Тускло горит маленькая лампочка. Железнодорожники, словно призраки, проходят по темным путям с зажженными фонарями. Патруль отдела снабжения и карабинеры режутся в карты в дежурке у выхода в город, предвкушая, как они будут конфисковывать бидоны с оливковым маслом и мешки с мукой.
Да. В то время мне стукнуло семнадцать лет. А может, это было весной, тогда и все восемнадцать. Родителей моих уже не было в живых, и меня приютил дядя, дал место за столом, и ночью я спал на одном сеннике с Лусио и мечтал о Лоле.
Я пахал землю или доил коров, когда они возвращались с пастбища. А иногда без всякой цели скакал на жеребенке, которого принесла кобыла дядюшки Энрике.
В те дни я спросил как-то у Лолы, любит ли она меня. Лицо мое было измазано сажей: я жег уголь в горах. Мне очень хотелось обнять ее, как это сделал однажды Лусио. Я поцеловал ее, и меня обдало ароматом тимьяна. В глубине души я затаил обиду на Лусио за то, что он поцеловал ее первый.
Меня тянуло в город. Привлекал его кипучий ритм, желание по-иному зарабатывать на жизнь. В Пуэбла Альта время, казалось, застыло и не двигалось с места, словно наш ручеек в августе.
— Лусио, я поеду в Мадрид работать.
— Да не езди ты никуда. Сам знаешь, у нас дома всегда найдется для тебя кусок хлеба.
— Не могу же я всю жизнь прожить здесь. Ты — другое дело. У тебя земля и, кроме того, старики.
— А Лола что говорит?
— Со временем пройдет.
Вскоре он перебрался в Мадрид и забыл про свою Лолу.
Лусио Мартин ехал в вагоне третьего класса. Он спал, прикрыв лицо беретом и привалясь спиной к дверному косяку купе.
Проснувшись, он сразу же схватился за карман куртки, не украли ли бумажник. Потом посмотрел на полку. Бумажник был на месте, чемодан тоже. Он спокойно вздохнул и достал завтрак из плетеной корзины, которую сжимал ногами.
— Угощайтесь все, — пригласил он остальных пассажиров купе.
Ел Лусио медленно, отрезая маленькие кусочки хлеба навахой. Нанизав хлеб на кончик ножа, он отправлял его в рот. Покончив с едой, Лусио завернул остатки хлеба и колбасы в газету. И снова положил в корзину.
Поезд миновал перелесок, подступавший к самой насыпи. Окошко вагона, казалось, быстро убегало прочь от деревень, раскинувшихся по обеим сторонам железной дороги.
Они поехали медленней, теперь поезд останавливался на всех станциях. Металлические жалюзи сверкали в угасающих лучах солнца.
Лусио поерзал на сиденье.
— Когда едешь так долго, всегда задницу отсидишь, — сказал один из пассажиров, которому, видимо, очень хотелось завести разговор.
Лусио взглянул на говорившего. Тот развалился, занимая почти два места. Это был грузный, прилично одетый мужчина; в галстуке у него торчала булавка с перламутровой головкой.
Рядом с толстяком тихо разговаривали двое пассажиров. А под самым боком у Лусио сидела семья: муж с женой и дочь. Девушка дремала, положив голову на плечо матери.
Толстяк при галстуке тоже, казалось, дремал; в полуоткрытом рту его виднелись три золотых зуба. Пассажиры, сидевшие рядом, по-прежнему тихо беседовали.
— В самом худшем случае на дорогу заработаем, — говорил один из них.
— Управимся скоро; как только сбудем сахар, сразу же возвратимся домой.
— Могли бы на несколько деньков задержаться в Мадриде, — возразил его товарищ.
— Нет, я обещал родственнице больше двух дней не задерживаться.
— Как поравняемся с Пуэнте-де-лос-Франсесес, кидаем мешок в окно. В Мадриде, знаешь, проверяют.
— Времени еще полно. Поезд приостановится перед стрелкой.
Лусио закрыл глаза. Разговор двух пассажиров стал тише, слышалось лишь бормотание. Лусио задремал. Когда он проснулся, девушка, ее мать и толстяк с золотыми зубами оживленно беседовали.
— В Бильбао женщины свободно ходят в бар, — рассказывала девушка.
— А во Франции и многих других странах у женщин большая свобода. Но что можно на это сказать? Мне такое не нравится. Женщина должна сидеть дома, — говорил толстый пассажир.
— Ну, а я не думаю, что сходить в бар — это безнравственно, — возразила девушка.
— Сеньор прав. С тех пор как кончилась война, невесть что кругом творится, люди будто потеряли страх божий. Девушки хотят сравняться с мужчинами, некоторые даже носят брюки, — вступила в разговор мать девушки.
— Вы из Бильбао? — спросил толстяк у ее отца.
— Да, сеньор.
— Я был однажды в Бильбао по служебным делам.
Я коммивояжер одной весьма солидной обувной фирмы. Продаю обувь американского образца.
— Здесь вам ничего не удастся продать, дружок, — сказал мужчина, сидевший рядом с коммивояжером.
Представитель обувной фирмы не обратил внимания па эту реплику.
— В Бильбао все очень дорого, меня прямо-таки выпотрошили. За вяленую треску содрали десять дуро.
— Надо знать, где покупать, — ответил отец девушки.
Девушка выпрямилась на сиденье. У нее было широкое лицо с живыми, хитрыми глазами. Она вытянула ноги через проход.
— Ну, мне совсем не улыбается, чтобы мои дочки гуляли по вечерам, да еще допоздна. Я сказал жене, чтобы они возвращались домой не позже девяти.
— А вы будьте поосторожней, не очень-то притесняйте девушек. Не то в один прекрасный день они по незнанию принесут вам кое-что в подоле, — рассмеялся один из пассажиров.
Толстяк с золотыми зубами едва сдержался, чтобы не плюнуть в лицо нахалу.
Поезд проскочил стрелки.
— Это уже Авила? — спросила девушка.
Пассажиры, примостившиеся в коридоре, поднялись, чтобы взглянуть в окно. Сгущались сумерки. По другую сторону перрона возвышались пирамиды угля. Горели красные и зеленые огни семафоров. Торчали грязные, замызганные писсуары.
Детский голосок предлагал горячий кофе с бисквитами.
Лусио, а за ним и девушка высунулись в окно вагона.
— Похожа на ломоть дыни, — сказала девушка, глядя на луну.
На вокзале группа фалангистских молодчиков строилась в колонну по двое.
— А помните, как мы жили до тридцать шестого года? — спрашивала мать девушки у толстого пассажира.
— Черт побери! Еще бы, сеньора!
Под навесом прогуливались семеро семинаристов и сопровождавший их священник. Священник время от времени заглядывал в молитвенник и закатывал глаза к потолку вокзала. Семинаристы тихо переговаривались, смеясь, толкали друг друга.
Двое гражданских гвардейцев с карабинами через плечо и ладно пригнанным ремнем под подбородком стояли как изваяния у газетного киоска.
— В окрестностях Авилы есть большая семинария. Гам не меньше ста семинаристов. Я часто их встречал: вечерами гуляют по городскому парку, — говорил пассажир из коридора.
— А у меня в Авиле была невеста, но такая скучная, не приведи бог. За руку и то не давала тронуть. А как стемнеет, ночные сторожа гонялись за парочками, — сказал, обращаясь к попутчику, молодой парень.
По перрону бежал начальник станции, чтобы отправить поезд. В руках у него был красный флажок. Добежав до паровоза, он взмахнул флажком.
Семинаристы, возглавляемые священником, поднялись в вагон второго класса. Гражданские гвардейцы и фалангисты сели в третий. Два спекулянта из купе, в котором ехал Лусио, спрятали мешок под нижнюю полку.
— Нам повезло, — подмигнул один из них Лусио.
— По-моему, спекулировать безнравственно, — с явной издевкой изрек коммивояжер. По всему было видно, что его сильно задела шутка спекулянтов насчет дочек.
— Вы кругом правы, — ответил один из спекулянтов, — Но в деревне, как себя ни ограничивай, а семью не прокормишь. Я бы тоже хотел зарабатывать другим способом.
Все замолчали, коммивояжер притворился спящим.
Лусио еще раз перечитал письмо приходского священника, в котором тот рекомендовал его своему двоюродному брату, военному. Письмо было очень коротеньким и отпечатано на пишущей машинке.
«Пуэбла Альта, 7 июля.
Дорогой Эдуардо!
Представляю тебе Лусио Мартина. Не можешь ли ты сделать что-нибудь для него в своем министерстве? Во время нашего крестового похода за Освобождение он был сержантом в том полку, где я служил капелланом. Он мечтает устроиться привратником или кем-нибудь в этом роде. Я полагаю, что он справится с такой работой.
Надеюсь, ты исполнишь мою просьбу, поскольку я принимаю в нем участие.
Обнимаю и благословляю всех твоих. Э. Фернандес.
Да здравствует Франко! Воспрянь, Испания! Год Освобождения».
Лусио мечтал получить место служителя в Вальядолиде. «Другие, с меньшими заслугами на войне, и то получили», — размышлял он.
Во время войны ему пришлось поколесить по всей Испании, и он разучился жить в деревне. «Человек, — говорил он себе, — может заработать на жизнь много легче, чем надрываясь на пашне».
— У меня будет форма и хороший оклад. Вдобавок месяц отпуска в году, а когда закончу службу — пенсия. Вы меня понимаете, папаша? Пенсия!
Семье не очень-то пришлась по душе затея Лусио. Особенно отцу. Начинался покос, а тут сын вдруг заявил, что собирается в Мадрид хлопотать насчет тепленького места. Это вконец вывело старика из себя.
— Уезжайте! Уезжайте все! Бросайте землю, бросайте ее псу под хвост! Но помните: земля наш корень, от нее пошла вся наша семья, ты, твои дети. Бросать землю во время покоса — все равно, что бросать беременную женщину или жеребую кобылу! Да будь все проклято!
В глубине души Лусио считал, что отцовскую злость как рукой снимет, когда он увидит сына возвратившимся в родную деревню в голубой ливрее.
У Матиаса все сложилось удачно. Без особого труда устроился на работу, хотя, как признался в разговоре с хозяином магазина, умел лишь пахать землю да таскать мешки. Правда, ему пришлось согласиться на самое низкое жалованье и вдобавок трудиться все сверхурочное время, какое было положено продавцу бакалейного магазина на улице Фукар.
Матиас вместе с другим продавцом ночевал в помещении магазина. Выходной он получал через воскресенье: одно дежурил, одно отдыхал.
Вставали они очень рано, на рассвете. И пока Рамон, другой продавец, сметал пыль с полок, Матиас мыл полы. Работы у них было по горло: они прибирались, упаковывали товары, относили заказы в плетеной корзине, сгружали мешки. Ночь заставала их за новой работой: они поливали из лейки пол магазина и посыпали его опилками.
Мало-помалу с помощью хозяина Матиас выучился всем хитростям торгового ремесла: резко бросать гирю на весы, заворачивать товар в толстую бумагу и сбывать подпорченные продукты.
После ужина, когда хозяин уходил домой, оба продавца, если они не очень уставали в тот день, отправлялись погулять по кварталу.
Рамон был замкнутым, неразговорчивым человеком. Излюбленным его занятием было забраться в таверну на улице Леон и напиться там до бесчувствия.
— Неужели ты никогда не вспоминаешь родную деревню? — спрашивал он у Матиаса. — А я вот каждый день. В этом магазине я и солнца не вижу. Ты по крайней мере хоть разносишь заказы.
Изредка и Матиас испытывал тоску по родным краям. Вспоминал улицы, по которым гулял зимний ветер, низкий очаг и тюфяк, набитый маисовой соломой. Воскресные танцы на площади, беседы с девушками в темноте.
Но тоска его длилась недолго. Несмотря на тяжелый труд, он чувствовал себя теперь городским человеком. Образ родной деревни постепенно стирался в памяти, Матиас стал забывать даже имена односельчан. Его влекли к себе кафе, которые не закрывались всю ночь напролет, танцы в окрестностях города, проститутки.
— Ну что, пойдем сегодня поглядим на шлюх?
— Пойдем, — соглашался Рамон.
Они приходили на площадь Антона Мартина. Закурив, начинали глазеть на проституток в окнах Сарагосского бара.
— Вот эта хороша, да? — показывал Рамон на одну из женщин, ожидавших у стойки.
— Еще как хороша.
— Но такая штучка отхватит три дуро да еще за постель отдельно. Всего не меньше пяти дуро. И все за минутку. Лучше положить пять дуро под ботинок и полюбоваться этой бабой, а потом поднял ногу — и деньги целехоньки.
— Вон эту зовут Анхела, я ее знаю. Иногда она приходит к нам в магазин за покупками.
— Я тоже ее припоминаю.
Несколько дней спустя, прихватив накопленные чаевые, Матиас отправился в Сарагосский бар, чтобы поразвлечься с приглянувшейся ему проституткой. До этих пор он не знал женщин.
За год пребывания в магазине Матиас сделался совсем другим человеком. Купил синий костюм и белую сорочку. В свободные воскресенья, облачившись в свой новый костюм, он отправлялся на танцы вместе с другими продавцами бакалейных лавок и соседних магазинов. Матиаса стали тяготить однообразный труд и сверхурочная работа. Порой он цапался с хозяином.
— Почему тебе не поискать другого места? — как-то сказала ему молоденькая прислуга, делавшая покупки в их магазине. Он уже несколько раз гулял с ней.
— Если бы найти что-нибудь получше… — протянул Матиас.
— Хочешь, я могу поговорить с моим хозяином, он занимает большой пост в Трамвайной компании.
— Если найдешь мне хорошую работу, женюсь на тебе, — пошутил Матиас.
Вскоре он сделался вагоновожатым и стал постоянно гулять с помогшей ему девушкой. Он быстро привязался к ней, и они поженились. А через год у них родился Хоакин.
В Эскориале священник с семинаристами сошли с поезда. В Вильяльбе железнодорожный жандарм попросил пассажиров предъявить документы.
— Никак не найду, — забеспокоился отец девушки.
— Какой ты растяпа, не иначе как потерял, — вспылила жена.
— Причем тут рассеянность? — пожал плечами жандарм.
Девушка встала на сиденье и принялась рыться в чемоданах, которые лежали на полке.
— Вот они! — вдруг сказала она. Когда она усаживалась на место, у нее приподнялась юбка.
— Прикройся, дочка, — цыкнула мать.
Девушка покраснела. Она была без чулок.
Матиас накинулся на Лусио с расспросами о деревенских делах. Все сидели за большим столом в ожидании ужина. Мария внимательно прислушивалась к разговору, хлопоча и накрывая на стол.
— Что сегодня на ужин? — спросил Матиас.
— Картофельное пюре с рыбой.
— Подавай скорей, Лусио небось здорово проголодался.
— Я перекусил в поезде колбасой с хлебом, — ответил Лусио.
— Ну, как там все?
— Хорошо. Старик сейчас, наверное, косит. Немного пошумел, когда я уезжал.
— А как живут те, кого я знал?
— Хуана, сына дядюшки Эулохио, убили при взятии Овьедо. А ты помнишь дона Эмилио, священника? Такой боевой был, вел себя, как настоящий храбрец. Как только узнал о восстании[10], тут же собрал всех нас в церкви. А после, как мы захватили аюнтамиенто, пошел с нами па фронт.
Хоакин молча смотрел в окно, выходившее во двор.
— Я заработал сержантские нашивки. Здорово было на войне.
Слушая рассказы двоюродного брата, Матиас вспоминал старые времена.
— Да, здорово ты Лоле подсуропил, — смеялся Лусио. — Мужа ее расстреляли как красного. Никто толком не знал, откуда и кто он, этот Франсиско, ну, считался леваком, а на поверку оказался сенетистом[11].
— А что теперь делает Лола?
— Не знаю. Уехала из деревни с детьми.
Хоакин посмотрел дяде в лицо.
— Здесь тоже такое происходит. Отца моего друга Антона приговорили к смертной казни. Его выдал привратник.
— Антона? Из третьего подъезда? — спросила Мария.
— Да, вчера узнал.
Беседа на минуту угасла.
— Послушай, Лусио, — сказал вдруг Матиас. — А ты не мог бы за меня замолвить словечко перед этим генералом, к которому у тебя рекомендательное письмо?
— Если будет повод, попытаюсь.
— Можешь рассказать ему про меня, — настаивал Матиас. — Я никуда не лез, спокойно делал свое дело. Не был ни за, ни против националистов. Я даже не знал имени Франко. И в политике ничего не петрил. А когда еще до войны ко мне приставали, чтобы я вступал в левые организации, я всегда отказывался. Только когда началось восстание, мне пришлось отметиться в Народном доме и пойти копать окопы. Ну, в чем тут моя вина?
Лусио пожал плечами.
— Я делал только то, что мне приказывали, и все, — продолжал Матиас.
— Но ты все же отмечался в Народном доме.
— Да, — протянул Матиас, словно оправдываясь.
Мария ушла на кухню мыть посуду. Трое мужчин продолжали вести беседу в столовой. Раздался стук в дверь, и вошла квартирантка.
— Добрый вечер, — поздоровалась Антония, проходя мимо мужчин к себе в комнату.
— Это одна из наших жиличек, я тебе уже говорил о ней, — заметил Матиас.
— Да.
— Ты только пойми меня.
— Посмотрим, что можно будет сделать, Матиас. Я понимаю твое положение, да потом мы как-никак одной крови. Чего доброго, могло и со мной приключиться такое, но я попал в другой лагерь.
Матиас улыбнулся, казалось, он немного успокоился. Хоакин лег спать, а двоюродные братья еще долго разговаривали.
— Дела у нас в семье неважные. Мария говорит, что сыта мной по горло, да и мне она надоела. А теперь, знаешь ли, стала пить.
— И ты позволяешь?!
— Я уж все перепробовал и бил ее не раз.
— Женщина должна слушаться. Иначе в доме ад, — сказал Лусио.
Они немного помолчали. Матиас снова завел свое:
— Когда пойдешь к генералу, замолви за меня словечко.
— Ладно, у меня очень хорошее рекомендательное письмо. Отличное письмо. Уверен, место служителя мне обеспечено. Дон Эмилио говорит, что его двоюродный брат обязательно станет министром.
* * *
Солнце пряталось за горы. Лишь одинокие красные лучи пламенели на неприступных вершинах горного кряжа. Свежий ветер поднимал пыль на шоссе.
Трое парней сидели вокруг небольшого костра и смотрели на Малыша. Главарь стоя говорил. Лукас полулежа внимательно слушал. Хуан неторопливо грыз прутик. Педро глубоко засунул руки в карманы брюк.
Малыш, опустив руки в карманы куртки и подняв воротник, повторял:
— Кому не нравится план, говорите сейчас же.
Никто из группы не возразил ни слова. Все молчали.
Кругом стояла могильная тишина. Лишь время от времени шумел ветер да раздавался писк пролетавшей пичужки.
— Очень хорошо, — продолжал Малыш. — Если вы считаете, что можно сделать лучше, говорите сейчас же. Потом возражения не принимаются.
Солнце зашло. Стайка птиц вспорхнула с дерева и перелетела на другую сторону шоссе.
Четверо молодых людей молча смотрели на долину и шоссе. Изредка к Холму львов поднимались грузовики. Они появлялись из-за крутого поворота дороги.
— Этот? — спросил один из парней у Лукаса.
— Нет, не этот. Наш большой «форд».
В долине, куда спускалось шоссе, мерцали огоньки селений.
— Вон там Гуадаррама, — сказал Малыш, указывая рукой на одно из селений.
— А чего в ней особенного?
— Да такая же, как и все остальные, красивая.
— А мне больше нравится Серседилья. В Серседилье можно купаться, — сказал Хуан.
— Гуадаррама недурное местечко, там есть таверна с отличным вином. Я с Долорес не раз в ней обедал.
— А потом резвились в сосняке, да?
— Ну, это само собой. Время от времени подышать озончиком полезно, — ответил ему в тон Малыш.
Педро вытащил руки из карманов и стал греть их над костром. Потом медленно поднялся.
— Надо потушить огонь, нас могут заметить гвардейцы.
— Не трухай, парень, они гуляют только по шоссе.
— Это не страх, а предосторожность, — отпарировал Педро.
— Педро прав, лучше потушить, — поддержал его Малыш.
— Надо перекусить, я что-то проголодался.
— Ну, малый, ты своего не упустишь, — сказал Хуан, вынимая изо рта прутик.
— Я за свою жизнь так наголодался, что мне грех упускать, — ответил Педро, доставая из кармана наваху и пакет с едой.
— А холод-то какой!
— Август ветрячий — холод собачий.
— Если нам придется еще долго ждать, я околею, — сказал Лукас.
— Это у тебя не от холода, а от нервов, перед делом всегда дрожь прохватывает. Сперва со мной тоже такое случалось. Теперь ничего, привык. Чувствую себя спокойней священника, вкушающего утренний шоколад. Нервы ни к чему. Только мешают, — сказал Малыш, высыпая на костер пригоршни песка.
— И когда наконец придет этот чертов грузовик? — Хуан по-прежнему лежал на земле и нервно покусывал прутик.
Педро посмотрел на него:
— Придет, не беспокойся.
Спускалась ночь. По небосклону медленно взбиралась луна. Одна за другой зажигались звезды. С шоссе доносился гул моторов; машины преодолевали перевал.
— Сколько на твоих, Малыш? — спросил Лукас.
— Наверное, уже поздно, часов девять, — пробормотал Хуан.
Малыш отогнул рукав куртки, чтобы разглядеть циферблат. Он был светящийся, с римскими цифрами.
— Двадцать минут десятого, — сказал он.
— Хотите закурить? — предложил Лукас, доставая пачку «Буби». Он зажег сигарету.
— До одиннадцати по крайней мере делать абсолютно нечего. Я тебе говорил, Малыш, что мы придем очень быстро. Могли бы смотать в Гуадарраму, пропустить по маленькой. Подождали бы себе в таверне.
— Да. конечно, развалились бы за стойкой, и гвардейцы нас бы приметили. У тебя мозгов меньше, чем у комара, и видишь ты похуже, чем рыба через задний проход. А у гвардейцев такая привычка: увидел — запомнил на всю жизнь, — сказал Педро.
— А в тебе, парень, хитрости по самую маковку, — заметил Лукас.
— Поищи ее лучше у своего папаши, — отпарировал Педро.
— Знаешь что, Лукас, давай-ка я буду распоряжаться один и по-своему. До сих пор все шло нормально, да? И так будет всегда, если станете меня слушаться. Перво-наперво надо уметь обмозговать план. И иметь голову, чтобы выждать подходящий момент. А потом сделать все быстро, без шума — шито-крыто. Вспомни-ка лучше банду, где был твой брат. Ни у него, ни у других не было мозгов. Работали по-дурному. А так нельзя. Поэтому-то их и застукали, — пояснил Малыш.
— Эй, Хуан! Кажется, у тебя была бутылка коньяку в кармане? Неплохо бы сейчас глотнуть чуток, чтобы согреться, — сказал Педро. Он как раз прожевывал последний кусок.
Хуан мурлыкал какую-то песенку.
— Ты что, очень доволен?
Хуан пожал плечами.
— Когда испанец поет, значит, его довели или вот-вот доведут.
— Ладно, передай бутылку.
— Когда-нибудь я все же смотаюсь из этой поганой страны.
Хуан вытащил из кармана бутылку.
— Мы все об этом думаем. Говорят, в Америке можно здорово заработать, — вступил в разговор Лукас.
— Всюду одинаково, ребята. В Америке тоже не ахти как сладко. Я читал в книжках, и там голодают почем зря.
— Меня выгнали с работы, — вдруг сказал Педро.
— Нигде так не голодают, как в Испании. Даже когда работаешь, платят гроши. А раз плохо платят, значит, жрать нечего.
— Я в этом кое-что кумекаю, меня выгнали с работы.
— Я, наверное, тоже уеду. Да у меня никого и нет. Старик кормит червей. Его убили в самом конце войны. Старушка моя в богадельне. А брат уже умеет добывать себе на пропитание, — поведал всем Лукас.
— А за что тебя выгнали? — спросил Малыш у Педро.
— Однажды поцапался с хозяином бара. Хотел заставить меня мыть пол в пивнушке, будто я баба.
— Вот сучий сын.
— Он сам являлся в семь утра открывать заведение и не отпускал меня до двенадцати, а то и до часу ночи. А платил один дуро в день, давал по чашке кофе утром перед началом работы и ночью перед уходом. Ясное дело, я, как только выдавался удобный случай, прикладывался к пивцу и закусочке. Всегда был голоден как волк. Однажды он застукал меня за едой и прошелся по моим бокам палкой, которой поднимал жалюзи. Я обозвал его сволочью и трахнул, чем попало под руку. И этот сучий сын вышвырнул меня на улицу, не заплатив ни гроша. Он даже собирался позвать своего двоюродного брата, который служит в полиции, чтобы отправить меня в участок.
— Ну и подлец! — сказал Хуан.
— Полиция с хозяевами заодно, водой не разольешь.
— Всюду, куда ни кинь, одинаково, я же говорю. Честным трудом ничего не заработаешь. У кого есть свое дело, тот тянет соки из рабочих. И с помощью полиции, и с божьей помощью, кому как сподручней. Я предпочитаю наше дело. Правда, шкура в опасности, но зато имеешь деньги и никто тебя не эксплуатирует, — сказал Малыш.
— Вкалывать в баре одна мерзость. Весь день бегаешь с подносом в руках. Навертишь за день ногами, почище точильщика, — заметил Педро.
— Мой старик был анархистом. Все говорил, наступит день, когда деньги будут не нужны. Я, мол, в земле лежать буду, а рабочие пробудятся от вечного сна и все станет ихним, — сказал Хуан.
Малыш, присев на корточки, закуривал сигарету.
— На грузовик надо забираться осторожней. Меня предупреждали, некоторые возят в кузове сторожевых собак.
— А одному парню из Легаспи, недалеко от перевала в Усере, когда он лез в грузовик, хозяин, спрятавшийся в кузове, саданул палкой по башке. Чуть правое ухо напрочь не снес.
— Это был Фелипе. Его банда поклялась извести всех с этого грузовика. Стоит ему появиться на рынке, ребята режут покрышки.
По шоссе сновали машины.
— А ты видел грузовик в Вильяльбе?
— Стоял у вокзала, грузил мешки с сахаром. Проводник толковал с типом из бара: говорил, поедут в Вальядолид.
— Сахар хорошо идет. Можно запрашивать по пять дуро за кило.
— Если грузовик сильно запоздает, прикатит на своем пикапе Кривой.
— У Кривого другое дело, а если явится, пускай ждет как положено, — заявил Малыш.
— Эх, запустить бы лапу в грузовик с кофе, — мечтательно сказал Хуан. Он опять вынул прутик изо рта. — За двадцать мешков могли бы купить пикапчик и заняться более выгодным делом.
— Да, неплохо бы. — Малыш снова присел на корточки.
— Кофейные операции не для таких бедолаг, как мы. Там нужны отчаянные ребята, такие, которые не боятся выйти на середину шоссе.
— Я знаю одного лейтенанта, он…
— Эмилиано из бара. Да, он ворочает делами, хотя прокуратура и накладывает на него иногда штрафы. Теперь решил все у себя переделать.
— В прокуратуре — вот где выгодно работать. Я бы с удовольствием туда пошел.
— Ну, удивил. Не только ты, любой из нас. Жалованье у них плевое, зато живут они, как поварихи, сами покупают, сами варят, сами делят.
— На днях Эмилиано оштрафовали на две тысячи дуро. Он даже не пикнул, заплатил, как ни в чем не бывало. Тип из прокуратуры хотел содрать с него пять тысяч, но Эмилиано вовремя сунул ему, и все обошлось двумя тысячами.
— Я знаю одного типа. У него своя машина и любовница. Чтобы попасть в прокуратуру, надо высоко летать да иметь вот такой толстый бумажник. — Лукас обеими руками оттопырил карман куртки. — Вот такой бумажник или же надежных друзей…
— Я знаю одного лейтенанта, он приходил в бар и… — начал снова Педро.
— Я буду только рад, если этого Эмилиано прищучат. Настоящая пиявка. Только и умеет, что дрючить нас, а сам ничем не рискует, — сказал Хуан.
— Уж поверьте, я-то знаю, какова она, жизнь, недаром учился. Что такое кабатчик? Кабатчики, как всякие паразиты, добывают деньги, обкрадывая ближних. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Ясно?
— Это уж наверняка, — подлил масла в огонь Лукас.
— Для того чтобы у одних завелись деньги, надо других лишить этих денег. А откуда берут деньги те, у кого их нет? Не надо быть Сенекой, чтобы разгадать эту тайну: за счет труда других. Кабатчик по части добычи денег не идет тут ни в какое сравнение. Есть люди, которые загребают деньгу почище его и без труда, и без забот. Их даже штрафами не беспокоят, — заключил Малыш.
— А я про себя могу одно сказать. Может, меня в один прекрасный день упекут за решетку, но зато я погуляю как следует. Вон сколько на свете красивых баб!
— От звона таких колокольчиков та, что устояла сегодня, падет завтра, — смеясь, сказал Хуан и потряс в кармане мелочью.
— В этом не наша вина. Правда, Лукас? Имей ты свой дом, сытое брюхо и пяток дуро в кармане, стал бы ты рисковать своей шкурой?
Все замолчали. На дороге не появлялось ни одной машины. Асфальтовая лента шоссе змеилась в серебристом свете луны. В вышине мерцали далекие звезды.
Все молча курили.
— Нет, конечно, не стал бы.
— Меня выгнали за кусок хлеба.
И опять все замолчали. Педро протянул Лукасу бутылку с коньяком.
— Ты давно влез в это дело?
Прежде чем ответить, Лукас отхлебнул глоток. Вытер рог тыльной стороной ладони.
— Да уж с полгода. С тех пор как похоронили старика.
— А ну, хватит причитать. Как богомолки на похоронах. Говорите тише.
Лукас понизил голос.
— Я родился в деревне, и, когда началась война, нас эвакуировали.
Педро дрожал от холода, особенно тряслись ноги. Он высоко поднял воротник и взял бутылку из рук Лукаса.
— А коньяк — это хорошо, — сказал он.
— Сперва нам с братом пришлось туго. Шатались туда-сюда, воровали на рынке Легаспи. Питались капустой, а спали рядом с Вильяверде, в разрушенном доте. В Легаспи я познакомился с Малышом. Теперь у меня дела поправились. Малыш — парень умный. Из зажиточной семьи. Он даже учился.
Закрапал дождь. Подул, пахнув смоляными соснами и мокрой травой, ветер, закачались верхушки деревьев.
— Уже одиннадцать. Пора приготовиться, — сказал Малыш. — Грузовик вот-вот появится. Мешки оттащим на самый верх шоссе, чтобы никто не заметил. В двенадцать подъедет Кривой на своем пикапе. С ним мы и уедем. Если все удастся, завтра гульнем на славу. Согласен, Лукас? На заработанные бумажки сможешь переспать с толстухой из Хая.
— Как знать. Мне больше нравится худенькая.
— Завтра решишь. Хлебнешь чуток, и все станет па место. Нет ничего лучше на свете, чем пропустить стаканчик, когда под боком красотка. И не кобенься, действуй, и вся недолга.
— Гульнем на славу.
— Накупим дорогих костюмов. Пофорсить в хорошей одежде — первое дело в нынешние времена. Когда принаряжен, никто не придерется, ничего не спросит. Даже если угодишь в участок и будешь при галстуке, к тебе совсем другое отношение. И посмотрят, и поговорят по-иному. Надо будет купить шляпы, — заявил Малыш.
— «Красные не носят шляп. Фирма «Браве». Монтера, шесть», — хохоча, сказал Педро.
— Да, да, смейся. Эта реклама с большим смыслом.
Педро забавляли эти шляпы. Разумеется, многие носили их, даже рабочие. Казалось, это было всеобщим явлением, поветрием, желанием хоть внешне не походить на представителей своего класса.
— Да, ты прав, но это не смешно, — буркнул Педро.
Малыш снова посмотрел на часы.
— Это большой «форд», смотри не ошибись, Лукас, — сказал он.
— А когда я ошибался? — немного задетый, спросил Лукас.
— Все же… бывает. Заберись на скалу, но так, чтобы тебя не видели. Как только заметишь грузовик, свистни.
Старенький «форд» скрипел под тяжестью мешков с сахаром. Он был нагружен до предела. Мешки лежали даже па кабине водителя. Грузовик с трудом карабкался, буквально полз по крутому подъему. В радиаторе закипела вода, из-под пробки выбивались белые свистящие струн пара.
Шофер со скрежетом переключил скорость с третьей на вторую, со второй на первую.
— Теперь не заглохнет, — сказал шофер своему напарнику.
Зажженные фары грузовика выхватывали из густой темноты кроны деревьев, окаймлявших шоссе.
Лукас, притаившийся у скалы, услышал пыхтение грузовика. И тут же из-за поворота вырвались два параллельных пучка света. Лукас вытащил из кармана носовой платок. Грузовик был уже близко, на самой середине поворота. Никаких сомнений. Тот самый, что стоял у таверны в Вильяльбе.
Судорога стиснула горло Лукаса, страх парализовал нервы. Холода он уже не чувствовал. По лбу катился пот, Лукас вытер его платком.
Помешкав, сунул пальцы в рот и свистнул.
Хуан, Малыш и Педро лежали у обочины шоссе, спрятавшись за валунами.
Малыш, услышав сигнал Лукаса, приказал Педро:
— Заберешься ты. Я с тобой. Постарайся, чтобы мешки не плюхались с шумом, и ни слова, пока работаем. Все надо делать очень быстро. Как поравняемся с придорожным столбом, прыгай, Хуан с Лукасом оттащат мешки сюда.
— Ладно!
Они теснее прижались к камням; свет фар стал еще ярче.
— Едет без охраны, — подойдя, сказал Лукас.
— Поднимись и посмотри еще раз, как бы гвардейцы не испортили нам обедни. Потом быстро спустишься, чтобы помочь Хуану.
— Счастливо! — сказал Лукас.
Грузовик поравнялся с придорожным столбом. Малыш и Педро вскочили и, бросившись за ним, быстро догнали. Педро на бегу ухватился за задний борт машины. Малыш уцепился сбоку. Педро подпрыгнул и стал карабкаться по мешкам. Схватив обеими руками мешок, он подтащил его к борту и перекинул. Малыш сбрасывал уже третий мешок. Парни не смотрели друг на друга, каждый старался не мешать другому. В полном молчании разгружали они машину.
Малыш столкнул еще один мешок на шоссе. Хуан и Лукас оттащили его к обочине. И тут Малыш подал Педро сигнал прыгать. Прежде чем спрыгнуть самому, метнул взгляд в сторону кювета. Хуан с Лукасом оттаскивали последний мешок. Малыш успел заглянуть в окошко кабины: там виднелись спины шофера и его напарника.
Перед тем как оставить грузовик, Педро тоже сбросил еще один мешок. Малыш уже спрыгнул; на миг показалось, что он вот-вот упадет, но он, изловчившись, выпрямился и устоял.
— Даже не заметили, — громко сказал Педро. Никто ему не ответил.
Малыш, лежа в кювете, тер лодыжку. Лукас отирал пот, обильно струившийся по лицу. Хуан пересчитывал мешки.
— Одиннадцать штук. Отличная работа, — заметил он.
Грузовик рокотал с каждой минутой все дальше и дальше, где-то на подходе к Скале львов.
— Все прошло как по маслу.
Хуан свернул сигарету и замурлыкал ту же песенку, которую напевал у костра.
— Кривой вот-вот подъедет. Сейчас уже без десяти двенадцать, — сказал Малыш, глядя на часы.
Они повалились на землю и стали ждать. Дождь прекратился.
* * *
Антон жил на четвертом этаже, в комнате с окнами на улицу. С балкона виднелись крыши домов, расположенных на противоположной стороне, и вся длинная улица, заканчивавшаяся у площади Бильбао.
Мать Антона обычно шила, примостившись на широком подоконнике. Эта веселая, жизнерадостная женщина непременно что-нибудь пела. Отец Антона работал счетоводом в конторе. Был он лет сорока, высокий, сильный, смуглолицый. С прямым, открытым взглядом.
Часто, возвратившись домой, он вел беседы с детьми. У Антона была младшая сестра.
— Ну, как дела в школе?
Антон показывал отцу отметки.
— Низкая оценка по математике — плохо. Надо поднажать, сынок. Дети трудящихся должны быть готовы к будущему. В один прекрасный день мы возьмем власть в свои руки, и тогда нам понадобятся люди, которые способны управлять машинами, составлять планы, строить дома, создавать экономику.
— А у тебя как? — спрашивал он дочь.
Девочка тоже показывала отцу свои отметки.
— Когда вырастешь большая, пойдешь работать. Прошли те времена, когда женщине полагалось только делать домашнюю работу и искать мужа. Женщины должны будут работать наравне с мужчинами, осваивать новые специальности.
Воскресными утрами он часто выбирался с детьми в окрестности Мадрида. Ребята не променяли бы ни на что на свете эти прогулки с отцом.
Однажды, вскоре после окончания войны, в квартиру Антона нагрянула полиция. Произвела обыск и нашла нелегальную литературу.
— Это книги по вопросам экономики, — объяснял отец Антона.
— Здесь напечатано — Энгельс, — ответил один из полицейских.
После обыска полиция увела главу семьи.
— Я скоро вернусь, — сказал он домашним.
Мать Антона уже не выходила на балкон петь песни. Порой ее видели в очередях за хлебом; соседки интересовались судьбой мужа.
— Ну как? Знаете что-нибудь о нем?
— В четверг ходила в Порлиер его навещать. Чувствовал себя ничего.
— Когда его будут судить?
— Ничего не знает.
— Моего двоюродного брата, — сказала одна из женщин, — держат больше пяти месяцев без всякого суда.
— А в чем его обвиняют? — спросила другая соседка.
— Мой Пабло был лейтенантом во время войны, — отвечала мать Антона.
А несколько дней спустя Хоакин повстречал Антона на лестнице.
— Как я тебе уже говорил, ему дали высшую меру. Сволочь привратник донес на него. Будь он трижды проклят со всеми своими родичами, живыми и подохшими.
— Неужели ты думаешь, его могут?.. — Хоакин не осмеливался напрямик спросить Антона, расстреляют ли его отца.
— Нет, не думаю. Ему, наверное, дадут тридцать лет тюрьмы.
Хоакин распрощался с Антоном. Поднимаясь в лифте, он в упор посмотрел на привратника, который сидел в качалке на лестничной площадке. На нем были форменные брюки и майка. Он обмахивался картонным веером.
Хоакин вспомнил, с каким страхом отец относился к привратнику. Чтобы как-то умаслить этого типа, Матиас всякий раз, когда получал деньги, совал ему на чай. По правде говоря, не один Матиас побаивался привратника. Большая часть жильцов тоже испытывала страх, но сносила его молча.
Утром Мария чуть не столкнулась с Лусио, который шел умываться в кухню.
— Ну, как спалось?
— Очень хорошо.
— Удобно было?
— Как тебе сказать. Конечно, кровать узковата для двоих. Но Хоакин спал без задних ног, даже не заметил, когда я лег.
— Я не слышала, как ты пришел. Было очень поздно?
— Около двух.
Лусио размашисто вытирался полотенцем. Подошел к окну, посмотрел на видневшийся клочок неба.
— Сегодня будет здорово жарко.
Матиас ждал, пока Лусио умоется.
— На полотенце, — сказал Лусио, вытершись.
Матиас подставил голову под кран. Вода была холодная.
— Свежа водица? — спросил он у двоюродного брата.
Лусио вернулся в столовую, чтобы одеться. Мария подала мужчинам завтрак.
— Это не настоящий кофе, а ячменный, — сказал она.
— Да ты не беспокойся, я попью где-нибудь.
Матиас спешил позавтракать. В соседней комнате, за дверью, слышалось легкое похрапывание. Это спала Ауреа.
— А Хоакин? — спросил Лусио у Марии.
— Скоро встанет, ему к восьми надо.
— Куда пойдешь сегодня? — спросил Матиас с полным ртом.
— В министерство, к генералу.
— Можно я пойду с тобой?
— Как хочешь, но сам знаешь, придется долго ждать. В таких местах не известно, когда войдешь, когда выйдешь.
— Неважно, мне все равно нечего делать.
Торговка конфетами возилась, прибираясь в своей комнате. Слышался ее голос. Откуда-то доносился разговор.
Они спустились в метро. Матиас снова напомнил брату о своем деле.
— Не забудь замолвить за меня словечко.
— Ну и приставала ты, сил нету. Я же тебе сказал, выдастся удобный случай — поговорю о твоем деле.
Добравшись до Пуэрта дель Соль, вышли из метро.
— Зайди в бар и жди меня.
— Я подожду в «Леванте».
— Ладно.
Матиас вошел в кафе. Было почти пусто. Несколько посетителей читали газеты, сидя за столиками у широких окон, выходивших на площадь. В глубине зала, развалясь на диванах, пили кофе с молоком шесть проституток.
Матиас откинулся на стуле и посмотрел в окно. Фасады домов на противоположной стороне площади были залиты солнцем. Над зигзагами крыш проглянул клочок синего неба. «Леандро получил должность по рекомендации своего двоюродного брата, а ведь тот был всего капралом. Лусио служил сержантом, да и письмо у него на имя генерала. Наверняка, если попросит, могут дать мне место».
За окном сновали машины. Бродячий торговец громко предлагал свой товар. Лоток висел на ремнях у него на шее.
— Ну как? Добился?
Лусио утвердительно кивнул. Лицо его так и светилось довольством.
— А обо мне говорил?
— Да.
— Ну?
— Тебе тоже кое-что перепадет.
— Расскажи.
— Так вот. Поднялся и отдал письмо секретарше. Бабенка — закачаешься! Вся расфуфырена в пух и прах. Она отнесла письмо генералу, и он тут же вызвал меня. Принял очень хорошо, посадил и все такое прочее. Я ему сказал: «Сеньор генерал, сделайте что можете». Тогда он взял трубку и позвонил какому-то, должно быть, очень важному начальнику. Тот сказал, что согласен дать мне место. Потом потолковали о войне и о нашей деревне. Генерал однажды был там.
— А о моем деле?
— Записал твое имя и твой адрес. Сказал, чтобы ты через несколько дней зашел в Трамвайную компанию, все будет улажено.
Они стояли посреди площади, солнце пекло им головы, окна кафе ослепительно сверкали. На площади было полно народу, и все жарились на солнцепеке. Жара сближала с улицей, многоголосый шум сливался в единый голос, Матиасу казалось, что в мире произошло что-то необыкновенно хорошее.
— Здесь невозможно стоять, — сказал Лусио, — изжаришься.
Они замолчали, смотря вдаль. Матиас думал о своем устройстве, о деньгах, которые теперь заработает. Наконец-то кончилось тягостное ожидание.
Лусио думал о деревне, о том часе, когда он предстанет в новой униформе перед своими друзьями.
— Как провел вчера вечер, брат? Ты мне ничего не рассказывал…
— По высшему разряду. Когда приеду в деревню и исповедуюсь у дона Эмилиано, наверняка он мне позавидует. В Мадриде шлюхам раздолье, — смеясь, заключил Лусио.
— Да, с тех пор как кончилась война…
Небо становилось все ярче. Пахло бензином и раскаленным асфальтом. Машины с прилепленными, точно горбы, газогенераторами наполняли удушливым дымом улицу Алькала.
— Почему ты женился на ней?
Матиас пожал плечами.
— Ты слишком мягкий. А женщин надо держать в ежовых рукавицах, коли хочешь от них чего-нибудь добиться, — наставлял брата Лусио.
Матиас спустился по лестнице и на площадке между двумя этажами закурил сигарету, которую свернул заранее. Поправил на себе форму.
— Значит, вам наконец дали работу? — спросила Антония. Девушка с теткой поднимались домой обедать.
— Да, Лусио достал мне рекомендацию. Сам он уже уехал. — Матиас произнес это нарочито громко, чтобы слышала жена привратника.
Снова поправил на себе форму. Выйдя на улицу, быстро зашагал.
Войдя в квартиру, Антония прошла в комнату торговки.
Донья Пруденсия тяжело дышала и охала, лежа в постели.
— Как вы себя чувствуете? — спросила Антония.
— Если бы не эта боль в груди, все было бы хорошо.
— Вы позвали врача?
— Нет, дочка. Доктора только и умеют, что выписывать дорогие лекарства. И так пройдет, отлежусь. Солодовый настой — лучшее средство от простуды.
Донья Пруденсия, отвернувшись к стене, замолчала. Антония подождала, не попросит ли старуха чего-нибудь. В комнате раздавался приглушенный шум радио, долетавший со двора, да голоса соседей. Старая торговка лежала молча, натужно дыша.
Они сидели в тени заводской стены, рядом с кучей железного лома. Вокруг небольшими группами расположились рабочие, лежа и сидя на траве или просто стоя. Всего собралось человек триста.
Девушки садились вместе, стайками, и всегда вокруг них увивались молодые мастера. Ученики и подмастерья играли в футбол на погрузочной площадке: испытывали свои силы, гоняя тряпичный мяч. Ученики первыми кончали обедать. И тут же принимались за игру — в них бурлила молодая кровь.
За полосой тени, отбрасываемой фабричной стеной, солнце заливало половодьем и площадку, и короткую дорогу, по которой взбирались к складам грузовики.
Город раскинулся вдали, за сетью железнодорожных путей, за громадой монастыря. Там лепились целые кварталы жалких лачуг. Они подступали к самым трамвайным линиям.
Хоакин отдыхал, привалясь спиной к глинобитной стене, чуть поодаль в такой же позе сидели Аугусто и Энрике.
Бывший школьный учитель и Селестино, окруженные небольшой группой учеников, собирали судки.
— Расскажите еще, учитель. Я тоже хочу поучиться, — говорил Селестино.
Учитель удобней оперся о стену и громким, звучным голосом продолжал:
— Итак, 11 февраля 1873 года Национальное собрание провозгласило первую Республику. Просуществовала она совсем недолго, меньше, чем вторая. Первым президентом был Фигерас, каталонец.
— Я видел его могилу на гражданском кладбище, — перебил учителя Селестино. — Там же похоронен и Кастеляр[12].
— И Пабло Иглесиас[13], — вставил один из учеников.
— Пабло Иглесиас был бородатый, говорят, он здорово заботился о рабочих, — добавил другой.
— Каждый Первомай люди приносят цветы на его могилу. Я ходил с отцом на кладбище, но нас не пустили. Там было полно полиции, говорили, что кого-то даже забрали. Мы бросили цветы через стену, — стал рассказывать ученик, который первым перебил учителя.
Энрике жевал бутерброд с сардинами. Это было его любимое кушанье.
— Хорошо, — сказал Хоакин, глотнув воды из кувшина, — здесь хоть подышать можно, а в цеху не продохнешь.
— Я думал вчера об этом, — начал Энрике. — Если бы мы все пошли к директору, добились бы улучшений. Сейчас им позарез нужны рабочие, и они вынуждены были бы пойти нам навстречу.
— Ты прав, — сказал Аугусто и, замолчав, принялся очищать бониат.
Остальные рабочие, с пятнами машинного масла на лицах, молча курили. Все знали, что вот-вот раздастся звук сирены, призывающей к работе, и старались насладиться коротким отдыхом.
— Я тоже раньше встревал в такие дела. А теперь хватит, постою в сторонке, знать ничего про это не хочу, — сказал один из рабочих. Он работал фрезеровщиком, звали его Лопес.
— Если мы потребуем столовую, мы ее добьемся. — Аугусто дочистил бониат и откусывал от него большие куски. Он обернулся к Лопесу: — Я тебя что-то не понимаю, Лопес. Какую ты увидал в этом опасность? Не думаю, что требовать столовую запрещается, тут нет ничего плохого.
— Верно говоришь, Аугусто, — поддержал его Энрике.
— Да, Аугусто говорит правду, — заметил еще один рабочий.
— А я так не считаю. Меня уже раз проучили. Потребуешь немного, а потом с тебя сдерут семь шкур, — замотал головой Лопес.
Рабочие замолчали. Лопес поднялся и смотрел вдаль, на город. Перед его глазами расстилались пустыри за литейным заводом, глинобитные лачуги.
— Одни твердят одно, другие — другое. А я говорю: хватит нам протестовать, если за это дают по шее, — заявил один из столяров.
— Да, теперь ничего не поделаешь, — заметил фрезеровщик. — Если бы не хватало рабочей силы, тогда другое дело, а то на каждое место по десятку желающих.
— Фернандес правду говорит. Я приехал из деревни и не хочу ни во что ввязываться. Там тоже такое творится! На покос сбегается народу больше, чем надо, а тут еще являются галисийцы, и работников становится вдвое больше. И с тем, кто соглашается работать, расплачиваются почти одними харчами.
— 1 ак мы ничего не добьемся. Если мы отступаем из-за пустяков, когда следует требовать большего, не знаю, что с нами будет.
— На заводе полно людей, которые живут припеваючи. Нас просто обошли, — возразил Лопес.
— Это все поповские россказни, парень. Вот нас собралось много, и мы друг друга не знаем. Знаем только, что мы товарищи по работе, рабочие. Ты и я боремся за лучшее место, за то, чтобы больше заработать. Но не все же могут получать больше. Понимаешь? И вот ты и я должны договориться между собой, У нас одни проблемы, и нам надо их обсудить. Я считаю, так же как в деле со столовой, если мы сплотимся, то достигнем всего, чего добиваемся. Вот как я рассуждаю, — заключил Энрике.
— Я nоже, — поддержал его Хоакин.
Рабочие снова замолчали. Издали доносился звон монастырских колоколов.
У дальнего угла заводской стены загорали девушки.
— Ты совсем дурной, — говорила одна из них молодому токарю.
— Может быть.
— Все сердишься?
— Да.
— Ну и напрасно.
Над раскаленной землей поднималось жаркое марево.
— Все женятся и ничего, правда? — спрашивала девушка.
— А нам, как говорится, и помереть не на что. На три дуро в день не очень-то попрыгаешь.
— Некоторые женятся, ничего не имея. А у нас есть постельное белье. Мама дает нам матрас и кровать. У других и этого нет.
— У других больше.
— Вы только на него поглядите, можно подумать, он пуп земли.
Токарь достал кисет и свернул сигарету.
— Все когда-нибудь да женятся.
— Ну а мы-то когда? — настаивала девушка.
— Если твоя мать отдаст нам комнату — хоть сейчас.
У работницы захватило дух от счастья.
— Вот и чудесно!
И она задумчиво посмотрела на перламутровые тучки, плывущие по небу.
— Ладно, учитель, пропустите глоток, — сказал Селестино.
— Вы же знаете, ребята, я не пьющий.
— Но не станете же вы выплевывать вино, — пошутил Селестино, подмигивая подмастерьям.
— Сеньор Селестино, вы великий человек, — заметил один из подростков.
— Как я вам уже говорил, заводы — вот будущие центры воспитания. Необходимо объединить труд и образование.
— Послушайте, учитель. Хорошо бы, если б вы поучили меня геометрии и черчению. Мне, как столяру, нужно хоть немного разбираться в геометрии.
Рабочие рассмеялись, потом поднялись и отряхнули пыль с брюк.
— Ой, парень, — сказали они Антонио — чего доброго, скоро увидим, как ты таскаешь дароносицу из дома в дом.
Сирена прозвучала во второй раз. Ее пронзительный собачий вой разнесся далеко окрест.
— Так ничего и не смогли поделать, — сказал Аугусто.
— Ничего, еще настанет время. Когда пошуруешь в печи, котелок быстро закипает. — Энрике, поднявшись с земли, обнял за плечи друга.
Рабочие потянулись на завод. Солнце по-прежнему нещадно палило. Ребятишки копались на свалке, разыскивая уголь, дрались из-за куска побольше.
Сирена прекратила вой.
* * *
Парк погрузился в тишину, лишь ветер изредка шелестел в ветвях. Солнце закатилось за деревья, и облака на небе окрасились в кровавый цвет.
В тени парадной лестницы Хрустального Дворца примостились парочки влюбленных. От земли поднимались душные испарения, тени плакучих ив ложились на гладь пруда.
Под легкими порывами ветерка деревья, тихо покачивая ветвями, словно сыпали на землю лоскутки света и тени. Солнечный луч, бледный, затухающий, лег желтым кругом на юбку Антонии.
— Как здесь красиво, — сказала девушка.
— Я рад, что тебе нравится.
Потом они долго молчали. Луис курил, положив голову на плечо Антонии. И для девушки это было почти счастьем. Она чувствовала, как горячая кровь струится по ее жилам. Антония закрыла глаза. Все, даже этот жар, исходящий от земли, наполнял ее счастьем.
— Луис, наверно, уже поздно, совсем стемнело.
Другие парочки ушли, растворившись в темноте парка; их шаги заглушал шум налетавшего ветерка.
— Вода такая покойная, прямо как зеркало, — сказал Луис, показывая на пруд. Антония ласково гладила голову Луиса. Вдруг рука ее дрогнула.
— Нет, сейчас не больше девяти, — сказал Луис, стараясь рассмотреть часы.
— Тогда посидим еще немножко, сегодня тетя придет в десять.
Парк вокруг пруда густо зарос кустарником. Вода плескалась у подножия парадной лестницы.
— Кто-то идет.
— Наверно, парочка.
— А может, рабочие. В парке их много работает.
— Или сторож.
— Или сторож, — смеясь, повторила Антония.
На прибрежных валунах заквакали лягушки. Им ответили сородичи из реки.
— Ну и концерт завели! Развеселились почище меня.
Луис посмотрел в лицо девушки, обнял ее за шею и легонько притянул к себе.
— У тебя какие-то неприятности?
Она обернулась к нему, лицо и глаза ее стали серьезными.
— Да, обычные скандалы. Хозяин квартиры ссорится с женой, бьет ее, мы с теткой дуемся друг на дружку. Иногда я чувствую, что страшно устала от всего, будто мне уже сто лет.
Они помолчали. Луис продолжал ласкать девушку. Ладонь его скользила по ее спине, по талии. Антония положила голову на плечо Луиса. Он поцеловал ее в губы, в глаза, брови. Губы у Антонии были пухлые, сочные, как дольки спелого апельсина. В этот миг Луис не испытывал желания, просто ему было приятно с ней.
— Знаешь, Луис, я тебя очень люблю! Не будь тебя, я думаю, мне не стоило бы и жить.
Луис закурил; над верхушками деревьев растекался свет с улицы Алькала.
— Ты не чувствуешь себя оторванным от людей? Иногда со мной случается такое. Я вижу, как люди довольны, словно ничего не происходит, словно им на все наплевать. Вижу, как они выходят из контор и учреждений и с довольным видом заходят в бары. Слышу, как дамы болтают в парикмахерской о своих развлечениях. Их ничего не страшит, они не голодают, дом у них полная чаша. Они не знают о том, что творится вокруг, не знают или не хотят знать. Будто только для них существует бог, милосердный и карающий. Они никогда ни о чем не заботятся, кроме как о себе да о своих самодовольных мужьях, которых они обманывают направо и налево. Бывают дни, когда мне противно идти на работу, видеть их довольные рожи. Мысль о том, что они тратят за один вечер столько, сколько я зарабатываю за целый год, выводит меня из себя.
Когда Антония отстранилась от Луиса, она была уже совсем спокойна.
— Прости, мне необходимо было излить душу.
Луис был ошеломлен. «Будь я на ее месте, я думал бы то же самое», — сказал он себе.
— Ну, поцелуи меня. Сегодня ты мне нужен, как никогда, — пробормотала Антония.
Они разняли руки и снова сели на ступеньки лестницы.
— Нас никто не видел, как ты думаешь?
— Нет, дорогая, здесь же никого нет.
— Мне не хотелось бы, чтобы нас увидали вместе.
— Мне тоже. Все равно не поймут. Знаешь, что говорит один мой приятель с факультета? Он утверждает, что есть люди, которые носят мораль и правду в жилетном кармане, в книжечке с темной обложкой, — смеясь, сказал Луис.
В воде отражался лик луны; лягушки вылезли из-под плакучих ив и квакали по всему пруду.
— У меня такое чувство, будто я голая, — сказала Антония, всматриваясь в лунное отражение на воде. Она поднялась, силуэт ее четко выделялся на фоне деревьев. Она одернула юбку, блузку.
Луис неотрывно смотрел на нее.
— Пошли? Уже поздно.
— Хочешь сигаретку?
— Давай.
Он зажег сигарету. Огонек спички на мгновение озарил девичье лицо.
— У меня не должно быть на губах и следа помады, — сказала она, улыбаясь.
— Ничего и нет.
— Дай мне гребешок. Наверно, у меня волосы растрепались.
— Нет, все в порядке, ты очень красивая.
Причесываясь, она держала сигарету в уголке рта. Глаза защипало от дыма, и она прищурилась. Белые струйки штопором уносились вверх.
Они побрели в сторону шоссе. Луис шел, обняв Антонию за талию. Песчаные тропинки ночью казались теснее и уже. Деревья и кусты словно обступали их со всех сторон, преграждали путь.
— Через какие ворота выйдем? Можно выйти через ворота Независимости и потом спуститься в метро у банка.
— Хорошо.
Они шли неторопливо, молча. Антонии не хотелось говорить, она предпочитала тишину и только теснее прижималась к Луису, передавая ему тепло своего тела.
Они добрались до большого пруда. Монумент Альфонсу XII возвышался над кронами плакучих ив и лодками.
— Надо будет как-нибудь прийти покататься на лодке.
Луис вспомнил, какие мозоли натер он на руках в последний раз.
— Лучше на пароходике с детьми и пожилыми сеньорами.
— Ну нет, и как тебе в голову такое пришло?
Они зашагали по аллее, ведущей к выходу.
— Вот это водяная лилия, — сказал Луис, показывая на цветы, росшие в маленьком пруду.
— Ага, — ответила Антония, глядя в сторону выхода. — Посмотри, Луис, там никого нет. Ворота закрыты. Который сейчас час?
Луис взглянул на часы.
— Двадцать минут десятого, не беспокойся. Выйдем через другие ворота. Я проходил как-то ночью, они были открыты. Да помнишь, недавно, когда мы возвращались с тобой из кино?
— Да.
Они зашагали быстрей, пересекли небольшую освещенную площадку перед выходом. Сюда же устремлялись и другие парочки.
— Видишь, вон еще люди. Не понимаю, почему они закрывают ворота так рано. А в Париже в парках нет оград, и они открыты все время.
— Так это в Париже.
— Получается, что гулять и любить неизвестно почему запрещено, — с досадой сказал Луис.
У калитки две парочки спорили со сторожем, Антония с Луисом подошли к ним.
— Вот те на! Еще парочка! — сказал сторож, оглядывая их с ног до головы. Антонии стало не по себе, ее охватил стыд.
— Сеньоры… сеньоры… Неужели вы не умеете читать? Этот парк закрывается в девять.
Сторож достал из кармана несколько бумажек. У входа висело объявление:
НАШ ПАРК ЗАКРЫВАЕТСЯ В ДЕВЯТЬ ЧАСОВ
Антония смотрела через решетку. Ей вдруг нестерпимо захотелось вырваться отсюда, очутиться по ту сторону решетки, подальше от неприятностей.
Луис бормотал какие-то оправдания.
— Время пролетело незаметно, да мы и не знали толком, когда тут закрывают.
— А часы на что, приятель? Здесь нечего делать парочкам, для них есть другие места.
Антония сгорала от стыда. Сторож словно обвинял ее в чем-то некрасивом. Девушка пряталась за спину Луиса от его пронизывающего взгляда. Что теперь будет? Чего доброго, еще пропечатают в газетах. В парикмахерской не раз судачили о том, что полиция преследует парочки, застигнутые в темноте.
— Не возражай ему, Луис. Еще придет ябедничать к тебе домой, — тихо уговаривала Антония.
Луис с силой сжал ее руку.
— Послушайте, да мы…
— Не петушитесь… Этого еще не хватало. А ну, предъявите ваши документы, — потребовал сторож.
Луис достал свой студенческий билет и протянул его сторожу.
«Луис Гарсиа. Студент факультета права», — прочитал сторож.
Луис учился на втором курсе университета. Он часто спорил со своими однокашниками о различных проблемах: о свободе, любви, политике. Пока сторож рассматривал документы других парочек, Луису припомнились разговоры, слухи, статьи из газет, радиопередачи, ежегодные епископские послания. «У нас еще имеются молодые люди, которые нарушают добрые обычаи. Они позволяют себе прогулки в неурочное время и в сомнительных местах. Настал час, когда власти должны пресечь подобные эксцессы, мешающие спокойно жить добропорядочным гражданам нашего города».
— В этом году на пляжах не разрешали загорать. Сразу же после купания велели надевать халаты. А если полиция поймает кого-нибудь без халата, пиши пропало. Тут же штрафовали на десять дуро и еще пропечатывали в газете.
— В Испании нарушают только одну заповедь — шестую.
«Против искушения плоти — а дьявол всегда настороже — лучше всего помогает власяница. Власяница — орудие покаяния или умерщвления плоти. Обычно она изготавливается из гальванизированной проволоки, с различного размера кольцами и шипами, вонзающимися в тело; наиболее удобно носить ее на ногах, бедрах или на руке, в зависимости от того, какую часть тела собирается умерщвлять кающийся. Власяницы бывают также веревочные, с множеством узлов. Они не продаются ни в одном магазине, а изготавливаются по заказу в божьих храмах».
— У меня с собой только талончик от продовольственной карточки, — говорила одна из девушек, роясь в сумочке.
Сторож вернул Луису студенческий билет.
— На сей раз отделаетесь пятью песетами штрафа, — изрек он.
Луис, не говоря ни слова, заплатил штраф. Аккуратно положил в карман куртки квитанцию.
— Сейчас вам открою.
Парочки молча вышли на улицу. Очутившись по другую сторону ограды, все нервно рассмеялись.
— Дай мне эту бумажку, я сохраню ее на память, — попросила Антония.
По улице Алькала проносились машины с зажженными фарами.
* * *
Донья Пруденсия скончалась вечером. В тот день, возвратясь домой, Хоакин заметил, что одна из створок парадного была заперта.
Он открыл своим ключом дверь квартиры. В коридоре горел свет, дверь в комнату доньи Пруденсии была распахнута настежь. У входа в спальню, прислонясь к стене, стояли двое мужчин. Хоакин узнал в них племянников уличной торговки. Они болтали и курили. Хоакин выразил им свое соболезнование. Должно быть, родственники пришли уже давно: пол коридора был усеян окурками, и табачный дым стоял столбом.
Жены племянников доньи Пруденсии сидели на стульях подле тела покойной, которую уложили на полу на одеяле. Дальше расположились Ауреа с племянницей. В коридоре вместе с мужчинами, прислонясь к стене, стояли несколько соседок.
— Совсем как живая, — говорила одна из них.
— Ну прямо как, бывало, на своем месте, на улице. Но лицо все же осунулось.
Женщина горестно покачала головой.
— Однажды я толковала с ней. Она мне все рассказывала, какая красивая у нее была жизнь. В молодости хорошо жила. Но и тогда хворь, видно, уже сидела в ней. Потом еще как-то с ней повстречалась. «Почему вы не позовете врача?» — советовала я. А она свое: «Само пройдет, у меня не на что покупать лекарства. На все божья воля».
— Не далее, как вчера, я разговаривала с нею, кто б мог подумать, что такое приключится, хотя она что-то и предчувствовала. Все говорила: «Я так устала, будто меня побили, будто я старая-престарая, зажилась на этом свете. Видите, муж мой помер и оставил меня одну. Теперь настал и мой час, мне тут делать нечего, питаюсь плохо, а тружусь, как мул. Господь бог лучше знает, что мне надо, — хоть отдохну».
Мачеха Хоакина вышла из кухни. Пахнуло горячим постным маслом, жареной рыбой.
— Все мы — ничто, — сказала соседка.
— В могиле все будем равны, — вздохнула другая.
В глубине коридора, в столовой, Матиас читал газету.
Войдя в комнату доньи Пруденсии, Хоакин невольно посмотрел на руки покойной, сложенные на животе, прикрытые белым платочком. Лицо тоже прикрывал шелковый платок; смутно виднелись заострившиеся черты.
Хоакин оглядел спальню, лица двух женщин, сидевших у одра покойной. Казалось, они шептали молитвы. Спальня была голая, без мебели. Хоакин закурил и вышел в коридор. Племянники продолжали болтать о своих делах, соседки обсуждать уличные сплетни, дороговизну продуктов, болезни и способы их лечения.
— Для пищеварения нет ничего лучше настоя ромашки по утрам.
— Надо же, какое безобразие! У меня хоть шаром покати, ничего не осталось. Я так и сказала лавочнику: «Вы самые первые спекулянты и есть!»
— Во всем виновато правительство. Мой муж утверждает, что они первые ко всему прикладывают руку. Я бы всех спекулянтов поставила к стенке и расстреляла.
— Для женщин это настоящая проблема. Пойдешь за покупками и не знаешь что взять, все страшно дорого. А муж еще недоволен едой. Я моему сказала: «Бери сам корзину, а я погляжу, что ты принесешь на пять дуро». Да посудите сами, горох — шестнадцать песет, оливковое масло — пять дуро. Хлеба, что дают по карточкам, нам не хватает, приходится прикупать две булки у спекулянтов. Прибавьте к этому свет и квартплату, вот и попробуйте свести концы с концами.
— Донья Пруденсия отвоевалась.
— Да, теперь она отдыхает.
Хоакин положил книги на буфет. Пробило девять вечера. Двор погрузился в темноту. Хоакин высунулся в окно и посмотрел вверх. На небосводе зажигались звезды, он сосчитал их — четырнадцать Всего лишь четырнадцать. На миг подумалось: а хорошо бы узнать названия этих четырнадцати звезд.
— Когда она умерла?
— Мария сказала, что в пять часов. Меня не было дома. Я сегодня в дневную смену работал.
— Кесаду уже приняли на работу? — спросил Хоакин.
— Пока нет, но ему кое-что подыскали.
Матиас поднялся, сделал знак Хоакину, чтобы он прошел в дальнюю комнату. Окно было раскрыто настежь, казалось, соседний дом можно достать рукой. Они встали у перил галереи. Внизу, в проулке между двумя домами, кровельщики деревянными молотками выпрямляли листы железа.
— Что-нибудь случилось?
— Сынок, какие сволочи! Ну и вечер они мне устроили! — воскликнул Матиас.
— Кто же?
— Да старухины племянники. Не приди я домой, они бы ободрали нас как липку. Мария рассказала, что, как только старуха преставилась, они раздели ее донага и выволокли все, что было в комнате. Даже кровать.
— А кто же им позволил?
— Ничего не поделаешь! Они родичи. Все, что в комнате, не наше.
— Могли бы подождать, пока ее похоронят.
Матиас поделился с сыном всем, что знал о случившемся.
У доньи Пруденсии было немного вещей. Деревянная кровать с матрацем и простынями. Одеяла, платья и старые туфли. Несколько пожелтевших фотографий в картонных овальных рамках, платяной шкаф без дверок, куда она вешала потертый халат, и трое пустых вешалок-плечиков. Ночной столик с флакончиками для лекарств. Тапочки. Чемодан. Спиртовка и три фаянсовые тарелки. Две кастрюли и сковородка. Один тазик и одно распятие на стене. Пакеты с гороховой мукой, с супом-концентратом. Бутылка оливкового масла, немного картофеля. В углу лоток, набитый конфетами, подсолнечными семечками и жевательной резинкой. Несколько коробок американских сигарет и три пачки испанского табака. Спички, папиросная бумага.
Племянники доньи Пруденсии не дружили друг с другом. Они явились с женами. Детей оставили дома. Эти племянники были единственной родней доньи Пруденсии. Но жадность объединила их куда более прочными узами, чем кровное родство. Даже в столь горестный час у них не нашлось ни капли любви к покойной тетке. Они алчно рассматривали жалкие тряпки, прикидывая, чем можно поживиться в комнате.
Одна из женщин открыла ящик ночного столика. Внутри оказалось несколько банкнот.
— Здесь деньги! — воскликнула она.
Все промолчали. Наконец старший, по имени Антонио, пробормотал:
— Бедная тетушка, она стала как птичка.
— И вовсе она не была плохая. Ну, были странности. А у кого их нет?
Это напоминало предварительные переговоры. Первые фразы были произнесены, и стало легче прийти к обоюдному соглашению.
Наконец племянник Мануэль решился:
— Антонио, что будем делать с тетушкиными вещами?
— Давай-ка без уверток. По-моему, лучше поделить их прямо сейчас. Ты знаешь, я живу далеко и приехать еще раз для меня трудно.
— Очень хорошо.
Антонио запер дверь спальни. Женщины открыли чемодан, полный старого тряпья. Запахло нафталином. Племянники вывалили тряпки на пол. В комнате было жарко, мужчины скинули пиджаки и сложили их на постель в ногах покойной.
Из кучи тряпья на полу стали выбирать отдельные вещи. Женщины щупали и пробовали ткань на прочность.
— А одеяла-то совсем неплохие.
— Да нет, самые обыкновенные.
— Вполне сгодятся. В прошлую зиму вон как холодно было.
— А у нас дома сыро-пресыро. Правда, Антонио?
— Хуже не бывает. Весь потолок отсырел.
— Я возьму голубое, — заявила одна из женщин, откладывая в сторону голубое одеяло.
— Голубое намного красивей. Если ты берешь себе голубое, я возьму два остальных.
— Ну нет, так-то и я согласна. Бери ты голубое. Розовое намного больше.
Платья у доньи Пруденсии были старые и просторные. Торговка сластями была женщина дородная, с огромной, свисающей на живот грудью. Ни одной из жен племянников они не подходили.
Жена Мануэля потихоньку хихикнула:
— Ну и платья! Наверно, в прошлом веке шили.
— Лучше продать все сразу на вес, — предложил Мануэль.
Спор разгорелся, когда дело дошло до баула — большого и глубокого, с еще крепкими парусиновыми боками, в широкую, немного выцветшую синюю полоску.
— Этот баул мне как нельзя кстати, — объявил Антонио.
— Посмотрим, кому он достанется.
Братья заговорили повышенным тоном. Стали припоминать друг другу старые, никогда не забываемые обиды, которые всплывали, как только между ними разгорался спор.
— Вот что я тебе скажу, Мануэль. Думаешь, ты очень умный! Не на того напал!
Братья вскочили на ноги и, вытянув шеи, как бойцовые петухи, приготовились пустить в ход кулаки.
— Да замолчите вы! Могут услышать! — прикрикнула на них жена Мануэля.
— Ладно, брат, — сказал Мануэль, — берите себе баул, а я возьму шкаф, чемодан и спиртовку. Идет?
Антонио прикинул на руке чемодан, посмотрел на шкаф. Баул ему нравился больше.
— Согласен.
В спор ввязалась жена Мануэля.
— Тазик и кастрюли тоже нам.
Началась скрупулезная дележка кухонной утвари Обсуждалась каждая вещь в отдельности. Распятие, сковорода и ночной столик достались Антонио и его жене. Стул и пакеты с концентратами получил Мануэль.
Когда дележка кончилась, братья уложили тетку на лишнее одеяло, не доставшееся ни одному из них. Потом все направились говорить с Матиасом.
— Мы увезем вещи сейчас, а то придут люди на похороны и не будет места в комнате.
— Делайте что хотите, — ответил Матиас.
Пока жены племянников оставались у одра покойной, сами племянники наняли две ручные тележки и увезли каждый свою часть.
За тряпки и старую обувь им дали оптом пятьдесят дуро. Вышло совсем неплохо, хотя носильные вещи стоили дороже, но слишком уж немодные платья оказались у доньи Пруденсии. Так заявил им старьевщик.
— Такое тряпье не сбудешь и на толкучке. Берите пятьдесят дуро и скажите спасибо.
— Вот и хорошо! — сказал Мануэль. — С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Конфеты растащили для детишек. Табак засунули поглубже в карманы.
— Медальон и сережки надо разыграть.
— На верно, хорошие, тетка вон как их берегла.
— А не лучше ли их продать? — посоветовал Антонио.
Хоакин сел готовить уроки за обеденный стол. В глубине коридора продолжали пререкаться племянники доньи Пруденсии. Соседки разошлись по своим квартирам. Антония прихорашивалась у себя в комнате. Матиас размышлял, не прогуляться ли и ему.
— Схожу навещу Кесаду, — сказал он Хоакину.
Мария хозяйничала на кухне, плотно Прикрыв за собой дверь. Хоакин перевернул страницу учебника. «Синхронные моторы, или синхронные генераторы, — это такие механизмы, у которых частота колебаний…»
Некоторое время он занимался, с головой погрузившись в учебник, повторяя про себя прочитанное, стараясь все запомнить. И вдруг с удивлением услышал свой голос, перекрывавший шум, доносившийся из коридора. По радио раздался сигнал фанфар.
— Десять часов. Передают известия, — невольно произнес он вслух.
Радиоприемник в привратницкой жужжал на весь двор, как назойливая муха. Привратник всегда включал его на всю мощь, чтобы досадить жильцам.
— Пускай послушают! Им это полезно. В доме еще полно недорезанной красной сволочи! — громко выкрикивал привратник, так, чтобы его слышали все жильцы.
— «Мирное время — это передышка для трусливых и робких людей, пасующих перед лицом истории. Кровь павших…» — отчетливо и громко читал диктор.
Антония, спускаясь по лестнице, столкнулась со священником. Он тяжело поднимался по ступеням, ухватившись за перила. Священник был тучный, средних лет мужчина. Следом за ним шел мальчик, стриженный наголо.
— Добрый вечер, — поздоровался служка.
— Здравствуй, — ответила Антония.
«Наверно, идут читать молитвы над доньей Пруденсией», — подумала девушка. Остановившись на площадке, она посмотрела вслед темной фигуре священника: рукава сутаны были высоко закатаны. «Чтобы не испачкаться, на лестнице вон какая грязища». Из-под сутаны выглядывали брюки, тоже черные.
Антония снова подумала о старой торговке сластями. Она не испытывала к ней ни сочувствия, ни даже жалости, просто ей сделалось немного грустно. Увидев скончавшуюся соседку, девушка вдруг многое поняла по-другому. Антония совсем не знала эту женщину, рядом с которой жила столько лет. У доньи Пруденсии была обычная женская доля: порой горькая, изредка радостная, как сама жизнь. Была она и девочкой, и девушкой, имела мужа и каждое воскресенье слушала мессу. Последние годы старушка жила лишь воспоминаниями, одинокая, никому не нужная. Уделом ее были теперь усталость, горечь и печаль. Жизнь, как сточная канава, захлестнула ее в своем бурном потоке. А что могла вспомнить Антония об этой почти не знакомой ей женщине, с которой едва перекинулась двумя-тремя словами, и то в редкие минуты, когда донья Пруденсия не бранилась с соседками.
— Если так жить и дальше, все погибнем, — произнесла Антония вслух.
Священник отдыхал на лестничной площадке. Он с удивлением обернулся.
— Вы что-то сказали? — спросил он.
— Нет, вам я ничего не сказала.
Антония вышла на улицу. Газовые фонари светили приятным молочным светом.
Прислонясь к фонарному столбу, ее ждал Луис. Девушка положила руку ему на плечо и улыбнулась.
Звонок прозвонил трижды. Хоакин собрался было пойти открыть дверь, но Мануэль, племянник доньи Пруденсии, уже опередил его.
Вошли священник со служкой. Мальчуган держал левую руку в кармане штанов. Он сосредоточенно пересчитывал мелочь. Племянники, прекратив спор, уставились на священника.
— Я сюда? Правильно? — спросил священник.
Никто из присутствующих и не помышлял вызывать падре. Всех необычайно удивил его приход. Жена Антонио, первая опомнившись, сказала:
— Да-да, сюда.
Священник прошел в комнату. В плошке, полной лампадного масла, трепетно горел фитилек. Плошка стояла на ящике из-под конфет. Пламя ее едва было видно, в комнате горело электричество.
— Надеюсь, покойная исповедалась? Не так ли?
Всех обескураживало и пугало присутствие священника. Всем хотелось, чтобы он скорее закончил свое дело и ушел.
— Мы ничего не знаем. Мы никого не вызывали, — сказал Антонио, встрепенувшись.
Священник смотрел на него осуждающе и качал головой.
— Это первое, что следует делать. Без исповеди…
Наступила тишина, племянники сгорали со стыда, не осмеливаясь ни поднять глаза, ни произнести хотя бы слово. Служка рассеянно слушал музыку по радио.
Священник, возмущенный, возвысил тон:
— К смерти следует готовиться, следует препоручать душу господу, дабы он простил нам наши прегрешения.
— Послушайте, падре, а это что-нибудь стоит?
Священник обернулся на голос.
— Это бесплатно, все это бесплатно!
Затем, все еще возмущенный, повернулся к покойной. В руках он держал молитвенник. Священник медленно начал читать древние слова, которые произносят над усопшим. «Аминь», — сказал служка и вышел следом за священником.
Хоакин, не вставая со стула, слушал разгоравшуюся ссору.
— Наверняка это сделала сеньора Мерседес, — сказала Мария. — Она всегда сует нос куда не надо. Только она и могла пойти в церковь и позвать священника.
— Наверно, — ответил Хоакин, снова углубляясь в учебник. «Ядро состоит из положительно заряженных частиц, каждая из которых…»
Они как раз сели ужинать, когда племянники доньи Пруденсии собрались уходить.
— Завтра придем на похороны, — заявили они.
Ужинали только отец с сыном. Мария легла спать. Перед тем как лечь, она завела с Матиасом разговор.
— Завтра дашь мне денег.
— Не знаю, куда ты их тратишь.
— На три дуро, что ты мне даешь, никак не управишься.
Хоакин после ужина читал газету. На первой странице красовались пространная речь и фотография весьма известного генерала.
Он просмотрел немецкие военные сводки, единственные, какие печатала пресса: «Наши войска, наступая победным маршем, с боями захватили вражеские укрепленные позиции. Сорок тысяч пленных… Города Ковентри и Лондон были подвергнуты массированным налетам нашей авиации. Замечены огромные пожары…»
Война разгоралась. Немцы продвигались по русской земле. Хоакин с интересом следил за этим наступлением. Ему казалось, что в Европе назревают важные события. Он надеялся, как и многие испанцы, что все устроится, как только Германия потерпит поражение.
— Пойду лягу спать, — сказал Матиас.
— Я тоже. Завтра рано вставать, — ответил Хоакин.
Все погрузилось в темноту. Лишь слабый луч лампадки, горевшей в комнате доньи Пруденсии, проникал в коридор. И хотя свет этот был едва приметен, он мешал Хоакину заснуть. Время от времени раздавались голоса соседей па других этажах, рокотание автомобильного мотора в ремонтной мастерской в переулке. Громкое тиканье будильника.
Свет, сочившийся в коридор, мешал Хоакину уснуть. Невольно на память приходили слова священника о том, что следует готовиться к смерти, что жизнь мелка и преходяща и что все люди, и бедные и богатые, равны перед богом. Эти мысли были чужды Хоакину. Он понимал, что возлагать надежды на иной, потусторонний мир — значило оставлять мир реальный в руках проповедников смирения, тех, кто утверждает, что собственность священна, что бедняки должны покорно, без протеста и возражений, без зависти к богачам ждать царствия небесного.
Он вертелся с боку на бок в кровати, отворачивался к стене, пытаясь спрятаться от назойливого блеклого света, но все было напрасно. Хоакин привык спать на правом боку, и эта привычка оказалась сильнее желания заснуть. Он встал. Опустил ноги на пол: приятно было ощущать ступнями прохладный плиточный пол. Подошел к окну, взял кувшин и напнлся. Вода холодной змейкой побежала по груди.
Он прошел по коридору до комнаты доньи Пруденсии. Погасил лампадку и закрыл дверь. Вернулся к себе, нырнул в кровать и вскоре заснул.
* * *
Через несколько дней комнату доньи Пруденсии сдали внаем. Новой жиличке ничего не сказали, памятуя о том, что многие боятся спать там, где лежал покойник.
— Сколько платить? — спросила женщина.
— Тридцать дуро в месяц, с правом пользоваться кухней.
— А мебель?
— Та, которую вы привезете с собой, — ответил Матиас.
— А вы покрасите комнату? Стены немного грязные.
— Да, побелить можно будет.
Новую квартирантку звали Аида Лопес. По ее словам, она овдовела в начале войны. На вид ей было лет сорок. Она носила очки.
— У меня пять диоптрий. Стекла потолще донышка стакана, — сказала она, смеясь и протирая очки платком.
Жиличка рассказала свою биографию: была замужем семь лет.
— Если говорить точно, семь лет и три месяца. Осколок угодил покойному вот сюда, — женщина дотронулась рукой до низа живота, — и не стало у меня мужа.
Оба были родом из одного городка, недалеко от Сеговии.
— Он служил пономарем, но добровольно записался в Народный дом. А какой был красивый — все признавали, не только я. Играл на гитаре и пел хоту лучше любого парня. Его назначили милисиано по культуре, и он обучал грамоте прямо в окопах. Его очень любили. А сколько людей он научил читать и считать! — закончила свой рассказ Лопес.
Она сидела на краешке стула, прижимая к подолу обеими руками черную сумку, и изо всех сил пялила глаза; свет не горел, в столовой было темно. Матиас закурил.
— Одного моего приятеля пристрелили как раз в тех местах, недалеко от Сеговии.
— Там такое творилось. Да вы скажите, в каком доме в войну не потеряли мужчину? И из того, и из другого лагеря. В нашем городке сперва были красные, они расстреляли десять фашистов. А когда вступили националисты, они в отместку постреляли больше сотни людей: и мужчин и женщин. Несчастных выстроили на площади Каудильо и повели на кладбище. Там им велели рыть себе могилы, пока дон Дамасо, читая молитвы, отпускал им грехи. А других заставляли съесть суп из касторки. У бедняг, прости господи, все лилось по ногам. А женщинам обрезали волосы, только оставили по клоку, как хвост у мула, и привязали к ним банты из монархических флагов. Потом их уволокли в казармы, а на другой день заставили мести улицы по всему городу. И те и другие причинили немало зла.
Женщина замолчала. Мария ушла на кухню за карбидным фонарем.
Матиас стряхнул пепел с колен и сказал:
— Вот как у нас со светом, может, часа через три дадут, такое не впервой.
Мария вернулась в столовую. Пламя фонаря отразилось в очках новой квартирантки. При бледном свете лицо ее казалось еще длиннее и печальней.
— А какой хороший был мой Хулиан. Я, может, недалекая, мало разбираюсь в политике, да и не хочу в ней разбираться. Но одно вам скажу, сеньор: устройся все получше, все бы по-другому получилось, верно?
Она порылась в сумочке и достала кошелек с фотографиями.
— Вот этот, в середине, мой Хулиан, — сказала она.
Хулиан стоял в центре группы мужчин, по-видимому крестьян. На всех были комбинезоны цвета хаки, с засученными рукавами. Рядом возвышались сложенные пирамидой винтовки: штыки кверху, приклады на земле. Хулиан держал под мышкой книгу. На вид он был среднего роста, немного полный, с небольшой лысиной. Вдали, за группой милисиано, виднелись отроги горного кряжа.
— Вот как бывает, — вздохнула женщина, пряча фотографию. — У него началась гангрена, и ему отрезали обе ноги. Я видала его в госпитале отеля «Палас». Бедняжка еще сам не знал, что с ним сделали. Все жаловался, будто у него чешутся пальцы на ногах… А ног-то уже не было! Представляете? Я так разревелась, когда услышала… Вскорости он умер.
Матиас сочувственно развел руками.
— Гангрена паршивая штука. Я знаком с одним человеком, у которого нет обеих пог. Ездит на тележке и просит милостыню. Я думаю, чем так мучиться, лучше сто раз помереть.
Аида продолжала рассказывать о себе. Когда война кончилась, она вернулась домой, в свой городок. Хотя там и происходили жаркие бои, город остался нетронутым. Распри для всех заканчивались на кладбище.
— Мне стало жутко жить там. Из родственников у меня оставалась одна сестра. Она неплохо устроена, замужем за слугой алькальда, но у них куча ребятишек, и я для них была обузой. Месяца три я не осмеливалась показаться на улице. Меня прозвали «женой красного пономаря». Полицейский капрал все время приставал ко мне. Бог знает о чем только он меня не допрашивал.
Она по-прежнему сидела на краешке стула. Матиас со скучающим видом расправлял морщины на своих форменных брюках.
— Жила я у сестры до тех пор, пока меня, что называется, не попросили. Зять заявил, что ему, мол, очень жаль, но дольше оставаться у них мне нельзя, чем сумеет, мол, он мне поможет, и все, а то к нему уже и так из-за меня начали придираться, и ему важней его дети…
Аида тихим голосом продолжала свой рассказ. Она приехала в Мадрид и устроилась прислугой в доме богатых сеньоров.
— Они меня кормили и по воскресеньям давали немного денег. Жила я очень плохо, пока не познакомилась с доном Хосе.
Зажглось электричество. Свет карбидного фонаря сразу стал тусклым и жалким.
— А мы жили, как в пещерах, без света, почти совсем без воды… с пустыми кишками, так что нечем было, простите за выражение, сходить на двор, — заметил Матиас.
— А у нас до сих пор пользуются карбидными фонарями да факелами, — в свою очередь заметила новая жиличка.
Разговор не клеился. Они не знали, о чем говорить, и только переглядывались.
— Ну, так вы теперь знаете, комната стоит тридцать дуро в месяц. Можете занимать когда захотите.
— А вы ее покрасите?
— Завтра она вон позовет маляров, — сказал Матиас, кивнув в сторону жены.
— Хорошо. Не стану больше вам мешать, пойду, — сказала женщина.
— До свидания, до вашего переезда, — простились с ней Матиас и Мария.
Мария проводила новую жиличку до парадного. А сама зашла в лавку купить клеевой краски и попросить взаймы малярную кисть. Лестницу ей одалживал Иларио из таверны.
— Сама покрашу комнату. Не такое нынче время, чтобы платить десять дуро маляру, — объяснила Мария мужу.
Несколько дней спустя сеньора Аида явилась снова; она привезла мебель. Ее сопровождал мужчина, которого она представила как своего друга дона Хосе.
Новая жиличка почти никогда никого не беспокоила. Большую часть дня она проводила, запершись у себя в комнате. Не слышно было даже, как она дышит.
Антония быстро подружилась с Аидой. Как только у нее выдавалась свободная минута, она уходила к ней шить.
В спальне у Аиды висел свадебный портрет: она с Хулианом. Пономарь, по ее словам, был такой добрый и хороший, что даже теперь, когда у Аиды появился новый жених (каждый вечер ее навещал дон Хосе), ей и в голову не приходило снять со стены этот портрет.
— Дон Хосе очень деликатный на этот счет. Он умеет уважать чужие чувства.
Аида поведала Антонии, что у дона Хосе имеются кое-какие сбережения и он собирается на ней жениться.
— Он торгует старьем на Гарсиа Морато. И тоже вдовец. Единственное препятствие для нашей женитьбы — его дочки. Похоже, они верховодят им.
Жених Аиды представлял собой любопытный экземпляр. Аида величала его не иначе, как дон Хосе. Было ему лет пятьдесят, и вид он имел крайне запущенный. Ходил в костюмах, приобретенных для своей лавочки, и поэтому иногда красовался в непомерно просторном, как у клоуна, балахоне, а иногда, напротив, в страшно тесном платье. Но ни разу он не появился в одежде по росту.
Дон Хосе всегда очень приятно улыбался. Что называется, светился добродушием. Свои визиты он наносил весьма пунктуально. Ровно в восемь вечера уже звонил у парадного. Незадолго до его прихода Аида приводила себя в порядок. Пудрилась телесной пудрой, подкрашивала губы. Как только раздавались три знакомых звонка, она опрометью кидалась по коридору открывать дверь. Если ее кто-либо опережал или приходил не дон Хосе, Аида корчила недовольную мину. Дон Хосе шумно здоровался со всеми жильцами.
— Хоть и старьевщик, но человек очень обязательный и обходительный. Привык вести дела с людьми тонкого воспитания, которые приходят продавать свои вещи к нему в лавочку, — говорила Аида.
Всякий раз дон Хосе являлся с пакетом под мышкой. Улыбаясь, взявшись под руку, они входили в комнату. Старьевщик разворачивал пакет и доставал закуску.
— Сегодня я принес немножко колбаски, — говорил он. Или: — Сегодня у нас хлеб с сыром.
Сперва визиты дона Хосе к новой жиличке пришлись Матиасу не по вкусу. Он заявлял, что дон Хосе, несмотря на все его тонкое обхождение, скорее смахивает на прощелыгу, чем на добропорядочного человека.
— У нас не дом свиданий, — отчитывал Матиас жену.
Но, как правило, хозяин квартиры почти всегда отсутствовал в часы визитов дона Хосе, а жених Аиды время от времени дарил ему пачки сигарет, и Матиас смирился.
Жених с невестой ужинали, сидя у окна. Она на стуле, а дон Хосе в старом, потертом кресле с высокой спинкой. Кресло это было подарком дона Хосе.
— Отдыхай на здоровье, — сказал дон Хосе, когда привез кресло.
И Аида и ее жених с нетерпением ожидали восьми часов вечера. За ужином они сообщали друг другу дневные новости. А затем, если у него доставало сил и энтузиазма, ложились в постель.
— I ы уже поговорил со своими дочками? — спрашивала Анда.
— Нет, никак не решусь.
Аида замолкала, он продолжал:
— Ну, что можно сказать? Что остается делать мужчине без женщины? Только одно: вкалывать, как ишак, и больше ничего. А несчастные медяки, что заработаешь, пускай уносит дьявол.
Аида кивала головой в знак согласия. Дон Хосе всегда дожидался подтверждения своим словам, прежде чем говорить дальше.
— Мне надо, чтобы кто-то принимал участие в моем деле, следил за порядком в доме. Дочки мне не помощницы. Одна заделалась студенткой и даже не заглядывает в лавочку, чтобы, не дай бог, не испачкаться. Выросла белоручкой, кисейной барышней. А другая, похоже, связалась с Эулохио, и ее не заставишь заниматься домашним хозяйством ни за что на свете. Вот я и не осмеливаюсь сказать им о наших с тобой отношениях. Чего доброго, поднимут меня на смех. Придется дать им затрещину. Отцу трудно говорить о подобных вещах своим детям, особенно если эго девчонки.
Аида снова кивнула в знак согласия. Конечно, она все понимает. Она уже не ребенок, да и ей хочется иметь свой дом, как положено, чтобы жить, как настоящая сеньора.
— Когда-нибудь тебе все же придется решиться, — сказала она.
— Да, — ответил дон Хосе без особой уверенности.
Развалясь на стуле и закрыв глаза, Аида мечтала. Ей казалось, что она взвешивает тряпки и подсчитывает выручку. А потом прибирается в большом доме, своем доме. С тех пор как умер Хулиан, да будет земля ему пухом, у нее не было счастливой минуты, пока она не познакомилась с доном Хосе.
— Я приметил одни туфельки. Вот подойдут тебе! На среднем каблуке, с красивым узором. Поставим подметки, будут совсем как новые.
Мария иногда ужинала с ними. Сначала она кружила у двери Аиды, принюхиваясь к вкусным запахам. Потом, наконец решившись, тихонько стучалась и просила позволения войти. О чем-нибудь спрашивала дона Хосе и тут же затевала общий разговор.
— Ну, как у вас идут дела?
— Дело идет как по маслу. Люди теперь голодают и тащат продавать все, что попадется.
— Больно все подорожало, дон Хосе, — объясняла Мария.
— Да, у меня порой у самого сердце разрывается на части, когда гляжу на них, но уж такая моя профессия.
— Столько горя кругом! — жалостливо вздыхала Аида.
— Да вот, к примеру, сегодня, чтоб не ходить далеко, — говорил старьевщик, — пришла одна женщина продавать свое обручальное кольцо. По ее словам, единственную ценную вещь, какая у нее осталась. Похоже, ей надо было отнести передачу в Йесериас. Муж ее сидит в тюрьме за политику.
— С полицией связываться — последнее дело; сегодня одни, завтра другие, а расплачиваются за все всегда бедняки, — заметила Мария.
— Всегда так, — поддержала ее Аида.
Дон Хосе восхищался людьми, занимающимися политикой.
— Вот Рузвельт — парализованный, а какими делами ворочает.
Другим политиком, вызывавшим его удивление, был Муссолини.
— А ведь он был социалистом! Но теперь совсем не то. Ватикан да этот паяц с усиками Чарли Чаплина, по прозванию Гитлер, совсем сбили его с панталыку.
Сталина он тоже считал крупной фигурой, что бы там ни говорили. Но особой его любовью была Франция.
— В молодые годы я бывал за границей. Жил в городе под названием Тулон. Ох и корабли там! Ясное дело, японская эскадра…
Скупщик разваливался в кресле.
— В Тулоне я работал грузчиком в порту, таскал мешки. Тяжелая работенка, но зато заколачивал изрядно.
Когда у дона Хосе развязывался язык, остановить его уже было невозможно; он говорил и говорил, пока в уголках рта не появлялась слюна.
— А не принести ли вам бутылочку винца, сеньора Мария? Я угощаю.
Мария рассказывала ему о Франции и о том времени, когда она работала кондукторшей трамвая. Дон Хосе много смеялся над ее рассказами и подбивал ее пропустить еще стаканчик вина.
— Выпьем за Францию, за то, чтобы она скорее освободилась от немцев, — предлагал тост дон Хосе. После ужина жених с невестой отправлялись в кафе на площадь Кеведо послушать радио. В зимние вечера они пили кофе с молоком. А если эти походы случались летом, заказывали оршад.
Мария чувствовала себя на верху блаженства. Аида была добрая женщина, а уж о доне Хосе и говорить не приходилось, таких, как он, немного сыщешь на свете.
* * *
Энрике с Аугусто возвращались домой. Выйдя из ворот завода, они пересекли улицу Лопес де Ойос.
— Подождите немного! — крикнул им Хоакин.
Они остановились у табачного киоска. Энрике купил две сигареты, разломил одну на равные части и половинку дал Аугусто.
Рабочие стояли посреди тротуара, недалеко от пустыря. Напротив, у трамвайной остановки, толпились их товарищи. Аугусто сворачивал самокрутку, слюнявя языком папиросную бумагу. Сначала от середины до одного края, потом до другого. Наконец он закурил. Вместе с Хоакином подошли Селестино и его двоюродный брат Антонио.
— Пошли пешком до «Диего де Леон»? — предложил Хоакин.
— Пошли, — согласился Аугусто.
И пятеро рабочих зашагали вверх по улице.
— Ты верно говоришь, Энрике. В самом деле, нам впору просить милостыню.
— Таких, как мы, много, по всей стране одно и то же. — Энрике швырнул обгоревшую спичку, которую держал в руке. — И я еще раз повторяю, — продолжал он, — Много народу живет, как мы, а то и хуже. Но дело не в том, чтобы плакаться, надо искать способ исправить такое положение.
— Насчет столовой вышло здорово. Хозяину пришлось раскошелиться и все-таки открыть столовую, — сказал Хоакин.
— Вопрос стоит таким образом. Если мы возьмемся за дело всерьез и решительно, хорошо все продумаем, обсудим со всеми, тогда мы можем многого добиться.
— А если случится, как с Фелипе? Его вышвырнули на улицу, и теперь он мается чернорабочим на стройках в Кастельяне. Прежде зарабатывал по тридцать песет вместе со сверхурочными, а теперь едва девять двадцать. Он ведь тоже распространял социалистические идеи.
Энрике внимательно посмотрел на Антонио. Тот опустил глаза и уставился на мостовую.
— А ты считаешь справедливым, что твоего заработка не хватает на пропитание ребятишкам? Ясное дело, не все требования удовлетворяются. Мы требовали страховку от несчастных случаев, и мы ее добились. Нам, правда, отказались выдавать спецодежду. Но зато со столовой у нас дело выгорело.
Все рабочие завода жаловались на тяжелые условия труда. В обеденный перерыв, расположившись у заводской стены, на солнышке, они разворачивали принесенную с собой еду и принимались обсуждать вопрос о заработках. Часто в этих дискуссиях задавали тон женщины.
— Мы вкалываем столько же, сколько и вы! А многие из нас делают мужскую работу. Нет такого права, чтобы нам платили меньше, — заявляли они.
Рабочие собирались маленькими группами, чтобы потолковать. Но почти никогда не могли договориться о методах борьбы за свои права.
— Никаких комиссий! — кричали некоторые.
— От комиссий одни только неприятности, всегда попадает тем, кто идет требовать. Тут же объявляют коммунистами.
— А стоит только попасться на заметку, пиши пропало. Мастер ни за что не заплатит сверхурочных. Вот и кукуй!
Они медленно поднимались вверх по улице Серрано, солнце пряталось за горбатой мостовой. Энрике шел рука об руку с Хоакином. Селестино, Антонио и Аугусто шагали сзади.
— Почему бы нам не провести вечерок вдвоем? Мне бы хотелось побеседовать с тобой наедине, — сказал Энрике Хоакину.
— Ты отличный парень, Энрике. Столовую и страховку мы получили только благодаря тебе.
— Напрасно ты так думаешь… Этого мы добились общими силами. Твоими, Аугусто, Селестино… словом, всего завода. В таких вопросах, как, впрочем, и в других, один в поле не воин, и мое мнение стоит столько же, сколько твое, Аугусто, — не больше. Все дело в том, кто выскажет его первым.
Аугусто и Антонио, шедшие позади, курили. Селестино молча слушал товарищей.
— Ты знаешь мое положение. У меня жена и четверо ребятишек. Если бы жена не работала, не знаю, чем бы мы кормили детей.
— Послушай, Антонио. Когда рабочий отделяется от своих товарищей, он как бы становится на сторону хозяина. Хочет он этого или не хочет, он льет воду на хозяйскую мельницу. Дело здесь, конечно, не в политике, просто каждый стремится заработать на хлеб и пропитание своим детям. Я понимаю твое положение, и не думай, будто я считаю, что ты не прав, но все же тебе надо быть с остальными рабочими.
Селестино шел по краю тротуара, помахивая судками. Берет он надвинул на самый лоб и напевал какую-то песенку.
— Ему засоряют мозги в Обществе набожных рабочих, — пошутил он, прерывая песенку.
— Я тебя не понимаю, Селестино, — лицо у Антонио стало серьезным, — не понимаю твоих шуточек. Как может человек терпеть все это, если у него нет надежды на бога? И ты тоже не веруешь, Аугусто?
— Нет, но это неважно. Для меня бог — это сами люди: если мы не сделаем ничего для себя, никто нам не поможет.
Они остановились у станции метро «Диего де Леон». Бульвар Ронда был устлан золотистым ковром. Опавшие листья акаций шелестели под ногами.
Из ближайшей лаборатории высыпала стайка девушек. Все в синих, туго перепоясанных халатах. Селестино подошел к одной лаборантке.
— Привет, дочка! — крикнул он.
— Привет, папаша, доброго тебе пути! — со смехом отвечали девушки, спускаясь в метро.
— Самый лучший путь — это к вам в постель. — Селестино, ухватившись за балюстраду, наклонился в шутливом поклоне.
— Ты прямо как петух! — крикнули девушки.
Ему надо было сделать пересадку на «Пуэрта дель Соль». Он стоял рядом с Энрике, но они едва могли говорить. В набитом битком вагоне среди шума и гвалта ничего нельзя было разобрать.
— Как сельди в бочке, — говорила какая-то женщина. — Нельзя ездить в таких условиях, возят, как скотину.
— Не забудешь, что я тебе говорил? — спросил Энрике у Хоакина.
— Я не помню о чем.
— Нам надо встретиться, чтобы потолковать о многом.
— Ладно, как только выберу свободный вечерок, мы обязательно встретимся.
— Назначь место.
— В баре на площади Иглесиа, рядом со свечным магазином.
— Знаю, там еще на втором этаже игорный зал.
— Вот-вот. А что ты хочешь мне рассказать?
— Ничего особенного, мы просто побеседуем, обменяемся впечатлениями.
Он вышел на «Пуэрта дель Соль», чтобы пересесть на линию «Куатро Каминос». Войдя в квартиру, зажег свет в коридоре. Кругом стояла тишина, даже обычные голоса не доносились со двора. В кухне дремала мачеха. На столе в столовой ему оставили ужин: тарелка вареного картофеля и два помидора, разрезанные пополам. Он сел за стол и стал ужинать. Картофелины были холодные, скользкие. Хоакин оглядел стены, мебель в столовой и вдруг почувствовал невыносимую грусть.
Иногда воскресными вечерами, когда Аугусто с женой и детьми уходил в кино, Энрике оставался дома один. Ему нравилось пристроиться на стуле у окна и, положив ноги па другой стул, почитать пару часов интересную книгу. Начитавшись, он шел побродить по Мадриду.
А в другие воскресенья брал детей Аугусто и, пока родители ходили по своим делам, отправлялся с ними гулять по берегам Мансанареса. Днем они заходили в бар и все вместе пили кофе с молоком.
Жена Аугусто всегда подшучивала над ним:
— Ну и рохля ты, Энрике. Не замечаешь самых красивых в округе девушек. Вечно торчишь, как бирюк, дома. Вот уведут у тебя из-под носа немногих, которые еще остались, и достанется тебе самая что ни на есть уродина.
— А какую ты мне посоветуешь?
— Ничего я тебе не буду советовать. У тебя что, глаз нет? Будь я мужчиной, я бы Росу не упустила. Очень красивая и очень хорошая девушка. Я знаю, ты ей нравишься. Часто спрашивает про тебя.
— Роса из хорошей семьи, — вступал в разговор Аугусто. — Хлебнула горя, пока ее отец сидел в тюрьме.
Энрике был знаком с девушкой, иногда болтал с ней на лестнице. У Росы было детское личико с ясными, живыми глазами. Порой у Энрике возникало желание жениться на ней.
* * *
Хоакин и Рыбка знали друг друга с детства. Вместе играли в бой быков на маленькой площади Альвареса де Кастро, вместе были «бычками-новичками» в школе Христианского обучения, откуда убегали, чтобы порезвиться на облысевших холмах Кампо де лас Калаверас.
Там, у ограды кладбища Сан-Мартин, встречались шулера, мошенники, воришки, бродяги, проститутки со всего квартала. Сюда же приходили погреться на солнышке и безработные.
Играли в чито, в подкидного, в очко, в двойную семерку, в семь с половиной, в девятку, в трин, в фортунку и кегли, в хулепе и кане, в покер и прочие азартные и запрещенные игры, до которых так охочи были эти ловкие на руку люди.
На кирпичной стене здания, выходившего на пустырь, белилами была намалевана огромная надпись, гласившая:
БАБОЧКА — ОДИН ДУРО
— У этой стены устраивают свои сделки педерасты, — уверял Рыбка.
Рыбка жил в одном из переулков квартала Аламильо, и у него были знакомые среди завсегдатаев пустыря. Один из них, некий Рамиро, зарабатывал на жизнь игрой в чито. Он был обладателем биты и шайбочек, которые сам брал напрокат по десять сентимо за игру.
Другим приятелем Рыбки был старичок из их переулка. Он ходил с палкой, на конце которой торчал острый гвоздь, собирал окурки. Действовал старик с необычайной ловкостью; подцепив окурок, он быстро отправлял его в матерчатую сумку, висевшую на поясе. Вечером, возвратившись домой, старик усаживался у огня и потрошил окурки в металлическую коробку.
— Любое воскресенье можешь увидеть его на барахолке, — рассказывал Рыбка Хоакину, — он торгует там табаком.
Однажды Хоакин с Рыбкой наткнулись на старика.
— Как у вас идут дела, сеньор Марсиаль? — спросил Рыбка.
— Плохо, сынок, плохо. Табак все дорожает, и люди теперь не кидают окурков, берегут для себя.
— Что вы будете делать?
— Думаю перебраться теперь на проспект Хосе Антонио. Там, говорят, у баров можно насобирать много окурков.
— Но там не позволят, полно полицейских, — заметил Хоакин.
• — В том-то все и зло, — ответил старик.
С наступлением ночи все пустыри, прилегающие к улицам Доносо Кортеса, Хоакина Мариа Лопеса и Браво Мурильо, вплоть до Клинического госпиталя и улицы Королевы Виктории, заполнялись местными проститутками и сутенерами. С наступлением темноты на промысел выходила и сеньора Деметрия, сводница девиц легкого поведения всей округи и торговка противозачаточными средствами.
— Вольготно и богато живут. Теперь в Мадриде шлюх пруд пруди, — говорил Рыбка.
Оба друга, побродив по запущенному кладбищу, направились в бильярдные при кафе на Санта-Энграсия поискать там Антона и Неаполитанца.
Это было тихое кафе с мраморными столиками. Парочки влюбленных сидели на первом этаже. Игроки в бильярд и картежники собирались на втором.
В пять часов вечера в зале первого этажа кафе не оставалось ни одного свободного места. Влюбленные парочки, женихи и невесты занимали места еще днем, заказывали по чашечке кофе и заводили нескончаемые разговоры о своих будущих квартирах и капиталах. Наговорившись вдоволь, они умолкали; некоторые поглаживали друг друга под столом, жали руки.
Хоакину становилось нестерпимо жаль этих влюбленных, может, потому, что он привык видеть их здесь каждое воскресенье.
— У нас в Испании вся молодежь просто одержима сексуальным вопросом. Женщины защищают свою невинность больше, чем саму жизнь, — утверждал Антон.
— Все дело в том, что невинность — единственное их достояние. Один мой приятель по цеху, его зовут Энрике, считает, что испанским женщинам вбили в голову, будто единственное подходящее для них ремесло — это замужество, — вступил в разговор Хоакин.
— Я знаю одну торговку рыбой, она уверяет, что невинность и честь — одно и то же. Ей неважно, где и как ее будут щупать. Но насчет прочего и не думай. Пока, говорит, у меня все цело, я так же честна, как непорочная дева.
На второй этаж заведения вела крутая винтовая лестница. Она приводила как раз к дамскому и мужскому туалетам.
В глубине зала ровными рядами выстроились столики для игроков в карты и домино.
— Сыграем партию в шахматы? — предложил Антон Хоакину.
— Какие к шуту шахматы! Если хочешь, сгоняем партийку в бильярд. Не то я смываюсь, — сказал Неаполитанец.
— Конечно, в бильярд, — поддержал приятеля Рыбка. Он тоже не умел играть в шахматы.
— Ну, как твои гороховые дела? — поинтересовался Хоакин у своего друга.
Неаполитанец работал в лавочке на улице Анча де Сан-Бернардо и был любимым приказчиком хозяина. Если хозяин, вешая ветчину, клал на весы толстую бумагу, Неаполитанец ухитрялся подсунуть две, притом еще толще.
— И ведь магазин-то не твой. Ну и хапуга ты уродился, — смеялся Антон.
Пока Неаполитанец и Рыбка смотрели в окно на улицу, Хоакин поинтересовался у Антона насчет отца.
— Ему дали тридцать лет, как я и предполагал. Перевели теперь в Бургос. Он нам написал, просил прислать одеяло.
— А как он там?
— Совсем высох, можешь себе представить, но мы обратимся в Военный совет с просьбой пересмотреть дело.
— А как твоя мать?
— Сам знаешь, какая она упорная и настойчивая. Но больше всех старается сестра. Когда-нибудь она накличет на нас беду своими протестами.
— Ну так что? Сыграем партийку? — Неаполитанцу и Рыбке наскучило разглядывать улицу.
— Давай.
Антон, прежде чем начать игру, набелил мелом кий.
— Слышали о вчерашней заварухе в Комерсио? — спросил он. — Кто-то крикнул: «Да здравствует Республика!» — и такая кутерьма поднялась!
— У нас на заводе появились листовки, — сказал Хоакин.
— Да, сейчас все готово вспыхнуть, как порох. Так сказала одна клиентка моего дяди, а у нее муж военный, — заметил Рыбка.
Неаполитанец купил у лоточника сигарету из светлого табака и пускал колечки дыма.
— Я сторонник брюха и жратвы. Единственное, что я хочу, — это отпирать замки своей собственной лавочки. А на остальных мне плевать. Пускай сами выкручиваются как умеют. Мне никто никогда ничего не дает даром.
— Похоже, немцы начинают показывать зад.
— Напрасные надежды. Все они на один лад: и французы, и немцы, и американцы — все. Эти политиканы только и делают, что обжираются. Но хоть они и мерзавцы, зато видят далеко вперед, подальше, чем отсюда до Лимы.
Раздавались сухие удары кия по шарам. Из проема винтовой лестницы доносилась модная песенка.
Антон ухитрился положить подряд пять шаров. В углу бранились игроки в домино.
— Если бы ты не позволил отрубить шестерочного дупля, мы бы обязательно выиграли!
Рыбка сообщил, что мечтает уехать в Каракас.
— Отлично было бы туда смыться. В день можно выколотить до двадцати боливаров. Нам написал дядя, брат отца, он живет в тех краях. Уверяет, что, если есть работа, можно прилично жить.
— Один боливар равен двум дуро, а то и больше, — заметил Антон.
Неаполитанец глубоко затянулся.
— Ну и ну! — воскликнул он. — Все время болтаете только про Испанию и сами же хотите убежать отсюда. Шут вас разберет.
— Пойми, Неаполитанец. Многие покинули страну после того, как напрасно искали повсюду работу. Не надейся я на лучшие времена, я тоже уехал бы. Но я надеюсь. Думаю, у нас еще могут быть перемены. Только поэтому я пока не уезжаю, — сказал Хоакин.
— Ты, парень, — сказал Рыбка, обращаясь к Неаполитанцу, — малявка по сравнению со мной, а корчишь из себя важную птицу. И все только потому, что зашибаешь несколько дуро на спекуляциях со своим хозяином. А моя родина вот где! — Рыбка схватил себя за пах. — И если я уеду, то для того, чтобы обязательно вернуться. Испания для меня, как это самое, — сказал он, снова берясь за пах, а потом дотрагиваясь до сердца. — Я люблю смотреть, как встает солнце за переулком Аламильо, промышлять рыбу, чесать языком с девчонками…
Неаполитанец затянулся, окурок обжег ему кончики пальцев, и он отшвырнул его.
— Все это романтическая брехня, твои выдумки…
Неаполитанец порой сильно надоедал Хоакину.
— Неважно, что думаешь ты, что думаю я или Рыбка. Важно то, что происходит в Испании. Значит, здесь что-то не так, если столько людей хотят покинуть страну. Если уезжают рабочие, кто же будет работать, создавать богатства… — Хоакин обернулся и посмотрел на Антона. — Верно?
— Верно, — ответил Антон.
— Нет, ребята, это не моя молитва, — сказал Неаполитанец.
Все замолчали и продолжали игру. Некоторое время слышались лишь короткие сухие удары бильярдных шаров.
— Вы выиграли, уж больно метко бьете, — пошутил Антон.
— Антон, дай мне твоих закурить.
— Ты попрошайничаешь почище монаха. На, бери. — Антон протянул Неаполитанцу свой портсигар.
— Знаете, кого я видел вчера разгуливающей по Каррансе?
— А кто тебя знает!
— Компаньоночку, что живет в доме Антона. Ну, краля! — Неаполитанец, говоря о женщинах, причмокивал, будто сосал конфетку.
— Ох, и люблю я таких бабенок, кругленьких и полненьких.
— Ее зовут Франсиска, она почти что гулящая. Крутит с кэпом из Интендантства. Он таскает ей пакеты с едой.
— Ну, так вчера я видал ее ни с каким ни с кэпом, а с фалангистом, из тех, что вернулись с Голубой дивизией.
— Когда денег куры не клюют, можно с любым гулять.
— Зато она неотразима.
— Этого никто не отрицает.
Они снова замолчали. В окно с улицы доносился шум.
— А почему бы нам не прошвырнуться в кино «Чуэка»?
— Да потому, что это дешевая киношка и там всегда полно народу. А у меня нет никакого желания торчать в очереди. Хватит с меня той, что я выстоял вчера за дровами. Пошел с мамашей, чтобы помочь ей, и проторчали там весь день. Я предпочитаю махнуть на танцы с девчонками из красильни, — сказал Антон, обращаясь к Хоакину.
Когда они вышли на улицу, было уже шесть часов вечера. Радиола в кафе прощалась с ними той же песенкой, какой и встречала:
Он ласкает меня очень жарко и целует меня взасос, чем доводит порою до слез.— Поедем на метро или трамваем?
— Трамваем.
Переполненный трамвай не остановился на остановке. Названивая изо всех сил, вожатый прибавил скорости.
— Давай догоним, а?
— Давай!
Они бросились за вагоном. Рыбка, ухватившись за веревку, пригнул дугу и отвел ее от проводов. Трамвай остановился. Пока кондуктор прилаживал дугу к проводу, четверо друзей повисли на подножке.
Трамвай скрипел и скрежетал, словно немазаная телега. Пассажиры ехали, облепив гроздями бока вагона и задний буфер.
На ближайшей остановке трамвай затормозил. Полицейские, следившие за порядком, сняли зайцев, прицепившихся к вагону.
— Явились члены профсоюза резиновой дубинки, — процедил Неаполитанец, намекая на полицейских.
— Вот съездят тебя такой дубинкой по башке, узнаешь, какая она резиновая, — ответил Хоакин.
Трамвай рванулся с места, и скоро друзья добрались до Куатро Каминос. На площади царило воскресное оживление. Юноши и девушки толпились в центре площади, под часами с четырьмя циферблатами. Белые трамваи, ходившие по маршруту Пенья Гранде, Фуэнкарраль и Дееса де ла Вилья, стояли по другую сторону площади. У входа в метро несколько женщин торговали хлебом. Покупатели щупали буханки, чтобы выбрать побольше и попышней. Здесь же продавали табак.
Торговцы и спекулянты, казалось, обладали шестым чувством, позволявшим им угадывать появление гражданских гвардейцев и полицейских. Стоило лишь какому-либо мундиру показаться на площади, как женщины гут же прятали свой товар под передники.
На тротуаре между улицами Браво Мурильо и бульваром Королевы Виктории возвышались ряды лавочек. Здесь торговали подсолнечными семечками, миндалем, инжиром, земляными орешками, омлетом из яичного порошка, жареным бониато, пирогами из рожковой муки и сушеными каштанами.
Рыбка купил себе жареный бониато, Хоакин — сто граммов миндаля, Антон и Неаполитанец — у них было мало денег — подсолнечных семечек.
На фасаде дома, подле которого стояла лавочка, висели афиши кинотеатров «Метрополитано» и «Монтиха». Здесь же красовались и пропагандистские плакаты:
НИ ОДИН ОЧАГ БЕЗ ОГНЯ, НИ ОДИН ИСПАНЕЦ БЕЗ ХЛЕБА
— Куда пойдем? В Фуэнкарраль за дынями или танцевать под мостом?
— Ты, Неаполитанец, настоящий обжора. Только и думаешь, где бы пожрать. Мы пойдем на мост к красильням, как условились.
Они прошли по бульвару Королевы Виктории. Из кафе доносились звуки радио. Диктор сообщал о футбольных состязаниях. «Атлетико Авиасьон» выигрывал на своем поле, встреча команд Барселоны и Мадрида пока шла с ничейным результатом.
— В воскресенье «Атлетико» тоже ни за что не забьет гола Мадриду, — уверял Рыбка.
Неаполитанец обернулся, чтобы отпустить комплимент проходившей мимо полной женщине. Он упер руки в бока и наклонился вперед:
— Послушай, чернушка, своей походкой ты уложишь больше мужчин, чем Мачакито из своего пистолета.
За госпиталем св. Иосифа и св. Аделы они свернули направо и побрели по шоссе, выходившему на небольшой пустырь в предместье. Из окрестных харчевен доносилась танцевальная музыка. У дверей заведений группками стояли юноши и девушки.
Сойдя с шоссе, они зашагали по песчаной улочке, спускавшейся к мосту Аманиэль.
* * *
Над жалкими лачугами гордо возвышались арки моста Аманиэль. В огородах, примыкавших к Каналильо де Лосойя, огородники ковыряли мотыгами землю. В закусочной у моста танцы еще не начались. Парни и девушки дожидались во дворе. Музыканты — старик аккордеонист и два игрока на бандуррии — терпеливо сидели за столиком в углу двора. Попивая винцо, они беседовали с хозяином заведения. Инструменты их висели на спинках стульев.
Таверна Хесуса была своего рода клубом болельщиков «Аманиэля». Здесь собирались приверженцы любимой команды — праздновать ее успехи. Стены заведения были увешаны фотографиями футболистов, вымпелами и флажками, а также фотографиями артистов кино. На полках у стойки красовались кубки и другие трофеи, завоеванные футбольным клубом «Аманиэль».
Самыми заядлыми любителями танцев были девушки из красильни. Девушки — так по крайней мере они уверяли сами — с нетерпением ожидали наступления воскресного вечера, чтобы, нарядившись в праздничное (менее потертое, чем обычно) платье, подцепить какого-нибудь молодого или старого мужчину (уж как кому повезет) и закружиться в танце.
Девушки к месту и не к месту распевали хором рекламное объявление, расхваливающее продукцию красильни.
Не дает пятен! Яркий колорит! Новый краситель в воде не линяет, в огне не горит!В воде не линяли и в огне не горели, разумеется, не столько краски, сколько сами девушки.
Они усаживались на металлических стульчиках во дворе таверны у оштукатуренной стены и грелись в последних лучах заходящего солнца. Из-под арок моста выглядывал красный диск, спускавшийся за Каса де Кампо.
Девушки из красильни, завидев четверых друзей, немного всполошились. Одна из них повернулась к подружке.
— Кармен, прикройся. Растопырилась, точно фото делать собираешься.
Девушка, к которой относилось это замечание, оправила юбку и подобрала ноги. Но коленки ее продолжали торчать наружу: она носила короткую, по моде, юбку.
— Как поживаете, ребята?
— Хорошо! Сами, что ли, не видите?!
Рыбка, подняв полы пиджака, прошелся петухом перед девушками. На его брюках сзади красовалась заплата.
— Да брось форсить. Ты что, Льеан Арло, что так выпендриваешься?
Кармен с трудом произносила букву «л».
— Льеан не Льеан, но сложен я на славу.
— Ладно. Почему не танцуете? — спросил Хоакин.
— Наверно, оркестр вас не заметил, — съязвила одна из девушек.
Четверо друзей поздоровались с хозяином таверны и вошли внутрь. Облокотились о стойку.
— Четыре красного, — заказал Антон.
— Перед танцулькой всегда хорошо прогреться изнутри, тогда из тебя словечки прут, как из проповедника, — сказал Неаполитанец, одним махом опрокидывая в рот стакан вина.
* * *
В углу таверны играли в карты солдаты. На столе перед ними стояла бутылка белого вина, и они то и дело прикладывались к ней.
— Как только демобилизуют, сразу смотаюсь в деревню. Ох, и наверну я краюху хлеба с салом, так, чтобы за ушами трещало.
— Я тоже поеду. В Мадриде ничего, но все же паршиво, когда в кармане ни шиша. У родителей разве попросишь? У них у самих туго. Мой старикан батрачит, у нас своей земли нету! — заметил другой солдат.
Прихлебывая из стакана, Хоакин смотрел на прямоугольник света в проеме двери. Заиграла музыка, и девушки пошли танцевать друг с дружкой. Проплывая мимо двери, они строили ребятам рожицы и кричали:
— Эй вы, рохли!
Хозяин таверны доставал воду из колодца в углу двора: он поливал землю, чтобы прибить пыль. Это был сильный, широкоплечий, с могучими руками мужчина.
— Он бывший боксер. Участвовал в состязаниях на стадионе Г аса.
— Какой он боксер! Его только дубасили по морде.
— Верно, он был «грушей», — пояснил Неаполитанец.
Солдаты продолжали неторопливо беседовать.
— Мне только два раза морду набили, — говорил один.
— Тогда никто не хотел идти добровольно, вот и стали вербовать в Голубую дивизию.
Неаполитанец мурлыкал песенку.
— Давайте купим пачку «Буби» на четверых? — предложил он друзьям.
— Тебе, видно, вино ударило в голову. Пачку «Буби»!.. А «вырви глаз» не хочешь? Сразу протрезвеешь. Мы что, магнаты, чтобы курить светлый табачок?
Девушки продолжали танцевать одни, без парней.
— Ну что? Прошвырнемся чуток с бабами, — сказал Рыбка.
— Пошли.
Музыканты играли пасодобль. Хоакин и Антон, выйдя во двор, разлучили Кармен с девушкой, с которой она танцевала.
— Привет, — сказал Хоакин девушке.
— Привет, — ответила она.
— Я что-то тебя не знаю, ты, наверно, тут первый раз?
— Да.
— А как тебя зовут?
— Меня зовут Пепита.
— Угу.
— А ты Хоакин, верно?
— Да. А ты откуда знаешь?
— Да уж знаю. Подружки сказали.
— Ты работаешь в красильне?
— Нет, в пекарне, на раздаче.
— Ну, при нынешней голодухе у тебя, наверно, полно женихов. Такое место — золотое дно, — пошутил Хоакин.
— Нет у меня никаких женихов. А ты кем работаешь?
— Токарем на заводе, а вечером хожу в школу.
— Ух ты! — воскликнула девушка. — Студенты — самые отпетые хулиганы.
— Никакие не хулиганы, просто мы любим хорошеньких, таких, как ты, например, — галантно заметил Хоакин.
Антон танцевал с Кармен. Подняв голову и устремив взор в одну точку, он не опускал глаз, пока не прекращалась музыка.
— Ты что танцуешь, как деревяшка, слезай с облаков. Небось не в раю с праведниками!
— Я немного задумался, — отвечал юноша.
— Над чем? Уж не над таинством ли воплощения? Ладно, хватит думать, давай лучше расскажи что-нибудь. Видал вон, как Хоакин с Пепитой? Норовят улизнуть в темноту, а ведь только познакомились.
Сгущались сумерки. С ближайших полей доносился шум ветра. Вечернего ветра, который тихо колыхал бумажные колокольчики и китайские фонарики, развешанные на проволоке. Проволока эта тянулась от навеса над входом до ограды таверны. Хозяин зажег свет.
— Отодвинься немножко, от тебя пахнет вином.
Рыбка был неизлечим. Если уж он обнимал девушку, ничто не могло его оторвать от подружки. Он прижимался изо всех сил.
— Я только три стаканчика красного выпил.
— Да, три стаканчика. С тех пор как ты заделался «рыбаком», такую «мерлузу» таскаешь домой, что даже моя мамаша не отказалась бы.
— Не будь недотрогой, детка.
— Я недотрога?!.. — Девушка рассвирепела. — Ох, уж эти мне дураки да пьянчуги. Все на один лад: руки распускать только и умеют.
— Не сердись, Луиси. Ты же знаешь, я люблю тебя больше, чем рисовую кашу с молоком. Просто от тебя меня развозит.
Девушка, отстранясь от Рыбки, засмеялась.
— Рыбка, — сказала она, — да ты просто нахал. И не растешь-то из-за своего плутовства. — И тут же добавила: — А теперь угости меня чем-нибудь.
— Все, что ни пожелаешь, моя прелесть. Давай пригласим остальных.
Неаполитанец, танцуя, прищелкивал языком.
— Он, наверно, с Эухенией. Она порхает почище ласточки, — сказал Хоакин. — Пошел ее разыскивать.
— Эухения любовь хочет крутить, знаешь, какая она горячая да заводная. Ты никогда с ней не танцевал? Вся будто из желатина, так и трясет грудями, — рассказывал Рыбка.
Четыре парочки уселись в глубине таверны за столик. Зал был пуст, все танцевали или смотрели, как развлекаются другие.
— Принесите нам салату и бутылку красного, — заказал Неаполитанец хозяину таверны.
— И бутылочку газированной, — добавила одна из девушек.
— Салат подать с огурцами?
— Давайте.
— И с зелеными оливками?
— Ладно.
— А хлеба сколько?
Антон сосчитал присутствующих глазами.
— Нас восемь человек. Четыре булочки хватит вполне.
Потом обернулся к девушкам:
— Хотите еще чего-нибудь?
Он держал руку в кармане, считая деньги. «Всего двенадцать песет, хоть бы больше ничего не попросили», — подумал он.
— Закажи еще один «ролс-ройс», — пошутила Эухения.
Деревянный столик был сплошь завален скорлупой арахисовых орехов. Хозяин таверны прислуживал без куртки, прямо в рубашке с закатанными рукавами; на ногах у него были арагонские альпаргаты. Выхватив из-под мышки тряпку, он обмахнул стол и табуреты и перекинул тряпку через плечо.
— Приготовь одну красного и одну газированной! — крикнул он буфетчику.
Неаполитанец тихонько переговаривался со своей девушкой.
— Да успокойся ты хоть на минутку, Эухения. Не нервируй меня.
Хоакин, наполняя стаканы, пролил немного вина на стол. Вино побежало извилистой струйкой и растеклось на полу алой лужицей.
— К счастью! К счастью!
Кармен обмакнула кончики пальцев в вино и дотронулась до лба, потом потрогала всех остальных.
— Это приносит счастье, — пояснила она.
За ужином все шутили. Хоакин, наклонившись к Пените, спросил:
— А где ты работаешь?
— На Франко Родригес, я кончаю в восемь.
— Как-нибудь зайду за тобой, пойдем прогуляемся, если, конечно, хочешь, — добавил он.
— Наша пекарня покрашена желтой краской, она рядом с Эстречо.
— A-а, знаю этот дом.
Они замолчали и смотрели друг на друга.
— Который сейчас час? — спросила Кармен.
Антон посмотрел на часы.
— Десять минут одиннадцатого.
— Как быстро проходят воскресные вечера! В обычные дни время так тянется, будто никогда не кончится, час годом кажется. А теперь жди, когда наступит следующее воскресенье, ох, и надоела мне такая житуха. Всю неделю только и думаешь, что будешь делать в праздники, и…
Пепита горестно махнула рукой. Воскресный вечер безвозвратно проходил. В небе над двором таверны зажигались звезды.
— Что, уходим?
— Как хотите.
Хозяин таверны подбил итог на счетах.
— Четыре песеты за помидоры, пять за салат, пять за оливки, три за огурцы, двенадцать — хлеб, четыре за вино и три с полтиной за газированную воду.
— Платим в складчину. — Антон выложил на стол свои двенадцать песет.
— Тридцать шесть с половиной, — сказал официант.
— Да у вас меньше денег, чем у голого, — рассмеялась Эухения.
Они вышли на улицу Альманса, чтобы оттуда пройти до Куатро Каминос. Впереди шагали Кармен, Пепита, Антон и Хоакин. Следом за ними — Эухения с Неаполитанцем. Рыбка и Луиси остались на танцах. Рыбка встретил в таверне своего дружка солдата, служившего в Гранаде.
— Паршивые настали времена. Каждый день нас беспокоят партизаны.
Неаполитанец и Эухения отстали. Неаполитанец обнимал девушку за талию. Скоро они затерялись в темноте.
Девушки жили на улице Браво Мурильо, почти совсем рядом с метро «Альварадо». Они попрощались у подъезда.
— Тебе понравился Хоакин?
— Еще бы…
— Хоакин очень красивый парень.
— Да, конечно. Он сказал, что как-нибудь зайдет за мной. Антон тоже очень хороший, — сказала Пепита, чтобы не огорчать подружку.
— Больно он серьезный, точно полицейский.
Девушки довольные рассмеялись.
— До завтра, Пепита.
— Пока, Кармен.
В ночном небе сверкали и искрились рекламы. Желтые огни автомобильных фар скользили по мостовой. Несколько рабочих семей возвращались из Дееса де ла Вильи[14]. Женщины останавливались у витрин магазинов, обдумывая, что купить на обед в понедельник. Из таверн выходили пьяные, одни по виду рабочие, другие явно нищие.
На нескольких грузовиках спускались с гор фалангисты из Молодежного фронта. Они орали патриотические песни и размахивали разноцветными беретами.
— Ну, что станем делать, Антон? Поедем на метро или лучше купим пару сигарет? У меня осталась всего одна песета.
— Пошли пешком. Ночь отличная, а курить я тоже хочу.
У входа в метро они купили две сигары из мелкого табака. Торговка примостилась на последней ступеньке туннеля. На руках у нее спал ребенок. Папиросную бумагу они попросили у паренька, который вышел из метро.
— Огоньку тоже нужно? — предложил он.
— Нет, спасибо. Спички у нас есть.
По тротуару зигзагами шел пьяный и пел:
А у горбуна, а у горбуна и тут и там торчит спина!— Видал, Антон? По всему судя, рабочий. Часто я спрашиваю себя, а не горстка ли нас, не ведем ли мы разговоры только между собой, четырьмя друзьями. Думаешь, с ними что-нибудь можно сделать? А ведь таких, как он, полно.
— Нет, Хоакин. Здесь дело не только в отсутствии сознания. Надо смотреть в корень вещей. У нас в стране слишком круто завернули гайки. И особенно достается рабочему классу. Одно дело терпеть, а другое — действовать. Когда люди начинают действовать, они не думают о пьянстве. С людьми происходит то же, что со сталью, — ты знаешь это лучше меня. У одних одна закалка, у других другая, но все же чему-то она служит.
— Да, друг, верно. Но мне очень туго приходится. На свой заработок я прожить не могу, рубашки, что на мне, старые, отцовские.
— Ты думаешь, другим легче?
— Прости, я совсем забыл про твоего отца.
— Мой отец утверждал, что, даже делая два шага вперед и один назад, можно многого достичь.
— Ничего, еще наступят другие времена, — сказал Хоакин.
— Ты сегодня весь вечер не отходил от Пепиты.
— Она очень славная девушка, да и танцует хорошо.
— Ага.
Они переходили улицу Раймундо Фернандеса Вильяверде. На противоположном тротуаре два гражданских гвардейца потребовали предъявить документы. Проверив документы, гвардейцы разрешили им продолжать путь.
— Что-то случилось. Вот уже несколько ночей подряд по всему Мадриду проверяют документы, особенно в предместьях. А на днях, когда мы стояли у школы, нас разогнали.
— Что поделаешь! Страх, кругом один страх. Немцы терпят поражение. Им приходится туго на русском фронте.
— На заводе говорили об этом.
— Я раньше ходил в английское посольство за бюллетенем новостей. Но теперь не очень-то походишь, — сказал Антон.
— Да, что-то происходит, ты прав. Заметил, привратники больше не вопят во дворе. Похоже, язык прикусили.
Друзья проходили мимо церкви Богоматери Ангелов. На паперти прощались влюбленные.
— А знаешь, Хоакин, меня провалили на экзамене по истории религии. Священнику взбрело в голову спросить, кто такой был Пелагий.
— Понятия не имею.
— Был такой епископ-еретик. Потом я посмотрел в учебнике. По политике получил хорошую оценку. Без запинки отбарабанил двадцать три пункта устава фаланги.
— А разве их не двадцать четыре?
— Нет, двадцать шесть.
Они молча продолжали путь. Придя домой, Хоакин освежил голову под краном в кухне. Мария оставила ему на плите тарелку чесночного супа и немного жареной рыбы. Он с аппетитом поужинал, потом порылся в карманах отцовской формы в поисках курева.
* * *
Несколько месяцев спустя, когда Хоакину исполнился двадцать один год, его призвали в армию. Оформление новобранцев во дворе казармы Марин Кристины длилось все утро.
— В какую казарму нас пошлют? — спросил Хоакин старого служаку, которого пригласил в погребок пропустить несколько рюмочек.
— В казарму Монклоа.
В погребке набилось полно солдат. Одни резались в карты, другие пили вино, навалясь на стойку.
— И как там?
— Казарма всегда казарма, приятель. Заплатишь еще за рюмочку? Я без гроша. На то, что Испания платит своим солдатам, можно купить два стаканчика вина или одну почтовую марку.
— Я угощу тебя.
— Вот это хорошо, парень. Побудешь немного в армии — станешь таким же нахальным, как я. У тебя есть закурить?
— Да.
— Я расскажу тебе, что такое казарма. День твой начинается с зари, потом учения, шамовка, прогулка и отбой. Можешь отправляться спать. В твои обязанности входит стирать белье, драить до блеска сапоги, подсумок, портупею. Ты должен приветствовать всех: капрала, сержанта, старшину, альфереса, лейтенанта, капитана, майора, подполковника, полковника и генерала. Кроме этого, должен уметь чистить картошку, подметать казарму и двор. А также драить пол в казарме, чистить нужники, ходить, выпятив грудь вперед, стоять по стойке «смирно» и есть глазами начальство. На учениях руки у тебя закоченеют от холода. Тебя будут обзывать ослом и недотепой, пока ты не обучишься шагистике и не выучишь все ружейные приемы. В столовой тебе преподадут теорию. Офицер усядется за отдельный стол, а вы — на скамьях. Вы осточертеете офицеру, но он все равно не перестанет вас обучать. Сержант (вам, как пить дать, попадется «г…дёр») будет ходить между скамьями, внимая каждому слову офицера, и, если понадобится, учить вас уму-разуму с помощью кулака. Вас станут спрашивать, как зовут нашего главу государства, вдолбят в башку имена военного министра, командира полка, его заместителя, подполковника, капитана, командира роты, лейтенанта, сержанта. Заставят вызубрить уставы и наставления, обучат разбирать и собирать винтовку так, чтобы вы запомнили каждую деталь. Маузер образца тысяча восемьсот семидесятого года, девятого калибра состоит из: магазина, ложа, приклада, затвора… На стрельбах дюжину раз пальнешь холостыми патронами. Потом примешь присягу перед знаменем на плацу. Припрутся все офицеры со своими женами. Священник отбарабанит мессу и прочитает вам проповедь. Забьют барабаны, заиграют фанфары, ты вытянешься в струнку, и прозвучит национальный гимн. Полковник примет у вас присягу и скажет: «Новобранец, вот твое знамя! Клянись богом и твоей честью защищать этот символ родины». И вы все заорете: «Клянусь!» Но прежде вас раз двадцать заставят прорепетировать все это во дворе казармы. Потом вы промаршируете перед знаменем. Каждый приблизится к знамени, возьмет за край одной рукой — в другой будет держать винтовку — и поцелует. Потом полковник снова толкнет речугу: «Солдаты! Родина — она как мать, надо любить ее, как мать! И быть готовым защищать ее и слушаться, как мать! Скажу больше, ибо…» С этих пор тебя могут поставить на часах в казарме или в тюрьме. Ты уже настоящий солдат, и тебя могут посылать в наряды на кухню, в роту или сажать на губу. Кроме того, тебя могут поставить под ружье, оболванить под нулевку и лишить увольнительной. Если ты совершишь серьезный проступок, тебя могут упечь в военную тюрьму или увеличат срок службы на несколько месяцев, а то и на годы. Если ты невезучий и тебе придется участвовать в маневрах, ты научишься перепрыгивать через рвы, перелезать через стены, бросаться на землю и стрелять по первому сигналу. Обучишься ползать по-пластунски и питаться сухим пайком. Будешь спать под открытым небом, и казарма покажется тебе родным домом. А нашагаешься побольше, чем гражданский гвардеец за цыганами. И скоро тебе покажется, будто мать родила тебя на свет прямо в форме и что окружающие тебя солдаты твои друзья с детства и других ты и знать не знал. Ты узнаешь, что офицер самое важное лицо на свете, важнее твоего отца и матери. А родителей ты почти и не увидишь, их пустят только однажды в актовый зал. В остальном сможешь жить прилично, если поладишь с сержантом. То есть если будешь подчиняться ему беспрекословно, дарить сигареты и хихикать над его шуточками. Капеллан замучает вас проповедями. Будет втолковывать, что бог един, но троицен в лицах, что подчинение начальству не только солдатская доблесть, но и христианская добродетель. Причащаться вы будете один раз в год, на пасху, и вам выдадут фотокарточку на память. В день непорочного зачатия девы Марии, покровительницы пехоты, вам дадут праздничный паек и на курево сигару. В этот день, говорят, делай что хочешь, все равно не арестуют, а если сидишь на губе, то выпустят. Приезжают офицерские семьи, служат торжественную мессу, устраивают игры — бег в мешках — и дают билеты в кино. Можешь напиться. В этот день все пьяны. В году еще бывает четыре-пять дней, когда дают праздничный паек и сигару. В воскресенье строем отправитесь к мессе. Жратва будет получше и увольнение подольше. В воскресенье, если есть гроши, махнешь к шлюхам или смотаешься на первый сеанс в кино. Можешь пропустить стаканчик в таверне и немного попеть. Если денег нет или кот наплакал, валяй на берег Мансанареса танцевать с молоденькими служанками. Некоторым с ними везет, тогда обеспечишь себе шамовку и можешь полапать чуток. Еще, если денег нет, можешь прошвырнуться в «Очаг солдата», сыграть партийку в шашки и попросить в долг рюмочку. Летом имеешь две недели отпускных и на рождество дней шесть-семь. И так, пока не демобилизуешься. Да! Совсем забыл! На футбол и в другие места платишь половину стоимости.
Старый служака смотрел на Хоакина. Со двора доносились голоса новобранцев.
— Ты из Мадрида?
— Да, — ответил Хоакин.
— Кто из деревни, тем хуже, чем городским. Мы, мадридцы, можем с субботы до понедельника бывать дома. А это в армии много значит. Можешь чуток потешить свое пузо.
— Выпьешь еще рюмочку? — предложил Хоакин ветерану.
— Последнюю, и пошли. Сержант, наверное, уже психует, надо идти в казарму. Ты еще с ним познакомишься. Мы прозвали его «г…дёром», ох, и свинья же он.
— Смешное прозвище. А почему вы его так прозвали?
— Да потому что он г… и вдобавок у него веко дергается. Ладно, пей и пошли. Я тебе помогу в казарме. Опыт — великая штука. Меня зовут Лопес.
— А меня Хоакин.
Они вышли во двор, сержант построил их в колонну по двое и повел. Новобранцы тащили свои чемоданы на плече. Деревенские рассматривали дома, трамваи и машины. Они смеялись и пели.
— Когда бы нам пришлось побывать в Мадриде, коли не армия? — сказал один из них громко.
У входа в казарму прохаживался солдат с ружьем на плече. Дежурный офицер, опираясь на саблю, лениво оглядывал деревья во дворе. В актовом зале солдаты играли в кости.
* * *
Ауреа оставила свое старое заведение и перебралась уборщицей в лавочку, торгующую гольем на улице Толедо. Новый хозяин увивался за нею. Звали его Гарсиа, и был он галисийцем.
Гарсиа рассказывал, что в ноябре тридцать третьего года он голосовал за Хиля Роблеса[15] и вместе с активистами СЕДА вел предвыборную пропаганду в рабочих кварталах.
— Мы давали матрац и дуро в придачу за каждый голос, — говорил он смеясь.
Во время гражданской войны он жил в Мадриде.
— Каждую ночь я слушал радио Бургоса. Поэтому-то и был в курсе дел: наперед знал, какие деньги будут иметь хождение, когда Франко вступит в Мадрид.
В его кабинете висели портреты Франко и Хосе Антонио[16]. Он купил их еще давно, когда торговцы лезли вон из кожи, соревнуясь, кто повесит самый большой или самый красивый портрет вождя. Люди поговаривали, что многие бесстыжие коммерсанты нагрели руки и сколотили капиталец от продажи этих портретов; ведь, чтобы прослыть добрым патриотом, надо было выставить напоказ портреты спасителей родины.
Гарсиа страшно гордился тем, что родился в Эль Ферроле. Если какой-нибудь покупатель, зная слабую струнку торговца требухой, начинал подтрунивать над Галисией или галисийцами, Г арсиа бросал работу и, вытирая руки о передник, важно замечал:
— А вам известна история страны? Галисийцы всегда были или ночными сторожами, или министрами. Мы с Франко земляки.
Жена торговца требухой была старше его. Звали ее донья Росарио, и была она низенькая и квадратненькая, с побитым оспой лицом.
Плоть Г арсиа, вероятно, требовала чего-то более привлекательного, нежели его жена, на которую он не обращал никакого внимания. Вот почему руки его так и сновали, когда в лавочке появлялись женщины.
Он был владельцем участка земли недалеко от площади Антона Мартина и мечтал построить дом из четырех квартир. Этим-то он и очаровал Ауреа. Во время одного из своих любовных приступов он обещал ей квартиру. Она в благодарность за обещание позволяла любить себя в задних комнатах лавки, когда доньи Росарио не оказывалось поблизости.
Ауреа мыла полы в лавке, протирала вывеску и мраморный прилавок. Особенное отвращение вызывало у нее мытье прилавка. Мраморные плиты всегда были забрызганы кровью и жиром, сочащимся из печени, ливера, потрохов и прочей требухи, раскиданной по прилавку.
В ее обязанности также входила стирка фартуков, которые носил Гарсиа. Торговец требухой, раз в неделю отдавая в стирку фартуки, тайком от жены заворачивал в них кусок-другой спекшейся бараньей крови, чтобы Ауреа могла полакомиться дома.
У владельцев гольевой лавки была дочь Милагритос, состоявшая в браке со служащим налогового управления. Гарсиа всякий раз, когда на него накладывали штраф, отправлялся к зятю за содействием. Зять делал что мог, и Гарсиа в благодарность одаривал его бараньими мозгами и двумя-тремя кругами колбасы.
Служащий налогового управления и Милагритос обосновались в гостинице «Колония Метрополитена» вблизи Гастамбиде. Ауреа рвала и метала, когда Гарсиа поручал ей отнести им подарки. Дочка лавочника корчила из себя важную сеньору.
— Не пойму, на что вы все только жалуетесь? Никогда в Испании еще не было такого благосостояния и порядка.
Ауреа со всем соглашалась, но про себя поносила Милагритос почем зря. Настроение ее портилось, и, придя домой, она вымещала злобу на Антонии.
— Ну и белоручка народилась! Воротит нос, видите ли, от грязного белья! Хоть лопни, а будешь стирать фартуки! Не я буду, если не выстираешь! — ругалась разъяренная Ауреа.
Антония, плача и едва сдерживая тошноту, разворачивала сверток и вываливала содержимое в грязную лохань.
— Тетя, правда, я не могу, — умоляла она. — Вели все, что угодно, только не это.
Ауреа любила племянницу на свой лад. Иногда, когда была в хорошем настроении, она брала Антонию под руку и отправлялась с ней в «Салон Дианы» на площадь Альвареса де Кастро показать племяннице спектакль.
— Ладно, оставь эти фартуки и иди приготовь обед. Порежь немного лука и положи крови в кастрюлю.
Окно в кухне было открыто, и со двора доносился гул женских голосов. Слышались разухабистые песенки и крики мужчин, требующих от жен поскорее накормить их обедом.
— Когда режешь лук, положи на голову луковую шелуху, тогда глаза слезиться не будут, — советовала Мария.
Ауреа, помешивая ложкой бобы в горшке, рассказывала Марии и Антонии, что с ней приключилось, когда она возвращалась из Гастамбиде от дочки хозяина.
— Случилось это чуть подальше футбольного поля, где сейчас строят дом. Бегут двое мужчин, а за ними гвардейцы, преследуют. Открыли стрельбу, и оба беглеца скрылись на стройке. Я помертвела от страха, чуть в штаны не напустила, спряталась в подъезде. Гвардейцы кричат рабочим, чтобы задержали беглецов, но каменщики и ухом не ведут…
Матиас и Хоакин — была суббота, и Хоакина отпустили из казармы домой — дожидались в столовой, когда Мария принесет им поесть. Услышав рассказ жилички, они пришли в кухню и остановились в дверях.
— Их поймали? — спросил Хоакин.
— Нет, где там. Гвардейцы забрались на дом и тут же спустились. А потом побежали к пустырям возле Университетского городка.
— Боюсь я таких вещей.
— А кто их не боится? — возразил Матиас. — В таких делах не пил, не ел и ни с того ни с сего за решетку сел.
— Уж мне-то не рассказывайте, — сказала Ауреа. — Я так перепугалась.
Повернувшись к Матиасу, она нечаянно задела рукой за горячий горшок.
— Боже мой!
Горшок упал и раскололся. Бобы растеклись по полу кухни в красной луже из перцовой подливки.
— Антония! Мария! Принесите что-нибудь, чтобы подтереть. Да не стойте вы как истуканы!
Мария, замешкавшись, не знала, что делать. Антония, опустившись на колени, фланелевой тряпкой начала подтирать лужу.
— Да не фланелью, дура! Неси ложку и кастрюлю. Думаешь, я выкину добро из-за того, что оно упало на пол? Ах ты проклятая! И ведь там был даже кусок сала. Помыть, и все в порядке, — закончила она, подняв голову и посмотрев на мужчин.
Тетка с племянницей, ползая на коленях, собирали с пола еду. Аккуратно, ложку за ложкой, складывали в кастрюлю.
Антония смотрела на Хоакина, смущенная и раздосадованная, с побледневшим лицом. Хоакин отвел глаза в сторону и вышел из кухни, бормоча ругательства.
В открытое окно доносился голос диктора и разговор соседей с верхнего этажа.
— Альфредо, — спрашивал женский голос. — Пожарить тебе яичницу или будешь есть котлеты?
В кухне все замерло. Словно здесь не осталось ни воздуха, ни даже самой жизни. Антония и Ауреа застыли с ложками в руках, устремив взоры на окно.
Антония поднялась на ноги. До Хоакина донесся ее крик, нечеловеческий, душераздирающий.
— Сволочи! Устроились! Распротак их отца и мать! Пошла бы и отхлестала эту сволочь!
Девушка продолжала кричать. Матиасу стало страшно.
— Не ругайся, детка. Он может навредить нам. Теперь такое время.
Жильцы из других квартир повысовывались в окна. Из проема в проем несся приглушенный вопрос:
— Что случилось? Что случилось?
— Замолчи, Антония. Криком не поможешь, — сказал Матиас.
Антония обернулась к нему. Она все еще держала ложку в руках. Глаза ее сверкали злобой и тоской. И она снова закричала:
— Пусть слышат! И вы слушайте, сеньор Матиас. Это вам надо помолчать. Вы только и умеете, что дубасить свою жену да вопить на футболе. Уж так теперь повелось в Испании!
Все снова погрузилось в тишину. Девушка остервенело грызла свою порцию хлеба, Мария по-прежнему хлопотала на кухне. Тетушка Ауреа не осмелилась вступить в перепалку; она мечтала о квартире, которую обещал ей Гарсиа. Матиас отправился на работу, ворча на баб, которые не умеют держать язык за зубами. Сеньора Аида фальцетом пела песенки в своей комнате.
У Хоакина, молча сидевшего в столовой, душа, что называется, разрывалась на части.
* * *
Прошло несколько месяцев. Жильцы в квартире Матиаса продолжали вести свою обычную жизнь. Матиас по-прежнему дрался с женой и угрожал, что бросит ее совсем. Хоакин стал уже бывалым солдатом. Он получал письма от Пепиты и от своего друга Энрике, товарища по заводу. Пепита, хотя и виделась с Хоакином иногда по воскресеньям, каждую неделю посылала ему два письма, в которых подробно описывала все события прошедших дней. Энрике рассказывал заводские новости. У Аугусто рука попала в резальный станок, и ему отхватило палец. Антонио, хотя и продолжал якшаться с попами, ни на шаг не отступал от товарищей в их борьбе за свои права. Произошли небольшие сдвиги в вопросе о сверхурочных часах. «Дела немного улучшаются, друг. Люди начинают просыпаться от спячки и поднимают голос. Мы еще потолкуем обо всем, когда вернешься на гражданку. Помни, нам с тобой есть о чем поговорить!»
Однажды вечером во время прогулки Хоакин подошел к своему дому. Лил дождь. Вода, клокоча, скатывалась с тротуара. Хоакин шел, подняв воротник шинели н засунув руки в карманы.
В столовой сидели отец и еще какой-то мужчина. Когда Хоакин вошел, отцовский приятель встал.
— Это твой сын?
— Да, — ответил Матиас, глядя на Хоакина. В его глазах проскальзывало и беспокойство, и раздражение.
— Да он у тебя настоящий мужчина.
Матиас поднялся со стула.
— Мы с Кесадой уезжаем в Барселону, — буркнул он.
Мария стояла рядом с Матиасом. Она жадно смотрела на пего, ловя каждое слово мужа.
— Ты уезжаешь и бросаешь нас на произвол судьбы, по-моему, это не по-мужски, — сказала она.
— А я считаю, что мужчина имеет право улучшать свою жизнь. Кесада тоже оставляет семью. И не о чем тут разговаривать! Еду, потому что хочется, и все!
— Вот-вот. Это единственный довод, какой у тебя есть. Тебе просто хочется. Так и скажи напрямик, без всякого обмана.
Кесада тоже поднялся. Видно было, что ему неприятен этот разговор.
— Это хорошее дело, сеньора Мария. Мы будем водить грузовики, — пояснил он.
— Да не суйся, ты, Маноло, — одернул его Матиас. — Она у меня в печенках сидит, сил нету, только и знает, что мешаться под ногами.
Хоакин скинул шинель. Он намеренно не желал вступать в спор.
— Отец, — сказал он. — Кесаду, хоть он и твой друг, вовсе не интересует наше грязное белье.
— Ты еще слишком молод, сынок, чтобы понимать некоторые вещи. Не будь дурнем и не лезь осуждать меня.
— Я не священник, чтобы прощать тебя и давать тебе отпущение грехов.
Матиас обернулся к жене.
— Не волнуйся! Пасынок тебя прокормит.
Мария плакала, забившись в угол. Кесада сказал какую-то шутку, чтобы замять возникшую неловкость, но никто не улыбнулся. Даже сам Кесада.
Хоакин подошел к окну и посмотрел на залитый дождем двор.
* * *
«Реал Мадрид» должен был выиграть матч, иначе его надежды па призовое место в чемпионате Национальной лиги были весьма проблематичными. Команда вот уже несколько воскресений подряд не оправдывала надежд, которые возлагали на нее болельщики. Когда одиннадцать футболистов выбежали на поле, трибуны встретили их оглушительным ревом.
«Реалу» по жребию досталась та часть поля, где ветер помогал игрокам. Двадцать два футболиста разминались на середине поля, пока арбитр не дал свистка к началу матча. Футболисты заняли свои места.
Хоакин, Антон, Рыбка и Неаполитанец, облокотясь на металлическую балюстраду, предвкушали интересную игру.
Рыбка завел разговор с каким-то болельщиком, своим соседом.
— Вот если бы выпустили Ипинью, совсем другое дело было бы. А этот чемодан и бегать-то не умеет. Уж вы мне не говорите, я это точно знаю.
— Послушай, Рыбка, похоже, ты в этом как-то заинтересован. Можно подумать, что завтра отменят продовольственные карточки, если выиграет Мадрид!
— При чем здесь моя заинтересованность, просто этот тип настоящий чемодан, и все.
— А я думаю, что футбол — это тоже политика, и всем здесь заправляют сверху. Хлеба и зрелищ, Хоакин, — сказал Антон.
— Ну конечно, что-то в этом роде есть.
Правый полусредний мадридского «Реала», словно приклеив мяч к носку бутсы, обвел двух-трех защитников команды соперников и сильно послал мяч в дальний от вратаря угол.
Флаги футбольных клубов первой лиги трепетали на ветру. Но стоило ветру стихнуть, и многоцветные полотнища лениво обвивались вокруг тонких флагштоков.
— Твой отец уехал, Хоакин?
— Не говори мне о нем. Укатил в Барселону. Не пишет и денег не шлет.
— Значит, не может. Сам знаешь, всюду сидят на бобах.
— Так-то так, но у нас дома не только сидят на бобах, но и затыкают ими друг дружке глотку. Я уже сыт по горло. Кроме того, мне не с кем поделиться своей бедой. Мачеха, как уехал отец, запила больше прежнего. У соседей свои неурядицы…
— У Антонии тоже?
— Нет, у Антонии все в порядке. Из нее, к счастью, выйдет хороший человек.
Левый крайний мадридцев проскочил между двумя защитниками противника, а полузащитник «Реала», обманув голкипера, ворвался с мячом в ворота. Люди на трибунах замахали платками. Хоакин ответил на вопрос Антона.
— Ты сам не заметишь, как попадешь в Университетскую милицию. Но там тебя угостят лишь подначками да оплеухами.
Неаполитанец сцепился с какой-то женщиной. Женщина утверждала, что он воспользовался теснотой, чтобы потискать ее.
— Вам это приснилось, сеньора. Я держу руки в карманах. А если вам не нравится, что вас толкают, так сидите себе дома.
— Я хожу куда хочу, парень, и не тебе мне указывать, а тем более трогать. Надо же, какой нахал!
Неаполитанец защищался.
— Но, сеньора, не рассказывайте байки, вы врете почище прессы.
Окружающим пришелся по вкусу намек Неаполитанца на прессу. В Мадриде ходили слухи, что одна из столичных газет состоит на службе у немецкого посольства.
Мужчина в темно-синем в полоску костюме, не сводя глаз с футбольного поля, потирал от удовольствия руки. Он попыхивал большой гаванской сигарой и время от времени вынимал ее изо рта, чтобы громко восклицать:
— Отлично, отлично. Похоже, дело идет на лад.
Хоакин вспомнил, что его отец тоже ярый футбольный болельщик. Наверное, там, в Барселоне, он не пропускает ни одного матча. Хоакину припомнилось, как в детстве отец приводил его на Кампо де лас Калаверас позагорать на солнышке и посмотреть на любительский футбол.
— Я уверен, у нас лучшая в Европе команда. А ну, скажите, где вы найдете таких крайних нападающих, как в команде Бильбао, и такого форварда, как Сарра?!
Мужчина в темно-синем костюме разговаривал с Антоном.
— А англичане…
— Да не говорите вздора, они ничего не могут поделать. Уверяю вас, я же читаю все газеты. Да что далеко ходить, во вчерашнем номере «Гола» их же обозреватель сам сознавался в этом.
Хоакин посмотрел на жестикулирующего сеньора. Невольно ему припомнился давний разговор с Энрике.
— Все статьи, вплоть до объявлений о смерти, подвергаются цензуре. Все равно, какую газету ни покупай, новости там из одного источника. К чему, ты думаешь, печатают столько статей о футболе? Чтобы задурить людей, забить им мозги, чтобы они ни о чем другом не помышляли.
— Безусловно, у нас отличная команда, — подтвердил Хоакин. — В этом нет никакого сомнения.
Наступил перерыв. Мадридская команда выигрывала со счетом два-один у севильской.
Бродячие торговцы громко предлагали свой товар.
— Кому газировки? — кричали они.
Болельщики пили прямо из горлышка и пускали бутылки вниз по ступенькам.
— Ты давно стоял на часах?
— Да только вчера.
— Смир-р-но!!
Караул четко, одним движением, вытянулся в струнку.
— Смена караула построена, господин лейтенант.
Офицер молча рассматривал солдат, ковыряя сапог кончиком сабли; на правом каблуке налип комок грязи.
— Ты поправь гимнастерку. А ты надень как следует пилотку. Пижонов в армии не держат!
Он снова внимательно оглядел солдат.
— Все в порядке, сержант. Можете ставить часовых у знамени.
Сержант обернулся к солдатам; офицер удалился.
— Пошли, ребята. И осторожней с офицером, он вредный, не хотел бы я, чтобы он к кому-нибудь из вас придрался.
Караульное помещение походило на темный свинарник с маленьким, забранным решеткой окошком, выходившим во двор. По стене в три этажа поднимались складные койки. Хоакин присел к столику с мраморной доской. Кончиком штыка он соскабливал со столешницы присохшие остатки пищи. У столика притулилось два-три стула. В углу высилась пирамида винтовок. Все кругом имело свой особый запах. «Такой запах сразу учуешь», — подумал Хоакин. Пахло солдатскими одеялами, сапогами, уставами, самими солдатами, сухим пайком. Этот запах стоял вчера, позавчера, и там, где сидел Хоакин, и в другом отделении.
— Капрал! — позвал кто-то из солдат. — А почему бы тебе не сходить на кухню за бутылочкой?
— Погоди чуток, еще рано пить.
— Может, для тебя и рано, а я в любое время горазд.
Хоакин все так же сидел за столом. Он перестал скоблить столешницу и закурил.
Капрал вернулся из кухни с бутылкой вина.
— Оставьте немного тем, кто в карауле, — напомнил он.
Бутылка переходила из рук в руки.
— Вчера был в Сан-Маркосе, увивался за Реми.
— Реми тебя за нос водит. Смотри не оплошай, не то она из тебя все соки вытянет.
— Вот услышит капеллан, влетит тебе.
— Что ж, по-твоему, нам профилактический пакетик дают, чтобы ходить в церковь?
Солдаты расхохотались. В дверях караульного помещения показался сержант.
— Чего разгоготались, так вас растак! — крикнул он, просовывая голову в дверь.
— Сержант, не хотите ли пропустить глоточек?
— Сейчас нет. Потом.
Хоакин снова взял бутылку; его мучила жажда, и он сделал большой глоток.
— Еще один такой глоток, и в бутылке ничего не останется. Hу и Хоакин, силен парень!
— Не хватит одной, возьмем другую, — отпарировал Хоакин, разваливаясь на нарах.
— Я, когда демобилизуюсь, ни за что в деревню не вернусь.
— А ты из каких краев, Трехмесячный?
— Из Кейпо де Льяно, мы с пойменных земель.
• — А где это?
— Под Севильей, капрал.
— Я тоже андалузец, из Уэльвы. Из местечка под названием Айямонте.
— Гак ты почти португалец.
— Никакой не португалец, чистый андалузец.
— А почему ты не хочешь туда возвращаться? Я так хоть сейчас готов.
Трехмесячный уселся на стол. Прозвище свое он получил за хилое телосложение.
— Тебя твоя мать, видно, носила не больше трех месяцев, — подтрунивали над ним солдаты, — вот ты и получился такой хиляк.
— У нас там только один рис и ничего больше. Места-то хорошие, да работы никакой, только и бывает, что в посевную да на сбор урожая. Вот тогда наезжает тьма-тьмущая народу со всех уголков Испании, галисийцы, саморцы, жители Куэнки и даже валенсийцы. И в один миг всю работу переделают. В это время надо успеть заработать на весь год. Но хоть из кожи лезь, а не заработаешь. А потом сидишь сложа руки и ждешь, когда господа позовут с собой охотиться на уток в озерках. Прежде, как мой старик говаривал, заливные поймы были общими. А теперь принадлежат четырем помещикам, виноделам да скотоводам. Ох и красивы же наши места! Хозяева разводят лошадей и быков. Любо-дорого поглядеть, как старшин пастух выгоняет их на пастбище. А рис, когда колышется на ветру, — море, да и только.
— А твои старики знают, что ты больше к ним не вернешься?
— Знают. Хоакин написал мне для них письмо. Брат уже ответил. Он-то у нас умеет и читать, и писать, грамотный. Просит, чтобы я, когда смогу, послал им деньжат. Они там маются, перебиваются с хлеба на воду в своей халупе.
— А куда ты собрался ехать?
— Толком пока не знаю. Хотелось бы здесь остаться. Но, если не выйдет, смотаюсь во Францию на заработки, — отвечал Трехмесячный.
Утро выдалось спокойное. Солдаты из караульной команды мирно толковали о своих делах. В забранное решеткой окно доносились голоса и смех солдат из механического взвода. Они подметали двор казармы. Офицеры в актовом зале играли в кости, составляя компанию дежурному лейтенанту.
— Я сдаю, — сказал Хоакин.
— Я пас, а ты как, Мурсиец?
— Я тоже.
— Значит, нет игры.
Хоакин, тасуя карты, поглядывал на стенные часы. Смотрел на них и капрал.
— Сейчас будет сигнал, бросай карты, — приказал капрал.
Они вскинули винтовки на плечо и, печатая шаг, направились менять посты.
Хоакин прохаживался от сторожевой будки до другого конца ворот. На тротуаре за оградой играла стайка ребятишек. Няни и служанки, присматривавшие за детьми, усевшись в кружок, чесали языки с шоферами.
Солнце раскаляло камни мостовой, голова под каской вспотела. Он провел рукой по лбу и снова зашагал туда-сюда.
На дворе казармы обучали новобранцев.
— Правой, левой, правой, левой! — надрывался сержант.
Стучали барабаны, заливались горны. Хоакин невольно напевал про себя мелодию сигнала к обеду:
— «Бери ложку, бери бак… Бери ложку, бери бак…»
По другую сторону ворот выстроилась длинная очередь женщин. Они подходили, здоровались друг с дружкой, ставили на землю банки и бидоны и прислонялись к стене, окружавшей казарму. Некоторые приходили с детьми на руках.
— Солдатик! Что сегодня у вас на обед? — спросила одна из женщин, поднимая большую пустую консервную банку.
— Не знаю, — ответил Хоакин.
Женщина снова отошла к стене.
— Он сам не знает, — пояснила она товаркам.
— Новобрашка! — закричали ему несколько женских голосов.
Хоакин разглядывал острое жало штыка. Дети, игравшие на противоположном тротуаре, забрались на машины. Солнце по-прежнему нещадно палило.
* * *
Антония работала в парикмахерской в центре Мадрида. Хозяин заведения, высокий и поджарый, корчил из себя француза и заставлял девушек величать себя «мосье Поль». Одевался он всегда очень элегантно, в темные костюмы, и носил галстуки из натурального шелка.
Главная мастерица тоже была худая и тощая, звали ее Эулалия. Она занималась окраской и обесцвечиванием волос. Эулалия превосходно говорила по-французски. Долгие годы она жила во Франции, обучаясь парикмахерскому делу у одного из самых знаменитых мастеров с бульвара Осман.
Девушки из парикмахерской судачили между собой о полуплутовской, полуромантической любовной истории, в которую попала Эулалия. По всей вероятности, жених Эулалии увез свою нареченную в Барселону и, выкачав из нее все сбережения, бросил на произвол судьбы в пансионе на Виа Лайетана.
Молоденькие ученицы в белых халатах в свободное от работы время торчали у телефона, щебеча со своими женихами и ухажерами.
Зимнее солнце, белесое и нежаркое, ложилось светлым пятном на полу салона.
— Ну, девушки, хватит. Оставьте телефон.
В парикмахерскую вошла сеньора.
— Добрый день, донья Кармен.
— Проходите. Проходите, пожалуйста, сюда. Я сейчас позову Антонию.
Сеньора подошла к журнальному столику и стала листать журналы.
— Присаживайтесь, пожалуйста.
— Помойте мне голову и сделайте укладку.
Антония подтолкнула тележку с инструментами и склянками к самому креслу, в котором уселась сеньора. Затем медленно начала намыливать ей голову жидким шампунем.
— Будьте любезны, донья Кармен, откиньтесь немного назад.
Сеньора откинулась.
— А ты, Антония, продолжаешь дружить со своим женихом?
— Да, сеньора.
— Он, кажется, механик?
— Нет.
— А мне почему-то казалось, что он механик.
— Нет, сеньора. Он учится.
— Наверное, чтобы принять участие в конкурсе по замещению должностей. Мой муж говорит, что не понимает, что у нас творится. Стоит только какому-нибудь мальцу выучиться считать, как он тут же норовит устроиться в контору. На моего мужа так и сыплются отовсюду молодые люди с рекомендациями. Если хочешь, я могу постараться достать рекомендацию для твоего жениха.
— Луис учится, он студент.
— А что он изучает?
— Он хочет стать адвокатом, он уже на четвертом курсе.
— Адвокатом?
Донья Кармен даже выпрямилась в кресле, чтобы посмотреть в зеркало на лицо девушки. Руки Антонии были в густой мыльной пене.
— Ну и ну!.. Похоже, ты подцепила кого нужно. Принеси мне, пожалуйста, последний «Вог».
У соседнего кресла работал сам хозяин парикмахерской.
— Эта прядь будет ниспадать вам на лицо, — говорил он. — Теперь такая мода. К удлиненному овалу вашего лица такая прическа очень пойдет.
— Хелло, Кармен, — сказала сеньора, которую причесывал хозяин.
— Хелло, красотка.
— В воскресенье я что-то не видала тебя в Пердисесе.
— Я не пошла. Как там было?
— Хорошо. А знаешь, кого я там встретила?
— Откуда мне знать, детка.
— Пепе Арбелаиса.
— Этого, из посольства?
— Да, он теперь стал очень важной птицей. Явился с крашеной блондинкой и, такой нахал, сделал вид, будто меня не заметил.
— Как обычно. Мне очень жаль бедняжку Марию… Будь у меня такой муженек…
— И куда только девается эта девчонка, — возмущался хозяин. — Антония, принеси мне бигуди. Поверите, я прямо не знаю, куда убегают эти девчонки. У меня их четверо, но стоит лишь отвернуться, их и след простыл.
— Я ходила за журналом для доньи Кармен.
— У вас всегда на все найдется оправдание. Вы и половину не отрабатываете из тех трех дуро, что я вам плачу.
Он обернулся к обеим сеньорам.
— Они ужасно неблагодарные. А ведь приобретают такую отличную профессию…
— Послушайте, Поль. А как там в Париже?
— О, Париж, Париж! Великолепен, как всегда. Немцев уже нет.
— А мне Петэн был очень симпатичен. Я видела его на днях в кинохронике, такой старенький, с усами.
— Антония, не лей мне больше шампуня.
— Как желаете, сеньора.
— Я шью себе платье для коктейлей у Родригесов. Шелковое, много-много складок. Лиф облегающий, спина открыта.
— Антония, принеси донье Кармен сушилку и сейчас же ступай помоги дону Мануэлю.
Антония подошла к окну. За рядами деревьев возвышались здания на противоположной стороне площади. Она думала о Луисе: где он сейчас, дома или в университете. Они договорились встретиться в восемь вечера на углу у почтамта. Но время тянется так медленно, что она спокойно может считать удары пульса.
— Приготовь воск.
Пока Антония растапливает воск в фаянсовой чашке, сеньорита Веласкес поднимает юбку.
— Нам предстоит дебютировать в провинции с «Пичи», и я не хочу, чтобы у меня на ногах были волосы, это очень некрасиво. Плохо, что цензура искромсала всю пьесу. По-моему, эти цензоры с ножницами или монахи, или святоши, иначе с какой стати менять текст?
Ни дон Мануэль, массажист, ни Антония тоже понятия не имели, для чего нужно было менять текст в оперетке…
— Хотите «Кемел»?
— Спасибо, я не курю.
— А ты, детка?
— Я возьму для своего жениха.
— Послушай, детка, у тебя нет волос на бедрах? Меня они прямо с ума сводят.
Массажист покрывал тонким слоем воска ноги артистки.
— Будет немножко горячо, — предупредил он.
Артистка напевала:
…этот чу́ло, парень бравый, всех красоток настигает от Портильо до Аргансуэлы…Когда воск остыл, массажист легкими энергичными движениями больших пальцев стал снимать приставшую к ногам артистки восковую корочку. Сеньорита Веласкес опустила подол и поправила перед зеркалом платье.
Антония проводила ее до дверей. А потом пошла с подружками, учениками и подмастерьями перекусить.
— Я готова лопнуть от злости. Мастер смешал меня с грязью. Эх, послала бы я его подальше!..
— Наш мастер настоящий козел, — заметила одна из девушек. — Знаете, что он заявил мне сегодня? Что, мол, не станет платить мне больше одного дуро. Я, мол, получаю такую прекрасную профессию, что и этой платы вполне достаточно.
— А ты возьми да заболей, — посоветовала Антонии одна из учениц.
Только на улице Антония почувствовала облегчение. Останься она еще на миг в парикмахерской, наверняка наговорила бы такого, о чем и подумать страшно.
Антония быстро зашагала сама не зная куда.
Вслед за парочкой, гуляющей под ручку, она направилась по улице Аточа. Стоял тихий, погожий вечер. Голуби, слетевшие с крыши почтамта, лениво клевали гранитные носы львов, увлекавших колесницу Цибелы.
Антония продолжала идти за парочкой. У монумента Веласкеса играли дети; молодой человек, по виду рабочий, просил милостыню, протягивая берет.
Она вошла в парк, прочитав у ворот объявление, гласившее, что по средам вход бесплатный. Прошла немного по главной аллее и остановилась у оранжерей зимнего сада. Здесь она почувствовала, что устала, и присела на каменную скамью.
— Хорошо, посмотрим, как я живу? Мне двадцать три года, а я не могу прокормить себя и ведь работаю с утра до ночи, — произнесла она вслух. И оглянулась, не услышал ли кто.
Она сидела, запустив руки в карманы своей длинной куртки, и вдруг пальцы ее нащупали сигарету, которую подарила ей артистка.
Антонии захотелось курить, но у нее не оказалось спичек. Она не была заядлой курильщицей, просто время от времени ей доставляло удовольствие выкурить сигарету. А теперь, в такую минуту, ей это было просто необходимо. Поколебавшись немного, она поднялась, чтобы попросить огонька у парочки, примостившейся на скамейке рядом. Юноша и девушка с удивлением выслушали ее просьбу.
Деревья в парке стояли голые, без единого листочка. Ветви, словно руки, вздымались к небу. Антония машинально стала рассматривать деревья, на некоторых висели таблички: «Платан ложный» — гласила одна из них. «Платан ложный», — вслух повторила Антония. А почему не сажают настоящие?
Парочка целовалась, сидя в обнимку, и Антонин вдруг стало весело и радостно. Ее охватила нежность к Луису.
Зимнее солнце закатилось за отель «Палас», погрузив все вокруг в сумерки, рассеченные красными полосами света. Глядя на умирающий закат, Антония вдруг прониклась любовью ко всему окружающему, и слезы побежали по ее лицу.
Она поднялась со скамьи. Невдалеке, на площади Нептуна, часы пробили восемь раз.
Антония зашагала быстро, и ее глаза вновь заблестели, вновь забурлила кровь в жилах.
— Привет.
— Привет.
— Ты давно ждешь?
— Нет, только что пришел.
— Куда пойдем?
— Куда хочешь. Погуляем. Сегодня у меня и медяка нет.
— Знаешь, Луис, я ждала сегодняшнего вечера, как еще никогда в жизни.
— Почему?
— Сама не знаю, но мне вдруг ужасно захотелось тебя видеть. Если бы ты знал, дорогой, как мне тебя недостает.
— Я…
— Я не находила себе места с семи часов; бродила но Ботаническому, чтобы убить время.
Взявшись за руки, они направились по улице Алькала в сторону Пуэрта дель Соль. На крутой улице кишмя кишели автомобили.
— Холодно?
— Немножко.
— Куда пойдем?
— Куда хочешь. Погуляем. У меня в карманах хоть шаром покати.
— Пойдем в дешевенькое кафе, у меня есть два дуро от чаевых.
— Да брось ты это.
— На два дуро можно взять две чашки кофе, а тебе сигарет.
— Оставь, лучше погуляем.
— Ты стесняешься, что я куплю тебе сигареты?
— Не стесняюсь.
— Тогда почему?
Луис, словно самому себе, тихо ответил:
— Всю жизнь у меня не хватает этих поганых денег. Всегда я должен занимать их у друзей.
— И ты еще жалуешься? У тебя по крайней мере есть свой дом, ты учишься, ты сыт… Что же тогда остается говорить другим?
— А свобода? Если бы я не мечтал, что в один прекрасный день наконец обрету свободу, не стоило бы и жить!
Рот Антонии сурово сжался, лицо стало грустным. Она перестала улыбаться.
— А я не жажду свободы. Свобода сама по себе ничего не значит. Когда удовлетворены все запросы, когда ты материально обеспечен, вот тогда и наступает свобода!
— Человеку свобода необходима! Он должен думать, иметь возможность говорить, высказываться.
— Ты жалуешься? Но скажи, ты когда-нибудь ел картофельные очистки? Глотал изо дня в день гороховую муку? Ходил в благотворительные общества? Нет, не так ли? А я была сыта по горло всем этим, и мне хотелось только одного: забиться в угол и подохнуть! Я жила, как скотина. Знаешь ты, что это такое? Тебе восемнадцать лет, а ты с теткой в одной комнате. И вдобавок еще она вынюхивает, не съела ли ты чего у нее за спиной, словно это тяжкое преступление. И все потому, что она тоже голодает. И эта тетка роется в твоем грязном белье, проверяя, были ли у тебя месячные, и, если, не дай бог, задержка или еще что, она при всех поносит тебя самыми последними словами, обзывает сукой и выпытывает, чем ты там занимаешься со своим женихом. И… О, Луис! Это от голода пропадает менструация и…
— Замолчи!
— Возьми меня куда-нибудь. Уведи с собой. Я буду работать, чтобы ты смог учиться.
Луис стоял растерянный. Не обращая внимания на прохожих, он целовал девушку. Он не знал, что сказать, чем утешить, и только губами осушал ее слезы.
— Прости меня, Луис! Какая я дура. Не обращай па меня внимания. Дай мне твой платок.
Антония вытерла слезы, высморкалась и, улыбнувшись, сказала:
— Ладно, пошли в кафе.
* * *
Оставшись один, Луис стал мучительно думать, как помочь Антонии. При расставании она снова и снова повторяла все те же слова:
— Луис, возьми меня с собой!
Но не только грусть навеяли на Луиса ее слова, в груди его вспыхнуло новое чувство, которое он даже не мог сразу определить. Никогда еще нервы его не были так напряжены, никогда еще так не кипела в нем кровь, побуждая его к любви и ненависти.
Мольба о помощи, с какой обратилась к нему Антония, думал он, — это крик всей страдающей Испании, Испании тюрем и расстрелянных борцов, лишенных земли крестьян, голодных и безработных рабочих.
Луис спускался по улице Анча де Сан-Бернардо в сторону площади того же названия. Кругом стояла непроглядная темнота; власти ограничивали в городе пользование электроэнергией. Лишь в немногих окнах теплился едва приметный огонек свечи.
Луис шел, погруженный в свои думы, и не заметил длинной очереди, стоявшей вдоль стены, пока не натолкнулся на испитую женщину, бранившую сына.
Женщина со злобой обернулась к Луису:
— Где у вас глаза? Наскочит такой и…
— Простите, пожалуйста.
Это была очередь в отдел Общественной помощи. Она растянулась до ограды церкви Богоматери Скорбящей. Люди с нетерпением ожидали, когда начнут раздавать бесплатный ужин, поругивая девушек, которые явно не спешили. Девушки из общественной столовой разливали половниками варево по специальным судкам, сделанным в благотворительном заведении.
Пока одна из девушек раздавала еду, другая протыкала компостером обеденные карточки.
— Сегодня похлебка, — говорила женщина из очереди.
— А из чего? — спрашивала другая.
— Из картошки, гороха, риса и трески.
— Если хотите получить карточку, — наставляла соседку одна из женщин, — то первым делом пойдите к алькальду и достаньте у него справку о бедности. В отделе помощи не бог весть что дают, но одинокому человеку прокормиться можно. Мы вот с детишками съедаем апельсин и горячее, а хлеб продаем.
Женщины буквально сражались, чтобы отвоевать себе лишнюю порцию ужина. Они рассказывали девушкам из столовой печальные истории, стараясь их разжалобить и хоть таким способом получить добавку.
Луис поднял глаза и посмотрел на испитую женщину, на длинную очередь женщин и детей. Вот так же приходила и Антония, так же, наверное, подобно другим женщинам, рассказывала жалобные истории. «Где у тебя глаза?» — спросили у него. «А ведь порой хочется зарыть глаза в землю и закричать так, чтобы услышали камни! О, как права Антония! Да, я чистюля, белоручка, человек, не знающий, что такое голод и страх. Человек, не приставший ни к тому, ни к другому берегу. Я Луис Гарсиа, студент факультета права, индивид, которому ничего не нужно, кроме свободы мыслить вслух и громко выражать то, что он чувствует. У меня нет даже денег, чтобы провести время с невестой или купить книги. Но, может быть, в один прекрасный день я все же осмелюсь пойти на риск и…»
Луис подошел к подъезду своего дома, просторного, с мраморной лестницей и лифтом.
— Добрый вечер, сеньорито Луис, только что вернулся ваш отец, — любезно сообщил привратник.
— Спасибо, — буркнул Луис.
Отец Луиса, дон Педро Гарсиа Бустаманте, среднего роста, сухощавый и чуть лысоватый, занимался юриспруденцией. Материальное положение его было не блестящее, но вполне приличное.
Донья Тереса, мать Луиса, происходила из кастильской дворянской семьи. Воспитанная авильскими монахинями, она обладала всеми добродетелями провинциальной сеньоры: шила, вышивала, немного тренькала на фортепьяно. Она была весьма довольна выпавшей ей скромной долей и знать ничего не желала о том, что могло бы нарушить мир и покой в ее доме.
Внешний мир не существовал для доньи Тересы. Каждое утро, очень рано, она отправлялась к мессе в Буэн Сусесо и затем, хотя вязальные спицы и валились из рук, весь день просиживала у окна гостиной. Она читала жития святых, немножко шила и сквозь стекла созерцала улицу.
Петра, прислуга за все, накрыла на стол. Она была ровесницей хозяйки, и все относились к ней, как к члену семьи. Петра очень благоволила к Луису, которого обожала, и даже давала ему в долг деньжат; доброй женщине удавалось немного прикапливать.
Каждый вечер, около десяти часов, даже если приходили гости, дон Педро запирался в своем кабинете, чтобы послушать последние известия, передаваемые Би-би-си. Адвокат по профессии, дон Педро был страстным поклонником всего военного, вот почему он неизменно отмечал линию восточного фронта на карте Европы, которая висела на стене его кабинета.
— Ты только посмотри, Луис. Этот русский маршал отлично знает свое дело, — говорил дон Педро сыну, пришпиливая флажки на карту. — Силезия и Померания уже почти заняты, до Берлина рукой подать. Среди выпускников академии Фрунзе есть светлые головы, уж поверь мне.
Дон Педро выключил радио и вынул свои карманные часы.
— Поздно. Пойдем ужинать. Сегодня у нас гости.
— Кто?
— Кузины твоей матери.
— Скажи, папа, когда кончится война, что, по-твоему, будет?
— Кто знает? Похоже, люди весьма надеются и ждут, что по окончании мировой войны у нас снова будет республика, но…
Гости уже сидели за столом. Это были дальние родственники доньи Тересы. Всеобщее веселье и шуточки гостей неприятно действовали на Луиса. Он еще больше замкнулся в себе, старался ничего не слушать, встревоженный все той же неотвязной мыслью. Он вспоминал Антонию и мучную баланду, которую ей приходилось есть каждый день. И возможно, поэтому свежий белый хлеб казался ему горьким и невкусным.
— Как идет процесс? — спросил его один из родственников.
Луис ничего не ответил, пожал плечами, продолжая ужинать.
— Что с тобой, Луис? Язык, что ли, проглотил?
— Он так странно себя ведет, — сказала мать.
— Неудачная любовь, наверное, — рассмеялся один из родичей.
Луис в ответ лишь пробормотал какие-то несвязные объяснения. Неизъяснимая тоска сжимала ему сердце. Его раздражали вопросы родственников, даже само их присутствие. Они казались ему совсем чужими, незнакомыми людьми, говорящими на непонятном языке, словно явились из другой страны.
Только когда родственники начали прощаться, Луис вдруг стал вежливым и общительным, он даже сказал им несколько любезных слов.
Но мысли его были далеко, и усилие, которое он сделал над собой, чтобы улыбнуться, оказалось тщетным.
— Луис, ты вел себя весьма некорректно. Кузены тебя уважают, и ты это прекрасно знаешь. Какой ты бирюк! — заметила мамаша.
Луис поднял голову, стараясь встретиться глазами с отцом, чтобы довериться ему, поведать печальную историю Антонии. Но, взглянув на отца, он понял, что все напрасно. И ничего не сказал родителям, только пожелал им спокойной ночи.
Он ходил большими шагами взад-вперед по своей комнате. За стеной раздавалось бормотание, это молилась донья Тереса. Ей вторил голос служанки.
Откуда он возьмет сил, чтобы привести в свой дом Антонию и, крепко ее обняв, пронести через все невзгоды? Разве может он стать ей опорой? Все вокруг: обстановка, дом, родители, обветшавшие предрассудки — все, казалось, было направлено против него, связывало его по рукам и ногам, не давало двинуться с места. Он вел себя, как последний трус. Полная любви Антония вверяла ему себя, она переступила границу дозволенного, а он, он боялся, что не найдет в себе сил быть достойным ее самоотверженности.
Антония представлялась ему таинственной сокровищницей, в которую он старался проникнуть, чтобы утолить жажду жизни.
— Антония! Антония! Я не знаю, куда я уведу тебя! — в отчаянии кричал он ночью во сне.
— Второе таинство… — бормотала за стеной донья Тереса.
Хоакин, демобилизовавшись, возобновил свои старые знакомства. Казарма стала лишь неприятным воспоминанием, она, как губка, стерла два года его жизни.
Он отправился к инженеру, с которым работал на заводе. Инженер помнил его в лицо и без всяких проволочек принял на прежнее место, с какого Хоакин ушел в армию, — токарем второго разряда.
— Ну, парень, начинай все сначала. И коли не ввяжешься в политику, как некоторые, скоро сможешь повысить разряд и заработать на жизнь. Но для этого надо трудиться. А если не желаешь, ищи себе другое место, здесь тебе делать нечего, — сказал инженер.
Товарищи по работе приняли его хорошо.
— Откуда ты явился? Что-то от тебя здорово пахнет казармой! — кричали ему со всех сторон.
На заводе было много новых рабочих.
— Кое-кто из старичков ушел на другие заводы. Селестино застукали во время агитации, и теперь он сидит в Карабанчеле. Дали десять лет, а вообще-то, считай, повезло по нынешним временам, — рассказывал новости Энрике.
— Ты по-прежнему живешь у Аугусто?
• — Да, все там. Ребятишки не хотят меня отпускать, а Аугусто с женой сам знаешь, как ко мне относятся. И слышать о моем отъезде не хотят.
— Завел невесту?
— Да, познакомился с девушкой из дома, где живет Аугусто. Работает швеей. Зовут ее Роса, я очень ею доволен. Кажется, у меня есть с собой ее фото.
Отовсюду доносился шум работы. Под потолком цеха медленно полз подъемный кран.
— Приятный звук после стольких лет перерыва. Шум работы, он совсем особый, — заметил Хоакин, смотря на кран. Правой рукой он приветственно помахал крановщику.
— Привет, Пепе.
— Привет, Хоакин, — отвечал ему рабочий из кабины крана.
— Вот, гляди, это Роса. — Энрике протянул фотографию.
— Кажется, красивая.
— Мне нравится.
Энрике спрятал фотографию в бумажник.
— Ну что, все язык чешете? Придется поставить тебя за другой станок, Хоакин, — предупредил мастер. И, улыбнувшись, пошел к фрезеровщикам.
— Он здорово изменился, уже не такой жлоб, — сказал Энрике, запуская свой станок. Хоакин почти не расслышал его.
— Сегодня вечерком можем пойти в бар, про который ты говорил. Я помню, что нам с тобой надо побеседовать! — прокричал Энрике, перекрывая шум токарного станка.
— В восемь, если хочешь. Сначала я зайду домой, — ответил Хоакин.
Бар на улице Гарсиа Морато, где они договорились встретиться, был тихим заведеньицем. По вечерам здесь собирались игроки в карты и старушки, которые, отслушав мессу в ближайшей церкви, приходили попить кофейку. На первом этаже в глубине помещения располагался небольшой зал на восемь столиков. Рядом со стойкой находилась лестница, ведущая в зал на втором этаже. Оттуда в окна были видны Церковная площадь, зеленые купы акаций и серые крыши трамваев.
На стойке и на стенах бара мерцали огоньки карбидных светильников.
Хоакин сидел в полутьме дальнего зала. День словно застыл в квадратном проеме окна и на курточке официанта, спокойно дожидавшегося у входной двери, когда включат электричество.
Хоакин поглядывал на дверь, дожидаясь Энрике. Он курил, зажав руки между коленями. Наконец он увидел Энрике, тот пришел вместе с Аугусто.
— Я здесь! — крикнул им Хоакин.
Энрике и Аугусто замешкались у входа, не различая Хоакина в полутьме зала.
— Привет, — поздоровались они.
— Ты немного запаздываешь, — сказал Хоакин, — уже половина девятого.
— Сам знаешь, как сейчас в метро, — оправдался Аугусто.
— Что закажем?
— А все равно, давай кофе.
Энрике подозвал официанта; тот по-прежнему стоял у окна.
— Если вы не торопитесь, подождите немного, пока зажгут свет. А то я уже одну чашку разбил, — громко сказал официант.
— Подождем, мы никуда не спешим, — ответил Аугусто.
Они помолчали. В баре никого, кроме них, не было.
— Ну говори, что ты хотел мне сообщить.
— Сейчас. Это совсем просто.
— Так говори.
— Как ты считаешь, кто заграбастывает денежки, которые мы зарабатываем?
— Как кто? — удивился Хоакин, — Конечно, хозяин завода да еще акционеры.
— А кто делает детали, которые потом идут на продажу?
— Похоже, вы меня исповедуете. Брось-ка ты эти штучки и давай говори по-серьезному, — сказал Хоакин.
— Я говорю серьезно, а ты отвечай.
— Ну, мы, конечно!
— Что же получается?
— Ты хочешь сказать, что все производим мы и деньги — это тоже наш труд. Так, что ли?
— Именно это я и хотел сказать, Хоакин, — ответил Энрике.
Они помолчали. Энрике и Аугусто достали кисеты с табаком.
— Чем ты собираешься теперь заниматься? — снова спросил Аугусто.
— Теперь? Я тебя не понимаю.
— Со службой в армии покончено, верно? Раньше ты, кажется, учился.
— Да. Но теперь с этим будет потрудней. Отец уехал, и мне надо заботиться о семье. Придется работать сверхурочно.
— Трудно, не так ли?
— Конечно. Пока не обвыкнешь, придется попотеть.
— Ну, это утешение для дураков. К плохому нельзя привыкать. С плохим надо бороться, Хоакин, — веско заметил Аугусто.
— Я думаю, мы можем требовать, если подкрепим наши требования борьбой. Мы должны помочь друг другу. На заводе возможно вести работу, пусть нас будет немного: пять-шесть человек вполне достаточно.
— Читал газеты? Гитлер покончил самоубийством в Берлине, русские идут по Германии. Итальянцы не в счет, а японцы скоро сдадутся. Прекрасная обстановка для нас, — сказал Аугусто.
— Да, правильно.
— Именно поэтому многие ушли в горы. Испанские партизаны из французских отрядов маки в декабре прорвали пограничную оборону в Пиренеях, — заметил Энрике. Он закурил, и кончик его сигареты красным огоньком светился в темноте.
— Может, вы хотите, чтобы мы тоже ушли в горы, — улыбнулся Хоакин.
— Нет. Я бы предпочел, чтобы ты остался с нами, — ответил Энрике.
Хоакин помолчал, прежде чем ответить на вопрос друга. Окурок жег ему пальцы.
— Я не против пойти с вами. Вы всегда впереди, с вами можно хоть куда. Вы единственные, кто действует смело и открыто.
Энрике и Аугусто улыбнулись.
— Нет, не единственные. Кроме нас, есть еще сенетисты, социалисты.
Хоакин закурил снова. Маленький зал постепенно заполнился посетителями. В темноте ворковали и ласкались влюбленные парочки.
Внезапно загорелась свисавшая с потолка лампочка. Веселый шум голосов донесся с улицы и ворвался в бар.
— Свет! Свет! Дали свет! — закричали вокруг.
В домах стали зажигаться огни, словно на сцене перед спектаклем. Сначала свет появился в окне здания напротив. Затем осветились витрины галантерейного магазина, бакалейной лавки, зажглись уличные фонари и, словно по мановению волшебной палочки, засверкали все балконы. Свет заплясал и закружился, словно вспыхнул фейерверк.
На лицах посетителей бара отразилась растерянность. Люди, собравшиеся в маленьком салоне, рассматривали друг друга. Голоса зазвучали громче, жизнь в баре потекла своим чередом.
Кто-то хлопал в ладоши, подзывая официанта. Лампы и подсвечники обрели свою обычную форму и размеры, в бутылках заискрилось вино.
— Принесите нам три стаканчика, — заказал Энрике.
— Сию минуту, — ответил официант.
Он ловко сновал между столиками. Старуха, торговавшая табаком у дверей бара, спрятала свою контрабанду в синюю сумку. У входа в метро продавцы газет громко предлагали вечерние выпуски.
Пиво подали свежее и холодное. Приятно было ощущать, как оно освежает горло. А потом, утолив жажду, поставить на стол пустой стакан с кольцом золотистой пены на дне.
* * *
От Матиаса, с тех пор как он уехал в Барселону, почти не было известий. Он прислал лишь одну открытку, в которой сообщал, что чувствует себя хорошо и что на житье устроился у одного из своих друзей с автомобильного завода. Денег он не присылал никаких. Заработка Хоакина на двоих не хватало, и Марии пришлось устроиться уборщицей в зале для проведения праздников на улице Реколетос.
В квартире было холодно. Хоакин и все жильцы уже спали. Мария, стоя у двери, пыталась открыть ее ключом, но руки не слушались, и она никак не могла попасть в замочную скважину. Ключик выпал у нее из рук, а в коридоре было темно.
Мария ползала на корточках по холодным плитам пола, отыскивая оброненный ключ. Она вертелась на месте, окутанная темнотой, которая с каждой минутой становилась все невыносимее. У нее закружилась голова. Мария захотела опереться, чтобы не упасть, опереться обо что-нибудь более устойчивое, чем пол. Она наткнулась лицом на стену и припала к ней головой. Постепенно приподнялась, держась руками за стену. Встала на ноги и, вытянув руки, пошла вдоль стены, пока не наткнулась на выключатель.
Не желая шуметь, она попыталась пройти на цыпочках. Добралась до своей комнаты. Прошла мимо турецкой тахты в столовой. Хоакин следил за ней взглядом.
Мария оставила дверь в спальню приоткрытой. Зажгла свет. Как лунатик, приблизилась к постели Хоакина.
Хоакин, лежа неподвижно на спине, не произнес ни слова, когда мачеха накрыла его стареньким потертым пальто, которое сняла с себя. На миг их взоры встретились в узкой полоске света, проникавшего из спальни и освещавшего ее руки.
Она увидела глаза Хоакина, в них сквозила явная неприязнь. Ее глаза, отяжелевшие и сонные, казалось, ничего не выражали, кроме усталости.
— Не спишь? — спросила она пасынка.
— Забери свое пальто, — буркнул в ответ Хоакин.
— Замерзнешь.
С перекошенным от злобы лицом Хоакин крикнул:
— Убери свое пальто и оставь меня в покое! Опять напилась!
Нет, она не была пьяна. По крайней мере не сильно. Иногда она возвращалась домой, громко разговаривая с прохожими на улице. Иногда разговаривала сама с собой, вслух выражая странные и тоскливые мысли, осаждавшие ее. И порой, когда печаль захлестывала сердце, она думала о муже, о пасынке, о бегстве во Францию, к сестре, которая там жила.
Мария равнодушно пропустила мимо ушей слова пасынка, уйдя в себя, в тот уединенный мир, который окружал ее, когда она была в состоянии опьянения. Она стала раздеваться перед зеркалом.
Легла в постель и потрогала рукой пустоту рядом с собой, то место, где обычно спал ее муж. Эта пустота выводила ее из себя, она никак не могла смириться с отсутствием Матиаса. Мария испытывала усталость, думая о нем, о тех перебранках, какие у них случались. Он был грубым мужланом и мечтал лишь о приятной жизни, без забот и трудностей. И несмотря на это, она любила его и готова была отдать все на свете, лишь бы удержать его подле себя.
Она лежала, держа руку на том месте, где обычно спал Матиас, и терзалась воспоминаниями о том времени, когда они с Матиасом только познакомились. Но проклятая жизнь — голод, безработица, череда тяжких лет — что-то надломила в них навсегда.
Она сознавала всю никчемность и бесполезность своего существования. Хоакин презирал, а может, даже ненавидел ее. Мария оправдывала пасынка, которому тоже жилось несладко. Она сознавала себя уже не человеком, а тряпкой, которую каждый пинает ногой. Поэтому она стала пить и постепенно пристрастилась к вину, алкоголь сделался для нее потребностью.
Мария устала, очень устала. Ей пришлось вымыть пол в огромном зале, а затем еще натереть паркет. К тому же в последнее время ее заставляли мыть все окна в помещении.
За стеной кухни, где она работала, текла совсем иная жизнь. Столики в зале занимали веселые, улыбающиеся, всегда всем довольные люди.
Официанты носили белые курточки, смокинги и черные с кантом брюки. Заведение было довольно крупное. Стойка располагалась большим полукругом, вдоль нее тянулся ряд высоких табуретов.
Зал обслуживали три официанта с тремя помощниками. За стойкой хозяйничал настоящий бармен. Шеф-повара звали Десидерио, под его началом трудились два поваренка и три судомойки.
Атмосфера в зале была накаленной, здесь стоял шум, пахло духами, витали клубы табачного дыма.
За столиком, накрытом голубой скатертью, с двумя бутылками мансанильи и полудюжиной бокалов красного стекла, блюдом устриц и тарелочкой с кружками лимона сидели трое мужчин с тремя спутницами. Перед каждым мужчиной лежала коробка сигарет «Честерфильд».
Три девушки уплетали гусиную печенку и сыр. И были так увлечены этим важным занятием, что совсем не обращали внимания на болтовню мужчин.
Гарсиа, старший официант заведения, изогнувшись, записывал в блокнот заказ.
Наконец, выпрямившись, он быстрыми шагами отошел от столика и прокричал в окошко кухни:
— Деси! Два лангуста и одну порцию ветчины. Бутылку «Рио Вьехо» для троих.
— Хорошо, сейчас будет готово, — ответил повар.
Гарсиа, понизив голос, доверительно говорил судомойкам:
— Вот это бабенки! Не то что вы, тощие, как велосипед. У меня чуть голова не закружилась, когда я их обслуживал. У двоих ляжки дай бог, а у третьей, у блондиночки, такие груши в декольте — закачаешься!
Мария остервенело мыла столовые приборы, и вдруг ей почему-то стало любопытно: страшно захотелось посмотреть на женщин, о которых говорил официант.
— Отойди в сторонку, дай взглянуть, — сказала она.
В окошко виднелся третий столик. «Вон, наверное, та самая блондиночка, у которой торчат груди», — подумала она. Блондиночка взмахом руки приветствовала своего знакомого. Это был хорошо одетый мужчина, средних лет, с тонкими усиками. Блондинка держала в руке устрицу.
— А в браслете-то камни величиной с горох, — заметила Мария вслух.
— А ну-ка, дай я погляжу.
Молодая судомойка подошла к окошку и положила руку на плечо Марии.
— Ну, ничего особенного! — протянула она. — Это псе краска да штукатурка. Поглядела бы я на них на голых, какие они есть.
И судомойка расхохоталась над своей шуткой. Гарсиа, просунувшись в окошко со стороны зала, попытался ущипнуть девушку, но она, ловко увернувшись, хлопнула его по руке.
— Из вас уж песок сыпется, а туда же!.. С вами и с голодухи не станешь…
Десидерио, приготовив лангустов, принялся делать гарнир к ветчине.
— А ну, хватит чесать языком! За работу! Вот увидит хозяин, что вы толчетесь у окошка, влетит вам по первое число. Сами знаете, какой у него крутой нрав.
Гарсиа поставил блюда на поднос, поднял его и понес к третьему столику.
Пожилой сеньор с тонкими усиками разговаривал со своими друзьями.
— Мне передавали, что у вас замечательно идут дела. Я имею в виду компанию по продаже недвижимости, которую вы организовали.
— Ну что ты, Тино, — возразил его собеседник, — ты же знаешь, люди любую ерунду готовы назвать успехом.
— Я считаю, неплохо, если дело приносит три миллиона годовых.
— Обычные преувеличения. Сам видишь, мне приходится довольствоваться армейской машиной.
Собеседники рассмеялись шутке.
— Ох, уж этот Хуанчо! — сказал мужчина справа. Он держал руку на коленях своей спутницы. Рука была широкая, короткая и волосатая. На указательном пальце — массивный перстень.
— Хочешь бутерброд? — предложила девушка. Она держала в руке ломтик хлеба.
— С чем?
— Очень вкусный, с гусиной печенкой и сыром.
— А ты крепенькая, — говорил сеньор, сжимая коленку девушки.
— Все для тебя, солнышко.
Тино, сеньор с усиками, улыбался.
— Ты свое дело туго знаешь, Луиса.
За дальним крылом стойки два господина, по виду немцы, терпеливо дожидались, пока бармен приготовит им коктейль.
— Два «манхеттена», — заказали они.
— Это немцы, — сказал один из официантов. — Никак их не поймешь, по-испански все слова коверкают. Чего доброго, эсэсовцы. Говорят, их теперь много укрылось в Испании.
За столиком под красной скатертью, взявшись за руки, шептались двое влюбленных.
— Ты бесстыдник. Вчера я весь вечер напрасно прождала тебя. Сидела в Гавириа, а ты и не думал являться.
— Я весь вечер зубрил математику.
— Да, так я и поверила. Ври, да не завирайся. Наверно, играл в покер или пил можжевеловую.
— Ты же знаешь, что я занимаюсь как зверь. У меня нет другого выхода. Папа обещал купить мне машину, если я поступлю в автодорожный.
— И поносила же я тебя вчера!
Юноша пожал плечами.
— Послушай, дорогуша. Попроси у него с откидывающимся верхом. На днях я видела такую. Ну прямо загляденье, а капот длиннющий, как отсюда до двери. Вишневого цвета. Не машина, а сказка. Самое малое сто сорок в час дает.
Девица откинулась на стуле, с мечтательной улыбкой вспоминая автомобиль вишневого цвета. Ее красивые глазки сверкали довольством.
— Если будешь хорошо себя вести и прилежно заниматься, я позволю меня поцеловать. А знаешь, с кем я была вчера в Гавириа? С Пилюкой Санчес. Помнишь ее? Ну, как же! — сказала она в ответ на неопределенный жест юноши. — Она была моей подружкой, когда мы учились у францисканских монашек. У нее жених занимается архитектурой. И только подумай, была такая хорошенькая и тонюсенькая, а теперь разнесло — настоящая бомба.
На кухне работа шла своим чередом. Повар с помощницами не чаяли, когда наконец растает гора грязной посуды.
— Луси, а эти типы с третьего столика, должно быть, важные птицы. Швыряют монеты почем зря! Гарсиа сказал, что тот, с усиками, дал ему целых три дуро на чай. А мы, чтобы заработать три дуро, должны перемыть не меньше тыщи рюмок.
— Да, для кого жизнь мать, а для кого мачеха. От усталости с ног валишься, а что видишь на своем веку? Уж так теперь повелось в нашей стране: чуток богачей, уйма шлюх и пруд пруди бедняков.
Мария, спрятавшись за судомойками, тайком допивала остатки мансанильи из стакана одного из посетителей.
— А хорошо пахнет это вино, правда? — сказала она, притворяясь, будто нюхает стакан. В окошко просунулся официант.
— Чего же ему не пахнуть, коли оно стоит двадцать дуро бутылка, — фыркнул официант.
— Пахнет почище епископских ветров, во как! — заметил Десидерио. Стоя у плиты, он уже давно наблюдал за Марией. — Если будешь глотать все опивки, скоро налижешься, — продолжал он.
— Да я… — начала было оправдываться Мария.
— Твое дело, поступай как хочешь, но только знай, это вино сильно забирает.
— А как твой муженек, Мария? Все в бегах? — поинтересовалась одна из судомоек.
— Да, в отъезде, Эулохия. Вот жду письма.
— А как твои жильцы? Как поживает эта вдовушка, про которую ты рассказывала? Все крутит со старьевщиком?
— Все по-прежнему. Скоро поженятся.
Десидерио отошел от плиты. Этот толстяк каждые три-четыре минуты во всеуслышанье заявлял, что он идет в туалет мочиться, и поручал кому-нибудь последить за плитой.
— У того, кто подолгу торчит у огня, всегда недержание мочи. Жар распаляет мочевой пузырь, — объяснял он всем.
Но в кухне никто не верил этому утверждению: все считали, что повар часто отлучается в туалет только потому, что целый день тянет сухое вино из сифона.
— Пьете вино с газировкой, вот и бегаете в уборную.
Повар обернулся к судомойкам.
— Собрался жениться на вдове? Ну, на этот счет верно поется в куплетах:
Не хочу я вдовушку себе в жены брать. Что ласкал покойничек, не хочу ласкать!Женщины прыснули со смеху.
— Ха-ха-ха! Что ласкал покойничек, не хочу ласкать, — повторяли они, хватаясь за животы.
Шум голосов в зале немного затих. Танцовщица Мария Мерче крутила бедрами и плечами в такт треску и грохоту марак.
Немцы, сидя за стойкой, продолжали тянуть свой коктейль. С высоких вертящихся табуретов они наблюдали за волнующими движениями танцовщицы.
Одна из девиц за третьим столиком льнула к сеньору с тонкими усиками.
— Котик, ну почему бы нам не прошвырнуться на машине в другое место и не выпить чего-нибудь? Тут очень скучно. Если они не хотят, пойдем одни.
— Подожди немножко, дорогая, сейчас все пойдем. А пока заказывай все, что пожелаешь. Я должен поговорить с Фернандо и Хуаном об очень важном деле. Не приставай, оставь меня в покое.
И он продолжал беседовать с приятелями:
— Значит, так. Я как можно скорее добиваюсь разрешения в министерстве, и денежки потекут. Но приятеля, который этим занимается, я вам о нем уже говорил, необходимо подмазать. Иначе ничего не выгорит.
— Сколько, ты полагаешь?
— Не знаю. Но мне кажется, меньше чем за двадцать процентов он и пальцем не пошевелит.
— По-моему, двадцать процентов — это много.
— Да, немало. Но сам знаешь, не подмажешь — не поедешь. Зато, — он улыбнулся, — вы не хуже меня понимаете, что десять тысяч за тонну — это почти даром. А перепродать, и весьма легко, можно за двадцать пять.
— Я не возражаю против того, чтобы дать ему двадцать процентов, во всяком случае, я готов. Но тогда ты платишь за сегодняшний ужин и за все прочее…
— Согласен, однако, как мы говаривали в полку: за постель, но не за шлюху.
— Ладно, Тино, не жмотничай и обрати внимание на Хуанчо. Пошли поужинаем в другое место.
— Я вам не корова, чтобы вы меня доили.
Пуиг, ливрейный швейцар заведения, уже был предупрежден официантами, что посетители за третьим столиком сорят деньгами почем зря. Вот почему, когда они проходили мимо, он поклонился ниже обычного и тут же бросился открывать дверцу автомобиля, который стоял у тротуара напротив ресторана.
Девицы шествовали впереди мужчин.
— Ну и жлоб этот Тино. Из-за одного ужина и прогулки в машине выкидывает такое свинство. При первой же возможности набью ему морду.
Женщины на кухне, покончив с грязной посудой, вышли в зал, чтобы, взгромоздив стулья на столы, убрать помещение. Швейцар запер двери, и, пока хозяин заведения снимал кассу, служащие собрались вокруг стойки, чтобы получить свою долю прибыли, которую им выплачивали ежедневно.
Мария в дальнем конце зала распихивала по карманам пальто пакеты с едой, доставшейся ей при дележке кухонных остатков.
— Эй, ты, хочешь риохи?
— Да. Но много не наливайте, — отвечала она.
— Ладно, не притворяйся. Все знают, от вина ты никогда не откажешься.
Стакан риохи плохо подействовал на нее. Может, потому, что оказался последним в тот день, а может, по иной причине. Во всяком случае, он тяжелым камнем лег в желудке и даже вызвал икоту.
Все огни в зале погасили. Горела лишь лампа на стойке. С улицы Реколетос доносился приглушенный голос ночного сторожа да удары палки о плиты тротуара.
Они вышли на улицу. Темноту ночи пронизывали молочно-белесые лучи. Из-за рваной тучки торчали рога месяца. Было свежо, и редкие прохожие спешили, пряча голову в воротники пальто и плащей. Мелкий моросящий дождик, казалось, боялся смочить мостовую.
— До завтра, Мария.
— Пока, Луси, пока.
— Прощай. До завтра, — попрощались товарки.
Привычной ночной дорогой Мария пошла домой. Сначала по Кастельяне до площади Кастеляра, потом вверх по Мартинес Кампос до площади Иглесиа.
Марию тряс озноб, в желудке противно сосало. Она еще сильнее ссутулилась, засунула руки в карманы пальто. Потрогала пальцами миндаль и земляные орешки. Съела два орешка.
Открыла ключом подъезд. Прежде чем войти, посмотрела на небо. Ярким светлячком мелькнула падающая звезда. Мария невольно сказал вслух:
— Холодно. Скоро рассветет. Наступит новый день, и опять будет все по-старому.
А потом в темноте, в коридоре, у нее упал на пол ключ. На следующий день она ни о чем не помнила.
Настал день бракосочетания. Дон Хосе и сеньора Аида дожидались в помещении приходской канцелярии, когда священник освободится и приступит к оформлению их брака.
Свидетелей дона Хосе звали Флориан и Франсиско. Флориан был хозяином угольной лавки, расположенной через две улицы от тряпичной лавки дона Хосе. Франсиско служил приказчиком угольщика.
Свидетелями Аиды были также два друга дона Хосе. Официант Кеведо и один из постоянных клиентов старьевщика, некий Элеутерио, занимавшийся поставками.
Приходская канцелярия представляла собой маленький зал справа от алтаря, если стоять к нему лицом. Свет сюда проникал в большое зарешеченное окно, в которое виднелся сад. Чуть поодаль от стены стояли два стола, покрытые толстым стеклом. На столах располагались пишущая машинка марки «Континенталь», серебряная пепельница, настольное распятие и папка из черной клеенки.
На другой стене комнаты висели огромные часы в деревянном футляре, крашенные белой краской. Рядом три кружки для подаяний. Одна для благословенных душ чистилища, другая для приходских нужд, а третья для украшения алтаря перед статуей святого, чье имя, по всей видимости, Амвросий, частично было стерто.
Под часами стояли три стула с сиденьями из жесткого картона. На противоположной стене красовалась хоругвь Марианской конгрегации, еще одна кружка для папских деяний и две литографии с изображением святой Терезы и святой Изабеллы Венгерской.
На двери, ведущей за алтарь, с наружной стороны, прикрепленная кнопками, висела картонная табличка. Она извещала:
Индульгенции от двенадцати до двух
Аида не спускала глаз с двери. Не находила себе места волнуясь. Священник все не появлялся. Она нервно сжимала и разжимала пальцы рук, лежавших на коленях. Мужчины, стоя у окна, рассматривали сад и курили сигарету за сигаретой. На стульях напротив примостились три старухи с молитвенниками в руках. Они не то мурлыкали молитвы, не то размышляли о божественном и потустороннем, ибо каждую минуту испускали громкие, тяжкие вздохи, сопровождаемые возгласами: «Ах, боже мой!», причем делали это так поспешно, словно умирали от скорби или мучались в аду.
Вздохи и охи трех старушек могли вогнать в тоску и менее закаленное, чем у Аиды, сердце.
Дон Мануэль, приходский священник, только что отслужил утреннюю мессу. Он снимал в ризнице облачение с помощью пономаря, который поспешно подал ему четырехугольную шапочку-бонете.
Сестра Мария де Хесус стояла у двери в ризницу, ожидая, когда падре переоденется, чтобы доложить ему, что завтрак готов.
Дон Мануэль перешел в зальчик, смежный с ризницей, размышляя о том, что лучшей судьбы для священника, чем быть капелланом у монашек, и придумать трудно. В зальчике, да и повсюду чувствовалось страстное и даже чрезмерное увлечение чистотой и порядком, присущее сестрам во Христе. На вышитой гладью скатерти мать настоятельница расставила сервиз из тонкого фарфора, ранее принадлежавший Севильскому монастырю.
Сестра Мария де Хесус ублажала капеллана. Он жил среди монашек, как петух в курятнике. Что называется, купался во всех этих мармеладах, пышных бисквитах на сливочном масле, яйцах всмятку, добром старом вине и кофе со сгущенным молоком.
В углу стола возвышался большой кувшин с цветами, которые монашки нарезали в своем саду. Он вносил в обстановку веселую, кокетливую ноту. На стене и на консоли, покрытой тонкой материей и обшитой кружевами, величаво покоились изображения распятого Христа.
Дона Мануэля печалил взгляд спасителя, поэтому он обычно, прежде чем начать трапезу, ставил между собой и распятием кувшин с цветами.
— Дон Мануэль, жених с невестой и несколько старушек дожидаются вас, они сидят в кабинете, — сказал пономарь, появляясь в дверях.
Капеллан пил кофе маленькими глотками.
— Сегодня кофе много слабее, чем обычно, — заметил он.
— Это гвинейский, бразильский у нас кончился. Привезут только через несколько дней, не раньше, — ответила сестра Мария де Хесус.
— Сразу заметно, что не бразильский.
— А я ничего не замечаю, я не любительница кофе, — сказала монашка.
— Иполито, скажи им, что я сейчас приду. Можешь начать с епархиальных анкет.
— Хорошо, дон Мануэль.
Дон Мануэль, кончив завтракать, закурил сигарету и грузными шагами направился в приходскую канцелярию исполнять свои дневные обязанности.
Аида и дон Хосе придвинулись к столу и беседовали с пономарем.
Старушки с молитвенниками прекратили свои вздохи, как только вошел священник, и окружили его.
— Мы пришли за талонами на еду, — тараторили они.
— Приходите в другое время. Вы же знаете, что талоны выдаются после вечерней молитвы, — объяснил им падре.
Дон Мануэль положил сигарету в пепельницу на столе.
— Итак, — сказал он, — кто здесь жених с невестой?
Прежде чем ответить, дон Хосе повернулся к Аиде.
— Вот она и я, — сказал он тихим голосом.
Священник посмотрел прямо в лицо прихожанам и невольно улыбнулся.
— Боже мой! А я-то думал, что это удел молодых. Но в последнее время что-то часто стали жениться пожилые.
Четыре свидетеля, подойдя к столу и встав за стульями жениха и невесты, весело рассмеялись — замечание ведь относилось не к ним.
Священник взял сигарету из пепельницы и затянулся.
— Начинай, Иполито.
— Ваше имя?
— Хосе Крус Гарсиа.
— Откуда родом?
— Из Фуэнтесеки, провинция Бургос.
— Семейное положение?
— Вдовец.
— Возраст?
— В январе исполнится пятьдесят один.
Пока пономарь записывал данные будущих супругов, в дверях показался служка.
— Дон Мануэль, сестра Анхела хочет пас видеть!
— Иду, — ответил падре и поспешил за служкой. Отсутствовал он довольно долго. Пономарь записывал ответы одного из свидетелей.
— Ваше имя?
— Элеутерио Руис Айюкар.
— Профессия?
— Старьевщик.
— У вас есть с собой какой-нибудь документ, удостоверяющий вашу личность?
— Продовольственные карточки, — ответил Элеутерио.
Священник снова уселся на прежнее место.
— Когда вы хотите сочетаться браком? — спросил он.
— Как только можно будет, — ответила Аида.
— Подождите минуточку. Сейчас посмотрю книгу бракосочетаний.
Он взял книгу в руки. Из кармана сутаны достал очки, напялил на нос. Указательным пальцем стал листать страницы.
— А ну-ка, ну-ка… Сегодня у нас, кажется, семнадцатое? Да? На десятое число следующего месяца. Вот так.
Он захлопнул книгу и положил ее на стол.
— А какую вы собираетесь устроить свадьбу? У нас имеются на разные цены, все зависит…
— Я даже не знаю… — пробормотал жених.
— Есть, например, за три тысячи песет… с органом, квартет инструменталистов, смешанный хор, цветы на главном алтаре и гирлянды по всем скамьям, у входа ковер. Такая свадьба — одно загляденье.
— Не знаю, нам бы хотелось…
— Имеется и на тысячу восемьсот. Все то же самое, но без квартета и хора, церемонию сопровождает только орган.
Дон Хосе поднялся на ноги и стоял, понурив голову, усиленно рассматривая комочек грязи, прилипший к носку правого ботинка.
— Не знаю, как бы… мы… А нет ли другой, подешевле?
Священник снял очки и держал их двумя пальцами, большим и указательным. Левой рукой он протер глаза.
— За восемьсот песет устраивается в большом алтаре, немного цветов и на фисгармонии играют марш Мендельсона; ковер стелят только перед машиной.
После слов дона Мануэля воцарилось молчание, жених продолжал разглядывать носок ботинка.
— Видите ли, падре…
— Сколько вы хотите потратить? Пятьсот? Четыреста?
Дон Хосе не отвечал; наконец он избавился от пятнышка грязи на ботинке, отчистив его носком другого ботинка. Аида рассматривала какую-то точку на потолке… Четыре свидетеля благоразумно удалились к окну, выходившему в сад.
— Еще меньше? Говорите, сколько вы хотите или можете заплатить. Не будем же мы торчать здесь весь день. — Священник, играя очками, недовольно поглядывал на жениха с невестой.
— Вы простите нас, падре, — сказала Аида.
— Самая дешевая — за двести песет, не считая, конечно, свадьбы для бедняков. Но если вы желаете сочетаться браком, как бедняки, то должны принести справку.
— Ну, как ты считаешь, Аида, насчет этой, по двести? — спросил дон Хосе.
— Как ты скажешь.
— Ладно, давайте эту, за двести. — Он поднял голову и посмотрел на священника.
— Церемония за двести песет проводится не в главном алтаре, а в боковом и рано, в восемь утра.
— Хорошо, — согласилась Аида.
— Ну, тогда пока все. Вам надо будет прийти за оглашением, чтобы отнести его в епархию. Не забудьте. Ежедневно в семь часов вечера у нас читают катехизис для вступающих в брак.
Дон Мануэль надел очки.
— Явка обязательна, — добавил он и занялся другим делом.
Молча спустились они по лестнице на улицу. Желтый трамвай нещадно завизжал тормозами. Становилось холодно, и Аида подняла воротник пальто.
— Все в порядке, — сказал жених.
— Да, теперь недолго осталось. Ох, как мне хочется скорей зажить своим домом, Хосе!
— Вам холодно, Аида? — спросил Флориан.
— Да, немножко.
— Самое лучшее средство от холода — это пропустить по стаканчику красного с порцией рубца или улитками под пикантным соусом, — сказал свидетель.
— Как-то неожиданно наступил холод.
— А вы не любите улитки под соусом?
— Когда они без перца, тогда люблю, — отвечала женщина.
— Перец тем плох, что потом весь чесаться начинаешь, — заметил Элеутерио.
— Ну, а мне улитки под пикантным соусом нравятся в любом виде, хоть на голове шелудивого, и ничего не чешется. От вина и от улиток я начинаю ходить, как часы, — сказал в заключение официант из кафе.
— Хотите «Буби»?
— Ну и дон Хосе! Никогда не думал, что вы курите дамские сигаретки.
— Я курю только черный табак, но иногда мне доставляет удовольствие угостить светленьким.
— Куда сейчас пойдем?
— В «Святую Энграсию», в таверну, куда я всегда захожу, когда запираю свою угольную лавку.
— А как у вас идут дела, дон Флориан? — поинтересовалась Аида.
— Так себе. Люди не хотят платить. У меня уже скопился длиннющий список должников, наверно, не меньше километра.
— Да не жалуйтесь, Флориан, — сказал Элеутерио. — Я знаю, вы, угольщики, мочитесь на уголь, чтобы он весил больше. По крайней мере одного такого я прекрасно знаю.
— Так, значит, вам не нравятся улитки под соусом, сеньора Аида?
— Я же вам сказала, что нравятся, но только без острой приправы. У нас в деревне их отменно готовили. Сперва их хорошенько моют, потом кладут луку, кровяной колбасы, красного перца и немножко домашней колбаски.
— А вы из каких краев?
— Из Альдеануэвы, в провинции Сеговия.
— А я из дальних мест, из Кантимпалоса, у нас отлично делают домашнюю колбасу.
Официант Кеведо шагал молча, засунув руки в карманы брюк.
— Вы что-то все время молчите, — сказал ему Франсиско.
— Я замерз.
— В такой собачий холод у самого господа бога начнет капать из носа. Ну и времечко!
— Вот как только дадут мне рождественскую зарплату, обязательно куплю себе габардиновый плащ. Без пальто можно окоченеть от холода. Обязательно скажу жене, она-то меня поддержит.
— Ну, значит, еще одним женатиком больше станет. А, дон Хосе?
Они вошли в таверну и сразу же направились к стойке. В заведении Лусиано стены были украшены талаверской мозаикой.
И висело большое объявление:
ПЕТЬ, ДАЖЕ ХОРОШО, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Дон Флориан указал друзьям на клетку, свисавшую с потолка.
— Ох, и болтливый этот попугай. Его зовут Пако.
— Ну что же это такое, Элеутерио? Вы даже не дотронулись до улиток? Они очень вкусные.
— Не могу, дон Хосе, никак не могу. Потом у меня начнет все чесаться.
— Тогда закажите себе что-нибудь другое, — сказала Аида.
— Я поем немного оливок.
— Вы видели, какой священник? Из тех, что гребут под себя.
— Да, дон Хосе, такие умеют жить. Нечего обманываться на этот счет. Им палец в рот не клади, — сказал Элеутерио.
— Они да военные — вот моровая язва. У нас в Испании только и есть, что попы да военные, — добавил Флориан.
— И ведь никто не вышибет их из седла.
— Да, они присосались к титьке и не отпускают даже, чтобы передохнуть. Как вы считаете, Аида?
Аида сделала жест, который, видимо, должен был обозначать, что она согласна с этим утверждением.
Все замолчали и усиленно принялись за улиток. Только Элеутерио изредка заводил с хозяином таверны разговор о хлебе.
— Какой он у вас белый и мягкий. Откуда вы его достаете?
— Он мне обходится по три песеты за каждый батон. Хотите верьте, хотите нет. Для таких девочек… Каждое утро мне его приносят из пекарни. Все устраиваются как умеют, — отвечал кабатчик.
Пока Элеутерио разговаривал с кабатчиком, Флориан беседовал с Аидой.
— Дон Хосе говорил мне, что вы уже ведете хозяйство.
— Да, сеньор.
— Жилье — это настоящая проблема. У меня вот две дочки на выданье.
Пробило одиннадцать часов, и каждый отправился по своим делам. Флориан и Франсиско — в угольную лавку. Официант Кеведо — спать, он работал в ночную смену, Элеутерио и дон Хосе — в тряпичную лавочку, завершить очередную сделку с макулатурой, Аида — на площадь Олавиде, чтобы сделать необходимые покупки к обеду.
— Не забудь, Хосе, нам обязательно надо пойти на катехизис. В семь вечера, — напомнила она при прощании.
* * *
Наступил рассвет дня свадьбы. В квартире стоял радостный переполох — все жильцы были приглашены на церемонию, даже Педро, брат Антонии. В кухне Ауреа и Мария производили генеральную уборку. Хоакин брился перед зеркалом, которое примостил в уборной. Антония причесывала сеньору Аиду. Невеста страшно нервничала и все расспрашивала насчет церемонии.
— Как ты считаешь, я не очень сильно накрашена? Может, больше не надо пудры? И так очень бледная.
— Все в порядке, — успокаивала ее Антония.
— Я думаю, очки надо бы оставить дома.
Педро, забравшись на кухню, читал утреннюю газету и думал о своих делах. «Не понимаю, с какой стати я пришел сюда, все глупости сестры». Стояли холода, и он не снял пальто.
Некоторое время спустя прикатило такси за невестой. В такси восседал дон Флориан. Он был шафером. На нем красовался темно-синий костюм с красной гвоздикой в петлице, Хотя было еще очень рано, только начало восьмого, он курил большую гаванскую сигару.
— Ну, как невеста? Готова? — спросил он, едва открыв дверь.
— Сию минуточку будет готова, как раз заканчиваю прическу, — отвечала Антония из комнаты.
— Ох уж эти женщины, только и думают что о тряпках да прическах! Моя поднялась спозаранку, еще шести не было, чтобы подкраситься.
— Вы приехали на машине?
— Стоит внизу, сеньора Аида.
Флориан прошел в столовую. Хоакин только что побрился и разговаривал с Педро.
— Ну что, холодно на улице? — вместо приветствия спросил Хоакин у угольщика.
— Черт-те сколько ждать. Я оставил плащ в машине и прямо-таки окоченел тут от холода, это не дом, а какой-то холодильник. Слава богу, хоть пропустил пару рюмочек, как встал с постели, — сказал Флориан.
Сеньора Аида, причесанная и наряженная, вышла из своей комнаты. Она была в костюме: черный жакет, узкий в бедрах и свободный в груди. В вырез жакета выглядывала кружевная кофточка. Туфли на высоком каблуке с чуть-чуть зауженными носками. На голове белая шляпа, украшенная голубым бантом.
— Добрый день, дон Флориан и все остальные, — поздоровалась Аида.
Дон Флориан затянулся сигарой и взглянул на невесту. Затем медленно поднялся и, сделав выразительный жест, присвистнул:
— Вот это невеста! Да вы настоящий бутончик, сеньора Аида!
Аида, довольная, улыбалась.
— Вы сегодня тоже хоть куда, красавец.
— С такой невестой рядом стыдно быть некрасивым.
— Ну, мы пошли. Хотим посмотреть, как вы будете входить в церковь, — сказала Ауреа.
— Кто-нибудь может сесть со мной в машину, места хватит, — напомнила Аида.
— Пускай едет Антония на случай, если растреплется прическа.
— Хорошо, — согласилась девушка.
Невеста, шафер и Антония (времени еще было достаточно) дали большой круг по бульвару Кастельяна. Тележки, заваленные мешками с добычей старьевщиков, тащились к Тетуан де лас Викториас.
— Сделайте еще кружок по площади Цибелы, — попросил Флориан шофера такси.
Они объехали вокруг площади и, вернувшись на Реколетос, поднялись вверх по Мартинес Кампос.
У входа в церковь жениха и невесту дожидалась группа людей.
Дон Хосе в темном костюме, в белой накрахмаленной сорочке, при черном галстуке вышел вперед, открыл дверцу такси и, подав Аиде руку, помог ей выйти из машины. Вчетвером они поднялись на паперть, чтобы здесь подождать начала церемонии: утро выдалось весьма прохладное.
На башне пробило восемь часов, а священник еще не показывался. Фотограф несколько раз моргнул своей лампой-вспышкой.
— Встаньте поплотнее, тогда все получатся.
Время шло, а священник так и не являлся. Некоторые из приглашенных прошли в церковь через боковые двери. Но тут же возвратились, говоря, что в церкви такая же стужа, как на улице. И вдобавок там другая группа тоже дожидается венчания.
Педро, Хоакин, Антония и еще несколько приглашенных перешли на противоположный тротуар.
— Пойдем хоть чего-нибудь выпьем, согреемся, — сказали они.
Дочки дона Хосе тоже удалились. Одна из них, смазливая и вертлявая, та, что, по словам отца, гуляла с Эухенио, кокетничала с Пако, приказчиком из угольной лавки Флориана.
— Ну, а ты когда выйдешь замуж? — спросил Педро у сестры.
— Луис хочет жениться как можно скорей. Я как раз об этом хотела поговорить с тобой.
— А что он делает?
— Он закончил факультет права. Я тебе много раз про него говорила, но ты так редко бываешь дома, что ничего не помнишь.
— Мало мне своих забот, чтобы еще помнить о твоем женихе. Он работает?
— Его скоро устроят, он будет давать уроки в колледже.
Педро отпил из своей чашечки.
— Это не кофе, а какое-то пойло, — сказал он, обращаясь к официанту. И продолжал беседовать с сестрой. — Значит, учитель. Нечего сказать, хорошее занятие, чтобы зарабатывать деньги. А ты знаешь поговорку: «Нет на свете голоднее человека, чем школьный учитель». Да у вас все кишки подведет от голодухи. Ты хорошо подумала, Антония?
— Да.
— У вас ист ничего за душой. Ни денег, ни квартиры. Ему дадут грошовую работу, а вы мечтаете о многом, не так ли?
— Вроде того.
— С милым рай в шалаше. Ах, не смеши меня, не то заплачу! Да, ради любопытства, а где вы собираетесь жить? — насмешливо спросил Педро.
— Сама не знаю, но, если Луис захочет, я завтра пойду с ним куда глаза глядят.
— И… даже в трущобу?
— Мне все равно, Педро. Я согласна па что угодно, лишь бы не оставаться больше дома. Меня душат эти проклятые стены. Но… я напомню тебе то, что ты забыл. Ты по крайней мере раньше утверждал, что готов на все, лишь бы вырваться отсюда.
— Но ведь ты женщина, ты не умеешь устраиваться, как мужчины. А твой Луис — я по твоим словам сужу — парень образованный, он не станет жениться на простой работнице, — сказал Педро.
— Все равно я уйду с ним.
— Скажи откровенно, у тебя с ним что-нибудь было?
— Да, я его люблю! Понимаешь? Но не поэтому я хочу уйти с ним. Хочу ради себя. Понимаешь? Ради себя самой. Я пойду с ним, даже если он на мне не женится.
— Ты забеременела от него?
— Нет. И дело совсем не в этом. Прошу тебя, не расспрашивай меня про такие вещи. От тебя одного я только могу принять помощь. Ты нам поможешь?
— Тебе это очень нужно?
— Это моя последняя надежда. И ты можешь выручить нас. У тебя есть деньги, ты хорошо зарабатываешь, — сказала Антония. Она пристально смотрела в лицо брату.
— Да, я зарабатываю. Я головорез. Берусь за любое дело. Но я уношу крохи, которые оставляют жирные боссы. Мне достается опасность, а им кучи монет. Но ради того, чтобы не голодать, я готов на все, а с ними можно проворачивать отличные дела.
— У тебя, как и у меня, не было выбора. Но ты хороший.
— Возможно.
Наступило молчание. Педро вспомнил те времена, когда он, по понятиям сестры, был хорошим. Они питались на подаяния отдела Общественной помощи. В пивнушке он зарабатывал один дуро, а ишачил, как вьючное животное. И когда хозяин рассчитал его, он дал себе слово никогда не голодать, чего бы это ему ни стоило. С тех пор и началась для него новая жизнь.
Он взглянул на Антонию. Нежность теплой волной захлестнула его: он ласково погладил сестру по щеке.
— Сколько вам надо?
— Не знаю.
Педро достал бумажник и вытащил из него пачку сотенных. Антония как завороженная смотрела на руки Педро, отсчитывающего банкноты.
— На, возьми пока три тысячи, больше со мной нет.
— Это много. Сейчас нам столько не надо.
— Ладно, бери. Никогда не жалей денег.
— А ты знаешь, Педро, сколько можно сделать на эти деньги?
— Конечно, знаю. На деньги можно сделать все, что угодно. Поэтому-то их никто из рук не выпускает. Поэтому я и трачу все до последней монеты. Кто знает, что случится со мной завтра? Если со мной что приключится, я уверен, они бросят меня на дороге. А сами умоют руки. Так что я считаю: живи, пока живешь, а заработать я всегда сумею.
— Спасибо, Педро.
— Да не благодари меня, только в краску вгоняешь. Я сорю деньгами направо и налево.
Антония сжала руку брата.
— Дай свой адрес, я хочу видеть тебя. И Луис хочет познакомиться с тобой, я столько говорила ему о тебе.
— Приходи в бар Чикоте. Спросишь там любого, где я. И тебе сразу скажут. Меня все знают.
Подошел Хоакин.
— Да ты сделался настоящим сеньорито, Педро. Одеваешься, как барин.
— Я неплохо живу, приятель. А у тебя как дела?
— Можешь представить, если я живу на одну зарплату.
— Ты знаком с женихом Антонии? — спросил Педро.
— С Луисом? Да, хороший парень, у него светлая голова.
— Это самое главное. Вот сестра говорит, что он собирается жениться на ней.
— Да. Я знаю. Правильно делают.
Они замолчали. Вскоре один из приглашенных сообщил, что священник наконец появился в церкви.
— Я заплачу за всех, — сказал дон Флориан, — на то я и шафер.
Жених и невеста вошли в церковь через боковую дверь, которую распахнул перед ними служка.
— Главный вход открывают только на богатых свадьбах, — заметил один из приглашенных.
Церковь освещалась лишь узкими снопами света, проникавшими в стрельчатые окна, пробитые в кирпичной стене. Алтари были погружены в полумрак, за исключением главного, с Пресвятой Девой, вокруг головы которой светилась корона из маленьких лампочек.
На скамьях в левом приделе дожидалась группка людей. У мужчин под мышкой торчали бутербродницы, у женщин — хозяйственные сумки.
Священник вышел из ризницы во всем облачении, держа в руках чашу с вином и плат. За священником семенил служка с молитвенником. Священник положил плат на алтарь.
— Это вы брачующиеся? Подойдите сюда. — И тут же обратился к другой группе: — А вы, кажется, по самой бедной категории? Ну так вставайте тут, слева.
От группы отделились юноша и девушка с двумя шаферами. Жених и один из шаферов пришли в плащах. Невеста и посаженая мать были в пальто.
Началось святое таинство. Приглашенные дона Хосе выстроились за исповедальней. Приглашенные бедняков — с другого края алтаря.
Сеньора Аида, стоя на коленях, вспоминала свою первую свадьбу с покойным мужем. В тот день стояла страшная жара. Хлеб лежал у гумна, молотьбу еще не начинали. Вот это был праздник! После свадебной церемонии молодежь отплясывала агаррадо в большом гумне, а пожилые — сеговийскую хоту. Рекой лилось себрерское вино. Закусывали ветчиной последнего закола. А вечером, по древнему обычаю, молодоженам надели воловье ярмо, и они отправились пить воду из фонтана у церкви. Они с Хулианом тащили тяжелую соху, проводя, как положено, глубокую борозду. Все парни остались довольны.
Голос священника, сильный и звонкий, нарушил ее воспоминания. Падре читал послание апостола Павла коринфянам.
После церемонии с той же медлительностью, с какой он появился в церкви, падре вернулся в ризницу. Любопытствующие монашки из хора то и дело высовывали головы.
Иногда по вечерам Хоакин вместе с Энрике ходили в гости к Аугусто. Элена, жена Аугусто, с симпатией относилась к Хоакину.
— Нравится мне этот Хоакин, серьезный парень, — говорила она.
— Понемногу приобщается к нашему делу, — отвечал Аугусто.
Трое мужчин, усевшись за обеденным столом, обсуждали сообщения газет и радио. Элена, сидя у подоконника, кормила ребятишек и прислушивалась к беседе мужчин.
— Я совсем что-то духом упал, — сокрушался Аугусто.
— Да, много наших гибнет. Зато другие пополняют ряды, вот Хоакин, например.
— У нас сейчас работает новый фрезеровщик. Гонсалес, кажется, его фамилия. Я слышал его несколько раз, наш человек, — сказал Хоакин.
— Вы там поосторожней. Потом поздно будет плакать, — вступила в разговор Элена.
— Гонсалес говорит очень просто и вместе с тем ясно и понятно, — продолжал рассказывать Хоакин.
— Надо быть в курсе всех дел.
— Мне он напоминает Селестино, того, которого посадили за пропаганду.
— У него, кажется, было двое детишек?
— Четверо.
— Как только подумаю о таком, сразу дрожь пробирает, — заметила Элена, оборачиваясь к кухне. Там слышалась возня ребятишек.
— Необходимо собрать деньги для его жены. Нас на заводе много, и та малость, которую может уделить каждый в конце недели, выльется в ощутимую помощь. Я считаю, что это тоже одна из форм нашей борьбы.
Аугусто откинулся на стуле, в руке у него дымилась сигарета. С кухни донесся шум льющейся воды.
— Это не ребята, а настоящие чертенята, — сказала Элена. — Не иначе как с водой балуются.
И она поднялась, чтобы пойти отругать проказников.
— Ну, на кого вы похожи, промокли до нитки. Нельзя ни на минуту оставить вас одних. А ведь вы уже большие. Стоит мне отвернуться, вы уж тут как гут, обязательно набедокурите, — выговаривала мать.
Энрике повернулся к Аугусто.
— Падать духом не стоит. Когда у человека впереди ясная цель, он неуклонно должен стремиться к ней.
— Да, но дело идет так медленно.
— Надо трезво смотреть на вещи, и нам особенно. Рабочему классу предстоит преодолеть еще много трудностей, много невзгод. И не только в Испании, но и во всем мире.
На кухне уже не лилась вода из крана, раздавалось лишь тихое позвякивание, это Элена ворошила кочергой в печке.
— Сейчас принесу солодового кофе, погодите немного.
— Мы должны следовать путем, который наметили, — продолжал Энрике. — Если каждый из нас выполнит свою часть работы, будет вполне достаточно. Ты читал, Хоакин, то, что я оставил тебе?
— Да, но попадаются вещи, которых я не понимаю.
— Не уверен, смогу ли я тебе все объяснить. А что тебе непонятно?
— Насчет снижения реальной заработной платы рабочих. В книжке говорится, что это зависит от мизерных заработков крестьян-поденщиков.
— Ты же знаешь, что крестьяне получают дерьмовую плату, что есть провинции, где они работают всего три-четыре месяца в году. Ну так вот, вся эта масса людей оказывает давление на жизненный уровень других трудящихся. Выглядит это как противоречие, но чем больше безработных, тем меньше получают за свой труд те, кто имеет работу. Ну, как бы тебе это объяснить… ну, вроде того, если бы ты работал за своим токарным станком, а рядом стояли бы еще два человека, готовые в любую минуту подменить тебя за ту же, а то и за более низкую плату. В таком случае хозяин ни за что не повысит тебе заработка. Он заявит, что двое безработных выручат его, как только ты посмеешь протестовать. И это действительно так. Рабочему приходится соглашаться с требованиями хозяина.
— Что же тогда делать?
— Такое положение может устранить только отсутствие безработных. Необходимо, чтобы все были обеспечены работой и чтобы она была правильно распределена. Вот почему надо бороться за повышение заработной платы, и не только для рабочих, но и для крестьян.
— Чтобы знать такое, не надо и книжки читать, — заметила Элена, расставляя на столе чашки и наливая солодовый кофе. — Настоящая бурда, — пробормотала она.
— Как я тебе говорил… — продолжал Энрике.
— Ну что за мужчины, черт бы вас побрал! Только и болтают о своей политике. Да поговорите вы о чем-нибудь другом, — садясь за стол, проворчала Элена.
Мужчины замолчали. С улицы донесся грохот повозки, перезвон колоколов церкви на Аточе.
— Уже восемь, я пошел, — сказал Хоакин.
— Обожди немного, сейчас спустится Роса, и мы проводим тебя до метро, — сказал Энрике.
Дети Аугусто возились в столовой. Элена и трое Друзей потягивали солодовый кофе.
— Ты когда вернешь мне книгу? — спросил Энрике у Хоакина.
— Через несколько дней принесу.
— Дело в том, что много людей дожидается.
— Вы все носитесь с этими книжками. Вот увидите, в один прекрасный день вас поймают.
— Мы действуем осторожно, жена, — успокоил ее Аугусто.
— Да, три дня поосторожничаете, а потом все забываете. То же самое, что с моим отцом. «В последний раз, жена», — уверял он мать. И два-три месяца вел себя спокойно, а потом начинал все сначала.
— Ее отец был настоящим человеком, хотя и был простым рабочим-активистом, — пояснил Аугусто.
— Мой отец так никогда и не исполнил своего обещания матери. Все его заверения, что не будет ни во что соваться, оставались только словами. Ох, и заставил же он нас пострадать!
Тут постучали в дверь. Энрике пошел открывать. Это пришла Роса.
— Добрый вечер, — поздоровалась она со всеми.
— Сильно устала? — спросил Энрике у своей невесты.
— От этого шитья у меня в глазах зайчики скачут. Пойдем пройдемся, подышим воздухом, я хоть глаза закрою, пускай отдохнут. — Роса завела разговор с Эленой и детишками.
— Как поживаешь, Эмилии? Что ты сегодня делал?
— Сегодня меня учитель вызывал к доске, — отвечал мальчик.
— А он напутал при сложении, и ему поставили кол, — наябедничал брат Эмилина.
— Не будь ябедой, это скверно, — сказала мать.
— Будешь ябедничать, я тебя отстегаю, — пригрозил сыну Аугусто.
— Роса страшно любит детишек, — сказал Энрике. — По-моему, ее хлебом не корми, а дай только покачать на руках малыша.
— Ну, тогда тебе надо быть очень осторожным, когда вы поженитесь, — рассмеялся Аугусто. — Женщины, которые любят ребятишек, тут же беременеют.
— Беречься должна будет Роса, а не он. Вы, мужчины, только и думаете о своем, а отдуваться приходится нам, женщинам, — возразила Элена мужу.
— Моя невеста тоже очень любит детей, — сказал Хоакин. — Ну, я пойду, — добавил он, вставая со стула и беря свою бутербродницу.
— Мы проводим тебя до метро, — сказала Роса.
Они вышли на улицу. По Аточе прохожие сновали, как муравьи. Дойдя до площади Антона Мартина, они остановились у входа в метро.
— Ты пойдешь к Пепите? — спросила Роса у Хоакина.
— Сегодня нет. Уже поздновато ехать в Эстречо.
— Ну, тогда до завтра.
— До завтра, — попрощался Хоакин.
Роса с Энрике побрели по набережной вдоль реки. Мансанарес походил на серебристую ленту. У парапета целовалась парочка. Легкий ветерок качал ветви деревьев, росших на берегу. Тихо шелестела листва.
— Ты о чем задумался?
— Ни о чем.
— Всегда о чем-нибудь да думаешь.
— Ну, конечно.
— О чем же?
— Никак не могу избавиться от страха, когда ты начинаешь говорить о политике.
— A-а, ничего не будет.
— Если что случится, Энрике, то знай, я все мужественно перенесу.
Они остановились под арками моста. Голос Энрике дрогнул, как река на перекате:
— Роса!
— Я люблю тебя, — ответила девушка. — С первой же встречи полюбила.
День стоял ясно-голубой, отвесные лучи солнца раскаляли мостовые предместья. Прохожие спешили по улице Гарсиа Морато. Набитые людьми трамваи, нещадно скрежеща колесами, оставляли далеко позади группы мужчин и женщин, мельтешащих и ползущих, как муравьи, в направлении Рио Росас.
Хоакин с Антоном шагали молча, машинально поглядывая на мелькавших мимо прохожих. Впереди них шло несколько мужчин.
— С тридцать шестого ни разу не голосовал, — сказал один из них громко.
— А что надо написать? Я так толком и не знаю, — спросил другой.
— Надо написать «да» или «нет».
— «Да» или «нет» чему?
— «Да» — значит, ты за то, чтобы Испания стала монархией.
— Ничего не понимаю. С прежним правительством?
— Именно.
— А если я напишу «нет»?
— Ну, тогда не будет монархии и все останется по-прежнему.
— Опять ничего не понимаю.
— Ну, это очень просто.
— Наверное, только для тебя. Если я проголосую «нет», останется прежнее правительство?
— Конечно.
Перед зданием Горной академии толпились избиратели. Несколько гвардейцев прогуливались по улице. Люди, прислонясь спиной к решетке академии, грелись в лучах ласкового солнца.
Многие делились друг с другом своими заботами и треволнениями. Другие — они еще не успели заполнить бюллетени — просили разъяснить, как это делается.
— Послушайте! Голосовать за королевство, это для того, чтобы вернулся дон Хуан, тот, что живет в Португалии, сын Альфонса Тринадцатого?
Некоторые выводили на своих бюллетенях огромные «ДА». Те, кто написал в своих листках «нет», складывали их вдвое и прятали в карман. Они выспрашивали у проголосовавших, не проверяют ли члены комиссии бюллетени, прежде чем их опускают в урну.
— У меня не смотрели.
Антон, не вынимая рук из карманов, поглядывал вдоль улицы. За перекрестком виднелись поля, тянувшиеся вдоль канала Изабеллы II.
— Ну, а что пишет твой отец о Барселоне?
— Что ему писать? Говорит, что город очень большой, много фабрик и заводов и что Барселона хороша, если много барыша.
— Ну, так всюду, и в Барселоне, и в Мадриде, и в других городах мира.
— Изучает каталанский язык.
— Это неплохо. А они там не учат испанский? Никак не могу понять, почему некоторых бесит, что каталонцы говорят на своем языке. Они всосали его, как говорится, с молоком матери. Люди начинают негодовать, когда им что-то запрещают. А каталонцам не позволяют писать на своем родном языке даже вывески на магазинах.
— Вот там он и живет. Для меня он словно не существует.
К ним подошла очень полная женщина с хозяйственной сумкой в руке.
— Молодой человек, — обратилась она к Хоакину. — Правда, что тому, кто не проголосует, не станут платить жалованье на работе?
— Говорят, — ответил Хоакин.
— А вот муж утверждает, что все это мои выдумки.
— Да нет, ходят такие слухи.
— Ну и надувают же нашего брата. Вы никуда не уйдете? Тогда займите для меня с мужем место, мы сию минуточку придем. Я пока сбегаю в очередь за хлебом. Здесь очередь, там очередь, даже не представляю, что мы станем делать, когда исчезнут очереди. Наверняка случится, как с цыганской лошадью — только ее приучили не есть, она взяла да околела.
Женщина ушла. Антон вернулся к Хоакину.
— Ты все дружишь с Пепитой?
— Да.
— Вижу, ты здорово увлекся ею.
— В воскресенье выдалась хорошая погода, и мы отправились в Сомонтес пообедать. Ох и здорово было! Так и тянуло окунуться в Мансанаресе.
— Ну, совсем втюрился. Теперь тебя арканом не оттащишь, влип по уши.
— Пепита мне нравится.
— Так это у тебя серьезно?
— Да, друг, очень серьезно.
Мужчина, стоявший за пять-шесть человек от них, разговаривал с четой пожилых супругов. Старушка вовсю расписывала добрые старые времена.
— А вы помните, какой был голландский картофель? И чистить не надо было!.. А какой вкусный, рассыпчатый. В салат, бывало, положишь, сдобришь постным маслицем, посолишь, одно объедение. — Муж старушки согласно кивал головой.
— Да, сеньор, совсем иные времена были. Тогда молоко молоком было, а не какая-то там химия, как теперь. Теперь всякие порошки суют. Ума не приложу, к чему все это?
Старушка умолкла, должно быть размышляя над теми временами, когда молоко было молоком, а картофель картофелем из Голландии. Подняв голову, она спросила мужчину:
— А вы знаете, для чего мы голосуем? Что-то мне все эти штучки не по душе. По-моему, одни только неприятности могут приключиться. Ох, как мне нравился король. Однажды я видела его во дворце.
Мужчина улыбнулся.
— Может, мы, бедняки, не разбираемся в теперешних политиках. Должно быть, все из-за этого, — сказала старушка.
Рабочий, по виду каменщик, вышел из здания. Он только что проголосовал и вслух комментировал процедуру голосования:
— Дают бумагу. Специальную, с гербовой печатью. Потом, говорят, надо будет обязательно предъявить ее при получении зарплаты.
Хоакин с Антоном молча скрутили сигареты.
— А мне из пайка хватает всего на два дня. Остальные восемь курю контрабандные, — пояснил Антон.
— Вчера встретил Неаполитанца, у него дела идут шикарно.
— Ну, Неаполитанец подхалим.
— Живет как у Христа за пазухой.
— А меня воротит от его дел, я бы ни за что не смог. Конечно, и ему не всегда спокойно. Как-то рассказал мне, что полиция схватила его приятеля, у которого нашли сотню фальшивых продуктовых карточек.
— Ну и тип! — рассмеялся Хоакин. — А ты, Антон, чем занимался в воскресенье?
— Ходил в тюрьму на свидание с отцом, ходили всей семьей: сестра, мать и я.
— Что он сказал?
— Да что он может сказать? На вид не очень исхудал, но голодает почище собаки у слепого.
— Да, если у нас здесь подводит животы от голода, то уж в тюрьме и говорить нечего!
— Ходят слухи, будто монархисты… — начал Антон.
— A-а, не верю я в эти россказни…
Они замолчали. Антон думал об отце, о посещении тюрьмы.
В вагоне третьего класса быстро установился дружеский контакт между пассажирами. Каждый рассказывал о своем заключенном родственнике, делился надеждой на то, что его скоро отпустят.
— В ООН уже вели разговор на эту тему.
— Дни диктатуры сочтены. Я это из верных источников знаю, — говорила пожилая женщина.
— Вот уж сколько лет слышу об этом.
— А у вас кто в заключении?
— Муж, — отвечала мать Антона.
— А у меня брат сидит с тридцать седьмого. Вот, несу ему немного табака и еду.
— А я ничего не смогла взять из еды, уж больно дорогой проезд. Только благодаря товарищам, которые работали с мужем, и собралась в дорогу. Иногда, по субботам, они приносили мне деньги, — рассказывала одна из женщин.
— Да вы не беспокойтесь, они там все делят между собой, там крепкая организация, — разъяснил женщинам Антон.
— Вот я и говорю, что в ООН поднимался вопрос о политических заключенных. Сама по радио слышала.
— А я в ООН не очень-то верю. Ну, отозвали послов, и что дальше? Все по-старому осталось.
— Я приведу пример с моим сыном. Мы крестьяне, у нас ничего нет: ни мула, ни повозки, ни клочка земли, который мы могли бы обрабатывать. Нам до зарезу нужно, чтобы нашего сына скорей выпустили. Я уж совсем извелся, сил нет батрачить. Вон ей да мне, — старик указал на жену, — если нашего Кристобаля не выпустят, придется пойти просить милостыню. Он у нас единственный сын, и только он может нам помочь. Ему сейчас двадцать четыре года.
Антон, широко открыв глаза, вспоминает подробности поездки к отцу. Перед ним как живое стоит лицо тюремного офицера в окошке, через которое принимают передачу.
— Фабрисиано Лопесу никаких передач не надо.
— А куда его перевели? — испуганно спросила женщина.
— Никуда не перевели. Просто ему ничего уже не нужно.
Внезапно женщина все поняла.
— Его убили! Его убили! — закричала она.
Это был крик, вопль всего народа — женщин, мужчин, детей, — громкий и неудержимый.
Мать расстрелянного упала в обморок. Рухнула как подкошенная. Несколько женщин унесли ее на руках. Дети, перепуганные криком и смятением взрослых, жались к материнским юбкам, стараясь спрятаться.
— Какой хороший был парень. Его убили только за убеждения, никогда никому не сделал зла.
— Из дома выволокли живым, а теперь отправили на съедение червям.
— Замолчите! Замолчите! Криками тут не поможешь.
— Если сейчас же не замолчите, никаких свиданий не будет, — пригрозил женщинам тюремщик в хаки.
Родственники заключенных прошли в зал для свиданий с арестованными. Все стараются занять место поближе к решетке, обтянутой еще частой металлической сеткой. Нечем дышать. Пальцы стискивают проволочные ячейки, лица прижались к решетке, глаза впились в дверь, через которую должны выйти заключенные. Раздаются гулкие шаги надзирателя.
И вдруг неудержимый всплеск криков. На первый взгляд бессмысленных, непонятных. Каждый старается перекричать соседа.
— Да ты потолстел!
— Я принесла тебе яиц и немного хлеба!
— Табак! Ты слышишь? Та-бак!
— Дочка здорова, а сынок чуть прихворнул. Я оставила его у твоей сестры.
— Что ты сказала?
— Дочка здорова!
— А ты?
— Я хорошо!
— Хорошо?
— Хорошо!
— Все здоровы!
— Я нашла работу!
— Где?
— На заводе.
— Товарищи шлют тебе привет! Собрали денег на мою поездку и на передачу для тебя!
— Передай им привет!
— Как твоя учеба, Антон?!
— Математику сдал.
— У тебя есть невеста?
— Иногда гуляю с одной девушкой.
— Я говорила с адвокатом. Подадим на пересмотр дела.
— А как идут дела на воле?
Гулко раздавались шаги надзирателя. Молодые мужчина и женщина смотрели не отрываясь друг на друга, не произнося ни слова. И вдруг он, схватившись за решетку, закричал:
— Мария! Мария! Как только выйду, поженимся!
— Я будто не в себе, столько собиралась тебе сказать, а сейчас не могу и слова выдавить. Пять месяцев ждала этой встречи, все помнила, что надо сказать, а теперь вдруг забыла…
Маленькие дети то возились, играя на полу, то вдруг замирали, прижавшись к решетке.
— Не плачь, Хуанито. Смотри, вот это твой папа. Позови его.
— Папочка! Папочка!
И отец, взрослый мужчина, плакал, стискивая железную решетку.
— Скажи еще что-нибудь, сынок, скажи!
На улице, у ворот тюрьмы, воздух был пропитан светом и вздохами.
Точно изваяние, высилась посреди улицы фигура матери расстрелянного. Снова раздался ее крик, безутешный и хриплый. Две женщины держали ее под руки.
— Он был у меня единственный! Единственный! Они убили его! Но лучше пусть он умер героем, чем стал бы предателем!
Хоакин с Антоном, когда подошла их очередь, проголосовали против.
Рамиро де ла Ос Моратала, бывший участник фашистского крестового похода, бывший участник кампании в России, вошел в свою комнату. Он был высок ростом, чуть сутуловат, сухопар, с длинными, худыми руками. Лицо костлявое, с бледной кожей. Концы усов свисали вниз. Нос большой, прямой, маленькие глаза глубоко спрятаны. Веки голые, без ресниц.
— Ресницы я потерял в русскую зиму на озере Ильмень, — объяснил он.
По утрам Рамиро работал в конторе, а по вечерам — курьером на картонажной фабрике.
— Если утром я не ударяю палец о палец, — говорил он, — то по вечерам сбиваю все ноги, бегая по Мадриду. Но за утреннюю работу мне платят всего семьсот в месяц, а на них не проживешь.
Родился он в Вальядолиде. К началу гражданской войны тридцать шестого года Рамиро имел в кармане членский билет НПХО[17], немного знаний (он еще только начал учиться) и великие надежды на будущее.
Теперь ему стукнуло тридцать три. Жене его, Бланке, было чуть меньше. Дочь их звали Аделитой, и внешностью она была вылитая мамаша.
— Вы только поглядите на эту девочку, ест, как большая, а не в коня корм. Живот у нее, точно бездонный мешок. И куда только еда девается, одному богу известно. Все не впрок, — жаловалась мужу Бланка.
Рамиро с женой и дочерью поселились в комнате, которую в прошлом году оставила сеньора Аида. Они пришли по рекомендации Иларио, кабатчика с первого этажа, которому они, кажется, доводились троюродными родственниками.
В спальне стоял полумрак. Рамиро подошел к окну и открыл его.
В комнату ворвалось солнце. Свет брызнул на пол, на постель. Со светом проник и воздух, и вместе они преобразили комнату, придали ей жизни.
Рамиро оперся о подоконник и так постоял немного, затем обернулся к Аделите. Девочка была не причесана, с неумытым личиком, в тесном для нее платьице.
— Всегда шью на рост, но она так тянется вверх, что за ней не угонишься, — жаловалась Бланка Марии.
Девочка, заигравшись, наклонилась перед шкафом, заголив попку; из экономии ей даже не надевали трусиков.
Бланка готовила обед на керосинке. Дома она ходила в затрапезном виде и, хотя была в меру полна и смазлива, не вызывала вожделения у такого человека, как Рамиро, который изо всех сил старался взять жизнь за рога.
— Ну как дела? Как сегодняшние дела? — спросил он, стоя у окна.
— Какие дела?
— Ну вот, какие? Сама знаешь… обычные.
— Да как всегда, с каждым днем все труднее. Пойдешь в магазин, а там опять все подорожало. Вчера на реал, сегодня на несколько сентимо. Вот и крутись.
— А девочка?
Бланка стояла спиной к окну; она готовила в углу комнаты. Щеки у нее раскраснелись от огня керосинки, в руке она держала шумовку.
— Как ангелочек. Я подавила ей две картошечки и дала томатного сока. Немного поскандалила. Сам знаешь, бедняжечка целый день торчит взаперти в комнате. Мне так ее жалко! Должно быть, ей нездоровится, она кашляет.
— Ничего страшного.
Девочка забралась на стул. Уселась и, сжав куклу в руках, замерла, глядя в одну точку.
— Видишь, Рамиро? Вот так и сидит часами напролет. Прижмет куклу и сидит тихо-тихо и смотрит, смотрит.
У Бланки при виде дочери сердце обливалось кровью.
— Надо будет сводить ее к доктору. Не пойму, но странно она себя ведет: никогда не засмеется, как другие дети. Исхудала совсем, вон личико как заострилось, а вчера всю ночь прокашляла.
— Я что-то не замечал.
— А вы, мужчины, все такие, вас пушкой не прошибешь. Вам на все наплевать, кривая, мол, всегда вывезет. А я ночи напролет думаю о нас, о девочке, о том, из чего приготовить завтра обед…
— Все дело в том, что девочка не дышит воздухом. Ты ее не водишь гулять.
— Вожу, как только выдается время. Побыл бы ты на моем месте. Все приготовь, все убери. Ты выскочишь на улицу, и вся недолга. А когда вернешься, подавай тебе обед, и комната чтобы прибрана была. Ты бы лучше позаботился о нас, нашел бы отдельную квартиру, светлую и просторную, не такой хлев, как эта. Вот бы чем лучше занялся, а не этой дурацкой политикой, о которой только и болтаешь с такими, как ты, на своих собраниях. Все твердите, что не те порядки в Испании были, вот, мол, вы и сражались. Так поменяй эти порядки раз и навсегда. А нам, женщинам, такая жизнь, какую мы ведем, совсем не правится. Бросьте разглагольствовать о политике да постройте нам хорошее жилье, да сделайте так, чтобы не было дороговизны.
Бланка распалилась. Последние слова она выкрикнула громко и пронзительно. Это сильно задело Рамиро. Настроение его вконец испортилось. Ему сразу вспомнилось, что они часто спорили еще в бытность женихом и невестой. Бланка всегда так ставила вопрос, что обсуждать с ней что-либо не было никакой возможности.
— Ты рассуждаешь прямо как красные, — в шутку говорил он.
На этот раз он посмотрел на нее со злобой.
— Скажи, где я могу достать деньги, и завтра же мы снимем самую шикарную квартиру.
— Попроси, чтобы тебе прибавили жалованье.
— Там, где я работаю, жалованье с бухты-барахты не прибавляют. Надо иметь приказ из министерства. По-моему, ты своей дурацкой башкой никак не сообразишь, что на деньги, которые я тебе приношу, мы должны питаться, одеваться и все остальное. Ты не можешь жаловаться, что я мало работаю. Я целыми днями, с утра до ночи, сбиваю ноги на работе, — с яростью отражал нападки жены Рамиро.
— Твоя дочка ходит с голой задницей, имеет только одну пару туфелек. А тебе плевать! У меня голова кругом идет, как бы купить девочке все необходимое. У меня у самой белье совсем износилось! А на обед сегодня пустая картошка!
— Ну так скажи, что я могу сделать?
— Не знаю, что ты можешь сделать. Знаю только, что ты должен приносить больше денег. Вон некоторые твои дружки как устроились. Федерико, например. Совсем другое дело, и вид у него другой!
— Я не продаюсь, у меня свои идеи!
— Да. Ты не продаешься. Ты — честный человек. Сам дохнешь с голоду и моришь голодом семью и, как распрочестный человек, всю жизнь ходишь в одной рубашке. Нищий! Таскай на своем горбу богачей, пускай они богатеют еще больше. Ты заслужил три медали, а ждешь, как ребенок, когда тебе свалятся с неба фиги-финики и национализируют банк. Ты и твои дружки собираетесь каждый вечер и вопите, что не желаете никаких идиотских королей. Голосуете за референдум и малюете на стенах разные надписи.
— Брось жаловаться. Некоторые живут похуже нас.
— Хуже нас, Рамиро?!
— Да, хуже.
— Ну, дорогой, если это так, не знаю тогда, зачем надо было убивать миллион человек, о которых вы все время кричите! Вы большие храбрецы пулять из винтовок, а вот попросить надбавки к жалованью у вас язык кое-куда уходит. Вы только и делаете, что поминаете павших на войне, довоенные забастовки и все такое прочее. Похоже, вы стараетесь, чтобы мы все ненавидели друг друга, чтобы мы, испанцы, жили врозь. А как же быть миллионам оставшихся в живых?
— Давай кончим этот разговор, Бланка. У тебя слишком длинный язык. Тебя как прорвет… Просто мы живем в трудное время. Когда засуха, урожая нет. Вот увидишь, как все уладится. И у нас будет своя квартира. Кажется, профсоюзы намереваются разрешить эту проблему с помощью протекционного строительства. Уже принимаются меры в этом направлении.
— Обещанного долго ждут.
— Что ты понимаешь в политике! Какое право ты имеешь так рассуждать?! Все будет в свое время. Это не простые вещи. Всему виной либеральный разброд прошлых лет.
— Я понимаю одно: не надо витать в облаках. Может, я не разбираюсь ни в политике, ни в профсоюзах, но знаю твердо: девочку надо кормить и все мы должны жить в хорошем доме.
— Ладно, оставь свои глупости и дай мне поесть.
Бланка удалилась в угол комнаты. Шумовкой помешала в кастрюле. Аделита слезла со стула и уцепилась за материнский подол.
Рамиро, привалясь к подоконнику, пытался подавить раздражение после разговора с женой. Бланка что-то бормотала себе под нос.
— Ну, что ты там бормочешь? Ну что?
Не оборачиваясь. Бланка с издевкой заметила:
— Да вот говорю, что вы, мужчины, кутаете себе ноги, а мы, женщины, голову.
— Опять нарываешься на неприятности. Нет покоя даже в собственном доме.
— В собственном, говоришь?! Да мы ведь сами снимаем комнату у жильцов!
— Хозяин в доме я! Поняла? Или, может, тебе это по-латыни сказать?
— Ты не расходись, Рамиро. Не смеши меня! Хоть по-китайски скажи, я не испугаюсь.
Аделита тревожно смотрела на родителей, из ее широко открытых глаз вот-вот готовы были брызнуть слезы. Девочка еще крепче прижалась к ногам матери и заплакала.
— Пусть девчонка заткнется. Этого еще не хватало!
— А ты не кричи, она и перестанет плакать.
— Хочу — и кричу! Это мое дело! Если ты ни на что не годна, я тут ни при чем!
— Ну, дружочек, — процедила Бланка. — Если я запою, ой как весело станет!
Аделита, засунув палец в рот, старалась сдержать икоту. Услышав, что мать сказала про пение, она притопнула ножкой, словно собираясь пуститься в пляс, и улыбнулась во весь рот. У Бланки сразу потеплел взгляд, она подхватила дочь на руки и крепко расцеловала.
— Ах ты, мое солнышко! Радость моя! Да кто тебя больше мамы любит?!
Она осыпала поцелуями дочку, мурлыча, точно кошка. Потом поставила девочку на пол и накрыла передвижной столик, который придвинула к окну.
— Ладно, Рамиро. Брось дуться, давай обедать. Уже поздно, тебе скоро идти на работу.
Рамиро, усевшись за стол, углубился в передовицу «Аррибы».
— Ты мне дашь картошечку? — спросила, подходя к отцу, девочка.
Рамиро свернул газету и молча принялся за еду. Он все еще злился на жену и даже не хотел смотреть в ее сторону.
Пообедав, Рамиро прошел в туалет, умылся и причесался.
— Сегодня не жди меня к ужину. Я должен встретиться с товарищами по дивизии, — сказал он на прощание.
— И даже не поцелуешь меня? — спросила Бланка.
Злость на жену еще не прошла, и поцелуй получился весьма вялый.
Тетушка Ауреа заканчивала мыть кухонную посуду.
Педро рассказал ей об Антонии и Луисе:
— Они хотят пожениться. Я одобряю. Для Антонии это лучший выход. Луис парень что надо. Закончил учебу и может справиться с любой бумаженцией, какая попадет ему в руки, — разъяснял Педро тетке.
И то ли потому, что Ауреа побаивалась своего племянника, то ли потому, что ее дружба с мясником развивалась успешно, она приняла новость много спокойнее, чем можно было ожидать.
— Педро сказал, что ты собираешься уйти к своему жениху, — заметила она племяннице.
— Да.
— А почему ж ты мне ничего не сказала?
— У вас такой характер. Вы меня и слушать бы не стали.
— Можно подумать, я людоедка.
Луис с Антонией устраивали свое гнездышко. Они сняли комнату. Вечерами, когда Антония приходила с работы, молодые отправлялись по магазинам делать покупки. Возвратясь домой под покровом романтической темноты, тихо предавались любви.
Тетушка Ауреа крутила любовь с Гарсиа. Мясник не раз давал ей понять, что, когда он построит квартиру на улице Антона Мартина, они смогут проводить там вечера.
— Мне необходима отдушина, Ауреа.
Требушатник прекрасно знал, что Ауреа не принадлежит к тем женщинам, которые пуще глаза берегут свою честь. Он уже имел связи с подобными женщинами.
Бланка дожидалась, когда Ауреа кончит возиться с посудой, чтобы начать мыть пол. Женщины, проживавшие в квартире, договорились делать уборку на кухне по очереди.
— Ну и грязищу развели. Да здесь больше дерьма, чем в курятнике на насесте. Разве вчера не убиралась сеньора Мария?
— Да, вчера ее очередь была. Но сами знаете, когда она наклюкается, ни о чем не помнит.
— Здорово нам повезло.
Бланка, встав на колени на сложенную вдвое тряпку, выметала щеткой из-под кухонного столика и мойки. Аделита из двери в комнату наблюдала за матерью.
— А скажите, Ауреа, где это муж Марии?
— В Барселоне. По-моему, сеньора Мария в расстроенных чувствах, потому что в доме нет мужчины.
— Ох уж эти мужчины!.. Как говаривала матушка, царство ей небесное, лучшего из них за ушко да на солнышко! Считают нас дурами набитыми, стоит, мол, нам шепнуть два словечка, мы и размякли.
— У нее муж настоящий проходимец.
— Что верно, то верно. Я такого и дня держать не стала бы. Скорей оскопила. Да оставь ты меня в покое, детка, не смей перебивать взрослых.
Аделита обмывала личико куклы в помойном ведре; девочка промокла и начала чихать…
— Ну что за глупая девчонка! — Бланка поднялась на ноги, чтобы наказать дочку. — Да не суй ты руки в грязное ведро. Ой, погубит меня эта грязнуля!
Бланка вытерла передником Аделите ручки и снова принялась мыть пол.
— Когда квартиру получите?
— Да вот вчера ходила смотреть с моим знакомым. Теперь скоро. Совсем мало осталось, уже стены возводят.
— Если бы вы знали, Ауреа, как я вам завидую! Как мне хочется иметь свою отдельную квартиру! С тех пор как мы с Рамиро поженились, только и кочуем из дома в дом.
— А разве ваш муж не фалангист? Да с хорошей рекомендацией всего можно добиться. У меня есть знакомая, у нее родственник не то в профсоюзах, не то в какой-то конторе, словом, в государственном учреждении. Он попросил, и вскоре ему дали квартиру на Диего де Леон, в тамошних домах. Вы не поверите, у него даже ванная комната с горячей и холодной водой…
— У моего Рамиро простота хуже воровства. Я ему твержу все время: на кой тебе твои фалангистские заслуги, если ты за них ничего не можешь получить? И главное, что получить? Квартиру, не луну же! Ох и простак он у меня!..
Женщины замолчали. Бланка размечталась об отдельной квартире, в которой она сможет расхаживать, как ей заблагорассудится, а ее ненаглядная доченька — принимать солнечные ванны по крайней мере на двух балконах. О квартире с такой ванной, про которую только что рассказывала Ауреа.
— А у вашей племянницы есть квартира?
— Да какое там! Перебирается в Вентас, сняли там комнату.
— А когда у вас будет своя квартира, вы их к себе возьмете?
— Ну нет. Молодожены любят жить своим домом. Они сами ко мне не поедут.
— Это верно.
Женщины снова замолчали. Бланка домыла кухню и тут же поспешила с Аделитой на улицу подышать воздухом, погреться на солнышке. А тетушка Ауреа отправилась на свидание со своим мясником к кинотеатру «Сервантес».
Мария, запершись в комнате, старательно выводила письмо сестре в Бордо. Когда она дошла до слов о муже, лицо ее погрустнело. Как ей хотелось бы, чтобы он сейчас открыл дверь, вошел бы к ней в комнату и окинул ее дружеским, теплым взглядом! Ради этого она готова была простить ему все. Больше ей ничего не нужно.
Она замерла с пером в руке, глядя куда-то вдаль, в те далекие времена, когда он принадлежал ей, весь, целиком, когда у нее от наслаждения дух захватывало.
Голос во дворе, у гаражей, вывел ее из задумчивости. Мало-помалу она пришла в себя, возвращаясь к горькой и тяжкой действительности. Мария сознавала, что осталась одна и что вечер, сочащийся в окно, опять будет печальным и тягостным. И ей вдруг захотелось больше никогда ни о чем не вспоминать, не думать о том, что заставляло ее сердце учащенно и радостно биться.
Она написала несколько писем Матиасу, но ни на одно он не ответил. Только один раз, в самом начале, прислал открытку, и то требуя оставить его в покое. С него, мол, и так достаточно, если он раз-другой пошлет ей денег. Вот почему Марию охватывала жгучая тоска и она ничего не могла с собой поделать. Она смутно понимала, что какая-то неведомая сила разрушила их жизнь, превратила ее в прах. Ей хотелось бороться за Матиаса, возвратить его, но в этой борьбе (она заранее чувствовала) ей уготовано поражение. Она любила сто. Ох, как она его любила!
Мария продолжала писать. Она скрыла от сестры большую часть своих невзгод. Ей лишь хотелось быть рядом с сестрой. Хоть чуточку отдохнуть от выпавших на ее долю бед и снова вступить в вечную борьбу за существование. Она еще молода и может заработать на жизнь. Ей нужны деньги на билет и паспорт. Она достанет бумаги, для получения которых не нужно согласие мужа, ведь их брак теперь недействителен. Они зарегистрировали свой брак, разъясняла она в письме, во время войны у нотариуса, а после войны не венчались в церкви.
Мария дописала письмо. Отнесла его в почтовое отделение на улице Фуэнкарраль и оттуда пошла на работу.
* * *
Лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь обросшие мхом стволы падубов, освещали узкое ущелье, в котором клокотал ручей. Голые, скалистые берега круто сбегали вниз, обрывистыми утесами подступали к самому руслу. И вода цвета ясной лазури в излучинах пенилась белым кружевом на перекатах, круглыми глыбами вздымавшихся на ее пути. Редкие приземистые деревья, уцепившись корнями за камни, спускались к ущелью, чтобы посмотреться в зеркало вод. Заросли репейника темно-зеленой стеной вставали у проселочной дороги, змеившейся вдоль реки. Легкое белое облачко медленно плыло в безмолвном утреннем небе, увлекая за собой стайки птиц, собиравшихся совершить налет на гумна селения Торрелодонес. Дома лепились на самом горбу дороги, сбегавшей к аркадам римского моста.
А вдалеке, на пастбищах, стадо коз важно шествовало за колокольцем вожака. Стадо оберегал громадный пес. Карабкаясь по склонам, ворча и лая, подгонял он отстающего козленка. Пастух шел сзади, опираясь на высокий посох, изредка пугая четвероногого сторожа пращой, когда тот, отвлекшись, бросался за диким кроликом или начинал лаять на пролетавшего дрозда.
Стояло прекрасное воскресное утро. Туристы с рюкзаками на спине спускались по тропинке, огибавшей селение и ведущей к римскому мосту.
Хоакин пригласил Луиса с Антонией присоединиться к группе друзей, с которыми собирался провести воскресный день в горах.
— Пойдут Антон с Кармен, Неаполитанец, Эулохия, Рыбка, девушка Тинте, Пепита и я. И вы, если захотите.
Они ехали в открытом вагоне третьего класса, наслаждаясь свежим утренним воздухом.
— Ты устала, Пепита?
Девушка обернулась и весело показала на речку, серебристой лентой плескавшуюся у отвесных обрывистых берегов. Солнце, как исполинский желтый лимон, сверкало и искрилось.
— Смотри! Река! Мост! — крикнула Пепита.
— Туда мы и едем, под арками моста есть отличное место для купания.
— Не сходи с ума! Неужели ты полезешь в воду?
— Это ты меня свела с ума.
Антония пустилась бегом по тропинке от Луиса, поднимая своими сандалиями тучи золотистой пыли. Лицо ее зарделось от быстрого бега, кровь бурлила в венах. Она словно приглашала юношу вступить в любовную игру. Легкими, гибкими движениями стана Антония уклонялась от его рук, они ловили ее и смыкались, но напрасно — девушка была далеко. Вскоре, радостная, запыхавшаяся, она замедлила бег, чтобы Луис смог догнать ее и сжать в своих горячих объятиях.
Антон и Неаполитанец шагали далеко позади: они несли сифон с газированным вином. Рыбка любезничал и заигрывал с Эулохией, и она, не новичок в таких делах, громко хохотала над его смелыми, забористыми шутками. Кармен и девушка Т инте распевали «Астурия, отчизна дорогая».
Они устроили привал на левом берегу реки, под изогнутой тенью моста, на гладком гранитном утесе, наклонно спускавшемся к воде.
— Поставьте вино в прохладное место, — сказал Хоакин.
Антон с Неаполитанцем спрятали сифон в зарослях камыша, росшего по берегу, Хоакин и Рыбка с помощью палок и одеяла соорудили навес от солнца.
Девушки, разобрав рюкзаки, отправились в ближайшие заросли кустарника, чтобы переодеться для купания.
Юноши уже плескались в воде. В этом месте было неглубоко. Взобравшись на скользкие камни на дне реки, они торопили девушек. Их голоса, отражаясь от каменных берегов, разносились громким, звонким эхом. Ребята выказывали нетерпение, им хотелось скорее увидеть своих подруг в купальных костюмах:
— Сюда! Сюда! Скорей! Вода отличная!
Пять девушек, сверкая обнаженными плечами, стояли в зарослях кустарника, дожидаясь, когда Испита завяжет тесемки своего купального костюма.
— Сейчас идем! Да не торопите вы!
— Мне совестно выходить, — сказала девушка, пришедшая с Тинте.
— Не дури, мы выйдем все вместе.
— Да, вы вон все полненькие, у вас есть, чем покрасоваться. А я худющая; ноги как палки.
— Не беспокойся, у них не лучше.
— Да, но это не одно и то же.
— Ну, пошли?
— Пошли, — решилась девушка Тинте.
Они побежали вниз по склону, смеясь и толкаясь. У Эулохии от смеха трясся жирок на животе.
— Холодная?
— Нет.
— Лезь ты первая, Пепита, — предложила Антония.
— Я? И не подумаю. У меня уже мурашки по телу.
Девушки уселись на Камне, далеко вдававшемся в русло реки. Пепита качала ногой в воде, брызгая на Хоакина, который уцепился за основание камня.
— Будешь брызгаться — столкну в воду, — предупредил Хоакин.
— Не столкнешь.
— Нет? А вот посмотрим!
Хоакин попытался было забраться на камень, но Пепита, вскочив на ноги, со смехом толкнула его назад в воду.
Хоакин, рассердившись, снова полез на камень. Некоторое время они боролись на краю утеса и вдруг в обнимку свалились в речку. Пепита была отличной пловчихой: сделав два мощных взмаха, она увлекла Хоакина на дно. Вода, прохладная и нежная, как рыбья кожа, ласково окутала тело. Пепита сильным движением вынырнула на поверхность, глотнула воздух и снова ушла в глубину, чтобы, ящеркой прокравшись по дну реки, настичь Хоакина.
Антония, Кармен, Эулохия и девушка Тинте, которую звали Пакитой, бросились в воду в том месте, где река доходила всего до колен.
— Давай я научу тебя плавать на спинке, — предлагал Рыбка Паките.
— Ох, если ты меня отпустишь!
— Ложись на спину и откинь голову.
— Да я наглотаюсь воды.
— Не наглотаешься! Склони голову, будто ты на похоронах.
Рыбка блаженствовал. Худенькая Пакита имела свои достоинства. Делая вид, что он обучает ее плавать, Рыбка одной рукой держал девушку за ноги, а другой щекотал и гладил по спине.
Луис вылез из воды и забрался на ветку дерева, росшего в тени моста, у самых перил. Он всматривался в ущелье, где бурлила река, сверкая желто-зелеными струями. Стрекозы — чертовы лошадки — трепыхали в воздухе своими прозрачными крылышками. На противоположном берегу грелась на солнце длинная ящерица, настороженно приподымая треугольную головку при каждом шорохе покатившегося камешка. Высоко в небе недвижно парил орел.
Антония тихо подошла к дереву, на которое вскарабкался Луис. Юноша неотрывно смотрел в ясную глубину потока.
— Что ты там делаешь наверху?
— Ничего, просто смотрю на реку.
— Слезай, поедим чего-нибудь.
— Я не очень проголодался.
— Ладно, слезай, пойдем перекусим. За городом всегда аппетит появляется, — добавила Антония, — я не хочу, чтобы у меня муж был сухой и тощий, пусть будет упитанным.
— Хорошо, пойдем.
Луис спустился с дерева.
— Вот такой, загорелый и скачущий по веткам, ты похож на Тарзана.
Друзья расположились под импровизированным навесом. Девушки расстелили на земле одеяло, достали тарелки и еду.
— Принеси сифон, Хоакин. Давайте выпьем. Нет ничего лучше, как промочить горло перед едой, — сказал Неаполитанец.
Эулохия восхищалась природой.
— Ой, как здесь красиво! Не пойму, чего это люди так рвутся жить в Мадриде, когда есть такие прекрасные места, как это!
— Хорошо живется не в красивом месте, а с тугой мошной!
— А как же крестьяне?
— Ой, не смеши меня, а то лопну! Да здесь одни камни, тут не покрестьянствуешь! На камнях ничего не вырастишь.
— А я видела тут, неподалеку от шоссе, шикарные виллы.
— Они принадлежат тем, кто проводит здесь лето, а остальное время живет в Мадриде. Это дачники, приезжают в Торрелодонес на самые жаркие месяцы.
— А я мечтаю жить в горном селении. Вот счастье! Конечно, в доме, где есть сад и туалет с канализацией. Самое неприятное в деревне то, что там нет света и воды, — сказала Пепита.
— Кто за городом живет, подтирается чем бог пошлет!
— С деньгами в любом месте шикарно живется. А есть места и получше. Будь у меня монеты, я бы проводил лето не здесь, — вступил в разговор Рыбка.
— А куда бы ты поехал? — спросил Неаполитанец.
— На Лазурный берег, например, к француженкам.
— А я летом выезжаю на дачу, на родину матери, в городок под Авилой, — сказал Луис.
— Да ты у нас вроде барчука, — сказала Эулохия. — А я вот, например, не знаю, что такое жить на даче. Мы все лето в городе торчим. У подъезда дома, рядом с кувшинами.
— Все дело в том, что некоторые живут слишком богато. В Испании еще полно несправедливости. А ведь мы все одинаковые, божьи дети, — выпалила Пакита.
— Я три года назад ездила в городок под Саламанкой. Отлично провела время! Как раз застала праздники. Плясала с утра до ночи и объедалась свининой и колбасой, — начала рассказывать Кармен.
— Кто у нас хорошо живет, так это Неаполитанец. Поглядите, какие телеса нарастил.
— Это стоило немало сыночку моей мамаши. Для коммерции надо родиться. Когда кошелек полон, не страшно попасть и в каталажку. Я бы поменялся местами с делягами из концерна. Сбыли аргентинскую пшеницу; студенты требовали снять с них голову, а их, видите ли, посадили в камеры с радиоприемниками. Многих совсем выпустили. Надо уметь глядеть в оба, ребятки, — сказал Неаполитанец, поднося указательный палец к правому глазу.
— Вот тебе, Луис, и будущий клиент, — заметил Хоакин.
— А ты адвокат? — спросил Неаполитанец.
— Да.
— Да, — подтвердил Рыбка. — Луис у нас дон без звона. А дон без звона — бубенцы в панталонах.
Кармен уплетала вяленую треску, доставая кусочки из металлического судка.
— Хочешь попробовать? Очень вкусно.
— Что за рыба?
— Треска.
— С тех пор как вкалываю в рыбной лавке, меня от рыбы воротит, — сказал Рыбка.
— О чем это мы разговаривали? — спросила Эулохия.
— Ладно, расскажи о своем первом женихе, чем вы с ним там занимались, — рассмеялся Рыбка.
— Это ты лучше расскажи о том, как твоя тетка была шлюхой в Вальядолиде, — задетая Рыбкиной шуткой, отпарировала Эулохия.
— Ну, не сердись.
— Хочешь помидор?
— Давай.
— Вы когда поженитесь?
— Скоро. У нас уже есть комната.
— Ну, имея одну комнату, я бы не женился.
— А я женюсь.
— А почему бы нам не встречаться почаще? — сказал Антон Луису и Хоакину. — Я постоянно торчу в баре на улице Сан-Бернардо.
— Я тоже там бываю, когда захожу к Антонии, — сказал Луис.
— Хозяин отменный парень, либерал почище самого Риего. Его зовут Понсе.
— Знаешь, Антон, я бы с удовольствием. Но уж больно много народу туда ходит, что-то это подозрительно. На днях один товарищ с нашего завода как раз рассказывал о подобном сборище. Там свободно толковали обо всем на свете. Читали Маркса и Ленина. Спорили, обсуждали. А потом оказалось, что это ловушка. Бар служил западней, где полиция расставила свои сети, — сказал Хоакин.
— И все же, дружок, я считаю, что пора действовать. Ведь мы живем уже в пятьдесят первом году.
— Да, пора действовать, что-то делать. Но, как говорит Неаполитанец, и глядеть надо в оба. Чтобы не походить на великанов с ярмарки, которые смотрят на мир сквозь ширинку, — заметил Хоакин.
Стоял жаркий час сиесты. Стрекотали кузнечики, вода в реке, казалось, уснула, лениво поблескивая красной рябью. Три колонны муравьев сновали к остаткам пищи, протаптывая в песке три параллельные дорожки.
Антония с Луисом развалились в тени под навесом, подложив под голову вместо подушки брюки Луиса. Они лежали в изнеможении, растворясь в глубоком послеполуденном покое, не нарушаемом даже отчаянным стрекотом кузнечиков. Ослепительный свет солнца смежил им веки, и, разморенные жарой, они уснули. Девушка грезила о прекрасной жизни, которая очень сильно отличалась от реальной.
Хоакин с Пепитой сидели на берегу у самой воды. Невдалеке от них играли в фанты остальные друзья.
— Ну и жарища, да, Хоакин? — сказала Пепита.
— Да, будь осторожна.
— Увидишь, завтра вся кожа слезет.
— Ты прямо как рак. Только и торчишь на солнце.
— Сам знаешь, мы, девушки, очень любим загорать. А кроме того, у меня кожа краснеет только в первый день, потом могу загорать сколько угодно, и хоть бы что.
— Я бы не стал хвастаться своей кожей.
— Конечно, ты ведь мужчина. Был бы женщиной, тогда другое дело.
— Не думай. Мы, мужчины, тоже любим хвастаться.
— По тебе что-то не заметно, всегда ходишь неряхой, брюки не отглажены. Прямо как Адам.
— С фиговым листком или без него?
— Не говори глупостей, конечно, с листком, — рассмеялась Пепита.
— Хочешь, я помажу тебе спину оливковым маслом? Хорошо освежает.
— А кто пойдет за ним? Мне не хочется… На меня такая лень напала…
— Ладно, вставай. Я помажу тебя маслицем, а потом махнем вон в те заросли.
Хоакин поднялся на ноги и потянул за собой девушку.
— Ну, не ленись, Пепита.
Наконец девушка тоже встала. Мысль полазить по зарослям ей понравилась. Она отряхнула влажную землю, приставшую к ногам.
— Ты еще испачкалась сзади, — сказал Хоакин-.
Он налил в блюдце масла, добавил немного воды и стал размешивать палочкой, которую подала ему Пепита.
— ?Жжет сильно?
— Сейчас нет, вот завтра здорово прохватит.
— Ты надень мою рубашку и платок на голову.
Пепита кокетливо собрала волосы под красным платочком. Рубаха Хоакина была ей немного велика, она свободно спадала вниз, чуть прикрывая бедра. Казалось, кроме этой рубашки, на девушке ничего больше не было. Хоакин, разнежившись, засмотрелся на невесту. Стройная, с длинными ногами, чуть тронутыми легким загаром, она была чудесна в просторной белой рубахе и красном платочке.
— Отдай мне поцелуй, ты проиграла, — шутил Рыбка с Эулохией.
— Если Неаполитанец не против, мы вас проводим, — предложила Эулохия.
— Нет, я не любитель бродить. Я лучше полежу рядом с графинчиком, потяну из него винцо, — отвечал Неаполитанец.
Рыбка ехидным голосом напомнил друзьям, чтобы они не очень увлекались малиной в зарослях на том берегу.
— Смотрите не объешьтесь малиной, а то потом у Пепиты начнет пухнуть живот.
— Да, насчет этого поосторожней, — рассмеялся Неаполитанец.
— Ну, а ты отдай мне поцелуй, раз проиграла, — приставал Рыбка к Эулохии.
Хоакин с Пепитой побежали к броду, чуть выше по течению реки, за римским мостом. Они перешли на другой берег по камням, выступавшим из воды.
Берег возвышался отвесной стеной с редкими уступами, за которые можно было уцепиться руками и ногами. Медленно забрались они на самый верх, откуда открывался вид на окрестности. Хоакин и Пепита посмотрели на оставшихся внизу друзей. Ребята купались. Услышав крик сверху, они приветственно замахали руками.
Другой своей стороной берег полого спускался к долине, где раскинулись заросли малинника.
Пепита и Хоакин долго, с наслаждением набивали рот сочными кроваво-красными сладкими ягодами.
И вдруг окинули друг друга долгим взглядом. Хоакин почувствовал, как желание теплой волной разлилось по всему телу, толкнуло к Пепите, его руки легли на плечи девушки. Он поцеловал ее в шею и с нежностью расстегнул на ней рубашку.
Сердце Пепиты готово было выскочить от охватившего ее восторга и испуга. Маленькие груди ее напряглись и затрепетали, как живые горлицы. Оказавшись обнаженной, она почувствовала, как жаркий порыв ветра, опережая Хоакина, опалил ее своей лаской. Неизъяснимое блаженство, какая-то неведомая сила заставили ее широко открыть глаза, в которых сияли и любопытство и страх. Пепита не слышала ни ласковых слов Хоакина, ни его нежного шепота. Сладостной и мудрой была эта любовь на маленькой зеленой лужайке среди зарослей малинника.
Вечер угасал на вершинах гор, высившихся на горизонте. Туристы торопливо собирали рюкзаки: дорога до станции Торрелодонес была долгой и крутой.
— До отхода поезда осталось двадцать минут, — предупредил Луис.
На взгорье они остановились посмотреть в пропасть. В черной бездонной глубине застрекотали первые сверчки. Чувствовалась близость реки.
По склонам карабкались еще группы туристов. Одни пели, смеялись, другие, усталые, шли молча.
В вагоне друзья быстро нашли свободное купе. Поезд дал протяжный гудок, извещая об отправлении, и всем вдруг стало немного грустно. Но тут же кто-то затянул песню, и грусть как рукой сняло.
— Приедем сюда еще!
Антон, сез у окна, принялся считать телеграфные столбы, но быстро устал от этого занятия. Тогда он начал следить за автомобилями, сновавшими по шоссе, рядом с железной дорогой.
Лас Росас. Лас Матас.
Хоакин с Пепитой не спускали друг с друга глаз. Руки их сплелись на коленях.
— Я люблю тебя, Пепита.
— И я тебя.
Эль Плантио. Посуэло. Аравака.
— Мадрид! Приехали! Мадрид!
Все кинулись к окнам. Вдали тусклыми огнями вырисовывался город. В столице недавно опять ввели ограничения электроэнергии.
* * *
Мадрид. От Тетуана до Университетского городка. Отсюда до Северного вокзала, через Лас Инхуриас, Легаспи и далее, в Вальекас, в Сан-Паскуаль и до самого Чамартина тянулось кольцо нищеты. Петля, сдавливающая город.
Навозные ямы Епископских огородов. Развалюхи в районе Клинического госпиталя. Ниши на кладбище Сан-Мартина. Пещеры в Виверос де ла Вилья. Шалаши на Эстремадурском бульваре и по берегу Мансанареса. Трущобы Куэста де ла Веги и Вистильяса. Пустыри за монастырем Сан-Лоренсо. Лачуги в Йесериас, Легаспи, на бульваре Чопера и на улице Хайме Завоевателя. Кварталы у боен. Свалки в Легаспи, кварталы Усера и Вильяверде, Оркаситас. Мусорные ямы «Китая» и «Японии». Кварталы Энтревиас. Винья Кинтана, Серро Негро и Ла Плата. Колодец дядюшки Раймундо. Холм Ареналь. Отроги доньи Карлоты. Хибары доктора Эскердо. Хижины в Аброньигале, кварталах Элипа и «Без разрешения». Стены у собора Альмуденской Божьей Матери. Кварталы Лас Латас, Камино Альто де Викальваро и Альтос де лас Вентас. Квартал Сан-Паскуаль. «Воздушный Холм». Каморки в районе «Квартала Радости» и за улицей генерала Мола. И еще тысячи мест в окрестностях города, не имеющих никаких названий.
А люди все шли и шли в город. Крестьяне из Хаэна, «хрипуны», как их прозвали за манеру говорить. Батраки Куэнки, «лишние» сезонники. «Тупаки» из Толедо. Сорийцы. Жители Ла Манчи.
Они добирались до Мадрида на свой страх и риск всеми правдами и неправдами. Одни верхом на ослах, другие на повозках, многие просто пешком. А еще больше поездом, в вагонах третьего класса.
Дома они распродавали все свои жалкие пожитки и утварь. И нищие, оборванные, лишенные крова, отправлялись на поиски заработка, который освободил бы их от унизительного положения голодающих батраков. Они приезжали преисполненные надежд, отягощенные ненавистью, злобой и предрассудками, с неистребимым желанием улучшить свою жизнь, сделать ее похожей на человеческую.
— Ну, Хоакин, твоя очередь ходить.
— Прости, я задумался о другом.
— О чем же? — спросил Рамиро.
— Да так, ни о чем. На днях был в Вальекасе, ездили с одним приятелем к Колодцу дядюшки Раймундо. Там, на пустырях, раскинулся настоящий город. В нем больше хаэнцев, чем в самом Хаэне.
— Все андалузцы храбрые ребята, — заметил Рамиро, — а в Вальекасе поселились самые непокорные. Наверно, слышал, эти места называют неосвобожденной территорией.
— Да, слышал. А еще их называют маленькой Россией.
Хоакин вывел своего белого слона, чтобы преградить путь проходной пешке противника. Рамиро защитился ладьей.
— Ты говорил, будто воевал в России?
— Да.
— Ну и как?
— Да ничего. Сначала здорово поразвлекся, а потом худо пришлось.
— А какие там женщины?
— Полячки нам потрафляли, а немочки были еще сговорчивей. Мужчин у них не хватало, вот они и бедовали.
— А Колодец дядюшки Раймундо — это страшное дело.
— Пускай сидят по своим деревням и не рыпаются. Нечего отнимать хлеб у нас, у самих мало.
— Что же им, беднягам, делать? Земля издавна в руках тех, кто ее не обрабатывает, они ее всю между собой поделили. А крестьянам что делать? Дожидаться на площадях своих селении, когда их наймут в батраки, а пока воровать оливки, чтобы не умереть с голоду?
— Не изображай все так трагично, Хоакин.
— Трагично? А почему тогда появилась Черная Рука в Андалузии? Почему эмигрирует столько крестьян? Из-за безработицы и голода. Мы тоже пережили голод, и сейчас еще голодаем. Это вечная история. Ты когда-нибудь голодал или жил в страхе? Слышал, как полиция стучится к твоим соседям, а ты трясешься от страха, хотя эго вовсе не тебя касается? Один товарищ с завода недавно рассказывал про батрака, который приехал из Хаэна…
— Во время войны я…
— А, во время войны, во время войны. Столько разговоров про эту войну тридцать шестого. Это уже давняя история. Похоже, вы только и стараетесь, чтобы мы постоянно ее помнили. А меня те времена не интересуют, меня интересует, как мы живем сейчас. Не подумай, что я это говорю из-за страха перед войной. Или из-за голода. Когда все голодают, легче переносить.
Хоакин задумался, изучая шахматную позицию. Потом сделал ход пешкой на второй параллели.
— А все же послушай, что говорил этот батрак. Вся земля у них отведена под монокультуру. В Хаэне выращивают оливки, ну, как в Пардо желуди. Вся деревня принадлежит трем богатеям. За порядком следит гражданская гвардия. И в этой вот деревушке живет один подонок, плюнуть на него жалко, дерьмо страшное. Будь у его мамаши выкидыш, она бы осчастливила человечество. И вот этот подонок сделался полновластным хозяином с одобрения, конечно, богатеев, которые обхаживают его и содержат на свои денежки. Он навел там такой террор, что и гестапо не снилось. В этой деревушке самая низкая поденная плата во всей провинции. А это одно уже говорит за себя. Местные девушки прислуживают хозяину за один обед или даже за кусок хлеба, смоченный в постном масле. Когда есть работа, батраки трудятся от зари до зари. А когда нет, воруют оливки за спиной у гражданских гвардейцев или стоят на площади под солнцем и жуют камыш, «сладкую палку», как его называют в тех краях. В селении нет врача, в домах — воды и света. Нет и школы. Священник, может, и взроптал бы, да не осмеливается, ведь сам господь бог там столуется у богатеев. А на днях, — продолжал рассказывать Хоакин, — там повесился мальчонка-козопас. С голодухи он залез в оливковую рощу и, на свою беду, наскочил на этого гнусного подонка, о котором я тебе говорил. Козы, пока пастушонок отлучался, забрались в хлеба и учинили потраву дуро на двадцать. И вот этот дерьмовый подонок, местный царек, пригрозил, что, как только поймает пастушонка, даст ему палок. Мальчишка, разумеется, перепугался до смерти и убежал в горы. А на третий день его нашли. Повесился со страху в оливковой роще.
Хоакин закончил свой рассказ, оба помолчали. Наконец Рамиро спросил:
— Ну а этот тип, что с ним?
— А этому подонку ничего. Кто, мол, виноват, что мальчонка удавился? Никто.
Рамиро ответил на ход белой пешки ходом своей ладьи на диагональ, занятую слоном противника.
У двери раздался звонок. Хоакин встал, чтобы открыть.
— Добрый вечер, — сказал он.
— Привет, Хоакин. А Рамиро дома? — спросила Бланка.
— Да, мы в столовой играем в шахматы.
Аделита побежала по коридору навстречу отцу. Рамиро подхватил дочку на руки.
— Ой, совсем разбитая, — вздохнула жена Рамиро.
— Присядь, отдохни.
— Весь вечер таскала ее на руках, а сама ни разу не присела. Устала, сил нету.
— А доктор что сказал?
— Что девочке нужен свежий воздух и солнце. И побольше витамина В. Ветчины, — пояснила Бланка.
— Ну, чтобы прописать такое, не надо и врачом быть. Я не хуже сумею.
— А ты бы лучше прислушался. Эта дыра убивает нашу девочку. Она может серьезно заболеть. Не могу же я все время с ней гулять.
— Квартира у нас поганая, это верно, но ты не очень-то плохо выглядишь, — возразил Рамиро.
— Просто запыхалась, вот и красная. А с нашей кормежки ни Бару, ни навару.
— Не можем мы переехать на другую квартиру. Где ты ее возьмешь?
— Сидеть сложа руки тоже нельзя. Не станем же мы ждать, когда девочка захворает грудью. Поищи другое место, где платят больше.
— По-твоему, хорошие места так и валяются на улице. Ну и представление у тебя. Может, хочешь, чтобы я бросил контору и завел карточку в отделе общественной помощи?
— Если так пойдет дальше, наверняка туда попадем.
В тот день Рамиро не пошел на работу. Все утро пробродил он по улицам, навестил нескольких приятелей, выясняя, кто мог бы посодействовать ему приобрести дешевую квартиру. Знакомые назвали ему ряд адресов, но все на пять комнат с ванной и лифтом.
— Нет, я располагаю только тем, что зарабатываю. У меня не то что на квартиру, на переезд денег нет.
— Да эти квартиры дешевые. Всего за сто пятьдесят тысяч.
— Может, по-вашему, и дешевые, но мне не по карману.
Наконец Рамиро решился поговорить со своим начальником. Дон Раймундо дал ему рекомендательное письмо в жилищную контору на улице генерала Москардо.
— Там живет наш хороший друг, свой человек. У него большие возможности. А ты бывший борец, ветеран, фалангист с самого начала движения, так же как я. И в мирное время каждый из нас занимает место, которого достоин. Если он захочет, может дать тебе квартиру. Гарантировать, конечно, я не могу. Но у него большие связи.
Рамиро сначала думал рассказать Бланке о своем утреннем визите, но потом решил промолчать. А вдруг опять неудача, тогда разочарование для нее будет слишком жестоким.
Бланка ушла к себе в комнату. Рамиро снова сел рядом с Хоакином.
— Никогда не женись. Не женись, друг. От женщин одна только морока.
— Ты знаешь, что Антония завтра уезжает?
— Нет. Слышал, что собирается, но не думал, что так быстро. А тетка ее что говорит?
— Тоже собирается уезжать. Со своим хозяином.
— Скажи лучше, со своим любовником.
— Каждый устраивается как умеет.
Аделита увлеченно играла в коридоре тряпичным мячиком.
— Папа, я хочу кушать.
— Хорошо, дорогая, хорошо. Попроси у мамы. Да, Хоакин, а насчет твоего рассказа я тебе вот что скажу. Испанцы с точки зрения семьи, муниципальных организаций, профсоюзов… Да не дергай ты меня за пиджак, дочка! Пойди к своей мамочке… Семья, муниципалитеты, синдикаты — это необходимые организации. А этим людям, о которых ты говоришь, мы с помощью диалога между хозяевами и трудящимися…
— Папа-а-а…
— Трудно представить, чтобы собака с кошкой ели из одной миски. Хозяева гнут свою линию, стараются урвать у нас лакомый кусок, а мы противимся этому. Так что согласия быть не может: или они, или мы.
— Послушай, Рамиро, дай мне пять дуро. Мне надо купить оливкового масла, — Бланка облокотилась о спинку стула, на котором сидел Рамиро. Муж, бормоча проклятия, достал бумажник.
— Можно подумать, что рот тебе делал монах. Требуешь больше, чем студенты на пирушке.
— Пора бы тебе знать, что на твой конторский заработок мы не дотягиваем и до десятого числа, а в остальные дни перебиваемся на твои комиссионные от продажи бумаги. Если у тебя есть деньги, давай. Нет — я попрошу в долг. Хочешь не хочешь, а тебе придется попросить аванс в конторе.
— Да?
— Да! И запомни, деньги не резиновые, не растянешь.
— В этом месяце, Бланка, мы с тобой окажемся на мели, придется где-то занимать.
— Торопить время — последнее дело, — сказала Бланка. — Стоишь перед календарем, как дурная, будто оттого, что на него смотришь, дни идут быстрее. Сама себе твердишь, что в месяце тридцать дней, но ничего не помогает, так и тянет к календарю посчитать, сколько еще дней осталось до получки. Вот иногда и говорю себе: желать, чтобы время шло быстрее, — самый тяжкий грех, на какой способен человек. Стареть, становиться старухой, подгонять время и надеяться, может, наступят хорошие времена, не по мне. Лучше плюнуть на все и ни о чем не думать. Но я так не могу.
— У нас на заводе, когда в получку нечего получать, потому что все выбрал в авансы, мы говорим: ну, заработал «змейку». Знаете почему? Да потому, что на конверте с зарплатой сверху пишут сумму, а внизу вычеты и авансы. Вот подобьют итог, и остается одна змейка, ну, такая закорючка, которую чертит кассир, когда тебе ничего не причитается, — разъяснял Хоакин.
Рамиро извлек из бумажника новенький банкнот. Последние пять дуро, сложенные в несколько раз, были засунуты в самое дальнее отделение бумажника. Отдавая жене деньги, Рамиро даже наклонился вперед, чтобы Бланка, не дай бог, не заметила, что он прячет от нее «подкожные».
В комнате рядом закашляла Аделита.
— Ну, что там с девочкой, Бланка! Слышишь, Бланка!
Бланка пошла в спальню причесаться. Она высунулась из двери и прокричала мужу:
— Да я уж давала ей сиропчику!
Ну, Рамиро… — Хоакин встал.
— Что?
— Да ничего. Несмотря на все твои мысли, ты неплохой человек.
— Я что-то тебя не понимаю.
— Мне любопытно знать, что ты думаешь о тех, кто родился после войны. Они совсем другие люди.
— Я тебя не понимаю.
— Я спрашиваю о людях, которые не знали гражданской войны. В один прекрасный день, будь уверен, они потребуют ответа на многие вопросы.
Рамиро ничего не ответил. Они молча доиграли партию в шахматы.
* * *
Антония складывала в чемодан вещи, которые собиралась взять с собой на следующий день. Вещей было совсем немного: зимний свитер, две смены нижнего белья, жакет, две юбки и две блузки. Две смены постельного белья. Пара новых чулок да пара старых, ношеных. Два столовых гарнитура (скатерть и салфетки), пара туфель, не считая тех, что были надеты на ней. Домашние тапочки и еще кое-какие мелочи.
Тетушка Ауреа молча взирала на свою племянницу, придирчиво следя за каждой вещью, которую Антония складывала в чемодан.
— Смотри не ошибись, не унеси что-нибудь из моего, — предупредила она.
— Не беспокойся, тетушка. Если я случайно и возьму твои вещи, обязательно возвращу, — отвечала Антония.
Спускалась ночь. В открытое окно со двора доносился шум, какой бывает в тот час, когда зажигается свет в кухнях. Женщины, как всегда, стряпая, распевали модные песенки или слушали передаваемые по радио отрывки из романов.
Рамиро уговаривал жену пойти в кино.
— Ну, что же теперь, жена, в реку, что ли, бросаться?
Хоакин отправился гулять с Попитой. Мария работала.
Антония уложила чемодан и, выпрямившись, посмотрела на тетку.
— Вот и все. Кажется, ничего не забыла.
— Нет. Ты ничего не забыла.
— Знаешь, тетя, мне даже немножко грустно стало. Не пойму почему, а грустно. Здесь, в этой каморке, столько нами прожито и пережито!
Антония оглядела стены, щель в перегородке, похожую на змею. Иногда она ночью пугалась ее и не могла заснуть. Печурку, на которой готовила обед. Сколько трудов стоило ее растопить! Кровать, где они с теткой спали, прижавшись друг к другу холодными зимними ночами. Большое зеркало в шкафу. Она смотрелась в него воскресными вечерами, когда прихорашивалась, чтобы пойти погулять с Луисом. Стул, на котором долгими вечерами просиживала за шитьем, слушая соседское радио. Без гроша в кармане, не имея возможности встретиться с женихом.
Антония научилась различать голоса соседок по интонациям, по тембру. Она вспомнила Хоакина, друга, соседа. Пьяненькую, но добрую сеньору Марию. Аиду, вышедшую замуж за старьевщика. Сколько переговорено с нею! Новых жильцов. Всех вспомнила Антония, рассматривая комнату, которую собиралась навсегда покинуть.
Тетушка Ауреа открыла шкаф и достала ярко-желтый шелковый платок и раскрашенный вручную севильский веер. Потом извлекла из кармана банкнот в двадцать дуро.
— На, возьми! Это тебе мой подарок. Другого у меня нет.
Антония не могла уснуть. Щель в стене снова казалась ползущей змеей. Тетушка Ауреа, засыпая, тихо посапывала.
— Тетя!
— Что?
— Ты не спишь? Я не могу заснуть.
— Оставь меня в покое, поговорим завтра, я устала.
Странное чувство овладело Антонией. Она уходила из этого дома, и ей было радостно и в то же время грустно.
Аделита заснула во время сеанса, и теперь Бланка несла ее на руках. Втроем легли они в кровать. Девочка спала у стены, Бланка посредине, а Рамиро с краю.
Рамиро потушил свет. Он размышлял о только что виденном фильме. Музыкальная комедия, где резвились и прыгали полуодетые девицы. Невольно он стал гладить жену. Бланка не спала, но она не думала ни о фильме, ни о развлечениях с мужем.
— Тут же девочка, — сказала она. — Когда останемся одни.
— Как знаешь…
— Рамиро, а ведь завтра тебе придется занять пятьсот песет, не меньше.
Это сразу отрезвило Рамиро. Он повернулся на бок и заснул под монотонный голос жены.
В обеденный перерыв Энрике подошел к Хоакину.
— В субботу надо обязательно встретиться у Аугусто.
— Что-нибудь важное?
— Да, готовится большое дело.
— А какое?
— В субботу скажу, раньше не стоит.
— Хорошо.
— Не подведи, мы на тебя рассчитываем.
— Я принесу книги, которые ты мне дал в последний раз.
— Не надо. Ничего не приноси. Припрячь их лучше дома.
— Что-нибудь случилось?
— Нет, не беспокойся. Ни с кем ничего опасного не случилось. Но будь осторожней, когда пойдешь к Аугусто.
— А что, за его домом следят?
— Нет. Но не задавай ты столько вопросов. В субботу все объясню.
Хоакин, поразмышляв над словами Энрике и не найдя им объяснения, забыл про этот разговор. Вечером, после работы, он пошел к Пепите.
Пепита жила в доме с коридорной системой. Двор дома был большой, прямоугольный, посреди стояла колонка с четырьмя кранами, из которых жильцы первого этажа брали воду.
Двор был вымощен крупным неровным булыжником. Со временем он закруглился и сгладился от множества стучавших по нему ног. Между камнями пробивалась трава.
— Зимой только шлепаешься! Ходить невмоготу! От дождя камни и трава такие скользкие, — говорила Пепита.
Галерея-коридор первого этажа покоилась на квадратных деревянных столбах, крашенных коричневой краской. Здесь парни оставляли любовные послания девушкам, писали непристойности и ругательства соседям.
В низу колоннады под каждым окном стояли вплотную к стене дома гипсовые скамьи, покрытые белой плиткой. Здесь обычно устраивались женщины, чтобы пошить и поштопать при дневном свете, сберегая тем самым электричество.
Во дворе под широким навесом располагалась общественная прачечная. В сарае с огромными воротами стояли повозки, в которые запрягали мулов.
Во всех квартирах, выходивших во двор, окна были забраны решеткой. На подоконниках красовались горшки и консервные банки с геранью и красной гвоздикой. Дом был четырехэтажный, с шестью десятками окон и дверей, выходивших во дворик, на галереи. Веранда была местом сплетен и пересудов. Здесь обсуждались все новости, касающиеся не только жильцов дома, но по крайней мере обитателей трех кварталов в округе. Передавались не только свежие сплетни, но и сообщения, услышанные по Парижскому радио и Радио Пиренайка[18].
Хоакин почти каждый день после работы шел к Пепите. Отношения их были одобрены не только родителями девушки, но и всеми кумушками двора. Это имело немаловажное значение, ибо в числе прочих привычек у кумушек была особенно развита «приятная» привычка перемывать косточки парню или девушке, которые заводили любовь с кем-нибудь из «их» дома.
В те вечера, когда из-за холода на улице, усталости или отсутствия денег жених с невестой оставались дома, Хоакину нравилось, опершись о деревянную балюстраду, слушать разговоры женщин, которые стирали и развешивали во дворе белье, протянув веревку между двумя галереями.
Пепита, пристроившись рядом в плетеном кресле, шила себе приданое.
Отец Пепиты, дон Лукас, старый приверженец анархистской партии, по профессии был сварщиком. Худой лицом, но крепкий телом. Лаура, жена Лукаса, часто говаривала, что муж ее смахивает на дрозда: нос тонкий, а зад толстый.
Дон Лукас вечно всех и вся поносил, всем был недоволен. Что бы ни происходило в Испании, во всем были виноваты священники. Вина за любые неприятности, по его мнению, лежала на длиннополых: шел ли дождь, было ли вёдро. Но, несмотря на его дикую ненависть к церкви и клерикалам, дон Лукас был добрым человеком. Любому нуждающемуся он без раздумья отдал бы последний кусок хлеба. Вот почему, когда родилась его младшая дочь, он назвал ее романтично и нежно: Акрасия.
Лаура, жена Лукаса, хоть и не слыла богомолкой, исправно исполняла католические обряды.
— Это все по привычке, Хоакин, уверяю тебя. Вот так и остальные испанцы. У Лауры когда какая проблема, она бежит в церковь, чтобы взвалить свою заботу на другие плечи, посильнее, чем у нее. Ей все едино, хоть на Будду, лишь бы переложить беду, — уверял дон Лукас.
— Я нахожу утешение в молитве, — возражала жена.
— Ну, сколько не молись, все равно бог тебе не поможет, как не поможет горбатому избавиться от горба.
Но жена не обращала внимания на упреки мужа и продолжала ходить в церковь. А в первый четверг каждого месяца она даже ставила две свечки Христу Мединасельскому, умоляя его переменить в стране правительство. В этом вопросе Лаура полностью поддерживала мужа: она тоже считала, что при теперешнем режиме жить никак нельзя.
Брат Пепиты, Марио, был здоровенным парнем, которого крепко продубил деревенский воздух. Он работал в разрушенных районах — на восстановлении городов и селений, пострадавших во время войны.
— Два года назад я только выпрямлял гвозди, а теперь вот работаю опалубщиком, — хвастался он.
Марио оставался дома только с субботы до понедельника. В остальные дни он ночевал в деревянных бараках, которые строила для своих рабочих организация, восстанавливающая города и селения.
По утверждению Марио, строительство многих объектов обходилось очень дешево. Ведь монтажная контора использовала на стройках политзаключенных, отбывающих наказание. За работу им платили два реала в день, как солдатам, кормежка была на казенный счет.
— Им туго приходится, да и нам несладко. Как отдашь в кабак недельную задолженность, так в карманах хоть шаром покати. Хозяин кабака двоюродный брат подрядчика. Этот кабак ему ничего не стоил. Достался почти даром. Рабочие руки и материал братец подкинул. Подрядчик делает с рабочими и материалом что захочет.
Нары для рабочих были точной копией нар, на которых спали солдаты в казармах. Двухэтажные деревянные топчаны, сбитые между собой. Сверху тюфяки из жесткого эспарто. Рабочие спали прямо в одежде.
Когда Марио возвращался по субботам в Мадрид, он первым делом отдавал остатки своего заработка матери и просил поесть чего-нибудь горячего. Хоакин обучал Марио арифметике и начаткам геометрии.
— Мне вот как нужны знания, — утверждал Марио. — Чтобы стать настоящим плотником, надо уметь размечать и определять объем древесины, знать, что такое консольная ферма, насадка, раскос…
На этих уроках присутствовала также Акрасия. Ей очень хотелось поступить ученицей в контору. Девушке исполнилось шестнадцать лет, она была неистощимо веселая, с огромными лучистыми глазами. Порой беззаботность дочери выводила из себя мать.
— У тебя один ветер в голове, — ворчала Лаура.
Солнце давно скрылось и, как видно, не собиралось возвращаться до следующего дня, но мальчишки, несмотря на призывы матерей немедленно идти домой, продолжали с гиканьем и шумом гонять по двору, играя в полицейских и воров, в салочки, в мяч, в «оседлай осла».
С наступлением вечерних сумерек жильцы расходились по своим квартирам. Когда зажигался свет в комнатах, двор начинал походить на освещенный улей. Галереи пустели, ребятишки прекращали свои игры во дворе и выбегали на улицу, чтобы прицепиться к белому трамваю, идущему в Фуэнкарраль.
Тогда сеньора Лаура приглашала всех в дом. Пепита с Хоакином усаживались за обеденный стол в столовой.
Наговорившись с невестой, Хоакин вставал из-за стола и шел на кухню поболтать с сеньорой Лаурой. У хозяйки дома была одна слабость — она очень любила, когда хвалили ее кулинарные способности: сеньора Лаура считала себя отменной поварихой. Хоакин, желая сделать ей приятное, принимался пробовать ее стряпню, отчего добрая женщина приходила в восторг. В благодарность она рассказывала Хоакину последние новости о соседях и жаловалась на дороговизну жизни.
Так он узнавал, что соседка, живущая этажом выше, в десятом номере, сдавала угол в кухне, как самое теплое в квартире место. Жиличкой была дешевенькая проститутка, занимавшаяся своим промыслом на склонах у Черного Отеля. Брала соседка по дуро в день.
А у квартирантки из восьмой квартиры (с выходом во двор) муж сидел в тюрьме Йесериас, и она играла в кошки-мышки с политической полицией, которая время от времени являлась к ней с обыском.
— По-моему, за ними охотятся. Вот найдут у них «Мундо обреро»[19], тогда им несдобровать.
Рассказывала и о том, что сеньора Фели — соседка через две двери справа — вступила в тайные переговоры с акушеркой, чтобы постараться исправить небрежность, которую они с мужем допустили два месяца назад.
— У Фели двое детей, сын и дочь, уже почти взрослые. Как только узнали о беременности матери, почти перестали с ней разговаривать. А я считаю, что ничего тут страшного нет. Правда, когда уже немолодая, надо быть поосторожней и уметь пользоваться разными средствами, — говорила сеньора Лаура Хоакину.
Словом, жена дона Лукаса утверждала, что все жильцы в доме сыты по горло иевзгодами и несчастьями. И при первом удобном случае не преминут выразить свое возмущение.
— Ох и заварится каша! Вот увидишь. Но вы, мужчины, все трусы, только и умеете, что языком чесать. Лукас первый такой.
Возвращаясь домой после работы, отец Пепиты доставал колоду карт из ящика комода и усаживался с Хоакином за партию туте, пока сеньора Лаура не звала их ужинать. Хоакин пришелся по душе своему будущему тестю.
— Ты, парень, ох как пригодился бы в нашем анархистском клубе!
— Меня анархизм не привлекает, я интересуюсь идеями социализма. Анархии и обреризм[20] были хороши для своего времени. Социализм и то, что последует за ним, — вот что теперь занимает людей. Но мы все находимся в одной траншее, — отвечал Хоакин.
Партнером дона Лукаса по картам был сосед из квартиры рядом. Маленького роста, лысый, с меланхоличным выражением лица. Звали его Ремихио. Как и отец Пепиты, в свое время он был ярым сенетистом.
Он мечтал о временах, когда все проблемы разрешались в стиле анархистского вождя Дуррути, прямо па улице. Ремихио придерживался крайне радикальных взглядов.
— Еще в девятнадцатом году мы помогали революции. Мы отказывались делать оружие, которое посылали против Красной Армии. А с восемнадцатого по двадцать третий сражались в Барселоне.
Иногда он говорил:
— Надо разрушить буржуазную цивилизацию, разрушить до основания. Нужно действовать прямо и открыто. Как учил Бакунин. Надо бороться за равноправие, за свободу!
— Нет, — возражал Хоакин, — вы ставите абстрактные проблемы, атакуете следствие, а не причину.
Сеньор Ремихио смягчался, лишь когда речь заходила о беспризорных детях и прочих обделенных и угнетенных капиталистическим обществом.
По профессии он был сафьянщиком.
— В Мадриде не сыщешь другого такого, как он, искусного мастера, — говаривал о своем друге дон Лукас.
И когда, сидя за обеденным столом, Хоакин с Пепнтой обсуждали свою будущую совместную жизнь, два старых анархиста с пеной у рта доказывали, что все проблемы разрешатся, если в мире восторжествует свободная любовь. Сеньора Лаура, сохранявшая на этот счет консервативные взгляды и зорко следившая за дочерьми, упрекала мужчин в том, что они своими словами и помыслами оскорбляют господа бога. Но два старых анархиста и ухом не вели, не обращая ни малейшего внимания на упреки сеньоры Лауры.
Глава семьи — сеньор Ремихио не осмеливался в открытую спорить с женой друга, несмотря на их добрые отношения, — громогласно заявлял:
— Эти христосики… вечно тянут одну и ту же песню!
Вчетвером они играли в туте. И то ли потому, что Хоакину с Пепитой попадались хорошие карты, или им просто везло, но большую часть партий выигрывали они, к вящему неудовольствию двух стариков, которые никак не могли уразуметь, как это можно выигрывать, не делая никаких подсчетов.
Иногда Хоакин оставался ужинать у Пепиты, к великой радости дона Лукаса, который непременно пользовался этой возможностью, чтобы поспорить с будущим зятем о судьбах Испании. У старого анархиста были на этот счет свои, оптимистические взгляды, и, хотя он не разделял марксистских идей, он уважал сторонников III Интернационала как всемирную силу рабочих, способную руководить борьбой своего класса.
Изредка дон Лукас сетовал на молодежь.
— Совсем сдурели со своим футболом. В нашем цеху только и разговоров, что о «Мадриде» да об «Атлетико». Я иногда так разозлюсь, что даю им подзатыльники.
— Не все такие. Есть другая молодежь, у нее заботы о более серьезных вещах, — возражал Хоакин.
— Прямо тюфяки какие-то. Не знают, где им ботинки жмут, хоть и чувствуют боль.
— Всем всего не объяснишь, дон Лукас, на то и подпольная работа. В этом ее трудности. Надо учиться на марше.
— Да, верно. Я понимаю, люди ищут уединения и принимают все меры предосторожности. Хоть на улицах и не стреляют, но бороться сейчас потрудней, чем в мое время. Может, полиция и не очень умна, зато у нее большой опыт и средства для того, чтобы до всего дознаваться.
Хоакин пристально рассматривал дона Лукаса. Он смотрел на него глазами человека другого поколения, не принимавшего участия в войне. Смотрел как на старика, уходящего из жизни, который старается понять молодежь, ибо страстно привязан ко всему земному. Хоакин сознавал, что он еще может понять дона Лукаса, но росло новое поколение, которое скажет свое решительное слово.
Рассуждая на политические темы, дон Лукас начисто забывал о благоразумии, к которому сам же призывал молодежь. Он возбужденно вскакивал со стула и громко взывал к утраченной свободе.
— Свобода! Один человек или целый народ могут простить того, кто заставил их голодать или страдать, но они никогда не забудут того, кто попирал их достоинство.
Дон Лукас взволнованно, огромными шагами мерил комнату. Хоакин пытался его успокоить.
— Верно, сынок, ты прав. Чуть что, я распаляюсь, ты прав, так нельзя говорить. Но соседей бояться нечего. Даже тех, что живут в отдельных квартирах. Здесь у всех здоровый дух. У нас тут как в аптеке, всего вдосталь: республиканцы, либералы, социалисты, коммунисты, сенетисты… а вот прочих нет. В нашем доме все отсидели годик-другой в тюрьме.
Сеньоре Лауре становилось жалко дочь, она не могла видеть ее скучающее лицо и под любым предлогом уводила Хоакина от споров с мужем. Пепита наизусть знала все отцовские рассуждения и, как только он заводил с Хоакином разговор о политике, выходила на галерею и, опершись о балюстраду, дожидалась там своего жениха.
Хоакин благодарил будущую тещу за своевременную помощь и, подойдя к Пепите, нежно касался щекой ее щеки. Сплетя руки, они ласково перебирали пальцы друг друга и любовались звездами, ярко сверкавшими в темном прямоугольнике неба.
— Ну и ну! Я уж думала, ты никогда не придешь!
— Вот видишь, пришел.
— Стоит вам с отцом затеять спор, я могу прощаться с тобой хоть навеки. Иногда мне кажется, что ты приходишь разговаривать с отцом, а не ко мне, — раздраженно жаловалась Пепита.
Хоакину доставляла удовольствие ревность невесты. Он весело смеялся.
— Нет, ты не смейся, Хоакин. Это чистая правда.
— Но ты же понимаешь, не могу я уйти, когда твой отец говорит. Воспоминания необходимы ему как воздух. Он уже старый.
— А тебе что необходимо? Политика?
— Ты. Человеку необходимо верить во что-то, в какую-нибудь идею или в другого человека. Мне очень повезло, у меня есть идея и есть ты!
— А ты особенно не доверяйся, может, я не очень надежная.
— Неужели?
Хоакин поцеловал Пепиту в щеку. Она, чтобы сохранить тепло поцелуя, приложила ладонь лодочкой к тому месту, куда он поцеловал.
— Может, что?..
— Ничего…
Он снова обнял ее и хотел поцеловать, но Пепита выскользнула из его рук.
— Нас могут увидеть! Давай лучше пойдем вон в тот уголок двора, там темно. Мы с братом всегда прятались там, чтобы пугать друг дружку.
Укромный уголок находился в дальнем конце двора, рядом с коммунальным водопроводом. Девушка вела Хоакина за руку.
— Смелее! Я тебя проведу.
— Слушай, Пепи. Да здесь темней, чем в туннеле.
— Просто вчера перегорела лампочка.
— А-а.
— Знаешь что? Только не говори, что это глупость! Почему бы тебе не отпустить усы? Тебе очень пойдут!
— По правде сказать, никогда об этом не думал. Пепита прислонилась к стене.
— Скажи, что ты меня любишь!
— Ты же знаешь, что это так!
— Вот и скажи, мне нравится, когда ты это говоришь.
— Я люблю тебя.
— Ну и увалень ты. Люблю, люблю. Ты еще что-нибудь скажи.
— Что это за шум?
— Ты лучше не шум слушай, а меня.
— Отчего бы это?
— Что?
— Да шум.
— Не обращай внимания. Я же сказала. Это капает вода из крана.
— Похоже на что-то другое.
— Это водопровод.
— А-а.
— Ну, произнеси мое имя.
— Пепи.
— Да нет, скажи лучше!
Хоакин сжал губами мочку ее уха. Пепита закрыла глаза.
— Не кусайся, а то потом мне стыдно, когда спрашивают, откуда у меня синяк.
— Скажи, что это тебя котенок поцарапал.
— Так они и поверят.
— Ты просто прелесть, дорогая.
— Знаешь, все же отпусти усы.
— Как ты пожелаешь.
Дверь в квартиру дона Лукаса осталась открытой, оттуда в коридор падал желтый квадрат света. Послышался голос Акрасии. Она звала Хоакина и Пепиту.
— А нас не увидят?
— Нет, оттуда не увидят. Но давай пойдем. А то если мама узнает, что мы тут были, потом станет меня ругать.
Акрасия двинулась по коридору, услышав нарочито громкие фразы, которыми обменялись жених с невестой.
— Привет, зятек.
— Привет, малышка.
— Малышка, малышка. Мне уже шестнадцать лет.
— Взрослая женщина, — рассмеялся Хоакин.
Акрасия пристально посмотрела на сестру и Хоакина. Ее разбирало любопытство, желание угадать по их лицам, что это такое — любовь. Пепита отвела глаза в сторону. После той памятной прогулки в горах Пепите казалось странным, что никто из окружающих не замечает происшедшей в ней перемены.
Казалось, какая-то мысль не давала покоя Акрасии. Она решительно подошла к Хоакину.
— Послушай-ка! — Девушка мечтательно уставилась в звездное небо. — Мир… люди… А ты веришь в бога? Это, конечно, глупый вопрос.
— Я верю в жизнь.
— Я тоже не верю в бога.
Весь двор был залит огнями, громко играло радио, кричали малыши, которых укладывали спать, шумела вода, бегущая из водопроводных кранов во дворе. Слышались голоса возчиков, заводивших в конюшню мулов, ржание животных. И еще множество всевозможных шумов, как бывает там, где люди живут скученно, впритык друг к другу, в горестях и печалях, за шестьюдесятью дверями и окнами шестидесяти квартир большого несуразного дома.
— Уже одиннадцать, я пошел.
— Не уходи, Хоакин. Побудь еще немножко.
Акрасия ушла домой ужинать.
— Уже поздно, а мне добираться до Кеведо.
— Ну, не уходи, подожди еще капельку. Когда ты уходишь, мне становится так одиноко. Я сама не своя, пока опять тебя не увижу.
Они умолкли и в тишине смотрели на далекие звезды.
Снова попрощались. Хоакин отворил дверь в квартиру Пепиты, чтобы проститься с ее родственниками.
— До свидания, дон Лукас и все семейство.
— До завтра, сынок.
— Прощай, — сказала Акрасия.
— Прощай.
В воротах ом столкнулся с проституткой, живущей на третьем этаже. У несчастной на лине было написано отчаяние.
В субботу Хоакин, как договорился с Энрике, пошел к Аугусто.
Стоял теплый вечер начала весны. Лучи заходящего солнца заливали ровным светом улицы города. У дверей таверн мужчины потягивали вино, толковали о делах, проигрывали в карты последние медики.
Дом Аугусто находился довольно далеко от метро. Хоакин попотел, пока дошел. На лестнице было тихо, сюда едва доносился шум с улицы. Ребятишки разрисовали стены углем. На прохожих смотрели огромные уроды с непомерно длинными конечностями.
Хоакин постучал.
— Кто там? — спросил изнутри голос Элены.
— Это я, Хоакин.
— Проходи, — сказала Элена. — Тебя уже ждут.
Аугусто и Энрике разговаривали, сидя за столом. Чуть поодаль, у двери в спальню, стояла Роса.
Когда Хоакин вошел, Энрике поднялся и пододвинул ему стул.
— Давай, присаживайся.
— Я думаю, ты понимаешь, как важно, чтобы бойкот удался, — сказал Энрике, обращаясь к Аугусто. Он снова сел за стол.
— Да, это верная мысль.
— Придется как нельзя кстати.
— А в чем дело? — поинтересовался Хоакин.
— Мы хотим объявить бойкот. Для этого-то и пригласили тебя сюда, — отвечал Энрике.
— Думаешь, у вас получится? — спросила Роса, отойдя от двери и вставая за стулом Энрике.
— Не знаю, но попробовать обязательно надо.
— А что бойкотировать? — снова спросил Хоакин.
— Транспорт. Метро, трамвай.
— И автобусы тоже, — добавил Аугусто.
— Сейчас самые подходящие условия. Люди устали от непрерывно растущих цен. А зарплата остается прежней, без изменений, — сказал Энрике.
— А сколько времени будет продолжаться бойкот?
— Двадцать четыре часа, Хоакин.
— Это не много.
— Надо учитывать фактор внезапности. Не следует забывать, что в Мадриде уже много лет никто не устраивал демонстраций протеста. Бойкот транспорта захватит их врасплох.
На кухне в печке потрескивал уголь. За окном медленно сгущалась тьма.
— Кто-нибудь хочет немного хлеба с сыром?
— Ты не спрашивай, а возьми и принеси, — сказал Аугусто жене.
— Я сделаю бутерброды, Элена, — отозвалась Роса.
— Не ты один, Хоакин, — задумчиво сказал Энрике. — Не только ты и не только мы. Все постепенно начинают понимать, что назревают события, совершается то, что, казалось, никогда больше не произойдет. Люди видят, что коммунисты организовывают народ, видят, что мало-помалу напряжение спадает, хотя полиция по-прежнему продолжает делать свое черное дело. Власти прибегают к помощи полиции, потому что не хотят дать народу политические права. А других методов, чтобы сохранить прежний порядок, у них нет. Даже те силы, на которые они рассчитывали, теперь не с ними.
— А что можем сделать мы? — спросил Хоакин.
— Подготовить настроение на заводе.
— Ну, это теперь не так трудно.
— Ты считаешь? Верно, многие рабочие выскажутся за бойкот. Но одно дело то, что люди думают, и совсем иное то, как они действуют. Все будет зависеть от нас, сумеем ли мы разъяснить им их сомнения.
— На Гонсалеса можно рассчитывать? — спросил у Аугусто Хоакин.
— Да, можно.
— Он скоро придет, — сказал Энрике, посмотрев на Росу. Девушка промолчала. Она поставила на стол тарелку с хлебом и сыром, нарезанным тоненькими ломтиками. Потом отошла к окну и стала смотреть на улицу. Из окна виднелась часть улицы, примыкающая к Аточе, у входа на Медицинский факультет.
— Хотите немного вина к сыру? — спросила Элена, ставя на стол бутылку.
— Вино никогда не лишнее, а к сыру оно как раз, — ответил Аугусто.
— Все почти готово, — продолжал рассказывать Энрике. — Через две недели будет точно установлена дата. И сейчас, в эти дни, надо объяснять, говорить, чтобы все знали и были готовы.
— Какой же это будет день? — задумчиво спросила Роса.
— Дата еще не назначена. Чтобы не сорвали.
— А не много ли вы требуете от людей? Страх еще велик.
— Необходимо разъяснять всем и каждому: за то, что люди будут ходить пешком, им никто ничего не сделает. Если ты идешь пешком, а не едешь, никто не может требовать у тебя объяснений.
Роса, стоя у окна, думала о том, сколько времени прошло, как она познакомилась с Энрике. С тех пор в ее жизни случились большие перемены. Она уже не испытывала такого тягостного одиночества, дни летели быстрей, легче было переносить неприятности. Надежда, которой жил Энрике, зажигала и ее сердце огнем, словно в нем вспыхивало горячее летнее солнце.
— Ой, как бы мне хотелось смотреть на жизнь, как ты, с надеждой, с радостью, — говорила она. — Когда я рядом с тобой, все кажется мне легко и просто. А когда остаюсь одна, я пытаюсь думать, как ты, но у меня ничего не получается. Все эти годы, всю свою жизнь я терзалась и страдала. Я почти ни во что не верю. Как бы я хотела обладать такой же верой, как ты!
— Не сочти меня сентиментальным, но, когда я думаю о будущем, о нашем будущем, о детях, которые у нас с тобой родятся, во мне что-то происходит. Сам не пойму что! Но это вдохновляет меня, побуждает к действию.
— Говори, говори! Рассказывай мне о чем-нибудь!
Роса отвернулась от окна. Кто-то позвонил у входной двери. Это пришел Гонсалес.
— Добрый вечер, — поздоровался он. — Я не опоздал?
— В самый раз.
— Ну, что скажете?
— Я уже тебе говорил, в чем дело.
— Да.
— Ну, так насчет подготовки на заводе мы договорились.
— Я мог бы побеседовать с фрезеровщиками, сами знаете, они меня уважают, я там пользуюсь влиянием. Они вроде меня. Социалисты.
— Было бы неплохо.
— А по-моему, — сказал Хоакин, — в первую очередь надо бы распространить на заводе листовки.
— В цехах?
— Зачем? Можно у стены, где мы обедаем. Там бы их наверняка все прочитали. И мы тоже. А потом, не вызывая никаких подозрений, могли бы начать и разъяснительную работу.
— Это опасно, Хоакин, — сказала Элена.
— А ты уже испугалась? — спросил Аугусто жену. Роса снова отвернулась от окна, прислушиваясь к разговору.
— Да, испугалась, — подтвердила Элена.
Аугусто поднялся из-за стола, поставил стакан и обнял жену.
— Не беспокойся.
— Кому же беспокоиться, как не мне?!
— Не думай, что я люблю рисковать попусту.
— Надеюсь, вы обсудите сначала все «за» и «против»?
— Я за предложение Хоакина, — сказал Гонсалес.
— Страх — плохой советчик. Если мы испугаемся, они воспользуются этим и зажмут нас в кулак, — сказал Энрике.
— Ты прав, но у Элены тоже есть свои причины так рассуждать. В течение многих лет нас держат в страхе. И от него не так легко избавиться. Был и нету, — возразила Роса.
— Я понимаю, вы не действуете сгоряча, вы все обдумали как следует. Но все же, по-моему, надо поразмыслить еще раз. Я советую это сделать ради всех нас.
— Когда будут готовы листовки? — спросил Гонсалес.
— Точно не известно, но ждать недолго.
— Необходимо достать денег. Мы можем попросить у рабочих на заводе.
— В субботу, у тех, кто внушает доверие.
— Надо поискать место, где можно будет спрятать листовки, — сказал Энрике.
— Как насчет твоего дома, Хоакин?
— Плохое место, ты же знаешь, у нас полно жильцов. А новый жилец, я тебе говорил, фалангист.
— Ты же сказал, что он хороший человек.
— Да. Он никому не проговорится.
— Тогда Хоакину лучше не давать, — сказал Аугусто.
— Рамиро неплохой человек, у него те же заботы, что у нас.
— Нет, лучше тебе не брать.
Мужчины замолчали. Хоакин рассеянно жевал кусочек сыра. В коридоре послышались голоса.
— Это соседи, — объяснила Элена.
— А где дети? — спросила Роса.
— Я отвела их после ужина к двоюродной сестре, она живет тут неподалеку. Нечего им вертеться под ногами да слушать разговоры взрослых. Они ведь несмышленыши, сболтнут лишнее. Хлопот потом не оберешься.
— Как они у тебя едят?
— Как кролики. Сколько ни дай, все мало.
Мужчины снова заговорили о своих делах.
— Ну так куда денем листовки, когда их напечатают?
— Можно спрятать у меня, — предложил фрезеровщик Гонсалес.
— Не уверен.
— Самое подходящее место. У меня никогда не было никаких осложнений.
— Нет, это не подойдет. Как только листовки появятся на заводе, нас первыми заподозрят. Надо, чтобы у нас дома все было чисто.
— Кто бы тогда мог их спрятать?
— Нужен человек, на которого можно полностью положиться.
— И который не имел бы ничего общего с заводом.
— Я их спрячу, — предложила вдруг Роса. Она собирала со стола стаканы, чтобы отнести их на кухню.
— Как ты считаешь, Энрике? — спросил Аугусто.
— Роса сама за себя отвечает.
— Я могу спрятать у себя в комнате. Туда никто никогда не входит.
— Если Роса спрячет, тогда все в порядке. Соберемся через несколько дней.
— Где?
— Здесь, другого места у нас нет, — сказал Аугусто.
— Можно бы в каком-нибудь баре.
— Нет, только не в барах.
— Тогда здесь.
— Идет.
— До свидания, — попрощался Гонсалес, пожимая руки женщинам.
— Никто ничего не знает об этом собрании. Мы даже не встречались после ухода с завода. Поняли? — объяснил Энрике.
— Понятно, понятно, не беспокойся, — ответил за всех Гонсалес.
— Выходите по одному через некоторое время.
— Да, так лучше. В нашем доме полно соглядатаев.
Вслед за Гонсалесом через несколько минут ушел Хоакин. Вскоре вернулись дети Аугусто.
— Ну, что вы делали у дяди с тетей? — спросила мать.
— Нас водили в кино, — отвечал старший.
— На американскую картину, ох и стреляли там! — добавил младший.
— Сейчас поужинаете — и спать, — сказала Элена, направляясь в кухню; следом за ней пошли Аугусто и малыши. Энрике с Росой остались в столовой.
— О чем задумался?
— О тебе. Мне очень понравилось, что ты предложила спрятать листовки.
— Я боюсь, Энрике.
— Не будь глупышкой, ничего не случится.
— Давай прогуляемся, что-то душно стало.
— Давай.
— Мы пойдем, Элена! — крикнула Роса.
— Проветритесь немного, — ответила жена Аугусто.
Молча они кружили по улицам квартала. Они шли, прижавшись друг к другу, у самых стен домов. Изредка попадались прохожие. Рожки месяца смотрели вниз. По небу скользили белые облачка.
* * *
Они долго смотрели друг другу в лицо. Потом наконец простились.
— Придешь завтра? — спросила Пепита.
— Обязательно, только чуть попозже.
На крыши домов по улице Браво Мурильо лился молочный лунный свет. Небо казалось грязным, словно затянутое дымом. Группа велосипедистов катила в сторону Куатро Каминос. Они ехали попарно, время от времени оборачиваясь, чтобы через плечо перекинуться словом.
У подъезда Хоакин встретился с Антоном.
— Как дела? — спросил он у друга.
— Ничего, — весело ответил Антон.
— Я вижу, ты доволен.
— Еще бы, так и прыгаю от радости…
— Есть хорошие новости?
— А ты слышал насчет бойкота?
— Да.
— Теперь все об этом знают.
Антон поставил ногу на ступеньку лестницы, собираясь войти в подъезд.
— На, закури.
— Спасибо.
Хоакин достал зажигалку.
— Хорошая у тебя зажигалка.
— Ронсоновская. Пепита подарила на день рождения. Они закурили. В подъезде слышались приглушенные голоса завсегдатаев, распивавших вино в таверне Иларио.
— Зайдем? — спросил Антон.
— А ты куда?
— Давай зайдем, промочим горло.
— Не могу.
— Дела, что ли, какие? Оставь на завтра.
— Я договорился с другом.
— Да брось ты своих друзей, пошли лучше тяпнем пивка.
— Нет, я договорился с товарищем насчет одного дела, — объяснил Хоакин.
— Ладно, понимаю. Листовочки, да?
Хоакин промолчал. В подъезд вошел сосед с третьего этажа. Он нес под мышкой газету.
— Добрый вечер, — поздоровался сосед.
— Добрый вечер, — в один голос ответили приятели. Из глубины подъезда раздался шум. Хлопнула дверь лифта. Зарокотал мотор.
— Этот тоже разбирается что к чему, — сказал Антон. — Живет рядом со мной. Я каждую ночь слышу, как он ловит по радио…
— Уже несколько дней очень плохо слышно.
— Помехи.
— Ладно, я пошел. Я еще не ужинал, — сказал Хоакин.
— Как у тебя дома?
— Нормально. После Антонии съехала Ауреа. Теперь остался только Рамиро, но и он не надолго. Ему скоро дадут квартиру.
— Ты доволен?
— Еще бы!
— Когда все уедут, квартира будет твоя?
— Да.
— Ну ладно. Куда тебе спешить, давай выпьем пивца у Иларио.
— Хорошо, один стакан — и пойду.
Для того чтобы попасть в таверну, следовало толкнуть стеклянную дверь и подняться на одну ступеньку. Стойка была поделена на две части. Одна, обитая цинком, со стенкой из белого кафеля, предназначалась для пива. Здесь располагались краны от пивных бочек и аперитивы. У другого конца стойки, меньшего по размерам и отделанного деревом, отпускали вино клиентам, являвшимся со своей посудой: бутылями и кувшинами.
— Клянусь тебе, я своими глазами видел в цеху листовку, — утверждал рабочий, стоявший у стойки. Заметив вошедших приятелей, рабочий замолчал.
— Роток на замок, на горизонте мавры! — смеясь, крикнул кто-то из глубины зала.
— Это свои, — успокоил хозяин таверны.
— Брось ты.
Они подошли к стойке, где отпускали вино.
— Давай пойдем куда-нибудь в воскресенье, — предложил Антон.
— Пока нет, вот когда это кончится, — ответил Хоакин. И тут же спросил. — А сколько времени?
— У меня нет часов.
— Да, без часов паршиво. Никогда не знаешь, сколько времени. Мне обязательно надо купить часы.
— Из Танжера привозят за сходную цепу.
— Сейчас десять минут одиннадцатого, — сказал хозяин таверны с другого конца стойки. Он повесил свои наручные часы на горлышко бутылки.
— Мне уже пора, Антон.
— Допей свое пиво.
Хоакин допил то, что оставалось в стакане.
— Ну, смотри не попадайся. Пойду схожу в кино с сестренкой. Давно уже не водил ее.
— Когда начало?
— В десять сорок пять. Но я не хочу пропускать хронику.
— Ну, приятного развлечения.
— А тебе всяческой удачи.
Хоакин поднялся по лестнице и вошел в квартиру. Дверь в комнату Рамиро была открыта, и он пожелал доброго вечера всему семейству, сидевшему за передвижным столиком.
— С невестой гулял? — спросила Бланка.
— Да. Гуляли по Дееса де ла Вилье. Очень хорошо, — ответил Хоакин.
— Пользуйся, пока холостой. Пока ты вольная птица. Вот женишься, пойдут детишки, носа за порог не высунешь, — заметил Рамиро.
— Можно подумать, будто ты сидишь дома, привязанный за ногу к кровати. Да ты больше бываешь на улице, чем дома, — возразила Бланка мужу.
— Так я работаю.
— Мы тоже несколько раз гуляли в Деесе, помнишь? — сказала Бланка.
— Ходили в Г’оррис, закусочную, рядом с какими-то сиротскими интернатами.
— Мы там танцевали, — подхватила Бланка.
Супруги замолчали, словно отдавшись далеким воспоминаниям.
— Вы слышали насчет бойкота транспорта? — спросил Хоакин.
— Да, — ответил Рамиро. — Мне рассказывали товарищи из районного отдела. Нам приказали не обращать на это внимания и пользоваться транспортом.
— Но ты не станешь, — сказала Бланка.
— Еще не знаю. Там видно будет. Вообще-то такая забастовка глупость. Тем, что будешь ходить пешком, многого не добьешься.
— Пойду поужинаю, — сказал Хоакин.
Он прошел в столовую и открыл окно. Слабый, белесый свет растекался по двору. Раздавался смех и тихие разговоры; в первом этаже привратник ругал жену.
— Почуяли страх. Этот и подобные ему стали теперь бояться. — Хоакин, прислушавшись к голосу привратника, вспомнил то время, когда этот тип орал и наводил ужас на всех во дворе.
Постояв у окна, Хоакин прошел в туалет, причесался. В туалете на гвозде висело какое-то женское тряпье, старые брюки.
Когда он вернулся в столовую, его ждал ужин. Мачеха раскладывала приборы.
— Ты пойдешь куда-нибудь? — спросила она.
— Да, — ответил он. — Завтра же воскресенье.
— Для меня все дни одинаковы. Что воскресенье, что будни. Одним только и хороши воскресенья. На работу ходить не надо. Но зато дома всегда работа найдется. Как тебе приготовить яйцо?
Хоакин не ответил. На столе рядом с кувшином с холодной водой дымилась тарелка супа. Мария сидела напротив Хоакина, опустив глаза в тарелку.
— Как тебе приготовить яйцо? — снова спросила она.
— Как хочешь.
— Мне все равно, что тебе готовить, яичницу или омлет.
— Давай тогда яичницу.
За ужином Мария не переставала жаловаться на свою горькую судьбу. Хоакин пристально посмотрел на нее. Мачеха выглядела мрачней и грустней обычного. Она говорила и говорила тихим, монотонным голосом, ни на кого не глядя, словно сама с собой, словно ей было наплевать, слушает ее кто-нибудь или нет.
— До сих пор все никак не получу ответа от сестры, — посетовала она.
Хоакин рассеянно крошил хлеб и макал его в яичный желток.
— Ты можешь перенести кровать в комнату Ауреа. С неделю уж как они взяли все свои вещи. Комната теперь пустая. Тебе будет удобней в ней спать, чем в столовой. Я вымою там пол.
— Хорошо, я перенесу кровать, — ответил Хоакин. — Завтра же. Сегодня мне надо идти, да и неохота.
— Как хочешь.
Хоакин вышел из дому около одиннадцати часов вечера. Отшагал порядком по улицам, пока добрался до площади Кеведо. В центре площади, в сквере, прохаживался патруль гражданских гвардейцев. Они остановились у памятника. Закурили. Хоакин видел, как мигают красные огоньки сигарет. Центральная часть площади утопала в темноте. Улица Элоя Гонсало была почти пустынна. Только на одной из каменных скамей мужчина играл с собакой. В другом конце площади, за деревьями скверика, светились огни танцевального зала. Хоакин, хотя его и подмывало пойти туда, ни разу там не был. А вот Неаполитанец бывал. И потом рассказывал, что в «Лас Пальмерас» можно здорово провести время, а после танцев за пять дуро переспать с девицей легкого поведения, если придешься ей по душе. Всего за пять дуро, ну и, конечно, стоимость кровати. «Махнешь в Новисиадо и берешь там постель за шестнадцать монет: не то чтобы хорошую, но для такого дела годится».
Хоакин прислонился к решетке больницы, нервно поглядывая на часы на здании ломбарда. Он вскидывал глаза чуть ли не каждую минуту. Закурил сигарету и посмотрел в окна кафе на противоположной стороне улицы. Сквозь легкие занавески виднелся весь зал, столы, ровными рядами протянувшиеся вдоль стен. В кафе было довольно людно, как и полагается в субботний вечер. Официанты сновали с подносами от стойки к столикам.
Хоакин снова посмотрел на часы. На подсвеченном циферблате четко выделялись черные цифры. Он нервничал, волновался. Выплюнул окурок, не вынимая рук из карманов. Гражданские гвардейцы по-прежнему торчали в центре площади: спокойно вели наблюдение. И снова на память пришли не раз слышанные слова: «За подпольную пропаганду дают по крайней мере шесть лет. Но тюрьма не самое страшное, куда хуже допросы с пристрастием. Я знаю одного такого, он разогнуться не может, так ему попортили желудок».
Часы вдалеке пробили половину двенадцатого. На соседней площади на соборе гулко, с перезвоном ответил большой колокол. И в тот же миг часы на башне ломбарда тоже отсчитали время. «Все, не придет! А ведь должен прийти. Послезавтра надо разбросать листовки на заводе. Может, его схватили с пакетом?» Он снова посмотрел на двух гражданских гвардейцев: они медленно пересекали площадь, направляясь на улицу Фуэнкарраль. В тишине ночи, изредка нарушаемой шумом автомобилей, гулко раздавались удары их кованых сапог.
Дверь кафе на противоположном тротуаре отворилась: на улицу выплеснулись вместе со светом шутки, смех. Проститутки, выйдя из кафе, закружили по площади. Они шутили и смеялись друг с другом, прохожих почти не было. Залаяла собака возле задремавшего на скамье хозяина. Мужчина поднялся и стал кидать камни, чтобы пес бросался за ними. Хоакин услышал, как коротко пробило без четверти двенадцать. К нему медленно подошла проститутка. Худая, облезлая. Покачивая бедрами, она мурлыкала модную песенку.
— Ну, дашь закурить? — спросила она, подходя вплотную.
Хоакин, погруженный в свои мысли, машинально смотрел на проститутку. Прямо перед собой он видел усталое, печальное, грубо раскрашенное лицо женщины. Она окинула его долгим профессиональным взглядом. Гвардейцы снова вернулись на площадь: их тяжелые гулкие шаги разносились далеко вокруг.
— У меня только черный табак, — ответил Хоакин.
Снова залаяла собака. Часы на ломбарде пробили полночь. Гвардейцы остановились под башней. Хоакин смотрел на них через плечо девицы. По спине пробежал отвратительный холодок, словно до него дотронулась чья-то ледяная рука. Он снова закурил. Дрожь и страх постепенно утихли. «Они ничего не подумают. Да и что они могут подумать о человеке, который договаривается с проституткой? Не может же он ждать свертка с листовками!»
Он обернулся к проститутке.
— У меня пусто в кармане.
— Сегодня суббота, должен был получить.
Четверть первого ночи. Гвардейцы перешли на противоположный тротуар и снова закружили по площади. Остановились у входа в танцевальный зал.
— Ну что? Пойдешь со мной?
— Нет. У меня нет денег.
Через несколько минут наконец пришел Энрике. На всех часах подряд пробило половину первого.
— Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего.
— Ты здорово опоздал, больше чем на час.
— Пришлось дожидаться. Тепленькие, прямо со станка, — объяснил Энрике, хлопая себя по набитым карманам.
— Где начнем разбрасывать?
— На Олавиде, — ответил Энрике.
Они быстро зашагали прочь.
* * *
В обеденный перерыв, как обычно, рабочие собрались у заводской стены.
Гонсалес, окруженный группой фрезеровщиков, размахивал листовкой.
— Я полностью согласен с тем, что здесь написано. По-моему, можно было и похлеще!
— Верно, не очень-то много там требуют, — согласился один из рабочих.
— Мы должны прийти на работу пешком. Как сказал Хуан, не очень-то это много. Один раз, всего лишь один раз придем на работу пешком.
— А что на это скажет Лауро? — спросил один из фрезеровщиков, показывая на старого рабочего, который ковырял в зубах кусочком картона.
— Ты мое мнение знаешь. В политику я не вмешиваюсь. Политика для тех, кто ее делает. Но на этот раз можете на меня рассчитывать. Я приду пешком и в этот день и, если надо, целую неделю буду ходить.
— Этим мы никакого урона заводу не причиним. Хозяин даже ничего сказать не сможет.
Старый фрезеровщик, потолковав с товарищами, отошел и сел у стены погреться на солнце. Кусочек картона он так и не вынул изо рта.
Хоакин вертелся возле девушек. Все работницы были очень возбуждены.
— Слушайте, — говорила одна из них. — То, что сказал Хоакин, очень правильно. Мой отец тоже так думает. В этот день никто не должен ездить на трамвае.
— А у моего жениха на работе тоже раскидали листовки. Он мне даже одну принес.
— Мы можем договориться, где встретиться, и оттуда придем на завод все вместе, — предложила одна из девушек.
— Уж не воображаешь ли ты, что забастовка — это прогулка с женихом?!
— Тут тебя могут не так погладить, — рассмеялась Другая.
— Я сделаю, как все. Увижу, все идут пешком, тоже пойду пешком, а если едут, то и я поеду. Я выпендриваться не стану. Хватит с меня неприятностей. Нечего искать новых, — сказала одна из девушек.
— Ты куда? Да куда ветер дует! — пошутила резальщица Анита.
— Мы, женщины, тоже должны участвовать в таких делах, нас это тоже касается. У нас бывает побольше неразрешенных вопросов, чем у мужчин.
— Всем надо идти пешком, — напомнил Хоакин.
Подмастерья прекратили гонять футбольный мяч. Они собирали листовки у стены и засовывали их в карманы. Некоторые молча слушали разговоры старших рабочих, другие принимали в них участие.
— А мой отец принес домой такую же листовку.
— Я сегодня утром видел целую кучу листовок у входа в метро, но побоялся взять. Там торчали двое «серых».
— Как вы знаете, я из Хаэна, — говорил бывший батрак, — и у меня нет никакой специальности. Я приехал из деревни с полгода назад. Умею косить, обмолачивать хлеб, сноровисто делать любую крестьянскую работу. В деревне прошло мое детство. Там я вырос и женился. До семнадцати лет никогда не носил башмаков, только и знал, что абарки да сандалии. А ботинки никогда не надевал. Только если по праздникам.
— Тебе плохо жилось? — спросил Хоакин.
— Хуже некуда. Но не подумайте, что мне легко было вырваться из деревни. Всегда страшно расставаться с тем, к чему привык. У меня никакой специальности, а в городе батраки ни на что не годны.
— Но ты все же приехал.
— А что поделаешь? Всяк до всего доходит своим умом. Но я подался в город не только из-за плохой жизни. В деревне всегда косо смотрят на того, кто не пришелся по нраву богатеям. Как-то я набил морду одному хозяину. Вот меня никто потом и не нанимал ни на какую работу. Ни тот, кому набил, ни другие.
— А ты будешь участвовать в забастовке?
— Буду, — ответил батрак.
— А я подумаю, — сказал другой рабочий.
— Думать тут нечего. Участвуешь или не участвуешь. Вот и все.
— Да пускай он объяснит. У Гутьерреса, видно, свои резоны, чтобы так говорить, — заступился за рабочего Энрике.
— Меня устроил на завод инженер дон Педро. Если он прознает, так взгреет, только держись. Лишит сдельщины. А без сдельщины мы с семьей не вытянем. У меня на иждивении жена и трое ребятишек.
— Это важная причина, — заметил кто-то из рабочих.
— Если мы все выступим сообща, инженер ничего не сможет поделать, ни к кому никаких мер не примет. А вот если в забастовке будет участвовать мало людей, тогда другое дело. Все зависит от нас самих, а не от инженера, — сказал Энрике.
— Если все будут бастовать, я тоже буду. Не в моем характере подводить товарищей.
— Эта забастовка не только протест против повышения платы за проезд в трамвае. Мы протестуем против многих вещей, — разъяснял товарищам молодой рабочий-слесарь.
— Хосе прав, мы протестуем против многого, — подтвердил бывший крестьянин.
Рабочие, лежа на траве у заводской стены, смотрели в поля, расстилавшиеся вокруг соседнего монастыря.
Аугусто держал в руках бутылку с вином, которую ему принес Ольмедилья.
— Ну, как вы считаете? — спросил он рабочих.
Рабочие молчали. Одни тщательно вытирали кусочками хлеба кастрюльки, другие курили.
— Дай-ка сюда бутылку.
— На. Только смотри не забывай, нас много, — напомнил Аугусто.
— Ну это… как его… я, наверно, сморожу глупость…
— Ладно, давай выкладывай, а то еще, чего доброго, подавишься.
— Я вот что хочу сказать. Терять нам, как говорится, особенно нечего.
— Это как смотреть, — возразил один из слесарей. Присев на корточки, он усиленно жестикулировал. — Да, как смотреть, — повторил он. — Меня зовут Эулохио. Вы все меня хорошо знаете и знаете, чем я дышу. Я всегда и во всем выступал первым. Но сейчас говорю: надо посмотреть! Если все будет подготовлено как следует, я имею в виду не только наш завод, а всех рабочих Мадрида, тогда такая забастовка — большой шаг вперед. Но если она не удастся, тогда другое дело, тогда это шаг назад. Если мы провалим это дело, нас скрутят в бараний рог.
— Как бы плохо ни получилась забастовка, даже если совсем сорвется, все равно это шаг вперед, — заметил Аугусто.
— Я что-то тебя не совсем понимаю.
— Во-первых, мы не можем заранее считать, что забастовка не удастся. Во время бойкота или стачки рабочие не должны занимать оборонную позицию. Но даже если мы сделаем только попытку бастовать, это уже будет шагом вперед.
— Ну, если так смотреть на вещи, тогда конечно, — признал правоту Аугусто рабочий-электрик.
— Наш инженер уверял, что, если мы будем усердно работать, все получим часть прибыли с производства. Пока, правда, никакой прибыли мы не видали.
— Наверное, эта прибыль отдыхает на даче, — рассмеялся пожилой рабочий.
— А моя жена уже наметила, что купит на эти деньги: кровать для ребятишек и пару одеял.
— Прибыль с производства для нас — это бабушкины сказки, — заметил один из квалифицированных рабочих.
— Пускай нам скажет свое мнение Антонио.
— Что-то он притворяется глухим.
Антонио встал и прямо в глаза посмотрел своим товарищам.
— Я, — сказал он веско, — хотя некоторые и смеются над моей набожностью, о таких вещах думаю так же, как вы. Если для того, чтобы нам повысили зарплату, надо протестовать, я буду протестовать первым. Если для протеста против дороговизны жизни надо не пользоваться транспортом один день или целый год, я не буду им пользоваться. И вся недолга. Я только считаю, что ни к чему поднимать столько шума: обсуждать, растолковывать нам, как маленьким, и все из-за такого пустяка, о котором написано в листовках.
— Очень хорошо сказано, Антонио, — похвалил Аугусто.
— Так, значит, ты согласен?
— Согласен.
Заводская сирена позвала рабочих в цеха. Они возвращались к своим станкам, продолжая оживленно переговариваться. Входя в цех, каждый пробивал на контрольных часах свою карточку.
* * *
В день забастовки Хоакин встал раньше обычного.
Утреннее ласковое солнце растекалось по улицам. Рабочие из Куатро Коминос и Тетуана небольшими группами размеренно, не торопясь, шагали по Браво Мурильо и Гарсиа Морато, неся в руках узелки с едой. Это был спокойный, уверенный марш трудящихся Мадрида. Рабочие шли со смехом и прибаутками, весело здороваясь друг с другом, высоко подняв голову, с улыбкой на устах.
Строительные рабочие, рабочие фабрик и заводов, служащие контор, продавцы магазинов, словом большинство горожан, шли пешком по улицам города.
В предместьях. Мадрида патрулировали конные гвардейцы с саблями наголо. На площадях и улицах, где наблюдалось наибольшее скопление рабочих, стояли закрытые грузовики, набитые полицейскими, ожидавшими инцидентов.
В Вальекасе, Легаспи, всюду, где преобладало рабочее население, охрана и слежка были доведены до предела. На трамвайных остановках, у входа в метро вооруженные винтовками и пулеметами гвардейцы следили за каждым шагом бастующих. Но марш трудящихся по улицам столицы был мирным и спокойным, нигде рабочие не дали ни малейшего повода для вмешательства полиции.
Трамваи ходили пустые. Лишь изредка в вагоне мелькала фигура одинокого полицейского или гражданского гвардейца. Вагоновожатые и кондуктора удовлетворенно улыбались, когда пустые вагоны отходили от остановки, не приняв ни единого пассажира.
Хоакин, Аугусто и Энрике встретились на площади Диего де Леон, как условились накануне. Пришли Гонсалес и еще несколько рабочих с завода.
— На мосту Трес Охос повесили республиканский флаг. Вчера вечером водрузили. Мне рассказал наш сосед. Говорят, полиция всю ночь колесила по кварталу. Задержали нескольких парней, — сообщил один из рабочих, живший в районе Вальекас.
— Дадут им теперь касторки, — сказал другой рабочий.
— Еще рано. Может, зайдем в таверну на улице Картахена, пропустим по рюмочке?
— А знаете, отсюда до завода рукой подать. Ездишь всегда на трамвае, даже не представляешь, сколько туда ходу.
— А от моего дома семь километров топать, — сказал житель Вальекаса.
— Ты вспомни Родриго, он в Посуэло забрался.
Небольшими группами рабочие пересекли бульвар Рондо и вступили на улицу Мехико. Еще не пробило половины восьмого утра. Тележки мусорщиков стояли, прислоненные к подъездам домов, у тротуаров возвышались огромные мешки с мусором.
Они повернули за угол улицы Мехико и направились по Картахене. Трамваи по-прежнему ходили пустые.
— Сегодня трамвайная компания не заработает и медяка, — рассмеялся Лукас.
Таверна располагалась в конце улицы. Работник поднимал железные жалюзи, мальчик из таверны подметал тротуар у входа.
Хоакин с товарищами, толкнув дверь, вошли в таверну. Напротив входа возвышалась стойка, уставленная винными бутылками, банками с огурчиками и перцем. Узкое помещение вытянулось в форме буквы L. Деревянные столики с грязными столешницами выстроились вплотную к стене, оставляя лишь узкий проход к стойке.
У стойки одиноко маячил приземистый худенький человек в синем пиджаке и вельветовых штанах. Маленькими глотками он тянул вино.
— Что будем пить? — спросил Аугусто.
— По рюмочке крепкого, — ответил андалузец.
— Мануэль! — позвал хозяин таверны.
— Что вам? — ответил мальчик, подметавший тротуар.
— Вытри со стола, — велел хозяин.
Все уселись, и молодой официант расставил на столе рюмки.
— Эй, проснись! — крикнул андалузец товарищу рядом с ним. Рабочий спал, уронив голову на руки.
— Я совсем не спал. Вчера вечером пошли с женой в кино, а потом она потребовала, чтобы я поиграл с нею. Так всю ночь и не сомкнул глаз…
— Черт бы побрал этого Элеутерио. А я и не знал, что он любитель по этой части, — заметил андалузец.
Элеутерио, взяв в руки рюмку, казалось, проснулся. С интересом стал рассматривать развешанные по стенам афиши, извещавшие о бое быков.
— Этот Лискано ни в зуб ногой.
— Кто-кто? — спросил андалузец.
— Да этот Лискано, новичок, — ответил Элеутерио, указывая на афишу.
— Эй, Фео! Ты что, клюкаешь по случаю забастовки? — насмешливо спросил Аугусто.
— Да я всего две рюмки, подумаешь!
— Я вижу, тебя хлебом не корми, а дай выпить.
— Как всем. Ничуть не больше.
Низенький человечек у стойки, по-прежнему не оборачиваясь к заводским, заказал еще стакан вина.
— А знаешь, Луми, — обратился он к хозяину, — ты сегодня с этими пешеходами здорово заработаешь.
Хозяин только пробурчал что-то в ответ. Мальчик из таверны, разбросав опилки, принялся подметать пол.
— Пепе стал беляком, уж поверьте. Вчера все ходил и бубнил, что не знает, как ему поступить.
— А прежде был большой забияка. Все вопил, что мы ведем себя как тряпки.
— Тряпкой был его папаша.
— Я считаю, что забастовка — это наш долг, — сказал Аугусто.
— Наш долг — бороться за свои идеи, за достоинство трудящегося человека, — добавил Энрике. — Бойкот, забастовка — это высшее проявление классовой сознательности.
— Есть еще немало таких, которые считают себя пупом земли, только и знают, что языком чесать. А посмотришь на них в минуту опасности, так они этот язык словно проглотили, — вставил Хоакин.
— Это точно, так их и разэдак! — согласился андалузец.
— Ну что, смоемся? — предложил Элеутерио. Он уже совсем проснулся.
— Раньше опрокинем по последней, назло врагам и уродам. Я угощаю всех! — сказал Аугусто.
Выпив, они вышли на улицу. Группа их постепенно увеличивалась. К ним присоединялись все новые и новые рабочие.
— Ну, как оно, Перико?
— Сам видишь, шагаем!..
— Что скажешь, Эутикио?
— Да ничего. Я не создан для рысистых испытаний.
— Ну, ты еще ничего, бодрячком.
— Не думай. Шестьдесят четыре уже стукнуло. Года свое берут. И еще ревматизм. Вредная штука.
— Ну, один день ничего, Эутикио.
Перегородив улицу поперек, шла стайка девушек. Взявшись под руки, они пританцовывали и пели:
Нету ходу, нету ходу Через улицу народу! Только бабушку пущу И черешней угощу.Дойдя до завода, рабочие останавливались у входа, переговаривались, делали замечания. Особенно громко и звонко щебетали заводские девушки.
— Вон идет хозяин!
— Сколько работаю, а еще никогда не видал хозяина так рано.
— Ох и настроение, видно, у него!
— Теперь над ним насмехаются. Но хорошо тому, кто смеется последним.
— А мы и будем смеяться последними.
В цехах при появлении хозяина или инженеров рабочие начинали громко разговаривать и даже свистеть.
— Вы, кажется, пришли работать, а не болтать попусту. Так ведь? — прицепился к Энрике хозяин. — И имейте в виду, я сообщу в профсоюз о каждом, кто сегодня опоздает к смене или будет отлынивать от работы.
Ответ токаря ни хозяин, ни инженеры не слышали. Они удалились в контору.
— Не то запоете, когда у нас будет свой профсоюз, настоящий рабочий профсоюз, — сказал Энрике, окинув взглядом товарищей.
* * *
Вечером Хоакин с Пепитой отправились навестить Антонию. Она теперь жила на новой квартире.
— Проходите, проходите, не останавливайтесь в дверях, — пригласил Луис.
— Как вы поживаете?
— Помаленьку.
Прямо от входа тянулся длинный коридор с дверями по обеим сторонам. На пороге одной из них, сидя в кресле, шила женщина.
— Это наши друзья, донья Эмилиана, — сказала Антония, обращаясь к женщине. — Пришли проведать нас.
— Очень приятно. — Донья Эмилиана подняла от шитья глаза, чтобы взглянуть на пришедших.
— Какая огромная квартира, — заметила Пепита.
— Да, теперь такие не строят, — ответила хозяйка.
— Вы правы.
— Пойдем к нам в комнату, — предложил Луис.
— Как скажете.
— Всего хорошего, донья Эмилиана, — попрощалась Антония.
Проходя по коридору, Хоакин спросил:
— Как вы с ней уживаетесь?
— До сих пор хорошо. Она ни во что не вмешивается. Конечно, мы тоже ей не мешаем. Все время сидим у себя, — сказал Луис.
Они вошли в комнату. Сквозь балконную дверь струился вечерний свет.
— Какая красивая комната.
— Да, неплохая.
— Что ни говорите, ну просто прелесть.
— У вас много мебели?
— Вот, что видите. Вся перед вами.
— Кровать, книжную полку, столик на колесиках и два стула дала донья Эмилиана.
— Вам бы нужен шкаф, — сказала Пепита.
— Если б только шкаф, — усмехнулся Луис.
— Когда Луис получит деньги за переводы, которые он делает, мы обязательно купим шкаф. А пока держим одежду вот в этих ящиках. Неудобно, конечно, и портится.
— У Антонии золотые руки, это она соорудила комод для белья. Купила несколько ящиков из-под табака и сама сделала, — объяснил Луис.
— Садитесь на стулья, у нас их всего два, — с улыбкой сказала Антония.
— А вы как же?
— Мы на кровати.
Девушки стоя шушукались о своих делах. Хоакин с Луисом сели на стулья.
— Где ты работаешь? — поинтересовался Хоакин.
— Практикантом у одного знакомого адвоката. Хожу только по утрам. Платит мне тысячу в месяц. Это, конечно, мизерно, но другого пока ничего нет.
— Да, это очень мало.
— По вечерам даю уроки в школе. Имею три часа. Получаю за это восемьсот. Еще делаю кое-какие переводы. Вот так помаленьку и выкручиваемся.
— Да садитесь вы, — сказал Хоакин девушкам.
— Сейчас, сейчас, — ответила Антония. Она показывала Пените свои платья.
— У меня слюнки текут. Ты прямо настоящая замужняя сеньора.
— Ничего, скоро и ты такой станешь.
— У вас будет ребенок?
— Да, — ответила Антония.
— А на каком ты месяце?
— На третьем, так, что-нибудь в октябре-ноябре, — сказала Антония, считая на пальцах, сколько осталось времени до рождения ребенка.
— Вы довольны?
— Еще бы. Конечно, довольны.
Жизнь Антонии после замужества в корне изменилась. Печаль ушла, стала лишь далеким, неприятным воспоминанием, горьким плодом, от которого ей пришлось вкусить. То, о чем она прежде думала как о несбыточном, теперь принимало реальные очертания. Антония была беременна и вся светилась тихой радостью. Порой она клала руки себе на живот, чтобы ощутить растущую в ней новую жизнь. Ибо женщина, так полагала Антония, должна быть подобна земле для крестьянина — нивой, на которой взрастает зерно.
— Луис как безумный, только и говорит, что о нашем будущем сыне.
— А как бабушка с дедушкой?
— Меня они не очень любят. Им бы хотелось, чтобы Луис женился на девушке из богатой семьи. Я, когда мы их навещаем, замечаю, что они меня не любят. Они ни разу не пожелали прийти к нам сюда.
— Когда родится внук, они изменятся.
— Я тоже на это надеюсь, но, если не изменятся, бог с ними. Мы в них не нуждаемся.
— А Луис что говорит?
— В конце концов, это его родители. Но он не любит говорить об этом, это его огорчает.
В окно врывались крики уличных торговцев, доносился шум из коридора, шаги хозяйки квартиры.
— Ну как, удалась забастовка?
— По крайней мере в этом квартале удалась. Когда я возвращался от адвоката, все шли пешком. А как сейчас, вечером, не знаю. Я не выходил на улицу.
— Получилось лучше, чем можно было ожидать.
— Я ожидал, что так будет…
— Ну, ты великий человек…
Антония на миг прервала свой интимный разговор с Пепитой, чтобы спросить мужчин, не желают ли они чашечку солодового кофе.
— Такую роскошь, как настоящий кофе, мы не можем себе позволить. Слишком дорого для нас.
— Вы как хотите, а ради меня не беспокойтесь, — сказал Хоакин.
— И ради меня тоже, — добавила Пепита.
— Ну, какое же это беспокойство? — возразила Антония.
— Я тебе помогу, — предложила Пепита.
Двое друзей продолжали свой разговор.
— А уроки ты кому даешь, мальчикам или девочкам?
— И тем и другим, но только по отдельности.
— А почему?
— В школах запрещено совместное обучение. Этого придерживаются неукоснительно.
— По-моему, это какой-то абсурд.
— Да, но что поделаешь? Я тоже так считаю. Ты же знаешь, как в военном уставе: приказ есть приказ, каким бы глупым он ни был.
Они немного помолчали. Хоакин взял с полки книгу и стал ее листать.
— Тебе нравится Мачадо? — спросил Луис.
— Да.
— Возьми почитай его стихи, изданы в Аргентине.
Антония с Пепитой накрыли на стол.
— Ну, а когда вы поженитесь?
— Видно, не скоро. Вот как освободится его квартира, — сказала Пепита, кивая на Хоакина.
— Ну, значит, не очень скоро.
— Ждать никаких сил нету. — Пепита сокрушенно махнула рукой. — Я не хочу оставаться старой девой.
— А у нас вышло не так плохо, как предполагали. Как говорится, риск благородное дело, — сказала Антония, намазывая маргарином кусок хлеба.
— Да, все это верно. Но ходить чуть ли не как дикари, в набедренной повязке, — это не для меня. Сами знаете, в доме, где нет муки, одни муки, — сказал Хоакин.
— Ну, дорогой, я ко всему привыкла, не думай, что меня пеленали в шелковые пеленки. Да кроме того, мои родители нам помогут.
— Твой отец замечательный человек, Пепита. Но ведь не могу же я быть на твоем иждивении! Твои родители сами не ахти как живут.
— А как Мария? И остальные? — спросила Антония у Хоакина.
— Как всегда. Мария стала пить еще сильней, льет, как в бочку. Аделита, девочка фалангиста, ходит в школу, болтает без умолку, как сорока. Меня она очень любит.
— А что делает Ауреа? — в свою очередь спросил Хоакин.
— О тетке я уже давно ничего не знаю. Однажды пришла с моим братом навестить нас. Что-то у нее не в порядке, все лицо покрылось прыщами, — ответила Антония. — По-моему, ее дружок-мясник не очень-то чистоплотный, а она болеет, видно, женской болезнью.
— У него сифилис, — сказал Луис.
— А-а.
— Педро, как всегда, занимается своими делишками. В один прекрасный день угодит в тюрьму. Мне его очень жалко, больно он хороший парень.
Антония поднялась с кровати, на которой сидела, чтобы убрать со стола. Она поставила чашки на пол рядом с пишущей машинкой. Подойдя к балкону, открыла дверь.
— Видели, какая отсюда панорама? Вон там, внизу, Арройо Аброньигаль. А тут потихоньку-полегоньку прямо по шоссе можно добраться до Барахаса. Хуже всего шум от транспорта. Пока не привыкнешь, глаз ночью не сомкнешь. Днем-то хорошо, развлечение, высунешься и смотришь, как бегут битком набитые трамваи из Пуэбло Нуэво и Канильехаса… И еще тут проезжают катафалки на кладбище.
— Видите, какая у меня веселая и забавная женушка, — рассмеялся Луис.
— А по воскресеньям, когда бывает коррида, вся арена заполняется народом и оттуда раздаются крики, шум, музыка… Я, наверное, глупая, но стоит мне увидеть пикадоров на своих конях и услышать, как кричат зрители, все во мне переворачивается, даже объяснить трудно. Будь я мужчиной, наверняка пошла бы в тореро, ну, конечно, не насовсем. А знаете, я ни разу не была на бое быков. Помню, в детстве, в деревне, меня водили на какое-то жалкое подобие корриды…
Антония умолкла, задумчиво глядя на улицу. Луис неторопливо закурил.
— Да, наш квартал забавный. Здесь полно всяких забегаловок, куда заходят люди, возвращающиеся с похорон. Это квартал менял, скупщиков, ростовщиков, ссужающих из тридцати процентов, проституток с площади возле стадиона, цыган. Кишат, точно муравьи. Тут тебе и бары, и погребки, и притончики, где играют в лягушку, и тиры для стрельбы, и рулетки, где никто никогда не выигрывает, и грязные харчевни, где подают неизвестно из чего сделанную яичницу. Полно чистильщиков сапог, которые целыми днями нежатся на солнышке, сидя на своих ящиках. И даже имеется школа тауромахии для туристов, — рассмеялся Луис.
Они еще долго стояли на балконе, рассматривая прохожих, возвращавшихся домой. Трамваи, набитые пассажирами, медленно ползли вверх по крутой улице Вентас.
— Ну, пойдем, Хоакин? — сказала Пепита.
— Да, нам далеко.
— Навещайте нас чаще.
— Как-нибудь обязательно зайдем.
Стоял тот волшебный час вечера, когда таинственные тени становятся сообщниками влюбленных.
— Ох, как я завидую этим женатикам, — пробормотала Пепита.
— Ничего, скоро и мы поженимся. Время летит незаметно.
— Больно долго мы ходим в женихах и невестах…
Молодые влюбленные, взявшись за руки, печально побрели по кольцевой аллее, окаймлявшей арену для боя быков на Вентас.
* * *
Когда Рамиро закончил работу, было уже семь часов вечера. Поспешно сбежал он с пятого этажа по широкой мраморной лестнице, держась за золоченые металлические перила. Выскочив на улицу, взглянул на небо. Солнце закатывалось за дома на проспекте Принцессы. Зарево заката играло на стенах домов, в стеклах окон, заливая все вокруг оранжевым светом.
День выдался жаркий, но к вечеру пролился легкий дождичек. В воздухе чувствовалась приятная влажность, освежавшая листву на деревьях площади Испании.
Рамиро, засунув руку в карман брюк, перебирал мелочь. Нащупал ключи.
Снова пошел дождь. Капли падали медленно, как бы нехотя. На небосводе, словно прочерченная циркулем, засияла радуга. Рамиро, глядя в небо, вспомнил песенку, которую распевал в детстве: «Дождик, дождик, пуще, дам тебе я гущи!»
— Как хорошо! — пробормотал он. Но, тут же сообразив, что говорит вслух, оглянулся, не услышал ли его кто и не принял ли за сумасшедшего. Отдельная квартира! Что может быть лучше отдельной квартиры, где его дочка сможет бегать по коридору! Иметь возможность содержать семью и не думать, что до конца месяца не хватит денег! «Ни одного очага без огня, ни одного испанца без хлеба!» Великолепные слова! Но с некоторых пор они звучали для него как-то бессмысленно. Слова, ради которых он в свое время пошел воевать, перестали его трогать.
— Теперь меня ничем не заманишь в окопы, — сказал он на днях Хоакину.
Доставая мелочь, чтобы заплатить за билет в метро, Рамиро снова наткнулся на ключи от новой квартиры и забыл обо всем на свете. Он думал лишь о том, как будет счастлива жена, когда он скажет ей об этих ключах. Он словно на крыльях летел домой, чтобы поделиться с Бланкой своей радостью.
Бланка сидела на кровати, проверяя у дочери уроки. Рамиро, войдя, снял пиджак и встал у изголовья, слушая, как отвечает дочь.
— Какой сегодня прекрасный день! — начал он.
— Что нового насчет квартиры?
— Мне дали ключи.
— Где они?
— У меня в кармане…
Бланка вскочила с кровати.
— Дай посмотреть.
— На, возьми.
— У нас квартира, квартира… Слюнки текут при одном слове… Квартира! Квартира! Ох, какое счастье, Рамиро! Как я о ней мечтала!
— Надо собрать вещи для переезда.
— Соберу в одну секунду.
— Нужно будет купить мебель, квартира большая. Не дворец, конечно, но три комнаты с ванной.
— Ванная! Вот здорово! И самой помыться, и девочку искупать!
— Многое надо будет купить!
— Сколько сегодня продал?
— Как всегда. Несколько лент для пишущих машинок и несколько коробок с конвертами.
— Не знаю… Но с квартирой у меня прибавилось сил… В своем доме можешь делать все, что захочешь…
Бланка замолчала на миг.
— А солнечная сторона?
— И сторона солнечная, и речку видно.
— Мансанарес, да, папа?
— Да, дочка.
— Ох, и умная у нас девочка. Знаешь, о чем она спросила меня сегодня утром? Наверное, у сеньоры Марии нет мужа? Она всегда ходит одна, без мужчин, — сказала Бланка.
— Да, — подтвердил Рамиро, глядя на дочь, — она у нас умненькая.
Супруги стояли молча, взявшись за руки. Спускались сумерки, ясный месяц вытеснял остатки солнечного света. Безусловно, это был самый счастливый вечер в их жизни.
— Сколько мы должны?
— Посчитай сам: пятьсот ты просил в конторе. Двести должны в лавку и еще расплатиться за твой костюм. Пятьсот плюс двести и сто пятьдесят. Итого восемьсот пятьдесят.
— Почти полная конторская зарплата. Да, много мы потратили.
Бланку в начале их супружеской жизни коробило то, что Рамиро требовал от нее отчета в денежных делах. Но теперь она сама охотно брала карандаш и быстро подсчитывала траты.
— Могу сейчас же сказать, на что уходят деньги.
— Я тебе верю, но мы тратим намного больше, чем я зарабатываю.
— Наверное, я покупаю себе парижские наряды! Послушать тебя, так можно подумать, что я транжирка.
— Нет, ты не такая. Но мы не можем расходовать больше того, что я получаю. А теперь, с новой квартирой, у нас прибавятся траты.
— Я и так выворачиваюсь наизнанку, чтобы сэкономить. Не могу же я творить чудеса!
— Давай ужинать! Я голоден как волк, а это так вкусно пахнет, — сказал Рамиро, тыча пальцем в кастрюльку, дымившуюся на керосинке. Он даже привстал, чтобы зачерпнуть ложкой из кастрюльки. — Какие вкусные бобы, ты их здорово готовишь.
— Вот приноси побольше денег, я тебе еще не такое приготовлю.
— Ах, эти свинячьи деньги!
— Да, свинячьи. Только побольше бы их было…
— Ходят слухи, что к нам приедут американцы. Может, хоть посодействуют чем-то. Немцам они здорово помогли.
— А разве мы раньше не выступали против американцев? Для меня политика — темный лес. После окончания войны все газеты только и делали, что поливали американцев грязью.
— Да, было дело…
— Испании они ничего не дадут, только себе возьмут. Мы же такие олухи…
Они снова замолчали. Двор погрузился в глубокую темноту, лишь в вышине тихо мерцали звезды.
— Нам нужны деньги на переезд. Попрошу аванс у начальника.
— А сколько нужно будет платить за квартиру?
— Пятьдесят дуро. Пустяки по нынешним временам. Через полсотни лет будет наша.
— Через полсотни лет из нас трава будет расти, — возразила Бланка. — Если выживу, мне стукнет восемьдесят.
— Останется для девочки.
— Да.
Бланка принялась жарить яичницу.
— Знаешь, почем купила яйца? По двадцать пять дюжина. Понял?! По двадцать пять! Ну, не позор ли это? Целых пять дуро!
Рамиро неопределенно махнул рукой.
— Можно подумать, тебе начхать на то, что я говорю.
— Да нет, не в этом дело. Просто я очень доволен.
— Да, ты прав. Я тоже довольна.
Это был поистине счастливый для Бланки вечер. Вне всякий сомнений.
Полицейский откинулся на спинку стула.
— Так, значит, тебя зовут Энрике, — сказал он.
Энрике ничего не ответил. Он еще ни разу не открыл рта с тех пор, как сюда попал.
Полицейский, сидевший за столом, посмотрел на другого, стоявшего в дверях. Глазами показал на Энрике.
— Вы его обыскали? — спросил он.
— Дома у него ничего не нашли.
— У кого он живет?
— У своего приятеля с завода, некоего Аугусто. По их словам, снимает у них угол.
— А что сказал этот самый Аугусто?
— Ничего. Сказал, что ничего не знает о жизни Энрике.
— Так.
— Мы смотрели в архиве.
— Ну и что?
— Ничего. Ни тот, ни другой не числятся.
— Хорошо. — Полицейский, сидевший на стуле, снова обратился к Энрике. — Я вас ни о чем спрашивать не буду, вы мне сами обо всем расскажете. Можете начинать.
— О чем рассказывать? — спросил Энрике. Полицейский снова внимательно посмотрел на него. Потом наклонился и достал из ящика стола бумагу.
— Узнаешь это?
— Да.
— Где видел?
— На заводе, да и по всему Мадриду.
— Ты их принес на завод?
— Нет.
— А кто тогда?
— Не знаю.
— Это ты их принес. Где ты их видел?
— У заводской стены.
— Послушай, так мы с тобой не договоримся. Нам обоим плохо будет. Мне — потому, что я не смогу пойти вовремя поужинать, а тебе — потому, что ты все равно в конце концов заговоришь.
— Я ничего не знаю.
— Так мы ни до чего не договоримся.
Энрике поднял глаза. Комнатка была маленькая, квадратная. У стены шкаф и картотека. На столе, за которым сидел полицейский, зажженная лампа. На стене два портрета.
— Гонсалес, — позвал полицейский, не поднимая головы. — Принеси все, что у него нашли.
Другой полицейский почти бесшумно положил на стол небольшой сверток.
— Это все?
— Все, что было на нем, когда мы его обыскивали.
— Это твои вещи? — спросил полицейский у Энрике.
— Да, сеньор, — ответил Энрике.
Полицейский развернул сверток и окинул его содержимое быстрым взглядом.
— Как тебя зовут? — спросил он тем же тоном, что и обращался к своему подчиненному.
— Меня зовут Энрике.
Полицейский собрал все вещи и снова медленно завернул их в узелок.
— Тебя зовут Энрике Гарсиа, — сказал он раздельно и жестко.
Затем, словно осердясь, пронзительно взглянул на Энрике.
Энрике поднял голову и встретился с глазами полицейского. В глазах сбира мелькнули страх и решимость.
— Мы знаем все. На заводе у нас имеются люди, которые нам докладывают обо всем, что там происходит. Ты из тех, кто подзуживал рабочих. И мы знаем, что ты разбрасывал листовки. Нам все известно.
Энрике продолжал молча смотреть в лицо полицейскому.
— Кто тебе велел разбросать листовки? Откуда ты их взял? Кто тебе помогал? Чистосердечным признанием можешь смягчить свою участь.
Энрике стоял молча, не шелохнувшись.
— Этот из тех, что не хотят говорить, — сказал полицейский в дверях.
Начальник расхохотался. Он накручивал на палец цепочку, на которой болтался ключ. Полицейский снова уселся за стол и закурил. Снова внимательно оглядел Энрике. Затем взял лист бумаги и что-то написал.
— Отведи его вниз. Через час доставишь опять, — сказал он, по-прежнему играя ключиком. — Обработайте его немного, но смотрите не перестарайтесь.
Энрике встал.
— Мы еще поговорим с тобой. То, что ты будто ничего не знаешь о листовках, меня не устраивает, — протянул полицейский.
Он развалился на стуле, куря и рассматривая бумажку, на которой только что писал.
Аугусто сказал Хоакину, когда они выходили вечером с завода:
— Вчера ночью приходили за Энрике.
— Ага.
— Не надо, чтобы нас видели вместе. На заводе, кажется, есть предатель, доносчик.
— Но они ничего не могут доказать. Ведь у него ничего не нашли, ты же сам сказал.
— Так-то оно так. И все же нам следует соблюдать осторожность.
— Энрике скорее помрет, чем проболтается.
— Пока надо выждать. Не ходи ко мне домой.
— Ты предупредил Гонсалеса? А сенетистам тоже сказал?
— Все предупреждены.
— А Роса?
— Разумеется. Сильная девушка, даже не заплакала.
— Все носит в себе.
— Мне тоже так кажется.
— А Элена?
— Боится, что заберут меня.
— Если что случится, ты сразу сообщи, — сказал Хоакин.
— А теперь нам надо вести себя так, будто мы не знаем друг друга. Позже я сам зайду к тебе домой. Надо что-то придумать.
— Хорошо.
— Как говорится, издержки производства, — невесело улыбнулся Аугусто.
Они вышли из ворот завода и разошлись в разные стороны.
Придя домой, Хоакин встретил в коридоре Рамиро.
— А мне дали квартиру.
— Очень рад, — сказал Хоакин.
— Послезавтра уезжаем.
Хоакин ничего не ответил. Из головы не шел рассказ Аугусто. «Энрике ни за что не проговорится, даже если его на куски изрубят. Кроме того, они ничего не могут доказать насчет листовок. Да, он не проговорится». Что-то похожее на страх неприятно холодило спину. «Кто же предатель? — Он перебирал в уме знакомых рабочих. — Нет, все они хорошие товарищи, никто из них не может быть доносчиком, и все же кто-то накапал!» Он снова и снова перебирал в памяти товарищей по работе, снова и снова их лица всплывали перед ним. «Лукас не может, он сидел в тюрьме. Лауро тоже, он член компартии. Андалузец — ни за что. Ольмедилья, хоть и не придерживается твердых политических взглядов, хороший товарищ. Но кто-то должен быть. Антонио не способен на такое. Девушки, хоть и болтушки, но на такое тоже, конечно, не способны. Да к тому же они ничего толком и не знают. Анхель не станет говорить из-за боязни влипнуть в неприятную историю. Фео погряз в своих любовных похождениях с девицами легкого поведения. Да вдобавок он очень уважает Энрике. Родригес ни за что о таких вещах говорить не станет, он ярый анархист. Элеутерио прозябает в трущобе и ненавидит режим, он не может. И Лопес никак не может, он тоже сидел. Но все же кто-то должен быть. А может, они просто берут на пушку, авось что-нибудь выудят. Потребовали сведений у администрации о самых активных рабочих, а так как Энрике всегда первый выступал с протестами… Рабочий человек на такую подлость не способен. Рабочих в Испании так дрючат, что им только не хватает сотрудничать с полицией. Наверное, просто выудили у заводской администрации. Надо будет полюбопытствовать у знакомого из конторы, не заходил ли к ним кто из полиции. Гонсалес рассказывал, что полиция шныряла по многим заводам и фабрикам, выспрашивая насчет бойкота, кто, мол, отсутствовал в этот день на работе, где разбрасывались листовки… Должно быть, все так и было, надо сказать Аугусто… Наверное, слишком много болтали… надо действовать, а рассуждать да обсуждать поменьше. Как говорится в пословице: рыбу рот губит. Но ясно и другое: чтобы дело двигалось, надо кому-то выступить.
Вот Энрике и выступил. Но теперь будет легче, путь уже указан».
— Послезавтра переезжать будем, — повторил Рамиро.
— Очень рад за Бланку и за вашу дочку, — сказал Хоакин.
Войдя в свою комнату, Хоакин первым делом подошел к кровати и достал из-под нее сверток с подпольной литературой, которую спрятал туда накануне.
— Отнесу-ка Пепите, пускай у себя спрячет, — волнуясь, сказал он вслух.
* * *
Мария, получив письмо от сестры, попросила на работе расчет и неторопливо принялась собираться в дорогу. На деньги, высланные сестрой, она оформила паспорт и выездную визу во Францию.
Купила себе черный костюм и еще кое-что из белья. Постаралась не поддаваться пагубной привычке выпивать и стала лучше питаться. Она надеялась за короткое время восстановить силы, сбросить с себя страшную усталость последних дней и хоть немного поправиться.
Мария словно преобразилась в сумятице приготовлений к отъезду. Она бегала по магазинам, покупая разные мелочи, которых ей прежде так недоставало.
В квартире теперь оставались только она да Хоакин. Фалангист со своим семейством съехал. Отношения Марии с пасынком значительно улучшились.
— Знаешь, Хоакин, — сказала как-то Мария.
— Что?
— Я получила письмо.
— Какое письмо? — спросил Хоакин, не отрывая взгляда от газеты, которую читал.
— От моей сестры, из Франции.
— И что же она пишет?
— Чтобы я к ней приехала.
Хоакин сложил газету. Мария продолжала рассказывать:
— Поеду жить к сестре.
— А где возьмешь деньги на дорогу?
— Она мне уже прислала по почте.
Воцарилось молчание. Хоакин смотрел отсутствующим взглядом, мысли его витали далеко, он вспоминал свое детство и отрочество. Вспоминал, как Мария впервые пришла к ним веселая, улыбчивая, она непрестанно перекидывалась шутками с отцом. А потом начались потасовки. Все это прошло перед его глазами в один миг.
— Когда ты уезжаешь?
— Точно еще не знаю. Через несколько дней. Я напишу твоему отцу.
Мария занялась своими делами, не сказав больше ни слова. У этой женщины было много недостатков, но никто не посмел бы упрекнуть ее в черствости. Стоило ей чуточку разжиться деньгами, и она кинулась покупать пасынку все, что сочла необходимым. Быть может, ее толкнула на это жажда участия и ласки. Она словно старалась на то короткое время, что им еще предстояло прожить вместе, купить дружбу пасынка, дружбу, которой ей так недоставало. Как бы там ни было, к Хоакину она всегда относилась хорошо.
Любовь к Матиасу постепенно угасла. Теперь Мария лишь изредка вспоминала о нем. Особенно невыносимо становилось по ночам, когда ее охватывало страстное плотское желание, которое она не в силах была подавить. Она думала о Матиасе совсем иначе, чем прежде. Он был для нее уже не мужем, а лишь далеким воспоминанием о любви, которое она теперь лелеяла.
Вот почему, несмотря на ее бесповоротное решение уехать, несмотря на то, что у нее уже был взят билет и оформлены все бумаги, она, быть может в последней надежде на чудо, снова написала Матиасу. Мария надеялась, что он ответит ей и приедет в Мадрид проститься. Она даже вложила в конверт несколько сотенных, чтобы ему не пришлось тратиться.
Несколько дней она суетилась и хлопотала, словно желая лишь одного: поскорее уехать. Но в глубине души она надеялась на то, что Матиас ей ответит. Однако дни проходили за днями, ответа не было, и надежда уступила место неизбывной печали. А ведь она так мало просила у него. Всего лишь увидеться в последний раз!
— Как ты думаешь, он ответит? — спрашивала она у Хоакина.
— Думаю, ответит… Он приедет, ты не волнуйся.
Хоакин и сам не верил в свои слова, но ему не хотелось обижать мачеху.
Она ждала до последнего дня, до самого часа отъезда. Сердце ее разрывалось от тоски и печали. И хотя стоял жаркий, солнечный день, зимний холод сковывал все ее существо.
Все утро Мария провозилась, собирая вещи. Чемоданы были сложены: один кожаный, коричневого цвета, сохранившийся со времен девичества, другой зеленый, фибровый, твердый как камень.
К пяти часам все было готово. Оставалось еще много времени, и Мария решила пройтись по улице одна, отдавшись своим мыслям. Не торопясь, побрела она вниз по Сеа Бермудес до площади Монклоа. Там постояла, посмотрела на парк и на равнину, расстилавшуюся по другую сторону реки.
Потом так же медленно вернулась к себе.
Зашла в таверну Иларио, чтобы проститься с хозяином. Иларио наполнил два стакана риохским вином.
— За ваше здоровье! Сегодня я угощаю.
Они молча выпили. Иларио не слишком разбирался в вопросах этикета. Ему лишь пришло в голову снова наполнить стаканы и попросить Марию показать заграничный паспорт.
Бармен прочитал вслух:
Страны, на которые распространяется действие данного паспорта
ТАНЖЕР и ЕВРОПА
(за исключением России и стран-сателлитов).
— Франция — замечательная страна. Там делают отличные вина: бордо, бургундское… — заметил Иларио.
— Ладно, я пошла.
— Последний, на дорожку, сеньора Мария.
Иларио опять налил в стаканы вино.
— За ваше здоровье, — повторил он.
— Ну, я пошла.
— Вам грустно?
— Немножко.
— Я понимаю.
У Иларио были круглые выпуклые глаза. Он крепко пожал ей руку.
— Желаю вам удачи, сеньора Мария.
— И вам также.
Мария ушла. Иларио принялся перетирать рюмки.
Домой вернулся Хоакин.
— Ну что, все готово?
— Да.
— Тогда пошли. В метро будет тьма народу, надо выйти заранее.
— Возьмем такси.
— Как хочешь.
Таксист повез их по Сан-Бернардо. Мария с пасынком смотрели на улицу через стекла автомобиля. У касс кинотеатра толпился народ.
— Что идет? — спросила Мария.
— Кажется, «Третий мужчина!»
— A-а, это фильм, музыку из которого передавали по радио?
— Да. Под названием «Кафе Моцарта».
— А фильм интересный?
— Ничего. Про спекулянтов пенициллином.
— Я бы с удовольствием посмотрела. Столько лет не была в кино. Последний раз ходила с твоим отцом перед самым его отъездом.
Такси затормозило на перекрестке Гран Виа. Горел красный свет.
— Что ты думаешь делать, Хоакин?
— Еще не думал, буду обедать в какой-нибудь закусочной.
Автомобиль тронулся.
— У тебя, кажется, есть невеста?
— Да.
— Ну и как она?
— Мне нравится. Если хочешь, покажу ее фотографию.
— С удовольствием бы с ней познакомилась.
Мария взяла фотографию обеими руками. И долго рассматривала ее.
— Красивая, — сказала она и откинулась на сиденье. — Женись на ней. Теперь у тебя есть своя квартира.
Больше они не сказали друг другу ни слова. Придя на вокзал, Хоакин внес два чемодана в вагон, положил на верхнюю полку.
— Тебе повезло — у окошка, будет чем развлечься, — сказал Хоакин.
— Как ты думаешь, отец придет?
— Осталось еще полчаса, наверное, придет, — успокоил ее Хоакин.
— Поезд из Барселоны прибывает утром, я справлялась.
— Может, он не хотел заходить домой.
— Может быть.
— Давай прогуляемся?
— Пойдем.
Время ползло, как черепаха. Огромные стрелки на станционных часах размеренно перескакивали с минуты на минуту. Хоакин поднял голову, чтобы посмотреть, как они двигаются.
Они подошли к газетному киоску и стали рассматривать обложки журналов.
— Хочешь, куплю тебе журнал в дорогу?
— Давай, только чтобы было побольше картинок.
— Вот в этом много фотографий.
— Осталось еще двадцать минут.
— Да.
— Он не придет, я знаю.
Торговец мороженым и шоколадом, толкая перед собой тележку, громко расхваливал свой товар. В репродуктор объявили о приходе поезда на первый путь. Встречающие поспешно бросились на перрон. Носильщики с автокарами ловко распределяли между собой пассажиров.
Мария поднялась в вагон и высунулась в окно. Она пристально смотрела вдоль перрона, все еще надеясь увидеть Матиаса. Хоакин, стоя внизу, под окном вагона, поглядывал на часы.
— Осталось совсем немного, три минуты, — сказал он.
— Уже не придет.
— Да.
— Хоакин, я…
— Говори, Мария.
— Ничего. Передай только отцу, что я его ждала.
— Хорошо, Мария.
Наступила такая минута, когда и пассажиры, и провожающие желают лишь одного — отправления поезда. Никто уже ничего не говорит, только переглядываются.
Паровоз выпустил клубы пара прямо на платформу. Круглые, плотные тучки быстро поднялись к застекленному потолку вокзала.
Поезд дал гудок, медленно задвигались шатуны колес.
Паровоз снова загудел.
— Тронулся.
— Да.
— Прощай, Хоакин, береги себя.
— Прощай, Мария. Прощай навсегда.
— Прощай.
Пассажиры, высунувшись из окон, кричали слова прощания, махали платками. Провожающие махали рукой.
Хоакин не опускал руку, пока поезд не скрылся за поворотом.
Мария прошла и села в купе. Потерянная, с отрешенным взглядом, она отдалась своим мелким, незначительным мыслям.
* * *
После ареста Энрике Роса не знала ни минуты покоя. Тревога и тоска всецело овладели ею. Девушка словно перестала понимать, что творится вокруг нее. Дом, улица, друзья и знакомые — все будто сговорились отвлечь ее от воспоминаний. Росе становилось неприятно, когда друзья смеялись, пели или даже просто обсуждали свои повседневные дела. Для нее существовал лишь один Энрике. «Энрике говорил об этом так… Энрике считал, что…» Ей казалось, что все, даже самые верные друзья, мало вспоминали его, недостаточно говорили о нем, вели себя эгоистично, праздновали труса.
— Он поплатился за всех, — часто повторяла Роса.
Его голос, ласки, весь его облик Роса не могла забыть ни на миг, ни днем, ни ночью. Она вспоминала, как они вместе гуляли по вечерним улицам, сидели в сумерках у реки. Бесшумная, тихая река, казалось, замирала у их ног. Энрике, взобравшись на край бетонного парапета, говорил о своих стремлениях и надеждах, о любви. О свободе. «Над всем этим надо еще много думать», — часто повторял он. Он объяснял ей вещи, которые она не всегда понимала, но интуитивно чувствовала, что они связаны с планами и надеждами на лучшую жизнь. Они усаживались рядышком, прижавшись друг к другу, и смотрели на водную гладь, на берега, поросшие густой травой. Деревья, вечерние сумерки — все было наполнено неведомыми голосами, неясными звуками. Вода, словно расплавленная сталь, тускло поблескивала в глубине, у набережной.
Казалось, стоит протянуть руку, и она коснется Энрике. Вспоминая его, видя его перед собой, Роса испытывала одновременно и радость и печаль. Он верил во все: в жизнь, в людей! Идя с ним рядом, она училась у него любви.
Когда его арестовали, все словно рухнуло. Роса не могла думать ни о чем, кроме него. Она даже стала избегать людей, чтобы, оставшись одной, вспоминать о нем. Но одиночество оказалось еще тяжелее печали. Тогда Роса разыскивала его друзей, товарищей по работе, всех, кто знал его, был с ним знаком, чтобы из их уст услышать о тех идеях, во имя которых боролся ее Энрике. По вечерам она часто навещала Элену, чтобы дождаться прихода Аугусто.
— Есть какие-нибудь новости? — спрашивала она.
— Нет.
— Приходили на завод за информацией?
— Пока ничего не слышал. Если бы кто пришел, узнали бы. В конторе есть наш товарищ, он обо всем сообщает.
— Странно, что они не приходят сюда. Ко мне домой тоже не являлись.
— Я до сих пор их жду.
— А уже много времени прошло.
— Да.
— Вчера виделась с Энрике. Запрет на свидания снят.
— Самое тяжелое время в Пуэрта дель Соль. Как из Управления отправят в тюрьму, считай, худшее позади.
— Он мне так и сказал.
— Хуже, если на допросе не выдержишь и проговоришься. Тогда несдобровать. Они считают, что тебе известно больше, чем ты сказал. Энрике не знает, когда его будут судить?
— Нет, не знает. Думает, что ему дадут шесть лет.
— Хороший товарищ. На заводе все жалеют его. Ну а ты как живешь?
— Ну как она может жить? Что за вопросы ты задаешь? Как я жила бы, если бы тебя схватили? С растерзанным сердцем, конечно, — ответила за Росу Элена.
— Да, гроза пронеслась совсем рядом.
— Вас-то никого не забрали, — сказала Роса. В ее голосе слышалась обида.
— Кому-то рисковать надо, иначе дела не сделаешь.
— Так-то оно так. Да всегда расплачиваются одни и те же.
— А кому же расплачиваться? Конечно, тем, кто подставляет грудь под удар.
— А мы могли бы жить так счастливо!
— Без борьбы Энрике не был бы счастлив! Да и слезами горю не поможешь. Сейчас самое важное — не останавливаться на месте.
— Я это стала понимать. А сначала только плакала. При последней встрече Энрике меня сильно воодушевил. Велел обнять вас и сказать, чтобы вы продолжали борьбу.
— Важно, чтобы никого больше не забрали, чтобы аресты прекратились.
— Энрике не проговорился, — сказала Роса.
— Да, это самое важное. Только бы никого больше не арестовали, — повторил Аугусто. — А уж мы посмотрим, что предпринять.
Поговорив с Эленой и Аугусто, Роса уходила к себе. Долгие часы она просиживала у окна. На улицах, как обычно, словно ничего не произошло, беспечно болтали и смеялись люди… Прошла весна и наступило лето. В кронах деревьев поселились щебечущие пичужки.
— Вот это надо обязательно отнести Хоакину, — сказал Гонсалес.
— А здесь много?
— Несколько свертков.
— А кто их понесет? Ты?
— Наверное.
Роса сидела на балконе с детьми Элены. Она смотрела на улицу, на прохожих, которые, прячась от солнца, шли по теневой стороне. Обернувшись, Роса взглянула на Гонсалеса и Аугусто. Они разворачивали свертки. «Прямо как Энрике. Они такие же, как Энрике», — подумалось ей. И чувство, похожее на радость, захлестнуло ее сердце.
— Пойду я, — сказала она.
Аугусто с Гонсалесом отложили пакеты.
— Ты?
— А разве я не имею права? Давайте отнесу. Я тоже хочу помогать по мере сил. Представьте, что на моем месте Энрике. Рассчитывайте на меня, как на него.
Роса взяла сверток и положила в сумочку. Крепко сжала ее в руках. Внезапно спокойствие вернулось к ней. Спокойствие и непоколебимая уверенность. Одиночество, печаль, грусть разом исчезли, оставили ее. В повседневной борьбе заключалась жизнь. Во всех этих делах, во всех этих людях, в тысячах таких, как Хоакин, Аугусто, Гонсалес. И это роднило ее с ними. Со всеми теми, ради кого боролся Энрике.
Роса вышла на улицу и направилась на встречу с Хоакином. Сверток с подпольной литературой она несла, прижав к груди.
Они оба посмотрели на сумочку, лежавшую на стуле. Из-за стойки, там, где была кофеварка, за ними кто-то наблюдал.
— Сейчас отдать?
— Подожди немного, — ответил Хоакин. Он не сводил глаз с человека у стойки. — Подожди, — снова повторил он.
— Кто-то следит?
— Да, кажется, бармен.
Хоакин взглянул на Росу. У нее были большие, ясные, лучистые глаза. «А Энрике был прав, она красивая».
Бармен повернулся к ним спиной, что-то поправляя в кофеварке.
— Давай, — быстро сказал Хоакин.
Роса открыла сумочку и достала сверток. Это была обычная дамская сумочка: в отделениях лежали губная помада, пудреница, платочки.
— Вот, здесь все, — сказала она.
Хоакин спрятал пакет в газету, которую держал в руках. Они несколько минут сидели молча, смотря на улицу в окна бара. На тротуаре, беседуя, стояла группа женщин.
— Каждые две недели сюда же и в это же время я буду приносить тебе литературу, — сказала Роса.
— Ты не заметила, за тобой не следили?
— Нет, ничего не заметила. Увяжись за мной кто, я не сидела бы тут, — возразила Роса.
— Ладно, я пошел. Схожу на свою старую квартиру.
— Как хочешь. Если надо, я тебя провожу. Когда идет парочка, всегда меньше подозрений.
— Нет, не надо меня провожать. У тебя свои дела.
— А ты там теперь не живешь?
— Нет, я живу у Пепиты. Когда уехала мачеха, они заставили меня перебраться к себе. Пепитина мать настояла, чтобы я жил у них, пока мы с Пепитой не поженимся. Говорит, мы, мужчины, не умеем хозяйничать.
— Она права.
— Я уже два месяца как не был на своей старой квартире, — сказал Хоакин.
— А куда вы сегодня идете?
— Как спрячу понадежней эту штуку, пойдем с Пепитой гулять.
Роса слушала Хоакина рассеянно, кусочком спичечного коробка чистя ногти. Она вспоминала Энрике, и ей становилось немного завидно при мысли о том, что Хоакин с Пепитой пойдут гулять.
— Мы тоже много гуляли. Энрике очень любил бродить, — сказала она.
— Еще погуляете, когда он выйдет, — ответил Хоакин.
— Да, конечно. Когда его выпустят, мы обязательно погуляем, — задумчиво проговорила Роса.
— Ну, до скорого.
— Да. Через две недели увидимся опять.
— Хорошо.
— Ну, желаю удачи, — сказала девушка, с улыбкой показывая на сверток.
Роса осталась сидеть в кафе у окна. Хоакин с пакетом под мышкой вышел на улицу. В конце улицы медленно катила повозка, запряженная мулами, слышался скрип колес и цокот копыт по мостовой. Молодая зелень на деревьях, посаженных, вдоль тротуаров, была чуть припудрена пылью.
На углу, у перекрестка, стояла девушка. Легкое красное платье плотно облегало ее стройную фигурку. Кожа у девушки была молочно-белая. Хоакин остановился, чтобы закурить. Девушка сделала несколько шагов. Она шла неторопливо, покачивая бедрами. Хоакин снова посмотрел на нее. Девушка перешла улицу, пересекла трамвайные пути. Подол ее платья трепетал на ветру. Хоакин бросил спичку и решительно направился в свой квартал, на старую квартиру.
Очутившись среди привычных улиц и переулков, в знакомой с детства обстановке, он вдруг почувствовал грусть. Дойдя до своего дома, Хоакин долго стоял и смотрел вокруг: на улицу, на соседние дома. Новые здания выросли всего несколько лет назад. Раньше здесь был пустырь, где он играл с мальчишками. Хоакин окинул взором окна, стайку ребят у подъезда. Поглядел на Иларио, который катил по тротуару бочонки с вином. Все было, как обычно, словно он и не уходил отсюда.
Хоакин отворил ставни и поднял шторы в большой комнате. В квартиру ворвался свет. Стоял погожий субботний вечер, полный солнца и тепла. За стеклами окон сверкал пустынный уголок улицы.
Хоакин переходил из комнаты в комнату, открывая рамы. На полу лежал толстый слой пыли. В квартире было душно, пахло затхлостью. Он провел рукой по пыльному столу, пальцем написал ее имя.
И снова медленно побрел по комнатам. Среди этих стен, среди разбросанных в беспорядке вещей жизнь оставила свой след и чувство беспредельного одиночества.
Он оглядел комнату с окном во двор, ту, где жила Антония. Щель в перегородке и впрямь походила на змею. В спальне было грязно, неуютно, на стенах пятна, краска местами облезла, штукатурка осыпалась. Кафельные плиты в полу на кухне были разбиты — здесь рубили дрова, — а кое-где выпали совсем. Хоакин вернулся в столовую и снова провел рукой по столу, смахнув пыль, поднявшуюся тучей вверх. Положил сверток, который передала ему Роса. Развернул пакет и стал читать газету.
Вскоре он поднял голову. В окно донесся голос соседки. Хоакин услышал всегдашние слова, всегдашние сетования и жалобы.
Все вокруг — вещи, голоса — напомнило ему о прожитых годах. Воспоминания нахлынули разом, печальные, безрадостные и все же чуть-чуть окрашенные нежностью. Он оторвался от чтения.
Ему вдруг захотелось, чтобы скорее пришла Пепита и своим смехом, пением развеяла эту грусть.
Раздался звонок. Он вскочил со стула и бросился к двери. Пепита, улыбаясь, стояла на пороге.
Он схватил ее за руки и потянул в комнату.
— Ты тут читаешь газеты? — удивилась она, бросив взгляд на стол. — Когда-нибудь попадешься, как Энрике.
— Здесь не прибрано, — словно стыдясь, сказал Хоакин.
— Не беспокойся, все будет в порядке.
— Что-то мне здесь не нравится. Какая-то неприязнь к этой квартире. Может, потому, что связана она с неприятными воспоминаниями. Я с удовольствием расстался бы с ней, как с устаревшей идеей или верованием, — сказал Хоакин.
— Она у нас единственная, другой нет. Эта квартира как наша Испания — грязная и уродливая. Но ее можно привести в порядок. Надо только все поменять и вымести железной метлой, да так, чтобы искры посыпались.
Хоакин молча слушал невесту. Но вот и она умолкла. В открытое окно с улицы доносился обычный шум.
Вышли из печати:
К. Кодзяс
Забой номер семь
(Греция)
Б. Коллинз
В медном котле
(Австралия)
М. фон дер Грюн
Два письма Поспишилу
(ФРГ)
Готовятся к изданию:
Р. Уильямс
Второе поколение
(Англия)
ARMANDO LÓPEZ SALINAS
AÑO TRAS AÑO
PARIS
АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС
ЗА ГОДОМ ГОД
Роман Перевод с испанского Р. Похлебкина
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОГРЕСС" МОСКВА 1973
Предисловие Ю. Уварова
Редактор Л. Борисевич
7-3-4
94-73
АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС
ЗА ГОДОМ ГОД
Редактор Л. Борисевич
Художник А. Таран
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Л. Жарова
Корректор Э. Зельдес
Сдано в производство 28.IV.1972 г. Подписано к печати 17.VIII.1972 г. Бумага 84×1081/32. Бум. л. 4½. 15,12 печ. л. Уч. — изд. л. 16,38. Изд. № 12/13873. Цена 1 р. 03 к. Зак. 2929.
Издательство «Прогресс» Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28
Примечания
1
«Insula», 1966, № 3, р. 2.
(обратно)2
Муниципалитет, орган местного самоуправления. — Примечания переводчика.
(обратно)3
Франкистская молодежная организация.
(обратно)4
ВСТ — Всеобщий союз трудящихся, прогрессивная республиканская организация 30-х годов.
(обратно)5
Сорт сладкого картофеля.
(обратно)6
Рекете — вооруженные отряды карлистов, сторонников короля дона Карлоса.
(обратно)7
Альферес — первый офицерский чин в испанской армии.
(обратно)8
Президент Испанской республики.
(обратно)9
Испанская федерация студентов.
(обратно)10
Имеется в виду фашистский путч 1936 года.
(обратно)11
Сенетист — сторонник СНГ, Национального синдиката труда.
(обратно)12
Кастеляр, Эмилио (1832–1899) — испанский политический деятель, писатель и оратор. Председатель Совета Министров Республики 1873 г.
(обратно)13
Иглесиас, Пабло (1850–1925) — испанский политический деятель, лидер социалистической партии.
(обратно)14
Лесопарк в окрестностях Мадрида. Теперь в этом районе жилые кварталы.
(обратно)15
Хиль Роблес — испанский политический деятель. Основатель и лидер СЕДА — Испанской конфедерации автономных прав.
(обратно)16
Хосе Антонио Примо де Риверо — основатель испанской фаланги — фашистской партии.
(обратно)17
НПХО — Национальные профсоюзные хунты обороны, военизированная профашистская организация в Испании.
(обратно)18
Подпольная радиостанция испанских коммунистов.
(обратно)19
Газета «Мундо обреро» — подпольный орган ЦК Коммунистической партии Испании.
(обратно)20
Рабочее движение.
(обратно)

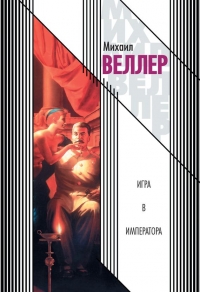

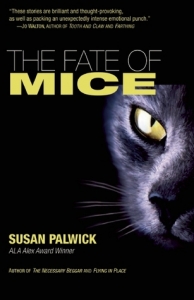
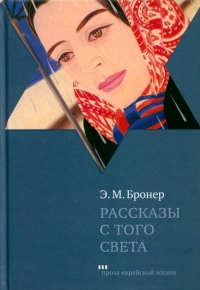
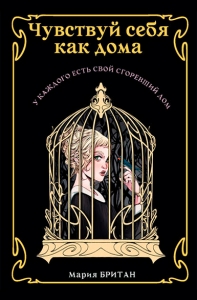

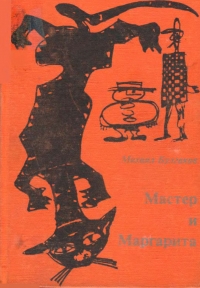

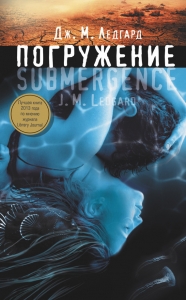


Комментарии к книге «За годом год», Армандо Лопес Салинас
Всего 0 комментариев