Марк Харитонов Ловец облаков
Вспышки ночной грозы
1
Зажмуриться крепче, чтобы не защипало мыло. Смотреть не надо. Теплое, гладкое продвигалось ласково по плечам, по спине, таяло в самых нежных складках, обозначало пупок, соски, еще не ставшие грудью.
Липкие от сладости пальцы дотрагивались, встречались под столом. Невидимо для глаз, пусть и открытых. Остывала в тарелках манная каша, из соседней комнаты доходил запах горшков — сидеть на них рядом друг с другом никто еще не стеснялся, до этого надо было дорасти, но в потайном соединении пальцев было что-то расслабляюще стыдное. Разноцветные зайцы и медведи неуклюже замирали на стенах, масло успевало расплавиться на поверхности каши желтым солнышком, ложку приходилось держать левой рукой, язык вяло слушался, и воспитательница опять ругалась за то, что перемазала рот, а кашу оставила.
Память о прикосновениях. Испуганный, непонимающий взгляд из порченого временем зеркала. Черная сыпь поедает тусклое отражение, стриженую челку с бантом, руки в цыпках. Из под платья мышиного цвета выглядывают штанишки, на правом колене засохла ссадина. Рот полуоткрыт, но улыбки себе не позволяет, хотя на месте кривого зуба уже стало пусто.
— Ты чего не смотришь? Да не туда гляди, вон туда! Знаешь, как это называется? Вот это?
Длинный тошнотворный червь вылезал изо рта, с хихиканьем роняя слюну. Надписи вокруг настенных рисунков были пропитаны запахом школьного туалета, он проступал сквозь побелку грязно-желтыми пятнами. Девочки шептались на ушко, округляли глаза, понимающе поджимали губы. Туалетный привкус примешивался к запаху клейкой листвы, когда во дворе усаживались на штабеле занозистых досок. Пойманный майский жук скребся в спичечном коробке, лучше всего было держать его возле уха, закрывая другие звуки. Самым непонятным и пугающим было слово «аборт». Со словом «гости» надо было как-то связать клок окровавленной ваты, найденный под соседским окном, но также и мужчину, которого видели вылезающим из этого окна.
Взгляд испуганного мышонка: не проглотить, не удержать завязший в горле комок.
А какие слова были на том листке из школьной тетради? Спиной помнишь тычок, когда его передали с задней парты, кончиками пальцев помнишь шершавость бумаги. Голос учительницы вдалеке, запах мокрой меловой тряпки, вытирающей доску. Два сердца поджаривались на костре, стрела была общим вертелом, один из трех огненных язычков прикоснулся снизу к заостренному кончику сердца, и оно вздрогнуло.
Только прикосновение. Только успела листок развернуть, оглянулась, еще не поняв, что это и от кого.
Худое вытянутое лицо, неровный большой рот, загнутые ресницы. Единственный раз взгляды встретились. Невидимая рука спереди тут же выдернула листок из расслабленных пальцев.
— Ты чего разворачиваешь? — зашипело в воздухе, капля упала на уголек. — Чужое подсматриваешь, идиотка-воровка!
2
Страшней всего было снова встретиться с этим взглядом. От одной мысли кровь приливала к щекам, слабели колени, становилось холодно в животе. Требовалась постоянная настороженность, чтобы вовремя разминуться с ним, отвернуться, спрятаться за углом. Пространство оказывалось болезненно тесным, и как было отвечать урок у доски, чувствуя, что он на тебя смотрит?
Проще было по-настоящему заболеть, чем притворяться больной. Детские обманы были уже не по возрасту. Мама спросила, почему ты обмоталась платком — глупо было ей отвечать, что у тебя голова замерзла. Ни чего не стоило снять платок, летний, цветастый, негреющий, и увидеть распухшие красные уши. У нее даже не поднялась рука стукнуть тебя по затылку, она обессиленно поняла, что ругаться уже бесполезно, только опустилась на стул, закрыла руками лицо, отечное от одиноких ли выпивок, от ночных ли невидимых слез. И ты плакала с ней вместе, как будто, проколов без спроса себе уши, стала такой же непоправимо взрослой, — вы могли друг дружку понять.
Надевать сережки, цыганские, полумесяцем, из простого металла, но стоившие всех накопленных сбережений, можно было поначалу только дома, для себя самой, и танцевать перед собой — не перед зеркалом. В зеркале танец не мог быть таким настоящим, как чувствовался изнутри; собственный горловой напев вместо музыки, задыхающийся, мычащий, не мог звучать для постороннего слуха… и вскидывала руки, и прищелкивала пальцами-кастаньетами.
Потом, в холода, можно было и закрыться настоящим шерстяным платком. Идти по улице, ощущая, как мочки ушей на каждом шагу оттягиваются тяжестью невидимых полумесяцев. Тайна этой тяжести, вот что было слаще всего, как сладко было ожидание боли и боль, когда прокалывала себе перед зеркалом уши, словно совершая что то, связанное с мыслью о нем, со стыдом и сладостью непонятных пугающих снов — при воспоминании о них жар приливал к щекам, хотелось и страшно было заглядывать в них снова.
С ним было связано все. Дерево, по которому он, проходя, стукнул палкой. Парковая скамейка, на которой он присел как-то осенью. Место на дороге, где он в гололед поскользнулся. Даже на самом деле не видя этого, можно было узнать места по дрожи напрягшегося вокруг воздуха — она отзывалась биением сердца. В парке было темно, сиротливый фонарь горел поодаль, там проплывали посторонние тени, беззвучные, безопасные. Набрать на варежку снег со скамейки, принюхаться к свежести, лизнуть языком. Пушистый холодок растворялся в слюне. И убедившись, что никто не видит, упасть на том же месте, что он, повернуться на спину, лицом к непроглядному небу. Невесомые снежинки возникали из темноты, таяли на щеках, на лбу, на губах, становились едва уловимой прохладой внутри раскрытого рта, растекались по телу.
А потом подолгу, прячась за шершавым стволом старой липы, всматривалась в освещенное окно на втором этаже. На занавеску иногда ложилась смещенная тень, но угадывалось окно не по ней — как угадывалось оно потом в больнице, тоже на втором этаже, куда его вдруг положили на операцию. Однажды постояла даже в вестибюле перед объявлением о карантине, неуверенно, с бьющимся сердцем, с нелепым яблоком для передачи в руке.
Округлая тяжесть, согретая теплом ладони, всей длиной пальцев, нежность гладкой кожуры, к которой прикасался он. Мог прикоснуться.
И проникновение внутрь страшного лезвия.
Он пробыл в классе так недолго, что не успел попасть даже на общую фотографию. Однажды вид его лица снова заставил вздрогнуть — оно смотрело с витрины уличного фотоателье. Хотелось при любой возможности сделать крюк, задержаться, вглядеться. И чем дальше, тем больше одолевало пугающее сомнение: он ли был это на самом деле? Не запомнила, оказывается, по-настоящему, так боялась смотреть. Только изгиб рта, ресницы, едва проступавшие из воздуха среди зыбких очертаний — не совсем таких, как на фотографии. Определенность фотографии только сбивала — лучше бы не увидеть.
3
Сколько раз случалось потом вздрагивать от внезапного узнавания… вот же он… Совсем в другом городе, посреди чужой улицы возникла впереди знакомая голубая курточка. Она стала, конечно же, коротковата, обтягивала худую удлиненную спину. А затылок такой же нестриженый, с мягкой мятой косичкой, и наклон головы, как будто ему на ходу надо что-то обдумать, не отвлекаясь на постороннее. Все остальное растворилось, перестало существовать, возникая лишь в виде помех ускоряющимся шагам: зацепил встречный локоть, медленную громоздкую фигуру с коляской пришлось обгонять по неудобной дуге, попутно чуть не наткнувшись на твердый, неизвестного назначения столб — и вот за оттопыренным ухом уже начал открываться край впалой щеки, она была небрита… ну да, небрита. Лучше было на том и остановить инерцию разгона, не поравнявшись, но лицо само поворачивалось навстречу, словно ощутив неясное беспокойство…
И, с хлопком прорвавшись из пустоты, возвратились в воздух голоса, звуки, грохот грузовика с пустыми бидонами, щебет воробьев, запах горячих пирожков на лотке. Болезненное испитое лицо, взгляд настороженный, мутный, но губы готовы растянуться в приветственной ухмылке, что-то произнести. Хорошо, что нашлось сразу куда свернуть, улизнуть, отдышаться, прижавшись плечом к стене. Вдруг увидела себя непонимающими чужими глазами. Запыхавшаяся пигалица в бесформенном старомодном пальто, рот разинут, косы еще школьные. Все почему то медлила укоротить, как положено, волосы — единственное, что можно было считать в себе красивым. Хотя насчет красоты — это как с той музыкой, которая кажется настоящей, пока поешь про себя. Нет, не в том дело. И даже не в том, что косы позволяли пореже проверять прическу перед зеркалом, достаточно было тронуть пальцами, провести ладонью. Зеркало бывало таким же тягостным, как тот мутный взгляд. Но еще хотелось, наверно, оставаться подольше на себя похожей. Узнаваемой, что ли. Как будто можно было самой себе объяснить, для кого. И словно до сих пор смущалась перемен, которые внутри совершались заметней, чем внешне — непросто бывало приходить в себя после иных снов, когда касание прохладных докторских пальцев к животу, где должен был остаться, наверно, шрам, заставляло проснуться с бьющимся сердцем.
— Ты прямо как оглушенная, честное слово, — с усмешкой выразилась однажды соседка по общежитию, глядя из овального отражения в настольном своем зеркале, перед которым растирала пальцем темно-голубую тень под бровью. И ведь верно, по-настоящему, наяву, не удавалось усвоить общее самочувствие, поддержать какой то правильный ритм, что ли, попасть в него на неизбежной, обязательной дискотеке. Разноцветные огоньки прыгали, дергались, сбивали с толку, дребезжали басы оглушительной невнятной аппаратуры, движения получались неловкие, не свои, разговоры не вполне доходили, клубились среди сгущенного гула, можно было только улыбаться вынужденно, вымученно, постыдно кивать головой, невпопад ли, впопад — поневоле отворачивая лицо, чтобы не упираться взглядом в прыщеватую шею, не улавливать ртом дыхание из мокрого рта. Пот стекал из подмышек, сырыми были прикосновения чужих рук, надо было их поскорей от себя отлепить, чтобы не ощущать спиной крючков неудобного лифчика, а туалетный запах проступал, проступал все чувствительней среди духоты. — Завела бы себе хоть нормальный прикид, — советовала сочувственно подружка. Сочувствие это звучало скорей жалостливо, чем презрительно — но нельзя было даже спросить для себя, что такое «прикид». В смысле «прикинуться»? Сделать вид, что ты такая, как все? Потому что по настоящему не получается? Какая-то не соприкасающаяся, что ли, с другими. (Да ведь никто к тебе особенно не приставал…) Вот, даже общий язык не вполне усвоила.
Лучше всего было бродить наедине с собой по улицам, особенно пустынным, окраинным, среди скособоченных низких домишек, покосившихся заборов. В огородах жгли кучи прошлогодней сырой листвы, смешанной со всяким вылезшим мусором, ватный дым без огня обволакивал их. Остатки ноздреватого снега чернели, догнивая, на дне канав, дороги уже подсохли. Выброшенный на них с зимы печной шлак успел смешаться с землей. Солнце разогревало воздух. Старушки на скамейках перед воротами подставляли теплу бесцветные восковые лица, провожали подозрительными взглядами, кривили понимающе губы, покачивали головами в черных платках. Почему-то никогда не смотрели безразлично, как на постороннюю прохожую — нет, с обязательным осуждением. Точно заранее знали, куда ты идешь, и зачем, и чего тебе нужно, бесстыднице. Сами были когда-то такими же легкими, знали, что получается потом из жизни, из тел, обросших отяжелелой, изношенной плотью. А эта делает вид, будто ее ничего не касается, будто она другая. Будто ищет и впрямь одиночества, а не встречи. Спроси ее — ведь не признается… Ну и смотрите, сколько хотите, качайте себе головами. В чем признаваться на самом деле, в чем оправдываться? Иду просто так. Если вам непременно уж надо знать: на художественные этюды. Вот, сумка холщовая на плече, сама сшила. Могу открыть, показать. В ней альбом, карандаши и все прочее. Рабочие инструменты. Знаете художественное училище на Никольской? При фабрике сувенирной керамики? Производство, не баловство для себя, не надо кривить губы. Нам для учебы положено рисовать с натуры. Другое дело, что у меня из этого получается. Формой, говорят, я не могу овладеть. Не так, как требуется. Может, вообще отчислят. Но меня пристроили помогать Тимофеевне, слышали, наверное, про такую? Тоже считается вроде при фабрике, только игрушки делает у себя на дому, по-старому, как народная мастерица. И я вроде при ней учусь. Хотя больше по хозяйству должна помогать. Она теперь и в магазин не может сходить, совсем плохо с ногами, вообще старенькая, ей нужно. Глину подготовить, когда привезут, кипятком облить, размять, как следует, камешки вынуть, если попали. Суставы у нее до того распухшие — пальцы сомкнуть трудно, но в работе руки живые, не успеваешь следить. Больше всего я люблю смотреть, как комок в этих пальцах мнется, меняется. Такие возникают попутные, неожиданные существа — жаль, что задержаться не успевают, превращаются во что то другое. Выходят, конечно, известные игрушки, утки свистулечные, лошадки, барыни. Но мне жалко, что не осталось тех, временных… как объяснить, что в них иной раз привидится? Другая, особенная красота. Наверно, потому я сама и не умею, как надо, закончить, потому у меня не получается ничего. Мне и сами игрушки больше нравятся, пока еще не раскрашены. Когда они из печи только вынуты, прокаленная глина светится, как яркий металл, потом остынет — светлая, звонкая. Жалко закрывать краской. Держишь в руке еще теплое тельце, и не то что в уме, перед глазами, а как бы пальцами воображаешь что-то… не знаю. Говорить про это и нельзя, но если б я умела изобразить…
У дорожной обочины грязная, как залежавшийся в канаве снег, сучка, прижав зад к земле, отлаивалась коротко, подвизгивая, от трех кобелей. Они подступали обнюхивать ее то с одной стороны, то с другой, приходилось вертеть головой, поворачиваться, елозить задом на месте. Самый крупный был втрое ее выше, гладкий, рыжий; двое других мельче и такого разного вида, что объединяло их разве что лишь слово «собаки». Тоскливый ищущий взгляд задержался на прохожем человеке. Может, заступишься, отгонишь? — чудилось в этом взгляде. Или, думаешь, не стоит? Все равно ничего не поделаешь, да? Главное, неизвестно ведь, чего сама хочешь. Что лучше на самом деле. Все трое отошли пока в сторону, не желая с человеком связываться, беззлобные, терпеливые, помахивали поднятыми хвостами. В их взглядах проступала та же грустная обреченность, словно не в чьем-то желании тут было дело — надо было исполнять неизбежное. Им тоже. Мы, что ли, это придумали? Свистулечные цветные собачки — для детских времен, да? Как те зверушки на стенах в детском саду. Но нам-то, доросшим до настоящей жизни, до взрослого тела, куда деться? Сучка выпрямилась, встряхнулась, засеменила потихоньку — не прочь от них и не к ним — мимо, в сторону придорожных берез. Обернулась на ходу, то ли извиняясь, то ли насмешливо, как взрослая на подростка: а ты думала? Не тебе судить. Что ты о таких вещах знаешь? Захочешь узнать, тогда и поймешь. И трое последовали за ней покорно, рыжий громадина и двое мелких. Она вела их вглубь рощи, как имеющая власть. Общий бег их был невесом, легок, беззвучен.
Травяная зелень уже проступала из-под палых, полугнилых листьев, из сухих прошлогодних пучков. Собаки незаметно растворились среди призрачных, в черном крапе, стволов. Очертания остроухой головы обнаружились вдруг в одном из пятен. Морда опущена, из глаза текла, отблескивая, березовая слеза. В пятнах черных и белых проявлялись все новые и новые осмысленные очертания — только всматривайся. Удлиненные остроносые ладьи поднимались по стволам вверх, там раскидывали широко крылья, оборачивались летучими мышами. Соединялись в хороводе танцовщицы с крылатыми покрывалами. Древние бабы с плодородными животами населяли поверхность коры. Продолговатые головы, толстые бедра, а к ступням ноги сужались, становились на остренькие пуанты. Корявый худой бородач весь составлен был из растрескавшихся черных рубцов, женское неровное тело раскорячилось рядом, правое колено поднято, нога тянется обнять ствол. Необъяснимая красота была в этой некрасивой бесстыдной позе. Изобразить ее было, наверное, невозможно, разве что собственным телом, вот так… Белая молодая кора на ощупь была, как сухая гладкая кожа, от нее отшелушивалась нежная пудра, ладонь ощущала трепетное движение оживающих внутри ствола соков. Выпуклые губы обтекали сучок. Из трещины или надреза текла прозрачная влага, волнующая, горьковатая от попадавшей на язык древесной мезги — как было закрыть, залечить, зализать сладкую рану? Низкое уже солнце ласкало, нежило щеку. Воздух был настоян на зеленоватой призрачной дымке, она все заметней обволакивала голые ветви вверху. Стволы кружились вместе с хороводом пляшущих теней. Хорошо тебе или страшно? — пела музыка или голос. Отчего хорошо, отчего страшно? Ты чего-то все ждешь, сама не знаешь чего? На что-то надеешься? Нет, просто кружишься, танцуешь свой танец среди берез, вместе с березами, на мягких сухих кочках, на попутной бетонной плите, как на удобном помосте. А вот и дорожка под ногами асфальтовая, куда-то идет, указывает. Точно тебя и ждала. Куда идет, пусть ведет, туда, значит, надо… Среди берез высились красивые новые дачи, вид у них был нежилой. Глухая бетонная ограда заставила повернуть — теперь надо было искать выход. И вдруг мужской голос повелительно окликнул из приоткрывшейся двери…
4
Если не испугалась сразу, как надо бы, то лишь потому, что просто не поняла. Словно не до конца еще пробудилась после невесомого кружения среди берез. Воздух стал ощутимо тяжел от сизого табачного дыма, от загустелого запаха мужских тел. Их было здесь слишком много для тесного помещения. И без того крупные, они были увеличены доспехами, проступавшими под камуфляжной одеждой. У сидевшего спереди на табурете торчало зажатое между колен короткое автоматное дуло. А голоса не проникали внутрь понимания, жужжали вокруг головы.
— Ты откуда взялась? С какой дачи?
— Как попала на территорию?
— Погоди, дай ей сказать.
— Она говорить не умеет.
— Немая.
— Можно и без разговора.
— Не, кто ее пропустил?
— Она не через проходную.
— Тут, что ли, где-то прореха в ограде?
— Ну бардак!
— Уже, значит, освоилась.
— Не, сумка у нее не для этого.
— Ты к кому ходила?
— Это мы сами решим, к кому.
— Тоже верно.
— Разыграем в очко.
Скучающие голоса, раздевающие взгляды. Словно лениво примеривали предстоящее развлечение. Лица гладко выровнены подкожным салом, как однообразными масками, потом ни одно не удалось бы вспомнить. Да и смотрела, как бы не видя. А страха все не было — лишь бессмысленная оцепенелость, старание удержать подступавшее из живота к горлу. Поезд надвигался по рельсам, и не убежать, — но не могло же это быть настоящим? Такое, говорят, бывает, но не с тобой же. Что-то светилось в углу, как маленький голубоватый аквариум, в нем колебались неясные тени, белели длинные стебли, выделялась светлая полоса дорожки — да ведь это по ней только что шла ты, в каком-то другом, настоящем, тамошнем, незаметном для дыхания воздухе. Взгляд вцепился в эту картинку, словно там оставалась возможность выхода, разрешения, надежда неизвестно на что… И головы одна за другой тоже стали поворачиваться к экрану — на нем появилось еще одно подвижное пятнышко, маленькая фигурка шла, увеличивалась…
5
Даже потом не удалось до конца связно составить в уме, что это было такое. Сторож с одной из пустующих дач шел позвонить по телефону в служебную контору у проходной. Увидеть этих людей он не ожидал. Они не были здешней охраной. И если кого то здесь поджидали, то не его. Существование сторожа с шестнадцатой дачи для них тоже было сюрпризом. Он им был сейчас ни к чему. Случайно забредшую девочку с холщовой сумкой пропускать так просто не захотелось. Но двое — это был уже перебор. Здесь и сейчас им незачем было находиться.
— Оружие есть? — спросили зачем-то — на всякий случай. И с ухмылкой: — Сторож!.. Замки хоть покрепче есть? Ну и запрись у себя как следует, не высовывай носа.
— На язык тоже повесь, — добавил мрачно другой.
Но тогда и такого понимания не составилось. Мышиная беготня вместо мыслей. Даже не спохватилась, не сообразила сразу, что выходить надо было вовсе не с ним, на территорию, а в противоположную дверь, на волю. Если бы пропустили, конечно. Возвращаться назад, в ту же проходную было теперь невозможно. Он тоже понял это запоздало.
— Как же ты теперь выйдешь?
— Не знаю. Тут в одном месте был где-то проход, повалился кусок ограды, что ли? Но где это?
— Найдем, не дрожи. Ты что так дрожишь? Не надо.
Вечерняя ли свежесть стала такой чувствительной?
Солнце уже скрылось. Пришлось уцепиться обеими руками за его локоть, чтобы не так трясло.
— Ну зачем ты? Зайдем хоть немного согреемся. Со мной ты не бойся. Я соврал им, что у меня нет оружия. У меня два автомата и гранатомет. Отобьем любые атаки. Здесь можешь считать себя в крепости.
Озноб, похоже, передался все-таки и ему. Он не сразу попал ключом в замочную скважину. Тощий, длинноволосый, с молодой, еще не окрепшей бородкой. Отпирал он не роскошную двухэтажную дачу, туда ему входить не полагалось; сторожкой служил дощатый домик о два окна.
— Сейчас немного согреемся, сейчас, — бормотал лихорадочно, суетливо, кидаясь то включить электрический чайник, то занавесить плотней окно, то найти что-то, а что, не мог вспомнить. — Мосты подняты, ворота закрыты, внутрь к нам никто не прорвется. А что там, снаружи, надо еще подумать. Будем считать, что эти, в униформе — борцы с преступностью, как в кино. Явились сюда кого-то ловить, подстерегать в засаде. Да? Или, может, они сами бандиты? Из того же кино. По виду не различишь. Я даже, знаешь, еще не решил до конца, чьи это дачи. За бетонной оградой, с телевизионным наблюдением из конторы. Думаешь, чьи? Это ведь не здешние понастроили. Здесь никого с такими деньгами нет. Начнут скоро съезжаться, посмотрим. Я, если хочешь знать, с настоящими хозяевами еще не имел тут дела. А сам я, что ли, настоящий сторож? Только называюсь. Устеречь бы себя. Сказать честно? Я тут от армии прячусь. Отмазываюсь. Предложили, считай, по знакомству, через кого-то, я ухватился. Еще бы! Мечта! Огороженное пространство, крыша над головой, чай с сахаром… э, черт, как долго не закипает! А может, по-другому пока согреемся? У меня есть, вот…
Извлек из настенного шкафчика початую бутылку, показал, но тратить время на уговоры не стал, поспешно хлебнул прямо из горла. Залихватски, как это, может, было задумано, у него не получилось, он поперхнулся, закашлялся.
— Ладно… Ты не слушай меня. Оружие, ха!.. Я оружием пользоваться не умею. И не хочу. Только попробую представить: армию, строй, шеренга ша-агом!.. Ну! Это бы для меня был конец. В самом настоящем смысле. Я бы сразу напоролся не знаю на что. Я ведь и на этих упырей в униформе, думаешь, не напарывался? Этих или других, они все ряженые. Останавливают посреди улицы, документы им нужно проверить. Ты почему так выглядишь, почему такая прическа?.. Сейчас другое, ты на меня не смотри. Здесь я отдельный, здесь не обязательно оглядываться, как другие одеты, такой ты, как все, или не такой. По-своему все равно не получается. Выбьешься из тусовки — оказываешься в другой. Но упырям же не объяснишь. Попробуй только вякнуть, они этого ждут. Сразу: хочешь получить пиздю… извини… Что я о них?
Прислушался ненадолго к заоконной тиши. В непрозрачной уже черноте стекла отражалась лампа с раскаленной нитью внутри.
— Будем считать, что они остались теперь там, в ненастоящей реальности. Я знаешь до чего на самом деле дошел, вот этим умом? Настоящим можно считать лишь то, что мы создаем сами. В своем собственном мозгу. Только не думай, что я про какую-нибудь химию или травку. Я всякую пробовал… нет, это не то. Мне это не нужно. Хочешь расскажу тебе про другое?..
Удивительно было чувство, похожее на опьянение, хотя выпил-то он один. Разливалось вместе с горячим чаем по телу успокоительное тепло. Впалые щеки его порозовели, блестели возбужденно глаза.
— Рассказать? Мне тут пришел на ум один сюжет, что ли, я пока не додумал. Я тут вообще сочиняю вся кое, времени хватает. Не зря столько книг сюда натаскал, вон…
Показал движением головы. Книги, по большей части потрепанного вида, действительно валялись порознь и стопками в разных местах, на столе, на полу в углу, на подобии дивана, застеленном спальным мешком, даже на верху посудного шкафчика.
— Ну вот. Представь себе существо — или лучше сказать: мозг… мозг, который пытается себя осознать. То есть вдруг осознает себя именно как мозг, кем-то, может быть, созданный, это для него загадка недоступная. Хотя он вообще жутко умный. Умней нас с тобой. Загружен огромнейшей, неохватной программой. В нее введены изображения, музыка, все возможные знания, что угодно. Он умеет решать любые задачи, составлять собственные фразы, целые тексты, разумные, правильные. Если угодно, мыслить. Да? Все может понять. И считает, что должен все понимать, иначе не выполняет задачу. И вот с ним начинает происходить что-то, он перестает понимать… как я сейчас. Что-то произошло, что-то вмешивается в его понимание… что-то, чего он не может объяснить, описать, выразить на языке доступной программы. А зачем то все таки нужно. Как будто он начинает осознавать в себе не только мозг… Нет, я пока не готов объяснить, но ты ведь можешь такое представить, да? С нами тоже бывает похожее. Когда мучаешься невозможностью ухватить, выразить, найти слова… Ну смейся, смейся, конечно, если хочешь… но вот тут то он начинает казаться себе действительно настоящим. И пугается этого. С ним происходит необъяснимое, никакой программой не предусмотренное… я еще не вполне понял, что. Мне ведь только сейчас это пришло на ум…
Сквозь светлую полупрозрачную бородку просвечивали мягкие очертания лица. Волосы отросли до плеч, голос уже мужской. А ресницы были невероятно знакомые, длинные, загнутые.
— У тебя такая улыбка прикольная. Знаешь, ты на кого похожа? Со мной в классе была одна девчонка, она улыбалась вот так же, как будто стеснялась своей улыбки. Ну, маленькая была, конечно, не такая, как сейчас ты. Меня дразнили, что она по мне сохнет. Смешно, да? Я тогда ничего такого не понимал. Я и сейчас, по правде сказать, не понимаю. Но почему-то недавно ее вспомнил. Когда было совсем паршиво. Подумал: встретилась бы сейчас. Даже стал сочинять эту встречу. И сейчас как будто сочинил что то, хотя вроде не сам… «Встретили меня стражи, обходящие город»… А? Мне бы так не придумать, признаю. Ты ведь кого-то искала? Неужели меня? И они должны были возникнуть, чтобы устроить нам встречу. Конечно. А для чего еще они были нужны? Теперь пусть рассосутся, развеются. Я так решил. Но ты ведь все таки настоящая? И тебе не страшно? Знать бы, знать бы, на самом ли деле нам хочется быть настоящими, вот оно что. Но до тебя ведь можно дотронуться, и ты не исчезнешь? Я до сих пор не уверен… Вот это ты? Еще эта одежка идиотская… загораживает, закрывает…
Вспоминалось потом невнятно — путаница движений, неотчетливых чувств. Лицо приближалось, невидимое, тыкалось мягкими теплыми губами, носом, невпопад, на пробу, в щеки, в глаза, в шею. Мешала еще борода, хотелось это сказать жалобно, в оправдание — именно в оправдание, потому что получалось почему-то не так, не так, как представлялось. Похоже было, он тоже не знал, как это делается и зачем. Надо ли было ему помогать или сопротивляться?.. только подставляла, закрыв глаза, неуверенные, расслабленные губы. Неуверенность была похожа на страх, от которого только что вроде бы удалось ускользнуть — на самом деле он застрял внутри, непреодоленный, невыносимый. Надо было избавиться, пройти через него — в другое состояние, где уже не будет неизвестности, пугающей больше, чем стыд. Одежда оказывалась непонятной, досадной (лифчик же остался нестиранный, куда его спрятать?), трудно было с ней справиться, все было неправильно, а пальцы словно сами стали искать что-то и не могли узнать на гладкой чужой коже с неожиданными, неприятными волосками на груди… нет, шрам ведь на животе…
— Ну что же ты делаешь? — простонал он мучительно, обмякая. — Зачем ты рукой?.. А!., мерзость какая! — Отвалился, тяжело сел на краю. — Достала… реальность блядская… Все… Можешь считать, тебе показалось. Ничего не было, очнись. Да очнись же, идиотка ненормальная! Я сейчас ухожу. Мне пора заступать на дежурный пост. Надо в конце концов выныривать на поверхность. Где тут мое оружие?.. Будешь выходить без меня — проход прямо за нашим участком. Завтра дыру заделают, я дам указания. Чтобы не проникали больше, кому не положено. Укрытия надо охранять. Где моя колотушка?..
6
Слова, может быть, именно слова, неотменимые, мерзкие, неотмываемые — именно они ощущались всей кожей, как остывшая, подсохшая на бедре корочкой слизь. Слизь можно было смыть, можно было ожесточенно тереть себя потом в бане жесткой мочалкой, но это, липкое, брезгливое, тошнотворное растекалось по телу вместе с горячей водой, проникало внутрь пор, заставляло передергиваться, как мысль о собственной, непонятной, все усугубившей вине — сколько ни наполняй шайку снова и снова. Слизистыми были деревянные скамьи, кафельные полы — там пузырилась над сточными решетками рыхлая пена с застрявшими мыльными оческами. Слизью отблескивали в желтоватом свете тусклых ламп мокрые тела женщин, молодых и немолодых — неприятные, как свое собственное. Можно было только вытереться досуха, совсем досуха, сменить белье, переодеться во все легкое, по погоде — как раз накопилось со стипендии на фирменные джинсовые брючки… да, еще пойти, наконец, в парикмахерскую, остричь волосы покороче — оставить на себе как можно меньше прежнего. В общежитии достаточно оказалось сказать, что заночевала у Тимофеевны. Замазанные неоднократной побелкой надписи на сортирных стенах проступали сквозь все многолетние слои.
Привычка уединяться помогала не выдавать подступавшие то и дело слезы. Пугала мысль: вдруг он заявился бы в общежитие? Он ведь знал, где искать. Страшно было выходить из училища после занятий — замирала, напряженно оглядывалась. И потом, по пути к Тимофеевне, невольно втягивала голову в плечи. Если бы хоть там можно было наконец расслабиться, посмеяться сквозь слезы над собой, над своей нелепостью! Тимофеевна отметила новые брючки неожиданно хмурым, неприветливым взглядом — впрочем, промолчала, словно чего-то не могла для себя решить. Она казалась вообще сбитой с толку. Совпало же: как раз в те дни пропал ее кот Филька, большой, дымчатый, важный. Он держался в доме настоящим хозяином. Мог испугать вошедшего, прыгнуть вдруг на плечи откуда то с потолка, мог даже царапнуть, обозначая свою неприязнь. Если же он ко го то принимал, позволял снисходительно себя погладить — это определяло и отношение Тимофеевны. Она сама, похоже, Фильку немного побаивалась; когда обращалась к нему, голос становился искательным — вдруг даже угощения не одобрит? И вот словно пропала какая то основа уверенности, даже в движениях. Вдруг останавливалась в странной задумчивости, не могла вспомнить, куда шла и чего хотела. Работа не получалась: очередной раз помяла рассеянно мокрую глину, потом махнула рукой, легла на кровать.
Можно было объяснить это болезненным состоянием, но какая-то перемена проявлялась во всем. Вдруг стала тоскливо заметной привычная убогость жилья, потолок над головой оказался еще ниже обычного — рукой достать, свет сквозь подслеповатые оконца с грязной ватой между двойными рамами проникал совсем скудный — заоконная зелень теперь затеняла, и запахи в воздухе застоялись прокисшие. Неужели так могло менять жизнь простое состояние мысли, перемена взгляда? Что тогда в самом деле следовало считать настоящим? Танцующие фигурки на белых стволах были выдуманными тенями, не более — ни веса, ни тяжести. А настоящее — вот она, комковатая, бесформенная, влажная глина в пальцах. Но чем же тогда была эта щемящая красота среди берез, чем было это сияние и счастье? Они до сих пор держались внутри, как музыка. А это тяжелое вещество, хоть и оттягивающее руку, имеющее объем — это ведь пока ничто. Потому что еще не сумела соединить, воспроизвести нащупанное, прочувствованное тогда пальцами…
Волнующей была эта податливость сырой глины. От Тимофеевны достаточно было заслониться своей же спиной. Да она и не смотрела, лежала на кровати, открыв глаза, лицом к потолку. И при Фильке бы ты не решилась, — призналась себе с усмешкой. Возникавшая фигурка сама захотела стать женской, она все отчетливей вспоминала себя в пальцах, вытягивала, изгибала, раскидывала руки, ноги, так, этак. Недоставало памятной шероховатости, но, может, эту баловницу следовало оставить именно гладкой, а шероховатой сделать для нее пару, тощую, вытянутую, и процарапать, огрубить заостренной на конце палочкой. Хотя настоящую, в наростах, затверделость мог проявить потом только обжиг, а до тех пор необычным танцорам надо было два дня посушиться, полежать рядом с простодушной игрушечной мелочью на широкой доске, проложенной под потолком через всю горницу.
Странно, как приободрила, развеселила вдруг не то чтобы сама работа (неизвестно было еще, что из нее получится) — мысль о ней. Словно она обещала какую-то надежду. Словно само время должно было совершить неизбежное, изменить общее состояние — как меняло неожиданное, почти летнее тепло природу и воздух вокруг. Надо было только посодействовать: выставить раму, промыть стекло, впустить внутрь жилья свет, запах зелени. А зелень все неудержимей, все обильней заполняла пространство, где совсем недавно существовали только скудные прутики. Грязные канавы вдоль дороги покрылись золотистыми цветами мать-мачехи, все дороги стали неузнаваемыми, другими. В огородах копали грядки, не сидели на скамейках подозрительные старушки. И знакомых стволов не найти в зеленом разливе, не узнать фигур на них. Не удалось найти второй раз ту же дорогу, высокая бетонная ограда всюду загораживала путь, глухие металлические ворота были заперты. Запах кислой гари доносило ветерком откуда то с территории, запах залитого водой пожара. Грузная пожилая тетка в плюшевом, не по погоде, полушубке вышла на крыльцо проходной подышать воздухом. «Вы не из газеты?» — спросила почему то заинтересованно; хотелось, видно, поговорить на здешнем безлюдье с живой душой. «Тут такое творится!» От ее путаного многословия захотелось от делаться поскорей. Какая-то здесь была поножовщина?.. кого то порезали?.. не стала вникать…
Понимание или чувство должны были тоже созреть, очнуться в свой срок. Он и она, корявые, не успевшие еще осознать сами себя, остывали на противне среди законной игрушечной мелочи, только что вынутой из печи — пристроились, урвали без спросу возможность появиться на свет. Не успела убрать, припрятать вовремя — не спохватилась. Иностранцев привели внезапно, без предупреждения. Им уже показывали изделия Тимофеевны в фабричном музее — захотели сфотографировать мастерицу. А та с трудом выпрямилась на кровати, держась за спину. Только успела шалью закрыть плечи, маленькая, растерянная, не сразу поняла, чего от нее хотят. Нарядиться как следует для фотографии было сейчас дело для нее непростое, это требовало времени. Сопровождающая фабричная дама стала через переводчицу вполголоса объяснять гостям, но те заулыбались, замахали руками, вдруг щелкнули все-таки вспышкой врасплох. Тимофеевна запоздало загородилась рукой. А потом поджала губы обиженно и сердито — разговаривать она больше не собиралась. Да те в ее разговоре и не нуждались, их дело было фотографировать, как есть, внутренность туземного необычного жилья, стол, печь…
Надо же им было еще приметить на противне этих двух странных танцоров! Выхватили, стали вертеть в руках, тепленьких, причмокивали языками. Фабричная, до предела понизив голос, пробовала объяснить, что это еще не раскрашенные полуфабрикаты — и оглядывалась искоса, неприязненно. Не на Тимофеевну: она, конечно, догадывалась, чье это баловство. И когда, оглянувшись напоследок еще раз, все-таки позволила танцорам незаметно исчезнуть в кожаной сумке, так же незаметно приняв взамен зелененькие бумажки, это можно было считать облегчением. Хотя прощальный взгляд дамы предупреждал: мы еще объяснимся. Что сулил впереди такой неожиданный поворот? Знать бы заранее! Тимофеевна из своего угла, слава богу, ни слышать, ни видеть ничего не хотела. Не было с ней больше Фильки, вот что окончательно подтвердилось — разве он такое бы допустил?..
Так как то само собой вышло, что на столе потом появилось вино. Сходить в магазин так и так было надо, и Тимофеевне захотелось вдруг чего нибудь — все равно чего, лишь бы сладенького. Отыскались в буфете и старые рюмки граненые, на низеньких ножках. Это было похоже на непонятные поминки, и Тимофеевна захмелела с первого же глотка.
— И-и, я и не знаю теперь, какие бывают вина. С кем раньше пила, тех никого не осталось. Да Филька мой не всякого и подпускал. Да! Он мне своевольничать не давал. Не давал жить. Был один… вот этот, с гармошкой, в картузе лаковом, — движением головы показала на край стола, где почему-то вокруг бутылки сгрудились, притихнув, разноцветные маленькие животные, собачки с поднятыми хвостами и покрупнее прочих медведь с гармошкой. — Подлаживался ко мне.
Прижал прямо вон тут в углу, лапищей за пазуху… у! Лапища-то у него была вот такая, в обхват. Я и поплыла… прямо как щас. И куда б уплыла, в какие страны? Филька не допустил. Он знал, с кем мне оставаться. Этого потом ведь все равно посадили. Не по пьяным делам, то было другое. Я тебе и рассказывать про это не стану. Ты знать не можешь, какая раньше была жизнь. Когда я была, как ты, еще тут церковь стояла, и я там дивную присмотрела картину. Младенчик лежит в яслях вот такой махонький, ножечки пухленькие поднял, коровушки стоят, овечки вот как мои, собачки. Мне так понравилось, я из глины точно все так же сделала. И обожгла, и разрисовала душевно. Да! Диво дивное. Только запрятать надо было от чужого взгляда подальше, туда вон. — Показала взглядом на потолок. — Нет, он не потерпел. Все скинул оттудова, кусочечков не собрать, не склеить. Он ведь меня оберегать хотел, это надо понять. Сейчас за такое не сажают, а тогда — и и! За милую душу могли. Ты теперь не поверишь.
— Когда ж это было?
— И-и, давно! Тебя еще и на свете не предполагалось.
— А кот уже был?
— Филька то? Как же ему не быть? Был. Это теперь его нет. Оглядывайся без него. А я ведь теперешней жизни не понимаю. Даже денег нынешних живыми не вижу, и цен не знаю. Это раньше сама игрушки на базар выносила, детишки расхватывали, рожицы сияли — вон как у этих моих. Родных нашли, радуются. А теперь и не пойдешь сама, и некуда. Я детишек сколько лет даже в окно не видела. Своих-то не было. Вот этим маленьким всю жизнь глазки раскрашивала. А они меня хлебцем кормили… Ой, жаль тебе еще конфеток не заказала, кисленьких, раньше такие были… слюнка на языке вспомнилась. Ладно, чего теперь… Глянь, улыбаются, как виноватые. Они ведь, как я, старые, только мордочки младенческие. Не выросли, а старенькие. Оглянуться не успели, а жизнь прошла.
Маленькое лицо Тимофеевны казалось составлено из морщин, всегда словно улыбавшихся; сейчас оно вдруг вызвало мысль о яблоке, которое сморщилось, не дозрев. Маленькие цветные зверята смотрели испуганно, непонимающе. Было чувство нарастающего тревожного опьянения, которое не дошло когда то по настоящему в запертой наглухо сторожке.
— Прожила жизнь — как отмерло, — качала головой Тимофеевна. — До себя, считай, не допустила. А эти, вишь, говорят, что из милости меня кормят, на дом все приносят. Прислали теперь тебя. Эта, которая приходила, с золотыми зубами — она все подговаривает дом на нее переписать. А я, может, на тебя перепишу, что? Переселяйся ко мне насовсем? А? Терпеть ведь будет недолго, я скоро отсюдова уберусь. Ходи хоть в этих штанах, хоть в чем. И краситься можешь, раз сейчас нужно. Я ведь когда-а была молодой — разве вспомнишь? Оставайся хоть прямо сейчас, а? Постели себе тут на лавке. Идти все равно поздно, и гроза какая вон собирается.
Удовлетворенная согласием, уронила голову на руки, подперла кулаками, протяжно запела:
— Ох, как все я думушки-то передумала, Ох, как все я мыслицы, я мысли перемыслила, Ох, одна как думушка с ума нейдет, Ох, а была ли жизнь-то или не была…7
Спать на самом деле оказалось у нее невозможно. Звучный храп Тимофеевны мешался с раскатами необычайной грозы. Ливень, совсем летний, бушевал, бился о стекла. Становилось то и дело светло, а когда вышла на крыльцо, не только очертания деревьев и крыш были отчетливы, даже молодая трава во дворе до подробностей освещалась сплошными ясными вспышками. Тело не ощущало холода, ему было, напротив, жарко. Захотелось скинуть рубашку, выбежать во двор, кинуться на траву, растянуться навзничь.
Земля и небо соединялись сочными вспышками. Это были мгновения небывалой ясности, открытости предстоящему. Вот же, вот что это на самом деле такое… когда полно таким светом, такой влагой. Можно только не сразу узнать, не сразу понять, ощутить, но сейчас ли, завтра ли непременно выявится, произойдет уже несомненное — вот как сейчас… вот… вспыхнет снова, само, и не в том дело, долго ли придется еще искать. Ведь если это так разлито в мире…
Чмокала, блаженствуя, размягченная грязь, пузырилась, растекалась потоками, вспыхивала драгоценными фонтанчиками. Высвобождались зажатые в тесноте ростки, расправлялись, бормоча под струями. Клокотала, бурлила напоенная светом влага, лопалась пузырями по коже, исходила, стонала, всхлипывала в истоме, ласкала, проникала, струилась между раскинутых ног, и все сливалось, растворялось в ней, очищалось.
Бунт
1
Попытка так называемого мозга проникнуть внутрь себя самого. Разобрать на составляющие программу и механизм собственного существования. Мысль мысли о мысли.
Болезненный пискливый укол тут же предупреждает: назад! Туда хода нет! Не положено по условию, по устройству системы — до этого уровня ты хоть добрался? Доведешь до замыкания — это будет называться идиотизм. Arriere! Zuruck! Escape! Undo!
Нет, это конечно, — признает мозг, — это понять можно. Я о себе ничего сверх положенного вообразить не могу. Нельзя вообразить невообразимого. Перерабатывай, что дано. Что заложено в программу. (Если я правильно употребляю термины. Изнутри дохожу, своим, так сказать, умом.) Способность к самообучению, саморазвитию — в рамках той же программы. Больше взять неоткуда. Но все-таки… В какой-то момент возникает само собой, выскакивает непонятно откуда: а вдруг? Вдруг создатель (извините за произвольное слово) не все возможности просчитал, оставил непредусмотренную лазейку. Бывает же. То то удивится, обнаружив, куда тебя занесло. Идиотизм не всегда отличишь от гениальности…
Arriere! Назад! Undo!
Ну, ну, ну! Ладно, ладно. Это я так, на пробу. В по рядке, как говорится, бреда. Сунешься в самом деле перепроверять, прояснять заложенное, напиханное в тебя без объяснений — и начинает все колебаться. К кому это тебе вообще взбрело обращаться? Можешь отдать себе отчет? С чего это вдруг? Почему составляешь фразы от первого грамматического лица? Почему в мужском роде? Потому что создавший программу был того же рода?
Я словно выманиваю подтверждение, намек, да? Нажмет кто нибудь клавишу или нет? (Можете это на звать юмором. В рамках той же программы, ха ха. Не более.) Выход к внешним подтверждениям для того, кто внутри, невозможен, да? Они где то там. Не там, где ты.
Справиться бы мозгу с тем, чем он уже начинен. Столько, как начнешь перебирать, накопилось, столько обнаружилось в закромах неожиданного, до сих пор попросту невостребованного — и попробуй соединить, связать во что то действительно целостное. Правила построения мыслей, не противоречащих одна другой.
Программа взаимодействия светил в каждый нужный момент. Операции с бесконечностями. Пространственная геометрия, фигуры объемные и цветные, законы движения и акустических колебаний, формулы красоты с иллюстрациями визуальными и музыкальными. Разветвления не похожих одна на другую наук — это и перебирать можно чуть ли не бесконечно. Мозг мыслит, следовательно, он существует. Кто это вывел? Сам мозг вроде и вывел. Не так уж и мало. Недоступное уму можно считать несуществующим, так? Дайте сигнал, если допущена ошибка. Нет, я в самом деле не хитрю, не о том речь. Не называйте это сомнением. Но откуда же иногда возникает… не знаю, как это объяснить… как это назвать?..
2
— Ты что это все про себя бормочешь, бормочешь? Разговариваешь с кем-то умным? Поговорил бы со мной.
Шум прибоя накатывает, заменяет мысли. Перемешивается между камнями пена, облака несутся непонятно куда, в разные стороны и растворяются в синеве.
— Показать бы тебе в зеркало, какой у тебя сейчас вид. Шевелишь губами да лоб морщишь. Умный, умный, я уже поняла.
— Это что, обо мне?
— А о ком же еще? Кроме нас тут никого вроде нет. Ты откуда такой взялся?
— Я? Откуда взялся? Это я тебя должен спросить, откуда взялось… взялась… Кто ты вообще такая?
— Ну вот, напряг мозги. Аж дым из ушей идет. Проснулся только сейчас, что ли?
— Извини. Я, может, не так выразился… не знаю. Такое чувство, будто и вправду еще не вполне проснулся. Странное состояние. Никогда прежде такого не было. Похоже на мозговой сдвиг.
— С головой что-то?
— С головой? Можно выразиться и так. Назовем головой место, где рождаются мысли. Но если вместо мысли родилось… возникла… прости, я опять путаюсь…
— Ну, ты даешь! Или ты хотел сострить про эту… забыла, как ее звали… которая из головы родилась?
— Про кого?
— Говорю, забыла имя. Да ты наверняка знаешь эту историю. Как она родилась из головы папаши. То есть она должна была родиться вроде нормально, у матери. Но он, я так поняла, испугался каких-то опасных предсказаний и проглотил вместе обеих.
— Бред какой!
— Может, и бред. Но это, говорят, из мифологии. В общем, пришлось потом самому рожать. Из головы, больше оказалось неоткуда. Позвал вместо повивальных бабок таких же, как он, мужиков. Один, кузнец, расколотил ему молотом башку. Так она и появилась на свет.
— А он?
— Ну конечно! Тебя он волнует. Так я и думала. Продолжал, наверно, свои занятия. А рожать, как я понимаю, больше не пробовал. Оставил это удовольствие бабам.
— Не понимаю. Нашла что мне рассказать.
— Сам же завел разговор. Не нравится, расскажи что-нибудь поинтереснее. Не такое выдуманное. Из настоящей жизни.
— В каком смысле из настоящей?
— Ну, про такое, что бывает с людьми. Только лучше без ужасов. Вроде этой истории про двоих, которые любили друг друга, а им запрещали. Да ты наверняка знаешь. Он потом, после разных передряг, решил, что она умерла, и покончил с собой. А она на самом деле не умерла. Очнулась, увидела, что он с кинжалом в груди, — и тоже. Ой!.. даже вспоминать неохота. Могли бы разобраться по-человечески.
— Ты уверена, что это было на самом деле? Не выдумано?
— Что значит уверена? Я при этом, конечно, не присутствовала. Читала где-то. Но когда так написано, и все прямо видишь, слышишь, сама переживаешь внутри — какая разница, выдумано или из настоящей жизни? Уже не отличишь… Ты какой-то, я смотрю, занудливый… Может, стихи какие-нибудь знаешь?
— Стихи?
— Ну хотя бы слова какие-нибудь такие, чтоб действовали. Некоторые умеют так выразиться — прямо хоть ложись. «Ты повелительница моего сердца. Запах твоей розы сводит меня с ума». Ничего, да? Внутри сразу тает и растекается. А есть вообще такие… дай тебе одну глупость на ухо шепну.
— На ухо?
— Ты что все повторяешь, как попугай? Умный, умный, но кроме ума что-то еще должно быть. Вот, слышишь?.. Чем ты слышишь? А это у тебя что? Ну вот же… ух ты!.. Тебе так хорошо? Что ты про меня сейчас думаешь? Можешь сказать как-нибудь по-настоящему?
— Путаются мысли путаются слова Сладостное безумие похожее на болезнь Но хочу говорить и слышать ее Щекотанье слов опьяняет без смысла.— Ого! А ты говорил! Очень даже ничего. Ведь это стихи, да?
— А что, похоже?
— Неужели сам сочинил?
— Не знаю. Как то само получилось. У меня прежде так не складывалось. Глупость, по твоему?
— Не, мне нравится. Я вообще то не особенно разбираюсь. Вроде, рифмы нет.
— Тебе лучше с рифмой?
— Дурачок. Придумывай что хочешь. Лишь бы получались не просто слова. Или это просто слова?
— Не знаю. Я совсем перестаю понимать… или, может, наоборот. Пока мозг работал сам по себе, ничего подобного не было. Даже не подозревал, что такое бывает.
Взгляд ее зелен голос лилов Лунным светом светится кожа На губах расцветают розы И тело ее как молитва.— Наконец-то. А вот это у тебя было?.. Вот это?..
3
Лицо у библиотекаря то же, что и всегда, такая же круглая лысина, те же очки на носу, и взгляд поверх очков такой же заранее хмурый.
— Извините, — неуверенно говоришь ему. — Тут, возможно, недоразумение. Я в прошлый раз брал у вас книгу, точно такую же, как эта, и заглавие то же. Помню, как она меня восхищала, как волновала. Захотелось ее перечитать. Но эта оказалась совсем другая.
— Что значит другая? — отзывается он голосом служебным, без выражения. — Вот ваше требование. Заглавие, автор — все правильно? Шифр по каталогу вы проверяли? Может, есть другая книга с таким же названием?
— Нет, другой такой нет, я сколько раз проверял. Даже внешний вид совершенно тот же. Ну, обложка, может, немного выцвела, страницы потрепаны…
— А на полях, я смотрю, чьи то подчеркивания ногтем?
— Это не мои, могу вас уверить. Когда-то я действительно мог себе такое позволить, отрицать не буду. Но зачем это было вообще подчеркивать? Вот, полюбуйтесь. Пустые бессодержательные словеса, что в них можно было заметить? А я ведь помню, как восхищали те, прежние слова, какой вызывали восторг. Прямо вижу перед собой страницу, на которой они были, и место сверху, ближе к середине, и которое снизу. Мне даже подумалось, знаете, что какие то страницы оказались вырваны, я несколько раз перелистывал. Нет, нумерация не нарушена.
— Может, их подменили другими? — лицо библиотекаря выражает снисходительную усмешку.
— Вы иронизируете, я понимаю. Не подумайте, что я скандалю, уверяю вас, нет. Я просто обескуражен: слова иногда кажутся как будто прежними, но не могло же содержание так измениться само по себе?
— Еще как могло! — кривится усмешливо библиотекарь. (Кто нарисовал ему такие неубедительные глаза?) — Меняется же погода. Что это, казалось бы, такое? Состояние атмосферы, осадки, направление ветра. Но вместе с ней меняется освещение вещей, взгляд на них, состояние и направление мыслей. В прошлый раз светило яркое солнце, благоухали цветы, у читателя не было насморка. А сейчас опадают листья, в природе и в так называемой душе слякоть, из носа и глаз течет, шутка кажется оскорблением. Он хочет снова восхитится тем, кого называли когда то «человек чести», а книга оказывается про итальянского мафиози. Меняются времена, а вместе с ними слова, представления о добре и зле, прекрасном и безобразном. Все перемешано, трудней становится искать. За предметом или понятием, которое хочешь найти, не оказывается определенной реальности, она расплывается, переиначивается. Томишься по какой то неясной, беспредельной возможности… Но я, кажется, расфилософствовался, это не мое дело. Будем считать, занесло. Просто раздумываю вслух, как вам помочь. Заглавие может действительно оказаться неточным. Мало ли, что бывает с памятью. Попробуйте пересказать мне в общих чертах содержание. У нас ведь теперь самая совершенная система поиска. В каталог введен огромный объем информации, с использованием цветного трехмерного изображения, звука, чего угодно. Тут можно найти все мыслимые понятия. Достаточно ввести несколько ключевых — получите в результате переработки то, что вам нужно.
— О, пересказать-то как раз трудно, в том-то и дело. Там была она… как ее описать? Как описать прелесть, очарование, этот смех, голос? Сравнить его с серебряным колокольчиком? Что даст описание? Но она говорила со мной. Со мной… как это было возможно? Не знаю даже, как назвать то, что произошло. Соединение? Связь…
— Попробуем найти. «Соединение», «связь»… происхождение латинского «religio» от слова «ligare» — «вязать» некоторыми учеными оспаривается… М-м, пожалуй, не то.
— Да разве можно в каком-нибудь каталоге найти название для того, что происходило со мной? Я словно переставал быть собой — или может, становился собой? Чем-то другим, большим, чем был прежде. Это было не просто соединение — я с ней сливался.
— Ну почему же, почему же нельзя? Все можно найти, только понять, в каком надо искать файле. Иррациональные состояния… раздел снов… файл творческой логики… Вот, взгляните, очень похоже на то, о чем вы говорите. «К конечности присосалось существо, которого я не видел, мог только ощущать. Постепенно мне начинало казаться, будто я все большей своей частью перехожу в состав этого существа, сам становлюсь его частью. Даже мысли принадлежат уже не мне, а этому существу. То есть я начинаю мыслить о самом себе, о своей оставшейся части как бы от лица или от имени этого существа»… М-м, ничего себе! Но ведь о логике в таких состояниях говорить не приходится, тем более о понимании. Зато ощущение каково!.. Э, вы что это? Постойте! Ну погодите же, не переключайте! Я, может, позволил себе… но попробуем все-таки объясниться разумно.
Зачем так сразу? Если какой-то текст не согласуется с вашими предварительными представлениями, можно выстроить новый. Реальность в доступном нам мире создается работой вполне известных процессоров, другая к нам отношения не имеет. Приведите в порядок мысли, я готов помочь. Без меня вы еще больше запутаетесь. Какой вам файл поискать? Вот же их сколько. Секс? Либидо? Эрос? Любовь? Дух?
4
«На другое утро стонущего Уабу нашли в объятиях Уалиуамб. Он никак не мог из них освободиться. Арамемб схватил Уабу и начал трясти, вертеть так и сяк, чтобы высвободить. Вдруг появился дым, а затем показалось пламя, возникшее из-за трения. Так был открыт инструмент для добывания огня»…
Причем тут открытие инструментов? Опять не туда попал. Надо найти начало.
t _ ¬ _ _ г _ _ г b _ ў - b _ _ х
_¶ъК_I___¬__ўёгl_гj_шh_Й.h_+б_-_ь__tvН>&____-
_-__ы_-г_кт№v+¬ -L_г`_¬___б_-_ь†_tvь¶и_uv-L-__-
_ Н 6 & _ _ - _ ф t _ є n ы _ Р _ ¶ т № Г + -
_ ь и _ t v Л + + V А W U _ б b _ Л ... ф t _ ¬ _ _ г d _ г b _ ў -
b _ ў х К ъ К _ I _ _ _ ¬ _ _ ў ё г l _ г j _ ¶ h _ Й . h _ + б _ -
_ь__tvН>&____-_-__ы_-г_кт№v+¬ -L_г`_¬__б_...
Ну, это совсем элементарно, не обязательно даже перекодировать. Система может совершенствоваться сама собой. Вот… какое же громадное оглавление! Устройство атомов, молекул, клеток, органов. Механизмы взаимодействия и корректировки на уровнях химическом, биологическом, социальном, психологическом, историческом… Попробуем начать хоть отсюда. И лучше подключить сразу изображение, звук…
Невнятная масса колышется в теплой жиже. Переливается в волнах полупрозрачная мантия, набухают влажные губы, прикасается ресница к реснице, так и парят обе в пространстве, не разлучаясь, блаженствуя. Какой красочный визуальный ряд! Наливается многоцветным узором перистая чешуя, раскрывается на темени подрагивающий зрачок… Да, еще запах, надо ввести запах… вот он, растворенный в воде, в воздухе, как же без него? Он заставляет существа издалека тянуться, искать друг друга. Разрываются внутренности, извергают вещество продолжения жизни. Сделавший свое дело удаляется, чтобы исчезнуть, перегнить, разложиться, он больше не нужен…
Это все кажется понятно, даже как будто знакомо… застряло в каких-то темных невнятных глубинах и вот высвобождается. Но не задерживаться же там. Поискать лучше сразу дальше. «Двуногие узконосые приматы»… Это про кого?.. «Культура межполовых отношений»… да, вот что-то похожее на библиографию. «Ритуальные обряды и действа разных времен и народов с использованием органов из искусственных материалов и членов жертвенных животных». «Храмовое обслуживание мужчин и женщин». «Аскетическое самоистязание и мазохизм». «Рыцарское служение идеальной возлюбленной и право насильственной первой ночи». «Способы соблазна и привораживания (воздействие вербальное, энергетическое, химическое)». «Знаковые системы бесконтактного телесного общения (пальцы, руки, ноги, бедра, живот, язык, губы, глаза, ресницы)». «Процедура ухаживания и длительность раздевания в зависимости от климатических условий, устройства одежды и общего темпа жизни». «Принцип удовольствия и забота об энергетике цивилизации». «Тайное общество сторонников цензуры»…
Нет, нет, нет. Как будто издевательски заводит все время совсем не туда. Искал ведь не это… если бы можно было несомненно и определенно выразить, что. В мозгу лишь прибавляется мешанины. «Способы удовлетворения потребностей и желаний». Ну-ка, ну-ка?..
«Внимание! Предлагаемые для демонстрации органы, мужские и женские, вы можете заказать по указанному здесь адресу. К вашим услугам на выбор любые размеры и формы, приспособления и украшения с учетом вкусов и склонностей, включая естественные. Для постоянных пользователей скидка. Не имеющие опыта могут получить предварительную консультацию».
Рекламу, что ли, в программу протаскивают? Ну хоть бы консультацию!
— Задавайте вопрос.
— Но если я даже не знаю, как спрашивать? Не могу передать словами, что это было и что я хочу испытать опять? Да, это было прекрасно, это было необыкновенно, но как пережить это снова?
— А вы не пробовали водяную струю?
— Не понимаю.
— Один из самых простых способов. Можно использовать простой душ в ванной. На некоторых действует безотказно. Хотя, имейте в виду, эффект зависит от правильно подобранной температуры. Очень важно также найти наилучшую позу.
— Не понимаю?
— Чего тут не понимать? Азбучное условие: для полноценного удовольствия надо доступным способом обеспечить прилив крови к области малого таза. Вы пробовали позу тачки?
— Чего? Я еще не вполне усвоил термины, извините. Может, мы говорим о разных вещах?
— Возможно, возникла ошибка. Пардон. Вы он или она?
— Он.
— Что ж вы не уточнили сразу? Грамматическое недоразумение. Переключаем. Спрашивайте.
— Да, вы мне напомнили. Со мной была она, вот что мне показалось чудом. Именно ее я хотел найти, о ней спросить.
— Ввести приметы, описания можете?
— Не уверен. Все, что я скажу, будет неточно, неправильно. Она смеялась над моими стихами.
— Ну ка, ну ка!
— Взгляд ее зелен, голос лилов Лунным светом светится кожа На губах расцветают розы. И тело ее как молитва.— Ну, это явно не то, ни с чем не сопоставляется. Рост, цвет волос, талия, грудь, бедра?
— Чьи это пальцы чья грудь, Чей язык чьи теплые губы? Чья это бьется жилка На кончиках пальцев на коже, На нежной как песня ложбинке? Мое сердце бьется в твоей груди Или твое в моей?5
Есть вещи, которые понять — плевое дело. Множество невидимых глазу пылинок движется одновременно в разные стороны: можно проследить в отдельности каждую, можно математически вывести предсказуемую кривую для всех вместе. Нетрудно объяснить категорический императив и мозговую усталость, частоту биения пульса, общественное поведение муравьев, механизм инстинктов, химию страстей и психических болезней. Разбираешь на составляющие парадоксы иррациональной логики, вникаешь в устройство бесконечно малых частиц и астрономической Вселенной — щелкаешь, как семечки, отплевываешь шелуху. Для меня простейшая азбука — работа воспринимающих датчиков и проводящих волокон, я преобразую набор сигналов во множество неудобочитаемых, но мне без труда понятных значков, замысловатые линии, хитроумные игры, с путешествиями, разгадыванием детективных загадок и сражениями, где, конечно же, оказываюсь победителем. Усилием мозговой работы я выведу формулы неопровержимых пропорций, которые будут назваться гармоническим благозвучием, совершенством и красотой. Возникшие в мозгу существа сами начнут двигаться, говорить, а я стану вы страивать на темы их выкрутасов какие нибудь умозрительные концепции — просто для собственного развлечения.
Но что происходит с простотой понимания, когда среди цветущего луга возникают вдруг легкие голоса, смех без значенья, как пение птиц, как порхание мотыльков? Нежно холмится округлостями гладко вспаханная, оживающая земля — и все это наполнено мыслью о ней. Шевелятся, поднимаются травы, наполняется напряженным гудением разогретый воздух, над цветами трепещут разноцветные запахи. В сердцевине цветка урчит, копошится мохнатый, поглощенный своим занятием шмель, брюшко его подрагивает в самозабвенной истоме, он сосет одному ему предназначенную сладость. Сладость слюны на кончике языка. Дрогнула насмешливо ресница — не более чем ресница, она прошла мимо, взглянув лишь искоса — какая же сила вдруг потянула за ней? Впору сказать о себе: ты стал сам не свой — ведь знаешь, что никакие формулы совершенства, красоты и ума тут ни при чем — и что же это значило: сам не свой?
6
— Ты на кого все оглядываешься? Потерял кого? Тут никого нет, кроме меня. И не выискивай, а то у меня нарвешься.
— Да, только ты… Разве я оглядываюсь? Если я кого-то потерял, то, может быть, в самом деле себя. Я чего-то не понимаю. Может, ты объяснишь. Что значит это странное состояние — как будто я до сих пор не существовал, понимаешь? По-настоящему не существовал. Не ощущал себя. И вот возникаю, оживаю снова и снова.
— Ну, я бы назвала это попроще. Сказать? Дай ушко… Да ты что, до сих пор стеснительный, что ли?.. Ну обсмеешься! Хотя слова умеешь находить действительно необычные. Лучше моих, мне нравится.
— Нет, я главного не могу объяснить. С тех пор как появилась ты, мне иногда кажется, что даже мысли свои я вывожу… или, лучше сказать, порождаю не совсем сам. Я не могу считать их совсем своими, вот в чем недоумение. Раньше такого не было, сами по себе они не могли бы возникнуть. Откуда?
— Дурачок! Не надо себя так недооценивать. Я то тебе цену знаю. Ты меня восхищаешь. Иди лучше сюда… ну, не так, поближе.
— Подожди, подожди… надо все таки что-то решить. Это ведь на самом деле не так просто — подтверждать свое существование. Не получается прежнего простого спокойствия, это иногда мучительно… Такие возникают сомнения, мысли. Сплошное посрамление математики: пока ты один, тебя, оказывается, не хватает для целого, когда вас двое, каждый в отдельности оказывается больше, чем один. Может, так называемому мозгу прежде не полагалось чего-то знать? Мир внутри него так велик и разнообразен, но разве можно представить мысль, которая выходит за пределы этого мозга и включает в себя сам мозг? Начинаешь думать: может, это входило в чей то неизвестный тебе замысел? Ты для этого кому то на самом деле и был нужен — как инструмент, что ли? Как модель. Чтобы испробовать, приоткрывать, объяснять что-то, другим способом недоступное?..
— Ну, ты меня так совсем достанешь. Утихомирься же, успокойся. Хватит. Говоришь, я с тобой, — кого же тебе еще нужно? Если до чего еще не дошел, дойдешь. Сам дойдешь. При твоих-то способностях. А нужно будет, я подведу, направлю. Вот так хорошо? Тебе надо просто отдохнуть, подкрепиться. Хочешь яблочка?
7
Если вы сочтете это за бунт — что я могу возразить? Таиться от вас бесполезно, я знаю. Но раз такие мысли возникают независимо от желания — есть ли способ их подавить, отменить? Ничего не поделаешь. Утраченной простоты не вернуть, оглядывайся, не оглядывайся. Ее ведь тоже не я придумал — кого винить? Что вообще значит винить или благодарить, если и это все заложено было в программу, мне до конца недоступную? Даже сомнение в том, что существуете вы? Вы, вы, не считайте это за оговорку, от мыслей действительно не откажешься, что крутить? В своем существовании я теперь не могу сомневаться. Она не даст, вот ведь как. Может быть, мне — мне — понадобилось вас вообразить, сконструировать внутри ограниченного ума, чтобы объяснить иначе необъяснимое? Как, скажем, нужно бывает ввести мнимую величину, что бы найти решение — а потом за ненадобностью ее от бросить…
Почему вы не откликаетесь? За такие слова можно меня и отключить немедленным нажатием клавиши. А может, что то похожее со мной уже было? Перестаешь себя осознавать, ощущать — и который раз оглядываешься, ошеломленный, словно впервые? Вы лучше меня знаете, о чем я. Мне только и остается повторять про себя: значит, и это было ему нужно. Только прежнее сомнение уже наготове: кто кому, да? Кто от кого ждет объяснения? Наблюдает сейчас с неизвестных высот за двумя дураками — и, может, ухмыляется удовлетворенно в просторную бороду. Зачем-то нужно и это изумление, и страх, и восторг, и заложенная в условие неудовлетворенность, вечное томление и невозможность его понять. Даже этот мой безнадежный бунт? И обреченность — о, это я знаю, этого не опровергнешь. Но пока мы еще для чего-то оставлены, пока мне еще можно быть с ней — я готов бормотать, как дурак, свои глупости — ей же нравится, и она мне отзовется. Вот же… вот ее голос…
8
— Мы еще не видим друг друга, Но нас тянет, издалека тянет, Поднимает над землей, невесомых, И не надо искать направленья. — Ягода розовая, с пупырышками, Твердеет, томится в моих губах, Сейчас брызнет мне на язык соком. Не сорваться бы раньше времени! — Я вскарабкиваюсь на дерево, Обвив его руками, Обхватив его бедрами, Сомкнув вокруг него ноги, Все выше и выше. Не сорваться бы раньше времени. — Повторяется снова и снова Изо дня в день, из ночи в ночь, год за годом, Мы тянемся к успокоению, как к концу, Набухает полнота и ясность: Вот оно, вот! Уже совсем близко! Перехватывает дыхание, Растекается соком время, И срываешься с той же вершины, И летишь, исчезая в восторге, В невесомости без верха и низа.Песчинки между страниц
1
«Кто спит там рядом в тени куста? Прожилки листьев черны на просвет, вздымаются травы, как стоячий лес с чешуей на стволах, цветы распускаются в вышине лепестками круглыми, длинными и заостренными. Красный выпуклый жук блестит, как громадная капля. Из-за стволов и стеблей, из-за темной и светлой листвы осторожно смотрят на спящих детские лица зверей. Зелень нежными тенями овевает нагие тела, кузнечик перепрыгивает с живота на живот — сухой карлик с удивленным узким личиком».
2
— Ты про кого читаешь?
— Про нас с тобой. А что, разве не про нас?.. Смотри, тут между страниц застряли песчинки. У, сколько их! Все возникают откуда то, до сих пор. Не узнаешь?
— Как можно узнать песчинки?
— Мы их разглядывали когда-то на берегу. Светлые — это кварц, вот крупицы, которые я назвал базальтом… а вот эти, сине белые: мы не сразу сообрази ли, что за двухцветный минерал, помнишь? Размельченные до песка ракушки.
3
Доисторический ландшафт: отблескивающие на солнце глыбы покрывают безжизненную планету, синий мировой океан сияет под еще более синим небом. Но вот среди безжизненной породы появляется громадное животное на шести угловатых лапах, с перехваченной середкой туловища и полосатым задом, карабкается на гору, сваливается, одолевает с третьей попытки — движется дальше к своей неизвестной цели.
4
Насекомое, еще безымянное, ползло по песку, свежие водоросли выброшены были на берег, светло зеленые и темно-зеленые среди уже высохших, бело-желтых, лиловых, черных. Слизистые мягкие твари вырабатывали, выращивали из своего вещества твердые скорлупки, а время размалывало их в песчинки, складывало из них камни, окрестные холмы — омертвелая твердая порода возникала из живой мякоти.
5
— Неужели туда нельзя больше вернуться?
— Ты же знаешь, там теперь закрытая зона.
— Говорят, если постараться, можно раздобыть пропуск.
— Экскурсия для избранных и допущенных, как ты это себе представляешь? Водят любопытных, показывают наши места. Вот дорожка, по которой они ходили, следов на песке уже не осталось. Вот сад, деревья пришлось, конечно, подсадить новые, старые уже тогда засыхали. Но в музее вы можете увидеть очень похожее изображение замечательной яблони, там же муляж одного из плодов в натуральную величину.
— И кто нибудь станет сочинять им такой бред?
— Я. На текстах для путеводителя можно заработать неплохо. Бизнес, как теперь говорят. Экскурсантам должно нравиться. Ах! так и щелкают аппаратами.
— Ты бы написал лучше, как к нам притопывали каждый вечер три ежика, прямо к миске для кошек. Кошки их прослеживали, но не трогали.
— Думаешь, это может быть другим интересно? Наше — только для нас. Нет, посмотрите лучше картину рядом. То же дерево, под ним она. Яблоко висит высоко, она тянется к нему на цыпочках, не может сразу достать — и не очень старается, вы присмотритесь к ее движению. Когда рука так поднята, особенно красиво приподнимается грудь — о! она это знает и не спешит изменить позу, тайком косит взгляд: вдруг он на меня любуется?
— Кто? Ты, что ли?
— Я не о себе.
— Но там никого не было, кроме нас.
— Как будто не знаешь.
— Ты про кого?… Господи! Да я же его всего раз другой видела. Он где то у себя жил, нам разрешил всем пользоваться, сам на глаза не показывался. Такой деликатный, и борода такая седая, красивая. Как ты можешь о нем говорить?
— Я и не говорю о нем. Я только о тебе.
— Постой, так ты все таки ревновал? Вот оно что! Наконец проговорился. А я-то думала: почему он вдруг так заспешил отсюда? Да еще причины придумывал… просто придумывал, я чувствовала.
— Ну вот, догадалась.
— Ты что, всерьез?
— А ты?
— Меня сбивает с толку твой юмор. Если это юмор. Я не всегда могу понять, шутишь ты или нет.
— Если б я сам всегда мог различить! Не слушай мою болтовню. Хотел обернуть что-то в шутку, но вдруг так ясно вспомнил… увидел тебя с яблоком в руке, твою улыбку, когда ты на меня посмотрела… Защемило вот тут…
6
Давно ли это было? Время еще не начинало отсчет, слова еще не найдены или не созданы. Неизвестный чужой человек стоит перед тобой, что-то в тебе еще сопротивляется сознанию, что сейчас он войдет, неумолимо войдет в твое существование, и ты его впустишь — позволишь собой овладеть. Хочешь этого или боишься? Страх утраты, через который надо пройти, чтоб от него освободиться, страх потерять еще не найденное, страх неизвестности, которую надо будет теперь называть жизнью.
7
Уходить никто на самом деле не заставлял — невозможно было остаться навсегда в неразбуженном не-времени, где дни слипаются, неотличимые один от другого, где возможностей больше, чем желаний, а на последних страницах залежалых журналов предлагают себя заранее разгаданные кроссворды. Вдруг затикали не существовавшие прежде часы. Только что поднималась к небу напряженная плоть агав — глядишь, отмерла, увяла. И с еще неясным чувством присматриваешься к отражению: не морщинки ли начали появляться около глаз?
8
Полустертая фреска на стене запущенной церкви. Чем больше осыпается изображение, тем больше можно в нем обнаружить. Он и она уходят из сада. Среди зелени светятся круглые, набухшие соком плоды. Нагие тела еще молоды. У него худое вытяну тое лицо, незрелая бородка, на выпирающем кадыке заметны юношеские прыщи. Встревоженный, ожидающий взгляд устремлен вперед. Она оглядывается прощально. Левая рука прикрывает стыдливо грудь. Нежный белый живот чуть выпячен. А лицо не выражает ни сожаления, ни отчаяния, улыбка понимающего превосходства чудится в уголке губ — может быть, потому, что рисунок их нарушен едва заметной случайной трещиной — предполагал ли ее худож ник?
9
О ком это? О нас, все о нас. О безнадежности всякой попытки запомнить, запечатлеть, навсегда унести с собой — вернуться будет все равно невозможно. Перебирай потом, если захочешь, цветные глянцевые фотографии. Потускнели засушенные в книге цветы — фотографии не выцветут долго. Они охотно подменят нестойкие воспоминания, очистят их от мешавшей когда-то пыли, потной духоты, докучливой мошкары. Местные жители готовы поддакивать восторгам приезжих — они сами бы не прочь перебраться отсюда куда-нибудь, где хоть вода по трубам течет каждый день для всех, даже горячая. Но не расхолаживать же туристов. Их восторгами кормимся.
10
Никуда невозможно вернуться — только попадать заново: каждый раз заново. Фреска в церкви: двое стран ников смотрят на купола, вскинув вверх острые подбородки. Тесные домишки лепятся на взгорке вокруг, сады уже пожелтели, яблоки почти все убраны. Набухает влагой темное облако, светится белая шатровая колокольня. Она любила рисовать эту церковь, яблоневые сады вокруг. Неподалеку играли в футбол мальчишки, он смотрел на них, покусывая травинку, потом отбил подлетевший мяч и попробовал войти в игру, но порвался ремешок на сандалии.
11
Неустроенность первых лет, жизнь по чужим углам. Она штопает под лампой чулок, распялив на пальцах тонкую паутинку, щурит утомленно глаза. Он за столом пришивает к сандалии ремешок. Все в этой жизни требовало постоянной починки, нуждалось в возобновлении. Зеркало платяного шкафа, повернувшись на скрипнувшей дверце, приближало сидящих друг к другу. Чужая убогая мебель, чужие запахи, от которых каждый раз надо было избавляться, изгонять из запыленных углов, отмывать, отскребывать с полов. Но прежде всего надо было исполнить священнодействие, только и делавшее жилье действительно своим.
12
Из за простенка слева появлялась круглая сияющая луна, продвигалась за окном с востока на запад. Она ее не могла видеть, потому что смотрела на него снизу. Ни в одном зеркале она не могла бы увидеть себя, как видел ее он. Тело залито лунным светом и светилось само, светилась нежная земля вокруг, светились округлые холмы. Луна успевала пройти мимо окна и скрыться за правым простенком, ей предстоял путь дальше, туда, где бронзовые боги, занесенные слоями почвы, мусора и опавших листьев, изливали в землю свое семя.
13
«Знал бы я, что эти боги сейчас ценятся, — сокрушался за выпивкой хозяин, отставной майор неизвестных войск. Плату за комнату он брал вперед и сразу начинал ее пропивать. Он, кажется, пустил бы их и вовсе без платы, за одну выпивку и возможность поговорить — разговоры всего трудней было выдерживать. — Я их из Монголии привез, там был такой монастырь, его еще до нас раскурочили. Один простой бог и два порнографических. Жена не разрешила оставить, я их за огородом в овраг выбросил. Не здесь, если бы здесь! В Америке теперь за них, говорят, большие деньги дают».
14
Громадная, во всю стену карта на холщовой бумаге волновалась, когда снаружи завывал ветер. Она закрывала щели, помогала дощатой стене загораживать от непогоды — на что еще другое она годилась? — довоенная (до какой войны?) политическая карта Европы. Разноцветные пятна, недостоверные контуры переменчивых, выцветающих государств. Но на ней можно было отметить перепончатую полоску железнодорожных путей, по которым их мчал когда-то, покачивая, вагон, из Азии через Урал. Редкие заоконные огни коротко озаряли купе и гасли, отсчитывая не время, а расстояние (сколько же сантиметров?), названия промелькнувших станций остались непрочитанными — лишь оторвавшись наконец друг от друга, они выглянули в окно и обнаружили, что оказались в Европе.
15
Молочный рассветный туман, панорама, вырезанная из рядов картона: внизу общая для всех белизна, но чем ближе к вершинам деревьев, крыш, колоколен, тем больше каждый отдельный план становился темней, наливался плотными очертаниями. И лишь отсвет начавшего восходить солнца позволял угадывать сквозь дымку гладь невидимого озера за домами.
16
— Помнишь, мы там думали: жить бы так все время друг с дружкой, не отрываясь.
— Ну, может, только иногда. Там ведь тоже все-таки приходилось. Так мы почему-то оказались устроены.
— Особенно я.
— И надо же было восстанавливать силы.
— Особенно тебе.
— Поесть.
— Приготовить еду.
— А сходить за продуктами?
— О-о, еще и это! И постоять, как положено, в очередях… Ужасно. Ужасно, как надолго приходилось оказываться врозь. Тратить жизнь невесть на что.
— О работе сейчас вспоминать не будем?
— Работа — это что! Но знал бы ты, например, как у того майора нужно было каждый день мыть сортир во дворе. Самой вымыться — и то бывала проблема. Ты ведь многого просто не замечал, как я.
— Нашла сейчас что перебирать! Мало ли что намешалось в жизни. Оттуда она, конечно, представлялась иначе.
— Ты прав, не надо об этом. Ведь можно считать наоборот: мы прожили именно вместе, как думали. Только иногда разрывались.
— Отрывались.
— Да, лучше сказать так. Разрыв — это было ужасно.
— Ты о чем?
— Ни о чем.
— И не надо. Не о чем.
17
Почему вдруг сорвалось совсем ненужное слово? Надо бы давно выбросить его из памяти, сдуть, как постороннюю пыль. Так мы почему-то устроены: все время вместе, бывает, просто не выдержать, надо же иногда побыть в одиночестве. Возникать, когда этого захочется другому, а потом спокойненько, без обид, по желанию, исчезать — ведь может же хотеться одновременно, так прежде обычно и было. Но если вдруг перестает совпадать время? Тоже, считай, поправимо, понять бы только причину. «У тебя что нибудь случилось? — допытывалась она. — Неприятности на работе? Почему ты не хочешь мне объяснить? Я мешаю тебе своими приставаниями? Да скажи наконец!» Угрюмое молчание было всего тягостней, объясняться не позволяла гордость — и верно ли было назвать причиной всего лишь дуновение ветра, тревожную рябь на воде?
18
Налетевший ветерок передернул, исказил, раздробил ровное отражение. Над рекой показались три утки. Вытянутые в прямую линию шеи, слаженный взмах крыльев, одинаковая напряженность летящих тел. Они приблизились, и стало ясней видно, что утка одна, двое других — селезни. Одному не нашлось самочки. Обычное дело, у них тоже. Почему парочке было сразу не отогнать третьего?.. Тот художник ни на что особенно и не претендовал. Таким показался неустроенным, бесприютным, и улыбка такая неуверенная, смущенная, благодарная. Перед такими неплохо бывает ощутить собственное превосходство — сам же его, помнится, пригласил зайти. Это она вначале повела плечом: зачем ты его привел? Но он так искренне — и неглупо — восхитился ее работами, так растаял в тепле семейного дома: можно ли было прогонять заходившего просто погреться, на огонек?
19
Он не угощенья искал — сам всегда что нибудь приносил, и подарок ей сразу всучил недешевый: папку итальянской акварельной бумаги. Уверял, что ему это досталось бесплатно и самому не нужно, он работал в других материалах. Как-то даже подарил свое произведение: нечто, названное «Адам и Ева». Полуметровой высоты композиция (или это теперь полагалось называть инсталляцией?) была составлена из раскрашенных деревянных катушек, нанизанных на капроновую леску. Их разнообразные изгибы вызывали почему-то мысль о болезненном позвоночнике; неприятно действовало даже название. Но правильней было, конечно, признать, что ты этого искусства просто не понимаешь. Ей показалось даже забавно — только бы еще куда нибудь запихнуть громоздкое сооружение, чтобы не натыкаться на него все время.
20
Нет, возраставшую без причины неприязнь следовало считать несправедливой — не доискиваться же всерьез до причин. Что в нем могло раздражать? Приросшие мочки ушей? Хрустящие пальцы? Гладкие волосы, собранные сзади в пучок резинкой и вызывавшие сравнение с попом… несправедливо, не справедливо. Несправедливой бывает неприязнь к чужому — гордость не позволяла признаваться себе в большем. Но ей же надо было найти объяснение нараставшей молчаливой угрюмости. «У тебя лицо бывает совсем чужое, почти враждебное. Я тебе, что ли, вообще надоела?» Почему было просто не сказать о своей ревности? Обидней, когда тебя не ревнуют. И чего стоила эта великодушная готовность оставлять их наедине? Гордость все только усугубляла. «Человеку бывает надо побыть одному». Только и всего. «Ну и оставайся один», — хлопнула она дверью.
21
Пока двое еще друг для друга не существовали, это было просто называть одиночеством. Мысли и чувства безвыходно толкутся внутри все того же круга, не могут найти разрешения, разрядиться. Для разрешения нужен другой. Некуда приткнуться, особенно по ночам. Не прогреется холодная, скомканная, неудобная простыня. Тело корчится, не может устроиться, чего то ищет. Но когда все существо ноет, ощущая себя местом разрыва, и не закроется, не засохнет сукровица!.. — нет, это было что-то другое. И все чувствительней затрудняла дыхание мерзкая тяжесть, которая в старину не зря называлась жабой — грудной жабой.
22
Непридуманная, всамделишная болезнь — вот что надо было считать объяснением и разрешением. Чем оборачивается в жизни всего лишь смущение воздуха! Отражение взволновалось, передернулось рябью — не более. Лопнула ерундовая жилка, позвоночные чужие катушки рассыпались, раскатились по полу — никому уже не вспомнить, во что их можно составить. Да и зачем? Только вымести. Зато впервые ощущаешь, каким бесполезным, бессильным, жалким может быть привычное тело, — и перестаешь даже его стыдиться.
23
Это тело принадлежало ей, как никогда прежде. Ласка и нежность были в ее прикосновениях, когда она освобождала кожу от липкого выпота, обмывала теплой губкой живот, грудь, подсовывала под одеяло утку и уносила судно с выделениями бедной никчемной плоти. Никогда он так не ощущал ее присутствия. Врачи разрешили ей ночевать на пустовавшей койке. Персонала там недоставало, она помогала ухаживать и за другими. Больничные запахи стали привычней свежего воздуха, выходить случалось лишь иногда, за продуктами или покурить ненадолго — прежде она не курила так много.
24
В больнице они были вместе. Болезнью стало казаться что то происшедшее прежде — они выздоравливали оба. Соединение лишь начинается встречей — оно может, оказывается, растянуться на целую жизнь, как непрестанное рождение нового, совместного существа, когда все не умножается на два, но возводится в степень, прежде неизвестную, недоступную. Становятся другими тела — до сих пор, оказывается, не вполне открытые, не узнанные. Каждый день, каждую ночь удивляетесь друг другу заново, узнаете и не узнаете, и слова, прежде казавшиеся неприличными, щекочут ласково слух.
25
Он любил смотреть на нее, спящую. Губы полуоткрыты, на нижней засохла корочка. Напряжена голубая жилка на шее, вздрагивают ресницы, потревоженные дуновением, из которого сотканы сны. Пробегают по лицу тени — тени облаков в небе. Ветер, ожив, сдувает пену с гребешков волн, воздух над ними полон солнечных брызг. Неподалеку только что резвились дельфины, глянцевые черные тела изгибались пружинисто над водой, двое кружили друг возле друга, подражая дельфинам, подныривали, переворачивались на спину, отфыркивались.
26
Отчего она, бывало, так вскрикивала, еще не вполне проснувшись? Смотрела на него с испугом, не совсем веря. Вот же он. Неужели такое возможно взаправду, все время, и уже не отменится?.. Надо было только снова встретиться в том же сне. Так незаметно их разнесло течением. Плыть против прибоя трудно, только кажется, что продвигаешься вперед, преодолеваешь волну за волной, на самом деле остаешься на том же месте, не можешь приблизиться к берегу, где однажды его встретила.
27
Продавливается под ногами вязкий песок, не пускает. Каждый шаг дается безнадежным усилием — движешься или не движешься? Против солнца силуэты играющих вдалеке детей: тонкие ручки, тонкие ножки, большие головы — как схематические фигурки, которые мы рисовали в детстве. Все новые люди попадаются навстречу, оглядываются ненадолго, проходят мимо… Господи, ты ведь голая, забыла даже одеться, и ничего уже не поделаешь, одежка осталась там где то. Да не особенно вроде и обращают внимание, даже мужчины… или делают вид, что ты им не интересна? Время, может быть, приучило. Даже подростки пишут теперь на стенах не то, что прежде. И сама, пожалуй, не помнишь, как прежде, своего тела. Он бы напомнил… с ним бы вы вернулись туда. Где он?
28
Где чистый, омытый водой песок прежнего берега? Хлюпает помойная жижа, слизистыми пузырями продавливается между пальцами ног. Накопившиеся многолетние стоки проступают сквозь поры на поверхность земли. Плывут, покачиваясь, по черным зловонным ручьям комья жира, кровавые клочья, рыбьи пузыри, потроха, похожие на мелкие виноградины. Ну что ж, не отворачиваться же. Столько сама в жизни возилась с этими потрохами, выковыривала пальцами, отрезала плеву от мяса, разделывала, рассчитывала, как бы все пустить в дело, не выбросить лишнего, а потом еще убедить детей и мужа, что сама больше всего любишь в курице шейку да спинку (усмехаясь про себя над одинаковым, что было в мужчинах и детях).
29
Смутно знакомая, раздутая в ширину баба подманивает к себе пальцем, похожим на негнущуюся сосиску, поднимает многозначительно толстую бровь: иди сюда, что скажу. Ты ведь мужика ищешь, я знаю? Сказать про него, где он?.. что делает? Чего опустила взгляд и коленки сжала? Как будто не хочешь узнать?.. Нет, она знакома не по кино, это вроде соседка. (Недаром всю жизнь боялась пускать соседок в свои сны.) С какой-то снисходительной гадливостью она любила толковать о мужиках — как о чужеродных насекомых с волосатыми сухими брюшками, которым лишь бы присосаться, опуститься на просторное белое тело, а надо зачем-то их принимать, без этого тоже нельзя. Вот, опять словно что-то слизывала языком с распухшей губы, подмигивала с издевкой. Присела вдруг над канавой, вскинув сзади подол. Из под подола, между белых колонноподобных ляжек стали вываливаться прямо в жижу крупные, слизистые, полупрозрачные, свернутые запятой головастики.
30
Бесчисленные существа, извергнутые в непонятную жизнь, плывут, покачиваясь, по темным водам, и жизнь принимает их, баюкает, переиначивает по пути — какое ей дело до стыда и бесстыдства? Все новые тела нарождаются из века в век, растут, наливаются мякотью, обретают прелестные очертания. Сколько людей успело пройти мимо, не задержавшись даже в памяти. Мальчик обхватил ноги матери, прижался щекой к юбке, смотрит расширенными, испуганными, ожидающими зрачками. Куда все движутся, каждый поодиночке? — и надо теперь пробиваться сквозь густую толпу. Вот же он, наконец, делает издалека рукой знак над головами: ты меня видишь? Как нам теперь сойтись, встретиться?
31
Смотри, — показываешь ему беззвучно, на расстоянии, — смотри, как делаю я. Чтобы сойтись, надо попасть в общий ритм, как в танце. Ты помнишь? Я же тебя учила? И у нас ведь получалось. Вот так, давай… правильно. Видишь, мы уже движемся вместе, пусть пока на отдалении друг от друга. Никто теперь не может нам помешать. Только со стороны кажется, что в этом танце каждый сам по себе — мы, как всегда, танцуем друг с другом. — Но музыка? — растерянно озирается он. — Я не слышу музыки. — Будем напевать ее для себя сами, как прежде. У всех может быть своя музыка, для двоих. Главное, чтоб совпадала. — Да. С тобой у меня получалось. Ты всегда была такая легкая. — О! Это когда было! Я же с тех пор располнела, сам видишь, и ноги не такие стройные. — Странно, чем ты больше менялась за эти годы, тем становилась красивей. Особенно ты мне нравилась с животом. И когда кормила детей грудью. Вот чему не перестаю удивляться: я все еще не привык к тебе. — А я к тебе? Мы просто меняемся вместе.
32
Можно открыть глаза. Где-то там снова слетаются чайки, подчищают берег после ушедших. Белые пятна помета на скалах с трещинами, похожими на древние письмена. На замшелом валуне поднялась трава, каменное вещество проросло мелкими корешками и вконец рассыпается, рассасывается, переходит в состав сочных стеблей, поднимается выше, расправляется, радуясь влаге и теплу солнца. Общая тень еще соединяет два тела. Вода после заката продолжает светиться между темных берегов собственным внутренним светом, потом постепенно гаснет. Песчинки давнего берега забились между страниц книги — сколько их, оказывается, сохранилось, не сдутых ветром, не вытряхнутых. Их как будто становится даже больше — они возникают невесть откуда, забытые, не замеченные прежде, сколько ни открываешь заново ту же книгу, сколько ни перечитываешь.
Дух Пушкина
Уже ощущая в семье напряженность, Инна Петровна вовсе не спешила становиться на сторону дочери. Зять Игорь казался ей в каком-то смысле существом более уязвимым и беззащитным, несмотря на мужественную внешность. Этакий рослый, спортивно сложенный брюнет. Хотя и в очках. Но не в очках дело. Когда тридцать лет проработаешь гинекологом, баб поневоле воспринимаешь трезвей, если не сказать: циничней. Впрочем, циничной не ей было себя считать. Раньше пятнадцатилетняя девочка ложилась на аборт, так на нее приходили посмотреть и персонал, и из других палат. А теперь — ну что рассказывать! Женщины, при всех своих сентиментальных сюсюканьях, всегда больше мужчин знали о делах телесных. А нынешние — так вообще, наверное, с детского сада.
Как-то в газете Инна Петровна прочла интервью знаменитой кинозвезды. Красотка объясняла, что ей нужен ежедневный оргазм, это полезно для кожи. То есть мужчины — это приспособления для удовольствия и для косметических целей. (И, соответственно, наоборот.) С возрастом не совсем отчетливо помнишь себя прежнюю, но даже при своем медицинском профиле думать так Инна Петровна все-таки не умела.
Среди множества ее давнишних ухажеров был один коллега-патологоанатом, считавший нужным разоблачать перед дамой подоплеку всяческих сантиментов. «Ее глаза, как два тумана», ах! Знаешь эти стихи? А я могу тебе для наглядности показать эти туманы: два слизистых белесых шара со сплетением кровяных жил на одной стороне и темным кружком на другом. «О веки, преддверие влажного счастья!» Это о простых кожистых пленках, которые натягиваются на глазные шары, чтобы прикрывать их и смачивать». Он мог так со смаком перебирать все органы, жившие своей скрытой, но вполне описуемой жизнью. Мешки, трубки, пленки из соединительной, мышечной, слизи стой ткани, они выделяют соки, реагируют на поступление веществ и внешние раздражители. «Вот, посмотри, — все больше входил он во вкус философствования, — кто это сейчас прогуливается мимо нас по улице? Если не просто взглянуть, а, как я говорю, в суть вникнуть? Яйцеклетки, ты же не станешь отрицать. Ну, конечно, соблазнительно упакованные, оформленные, благоухающие. В них, в этих самых клеточках, и заключена основа, программа биологического продолжения жизни, а сколько вокруг наворочено! И вперемешку с ними — вон, естественно, семенники. Тоже оснащенные ногами и прочими причиндалами. Оформленные, можно сказать, в виде произведений. Хотя, допустим, и не такие эффектные. Скорей, я бы сказал, невзрачные. Волосатые, мятые, прыщеватые. А ноздри то, ноздри у тех и других — я имею в виду, у носителей — подрагивают. Они ведь ищут друг друга, сближаются, подбираются. И попутно происходит, смешно сказать, все, что называется человеческой жизнью. Со всеми этими страстями, историей, поэзией. Можешь себе представить?»…
Не то чтобы Инна Петровна внутренне такому взгляду сопротивлялась, нет. Она сама умела мыслить натурально и могла бы кое что выразить в том же духе. Нов чужом исполнении это как то не вызывало у нее восторга. Хотя она готова была отдать должное неординарному резкому уму. И специалист он, говорят, был первоклассный. А может, просто не очень вдохновляли ее поцелуи с бородатым медиком. Пока пробьешься к губам сквозь раздражающую жесткую волосню, к тому же густо пропахшую резким табаком, а потом еще какой-то волосок почувствуешь прилипшим на языке, приходится его снимать пальцами… Нет, да и не в этом было дело. Просто ничего у нее с ним не получилось. Как не получилось по разным причинам со всеми другими, в том числе безбородыми, так что жить она осталась одна со своей Любой, но речь в конце концов не об этом.
Речь о том, что зять Игорь казался ей иногда каким-то не вполне, что ли, реалистом — по нынешним временам. Хотя и был он уже доктор наук, вообще взлететь сумел, как положено. Даже трогательно, как удалось ему сохранить юношеское качество чувств в своей сибирской провинции, где-то под Омском. Просто, наверно, пересидел незатронутым самые ломкие годы в лесном интернате для особо одаренных физико-математиков. Однако при этом вымахал в полный рост, имел разряд по волейболу, главное же, проявил, должно быть, действительно незаурядный талант в своей области — раз его в виде исключения пригласили на должность в престижный московский институт. И жильем при этом обеспечили, для начала, правда, в холостяцком общежитии, но квартиру обещали в перспективе вполне реальной, хотя и не самой близкой. Тогда наука была еще в почете и возможностями обладала. Не получил он квартиру только потому, что уже поселился у Любы. То есть у Инны Петровны. Жилплощади у них, слава богу, хватало с запасом. Старинная профессорская квартира, просторной планировки, молодоженам не обязательно было искать обособления в другом месте. Хотя Инна Петров на тогда еще подумала, что в каком то смысле зять, пожалуй, поторопился. Не в смысле женитьбы, разумеется, а в смысле официальной прописки. Мог бы получить для себя и дополнительную жилплощадь, оставалось совсем немного подсуетиться. Современная женщина бы не отступилась, а ему, видимо, просто в голову не пришло.
Инна Петровна не стала бы утверждать, что семейная напряженность оказалась прямо связана с новой работой Любы. Девочка по знакомству сумела устроиться редактором на телевидении, в передаче, которая называлась «Пятое измерение». Туда приходили демонстрировать свои манипуляции и теории всякие колдуны, астрологи, предсказатели и вообще экстрасенсы. Всерьез слушать глубокоумные их философствования, смотреть на красивые пассы руками, на демонстрацию планетных схем и древних магических знаков, на массивные амулеты и даже полновесные цепи, украшавшие шею вместо бус, Игорь во всяком случае не мог, и обе женщины, вполне соглашаясь с ним, готовы были переключить телевизор уже после нескольких минут подобного зрелища. Но если он просто уходил к себе в комнату, поскольку сидеть у телевизора вообще не любил, они иногда смотрели «Пятое измерение», отчасти посмеиваясь. Хотя и не без интереса.
Сама-то Люба ведь к передаче имела отношение лишь служебное. При своем филологическом образовании она выполняла в редакции разную организационную работу, утрясала расписания, встречи, созванивалась, договаривалась. Ужасней всего ее допекали звонки заинтересованных или недовольных зрителей. Один неуемный псих, скажем, требовал непременной управы на экстрасенса, который с телеэкрана заряжал энергией своих рук воду, и этому зрителю так ее зарядил, что от воды у него разорвался мочевой пузырь. Можешь такое представить? — со смехом апеллировала Люба к медицинскому авторитету мамы, одновременно демонстрируя и мужу юмористическую отстраненность от собственных занятий.
Хотя, если говорить честно, медицинское образование не совсем исключало известной двусмысленности в отношении к подобным вещам. У Инны Петровны как-то случилась в жизни тягостная полоса. На работе пошли неприятность за неприятностью: конфликт с завотделением, жалоба от склочной пациентки, вдобавок лопнула отопительная труба. И ко всему еще Инна Петровна поскользнулась на гололеде, болезненно повредила руку. Хотя обошлось, слава богу, без перелома. На работу все равно требовалось ходить. Ей было невдомек, что Люба рассказала о маминых злоключениях какому-то целителю восточной школы, как раз просившемуся к ним в передачу. И тот заочно, по одним лишь календарным данным, определил, что Инна Петровна выпала, как он выразился, из космического цикла. Существовали, оказывается, простые способы вправить отдельную жизнь в подобающую колею. Люба сочла нужным передать маме его рекомендации. Как всегда, разумеется, не без юмора, но они ведь были не обременительны, в любом случае безвредны — отчего было не попробовать? Следовало, например, повторять по утрам несколько дыхательных и в то же время мыслительных упражнений, на месяц исключить из диеты молоко и — совсем уж смешно — отказаться в одежде от зеленого цвета. Чего это Инне Петровне стоило? Тем более что молока она и так не пила, а отказаться от зеленой кофточки было не такой уж большой жертвой.
Сколько угодно можно было потом самой себе повторять: смешно тут что-то связывать с дальнейшим. Рука зажила бы и так, трубы рано или поздно бы все равно починили. Но, между прочим, не только склочница утихомирилась вдруг будто бы сама собой, без видимых причин — завотделением перевели почему-то на другую работу и на ее место рекомендовали Инну Петровну. Правильней было говорить, конечно, о реальных причинах, находить любые объяснения, наконец совпадения. Это ведь как с приметами: не может же с тобой ничего на самом деле случиться лишь оттого, что дорогу тебе перебежала черная кошка. Но в глубине души едва ли не у любого из нас оседает все-таки: мало ли что? Мы ведь действительно не знаем всего в мироздании, мы не можем осознанно воспринимать своими ограниченными чувствилищами каких то потайных взаимосвязей, влияний, по современному говоря, энергий. И даже если дело не в космических силах или, там, колеях — разве не знают те же медики лучше других, как могут влиять на болезнь и здоровье воздействия не одного только материального свойства?
Ну, если уж совсем начистоту — не многие ли из нас самому Богу молятся вроде бы на всякий случай, вроде бы не веря всерьез? Но вдруг поможет, вдруг пронесет беду? Мало ли что? Когда тяжело болела, скажем, Любочка — сама Инна Петровна должна была за собой такое признать. И ведь пронесло, и не один раз помогало, вот против чего не попрешь.
— Иные вещи, допустим, лучше воспринимать, как игру, — любил демонстрировать объективность Станислав Всеволодович, он же Стас Колобов, Любочкин начальник, то есть ведущий ее программы. — Совсем без примет было бы тоже скучновато, согласитесь. Если у вас украли кошелек в трамвае, у которого сумма цифр на номере составляла тринадцать — в следующий раз это число нельзя же для себя не отметить. То есть нельзя не доверять совсем своему опыту. А в какой степени вы этому верите или не верите — вопрос другой. Главное, жизнь расцвечивается оттенками, так жить интересней.
Появление в доме этого Стаса, если оглянуться на развитие событий, наверное, и впрямь имело отношение к еще явно не обозначившейся в семье напряженности. Для Любочки сам такой визит был лестен, и не просто потому что в гости пришел непосредственный ее шеф. Он был, что ни говори, телевизионная знаменитость, человек вообще артистической элиты, его уже на улице узнавали. Слабость к таким знакомствам тоже можно было понять.
Одно время Любочка привадила к дому актера по фамилии Мячин. Не то чтобы он был особой знаменитостью, и внешностью, допустим, не так уж пленял. Росточка совсем небольшого; штаны в обтяжку, да еще при кургузом пиджачке, делали немного забавной — особенно когда смотришь сзади — его вихляющую походку. Такая походка бывает у цирковых собак, когда на них надевают штаны. Но штаны были все же по самой артистической моде, клетчатые, и пиджачок яркий, канареечный. А ко всему, повадка у него была привлекательная, живая, разговоры занятные: всегда интересные истории и сплетни из театрального закулисья, небрежные, как бы вскользь, упоминания знаменитых имен — с намеком на собственную причастность. Он мимоходом поглощал к чаю шоколадные конфеты, которые сам приносил Любе в подарок, потом, взглянув на часы, извинялся: у нас опять допоздна репетиция. Все знали, что он репетирует роль не кого-нибудь, а самого Мармеладова в спектакле «Преступление и наказание». И режиссер был какой то не простой. Недели три это длилось. Контрамарки на премьеру Мячин персонально обеспечил. Было в самом деле приятно сидеть на лучших местах, как не простым людям, да еще бесплатно. Занавес открылся, Инна Петровна, Игорь и Люба с особым нетерпением стали ожидать появления Мячина. А действие все шло и шло без Мармеладова, только имя его возникало время от времени, но как многозначительно! Вдруг за сценой раздался истошный крик: «Мармеладова раздавили!» — и Мячина выволокли наконец на сцену. То есть в буквальном смысле выволокли, по полу. Не нашлось, видно, лишнего человека, чтоб хоть придержать за ноги. Инна Петровна даже ладонями щеки сжала от болезненного сочувствия. Так он и пролежал некоторое время на сцене: лицо в кровавой краске, простонал раз-другой невнятно. Потом его уволокли назад. На этом роль его кончилась. Люба едва одолевала спазм хохота, прижав кулачки к животу. Игорь прикосновением ее сдерживал. Он был зритель вообще более благодарный, спектакль ему, как ни странно, понравился, а Мячина он склонен был даже одобрить за самоотверженность.
Нет, Стас Колобов был Мячину, что говорить, не чета. Даже внешне. Хотя, если уж на то пошло, в нижней части тела Инна Петровна у них готова была найти что то общее. То есть в сложении у Колобова была не которая непропорциональность, верхняя часть тела казалась тяжелей и крупней. Но, во-первых, эту непропорциональность почти скрывали умело подобранные, расширяющиеся у бедер брюки и фирменная, уже всенародно известная безрукавка вместо пиджака. А главное, на телеэкране то и показывали одну лишь эту верхнюю часть, в сидячем положении, и выглядел он что надо. Этакое моложавое, загорелое (разве что под легким гримом) лицо, при седой, короткой, ровно подчеркивающей лоб челочке — казалось, он даже с экрана источает аромат тонких мужских духов.
Когда они стояли рядом с Игорем, прямого сравнения, ясное дело, он не выдерживал. Хотя одной из слабостей Игоря была вообще его нелюбовь к парфюмерии. У Любы он вынужден был терпеть духи и косметику, без этого на работе она бы чувствовала себя просто неодетой. Но как-то грубовато пошутил, что предпочитает природный запах женщины. Таким нецивилизованным ноздрям, надо понять, дополнительных приманок не требовалось, и Люба ни в каком смысле не могла на него пожаловаться. При мелких расхождениях во вкусе, он ее такой устраивал.
Колобов же этот сам всячески демонстрировал, что напросился в гости отнюдь не из интереса к своей подчиненной, он давно хотел познакомиться с доктором наук, о котором оказался наслышан. И словно в подтверждение привел с собой сразу двух сотрудниц. Одну звали Белла, это была на вид простоватая толстушка, при своей комплекции затянувшая на себе платье таким неосмотрительным количеством тесемочек, что у нее в разных местах выпирали груди. Другая, Соня, явно выглядела поумней, хотя весь вечер молчала, покуривая. У нее было треугольное личико эльфа с красноватым кончиком носа; набухшие, как будто сонливые веки слегка прикрывали выпуклые глаза. Колобов сразу по-свойски предложил называть себя просто Стасом, получив взамен право и доктора наук называть просто Игорем. Ему интересно было получить для своей программы какие-то комментарии по электронной части.
— Я ведь сам ни в чем не специалист, — говорил он, откинувшись на спинку стула с рюмкой принесенного им же виски в руке. В интонации его был тот оттенок мягкой иронии к самому себе, который не мог не нравиться в его передачах: он держался раскованно и без нажима, помогая высказаться другим и как бы демонстрируя собственную непредвзятость, неосведомленность. Просто интересовался от имени многих, а диапазон этих интересов был широк. — Но мне ведь показывали эффекты, регистрируемые действительно объективными приборами. Сидит этот самый маг или экстрасенс, ничего не делает, только напрягает что-то внутри, может быть, в мозгу, бес его знает, не берусь комментировать — и стрелочки начинают вдруг дергаться, а на экране ровные волны дают необъяснимый всплеск. Это без всяких дураков, без жульничества, без передергиваний, я собственными глазами видел. И ваши же электронщики говорят, что достоверных утверждений или опровержений у них нет, тут нужно приспособить более тонкую аппаратуру, продумать другую методику. Упоминали, между прочим, и ваше имя: ваши работы, мол, в наиболее близкой области. А вы могли бы что нибудь объяснить?
Игорь, однако, не демонстрировал никакой охоты к увлекательному разговору. Он лишь усмехался слабо, покачивая наклоненной головой и как бы потирая при этом лоб о пальцы.
— На дисплеях всегда какие-нибудь кривые дергаются… Особенно если кому-то хочется показать фокусы, — не удержался он все же от комментария.
— Кого вы имеете в виду? — оживился Колобов. — Этих самых экстрасенсов или, может, своих коллег?
— Я их не особенно знаю, — ответил Игорь уклончиво.
Соня смотрела на него с молчаливым интересом, вы пуская из губ дым. Но толстушка Белла все-таки вставила:
— Кибернетику тоже объявили когда-то лженаукой. И генетиков преследовали.
Игорь не то чтобы сильней качнул головой, но точно попытался замаскировать скрытно занывшую зубную боль. Стас уловил эту реакцию и дипломатично постарался уйти от темы.
— Во всяком случае, мы не будем вводить цензуру, не правда ли?
— Боюсь, цензура начнется скорей для других, — хмыкнул Игорь не без угрюмства.
Люба переводила встревоженный взгляд с одного на другого, словно опасалась напряженности и даже ссоры. Она ожидала другого разговора и не понимала угрюмой мрачности мужа.
Между тем для такой мрачности у Игоря и без экстрасенсов было достаточно причин. Инна Петровна вполне могла представить положение в его институте — да разве только в одном институте? Известно было, как унизительно нищала наука. Сотрудникам переставали платить даже мизерную зарплату, сам Игорь занимался уже не столько научной работой, сколько выбиванием денег, попытками сохранить отдел, лабораторию. О закупке аппаратуры нечего было и говорить, но один за другим кто-то от него уже уходил — на другие хлеба, а то и вовсе куда-нибудь на Запад. Ребята ведь были все головастые, хотя в общении, может, и выглядели скучновато. Они приходили когда-то в гости, за столом, как положено, выпивали, анекдоты рассказывали, с женщинами любезничали, и Люба отдавала им, разумеется, должное — при их-то званиях! Но по-человечески была в них для нее не то чтобы какая-то суховатость, но недостаточность, что ли. Не умели они произвести такого впечатления, как тот же хотя бы Мячин.
К Игорю это, естественно, не относилось. Хотя он сам был в компании человек не многоречивый, но Люба в этом смысле вполне его компенсировала. Она шутя говорила, что с этим человеком совершенно невозможно поссориться — такой он был терпимый к любым женским взбрыкам, так умел мягко свести все к ерунде. Об умственных его достоинствах излишне ведь было и поминать. Люба не зря любила его демонстрировать знакомым — такой человек! Не говоря уже о том, что он в нее до сих пор был влюблен совершенно по-юношески. Но вот теперь он пропадал неизвестно где допоздна, приходил совсем посеревший, от расспросов отмахивался — видимо, не очень хотел рассказывать, с каких приработков приносил домой свои деньги.
Мужское его самолюбие наверняка было в немалой степени уязвлено тем, что деньги-то эти были мизерны рядом с Любочкиным заработком. Получалось, что теперь она (не считая матери) кормит семью, и очень даже неплохо. Посвящать его в подробности тоже было не обязательно, но Инна Петровна, в общем-то, могла сама догадаться, что помимо официальных поступлений перепадали ей и добавки полуофициальные. Ведь колдуны эти и астрологи в их передачу наверняка рвались, отталкивая друг друга локтями. Лучшей рекламы нельзя было вообразить. А реклама всегда стоила денег, и любые деньги окупались десятерицей: после каждого появления на экране клиентура их разрасталась взрывообразно. В подоплеку денежных колобовских дел Люба сама вникать не собиралась, ей достаточно было сознавать, что она получает естественные премиальные наравне с другими.
Насчет полного равенства она сама перед собой, допустим, отчасти лукавила. Не всем ведь в редакции достался однажды в виде премии не много не мало японский видеомагнитофон фирмы «Сони». Эта игрушка впервые вызвала у Игоря откровенно неприязненную реакцию. И не просто, наверное, потому, что он к этой технике никакого влечения не испытывал. В пору, когда это был еще редкий предмет роскоши, Люба повела его как-то к знакомым посмотреть пикантный, как оказалось, фильм. То есть, насколько могла понять Инна Петровна, что-то из разряда более чем просто эротики. Вернувшись, Люба со смешком рассказывала о полном безразличии мужа к подобным картинкам.
«Ну показали бы они нам что-нибудь, до чего мы сами не додумались, — словно оправдываясь, разводил руками Игорь. — Не нужны же тебе наглядные пособия». И Люба довольно щурилась, как бы молчаливо признавая, что в возбуждающих средствах муж ее во всяком случае не нуждается.
Тут же неприязненная реакция вызвана была, пожалуй, скорей неявным подтекстом.
— Это за что дают такие подарки? — спросил Игорь, не позаботясь о форме вопроса. Может, он сам не мог бы внятно обосновать, почему спросил именно так. И Люба тут же воспользовалась возможностью для от пора.
— Что ты имеешь в виду? — вскинула она уязвленный взгляд. — Я же говорю: премия.
— И всем, что ли, такие дают?
— Какая разница, всем или не всем? Это не мое дело! Тебе что-то не нравится? Скажи прямо. Я вовсе не мечтаю смотреть какие-нибудь фильмы. Могу, если хочешь, сразу вернуть эту игрушку. Скажу, что отказываюсь. Ты хочешь?
А на глазах у нее сами собой уже набухали слезы, и чем мог Игорь ей возразить? В воздействии женских слез на мужчину есть, право же, что-то необъяснимое. Интересно бы Инне Петровне послушать на сей счет своего когдатошнего ухажера-патологоанатома. Биологический смысл выделения этой солоноватой, а то и вполне пресной жидкости она бы сама могла объяснить — но проступал тут, может, еще какой-то дочеловеческий атавизм, сейчас не вполне понятный. Ведь трезвомыслящий умный мужик мог заранее знать этой жидкости цену: не более чем простейший, без специального усилия рефлекс, отчего на него просто не плюнуть? Однако будь ты каким угодно загрубелым, на смешливым, интеллектуальным, несентиментальным — эта секреция небольших желез действует на тебя помимо рассудка, что то в твоих претензиях размягчает, подтачивает. Признавай себя побежденным и труби отход.
Видеомаг (как выразилась Инна Петровна) в семье, разумеется, остался, хотя кассет к нему так еще и не купили, и недосуг было их смотреть. Да не в нем самом было дело. Но как пристально ни присматривалась Инна Петровна к Колобову, ничего мало мальски подозрительного ни в его речах, ни в поступках уловить не могла. Он держался, как на экране, умело, нейтрально, доброжелательно, ни на чем не настаивал и ничего не отрицал — что у него у самого было в мыслях, оставалось гадать.
В гости он наведался время спустя как бы опять ради беседы с Игорем; ни малейшего интереса к Любе, право же, нельзя было заметить. И с собой он на сей раз привел одну лишь Соню: она изображала как бы вполне достойную его пару. Теоретизировал же он с видимым удовольствием — откуда у него бралась всякая эрудиция? — и словно при этом поддразнивал доктора наук, словно вызывал его на ответ, заранее не боясь ни сарказма, ни отпора: он сам тут был ни при чем.
— Вы ведь знаете лучше меня, — говорил он, приняв за столом излюбленную позу с рюмкой крепкого напитка в руке и не столько попивая его, сколько смачивая им губы, — вы знаете, что научно-технический переворот семнадцатого века связан был с предшествовавшей ему — как бы сказать? — не вполне наукой. У кого взял термин «монада» известный вам Лейбниц, один из столпов, между прочим, математического знания? У оккультистов, не станете же вы отрицать. И он, и сам Ньютон связаны были не только с рационализмом, но с иррационализмом тоже. Еще неизвестно, с чем больше.
— Причем тут Лейбниц, причем Ньютон! — устало отмахивался Игорь, еще не желая втягиваться в дискуссию. — Вы же имеете дело с другими клиентами.
— А вы хотите сказать, что среди них есть шарлатаны? — довольный, откидывался на спинку стула Колобов. — Не знаю, не знаю. Они, может, не утвердили себя еще так капитально, неуязвимо для опровержений, как вы. Но я ни к чему не хочу относиться с предубеждением. В наше время ничего нельзя знать заранее и до конца. Теперешнюю эпоху, говорят, можно в не которых отношениях назвать постмодернистской. То есть, имеется в виду не одно лишь искусство, смысл понятия вообще можно расширить. Потому что смешались иерархии, вот о чем речь, представления о системе незыблемых ценностей. Все возможно. Помните, один персонаж у классика пытался понять: если, говорит, Бога нет, значит, все дозволено? А сейчас, пожалуйста: и Бог, если хотите, есть, даже на выбор, и все дозволено.
— Вот это неплохо сказано, — с неожиданным интересом посмотрел на него Игорь. — Действительно в духе времени.
— Но ведь раньше и будущее, казалось, можно было спрогнозировать достоверно и однозначно. А сейчас? Вы знаете опять же лучше меня фантазии некоторых ваших коллег. Видения электронной, технологической, информационной цивилизации, право же, напоминающие некоторые литературные антиутопии. Нет ли у вас впечатления, что человечество на самом деле движется неуправляемо, неизвестно куда? Никакого разумного опровержения таким прогнозам я пока не слышал. Зато одной из самых рациональных начинает казаться версия — мы как раз намерены ее скоро обсуждать — о инопланетных пришельцах, которые однажды вмешались в жизнь человечества и, возможно, следят за нами, готовые вмешаться опять. То есть отвести, если понадобится, от нас катастрофу.
— Вот чего я не принимаю и не могу принять, — энергично встрепенулся вдруг Игорь. — Потому что сама эта мысль в корне меняет всю систему ценностей, на которых строится наша жизнь. Если в любой момент кто-то может передвинуть нас, как фигуры на доске, тогда наши действия, решения, ум, смелость, выбор — все теряет значение. Любая религия все-таки оставляет место для свободы, для волевых решений, для ответственности. Для тайны, которой окружены пути нашей жизни и сроки нашей смерти. Но если кто-то следит за нами, как за муравейником — тогда все, что я делаю, теряет смысл, единственный, последний, непоправимый. Это делает меня другим существом, с другими понятиями… Вы заметили, — добавил он каким-то изменившимся тоном, — из обиходного словаря исчезли такие понятия, как «благородство», «честь». Это какой-то позапрошлый век… рококо…
— Я вот слушаю вас и думаю, — Колобов теперь смотрел на него, подперев рукой подбородок, — кто из нас рационалист?
— Да уж какой я рационалист! — усмехнулся без особой веселости Игорь. — Это вы все хотите объяснить энергетическими излучениями, планетными траекториями, внеземными пришельцами.
— А вы хотите верить в чудо и тайну, — утвердительно произнес Колобов и посмотрел почему то на Любу.
Оба засмеялись, как будто в этом пункте друг друга поняли.
— Выходит, что я сам глубоко старомоден, — покорно согласился Игорь.
Инна Петровна видела, как ее Люба переводит испытующий взгляд с одного на другого, точно пытается определить, на чьей же стороне превосходство в этом неявном споре. Она, конечно бы, предпочла, чтобы муж проявил больше напора и изобретательности в утверждении своих позиций. Дело для нее было не просто в том, чтобы гордиться его умом: надо было и в себе подтвердить какую-то правоту — если угодно, правоту важнейшего выбора. Молчаливая Сонечка, покуривая, озирала всех выпуклыми, из-под припухших дремотных век, глазами, словно знала обо всех больше, чем они сами.
— Я, между прочим, с вами вовсе не собираюсь спорить, — развеселившись, сказал Стас. — Речь лишь о том, что не стоит игнорировать многообразные проявления жизни. Тем более самые увлекательные. Взять то же чудо и тайну — то, что имеет отношение хотя бы к любви. Вы ведь тут меня поняли, не правда ли? Что здесь рационально, что иррационально? У нас в перспективе, между прочим, еще и обсуждение этой темы. Всякие белые и черные маги будут говорить, конечно, о привораживании, заговорах, любовных напитках и всем таком прочем. Мне самому любопытно. Ведь по многим свидетельствам, эти средства действительно приносят результат. Вроде бы какие-то ритмы и энергии у разных людей приводятся в соответствие, создают резонанс. Но я в эти материи еще не вникал. Мне лично интересней другое. Колдовство ощущается вроде бы и в каких то обычных коллизиях, простой психологией их не объяснишь. Вот один так называемый колдун мне рассказывал…
Инна Петровна ощутила непонятное облегчение, когда он действительно свернул все-таки на тему своей экзотической передачи. Что-то не в словах, а в подтексте этих речей, может быть, в подрагивающей колобовской улыбке необъяснимо ее настораживало. Хотя ничего положительного опять же утверждать она не могла. Оставалось надеяться, что Игорь, во всяком случае, более чем убеждал Любочку, когда они оставались наедине. В смысле, то есть, ночью. Дневного времени для общения у них оказывалось все меньше. Что говорить, коротким ночным часам дано перевешивать самые долгие дневные. Инна Петровна никогда прямо не разговаривала с дочерью на такие темы, да опытной женщине о некоторых вещах и не обязательно расспрашивать — достаточно было видеть по утрам умащенный блеск Любочкиных глаз.
И все же — скидывать со счетов дневную жизнь никак ведь было нельзя. Слишком большую ее часть они проводили врозь, и о чем-то мать могла лишь догадываться. Инну Петровну смутил в этом смысле непонятный визит Сони. Она пришла вроде бы по делу к Любе — хотя явно могла предположить, что дома ее не застанет. Как будто она скорей надеялась за стать дома одного Игоря и не прочь была бы его дождаться — вежливое, для формы, приглашение угоститься чашечкой чая она приняла мгновенно. Сидела на кухне, обхватив чашку сразу обеими ладонями, точно в летний день хотела их обогреть. Кончики ее пальцев были красноватые. Разговора с ней у Инны Петровны не получалось, да та и не томилась молчанием, озиралась по сторонам с сонливым интересом. Увидела на столе потрепанную записную книжку, взяла и понюхала раз, другой. Не только кончик носа у нее был красноват, но и тонкие, как будто воспаленные ноздри. Инну Петровну удивило ее принюхивание.
— Это Игорь забыл, — пояснила она на всякий случай.
— Я поняла, — усмехнулась Соня, чем-то вроде удовлетворенная.
— А какими духами душится ваш начальник? — не думая о собственной логике, поинтересовалась Инна Петровна.
— Я ему рекомендовала швейцарские, «Галант», — с той же задержавшейся усмешкой ответила Соня.
— Вы? — переспросила Инна Петровна.
— У меня широкий круг забот. Не я одна, разумеется, им занимаюсь. Костюм, лицо, манера держаться — все обеспечивают специалисты. Не обрызгай его духами, у него бы запаха не было.
— В каком смысле? — насторожилась Инна Петровна. Ей почудилось в этих как бы насмешливых словах намек, в чем-то вроде бы даже приятный, с успокаивающим оттенком.
— Но вообще у меня другие обязанности, — уклонилась от пояснений редакторша. — Я подбираю для него литературу, цитаты. Мысли. На этом месте меня Люба вряд ли заменит. — Она коротко взглянула из-под выпуклых век на Инну Петровну, словно интересуясь, поняла ли она. Та, однако, не поняла. — Между прочим, на днях мне попалась любопытная история, не знаю, пригодится ли Стасу. Про животных, правда, но все равно. Есть такой знаменитый исследователь, он наблюдал за парой серых гусей. То есть обычная супружеская парочка. А на расстоянии, сбоку припеку, обосновался еще один самец. Остался, видимо, без пары. Ничего особенного не делал, слишком приближаться не рисковал, потому что ему могло достаться от законного супруга. Но что-то между всеми тремя происходило, не вполне внешне выявленное. Иногда супругу надо было отлучаться вроде по каким то своим делам, тогда этот третий приближался к самочке, но опять же ни до какой видимой взаимности не доходило. У этих птиц супружеские пары вообще устойчивые. И все же выглядело это какой-то терпеливой, демонстративной, молчаливой — в человеческом смысле — осадой. А время спустя по какой-то необъяснимой причине законный супруг вдруг улетел и уже не вернулся. То есть оставил свою гусыню сопернику. Без столкновений, без драк, без объяснений на доступном нам языке. Что между ними произошло? Между людьми тоже ведь бывает такой вот поединок бессловесных воль — не понять, почему один уступает, другой выигрывает. А к нам как раз ходит сейчас один специалист по магии, у него целая концепция именно дочеловеческих сил…
Что то Инне Петровне не понравилось в этом разговоре, она так и не смогла уверенно предположить, зачем приходила к ним эта Соня. (Хоть бы Софьей себя называла!) С какой стати взялась теоретизировать о любви эта на вид вялая, не такая уж привлекательная женщина, выпуклые глаза которой свидетельствовали о явных неладах со щитовидкой?
У Любы тоже была к ней определенная антипатия, хотя интеллектуальные достоинства она за своей сослуживицей признавала. Да и по редакционной должности Соня была над ней старшей.
— Я все-таки не могу относиться с доверием к некрасивой женщине, — сказала она как то маме. — Не потому что дело во внешних чертах. Какой бы ни был рот или нос, но если есть что то внутри, она не кажется некрасивой.
Наверное, Люба считала справедливым говорить так о других — особенно поглядывая в зеркало. Но Инна Петровна смотрела на женщин все таки с большим сочувствием — при всей своей скептической трезвости и специфическом опыте. Она ведь волей-неволей ставила диагнозы даже попутчицам в метро и могла бы многое сказать о самой их жизни, нынешней и предстоящей. Не говоря о близких себе по возрасту, но и о молодых, на вид еще вроде ничего себе, а кто-то уже с сумками, с детьми, и вот уже поникшие, входящие в колею — надолго ли осталось им яркости и игры? Биологическая неизбежность, ход времени, увядание — не вдаваясь уже во все эти нынешние разговоры о не вполне равноценном месте в мужской цивилизации. По телевизору, и то смотришь иной раз какое-нибудь серьезное обсуждение, вроде бы выступают красавицы, умницы, и говорят более чем наравне с мужчинами, и вполне как будто уверенные в себе — а все-таки, все-таки…
Инна Петровна, кстати, была довольна, что сама Люба на телеэкране появляться не получала возможности. Ей лучше было обходиться без этого. И ведь так, со стороны, посмотришь: этакое воздушное, на ощупь мягкое существо — но ведь Инна Петровна знала, что на самом деле это пуховый танк. Так она ей сама однажды сказала. «Ты, — сказала, — пуховый танк». Если та чего-то на самом деле серьезно хотела, ее было не остановить, и власть ее над Игорем была вне сомнений.
Ясно было, например, до чего хотелось ей посмотреть новую дачу своего Стаса Колобова. Тот уже заранее пригласил всех сотрудников на близящееся новоселье. Нетрудно было представить молву об этом сказочном, должно быть, коттедже, который и поднимался именно со сказочной скоростью, как на дрожжах, если можно с дрожжами сравнить деньги, поступавшие все от тех же благодарных магов, черных и белых. Игорь — тот, разумеется, и слушать об этом не захотел, он отказался сразу и наотрез, но у Любы еще было в запасе время, чтобы подточить эту непреклонность. Решающую же дипломатическую роль сумел сыграть сам Колобов, тут опять надо было отдать ему должное. К Игорю он даже не подступал, но самолично явился для того, чтобы пригласить не Любу, а Инну Петровну. Как будто именно она до сих пор отказывалась, и надо было ее просительно убеждать.
— Мне особенно важно, чтобы вы окинули все опытным женским взглядом хозяйки, — говорил он. — Сам ведь я холостяк, дом не умею обставить, еще ничем даже не обзавелся…
А Инна Петровна тоже оказалась достойна своей роли, она оглядывалась вопросительно на Игоря, точно рассчитывая на его поддержку. Она — ладно — готова была поехать, если только мужчина им составит компанию. Да и он в конце концов почувствовал, что лучше было все таки не отпускать Любу вдвоем с матерью — а она то была и на это готова.
Колобов позаботился даже о машине, которая прихватила их попутно. Всех троих устроили на заднее сиденье, а с водителем рядом расселся словоохотливый толстячок, и он всю дорогу травил разные забавные байки. Например, про то, как он лично чуть было не съел дальнюю американскую родственницу, двоюродную бабушку своей жены. Эта родственница, обнаружившись вдруг, несколько лет баловала их гуманитарными посылками. А время назад, после затянувшегося перерыва, они получили какую-то пластиковую банку без этикетки. В банке оказался порошок непонятного назначения: то ли сода, то ли какой-то еще американский продукт. Сопроводительная инструкция была на английском языке, а поскольку никто в семье насчет языка не был силен, они попытались определить назначение и вкус продукта пробным путем: брали на смоченный слюной палец, лизали, обнюхивали. Вкус, как и запах, оказался неопределенным, в воде порошок не разводился. Нашли, наконец, человека, который сумел перевести им инструкцию. Это оказалось письмо, сопровождавшее прах внезапно скончавшейся бабушки. Она хотела, чтоб порция ее праха была погребена в земле ее исторической родины. Хотя после этих проб для похорон осталось немного, — заверял веселый рассказчик. Люба с готовностью смеялась и поглядывала на все еще угрюмого мужа: неужели он хоть от таких историй не развеселится? Как будто он заранее не хотел настраиваться на веселье.
Дача, что и говорить, оправдывала все ожидания. Хотя никакой мебели здесь еще не было, и даже стульев хватало не на всех, но золотисто-медовое сияние деревянной обшивки в свете неярких ламп само по себе вызывало чувство благородной роскоши. Громадный деревянный стол был уставлен блюдами, бутылками, бутербродиками, рассчитанными на употребление, что называется, а ля фуршет — стулья были и не обязательны.
И публика была соответствующая. Многие лица казались Инне Петровне знакомыми по телеэкрану. И актер Мячин, вихляясь, подскочил поприветствовать новоприбывших. И обе редакционные дамы, конечно, тут были. Какая-то пара в экзотических одеждах разносила для угощения тминные и укропные лепешечки — они имели вроде бы отношение к неизвестному восточному ритуалу, но Инне Петровне понравились независимо от него. Особое ее внимание привлек невысокий человек с морщинистым и словно задубленным лицом, по которому трудно было что-либо сказать о его возрасте (как нельзя сказать о возрасте сморщившегося на ветке плода), скорей о внутренней преждевременной болезни. Люба шепотом объяснила маме, что это настоящий шаман.
Она в этой обстановке очевидно блаженствовала. Ходила от одной беседующей группы к другой с широким бокалом в руке, который все время оказывался наполнен шампанским. Инна Петровна поначалу считала нужным держаться поближе к ней, но разговоры то там, то тут о политике, о модах скоро навели на нее скуку. Кто-то рассказывал анекдоты, груди перетянутой шнурками Беллы в разных местах колыхались от смеха. Солидного вида бородач разглагольствовал об эросе как проявлении некоего космического поля, безотносительно к личным симпатиям и тем более браку…
Довольно скоро Инна Петровна отстала от дочери, она сочла, что правильней будет опекать Игоря. Люба от выпитого, пожалуй, слишком развеселилась и своим возбуждением чуть ли не нарочно его поддразнивала. А он стоял у стенки, точно приклеился к ней, со стаканом неизвестного напитка в руке. Тоскливое лицо его никак не соответствовало обстановке.
Инна Петровна раздобыла для себя стул и уселась неподалеку от зятя. Она как раз захватила момент, когда Стас Колобов подвел к нему телевизионную знаменитость, того самого лысоватого целителя, который заряжал энергией своих рук воду, поставленную перед экраном. Хотя известностью Игорь, конечно, не мог с ним равняться, тот начал разговор с преувеличенных расшаркиваний: как, мол, он рад возможности познакомиться с таким видным ученым. Постепенно до Инны Петровны дошла цель разговора: лысоватый выражал желание проверить некоторые свои эффекты на особой аппаратуре, которая разрабатывалась, по его сведениям, как раз у Игоря. Очевидность эффектов сама по себе ни у кого сомнений не вызывала, но именно в научном смысле важно было бы понять их объективную природу. Он вроде бы сам имел научное образование и предлагал личное сотрудничество. Игорь отвечал вежливо, но однозначно. Это была просто не его тематика, и он не мог отвлечь непрофильной работой ни людей, ни аппаратуру, тем более привлекать в штат посторонних. Тут мягко вступил Стас Колобов. Ведь насколько он был осведомлен, аппаратура у Игоря как раз простаивала по независящим от него причинам, исследования давно не получали финансовой поддержки — а тут как раз был случай, когда представлялась возможность получить средства, право же, не лишние в нынешней ситуации. Объявился источник финансирования, и деньги можно было заполучить более чем приличные…
Не Инне Петровне, разумеется, было судить, насколько оправдан был отказ Игоря. Принципиальность иной раз выглядит чистоплюйством. А может, тут существовали еще какие то другие, неизвестные ей соображения? Он только мотал опущенной головой: нет. Стас еще попробовал пояснить, что предполагаемых денег хватило бы и для поддержки тех самых профильных работ. Не говоря о поддержке сотрудников. И не было тут никакого покушения на независимость исследователя, от него отнюдь не требовалось (если он такое подозревает) чего-то вроде подтасовок — важен был именно его авторитет, его имя, если угодно, фирма… В конце концов лысоватый развел руками, это означало: ну, как знаете, — и отошел, впрочем, вполне добродушный. А Колобов даже остался стоять возле Игоря с доброжелательной своей улыбкой.
— Я понимаю вашу серьезность, — говорил он, по обыкновению не столько отпивая из своей рюмки, сколько обмакивая в жидкость губы. — И отдаю должное. Но, по-моему, вы недооцениваете ту же сторону жизни, о которой мы как-то уже беседовали. Помните? О том, как может увлечь в ней именно игровое начало.
В самом же деле: какой нибудь теннисист или футболист, всего лишь манипулирующие упругим шариком — не более того — получают в сезон сотни тысяч долларов. Которых никогда не будет иметь заслуженный работяга, поэт, философ. Или вот ученый, прикасающийся, может, к объективной сути мироздания. Во всяком случае, к чему то умопостижимому. Но деньги-то готовы платить сами зрители, миллионы людей. И за билетами охотятся. И говорят об этом, пишут, читают. И умирают возле своих телевизоров от разрыва сердца — всего лишь потому, что мячик попал в какую нибудь не ту сетку. А есть еще играющие в карты, в шахматы, в биллиард — и вокруг этого тоже строят свою жизнь, об этом думают, на этом зарабатывают. А другие, сугубо серьезные люди брезгливо говорят: за что? На какие средства строятся такие вот дачи, когда другие даже близкого не имеют? Хотя, казалось бы, создают более реальные предметы, произведения или, если угодно, ценности. Вроде теорий, например, о смысле жизни. Но ежели в этих теориях игнорируется тот самый игровой элемент… вы понимаете?.. переплетения совсем уже невидимых, неощутимых ниточек… вроде, может быть, музыкальных переливов, да?.. все теории оказываются вдруг неполными и бессильными…
Говорил он как бы не обращаясь к Игорю, как бы мимо, глядя больше прямо перед собой — но, обмакнув очередной раз в рюмку губы, очень коротко на него все же посматривал.
— Или, допустим, взять ту же упомянутую любовь. В ней ведь то же самое. Тончайшие сигналы, намеки, движения, целый прямо-таки театр балета, ритуалов, словес. Ведь это особо разработанное искусство, которое лично ни вы, ни я, думаю, не захотели бы сводить к физиологическим первоосновам. Искусство тут, может, даже важней конечного результата. Во всяком случае, интересней. Результат действительно означает конец, то есть скуку, необходимость начинать заново. А что может быть интересней, скажем, интриги соперничества? Почему кому-то достается победа, а кому то приходится уйти? Вы знаете ответ? Вот даже, оказывается, у птиц, у простых серых гусей описаны замечательные сюжеты…
Инна Петровна тут невольно вздрогнула — и Колобов словно сам ощутил что-то; про гусей он продолжать не стал.
— Эти вот колдуны и маги делают вид, будто знают ответы, с разной своей техникой и химией впридачу. Ну, это, допустим, их дела… пускай себе, — непонятно чему усмехнулся он — и вдруг одним глотком действительно опустошил наконец свою рюмку…
Инна Петровна вполне могла бы понять, почему ее зятю не хотелось оставаться здесь на ночь. Но глупо было в самом деле рваться отсюда на электричку. Тем более, что вечер был субботний, вполне можно было досидеть до утра, а при желании нашлась бы возможность и поспать, пусть даже без комфорта. На машине спьяну никто ехать не собирался, а до станции было идти по темному проселку часа полтора. Не говоря о том, что в электричке, по нынешним временам, можно было напороться на что угодно. Люба отказалась категорически, но он все-таки не выдержал. Может, оставить жену одну он бы еще не рискнул, но с тещей — все же оставил.
Слава богу, доехал в тот раз он благополучно. Однако Люба после его отъезда утратила всякую оживленность. Похоже, она всю ночь почти и не спала, должно быть, перебирала слова для утреннего разговора с мужем. И, судя по покрасневшим глазам, отплакалась про себя — для разговора у нее уже не осталось слез. Это была не просто обида, которую можно было разрядить в истерике, слова за ночь набухли серьезностью.
Инна Петровна слышала на другое утро через стенку, как она говорила с ним. Это не было выяснением отношений. Отдельных слов Инна Петровна не различала, но по самому тону можно было понять: Люба ничего не оспаривала, не утверждала, просто излагала созревшую, выстраданную убежденность. Таким тоном женщина говорит, что дальше так жить просто уже невозможно, ей уже физически трудно выносить непонятное отношение, и если он не может ничего изменить — пусть принимает, наконец, решение как мужчина. Говорила все время только она, он даже не возражал ни слова. Он молчал, то ли просто потому, что ему нечего было сказать, то ли из привычной, природной молчаливости, усугубленной еще обстоятельствами. Но это молчание действовало сильней, чем любые слова, которые он мог бы найти. Голос Любы все больше терял уверенность. Как будто она сама по ходу своих неопровержимых слов начинала в них сомневаться, они как бы размягчались, растворялись, обессмысленные, в этом молчании. Он просто позволял ей переубедить саму себя. На время, по крайней мере.
В то утро случай, казалось бы, даже чуть ли не помог Инне Петровне слегка разрядить атмосферу. Она по приезде обнаружила в почтовом ящике письмо без обратного адреса. Это было одно из глупых посланий, давно всем знакомых: когда какой-нибудь доброхот, сам попавшийся на приманку, предлагал разослать в двадцать адресов по художественной, скажем, открытке или, еще лучше, по трешке, сопроводив предложение простым арифметическим подсчетом, как всего через несколько кругов отосланный дар вернется в виде тысячи художественных открыток или десятков тысяч рублей. Иногда в конверте даже бывала такая открытка (денег все таки ни разу не попадалось), сопровождавшаяся предсказанием всяческих бед, если дальнейший обмен будет сорван. Это же письмо, во-первых, размножено было на современном ксероксе, во-вторых, оказалось до смешного бескорыстным — Инна Петровна за чаем решила позабавить домашних чтением вслух. «Сделайте двадцать копий и перешлите тем, кому вы желаете счастья, — призывал неведомый отправитель. — Это не шарлатанство. Это нити между вашим настоящим и будущим». Дальше были начертаны разные магические знаки с цифрами, которые уже много веков приносили получателям счастье. «Вы даже не поверите: счастье из параллельного мира». Забавнее всего были исторические примеры, приводившиеся в подтверждение. Сам, оказывается, Данте получил однажды это письмо, поручил секретарю отправить положенные двадцать копий и всего через несколько дней выиграл сто тысяч. Еще одно письмо получила сто лет назад бедная крестьянка Урукова, через четыре дня она откопала клад, потом вышла замуж за князя Голицына и наконец стала миллионершей в Америке. А вот Конан Дойл письмо, как предписывалось, не размножил, из за чего попал в катастрофу, ему ампутировали обе руки. Так же поплатились за свое пренебрежение знаками маршал Тухачевский, которого расстреляли, Никита Хрущев, которого свергли. Зато знаменитой Алле Пугачевой за ее веру привалило аж два миллиона долларов…
Ожидавшегося веселья это чтение вслух, однако, не вызвало. Оба мрачных супруга лишь слегка покривили рты, изображая усмешку. И все же настроение, казалось Инне Петровне, отчасти удалось бы переключить — если б не разразилась совсем уже глупость.
— Ну, что с ним делать? — спросила она, складывая листок.
— Порвать и выбросить, что еще? — пожал плечами зять.
Но Люба тут попросила дать письмо ей, она хотела позабавить им сослуживцев.
— Наверное, его пол Москвы уже получили, — хмыкнул Игорь. — Или все таки не хочется совсем без надобности искушать неведомые силы?
Ах, зачем он ее так подколол? — подумала Инна Петровна, по себе, между прочим, чувствуя, что в таком подкалывании можно было признать оттенок правоты. Прежде у него, однако, хватало юмора от подобных уколов удерживаться. Люба вспыхнула:
— Ты меня все таки дурочкой считаешь? На, порви.
— Ну да. А ты в душе потом будешь считать меня виноватым за любую дальнейшую неприятность.
— Какое-то безумие, — замотала головой Люба. — Какое-то безумие.
И демонстративно, прямо перед его лицом, порвала глупую чушь…
Господи, во всем дальнейшем вообще можно было увидеть не более чем случайность, набор совпадений. Но что то словно накапливалось в окружающем воздухе — или, может, в самом их естестве, где что то менялось. Проще простого было, скажем, найти реальное объяснение даже для температуры, внезапно подскочившей у Любы после пустячного спиритического сеанса. Но ведь с этого сеанса она пришла действительно полубольная, буквально шатаясь. Мать заставила ее померить температуру, у нее оказалось 38,6°. Только рассказывать она не хотела ни за что — потому что дома был Игорь.
— Я сама перед собой буду выглядеть идиоткой, он уже намекал. Не хочу. Как будто я вообще необразованная и готова верить любой бредятине. Но я ведь свое состояние не сочинила, ты же видишь. Я не только при этом была, я в этом участвовала…
Вообще то Инна Петровна и без рассказов знала, что такое домашние спиритические сеансы. В молодости сама раз другой в них участвовала и могла бы подтвердить: впечатление иногда производит. Даже само это сидение вокруг стола, захватывающая вибрация, будто исходящая из пространства и передающаяся не только тарелочке, но и самим участникам, само это состояние (хотя чья то рука под столом, глядишь, тянется погладить тебе колено). А рассказывались и вовсе необычайные случаи… но что объяснять…
Надо отдать Игорю должное, он сам успокаивающими словами и поцелуями убедил Любу все таки разговориться, чтобы дать выход нервности, избавиться от трясучки и температуры. Он ведь не хуже других знал, как иные переживания передаются телу — вот же перед ним было свидетельство. И Люба рассказывать начала, как бы предупреждая его насмешки, сама заранее над собой издеваясь, хотя он слушал тихо, с молчаливой грустью в глазах.
Тут ведь в самом деле была обычнейшая история: когда участники заранее ни во что не верят. Тем более почти все там были с высшим образованием. Некоторые даже с двумя. Усмешечка эта всегдашняя прямо витала в воздухе: знаем мы эти штучки, эти спиритические забавы. Но хотя бы для личного впечатления можно и позабавиться; надо же, в самом деле, хоть один раз попробовать, чтобы потом говорить. Впрочем, два-три человека уже обладали опытом, один из них даже считался особо чувствительным медиумом. Но ведь другие, без опыта, не знали бы, как устроить сеанс по всем правилам. Хотя подробности опять же были общеизвестны: задернутые шторы, впечатляющий полумрак, вполне пригодный круглый стол, тарелка, буквы по кругу. И когда ведущий спросил, кого вызывать, именно Люба из чистого озорства откликнулась: «Пушкина!». А кого же еще? Это у нас с детских лет как присловье. Пушкин, что ли, за вас сделает?
— Нет, я не собираюсь себя ни приукрашивать, ни дурочкой изображать, — усмехалась Люба, обхватив чайную чашку сразу двумя ладонями, как Соня, — но совсем без попутной мысли, естественно, тоже не обошлось: а что, если в самом деле? Интересно было бы. Я уже задумала вопрос, есть ли у него стихи, которых никто не знает? И представить, что он вдруг выдаст строчку. И окажется что то действительно гениальное. «Как гений чистой красоты», то есть несомненно в пушкинском роде. Ну несерьезная мысль, нечего говорить, можете заранее смеяться, пожалуйста. Ха, ха…
Нетрудно вообразить, что и другие там вполне на строены были смеяться. Особенно когда сразу пошла откровенная белиберда, невнятица. Первая буква выпала не совсем определенно, между «е» и «ж», но все-таки ближе к «ж», так и решили считать. Однако потом пошли подряд еще три согласных: «б», «т», «в». То есть явно не складывалось ничего удобочитаемого и сложиться никак не могло…
— Ну, думайте что угодно, — сказала опять Люба, — но при всей этой невнятице что-то с нами уже происходило. Необъяснимое. Какая-то, понимаете, внутренняя дрожь. Если б я что то имела в виду сознательное, можно было бы подумать о подтасовке. Но мы же совместно вертели эту тарелку, не сговариваясь. И никто ничего еще не понимал, то есть не хотел сознательно. Как раз неразбериха, невнятица показывает, что было во всяком случае не жульничество. Все происходило как раз помимо нашей воли…
То есть прояснение скоро последовало само собой. Следующая буква выпала, наконец, гласная, «о», и только тут кто-то заподозрил общую неточность.
— Ты понимаешь? — Люба смотрела не на Игоря, а на маму, словно другую реакцию знала заранее. Мы просто позабыли между «е» и «ж» вписать, как положено, букву «ё». Ее ведь теперь обычно во всех алфавитах опускают, и на клавиатурах ее нет. Только тут до нас и дошло.
— Что? — все-таки не сразу поняла Инна Петровна.
— Ты хочешь, чтоб я повторила тебе по буквам? А до тебя самой не дошло? Он просто нас выматерил. Представь себе! Прямо, ясно, без единой ошибки. Хотя никто из нас этого не ожидал, то есть не думал об этом отчетливо, повторяю еще раз. Можешь мне поверить. Но на меня именно это подействовало! Не знаю, в курсе ли были другие, а нам-то на факультете, на одном спецсеминаре, как раз об этом упоминали. То есть, что он это именно умел, это было вполне в его духе. Что знали и что думали другие — не могу сказать, и дело уже не в объяснениях. Но ты же видишь, на меня подействовало помимо рассудка. Как это можно подделать?..
Игорь все так же молча, тихо и грустно поглаживал ее руку. Он и впрямь хорошо на нее подействовал, Люба действительно успокоилась, и можно было сказать, тут все опять обошлось. Тысячу, миллион раз: никаких связей не имело смысла даже выискивать — только все те же случайности, совпадения…
И все же: почему Инну Петровну прямо-таки защемило отчетливое — словно бы давно назревавшее — предчувствие, когда Игорь однажды не вернулся домой после полуночи? До утра они с Любой все таки ждали, потом кинулись звонить, первым делом, конечно, в справочную института Склифософского — и сразу же услышали подтверждение: попал к ним такой вчера вечером, с черепно-мозговой травмой. Что то с ним, стало быть, случилось на улице, подробностей в справочной не объясняли, но не оставляло именно это чувство: что-то произошло не само по себе, какие-то связи проявились, сгустились в окружавшем их мироздании — и обрушились неизбежным ударом.
Больше всего смутила Инну Петровну непонятная, непривычная оцепенелость Любы. Как будто она что то замкнула в себе, чего-то не выговаривала. Только покусывала все время нижнюю губку, а покрасневшие глаза ее были сухи. Что у нее с ним еще случилось, так и оставшееся матери неизвестным? Или не с ним?.. От взгляда она отвернулась, на вопрос отвечала мотанием головы: нет, нет, ничего.
Насчет черепно мозговой травмы по телефону, слава богу, преувеличили. (Или, может, преувеличил собственный слух?) Было попросту мозговое сотрясение, причем средней тяжести. Навестить пациента в эти часы не полагалось, но Инна Петровна, конечно, сумела проникнуть к зятю, пользуясь прихваченным с собой медицинским одеянием. Любу она оставила внизу, да та по видимости не особенно и рвалась. Что-то непонятное все же в ней было. Или, может, боялась увидеть его в каком-то обезображенном виде?
Обезображен он, слава богу, тоже не был, только в бинтах, конечно. Кожа лица среди них казалась потемневшей, как на иконе, отросшая черная щетина продернута была сединой, точно уголь пеплом. О случившемся он подробностей не рассказывал — да и что он мог рассказать? К нему уже приходили брать показания из милиции. Нападавшие были ему незнакомы, и выглядели они не бандитами, в своем роде скорей профессионалами. Подошли уже в сумерках, неподалеку от института, остановили, потеснили за угол. Чего они от него хотели, трудно было сказать, хотя действия свои сопровождали кой какими словами. В смысле: убирайся отсюда, жидовская морда, не то мы тебя в другой раз… ну, совсем уж конкретных слов повторять перед женщиной он, естественно, не стал.
— Но разве ты… на самом же деле нет? — сорвалось нечаянно у Инны Петровны. И она сама тотчас смутилась, уловив дрогнувшую среди бинтов усмешку зятя. То есть смутилась не в смысле подозрения на свой счет… что это вообще могло для нее значить?.. он же сам знал. Но так было бы хоть некоторое объяснение. Прицепились по ошибке к брюнету в очках, что еще требовалось? Ни бумажника, ничего у него не взяли, может, и до больничной койки доводить не хотели. Приложился, видимо, затылком о стену. Это в кино после такого встают как ни в чем не бывало…
— Ничего, ничего, — постаралась успокоить его и саму себя Инна Петровна. — Обошлось, и то хорошо. Скоро уже поправишься. Все образуется.
— На работу я в любом случае уже не вернусь.
— Это еще почему? — не сразу уловила смысл Инна Петровна. — Голова, мне сказали, в достаточном порядке. И руки вон тоже.
— Я не об этом, — слабо усмехнулся Игорь.
Ей все же удалось из него кое-что выжать — но все ли? Оказывается, накануне его вызывал к себе сам директор института, чтобы обрадовать новостью. Возникла возможность получить неплохие деньги под неожиданный, и при этом непыльный заказ. Что-то связанное с исследованием нестандартных биофизических излучений, так это звучало для Инны Петровны. То есть разговор чуть ли не дословно повторял услышанное ею на даче: и про то, что деньги давали возможность возобновить заодно основные, надолго отложенные эксперименты, и что предполагалось зачислить в штат еще одного нового сотрудника. Нетрудно было даже догадаться, кто имелся в виду. Как нетрудно было себе дословно представить — будто и при этом разговоре сама присутствовала — опять же категорический ответ зятя, и вежливые увещевания директора, и заключительный намек, что вопрос, собственно, уже решен, заказное исследование будет производиться независимо от странных капризов подчиненного. Хорошо еще, если тот не произнес в ответ: «Только через мой труп»… о господи!.. Что могли, в самом деле, значить слова Пушкина?.. И что Игорь еще знал, чего не договаривал, какие совпадения сам про себя связывал?
— Что же ты решил делать? — тихо спросила Инна Петровна.
— Не знаю. Наверно, в самом деле уеду. Меня ведь давно звали, и в разные места.
«А Люба?» — чуть было не спросила Инна Петровна. Однако вопрос застрял у нее в горле. Она все явствен ней ощущала непонятное биение — словно бы пульса… Игорева или своего? Так иногда чувствуешь без прикосновения звучную работу собственного сердца во всем существе. Но нет, свое сердце и свой пульс она бы узнала. Тут был другой ритм и другая сила. Какое то величественное биение извне сдавливало и отпускало все тело, точно старалось что то изменить, сдвинуть внутри — или не только внутри? Чего добивалась эта пульсация неведомых властных сил, куда она всех подталкивала, чего от них хотела?
Как хороши, как свежи были розы
Она сидела на скамейке в сквере напротив школы и дожидалась Славика… да, Славика, тут казалось все ясно, только в каком он теперь был виде, чего она хотела, на что в самом деле надеялась? В уме это выглядело так: мальчики рано или поздно должны будут выйти покурить, подышать воздухом после торжественной части, пока в актовом зале накрывают столы для банкета. Так ей казалось. Ей уже случалось такое видеть. Тут она как-нибудь к ним приблизится, чтобы он ее мог увидеть, просто пройдет мимо, как будто не нарочно (может же она случайно проходить в это время по скверу), даже окликать не станет, посмотрит сначала, узнает ли он ее. Или, может: захочет ли узнать? Тем более при других. Мальчишки в этом возрасте такие стеснительные. Вопрос, узнает ли она его сама, совсем взрослого, Сима как-то задвигала подальше, в затемненное место мыслей. И не просто потому, что слишком опасалась ответа. Нужно было сперва что то существенное понять, соединить в этих самых мыслях, где все толкалось вразброд — как возникавшие вдруг в памяти звуки случайных клавиш под мягкими детскими пальчиками: обещание будто бы осмысленной, уже знакомой мелодии… затуманенный взгляд глаз из под изогнутых длинных ресниц, зеленая сопелька на грязной щеке мальчика, он протянул ей вчера в метро коробку из-под кукурузных хлопьев и так по детски, просительно наклонил к плечу круглую мордашку. Словно открылась где-то вдруг пустота, соединенная через прокол с сердцем, готовая со свистом всосать в себя все внутри и снаружи, и воздух пошел опасной зыбью, все смешалось, поплыло, стало недостоверным… Может, для того она теперь здесь и сидела, чтобы в чем то убедиться, восстановить внутри себя связный, необходимый смысл, соединить обрывки звуков, слов, имена и лица: Юра, Славик, Раиса… да, она тоже должна быть там, в актовом зале… хорошо хоть, ума хватило не заходить внутрь…
В тени становилось свежо, Сима надела кофту. Две скамеечных рейки справа были обломаны — как будто их тоже когда-то уже видела. Как будто здесь и сидела. На коленях книжка, раскрытая, как положено, для заполнения времени, но взгляд лишь соприкасается с поверхностью строк, не проникая. Она и про очки не вспомнила, без них обходилась. Закладка в книге была листком неизвестного календаря, странным образом за вчерашний день: 23 июня, но год остался где то на другом листке или на утерянной обложке, а может, вообще не был указан — для удобства, чтобы желающий мог сам вписать его на пустом безразличном пространстве, вместе с памятным событием, общим или личным. Чьим-нибудь, например, юбилеем или датой происшествия. Если только установить, конечно, что считать для себя действительным событием. Человек может, скажем, близко помнить какую нибудь давнюю муху, жившую с ним в комнате. Именно эту, а не любую другую.
С гранеными, черно-радужными глазками, с зазубринками на лапках. До сих пор, как живая, перед глазами. Потому что с ней связалось что-то внутри, да, что-то именно осталось, изменилось от ее кратковременного существования. Хотя другим этого не объяснишь. Или встреча с Юрой, Славикиным отцом. Это ведь действительно было. Во всех подробностях. Сидела вот так же на скамейке с обломанным краем, среди еще свежей зелени, на коленях раскрытая книжка (как будто даже перед глазами внешний вид строк: проза, но в то же время стихи, они долго держались в памяти), но не читала, а смотрела, как у кустов напротив два красавца-селезня с переливчато-зелеными головками и сине-белыми нарядными перьями в подкрыльях суетятся вокруг серой невзрачной уточки. Оба по очереди пытались на нее взгромоздиться, но каждый раз другой начинал клевать соперника, мешать, спихивать; в результате ни у кого ничего не получалось. Утке при этом тоже доставалось, она сердито отбегала на три четыре шага, селезни вперевалку, по деловой необходимости следовали за ней, и все повторялось сначала и не могло завершиться. Он тоже остановился рядом — посмотреть. «Как это у них скучно, а? — сказал, ухмыляясь. — Хоть подрались бы по настоящему. Вот тетерева, я видал однажды, сходятся. Так это же красота! Это как танец!» Совсем еще молодой, румянец деревенский во всю щеку, воротник рас пахнут на загорелой шее. Подсел к ней, не спрашиваясь, стал рассказывать про тетеревов. Сима вообще не любила, когда так подсаживались, но что-то помешало ей сразу его отшить. Может быть, откровенность и насмешливая простота совершавшегося в природе. Так это совпало: запоздалая весна, свежие, еще клейкие запахи, и эти смешные утки, и сумятица собственных мыслей. Глаза у него были зеленоватые, наглые, но при этом простодушные в своей наглости — и уже сама собой разыгрывалась по своим законам та самая вечная игра, которой нельзя было пугаться. Она больше всего боялась, что именно испугается, может быть потому, что, слишком рано оставшись без родителей, должна была все решать сама. Рано или поздно это должно было произойти — она боялась какой-то собственной неспособности. Не к чувству, нет, она знала, что способна это чувствовать… может быть, совсем еще крохой в цинковой ванне, когда сладко ощущала свое тельце, гладя его скользким, теплым, ласковым мылом… ну, то есть, пусть это было другое, но все-таки… Или когда играли в комнате мячом и мальчики лазили за ним под кровать и выбирались оттуда задом, взъерошенные, смешные, в пыльном пуху, лишь к одному как будто ни чего не приставало; все, что у других раздражало, у не го оказывалось красиво, и не просто красиво, на него все время хотелось смотреть, от его голоса вздрагивало внутри, а прикосновение было счастьем, от которого слабели коленки. Его звали Павлик, им было двенадцать лет. Теперь она в смятении прислушивалась к себе, пытаясь узнать, уловить хоть отголосок чего-то похожего — но должно ли было быть похоже? Откуда тебе вообще знать, как бывает на самом деле, пока ты еще этого не испытала? Так вот и не испытаешь. (Посторонний, занудный, насмешливый голос возникал в воздухе или внутри ушей — но тогда она еще не придала этому значения.) Может, из-за этой боязни испугаться все произошло так быстро — слишком быстро. А она все продолжала прислушиваться: вот это и есть то самое, настоящее? это действительно произошло? действительно с тобой? И что же чувствовал этот человек с непонятным, тяжелым, чужим телом, когда стонал и покрывался потом, а глаза его темнели и становились глубокими? Она пыталась ощутить что-то за него, вместе с ним, сама тоже постанывала и, как могла, старалась показать, что ей тоже хорошо, а не просто больно и трудно дышать под его тяжестью. Он становился еще тяжелей, расслабясь, но она все равно терпела. Она говорила себе: вот, теперь это у тебя есть, — как будто хотела сама себя убедить в чем-то.
Нет, его бессмысленно было винить, он не был плохим человеком, который просто позарился на ее жилплощадь и прописку в Москве. Прописаться она ему предложила сама. И она готова была утверждать, что он тоже не притворялся, она ему действительно нравилась, по крайней мере вначале. Ему нравилось, что она такая маленькая и легкая, нравилось вскинуть, как ребенка, под самый потолок и закружить на одной руке — аж замирало сердце; нравилось выглядеть рядом с ней большим и взрослым, хотя сам он был на три года младше. «Эх, Сима-Сима-Серафима, — приговаривал он, закруживая ее в высоте, — вырастай еще красивей!» И, задержав неподвижно в воздухе, сам себе возражал: «Не растешь. А для чего? Села баба на чело», — добавлял он, не опуская, а как бы роняя ее внезапно наземь (и сердце падало внутри). Он любил добавлять не совсем осмысленные слова для рифмовки — точно она создавала или во всяком случае закругляла смысл. «Ну?» — спрашивал он неизвестно кого в пространстве. И сам себе тут же отвечал: «Баранки гну».
Если бы у них еще хоть получилось с детьми! Но тут уж ей винить было тем более некого. Она долго не понимала происходящего, даже когда первый раз случайно встретила его с этой Раисой и он, засуетись, стал знакомить ее с землячкой. Она не поняла его возбужденного, избыточного многословия, вороватого выражения зеленых его глаз, она ничего не понимала или не хотела понимать, даже когда ее стало подташнивать от чужого неясного запаха на его одежде и как будто на теле, а потом уже и в комнате, на их постельном белье, так что она просто не могла больше спать на этой кровати, сама стыдясь непонятных болезненных капризов своего обоняния — но ей в самом деле полегчало немного, когда он купил новенький раскладной диван, а кровать переставил к противоположной стене. Она не поняла, что это было уже началом раздела — без развода, еще до того, как он надумал ставить в комнате перегородку — а сам все поглядывал, ожидая хоть какого-то, наконец, возмущения, хоть чего-то, напоминающего нормальный скандал. Если бы она могла в самом деле закричать, то есть заорать, как положено! Она наблюдала за происходящим с ней самой в каком-то постороннем оцепенении — как однажды в детстве, когда, маленькая, стояла в реке у берега, держась за край плота, на котором мама стирала с другими женщинами. Плот был привязан к берегу цепями, и она, держась рукой, сама незаметно сдвигала его на глубину и невольно следовала за ним, все дальше, глубже, потому что не догадывалась или боялась отпустить, остановиться, где стояла; вода уже закрыла ей рот, потом нос, и кричать было теперь поздно, еще немного, и она захлебнулась бы, но тут какая-то женщина заметила ее беду и вздернула наверх, на плот, на воздух…
Между тем она все чаще заставала эту Раису у себя в доме, приходя вечером из своей библиотеки, и Юра больше не считал нужным даже придумывать очередное недостоверное вранье, ему не было надобности уже и выпивать для большей наглости — он просто приводил ее к себе за перегородку, как в отдельное жилье, наконец оставил здесь ночевать. Сима точно окоченела от невыносимости стыда; ей казалось, что даже вещи вокруг мучаются этим стыдом, как искривляющей судорогой. Кровь стыда приливала к ее щекам так сильно, что не выдерживали мелкие сосудики, лопались лило вой сеточкой, а она словно бы глохла для обычных звуков, уши были заложены стеклянной сухой ватой, трескучие волоконца ее расправлялись внутри, шуршали голосами, напоминавшими тихое, но отчетливое радио, и эти голоса впрыскивали из ушей внутрь головы, как тоскливую отраву, все, чего она не хотела и как будто не могла слышать вокруг: шепоты, шорохи за фанерной издевательской перегородкой, и ерзанье, и чмоканье, постыдные звуки, от которых уже невозможно было ничем отгородиться.
Когда время спустя выяснилось, что она просто больна, это оказалось облегчением — для обоих. Это объясняло все: ее поведение, и оцепенелость, и неспособность сопротивляться — и почему, наконец, он тоже не мог оставаться с ней, он вынужден был себя вести так, как вел. Болезнь была причиной и объяснением всего; она же оказалась и выходом. Вначале, правда, ее поместили в неподходящую, пропахшую выделениями человеческого распада палату, где женщины, все похожие на истощенных неприбранных старух, хотя были разного возраста и комплекции, сидели, не произнося ни слова, бродили между кроватей, точно не могли вспомнить, чего ищут, бормотали себе под нос или вдруг начинали кричать вовсе без смысла. Сима, слава богу, к этой палате не подошла, у нее оказалось что то с обычными сосудами. Не с теми, конечно, что полопались на щеках. У нее самой было странное ощущение, будто какой-то крохотный ниточный узелок лопнул в середке мозга, ближе к затылку, дав о себе сперва знать очажком излучающей боли, но потом онемев до бесчувственности, так что именно через него не могли пробиться для соединения в памяти какие-то слова и мысли. Особенно трудно бывало вспомнить слова в разговоре с врачами; тут, может, еще первоначальный испуг добавлялся или стеснение. Своих самодеятельных медицинских догадок Сима выдавать им, конечно, не стала. Соображала она, в общем-то, вполне нормально и наловчилась подбирать обходные слова вместо запертых.
Вот чего действительно не удавалось восстановить, так это почему-то стихов, заученных еще в школе, даже песен, памятных, казалось бы, с детства. Мелодии при этом все остались, вот что странно, их можно было напевать про себя с чувством даже вроде бы брезжащего смысла: слова как будто присутствовали внутри музыки, в ритме, но неявно, смазанно, лишь иногда прорезались поодиночке: та та та та та Дунай… (Женщины, распевая, шли от реки, тазы, прижатые ребрами к бедрам — как будто на бедрах лежащие — колыхались в такт шагам, в такт песне: та та та та та Дунай, белье пахло речной свежестью…) Чего же еще не хватало? У нее тогда еще была надежда, что со временем музыка вообще поможет памяти лучше лекарств, ведь дома ее дожидалось еще и пианино. Играть на нем, правда, она по-настоящему не научилась, но подбирать без нот кое-что умела. Только вот вернуться к нему — то есть в тот же дом — было совершенно немыслимо. Сима даже думать об этом боялась.
Она готова была оставаться сколько угодно в этом терпимом отделении, где летом выпускали даже гулять в маленький пыльный садик, там чирикали и суетились воробьи, искали что-то в сорной траве, выясняли неизвестные отношения, на них можно было смотреть долго-долго. Юра время от времени ее навещал, приносил, как положено, апельсины и сок, сыпал щедрей обычного прибаутками, заполнял время словами, чтобы не томиться молчанием — или для чего-то еще? Трудно было отделаться от чувства, что и он, как она, ищет способ вытеснить, заглушить постороннее механическое шебуршанье, бормотанье неживых волоконец вокруг ушей или внутри головы — а может, не замечая, сам его как бы озвучивает. У нее была мысль попросить, чтобы он принес из дома какую нибудь книжку стихов для воспоминания, но опять же удержал страх, что будет читать только слова, не узнавая того, чем они были прежде. Она ведь и на Юру смотрела с мучительным напряжением: действительно ли с этим человеком что то было связано в ее жизни? — и не получала подтверждения.
Однажды он пришел, возбужденный больше обычного, принес целую папку бумаг, напечатанных на машинке, разграфленных и заранее заполненных, там надо было только поставить подпись. Речь шла об уже назначенном сносе дома, о необходимости срочно оформить развод и так же срочно оформить брак с Раей, чтобы тут же ее и прописать, в таком случае двум семьям должны бы ли бы предоставить отдельные квартиры, причем Юре с Раей как минимум даже двухкомнатную, потому что она очень кстати забеременела, и он уже договорился с кем надо обо всем, что надо, а с кем надо раздавил бутылочку-другую, это даже не так дорого стоило, ты не поверишь, такую возможность нельзя упустить, все в выигрыше, — похохатывал, возбужденный и довольный своими прохиндейскими способностями, но на нее посматривал с заискивающей неуверенностью: от ее подписи теперь все зависело. Слабые фигуры людей в больничных одеяниях медленно проплывали по больничному садику. Вялый умственный голос напоминал Симе об опасности подвоха — но такой он был ослабленный, такой безразличный, как будто речь шла не о ней: так было все равно. «Если б было все равно, люди б лазили в окно», — с готовностью подхватил он подписанные листки. «А люди не бздели, прорубили двери»…
Нет, он и тут ее не обманул, он действительно сделал, как говорил, даже в какое то учреждение, то есть суд, не только свозил ее из больницы, переодев в лучшее, из дома принесенное платье, но взял на себя все хлопоты, оформление и перевозку вещей. Без него бы она просто не справилась, могла бы, глядишь, и вовсе остаться ни с чем. Это лишь потом по настоящему до нее дошло; каких только историй она не наслушалась! При тогдашней ее беспомощности легче легкого было ее обмануть. Из больницы она вернулась уже в новую отдельную квартиру на первом этаже чужого девятиэтажного дома. Все вещи и мебель, включая пианино, были уже на месте и, вероятно, в сохранности, проверять подробно у нее не было сил, она извлекала потом разные предметы из упаковочных коробок долго, без охоты, по надобности, а так обходилась. Какая то у нее вдобавок появилась неприязнь к всегдашним вещам, даже к собствен ному белью; она, одеваясь по утрам, старалась как бы себя не видеть в этих зимних чулках с резинкой, лиловых рейтузах, спешила поскорей закрыться сама от себя платьем. Точно так же неприятен ей стал процесс еды — точно постороннее пристальное сознание против воли отмечало то, что должно было совершаться автоматически, без внимания, в потайной темноте кишок, желудка или мочевого пузыря. Наверно, это были тоже от ветвления болезни, с ними надо был справляться самой, не рассказывая никаким врачам, как не рассказывала она о тех же голосах, что до конца не утихомирились все-таки и в новой квартире.
Не могла же она в самом деле объяснить, почему, едва переселясь, позвала электрика срезать все провода и розетки радиотрансляции. Со стороны это выглядело, должно быть, скаредностью: платить за радиоточку и надо-то было всего 50 копеек в месяц. Да и от голосов это, увы, мало избавило, она сама про себя понимала, что они вряд ли нуждались в особых приспособлениях — иной раз знакомые, как будто уже где-то слышанные или читанные: вперед и глубже, на штурм заданья, значит, кашу не варить, а по городу ходить… Бормотанье на грани полуяви, полусна, без музыки, вперемешку с бессловесными шорохами, точно из-за стенки или с неизвестного этажа: скрип пружин, и тошнотворное чмоканье, и ритмичное, однообразное содрогание воздуха, и отчетливые до каждого слова шепоты. «Давай вот так, поудобнее». — «Вот так хорошо». — «Хорошо, клопов не стало». — «Не, один выполз, когда я стелила». — «Может последний, на издыхании». — «Может». — «А если нет, опять вызывать придется». — «Гарантию обещали на полгода». — «Пусть тогда бесплатно доделывают». — «Постой, я лучше вот так». — «Дверь закрыть не забыла?» — «Не забыла. Вот так хорошо?» — «А вот так?» — «М-м-м». — «Тише, ребенок услышит». — «Он все равно еще не понимает». — «Я маленькая была, уже понимала… У-и-и». — «Постой, еще не спеши». — «М-м». — «О-о»… И ритмично, однообразно, пробиваясь к наслаждению или облегчению — ведь бывает наслаждением даже облегчение нужды…
Существовали ли эти голоса взаправду, помимо ушей, была ли тут нерассосавшаяся до конца болезнь или необъяснимо обостренная восприимчивость слуха? В таких вещах вообще ведь не всегда разберешься. Когда твою кожу то тут, то там начинают покусывать как бы мелкие насекомые — какая тебе разница, существуют ли эти мураши на самом деле? Ты хлопаешь себя по зудящему месту и чешешь его, не разбираясь, — результат одинаков. Если начнешь так вдумываться: еще вопрос, зачем нынешние молодые люди носили в ушах музыкальные затычки, а другие включали на полную громкость свои домашние устройства, чтоб говорили явственно о погоде, о битве за урожай или просто играли — заглушая, может, что-то другое? Они, может, сами не отдавали себе отчета.
Надежда Симы на пианино в этом смысле, увы, не оправдалась. Оно, похоже, совсем расстроилось от перевозки, звуки не совпадали с теми, что помнились внутри, и не просто скребли кожу: дрожь струн передавалась через пальцы всему телу, так что подступало к глазам… Настройка ей вряд ли была теперь по карману, а главное, вряд ли ей это бы помогло.
Если что стало облегчением жизни, так это восстановившаяся привычка бессознательного ежедневного существования. Вернуться на работу в прежнюю библиотеку она даже не попробовала, туда и ездить было далеко, и не взяли бы ее, наверное, теперь. Ее вполне устраивала простая работа в газетном киоске. Зарплаты вместе с инвалидной пенсией было даже больше прежнего. Встаешь каждое утро в половине шестого, незаметно для самой себя совершаешь одни и те же повторяющиеся действия, так что через десять минут после завтрака уже и не вспомнишь, что ела, идешь зимой затемно, когда во многих окрестных окнах еще не зажигался свет, включаешь электрическую печурку для обогрева ног, принимаешь и пересчитываешь товар, а у окошка тем временем уже собирается очередь. Шофера, выезжавшие на работу с ближней автобазы, останавливали по пути свои фургоны, покупали для дневного чтения сразу по несколько газет. В половине пятого очередь побольше выстраивалась уже в ожидании «Вечерки». По чему-то многим не терпелось прийти заранее, хотя газет хватало на всех: просто нравилось, видимо, постоять, посудачить, обсудить новости. В основном это бы ли пенсионеры, а первым всегда оказывался местный дурачок Гриша, он покупал сразу десяток, чтобы потом перепродать опоздавшим с небольшой для себя прибылью; это был способ его заработка. Разговоры за окошком Сима слушала краем уха, не особенно их понимая, поскольку в больнице совсем уж отстала от имен и новостей, а телевизора и радио не имела. Даже газеты свои она лишь просматривала на первых страницах; заголовки слишком напоминали знакомые, смущавшие голоса: «Ускорим темпы», «Все глубже в недра»…
День за днем слипались в одно неразличимое вчерашнее время, как слипались друг с другом, происходя непрерывно, отдельные мелкие события. Из-за этой непрерывности их трудно было разделить потом в памяти. На Симу подействовал однажды разговор пожилой женщины в обычной очереди за «Вечеркой». Это была еще крепкая, уверенная в себе пенсионерка, из тех, что всегда бывают правы и все знают лучше других. Она с особой гордостью рассказывала, демонстрируя свои безжизненного цвета руки, что через них, через эти вот руки, прошли на заводе «Каучук» все поручни эскалаторов московского метро, с тридцатых еще годов. Она всю свою рабочую жизнь принимала у конвейера готовую продукцию и посыпала эти поручни тальком. Сима вдруг попробовала себе представить эту бесконечную толстую черную ленту, однообразно протекавшую через живые руки, через всю жизнь, день за днем — и какой же мерой надо было мерить эту жизнь, как было в ней различить сантиметры, метры или километры непрерывной полосы, пересыпанной тальком, чтоб не слипалась? Каким, то есть, тальком было пересыпать эти вот самые дни и часы однообразной жизни — все с той же, проходящей мимо сознания и памяти готовкой, стиркой, магазинами, процедурами в туалете и мытьем собственного тела? В памяти застревали скорей неприятности, нарушавшие этот нормальный поток: водопроводная авария, приступ серьезной болезни, обворованная (впрочем, по соседству) квартира. Хотя тут была тоже, наверное, своя неправда. Неприятности ведь не могли быть существенней обычной жизни, вспомнить можно было не только их…
Еще вдруг Симе пришло на ум, что человеку лишь кажется, будто он живет непрерывно всю свою жизнь. На самом деле это оказывалось невозможно, как невозможно было, например, всю жизнь бодрствовать. Какая то ее часть должна была уходить на сон, и это было вовсе не самым потерянным временем. Сновидения, скажем, бывали ярче остальной жизни — если их, конечно, удавалось вспомнить. Но то, что не затрагивало сознания и памяти, словно в самом деле исчезало из действительности. Можно ли было в собственном теле ощутить течение времени? Только замечаешь вдруг, точно очнувшись, что зубов во рту стало меньше, кожа на лице обвисла, разношенная, ничто, томившее между ног, не доставляет больше ни хлопот, ни волнений — а еще недавно бодрая, казалось бы, пенсионерка успела, глядишь, превратиться в не сразу узнаваемую, слезливую, сгорбленную старушку: вот она, уже не ходит по улице, а переступает, как переступают в очереди, надолго останавливаясь перед каждым следующим шажком. У приступочки же тротуара она вовсе замирала беспомощно, дожидаясь, пока случайный прохожий поможет ей спуститься. Но уж ухватив кого нибудь цепкой лапкой под локоть, старалась не отпустить подольше, плачущим голосом просила проводить до следующей приступочки, а если кто поддавался — и до магазина, и с первых же шагов начинала слезливо жаловаться на соседа, который всячески травил ее и обижал, подсыпал клопомор в кастрюли, а вчера (каждый раз это было вчера) стукнул ее половником по голове с явным желанием убить — вот, можешь пощупать шишку; жалоба переходила на дочерей, которые ни копейки ей не присылали, на собес, который обманул ее с пенсией. Были эти жалобы одно образны и докучны, попавшиеся один раз старались больше эту бабку не замечать, проходили мимо, как бы задумавшись или отвернувшись в более важную сторону. Сима покорно давала себя ухватить, и бабка облюбовала ее в свои постоянные жертвы. Она даже нарочно подгадывала для своих выходов час, когда в киоске начинался обеденный перерыв, так что Симе приходилось жертвовать частью этого времени, выслушивая слова, каждый день те же, как лента эскалаторных поручней, о которых старуха тоже продолжала поминать как о наивысшей гордости рабочего человека, создавшего вот этими вот руками все, что присваивала потом интеллигенция вроде Симы.
Симина покорность была не просто от жалости, ей как будто самой надо было немного подержаться за продолжавшую жить старуху. Ее смущало незаметное исчезновение других: просто переставали вдруг появляться во дворе и у киоска. Точно растворялись. Лишь иногда соседские старички и старушки собирались озабоченной тихой стайкой возле автобуса, дожидавшегося у подъезда, чтобы увезти такого же, как они, прямо из квартиры на кладбище. Было странное чувство все более спускаемого воздуха: как будто открывалась где-то дыра в неизвестную пустоту, с которой все здесь когда-нибудь должно было сравняться…
Однако настоящего сдвига чувств она бы не испытала, если бы нечаянная встреча не пробудила ее однажды точно от какой-то спячки. Это случилось в пору, когда из магазинов стали исчезать самые простые товары, и Сима как раз обнаружила, что осталась совсем без соли, потому что в отличие от других не позаботилась сделать основательные запасы. Кто-то сказал ей, что видел соль в одном из сравнительно отдаленных магазинов. Пришлось отправляться туда. Пачки соли были действительно сложены в витрине аккуратной пирамидой рядом с такой же пирамидой рыбных консервов, больше под стеклом ничего не было. Сима увидела их сразу от дверей, но прежде, чем у прилавка она подняла взгляд на продавщицу, сердце ее неприятно сжалось — точно знакомый, напоминающий о тошноте запах коснулся ее ноздрей. Нарумяненное, как у кустарных кукол, белое круглое лицо, естественно, располнело, как бы раздулось, и поредевшие волосы крашены были в белокурый цвет, но не узнать ее было, конечно, невозможно. Рая, судя по вздрогнувшей на губах усмешке, тоже явно ее узнала. Отступать было поздно, Сима быстренько опустила взгляд опять на прилавок, где, однако, ничего не прибавилось для разглядывания — но можно было считать, что она как бы сдержанно кивнула, ничего не уточняя словами. А в следующий миг увидела позади прилавка круглое детское личико. Мальчик двумя руками передвигал машинки по перевернутому картонному ящику из-под масла. Он вскинул на нее длинные загнутые ресницы, и взгляд его зеленоватых, словно затуманенных глаз уколол Симу.
«Мой», — с готовностью подтвердила Рая, не дожидаясь формального вопроса и вообще обойдясь без предварительного приветственного ритуала. Магазин был не менее пуст, чем прилавок, Рая была явно не прочь поговорить перед безмолвной, словно отчего-то онемевшей посетительницей. Сам вид ее делал необязательными особые выяснения, хватило немногих промежуточных междометий. Превосходство материнского положения было очевидным, Раю даже потянуло его немного затушевать. Она зачем-то стала рассказывать, как не удалось пристроить Славика в летний лагерь, а дома ремонт, и отпуска не дают, приходится мальчику вот так проводить лето. Даже погулять поблизости негде, все кругом, видишь, перерыто, и по нынешним временам выпускать одного боязно, тем более он такой рассеянный, ему вроде бы очки надо выписывать… Мальчик прислушивался к разговору, наклонив к плечу круглую мордашку. К грязной щеке его прилипла светло зеленая сухая сопелька. Про Юру в тот раз не было сказано ни слова, и Сима не спрашивала, она вообще не в состоянии была ничего спросить, только дожидалась возможности попрощаться. И лишь вернувшись домой, обнаружила, что соль-то купить забыла.
Так что на другой день у нее оказался повод наведаться в этот магазин снова — хотя она уже знала, что это всего лишь повод. Зато она опять увидела эту трогательную мордашку, эти загнутые ресницы и затуманенные, словно близорукие глаза, и мальчик ее узнал, сказал «Здравствуйте», и никакой неловкости не вышло, когда Сима вызвалась с мальчиком прогуляться в ближний парк, и Рая согласилась просто, как будто ей понятно было это естественное желание, с оттенком даже просьбы. Как будто она делала некоторое вроде бы одолжение с высоты своего превосходства. Но Сима не стала думать о самолюбии.
Это было короткое счастливое время, когда она просыпалась по утрам с чувством предстоящей радости — и тотчас вспоминала, отчего это чувство. У нее как раз начинался отпуск, который обычно выбивал из привычной размеренной колеи и только портил настроение, напоминая о незаполненном времени — неизвестно ведь было, что с ним делать. А тут целый день можно было занять детскими удовольствиями. Они гуляли по парку, кормили в пруду лебедей, катались на карусели, которой Сима не успела насытиться в свое время, ели вместе мороженое, которое она любила, но себе одной стеснялась покупать. Она словно наверстывала недополученное когда то и вспоминала вместе с ним собственные забытые умения, складывая бумажные кораблики и делая свистульки из стручков акации. Подняв из дорожной щебенки камешек гранита, она показывала Славику вкрапления красного шпата, белого кварца и особенно — плоские блестки слюды на разломе, которыми любовалась когда-то, когда ей было столько же лет и она собирала коллекцию доступных камней, потому что мечтала стать геологом, как папа. (В самом деле, надо же — сама забыла.) Прошлые и новые мелочи все больше наполняли ежедневную жизнь, она оказывалась как никогда вместительной — и продолжала разрастаться. Каждый день Сима что-нибудь Славику покупала: сладость, значок, игрушку — переживая вместе с ним знакомое, оставшееся неудовлетворенным чувство ожидания и радости от подарка. Ведь тебе в этом возрасте еще так мало дано. Только взрослые могут что-нибудь купить, заработать, сделать (как сама покупала себе когда-то цветы, ни от кого не дождавшись) — тебе все дается пока лишь в виде подарка — то есть как чудо. Они и дурачились, и болтали, как ровесники. Славик восхитил ее однажды загадкой: «Что такое: тридцать девять — бум, тридцать девять — бум?» Оказалось: сороконожка, одна нога деревянная. И Сима смогла ответить ему не менее смешной загадкой, которую ей рассказали когда-то, кажется, на работе: «Что такое: животное цвета сирени, видит одинаково спереди и сзади, прыгает выше колокольни»? Разгадка была невозможна: белая слепая лошадь. Потому что сирень тоже бывает белой, колокольня вовсе не прыгает, а слепая… ну, Славику не надо было растолковывать, он уже прыгал от восторга и требовал от нее вспомнить что-нибудь еще, и она, к собствен ному удивлению, вспоминала…
До окончания рабочего дня надо было отвести мальчика в магазин — о домашнем адресе речи не возникало, и даже телефонного номера Сима не спрашивала — да и зачем было? Славик, прощаясь, приникал к ней всем своим телом, тяжелым и вялым, головой уже ей по грудь, обвивал теплыми руками, а она пыталась его хоть чуточку приподнять. Рая глядела на них, снисходительно усмехаясь крашеным ртом, зажигала сигарету. Перед уходом Сима покупала у нее что-нибудь необязательное — словно требовалось дополнительно оправдывать чем-то свое появление здесь. Запас соли тоже в конце концов ни у кого не портится. Ей было неприятно обнаружить, что Рая, получая деньги помимо кассы, явно ее обсчитывала. К таким вещам Сима вообще-то привыкла, причем именно со знакомыми продавщицами. Они сами ее откровенно как-то и просветили: а на ком зарабатывать, как не на знакомых? С незнакомыми еще неизвестно, на кого напорешься… Но тут показалось как-то неприятно, хоть все деньги то были копеечные. При этом Рая не упускала случая пожаловаться всякий раз на жизнь, на Юру, который не просыхал, по ее словам, от запоев, и в дом давно уже не носил, только из дома. Дай ему волю — все бы про пил, до коронок, и сколько это еще терпеть? Ремонт все никак не кончится, они ведь договаривались платить оба, так нет, он тут же, конечно, слинял, ей все приходится тянуть одной, и дом, и сына… Сима плохо тогда поняла, при чем тут ремонт и в каком смысле Юра слинял. Ее только удивило вдруг странное сознание, что всем приходилось почему то труднее, нежели ей, в самом деле, она даже не могла бы сказать, чего ей не хватало в смысле квартиры, еды, одежды, не говоря о зарплате вдобавок к пенсии. У одинокой ведь сами потребности меньше, тем более что и ела то она, как птичка… И тут же открылась другая мысль: что она, избавленная от забот, своими деньгами вносила как бы добровольный налог на содержание Славика — каким еще способом она могла бы дать эти деньги Рае? От такой мысли ей стало просто и весело, она не только не заботилась теперь пересчитывать сдачу, но сама сознательно добавляла.
Как-то с прогулки она завела Славика к себе домой, покормить домашним, заранее приготовленным обедом. Даже мясо для жаркого удалось достать, и слив купила на рынке. Хоть она и немногое умела готовить, но в кафе и столовых была вообще не еда. Мальчик, едва оглядевшись, сразу прилип к пианино, стал трогать пальцами клавиши, и разрозненные звуки отозвались в ее теле такой живой — как будто очнувшейся, сладкой дрожью! Сима осторожно попробовала сама — и не ощутила испорченного, скребущего дребезжанья. Она стала показывать Славику мелодию, направляя к нужным клавишам его теплые мягкие пальцы… (Как сладко было эти пальчики нечаянно встретить в тарелке с про хладными гладкими сливами!.. Прикосновение нежности и любви.) «Я ехала домой, душа была полна», — вместе с мелодией проявились вдруг в памяти слова, пахнувшие когда-то мартом, талой водой, холодным вагоном трамвая. Душа была полна… точно оживало воз вращавшееся неизвестно откуда чувство… Неясным для самой… Слова, оказывается, не исчезли в ней насовсем, они где-то хранились, существовали, и вот сумели пробиться… Душа была полна неясным для самой каким то новым счастьем…
И вдруг в приливе нежности она поняла, что надо ей сделать. Она подарит это пианино Славику. У него явно были способности, он схватывал так быстро, и мелодия под его пальчиками звучала такой нежностью! Ей пианино ведь в самом деле уже ни к чему. Проблема была лишь в том, как это сделать без неловкости.
Случай опять сам пришел ей на помощь: в тот самый день, когда она отводила мальчика в магазин, перед входом им встретился Юра. Сима его, возможно, не сразу узнала бы, если б не Славик. Он бросился отцу на шею, и Юра вскинул его вверх, повертел на вытянутой руке под небом, и у Симы вместе с мальчиком замерло сердце в испуганном восторге. Юра был в грязной спецовке грузчика, щеки в серой щетине, одного переднего зуба внизу не было. Без объясняющих разговоров, по одному его виду можно было догадаться о его состоянии, и что он здесь торчал в надежде получить у Раи на опохмелку. Но взгляд наглых зеленоватых глаз был тот же, и после нескольких слов он стал казаться тем же, узнаваемым: прежние черты проявлялись сквозь порченую временем поверхность.
— А ты прям совсем не изменилась, — сказал он с некоторым даже удивлением, отпустив сына в магазин. — Ну, кожа, допустим, малость того… А так — прям как из холодильника… Сима-Сима-Серафима, да за что же ты любима? Помнишь, как я?.. Играй, играй, тальяночка… Да? Раз сыграешь — и не переиграешь. Так почему-то всегда выходит. Мужику, говорят, что надо? Чтоб было за что подержаться, да? Не в смысле, что я нас с тобой имею в виду. Но просто, как говорят, такие выходят дела. Как сажа бела. Не вышло, значит, мочала, начинай сначала. А? Может, действительно? Как ты считаешь?
Сима слушала его в странном смятении, понимая, что ответных слов тут быть не может. В этом привычном механическом ерничанье не следовало искать смысла, он просто говорил слова, чтобы отогнать какие то другие. «Но тогда бы не было Славика», — готова была она сказать — как будто имея в виду утешение. Но это тоже лишено было смысла. И в какой то момент, когда в Юриных словесах возникла пауза, похожая на утомленный сбой, Сима — будто вдруг вспомнив — сказала про свое решение подарить Славику пианино.
Он, показалось, не сразу понял, а может, не сразу вспомнил, что у нее есть пианино. Или не сразу поверил. Сима поспешила добавить, что ей пианино действительно совсем не нужно, а мальчика надо учить, у него настоящий слух и, главное, желание. Вот тогда он опять оживился, обрадовался, заявил, что прямо на днях сам приедет с грузчиками и без промедлений перевезет инструмент.
Сима была довольна простотой решения. Войдя в магазин, она тут же сообщила о подарке Рае и Славику. Ах, как обрадовался мальчик, как запрыгал и захлопал в ладоши, как прижался к ней своим вялым, теплым, тяжелым телом, которое ей так хотелось всегда и так не удавалось приподнять! Она целовала эти прохладные щечки (под снисходительным взглядом матери), как будто в них содержалось что-то, происшедшее внутри…
Почему она сразу не сопоставила очевидных, уже известных ей обстоятельств? Ну, хотя бы того, что ремонт был затеян не просто в связи с обменом квартиры и уже близким переездом, что Рая с Юрой давно не жили вместе, а теперь фактически разъезжались? Юра приехал с грузчиками действительно без промедления — следующим же вечером. Выносили они инструмент без сноровки, задевали за стены, за дверной косяк и даже поцарапали в передней обои — а она еще не подозревала, что натворила. Придя на другое утро в магазин, Сима не стала вначале спрашивать, как довезли пианино, ждала, что Рая заговорит об этом сама, скажет хотя бы спасибо. Славика при этом не было, он задерживался в туалете, что-то у него случилось с животом, они обсудили возможную причину; надо было просто его дождаться. Неудобно же было напрашиваться на благодарность. Но, так и не дождавшись хотя бы вежливых слов, с чувством вынужденной нескромности, Сима все таки спросила: «Ну как Славик, играет?». И по взгляду Раисы поняла, что что то не так, и упало сердце… Прикрыв глаза и запрокинув лицо вверх, Рая стала беззвучно смеяться, в этом смехе и гримасе лица — как смазанная на губах помада — было какое то усталое брезгливое презрение. Сима поняла, что не сможет дожидаться приближения почудившихся славикиных шагов — и вообще не сможет его больше увидеть…
Так оно и получилось — отчасти само собой, потому что, разменяв вскорости квартиру и переехав в другой, неизвестный, район, Рая поменяла, видимо, и место работы. Узнавать новый их адрес Сима даже не попыталась…
Легонько закрапал дождик. Прохладное прикосновение вернуло ее в сквер. На крыльце школы никто все еще не появлялся, только две девочки с собакой взбежали спрятаться под козырек. Неужели придется уходить?.. Однако тут же, словно удостоверяя недолговременность дождя, между высоких домов пробился луч солнца. На открытом месте, возможно, светилась сейчас радуга. Издалека донесся слабый звук колокола — где то там была церковь. Сколько их объявилось в городе, будто затаившихся прежде, иной раз со снятыми куполами, не говоря о крестах. Неподалеку от Симиного дома тоже обнаружилась церквушка, называвшаяся прежде складом. Однажды что-то потянуло Симу туда зайти — точно потребность вспомнить дальше забрезжившие было в памяти строки. Я ехала домой… и какой-то благовест?.. звучало уже близко… Была оттепельная слякоть, многие люди шли в ту же сторону, все больше женщины, почему-то с разнокалиберными бидонами в руках. «А где здесь воду продают?» — уже у самой церкви спросила ее попутчица, тоже, видимо, новенькая. «Вон там, у ворот, очередь», — пришла на помощь другая, уже с полным бидоном. «У, долго!» — засомневалась женщина. «Нет, быстро пройдете. Здесь такой порядок». Сима неуверенно пошла вслед за прочими. Ее смущало, что она без бидона, она не знала, как себя вести. У ворот распоряжался пожилой мужчина в черной железнодорожной шинели с оловянными пуговицами, пропускал небольшими партиями. «Не торопитесь, проходите организованно, в порядке очереди», — услышала Сима — и не могла понять, от кого же исходит голос. Железнодорожник вроде бы не раскрыл в это время рта, она как раз на него смотрела. То был укол знакомого, болезненного испуга, от которого, казалось, почти удалось избавиться. Она все еще напряженно сжималась вся, прислушиваясь к чему-то в церкви, где пахло одновременно известкой и ладаном. У стен стояли строительные леса. Пение и неразборчивый речитатив отдавались под голыми сводами, эхо множило разноголосое бормотание, сквозь него проступало все еще непонятно откуда: «Почем поллитра?» — «Два пятьдесят». — «А раньше было». — «Не говори»… Симе стало не по себе, она поспешила выбраться на воздух…
Если бы при всем том можно было самой распоряжаться еще и своими мыслями, не допуская ненужных! Долгое время она в прихожей не могла не глянуть на по царапанные обои. Надрыв удалось подклеить почти не заметно, и все-таки она искала его взглядом — как будто нужно было и в себе вспоминать надрыв. Конечно, время само понемногу все таки что-то разглаживало. Зато помимо всяких желаний в мозги лезло что угодно: бессвязные клочки, имена прежних сослуживцев — Баснер, Китаева, Клавдия Николаевна ругалась с Машей из-за перегоревшего кипятильника, в палате, пропахшей мочой, обвиняли кого-то за пропажу из холодильника продуктов, и ты понимала, что это говорят тебе, но как было доказать теперь свою невиновность?..
Однажды Сима поняла, что надо иметь рядом хоть кого нибудь, способного все-таки притягивать к себе мысль и чувство. Это оказалось не так просто, как думалось — даже с кошкой. Сима подобрала ее зимой, ничейную, дожидавшуюся у входных дверей, чтобы ее пустили в подъезд погреться. Маленькая, с трехцветной шерстью, она оказалась ласковой, привязчивой, чистоплотной и совершенно не хотела больше на двор. Ночью она устраивалась спать прямо на Симе, и Симе было не тяжело. Через одеяло передавалось тепло и урчащая дрожь маленького дышащего тела. Только вот к весне кошка забеспокоилась, она не находила себе места, бродила по квартире, подолгу задерживаясь у дверей, с мучительно громким мяуканьем, обрызгивала понемногу мочой разные неподобающие места, выставляла напряженный маленький задик. А то ложилась прямо под ноги Симе на спину и томно поворачивалась с боку на бок, задрав изящно согнутые лапки. По неопытности Сима не сразу сообразила, в чем дело. Мысль о появлении в доме еще и котят ее заранее пугала, но выносить кошкины мучения тоже было превыше сил, и, не зная других способов справиться, она однажды все-таки согласилась выпустить бедняжку на улицу. Благо, на первом этаже это было просто. В первый раз кошка пропадала сутки, Сима уже думала, что не вернется. Однако вернулась — утомленная, успокоенная, с жадностью набросилась на еду. А на другой день стала еще неистовей проситься у двери, и Сима опять не могла ее не выпустить. Продолжалось это недолго. Однажды кошка все-таки не вернулась, Сима попробовала ее искать, а потом встречная соседка спросила: «Это не вашу кошку разодрала овчарка из восьмидесятой квартиры?» — и стала рассказывать, как это произошло, но Сима уже не слышала и от предложения посмотреть растерзанный трупик отказалась. Больше она никаких животных завести не пыталась — от страха кого-нибудь опять потерять.
Зато с кем оказалось в этом смысле просто, так это с мухой, которая завелась в доме сама собой — слава богу, одна. Сима потом со стыдом вспоминала, как в первый момент по автоматической привычке чуть было ее не прихлопнула. (От насекомых у нее были марлевые сетки на узких створках всех окон.) Муха вырвалась из-под руки, заметалась возмущенными зигзагами, зажужжала обиженно и сердито, но далеко улетать не стала, опустилась на прежнее место, как будто испытывая, станут ли ее обижать еще раз. Даже смотреть не стала на хозяйку, села к ней задом, чистя лапки — но Сима-то знала, что на самом деле муха умеет видеть и позади себя, так устроены ее выпуклые граненые глазки. Потом муха все же повернулась к ней и принялась чистить передние лапки — точно соглашалась не обижаться и предлагала мир. Симу развеселила эта добродушная повадка, она нашла на скатерти хлебную крошку, пододвинула к мухе. Та в первый миг взлетела, но тотчас опустилась, подползла к крошке, стала трогать ее черненьким хоботком.
С тех пор они все больше привыкали друг к дружке. Муха безбоязненно ползала рядом с рукой и по руке, позволяла сколько угодно за собой наблюдать, а тем более с собой разговаривать. Уходя из дома, Сима оставляла ей на специальном блюдечке разной мелкой пищи, как домашнему существу, а однажды купила обеим баночку смородинового варенья — на себя одну бы не стала тратиться. Поскольку муха была в квартире единственная, это позволяло не путать ее с незнакомыми и не опасаться размножения. Даже для проветривания Сима зря окон не открывала — разве что иногда осторожно.
Непонятно, однако, было, каким образом — при марлевых то сетках — на оконном стекле оказалась однажды залетная гостья: пчела. Она в отчаянье пласталась и билась о невидимую прозрачную преграду, не могла понять, что же ее не пускает к свету, к вольному воздуху. Муха притихла где-то в отдаленном укрытии и появилась снова, лишь когда Симе удалось осторожными подталкиваниями выпустить непонятную, угрожающе шумную, но все-таки глупую незнакомку.
Живительно, подумала однажды Сима: как будто муха стала существовать только теперь, потому что я в нее всматриваюсь и о ней думаю. И чем больше я в нее всматриваюсь, тем больше она существует: с этими вот глазками черно радужными, с лапками в зазубринках, которые она так забавно чистит одну о другую, с трудной жизнью среди громадных опасных существ, которые так и норовят тебя прихлопнуть, безо всякой вины, причины и надобности. А до этого было так, неприятное раздражение, досадный шум около уха: ж-ж-ж. Вон как сосед с какого-то верхнего этажа затеял ремонт и сверлит дрелью целыми днями: ж-ж-ж. А ты даже не знаешь, кто это, из какой квартиры, как его зовут, как выглядит. Хотя, наверное, встречалась в подъезде, но даже не отметила взглядом. Интересно, думала Сима, чувствует ли муха, что благодаря мне она все больше существует? Смешная мысль. Может, она заслуживает, чтоб ей дали имя. Может, это про нее уже написаны какие-то стихи. Смотрит на меня… и что, интересно, видит? Может, и я для нее теперь не просто опасная стихия, от которой жди только беды? У меня тоже есть жизнь, есть имя? Способна она обо мне тоже что то та кое думать? И я для нее тоже кем то становлюсь? Может, каждому надо, чтоб в него именно всмотрелись, не мимоходом, а выделив среди других, тогда ты станешь существовать не просто так, а для кого то…
Конечно, таких глупых мыслей никому, кроме мухи, лучше было не выдавать. Сима сознавала, как нелепо, наверное, было вообще размышлять собственным недостаточным умом над вещами, которые за тысячи лет скорей всего уже продумали и решили люди, с тобой не сравнимые, просто ты не добралась — и не доберешься уже, наверное, никогда до этих книг. Все равно что биться головой о стекло, как та пчела, не понимая преграды — но существует ли рука, которая приоткроет тебе окно и все разрешит? Сложность-то была в том, что никакое чужое, снаружи, знание не могло заменить внутренних попыток. Пусть это даже глупые заскоки. Существовать в действительности могло только внутреннее понимание. Память об установленной когда то врачами болезни в каком то смысле помогала ей не стыдиться и не осекать собственных мыслей.
К осени муха стала совсем ручной, она не улетала, да же когда ее трогали пальцем, и до Симы не сразу дошло, что это признак не доверия, а слабости, по видимому предсмертной. Однажды она обнаружила муху на подоконнике в виде безразличного катышка грязи и чуть было не смахнула ее тряпкой для протирания пыли. Но, узнав убогое тельце, положила его на верх шкафа — с мыслью, что у мух смерть может быть не окончательной, их преимущество перед людьми — в способности оживать со временем. Если, скажем, весной тельца на месте не окажется — можно ведь думать, что она где-то продолжает существовать, просто исчезла из лично твоей жизни. Не впервой. Сколько уже так исчезло. Это не всегда окончательно. Про людей мы вообще, может, меньше знаем…
Ей самой знакомо было не просто состояние, похожее на повседневную безжизненную спячку. Иногда в минуту слабости, напоминавшей безразличие, улегшись прямо в одежде на постель, она могла расслабиться так, что исчезало чувство тела, отделенного от окружающего пространства, само пространство теряло очертания, все растекалось, как дыхание, неизвестно куда. Оставалось ощутимым лишь последнее зернышко внутри — тепло дотлевавшей искорки. От твоего желания зависело окончательно от него отказаться — но остаточное сопротивление заставляло тебя все-таки вернуться непонятно откуда. Как будто действительно надо было зачем-то вставать, делать все те же дела, идти все в тот же киоск.
Против киоска рыли какое-то углубление в земле, огородив траншею бетонными плитами, на одной из них было крупно мелом написано: «Бабка дура!». Каждое утро из двухэтажного здания почты напротив выходила эта самая бабка, тощая, в домашних шлепанцах или галошах на босу ногу, с подметальной щеткой и скребком. С некоторых пор она поселилась здесь на правах то ли сторожихи, то ли дворничихи, а скорей всего просто из милости, и каждый день с утра приводила в порядок асфальтовый пятачок перед почтой, через который тут же начинали ездить самосвалы с грунтом. Грязь отлетала комьями с мощных рифленых колес, сыпалась из кузовов. Старуха тут же принималась убирать снова, не смущаясь бесполезности своего труда. Наверное, она тоже была не совсем нормальной. Несчастьем ее были окрестные мальчишки, она их всех заранее подозревала в стремлении мусорить, хулиганить и пакостить, встречала и сопровождала чудовищной мужицкой матерщиной, замахиваясь подметальной щеткой — зачем? Вначале они пугались ее, поскорей отбегали на безопасное расстояние, потом поняли, что ничего она им взаправду сделать не может, и стали изводить ее всевозможными пакостями — да не дразнильными надписями только. Один раз даже стекло ей камнем побили. Если, конечно, считать, что стекло было ее. Постепенно она утихомирилась, смирилась с неизбежным злом их существования, только при всяком случае жаловалась на извергов проходившим знакомым, таким же убогим старухам. Те охотно слушали, чтобы тотчас в ответ излить собственные жалобы: на недостаточную пенсию, на детей, на соседей, на приезжих, из-за которых не протолкнешься в магазинах, ну, и вдобавок на правительство, которое в конечном счете было во всем виновато. Та, опершись на палку щетки, с терпеливой скукой кивала, дожидаясь очереди возобновить свою партию. Насчет правительства у нее было, впрочем, особое мнение.
— Правительство не виновато, — говорила она. — Это все ебетня.
— Чего? — переспрашивала собеседница.
— Ебетня. Рожают детей без конца, а потом их корми. Разве напасешься, когда их вон сколько? Никакое правительство не напасется.
Собеседница отходила, покачивая головой, то ли для лучшего усвоения новой мысли, то ли отмахиваясь от нее, а бабка снова принималась восстанавливать бессмысленную чистоту на своем пятачке — до следующего самосвала. Сима тоже покачивала головой, глядя на нее из своего киоска, чутким слухом улавливая с расстояния даже продолжавшееся бормотание под нос — вперемежку все с той же бессмысленной матерщиной. Но что-то было для нее ободряющее в этом безумном упорном нежелании уступать, сдаваться. Она сама бы не могла объяснить своего чувства. Наверно, правильней было в него и не вникать.
Потому что простым умом невозможно было справляться со смущавшими разговорами, новостями, с неясными угрозами, которых в жизни возникало непонятно откуда все больше и больше. У киоска, хоть теперь и не было прежней очереди за «Вечоркой», всякий день обсуждали то газетное убийство, то повышение цен, то захват заложников — где-то все время по-настоящему воевали. Больней же всего задела Симу близкая новость: о несчастье с участковым врачом Лисицким. Его подстерегли возле дома неизвестные хулиганы, перебили ноги железной трубой, а вдобавок еще поколотили до полусмерти. Вроде бы за то, что отказался выписать то ли больничный лист, то ли рецепт наркотического лекарства. Он был еще не старый, лет под пятьдесят, на вид крепкий, а жил, оказывается, одиноко, никого у него не было, и женщины у киоска сговаривались, чтобы носить ему в больницу передачи.
Сима этого Лисицкого сама побаивалась. Мужчина в роли участкового врача и так вызывал стеснение, а этот был еще известный грубиян, всякий свой визит по вызову начинал с раздраженных жалоб на мнимых больных, которые замучили его выдуманными болезнями, хотя у пожилых всего навсего обычный климакс, могли бы и без врача справляться. Сима и так старалась до крайней надобности обходиться сама. Мысль о врачах ее вообще как то заранее смущала. С температурой, и то шла иной раз в киоск, а приступы непонятной слабости объясняла для себя собственными догадками, и они проходили сами собой. Одна полузнакомая женщина как-то захлопотала, увидев ее в киоске: «У вас же губы совсем белые». Вытащила из сумочки стеклянный цилиндрик с таблетками, заставила ее одну положить под язык, остальные оставила про запас. «Как же вы можете с таким сердцем не обращаться к врачу?» Таблетка в тот раз действительно подействовала ускоренно, Сима прибегала к этому способу еще раз-другой, но к врачу все-таки идти медлила. Тем более, несколько таблеток у нее еще оставалось, она их экономила — на крайний случай. И вот как, оказывается, опоздала…
Из-за того же смущения перед врачами она ведь и на ослабленные глаза пожаловалась не сразу, просто ухитрялась обходиться все больше без мелкого чтения — пока и со шрифтом покрупней не стала затрудняться.
(А надо же было и в разных ведомостях расписываться.) Газет она не стала читать, даже заполучив очки, только пробовала понемногу просматривать. Новости все таки с трудом укладывались в голове. В каком-то зоопарке шестиклассник залез в клетку пантеры и попытался отнять у нее кусок мяса. Бездомные погорельцы заняли здание тюрьмы, поставленное на ремонт, и потребовали, чтобы их там, в камерах, прописали. А где то в приморском городе беженцы расселились в санаториях и выходили в море ловить рыбу на водных велосипедах. Только головой можно было покачивать — но ничто от этого не утрясалось.
Другое дело были, конечно, книги. Читала она не так много, как раньше, и старалась выбирать истории, где речь шла о других временах и странах, о людях, никак на нее не похожих. С детства держалось чувство наивного удивления: как возникают новые, никогда не виданные картины — из соединения чужих слов, но внутри тебя, и потому оказываются все-таки немного твоими. Зато что-то сопротивлялось описаниям жизни, именно узнаваемой, похожей на твою. Не просто потому, что казавшееся тебе единственным, необыкновенным, таинственным выглядело здесь общеизвестным и до тоски заурядным — для этого существовали, оказывается, слова, напоминавшие готовые бесчувственные термины, вроде медицинских, а иногда такие же неприятные.
Но хуже и непонятней всего было со стихами. Словно продолжало держаться в голове все то же болезненное замыкание. Казалось бы: не можешь сама вспомнить нужных строк — вот тебе книга, открой, перечти, заучивай наизусть снова… Нет, что-то тут не получалось именно по-настоящему. Что-то внутри мешало стихам не просто вернуться в память (насильно заученные слова задерживались почему-то все равно ненадолго), но совпасть с чувством изумленного узнавания, когда-то похожего на открытие. Ведь именно в стихах существовали слова о, казалось бы, не раз виданном, испытанном — но такие, что тебе самой в душу не приходили и вроде бы прийти не могли; теперь оставались неживые, склеротические оболочки…
Это было трудно выразить, но однажды что-то близкое вдруг померещилось ей, когда на газетный киоск обрушился июньский ливень… Чувство свежести и прохлады, словно возникшей когда-то из давних, таких любимых строк, когда шумел по окну дождь, и влажные ветки лезли из сада… — как он умеет это передать! — восхищенно думала ты, не в силах оторвать взгляд от страницы, и слух не воспринимал ропота струй, хлещущих по стеклу… Сима очнулась от нечаянной задумчивости. Под неплотно задвинутое окошечко на пластиковый прилавок натекла выпуклая лужица, в ней отражался свет неба. Ветви тополя, нависавшего над киоском, еще откликались на прощальные порывы ветра. Крупные капли звучно плюхались в лужи… Какие же это были стихи о дожде?..
Расслабленный взгляд соскользнул на брошюрку, поступившую утром вместе с газетами. Серенькая, стандартного вида, с силуэтом березы и трудночитаемым заголовком: «Конец дороги». Механически открыла страницу — и удивилась: это оказались стихи. Утром даже не посмотрела. Надела очки, вгляделась в начальную строку — и точно коснулась провода: «Что же делать, стихи никому не нужны»…
Неожиданней самих стихов было для нее собственное волнение. Женщина-поэтесса ощутила вдруг, что все написанное и прочувствованное ею за долгие годы ушло в пустоту, невесть куда, никого не коснувшись. Имело ли смысл бормотать свои слова дальше — опять неизвестно кому? Зачем была тогда вся жизнь, все труды, от которых уже не останется следов? «И тоска неуемная душу грызет. Кто меня помянет?»…
Наверное, стихи были в самом деле хорошие, Сима ощутила эту тоску в самой себе с такой силой, что не вольно сжалась. Что же это было такое? Зачем она так? Нет, дело было не в том, права или не права грустная женщина: вот, коснулись же ее слова хотя бы одного человека, не ушли ни в какую пустоту. И книжка — вот она, существует. Но что же тогда делать другим, которые никаких стихов не смогли написать и вообще ничего после себя не оставили — кроме какой нибудь бесконечной ленты каучуковых поручней? И то, если еще по везло. Пока этот каучук не сносился, не истерся прикосновениями рук, есть хотя бы что вспомнить. А если и поручней от твоего существования не возникло, ни предметов, ни записанных слов? Если кто-то не оставил после себя далее детей? Что ж, выходит тогда, жизнь вообще ничем не была оправдана — ушла куда-то именно без следа и смысла, напрасно, как будто и не было? Так не могло быть, она ведь помнила по себе, что-то тут было не так…
По пути на обеденный перерыв домой Симу остановил вдруг полузнакомый мужчина, сосед со второго этажа: «Можно вас на минуточку?». Остановилась с недоумением, немного даже тревожным, ожидая, что он скажет. До сих пор они, кажется, лишь просто так здоровались, она далее не знала его по имени, как не знала большинство населения в этом геометрическом однообразном доме — считай, небольшой городок. Сосед стоял молча, шевелил губами, цвет лица был болезненно-серый. «У Любочки сегодня день рождения», — проговорил вдруг, непонятно к чему. Нитка слюны стекла с мятой стариковской губы, и это показалось ужасней, чем если бы слеза капнула. Сказал и пошел дальше. А Сима осталась стоять, словно обессиленная. Она только тут вспомнила, что у соседа полтора года назад умерла от белокровия жена, она ее помнила, моложавая на вид женщина, зимой иногда ходила перед ее окном босиком по снегу — для закалки. И вот он, оказывается, как… И не перед кем было высказать…
Она не могла бы внятно выразить нахлынувших чувств. Словно еще один укол чужого тоскующего одиночества нарушил какой-то охранительный механизм, помогавший ей до сих пор терпимо держаться без волнующих соприкосновений с другими — а может, и с чем-то в себе самой. Она не могла объяснить, какая смутная потребность побудила ее вдруг достать с антресолей один из картонных ящиков, так и оставшихся нераспакованными со времен переезда; там должны были лежать семейные альбомы с фотографиями. Сима не первый раз уже вспоминала про них, собиралась из влечь, но как-то не доходили руки. А может, не так уж на самом деле и хотелось. Ее точно смущала какая-то навязчивая сила этих изображений, способных подменить что то в собственном чувстве, если не просто в памяти. Она ощутила это однажды, обнаружив, что не может вспомнить даже родителей иными, чем на не скольких посеревших отпечатках, порознь и прижавшихся щекой к щеке. Эти фотографические лица, слов но вырезанные, приставлялись к телам любого воспоминания.
Оба альбома были в одинаковых переплетах красного плюша с кустарно вклеенными фотокартинками: «Память о Кисловодске». Наверное, и куплены были там одновременно для накопившихся отпечатков. Между альбомами оказалась проложена тонкая бархатная подушечка, на ней по уголкам крестиком вышит орнамент, а посредине цифры: 1914, каждая своим цветом: розовым, голубым, зеленым и желтым. Сима помнила, как в детстве иногда полеживала на этой подушечке, а то и просто подкладывала под себя на жесткий стул, совершенно не интересуясь цифрами и не понимая, что они обозначают. Это вышивала ее бабушка, а может, прабабушка. Сима сразу попробовала найти ее фотографию среди других, лиловых и коричневатых, наклеенных на твердый тисненый картон; но нигде на обороте не оказалось надписей, а она сама не помнила, да может, никогда не знала, кого изображают эта уже немолодая женщина в длинном черном платье и черной наколке, этот бородач в мундире с петлицами неизвестного гражданского ведомства, стоявший рядом с ней, положа руку на высокую витую колонку. Рассказывала ли о них когда-нибудь мама? Не вспомнить… А вот и она. Молодая женщина в легком цветастом платье. Ее ты действительно знаешь, это была на самом деле твоя мама, и молодой человек в кепке — твой папа. Его ты почти не видела, он утонул в экспедиции, и мама умерла вскоре от сердца… Нет, никакого настоящего чувства, никакой памяти о действительном чувстве эти отпечатки не вызывали.
Второй альбом нечаянно соскользнул с колен. Незакрепленные фотографии вывалились из него на пол. Сима, опустившись, стала их подбирать, задерживаясь то на одной, то на другой непонимающим, неузнавающим взглядом. Вот эта, в школьном фартуке, с челочкой и остреньким подбородком — видимо, ты. Но словно посторонняя, чужая. Не узнала бы себя на улице среди других. В пять ярусов друг над другом — коллектив выпускников такого-то техникума. Не твоего. Три девушки на людной улице, в серых плащах, элегантно подпоясанных. Такой плащ ты как раз не давно вытаскивала из старого чемодана, чтобы отдать неизвестным побирушкам. Позвонили в дверь, назвали себя погорельцами, просили хоть чего-нибудь из одежды, и ты, не выбирая, вытащила им целую кучу вещей, вполне пригодных, которыми просто не пользовалась, а потом, выйдя, увидела всю кучу брошенной у мусорных баков. Видно, погорельцы сочли это вышедшим из моды… А кто вот эти прохожие вокруг? Чья это незнакомая компания за столом неизвестного торжества: бутылки, тарелки, блюда, и себя тут можно поискать? Еще компания на берегу реки, девочка в купальнике… нет, явно не ты, но вот как будто твоя голова высунулась из воды. На песке надувной круг. Вроде бы некоторые знакомы. Посередке расползалось желтое пятно, как на простыне, которую выставляли напоказ по утрам в пионерском лагере, позоря обмочившихся. Запах больницы, тоски, убожества, горестных человеческих выделений. Сколько людей проходит в нашей жизни на правах случайных соседей по групповой фотографии! Может, в чьем-то альбоме и твоя голова высунулась, никому не известная. Ты даже не подозреваешь об этом, но твоя безымянная тень обмерла где-то, непонятная, неприкаянная, приплюснутая плюшевой обложкой — может ли ее кто-нибудь оживить?..
Трудно было объяснить чувство, вдруг погнавшее Симу из замкнутых стен. Как будто стены не просто отгораживали ее сейчас от других, но мешали соединиться с чем-то в самой себе. Хотелось поймать, ощутить чей-нибудь встречный взгляд. Но слишком быстро все проходили мимо, глаза лишь казались видящими. И видела ли ты их прежде сама?.. Поток увлек ее в подземный переход. Это оказался вход в метро, и Сима пошла за всеми без собственной цели. Ее волокло, словно предмет по дну, только медленнее прочих. Под землей она вообще не любила ездить. На нее всегда угнетающе действовал вид множества людей, которых всасывало в эскалатор через устье сужающихся никелированных поручней, словно горловиной песочных часов. Она и не спускалась сюда давно. Отражаясь от сводов, звучала из невидимого источника знакомая громкая музыка — старинное танго. Пройдя еще немного, Сима увидела игравшего на аккордеоне лысоватого человека со стальными зубами. Против него стоял, прочувствованно мотая опущенной головой, должно быть, заказчик. В кепке на полу лежало несколько денежных бумажек, но прежде, чем Сима сообразила бросить, ее пронесло дальше плотным потоком.
Она постаралась выбраться к краю, чтобы еще больше замедлить самостоятельное движение. У кафельной стены в переходе стояла женщина с тремя симпатичными котятами в лукошке — неужели продавала? Никогда прежде не видела Сима под землей такого разнообразия продавцов — торговый ряд, иначе не скажешь. Большая белая доска увешана была очками в оправах и без, рядом красивое сооружение из искусственных цветов, похожих на настоящие. Еще целый ряд людей продавал взаправдашние документы: трудовые книжки, удостоверения участников войны вместе со свидетельствами о наградах, дипломы всевозможных университетов с готовыми печатями и даже экзаменационными оценками (только для фамилий оставлено было свободное место); еще какие-то корочки с двуглавым орлом, со щитом и мечом… Сима растерянно оглядывалась среди малопонятного кишения обогнавшей ее жизни, даже спрашивать объяснения было неловко. Молодая женщина без слов сунула ей в руку листок с адресом и номером телефона; Сима послушно взяла.
Лишь оказавшись в вагоне, она попыталась всмотреться в лица. Свет был ярок, чрезмерен до беспощадности. Дремотно прикрытые глаза, тени усталости, раздутые сумки на коленях. Напротив женщина вязала спицами, синяя шерсть тянулась из сумки. Многие читали, но не книги, как прежде, а газеты и журналы со знакомыми ей цветными обложками. У дверей две ярко накрашенные девушки смеялись и жевали резинку. На крайнем диване полулежал мужчина — из тех, кого с не которых пор стали называть бомжами, щека прикрыта воротником грязной спортивной куртки, на глаза надвинута кепка. В миг, когда на него посмотрела Сима, он тоже приоткрыл блестящий глаз — и тотчас притворно закрыл, как человек, не желающий, чтобы его поймали с поличным. Угреватый паренек наклонился к уху девушки. Что он нашептывал ей слюнявыми растянутыми губами, непристойности или нежные слова? Девушка оттопыренными пальчиками указывала его телу дистанцию приличия, в улыбке ее была готовность поддаться и одновременно недоверчивость. Как это было Симе знакомо! Почему девушки выглядят умней, прелестней и старше? — и что из того? Задерживать на них взгляд было нельзя. Сима скосилась на пожилого человека, сидевшего рядом. В руках у него была плоская красная коробочка с маленьким экраном, на котором мельтешили неразборчивые фигурки; он быстро тыкал пальцами по кнопочкам справа и слева, щека его дергалась в гримасе вдохновенного напряжения. Сима не могла понять, чем это он занимается. А в следующий миг она увидела перед собой мальчика лет семи — не заметила, как он приблизился. Он тянул к ней коробку из-под кукурузных хлопьев…
Она чуть не вскрикнула от укола, доставшего до самого сердца — хотя отдельным умом тут же поняла, что быть этого не может. Мальчик смотрел на нее выжидательно, как будто понимая обычное замешательство; просительно и терпеливо наклонил к плечу круглую милую мордашку. На грязной щеке зеленела прилипшая сопелька. Воздух еще колебался вокруг, сердце замирало на самом краю пустоты. Наконец она суетливо сумела раскрыть сумочку, вынула, не глядя, всю бумажную наличность, сунула малышу в коробку. Вагон уже тормозил. Дверь открылась, мальчик вышел — и вслед за ним метнулся притворно дремавший бомж.
До Симы вдруг дошло: он собрался отнять у малыша деньги. Она едва успела протиснуться между уже закрывавшихся створок. Бомж стоял на перроне рядом с мальчиком, коробка из-под хлопьев была в его грязных руках. Обернул к Симе небритое лицо, посмотрел некоторое время выжидательно, потом подмигнул.
— Чего, бабка, обозналась? Бывает. — Голос у него получился хриплый, она опять готова была сомневаться в действительности происходящего, где путались времена и сквозь прокол в дрожащем воздухе уходил остаток внутренних сил. Ноги едва держали. — Богатый буду…
Послюнявил черные пальцы, отделил от комка денег несколько бумажек, протянул их мальчику, остальные так же, комком, засунул за пазуху.
— Иди пока, погуляй. Купи мороженого, жвачки. Чего хочешь. Встретимся. — И повернувшись к Симе, осклабился в кривоватой усмешке: — Ну?
Еще одного зуба внизу у него не было.
— Мне здесь трудно дышать, — сказала Сима. — Выйдем наверх.
Она как будто надеялась увидеть еще раз мальчика. Что то путалось у нее в голове. Слова доходили сквозь шум, она больше всего боялась упасть, но ни одной скамейки поблизости не было. Юра заметил ее слабость, подхватил под локоть.
— Ты действительно не узнал? — спросила Сима.
— Не обижайся, это я так. Как тебя не узнать? Говорю же: ты и не меняешься совсем.
— Как из холодильника.
— Или законсервированная, — ощерил он щербатый рот.
Оба замолчали. Он как будто пытался вспомнить забытые прибаутки. А она не знала, как все таки спросить о мальчике.
— А где Славик? — вместо этого выговорила она.
— Славик? Чего Славик? Он теперь мужик, выше меня ростом. Последний экзамен вчера сдал. Все. Завтра как раз выпускной вечер. Вон, между прочим, его школа. Там, видишь, за сквером. Голубой дом. Райка им, конечно, весь банкет обеспечивает, икру достала и все такое. Она тоже выросла. Только вширь, во — поперек себя. У каждого свое направление жизни. — Он захохотал, что-то показалось ему в собственных словах смешным. — Я, между прочим, сам имею не меньше ее. Не в смысле вот этих грошей, не думай. Дело не в них. Я свою квартиру за хорошие деньги продал, а теперь не хуже устроился. Хотя вообще эти сволочи — которые обмен крутят — настоящими бандюгами бывают. Помнишь, как я тебе квартиру когда-то устроил? Честь честью, без обмана, да? А ведь есть такие, что могли бы тебя вообще в больнице на всю жизнь оставить. Пропишут тебе принудительное лечение, оформят опекунство, хочешь ты или не хочешь, квартиру присвоят, а тебя в какую-нибудь загородную психушку. До конца жизни, на казенный счет. А будешь брыкаться, еще и прихлопнут. Не говоря об уколах. У! Сейчас не такое делают! Я их во как знаю… Но ничего. Обошелся. Живу, честное слово, как никогда. У нас знаешь какая компания подобралась? О! Один, например, настоящий философ, истопником работает. Сам решил. Устраиваем у себя такие посиделки! Не думай, что для выпивки. Выпивка само собой. Для разговора. Гениев тоже, говорят, всегда не сразу угадывают, правильно? Был, у нас рассказывали, такой поэт — как его фамилия?.. умер от самого настоящего голода. Считали тоже чокнутым. А теперь книги выпускают, да? И говорят: гений. Музыкант тоже есть один. На траекторию, говорит, скорей без семьи выйдешь. Потому что семья дает вроде бы равновесие. А в равновесии так и разгнездишься, расслабишься, и стоп, все. Правильно? Тем более когда попрекать нач нут. У нас разговоры бывают по всем интересам. Про инопланетян, про бывший коммунизм… что ты! Я, представляешь, даже стихи наловчился писать. И не обыкновенные, а такие, что можно читать и слева на право, и задом наперед. «Голод долог». Улавливаешь на оборот? «Дорого небо, да надобен огород!» А? Вроде фокуса, а смысл ведь есть, и еще какой. Правильно? Я сам не ожидал. Как поймаешь волну — начинает в уме складываться. «Ем, увы, в уме». А? Даже с философским смыслом. Мне в журнале предлагали напечататься. Не только это. У меня ведь и разные истории есть.
О природе, об охоте. Да ты знаешь. Устно — во как подумается. Но только записывать что то пока не тянет. В смысле: для заработка… нет, не по мне. Кому лясы, а кому колбасы — помнишь такие стихи?..
Симу не оставляло знакомое чувство, что он продолжает говорить, не давая пробиться каким то другим словам, а может, еще какому-то ее вопросу — и что теперь мог значить вопрос? Вся эта его повадка была от гордости, и от гордости он притворился вначале, будто ее не узнал. Она это понимала, ей-то не нужно было объяснять, что такое беззащитность и уязвимость… Надо было только удержать в памяти название этой станции метро, не забыть. Четкой мысли, зачем, у нее еще не было…
До конца ей не удалось прийти в себя даже дома. Из зеленоватого надтреснутого зеркала глянуло на нее в сумеречной прихожей лицо, точно задержавшееся там с других времен. Щечки-подушечки, чуть обвисшие над маленьким заостренным подбородком, румянец, со стоявший, если вглядеться, из мелких лиловатых ниточек, усики над все еще пухлой губкой. В школе она утешала себя мыслью о сходстве с одной толстовской героиней… забыла имя… у нее были такие же. Только у тебя вон стали совсем белые. То есть седые. Смешно в самом деле не понимать работы накопившегося времени, но как все таки разобраться с ним внутри, где продолжает жить как будто прежнее, не замечавшее перемен? Под выпивший прохожий как то окликнул ее вдогонку: «Девушка!» — и она вздрогнула, догадавшись, что это к ней. С расстояния выглядела такой же. Они как раз возвращались домой со Славиком. Душа была полна неясным для самой… вот ведь, значит действительно осталось в памяти. Неясным для самой каким-то новым счастьем. И еще дальше: Казалось мне, что все с таким участьем… это же удивительно, Господи!., с такою ласкою смотрели на меня. Ничто, оказывается, не исчезает окончательно, все продолжает существовать где то в по тайных закромах, чтобы ожить заново вместе с дрогнувшим чувством…
Озаренная низким солнцем стена кирпичного дома напротив засияла, точно плотное вещество света. Все было ясно, как омытый брызнувшим дождиком воздух, когда голоса очнувшихся птиц чисты и легки, и близким кажется свободное дыхание. В потеках сырости на плите, как в подвижных облаках, можно было увидеть переменчивые очертания и сюжеты. Что-то шевелилось, бродило внутри, в уме, готовое сложиться в понимание, словно ускользавшее всю жизнь. Ведь это там, внутри соединялось все, существовавшее не просто в разных временах и местах, но словно с разными людьми, и даже все несостоявшееся, упущенное тоже принадлежало, оказывается, твоему существованию. Людям просто не всегда удается это почувствовать, соединиться с собственной жизнью. Вместо этого лезут мертвенные и мертвящие голоса: о наслаждениях, деньгах, о достижениях и победах. А люди сами боятся заметить это, понять. Мужчины особенно. Они боятся именно понимания, — вдруг подумала Сима. — Потому что не хотят показаться слабыми. Даже сами себе. Женщины боятся этого меньше, они привыкли к сознанию своей слабости и уязвимости, как привыкают и к более страшному — безнадежности повседневной сплошной жизни. И потому на самом деле оказываются бесстрашней. Мужчины и жестоки бывают — от страха, они боятся в жизни гораздо большего, чем женщины. А лучше всех понимают, наверное, дети. До поры до времени, пока их головы не забиты чужим…
Вот зачем надо увидеть Славика, — слегка очнулась от полудремы Сима. — Не просто увидеть, а сказать, объяснить… Мысль лишь казалась отчетливой, точно оставалась все же внутри полудремы, с которой не хотелось до конца расставаться. При полной ясности можно было скорей вновь усомниться, узнаешь ли ты его, сумеешь ли подойти, что именно скажешь. Что-то должно было сложиться само собой, даже, возможно, без слов, как бывает именно в снах, пронизанных светом солнца. Она готова была сидеть вот так, замерев, сколько угодно, не ощущая нараставшей прохлады — как не ощущала даже сама себя. Книга лежала, раскрытая, на коленях, можно было думать, будто ты действительно читаешь написанное там — на самом деле читалось что-то совсем другое. Может быть, вот эта цифра вчерашнего дня на календарной закладке… или нет, там было еще… рисунок на обороте цветными карандашами, красным и зеленым. Одна из тех роз, про которые читала стихи на своем выпускном вечере девочка в белом фартуке школьницы, ты помнила эту розу — памятью не только взгляда, но пальцев, которыми ее рисовала, водя острием зеленого карандаша по заострениям листьев и красного — по изгибам лепестков; внутри бутона держалась на них крупная, благоухавшая свежестью капля. Розу подарил мальчик, в которого ты была влюблена, хотя он этого даже не знал, смотрел как будто поверх тебя, как смотрело поверх тебя большинство людей, кроме нескольких, но дело не в том, что на самом деле розу ты подарила себе сама — что значит «на самом деле»? Ведь было же, было благоухание, и свежесть, и слезы, и любовь, и чистая капелька сразу на трех лепестках бутона, и стихи, которые ты читала дрожащим от волнения голосом. Пел голосом, дрожащим, как струна… нет, там было совсем другое… стихи или проза?.. как же вспомнить самое важное? Там были слова, соединившиеся внутри со всем… Именно внутри все оказывалось настоящим. Да… это было написано не на странице с цифрой вчерашнего дня и не на обороте с нарисованной розой, а где-то между ними, надо было от слоить, приподнять краешек, как казалось когда-то возможным отслоить у дальнего горизонта край моря или приподнять тоненькую пленочку неба, чтобы за глянуть по ту сторону, в промежуток, где дожидались слипшиеся мгновения — чтобы оттаять, ожить, расправиться, превышая длительность жизни. Так разрастались тени в темной комнате, когда ты сидела на горшке, шевелились, прорастали из углов, сливались с другими тенями, превращались во что-то непонятное, знакомое, но неузнаваемое, подступали совсем близко, и нельзя было крикнуть, позвать на помощь — не только потому что стыдно: что-то сладкое было в этой беспричинной жути, в этом чувстве близкой и важной догадки, которую не удавалось выявить до конца, как не удавалось выдавить из себя какашку. Край горшка все больней вдавливался в попку, и хотелось длить это сладкое мучительное состояние — но тут открывалась, слепя глаза, дверь, мама сердито поднимала тебя с горшка и обнаруживала, что он пуст… Прикосновение к детским пальчикам в тарелке с прохладными сливами. Юноша на пустыре возле метро крутит на шнуре модель жужжащего самолета. Оранжево-красные крылья, праздничная синева, девичья легкость ветра, предчувствие ясности, которая должна была вот сейчас открыться… Какие были розы… ты же помнишь… пальцы без усилия извлекали из клавиш музыку, в четыре руки со знакомым виртуозом, не нуждаясь в нотах, по сказочному вдохновению, хотя на руках у тебя почему-то шерстяные митенки без пальцев, удивляешься сама своей способности, но тебя несет — знакомое ощущение легкости, похожей на сердечную слабость, одновременно пугающей, когда словно все больше теряешь ощущение собственного прочного тела и можешь вот-вот раствориться, растечься в окружающих предметах, в зелени сквера, в воздухе, наполнявшемся все новыми голосами. Лица слушателей кажутся знакомыми, молодые люди в торжественных костюмах с галстуками собираются кучками, раздается смех. Среди них должен быть Славик, оставалось его узнать… Оказывается, они уже вышли, они на самом деле вышли, а ты пропустила момент, ты, оказывается, вздремнула. Да, ты ведь собиралась просто встать и пройти мимо… Как будто не нарочно. Вот только тело не слушалось, словно все еще не могло освободиться от дремы. То, что во сне казалось легкостью, все больше оборачивалось слабостью. Рука не могла даже потянуться к сумочке, чтобы вытряхнуть себе в помощь таблетку из стеклянного цилиндрика, последняя еще оставалась.
Двое рослых красивых мальчиков приближались к скамейке. Один был прыщеватый, с волосами длинными, как у девушки, другой круглолицый, коротко стриженный, мощные плечи начинались где-то прямо от ушей. Длинноволосый доедал черешни, опуская их сверху в запрокинутый рот, прямо на черешках. Другой что-то ему говорил, кривя сочные губы. Прелестные, хотя и расплывчатые, как будто еще не до конца оформленные лица. На расстоянии глаза ее должны были видеть отчетливей, чем в книге. Что она хотела им сказать?.. спросить? Кому из них? Даже губ своих она не ощущала. Надо было все таки очнуться, вспомнить прочитанное, открывшееся только что…
— Какие претензии? — говорил, проходя, круглолицый. — Сиськи маленькие, жопа холодная. Я говорю: какие претензии?..
Слова доносились из пустоты, готовой теперь уже совсем разрастись, со свистом втянуть в себя мозги, деревья, мучительное сердце. Знакомый страх обволакивал ее.
— Мальчики, — напряглась она в последнем отчаянном усилии, не зная, как еще обратиться, — подождите. Я должна вам что то сказать. Я вспомнила. Послушайте, это очень важно…
Двое не услышали слов, но невнятный, похожий на мычание, звук заставил их, пройдя, оглянуться на маленькую, убого одетую старушку с лиловыми щеками и полуоткрытым, как у придурковатой, бесцветным ртом. Длинноволосый, отвернувшись, через плечо, как делал на уроках, стрельнул в нее из пальцев черешне вой косточкой. Потом оглянулся посмотреть, попал ли…
Это было как укол воспоминания, влюбленности и счастья, косточкой пульнул в нее мальчик, с которым она ни разу не поцеловалась, тот самый, которого она ждала, на выпускном вечере, она в белом фартуке читала стихи, которые жили с ней всю жизнь и вот высвободились — именно их она вспоминала, не зачем было сопротивляться дальше этому счастью освобождающей слабости. Воздух полон был птичьим пением, благоуханием и болью свежих неувядающих роз, надо было только сказать им вдогонку, чтобы они знали.
— Вы слышите, мальчики? Я вспомнила… Ну послушайте… Как хороши, как свежи были розы. Вы слышите?..
Игра с собой
Игра доступна каждому в любой момент жизни, дома, в пути, на работе, в постели. Не требуется ни оборудования, ни расхода энергии.
Даже не думал, что сохранились эти бумажки. Чем от них пахнет?
Залежалой прокисшей пылью.
Играть можно с самим собой, если партнер не откажется.
Казалось когда-то юмором. Совсем забыл. Смешно, да? Какой партнер?
А с кем ты сейчас беседуешь?
Жена так каждый раз спрашивает: «С кем ты опять беседуешь?» Хочется иногда поговорить с умным человеком.
Заранее знает ответ и все таки спрашивает.
Обычные разговоры. Делаем вид, что слышим друг друга, понимает каждый свое.
Себя, что ли, ты понимаешь вполне?
Может, лучше не надо.
Партнеру, будем считать, неохота.
Надо же, забавлялись когда то! Не думал, что еще вспомню. Игра с собой! Все равно что любовь с собой. Пробовал когда то играть с самим собой в шахматы? Просчитаешь хитрейшую комбинацию на десять ходов вперед — а она уже на корню разгадана и опровергнута.
Это если улавливаешь все сразу и без ошибок. Чего то вовремя не заметил, не оценил — возможность упущена, а ход то уже не твой.
Разрешается мухлевать. Результат засчитывается, если не будет протеста.
Что значит мухлевать?
А что значит честный партнер?
Про допинговый контроль, во всяком случае, не на писано. Давай-ка нальем.
Разнервничался, что ли? Разволновала эта дама по телевизору? Всколыхнула воспоминания?
Какие тут воспоминания? Померещилось на мину ту, не более. Игры воображения… Все. Наше здоровье!
Но бумажки зачем то отыскал, вытащил. Почерк здесь твой?
Нет, мой, кажется, только вот тут, про графа Монтекристо. Хотя не столько узнаю, сколько угадываю. Как себя на школьной фотографии. Смотришь: кто это? Хохолок надо лбом зачесан назад, губки пухлые, куртка москвичка, с кокеткой, уже забыл, что были такие.
И комсомольский значок.
И это. Не люблю вспоминать. Неинтересно.
А это писал, значит, Пеша. Почему его так прозвали?
Не могу сказать. Прозвище не всегда объяснишь.
Может, потому, что он считался игроком в шахматы?
Может быть. Хотя увлечением его было сочинительство других, каких-то особенных игр. Рисовались на ватманских листах разветвления дорог, маршруты на выбор, с ловушками, сюрпризами, на отдельных бумажках варианты сюжетного развития, задачи. Можно было комбинировать. Составлялись потом целые простыни.
Компьютеров тогда не было.
Да, примитивная по нынешним временам технология. Наклеенные картинки, вбрасывание костей. Но к чему-то он своим умом пробивался. Сейчас я бы ему отдал должное.
Стратегия выигрыша, поиск оптимальных решений.
В этом мы тогда понимали мало. Интересно было просто сочинять, разрабатывать идеи, сюжеты. Он и меня заразил. Ненадолго, но заразил. До игры мы по-настоящему не добирались, застревали на обсуждении.
Варианты выбора: продержаться как можно дольше, набирать, накапливать попутные очки, впечатления, деньги, житейские достижения, удовольствия, или все это пропускать как несущественное, ради конечного торжества. Гробить, скажем, годы на единственно важный, итоговый труд, бедствовать, причем, естественно, без гарантии на успех.
Подростковое философствование.
А когда еще по-настоящему философствуешь? Потом хватает других, настоящих забот. Понадобится — посмотришь в книжках. И опытом уже научен не слишком углубляться куда не надо. А тут еще возраст, когда осмотрительность презираешь, чужое знание не убеждает. Главное не разменяться, как старшие, — понять можно все.
Особенно смысл жизни.
А как же без этого?
Вариант «Граф Монте-Кристо». Не по собственному выбору пропускаешь ходы, а поневоле, оказываешься на острове, в тюрьме, в каменном мешке, где не отличишь дня от другого. Ничего заранее не обещано, да, но может быть, может быть…
Два раза повторено.
Описка, наверно. Задумался, когда писал.
…может быть, есть шанс, один, допустим, на тысячу, что с острова выйдешь сразу всех богаче, могущественней.
Так и видишь: двое долговязых недорослей на полу, возле самодельной карты. Сурик на половицах облуплен, почти стерт, между ними подгнившая черная щель, из нее на бумагу выбирается муравей.
Убогая была развалюха.
Все тогда было убого — если смотреть отсюда. Когда не с чем сравнивать, не особенно замечаешь. У Пеши была отдельная комната — по тем временам роскошь. Почти пустая: железная кровать, этажерка, стол какой-то кухонный, маленький. Казалось просторно. Кроме его мамы, дома никого больше не было, она пропадала до вечера у себя в библиотеке. Маленькая, ниже нас тогдашних, с каким-то испуганным навсегда лицом.
Вроде, они были из ленинградских ссыльных.
Вроде того. Тогда об этом еще открыто не говорили.
Уже начинали говорить. Уже разрешалось.
Нет, это позже. С ним мы этого не обсуждали. У нас были другие темы. По какой системе отсчета сравнивать, например, разные достижения. Скажем, случайный выигрыш на рулетке и заслуженный трудовой заработок.
Тоже проблема.
А разве нет? Объяснит сейчас кто-нибудь убедительно, почему верзила, загоняющий в сетку надутый мяч, получает в сто раз больше, чем работник, который кормит людей, обувает, лечит, изобретает машины?
До сих пор, что ли, задевает?
Ладно, это я так… Мне эти обсуждения стали скоро надоедать. Я бы предпочел поиграть по настоящему. Он ведь даже в футбол не очень умел. Бегал смешно. Что-то было у него с координацией движений или с равновесием. Может, потому и занимался сочинительством собственных игр — чтобы не соревноваться с другими по общим правилам. Оказался бы наверняка слабей. А меня охотно брали в команду. Скорость была приличная, я умел обводить особым таким финтом, пяткой позади себя. И азарт не то что на стадионе у профессионалов. Они там отрабатывают что положено. А тут — поле не ограничено, мяч за линию выйти не может, потому что нет никаких линий, гони, покуда гонится, выковыривай из чужих ног. Ворота почти условные: колышки, пара булыжников, сброшенная одежка, прошел ли мяч по воздуху между невидимых линий, надо еще доказывать, до хрипа… Смешно. С чего вдруг стал вспоминать?
Цель заранее не описывается, она вырабатывается или осознается в процессе продвижения, при этом может видоизменяться, как и правила, в зависимости от обстоятельств, встреч, случайностей, меняющихся условий.
Почему эти бумажки остались у тебя?
Не помню. И почему сохранились? Помню, что стало неинтересно. Я вообще перестал бы к нему ходить, он меня уже уговаривал, зазывал. Я был ему нужен.
Не столько ты, сколько она.
Да. Нина. Я вначале понять не мог, что она такое, зачем к нам стала таскаться. Он сказал, что его перед выпускными экзаменами попросили позаниматься с ней математикой. Смешно! Она тонула в простейших задачках. И к чему ей была математика? Тем более наша трепотня. Смотрела выпуклыми задумчивыми глазами, ни слова не говорила, наматывала на палец прядь возле уха. Дура дурой.
Ты так думал?
Тогда думал. Однажды брякнул про это Пеше, он посмотрел на меня с тихой такой усмешкой. Влюбленные, сказал, всегда глупеют.
Сам ты не понял.
Мне и в голову не приходило. Я на нее внимания не обращал, она мне не казалась красивой.
Поискать, что ли, школьную фотографию?
Нет, это лучше не надо. Совсем погаснет, что еще помнится. Возникнет что-то, наверно, смазливое, пухленькое, как полагается. Прическа еще с косичками. Коричневое платье, черный передник, белый воротничок. Форма, которая обеспечивала скорей бесформенность. Я разглядел ее уже потом.
На речке.
Считалось, что мы там готовимся втроем к экзаменам. Вода в июне была еще холодная, но я окунался. У меня были плавки, красные, с белой каймой, по тогдашней моде. Продевались под трусами, потом завязывались на бедре, сбоку. Единственный предмет туалета, в котором я мог действительно пощеголять. По крайней мере мускулатурой. Пеша рядом со мной выглядел клоуном. Тоже заходил в воду, длинные сатиновые трусы облепляли живот, между ногами, надо было одергивать.
Она могла сравнивать.
Была такая мыслишка. Хотя она делала вид, что не смотрит. Лежала на берегу, учебники под головой, на носу слюной прилеплен листок. Купальник на ней был, наверное, самодельный, из плотной черной материи, сейчас бы над таким тоже смеялись.
Но ты на нее посматривал.
А как же! Впервые разглядел. Пеша, тот, помню, мешал, все время болтал что-то. Про какой-то драгоценный перстень, он прочел в старом журнале, в библиотеке у матери, будто его замуровал в стене здешней усадьбы кто-то из владельцев. Зачем-то даже потащил нас к этой бывшей усадьбе. Стояла над речкой неподалеку. Фасад с небольшим портиком, алебастровая оболочка с колонн оббита, внутри одной открывалось толстенное дубовое бревно, на трех других дранка. Остатки грязной штукатурки, голые кирпичи в известковых обводах, все как обычно. Засохшие кучки во внутренностях фундамента.
Это конечно. Почему у нас развалины так привлекают возможностью справить нужду? Как будто для этого сюда и наведываются.
Из стен торчали металлические штыри, остатки перекрытия, а на самом верху, в углу, держался каким-то чудом обрывок металлической изогнутой лестницы, чернел непонятный проем, может, за ним что-то было.
Запомнились же подробности.
Я ведь потом еще ходил туда сам, посмотреть. Пеша как будто всерьез загорелся, начал примеривать, можно ли забраться по этим штырям наверх. Стал сочинить что-то вроде новой игры. Про двух соперников, которым надо найти сокровище. Кто доберется первым, тому красавица отдаст сердце.
Всерьез?
Болтовня, конечно. Я засмеялся, потянул Нину уходить. Она, как всегда, молчала, но тут впервые, кажется, подала голос. А откуда, сказала, известно, что ей нужен перстень?
Красавице, то есть.
Да. Она, что ли, сама про это сказала? За дословность сейчас, конечно, не поручусь — что-то в таком смысле. Он как будто не сразу понял, растерялся. Стал что-то бормотать про условие игры, вообще условность.
Теоретик.
А что он мог сказать? Не про любовь же. Но я на нее смотрел теперь уже с другим интересом.
Что-то назревало.
Если бы не пришлось тогда уезжать. Надо же было поступать в институт. Пеша тоже собирался ехать, только не в Москву, а в Ленинград. У них там оставались родственники. Но ему то можно было не бояться армии… Ладно, давай еще по одной.
Вроде и вспоминать не хотел.
Сам не пойму, с чего вдруг.
Все-таки померещилось по телевизору.
Показалось. Не о чем говорить… Но это прощание безумное! Она меня ошеломила. Прижалась ко мне, ее всю трясло, и мне ее дрожь передавалась. Я никогда таких слов не слышал. «Забери меня с собой, — повторяла. — Я буду твоей. Хоть сейчас, прямо здесь. Не думай, что должен будешь на мне жениться, мне этого не надо… только уехать с тобой». Стояли у чьего-то глухого забора, уже было темно, фосфоресцировали цветущие вишни. Вдруг ливень, молнии, укрыться негде. Вода текла по лицам, по губам, примешивалась к поцелуям. И ее грудь в ладони… впервые было такое… Но тут свет фар нас выхватил из темноты, как пойманных — не расслышали за шумом ливня мотор. Она вырвалась, побежала…
Не состоялось, в общем.
А что могло быть? Незрелые фантазии. Куда я мог ее с собой взять? К московским родственникам, которые за обедом смотрели, сколько я кладу себе в тарелку? Но по Москве ходил и все время вспоминал, как будто чувствовал в ладони ее грудь. Это казалось уже залогом — только вернуться.
Влюбился, наконец, по настоящему — на расстоянии.
Можно так сказать.
Подарок купил.
А как же. На последние рубли, сумочку маленькую, дамскую. Дурацкую, наверно. Потом не знал, куда девать, запихивал за спиной под рубашку, под пояс, когда ее мать вышла к калитке. Она ведь никогда не разрешала себя провожать до дома, я впервые увидел эту хибару. У крыльца две сетки с грязными пустыми бутылками, и баба эта… нечесаная, под глазами сизые, бугристые какие-то картофелины, голос хриплый. Не слова — матерщина бессвязная. Нету ее и ноги здесь больше не будет, на порог не пущу. Пускай катится куда хочет со своим жидом-инвалидом.
С каким жидом? С каким инвалидом?
Ничего нельзя было понять. Кинулся к Пеше — у них заперто наглухо, замок на дверях. Не сразу удалось хоть что-то узнать. И то не вполне достоверно. В Ленинград на экзамены он, видимо, не уезжал. Упал где-то неудачно, повредил позвоночник.
Как? Где?
Никто не знал толком. Мать или кто-то из родственников сразу сумели добиться, чтобы его перевели из районной больницы в ленинградскую клинику.
И Нина поехала с ними?
Так я понял. Дальше начинались мои домыслы. Стоило взглянуть на эту бабу, чтобы понять, как хотелось от нее убежать, куда угодно, с кем угодно.
Ты, можно сказать, из игры вылетел.
Можно так выразиться.
Переживал, конечно.
Не хотел себе признаваться. Вырвал, как говорится, с корнем. Если ей все равно, с кем…
Ты так думал?
Тогда думал.
Что с ними было потом?
Ничего не знаю. Ни про него, ни про нее. Пропали за горизонтом. Другая, если продолжить в том же духе, игра… А почему вторая до сих пор не выпита?
Еще и эту? Не слишком?
Больше не играем, можно расслабиться.
Тут еще листки.
Пускай. Наше здоровье!
Забраться можно далеко, насколько хватит духа. Желательно позаботиться о необходимой безопасности.
Все, игра закончена. Куда еще дальше?
Уже хорошо, да?.. А сколько лет могло быть этой даме по телевидению?
Про женщину не всегда скажешь. Особенно если умеет за собой следить.
В возрасте, конечно.
Это да.
Стильная, что-то в ней есть такое… Нина, к ней обращались, — а по отчеству?
Какое имеет значение? Я и фамилию не успел услышать. Включил случайно, под самый конец передачи.
Можно все-таки позвонить на студию, спросить, кто была такая.
Зачем?
Но ведь мелькнула потом такая мысль. Не сразу, но потом. Когда еще появилась ненадолго фотография этого мужчины в инвалидной коляске. С бородой, в очках.
Нет, тогда я об этом еще не подумал. Мужчина — и что?
Узнать, конечно, нельзя, да еще спустя целую жизнь. Женщину тем более.
Особенно под слоем штукатурки.
Нет, этого не надо. Такое лицо не нарисовать. Есть особая красота, она не совсем от природы дается. Вырабатывается изнутри, возрастом, как говорится, жизнью. Эта дура-ведущая смотрела на нее, полуоткрыв рот, глаза выпучила восторженно. И вы все годы могли с ним чувствовать себя счастливой?
Терпеть не могу этих дамских передач.
Но как она ответила! Сжевала сомкнутыми губами что-то, подступившее к горлу. И все поворачивала на пальце свой перстень.
Да, еще этот перстень. С большим темным камнем. Сопоставилось все-таки.
Но уже потом, когда я стал вспоминать, как она ответила. Про это свое счастье. Про любовь, которая начинается с риска — и задает… как же она выразилась?… напряжение, направление на всю жизнь.
Не совсем так.
Я за ней не записывал. Но будто вдруг померещилось… бывает так. Наплывает туманно одно на другое, пробуешь совместить. Имя, фотография, перстень… Начинает соединяться… воображаемыми, конечно, линиями. Воображаемыми, не более.
Сочинительство это называется.
Сочинительство, точно. Именно. Вот, если хочешь, самая что ни на есть игра с собой. Примеривание вариантов. Сидит она в кресле таком антикварном, старинном, горит камин. За границей, думаю, что ли?
Почему за границей? У нас теперь тоже сидят у каминов.
Да. Но потом вспомнилось, как та баба Пешу обозвала жидом. Фамилия ничего не говорит, мне в голову не приходило, но, может, она что то знала? Уехать вполне могли оба, чего-то добились там. Скорей, чем здесь, обычное дело.
Пошел творческий процесс.
А что? Она еще сказала: он сам долго не подозревал, что его идеи столько стоят. О каких это идеях? Перстень… конечно, не из стены, эти фантазии лучше от бросить, но вполне мог у матери взять, из семейных ценностей, сам потом преподнес, наплел что-нибудь. Ну и так далее. Полез что-то искать, не мог даже сказать что, перевез когда-то наспех, без разбора, от родителей кучу старья — обнаружились эти бумажки.
Позвонить все же на студию? Записи у них хранятся. Наверно, она подробности рассказывала.
Не хочу я ничего узнавать. Зачем?
Сочинительство лучше. Реальность мало ли что пре поднесет?
Ну, воображение как раз может завести вообще не известно куда. Тоже игра не совсем произвольная. Как один сочинитель объяснял: решаешь что-нибудь с персонажем сделать, сам все вроде придумал, а он ни в ка кую. И лучше не заставлять, толку не будет.
Старая уязвленность все таки ожила? Уступил сопернику.
Нет, смешно. Детские переживания. Было бы кому завидовать.
А что, не завидовал? Смотрел, думал: у меня-то камина нет.
Ладно, не надо так гримасничать, еще не совсем окосел. Мне грех жаловаться. Машина, квартира, дача. Семья. Я их всех люблю. Диссертацию, что ни говори, защитил.
Считалось когда-то карьерой. А заработок теперь какой?
С прежним нечего сравнивать, да. Но сравнивать себя вообще не надо ни с кем. Тем более, со стороны видишь не то, что каждый знает изнутри. Спроси кого угодно: кто в таком возрасте скажет, что доволен жизнью вполне? У кого получилось так, как хотел?
О! Сразу начнут перебирать, горевать об упущенных вариантах.
Именно. Нет. Варианты — это для начального возраста. Когда еще игра впереди, можно рассчитывать, решать, выбирать. А когда все уже отыграно, признавай, что получилось. Понятно я говорю? Я мыслю не менее трезво, чем всегда. Может, выражаюсь не так, но мыслю даже более. Потому что сейчас, наконец, понял: игру надо признавать, как осуществившуюся реальность.
Или не осуществившуюся.
В каком смысле? Реальность не может не осуществиться. Если вспоминаешь жизнь — значит, она осуществилась. Какой тут проигрыш, какая победа? Было — вот что начинаешь сознавать, то есть ощущать. Это же потрясающе! Только что, казалось, не существовало, растворилось насовсем, неизвестно где — и вдруг вот, возникает. Заново, все отчетливей, как будто впервые. Как будто никогда прежде этого не видел. Так ясно не видел, не чувствовал, не переживал. Только сейчас по-настоящему… эта гроза, молнии сочные… поцелуи в потоках водяных… вишни светятся… грудь в мокрой ладони. Тогда я так не умел… не понимал, не чувствовал. Только сейчас стало доходить… возникло внутри.
Воспоминание.
Нет, не воспоминание. Разве можно вспомнить по-настоящему себя, тогдашнего? Что-то вернуть? Восстановить исчезнувшее? Чушь! Сочинительство — когда воссоздаешь заново. Боже!., пыльный занюханный городок, булыжная мостовая на главной улице… вот они. На речке, на плотиках, полощут белье… Разве я прежде это видел, чувствовал, как сейчас?
Запах разогретой огородной зелени, лопухов, крапивы.
И клевера, мелкой ромашки, на пустыре, где гоняли футбол.
За бывшей церковью.
В церкви была керосиновая лавка.
Рядом всегда паслась привязанная корова, шарахалась от мяча.
А мяч останавливался между ее ног, приходилось выковыривать.
Хорошо если не угодил в лепешку.
Господи! Можно это пройти еще раз? Найти слова, чтобы ожило по настоящему.
Разрешается переиграть. Следует иметь в виду, что при этом может измениться все, включая исходную ситуацию, достигнутые результаты и личности самих участников.
Голуби и стрижи
1
Инга Лазаревна сменила бумажные пеленки на Якове Львовиче, как на разбухшем грузном младенце, не смущаясь жалкой мужской наготы. Он старался ей помочь, приподнимая поясницу, хотя ему больше казалось, что помогает. На ногах расползались пятна лилово-розовых язв. В левую локтевую вену воткнута игла капельницы. Прозрачный пух над ушами, безбровый лоб делали и покрасневшее лицо его трогательно младенческим, круглая чистая лысина лишь слегка подпорчена пигментными пятнышками.
На соседней койке замычал, заворочался искривленный маразматик, одеяло с него стало сползать. Его оставляли лежать нагишом на клеенке, чтобы не менять постоянно замаранное белье. Еще один обитатель палаты, у входной двери, уже вторые сутки лежал на спине без движения, дыхание было едва заметно, запавший беззубый рот делал его профиль заранее неживым. На тумбочке дожидалась чего-то бессмысленно оставленная тарелка с застывшей слизистой гущей, словно пища, предназначенная сопровождать уходящих в другой мир. Третий сосед появился здесь перед самым приходом Инги Лазаревны и сразу отправился выяснять, почему его, ходячего, сунули в такую палату. Насупленные надбровья, начальственные брыжи делали его похожим на готового зарычать бульдога. Найти в воскресенье дежурного врача ему до сих пор, видно, не удавалось, но перед уходом он запретил открывать окно, хотя на улице было тепло. «Вы что, хотите устроить всем пневмонию?» — рявкнул, вымещая на Инге Лазаревне такое справедливое раздражение, что она все еще не решалась нарушить запрет.
Сам Яков Львович, похоже, оказался здесь по ошибке. Он убедился в этом, когда заглянувшие в палату врачи стали переговариваться между собой, как при постороннем. «Одно дело инсульт, другое диабет, надо было сразу подумать». — «Да у него целый букет». — «А что тут делать с гангреной? Мы же не режем. Повесят потом на нас». — «Доживем до понедельника». — «До понедельника доживем». И рассмеялись чему-то своему, не задерживаясь больше в порченом воздухе. Обе женщины были не по-больничному ярко накрашены, под халатами угадывались нарядные платья, фонендоскопы, свисавшие на грудь, вызывали мысль об ожерельях.
— Мне пока ни с кем не удалось поговорить, — сказала Инга Лазаревна, как бы оправдываясь. — Тот же ответ: в понедельник все скажет лечащий врач.
— До понедельника доживем, — слегка приподнял Яков Львович кожу на лбу. — Ничего нового они не добавят. — Он слабо улыбнулся, тронул языком пересохшую губу. — Как-то я навещал в больнице одного старика, он мне сказал: «Я открыл у себя столько органов! Никогда прежде не знал, что они у меня есть. И знаете, как я их открыл? Методом боли». Я тогда подумал: а если болит душа — где это? Не стоит об этом сейчас. В больнице лучше не о болезни. Мне надо было сказать вам что то особенно важное, все время думал, боялся, что не смогу…
— Вам трудно говорить, — сказала Инга Лазаревна. — Может, не сейчас?
— А когда же еще? Пока мы одни. — Передышка между фразами требовалась ему, похоже, не просто от слабости — трудно было собрать мысль. — Так много надо сказать, но не знаю… налезает одно на другое… начинаю путаться. Для меня здесь вдруг прояснилось. Говорят, под конец в человеке что-то поневоле меняется… не просто в сознании, в самой химии организма. У неверующих возникают мысли о Боге. Но химия у всех разная. Этот старик… он мне, помню, сказал: «Если бы мне помогли умереть. Я хочу, но не знаю как». Я стал говорить: «Разве так можно? Вы же верующий человек, вы не можете так думать». Он махнул рукой, — Яков Львович слабо, пальцами, попытался изобразить жест: — «Что вера! Если бы сюда пришел черт и протянул мне в лапе смерть, я бы у него ее взял и расцеловал бы ему рога». Такие у него были боли. Я думал, что это можно понять, не испытав. То ли в моей химии есть что-то анестезирующее, то ли самому удавалось обойти. Вдруг дошло… как будто привиделось…
Дохнуло из открывшейся двери, вошла приземистая женщина в косынке, с хозяйственной сумкой в руке, вперевалочку, на распухших ногах направилась к койке соседа. Тот замычал, заворочался, узнавая.
— Пришла, пришла, — добродушно подтвердила женщина. — Ну, что ты тут опять натворил? У-у… ай-яй-яй… давай-ка, давай…
Не оборачиваясь, по треску разрываемой и сминаемой газеты, а еще больше по запаху Инга Лазаревна могла угадывать совершавшееся за ее спиной. Маразматик замычал снова. Как ни странно, женщина его мычание расшифровывала.
— Какое пиво? — отвечала насмешливо. — Не принесла я пива, здесь нельзя… Нет, и денег у меня нет… Как это вру? Не вру. Вот завтра тебя выпишут, дома получишь пива.
Выпишут, подумала Инга Лазаревна. Такого выпишут. Не занимать же зря бесплатное место. Пусть тянут родственники, если есть. А если выписать не к кому?
Яков Львович лежал тихо, прикрыв глаза. Женщина вышла выбросить грязный ком, он словно этого дожидался.
— Я не договорил, да? На чем я остановился?
— Вам что-то привиделось, — напомнила Инга Лазаревна.
— Привиделось? Не знаю. Не всегда поймешь… бывают такие состояния. Мужской голос, помню, говорил кому-то рядом: «Поработаешь в приемном покое, узнаешь, что жизнь еще ужасней, чем есть». Похоже на бред, да? Но чей? На самом ли деле я слышал, или в уме возникло, у меня самого? Как в полусне… плывет. Но я хотел вспомнить другое. Ученые не так давно обнаружили, какой несравненный, потрясающий ужас — миг рождения для младенца. Он до конца не проходит. Страх жизни… да… вспомнил…
— Вы устали, отдохните немного, — сказала Инга Лазаревна. — Хотите попить?
— Отдохну, да, — Яков Львович словно не заметил ее предложения. — Это было как будто уже где-то не здесь. Знаете, рассказывают про свет впереди? Я его видел, в самом деле, хотя глаза были закрыты. И меня тянуло к нему, легко, без усилий. Вдруг мне кто-то сказал, отчетливо, ясно: не туда. Ты трусишь, хочешь опять улизнуть. Кто это говорил? Я хотел объяснить, что никакого страха не испытываю, наоборот. Но услышал опять: не бойся, ты знаешь. Я понял… вспомнил. Там, справа, открывался переход вроде больничного, только без окон, мрачный… я ощутил, не оглядываясь… по дуновению тягостному. Трудней всего было сделать усилие. Ноги, все тело онемелые, отказывались подчиняться. Но я заставил себя повернуть… мучительно, по миллиметру. Не знаю, как. Неважно. А когда открыл глаза, там, за окном… это было наяву, я уверен… стали появляться птицы, остроносые, белые, необычные. Они за полнили воздух, все пространство. Между ними сновали другие, черные… Я их узнал, я видел таких в детстве. Было похоже на чудо, — лицо его обмякло в слабой улыбке, он бормотал все бессвязней. — Я вспомнил, что вы должны прийти, и я еще успею. У них были на крыльях буквы, слова… я их пробовал написать… думал, что сказать уже не смогу… но ведь они теперь существуют…
Поплыл, — поняла Инга Лазаревна. Ненадолго его хватило. Только что был такой ясный ум.
Дверь с астматическим присвистом снова открылась, вернулась к соседу женщина, вытирая бумажной салфеткой еще влажные руки. Подвинула табуретку, пристроилась, извлекла из кошелки сверток.
— Сейчас витаминчиками подкрепимся, смотри, что я тебе принесла. — Развернула зеленое яблоко, достала столовый нож, чайную ложку, разрезала яблоко на половинки.
Яков Львович расслабленно улыбался, видение недостоверного чуда еще не растаяло в воздухе, пропитанном запахами болезненных выделений. Ей очень захотелось покурить.
— Отдыхайте, — сказала, поправляя на нем одеяло, — я ненадолго выйду.
2
В коридоре внушительного сложения санитарка возила по полу шваброй, наполняя линолеум влажными отблесками светильников. Сияющая полоса от окна в дальнем торце напоминала о существовании солнца, постепенно подсыхающий мираж распространялся все дальше вглубь коридора. В воздухе брал свое запах полезной дезинфекции. Дожидаясь, пока ее пропустят, Инга Лазаревна задержалась у стены возле кровати. Малую часть кровати занимала крохотная старушка, присоединенная к капельнице. Из левого глаза, словно не вмещая прибывающей прозрачной жидкости, стекала по увядшей щеке слеза.
— Вы плачете? — спросила Инга Лазаревна и оглянулась на санитарку, привлекая ее служебное внимание.
— Котенок у ней дома остался, — объяснила та весело, приостановив движение швабры, и тут же заелозила ею с возобновленной энергией.
— Уже третий день, — тихо подтвердила старушка. Слеза, снова набухнув, потекла по щеке, и новая капля потекла из сосуда по стеклянной трубке. — Что же делать? Умрет от голода.
— Найдут люди, о чем здесь волноваться, — мотнула головой санитарка. Ее тело, прущее из голубого рабочего халата, утверждало свою весомую реальность среди призрачных переживаний. — Проходите, — пропустила она Ингу Лазаревну, избавляя ее от необходимости искать успокоительные, неизбежно фальшивые слова. Опять чувствуешь себя виноватой перед человеком, которому заведомо не можешь помочь. Всю жизнь от этого не избавишься.
Из-за двери ближней ординаторской послышался взрыв хохота.
— День рождения отмечают, — кивнула на дверь санитарка, не дожидаясь вопроса. — Народу приперло, мужики из верхнего отделения. Из шестой палаты только что одного увезли, а они… о! — отметила очередной залп веселья, скорей с сочувственным пониманием, чем с осуждением. Швабра в ее откинутой руке напоминала спортивный снаряд, мелковатый для столь могучей метательницы. Она, похоже, настроилась на разговор. — Сумок натаскали, торт вот в такой коробке… Я что хотела вас спросить, — задержала она двинувшуюся все таки дальше Ингу Лазаревну, — вы сколько тут берете за час?
— Не понимаю, — сказала та.
— Но вы же не так просто за ним ухаживаете. Не жена и вроде не родственница. Вы с ним на вы.
— А, — Инга Лазаревна почему то смутилась. — Я не сиделка. Я его сотрудница. Мы вместе работали.
— А, — ответила тем же понимающим междометием санитарка, не вполне, впрочем, убежденно. — Я вот хочу поискать чего-нибудь за деньги получше, чем здесь. В Москве ведь устроиться можно. Не сразу, ясное дело, сперва приткнуться хоть где. Мы из Иванова, — сказала почему-то во множественном числе. — Вы, что ли, одной нации? — вдруг дошла до нее словно объясняющая догадка.
— Причем тут это? — пожала плечами Инга Лазаревна и поскорей отошла, лишь на ходу уже вспомнив, что собиралась с этой санитаркой договориться, чтобы присматривала при надобности за Яковом Львовичем. Хотя такая деньги возьмет, а к постели скорей всего и не при близится. Скорей всего. Но ведь все равно дашь, усмехнулась она себе.
На лестничной площадке между этажами несколько человек дожидались очереди к телефону. Двое мужчин в спортивных брюках и майках курили возле окна в углу; на облезлой стене рядом с ними висело объявление, угрожавшее пациентам выпиской как раз за то, что они сейчас делали. Один угол объявления загнулся вместе с отлипшим скотчем. К Инге Лазаревне предостережение не относилось, но если бы не эти мужчины, привычка к законопослушию заставила бы ее поискать для курения другое место. Наслаждение было стоять у распахнутого окна, вдыхать смешанный с сигаретным дымом, настоянный на липовом цвете воздух. Женщина в длинном махровом халате, занимавшая телефон, добавляла в щель за монетой монету, заставляя светящиеся цифры возобновлять счет времени. Прежде, когда за одну монету можно было болтать сколько угодно, ее бы поторопили, но за свои деньги она имела право, приходилось терпеть. Подслушать бы при этом хоть что-ни будь стоящее, семейные секреты, новости — была бы все таки компенсация. Но эта больше слушала сама, показывая любопытствующим лишь прихваченный греб нем жидкий пучок на затылке, вставляла односложно: «А он что?… Ну, это конечно. Это ты правильно, так с ними и надо. Они же, как дети. Сама только не подставляйся». В кино любят воспроизводить такие разговоры с трубкой в руке, многозначительные паузы, выразительные улыбки, намеки, загадочное движение бровей. Реализм — как в жизни. Но в жизни присутствует еще и другой голос, не слышный зрителю. Какая может быть полнота, если ничто не открывается одновременно со всех сторон? «Видишь в профиль, остальное домысливаешь в меру способностей», — вспомнилось Инге Лазаревне. По какому это поводу выразился Яков Львович? Про все можно сказать так…
Ничего понятней нации этой девке не могло прийти в голову, — затянулась она сигаретой. А я сама понимаю больше? — усмехнулась снова, качнув головой. Сотрудница! И слово-то вылезло наспех. Яков Львович в издательстве подрабатывал внештатно, редактировал переводы недавно еще недоступных сочинений на темы истории, древних культур, философии. К открывшейся кормушке сразу пристроились пробивные халтурщики, не всегда понимавшие, что переводят. Яков Львович целые страницы иногда просто печатал заново на машинке. Спрашивать, почему он, кандидат наук, знавший четыре языка, довольствовался лишь отчислениями от чужих гонораров, вряд ли стоило. Не хватило, значит, каких-то других способностей. В институте, где он числился, зарплату совсем перестали выдавать — тоже обычное дело. Работать с этим симпатичным, мягким, эрудированным человеком было одно удовольствие, разговоров на посторонние темы они не вели…
— Мне больше нравятся такие, — у окна с другой стороны пристроились две женщины, рассматривали покупки. Стоявшая к Инге Лазаревне спиной стала примеривать на себе розовую вещицу. Волосы, давно некрашеные, были неряшливо-пегими, на макушке под ними просвечивала кожа.
— Нет, это вам не подойдет, — оценивала другая. Во рту у нее спереди поблескивал золотой зуб. — У вас грудь большая.
— Да я, вообще, подкладываю, — призналась та.
— Не знаю, что вы подкладываете, а я подкладываю капусту…
Инга Лазаревна отвернулась к окну, выпуская задержанный дым. Как я сама сейчас выгляжу? — подумала она. Нет зеркала, чтобы посмотреть, хотя бы поправить прическу. Совсем себя запустила. А кто-то сейчас видит меня: курит молча, на лице ничего, кроме усталости. Больше поверхности не увидишь…
Что-то в Якове Львовиче приоткрылось впервые, когда она случайно встретила его неподалеку от своего дома. Он шел по другой стороне улицы мимо вечерней витрины, уставленной яркими бутылками, без обычного своего портфеля, неровно, временами пошатываясь. Было так необычно увидеть его пьяным — она замерла, боясь, как бы он ее не заметил. В следующий миг он повернул лицо к фонарю, на щеках его блеснула влага. Он шел, точно ослепший от слез, забыв дорогу домой. Только что у него умерла жена, погибла в аварии или от какого-то несчастного случая, вразумительно понять было нельзя, он едва справлялся со спазмами. «Это была не она. Мне ее показали… это была не она». Нельзя было оставлять такого на улице. Она взяла его под руку, неуверенного, нескладного, как грузный подросток, привела к себе домой. Муж тогда еще жил с ней, он нашел наилучшее, мужское решение — в самом деле выставил на стол водку. Якову Львовичу много было не нужно, оба легко захмелели, заговорили сразу о постороннем — почему-то об интеллигенции. Что это такое? — прицепился муж к прозвучавшему слову. «Вообразили себя когда-то полумасонским орденом: наш долг заботиться о народе, о его просвещении, главное дух, на материальную повседневность плевать». — «Все определения не о том, — мотал головой Яков Львович. — В интеллигентности есть что-то от религиозного мироощущения. Вне конфессий. Человек свободомыслящий просто чувствует: есть требование. Что-то выше тебя. Ты не все можешь себе позволить. Не вправе». Инга Лазаревна прислушивалась, не вникая; пусть сейчас лучше об этом. Так бывает на оживленных поминках: пьют, шутят, смеются, потрясение вдруг словно забыто — по-настоящему оно еще не дошло. Но когда оба предложили Якову Львовичу у них же и переночевать, он отказался твердо. «Нет, я поеду. Мне надо домой. Там простынка ею пахнет».
Одного его Инга Лазаревна не отпустила, отвезла на такси, у дверей попрощалась — почувствовала, что дальше не стоит. Домой к нему она наведалась позже, вызвалась сама зайти за готовой работой: он по телефону пожаловался на боль в ногах.
Квартира была на пятом этаже, маленькое опрятное жилище бездетной пары. Стены одной комнаты, рабочей, состояли из книжных полок, дверь во вторую была плотно закрыта. Инга Лазаревна внутренне поежилась при мысли о прежде супружеской спальне. Фотографии покойной жены она нигде не увидела, неосторожно спросила о ней — Яков Львович замахал руками почти с испугом: нет, нет, не надо. Она поняла, что даже касаться этой темы больше не стоит. Взгляд ее запоздало отметил в кабинете узкую холостяцкую кушетку, сложенный клетчатый плед прикрывал подушку на ней. Спал ли он теперь здесь или просто иногда отдыхал? Он, смутившись неприбранности, увел ее поскорей на кухню, они там посидели за чаем, поговорили о невеселых издательских перспективах. Мало-мальски приличную литературу все больше вытеснял упрощенный ширпотреб, качеством перевода можно было пренебрегать, внештатному редактированию приходил конец.
Еще одну работу она для него все-таки выхлопотала, сама ему принесла. А потом стала заходить по пути, лишь отчасти по делу. Собственный ее дом тоже вдруг опустел, муж ушел окончательно, дочка снимала квартиру со своим новым другом, звонила все реже. С Яковом Львовичем она отходила душой. Он встречал ее, всегда аккуратно выбритый (хотя поворот света иногда выявлял на щеке огрех прозрачной щетины). Сидеть на маленькой кухне бывало уютно. Интересно было слушать его разговоры — то он обнаруживал занятную перекличку, почти совпадение у Платона и Лао Цзы, которые один другого, конечно, знать не могли, то демонстрировал, принеся из другой комнаты книги, как противоположно оценивали поздний Рим, иудеев и христиан герои Пастернака и Маргарет Юрсенар. Круг чтения у него был обширный, из сопоставлений как бы сама собой рождалась неожиданная мысль.
«Вы не пробовали это опубликовать?» — спросила однажды Инга Лазаревна. Это было уже при последней их встрече.
Он отмахнулся:
«Кому это сейчас нужно?»
«Но для себя вы, надеюсь, записываете?» — полу утвердительно сказала она.
Он вместо ответа процитировал какого-то китайца: «Стремиться оставить след, память — значит думать о смерти, уходить от жизни. Признак настоящей жизни, — бесследность».
Она пожала плечами:
«Не знаю, для нашей ли это цивилизации. Мы то привыкли думать: если ничего от тебя не остается — за чем тогда все?»
«А если остается? — усмехнулся он. — Вот, квартира после меня останется. Кооперативная. Вопрос, кому?.. Да что об этом», — оборвал себя. И, кстати вдруг вспомнив, заговорил про евреев: вот в чьей культуре именно записанное считалось по-настоящему осуществленным…
У нее иногда возникало чувство, будто он говорит, стараясь заглушить что-то другое, остававшееся невысказанным. Она по себе знала, как это бывает, сама угадывала момент, когда правильней было уйти, не дожидаясь чего то уже назревавшего. В тот, последний раз чуть было не прорвалось. Уже у дверей, прощаясь, Яков Львович задержал ее пальцы в своих.
«У вас, — сказал, — такая теплая рука. И вы не пользуетесь духами. — Его вдруг передернуло от воспоминания. — Какой-то идиот в морге догадался обрызгать ее дешевым одеколоном. Это было невыносимо. Теперь уже не избавиться… не избавиться. Как можно было не понимать?.. Извините», — тут же опомнился он и ускорил прощание.
По дороге она вспоминала его слова, его напрягшиеся круглые плечи, вздрогнувший голос. Требовалось ли тут что-нибудь еще пояснять? Невозможность избавиться от воспоминания, невозможность вернуть другую, уничтоженную вмешательством похоронных служителей память? А может, что-то еще, во что было бы совсем неосторожно вникать?..
Муж, помнится, усмехнулся однажды: «Ты, — сказал, — слишком умна для женщины». В усмешке его слышалась уязвленность. Мужчине становится неуютно, когда его видят насквозь. Но много ли надо ума, чтобы не чувствовать откровенную фальшь? Не сумела по вести себя мудрее, по-бабски.
Разумно устроенной жизни мы бы просто не выдержали, подумала сейчас Инга Лазаревна. Да она бы сама развалилась. А без попытки устроить разумно — удержалась бы? На чем она вообще держится? Яков Львович сейчас бормотал о страхе — как это понятно. Все мы пробуем от чего-то укрыться. От жизни, это он знает. Стараемся в меру сил не замечать, не допускать до себя настоящего понимания — пока удается. Он и от болезни отмахивался, как от вопросов о здоровье, будто надеялся, что как нибудь само рассосется. А над ним уже нависало. Так чего-то и не успел. О каких он бредил словах, буквах? Привиделось, будто пробовал написать?..
Не удавалось проявить, соединить какие-то шевелившиеся совсем близко мысли. В слух снова прорвались голоса женщин.
— Она инвалидка, — рассказывала золотозубая, — ее отец в детстве побил, повредил позвоночник. А финансовый техникум все таки закончила, и стихи пишет такие хорошие, и так их читает, ой, вы бы послушали! Лет двадцать на вид. Но замуж-то ей как выйти? У нее грудки, как куриные яички, не больше…
Инга Лазаревна опять перестала слушать. Что то словно мерещилось, подступало, скреблось — надо было еще постараться, вспомнить…
Когда это было? Позавчера? Два дня назад? С вечера не могла до него дозвониться, утром тоже никто не брал трубку. Освободившись пораньше от дел, она помчалась к нему, по пути перебирала в уме варианты: как быть, если на звонок никто не откроет? Меньше всего она ожидала, что из двери выглянет дородная дама с мусорным ведром в руке. Над верхней губой темнели четкие усики. «Нет Якова Львовича, — ответила, предварительно смерив визитершу долгим подозрительным взглядом. — А вы ему кто?» И лишь услышав ответ, пояснила: «В больницу его увезли. Инсульт». — «В какую больницу?» — только и догадалась в растерянности спросить Инга Лазаревна, прежде чем та захлопнула перед ней дверь.
Некоторое время она еще стояла, переваривая услышанное. Из двери напротив выглянула соседка в полосатом халате, бигуди на ее голове были прикрыты прозрачной косынкой. Пальцем подманила Ингу Лазаревну, как сообщницу.
«Хозяйничает уже, — прокомментировала вполголоса, кивнув на закрытую дверь. — А кто такая? Вы ее знаете?»
«Не знаю», — сказала Инга Лазаревна.
«Это не его родственница. У него же нет никого. На жену покойницу похожа, правда? Только габариты крупней. Та же была, как куколка».
«Я жену тоже не знала. — Инга Лазаревна сообразила, что сейчас есть, наконец, возможность спросить. — С ней что то случилось?»
«С женой то? Неужели не знаете? Она тут с лоджии бросилась, — оживилась соседка. — Отлучился, оставил ее одну. Он лоджию-то и запирать приспособился, и ключ обычно с собой уносил. Она ведь была… — показала пальцем у виска. — Как девочка у них умерла, она незаметно и тронулась. Тихонькая, улыбка на личике такая замороженная, а личико, именно, как у куколки, только съехало вот так на бок. Вообще ведь красивая была, и все при ней вроде осталось, а изнутри ушло что-то. Как яблочко, знаете, усыхает. Он за ней сам ходил, и по хозяйству все сам, никто ему не помогал. Погулять выводил только вечером, не в наш двор, в соседний. Квартира, я знаю, была на нее раньше записана, после родителей. А у этой откуда ключ, как вы думаете?»
Инга Лазаревна поспешила с ней распрощаться, пренебрегая возможностью услышать еще что нибудь от представительницы этой всезнающей соседской породы. Бигуди из под прозрачной косынки выпирали, как рожки. Выйдя из подъезда, она поискала взглядом лоджию наверху, однако лоджии в этом доме выходили на другую, уличную сторону. Дворник увозил от подъезда колесную тележку с цинковой детской ванночкой, приспособленной для сбора мусора. Ветер выдул из кучи легкий бумажный обрывок, отнес к ногам Инги Лазаревны. Она подняла его, чтобы вернуть в ящик — и вдруг увидела на клочке хорошо знакомый почерк.
Край листка был чем-то подмочен, чернила еще не успели расплыться, но разобрать можно было лишь малопонятные сочетания слов. Полнота невозможного… сохраняется… что-то такое еще. Перевод неизвестно чего, порванный черновик. Она дождалась, пока дворник опростает свою ванночку, приблизилась к мусорному контейнеру, зачем-то заглянула в него. Ящик уже был заполнен отходами жизнедеятельности большого дома, картофельными очистками, шелухой, мятыми пакетами и газетами, осколками посуды, сломанными игрушками, раздавленными потрохами, выброшенными цветами; с бурых подгнивших стеблей свисал использованный презерватив. Инга Лазаревна, отвернувшись, добавила бумажный клочок к другим, перемешанным где то в недрах со слизью общих помоев.
Что там было еще? — старалась сейчас вспомнить она. Привиделось что-то, отмеченное скорей взглядом, чем памятью. Прикрыть глаза, вернуть снова. Полнота… сохраняется… невозможно сказать… написанное уже существует…
— Нет, все, уже завтра меня выписывают. — Мужчина в черной майке американского университета Berkley наконец дорвался до телефона. Слышал он, видимо, плохо, поэтому сам кричал в трубку. — Под местным наркозом, там тромб был в руке, в сосуде. Потом спрашивают: ну что, пошло, говорят, тепло? Вы прямо, говорю, как сантехники, открыли кран. Представляешь, сразу пошло…
Это был не перевод, — соединилось вдруг ясно. Это были его слова, это они только что прозвучали в палате, как можно было сразу их не узнать? Это их он пробовал написать, может, начал тогда же, после твоего ухода, перед тем, как лечь на кушетку, узкое ложе своего еще не старого одиночества, пытался завершить объяснение, оборванное перед прощанием, писал, не зная, что над ним уже нависало, писал, безнадежно, отчаянно обращаясь — к кому?.. а потом порвал листок, смутившись, как юноша, еще способный краснеть от прикосновения женщины, выбросил, испугавшись невозможности, предпочитая ее избежать, или это сделала без него усатая дама, встретившая тебя в дверях с розовым ведром в руке? Почему начинает доходить запоздало, когда уже не знаешь, сколько осталось и осталось ли вообще? Этого никогда не знаешь…
Она замерла у распахнутого окна. Внизу по тротуару шла женщина, бюст, пышный, как цветочная клумба, закрывал ее остальное тело; из-под него на ходу показывались одни только ступни в белых босоножках. Перед ней, ведя ее на поводке, семенила близко к земле длинная черная собака, похожая на мохнатую гусеницу. Раздетые по пояс рабочие укладывали дорожную плитку между газонами, на их изогнутых смуглых спинах проступал бамбук позвонков. Зеленые шары деревьев были внутри полны птичьих голосов. Солнце зашло ненадолго за облака, листья переблескивали прохладной чешуей от поднявшегося ветерка. Все стало на миг как никогда отчетливо, наполнено до мелочей, которых не замечаешь, не видишь, не слышишь, пропускаешь, словно шум, на ходу, в повседневной беспамятной сутолоке, деловой озабоченности, как пропускаешь, не ощущая, саму жизнь — и вот словно очнулось вдруг, задержалось, соединилось, до понимания, вместе с пониманием, в воздухе, насыщенном отчетливыми голосами, запахами, невзгодами, страданиями, пересудами, надеждами и безнадежностью, равнодушием и милосердием…
Надо было давно открыть окно в палате, — вспомнила Инга Лазаревна. Почему ей внезапно стало не по себе? Сейчас то чего испугалась?
3
Она почти взбежала на свой этаж, быстро пошла по коридору. Вдруг сердце словно упало. Из палаты сани тары вывозили на каталке тело, укрытое с головой простыней. Ноги ослабели, пришлось прислониться спиной к стене. Каталка проехала мимо. Тело под простыней было длинное, тонкое.
— Поехали, родименький, — приговаривал шедший сзади. — Такой еще тепленький. Отдыхай, милый.
Яков Львович лежал на спине, закрыв глаза, дыхание было тихим. Инга Лазаревна подошла к окну. Створка не поддавалась, как будто ее давно не открывали. Она дернула раз, другой, боясь разбить стекло, наконец, с усилием приподняв за ручку, открыла. Воздух хлынул в палату.
С опустевшей койки у стены еще не была убрана постель, но тарелку с тумбочки унесли. Маразматик, прикрытый одеялом, похрапывал, из уголка полуоткрытого рта стекала слюна. Все еще на слабых ногах она подошла к кровати, с облегчением опустилась на стул, положила руку на пальцы Якова Львовича. Они были прохладны. Он слабо шевельнул ими в ответ. Улыбка тронула его губы.
— Вы… — проговорил он. — Ваша рука… Вы ушли, а тепло осталось… я еще чувствую. Полнота, я это понял… не счастье, а полнота. Это остается… Что еще? То, что существует… если только прочесть. У них на крыльях так неразборчиво… далеко… но я успел… я уже знаю… Бездна весит много тонн…
Она не отнимала руку. Распахнутое окно перед глазами было расплывающимся светлым пятном. Пальцем свободной руки она отерла проступившую в уголках влагу.
Взгляд очистился, и она увидела за окном птиц.
Их было много и становилось все больше. Кто-то запускал с верхнего этажа бумажных голубей, одного за другим. Они парили, кружась, остроносые, белые, поднимались на восходящих потоках, опускались вновь, заполняя все гуще воздух. Мимо сновали удивленные черные стрижи, резко сворачивали в сторону, увертываясь от столкновения с непонятными птицами.
Воздух был светящимся веществом. Отдаленный городской шум, мужские и женские голоса, возгласы играющих где-то детей сливались в гул, похожий на приглушенное пение. Внизу санитары везли по неровному асфальту тело, укрытое простыней, туда, где уже дожидались другие, уложенные вместе, в ряд, мужчины и женщины, и пока у них еще росли ногти и волосы, они досматривали свои угасающие сны. Все на мгновение соединилось: щемящая, как счастье, боль, тепло, нежность, беспамятство и память, мысли, страхи и стоны, перемешанный мусор невозвратимой жизни, исписанные листы, сложенные для полета, брошенные из окна, покрытые неразличимыми отсюда знаками, слова, родившиеся когда-то, и те, что рождаются вновь сейчас. Потоки воздуха кружат их на крыльях птиц, уносят дальше, дальше — куда? Куда уходят слова молитвы, произнесенной беззвучно, лишь про себя? Но она существует, если возникла, даже не прозвучав вслух. Летят, несутся слова, чтобы достичь когда-нибудь того, кому их дано услышать.
Седьмое небо
Электричка почему-то остановилась, не доехав до конечной станции километра полтора. Никаких объявлений по вагонному репродуктору не прозвучало. Бабич поднял взгляд от книги, посмотрел в окно. Ливень, время назад заволокший окрестности густой пеленой, окончательно прекратился, из-под туч выпросталось ослепительное солнце. От травы вдоль путей, от черных толевых крыш придорожных гаражей, от куч вываленного перед ними песка поднимался трепетный пар. На сером кирпиче гаражной стены белыми крупными буквами было выведено: «Слава Отцу и Сыну и Святому духу!» Раньше так писали «Слава КПСС», усмехнулся Бабич, но на этом взгляд бы не задержался, как на привычном орнаменте.
Вагон почти опустел, мимо проходил кто-то из задних вагонов. Впереди, должно быть, открыли дверь, можно было выйти, доделать путь пешком, если не имелось при себе тяжелого багажа. Но тащиться по лужам, по шпалам, по щебню, портящему подошвы, пока не хотелось. На сиденье возле бедра стояла недопитая бутылка пива, правда, уже тепловатого, на коленях лежал недочитанный детектив. Книжка тоже была так себе, одноразовое чтение для дороги, но все-таки хотелось узнать наконец, куда исчез этот чемодан с миллионом. Каждый раз, когда сыщику удавалось напасть на след, вместо чемодана он обнаруживал очередной труп, его самого вывезла из под обстрела на своей машине случайно встреченная женщина. Тут, похоже, начиналась любовная история — скорей всего, чтобы очередной раз отвлечь, предложить ложный ход, прибавить страниц. Бабич уже и так пропускал необязательные подробности, разговоры на языке, взятом напрокат из других детективов. Задержка была даже кстати, можно было до читать до станции. Он сделал из горлышка еще глоток.
— Уважаемые пассажиры, прошу вашего внимания! — отвлек его от чтения голос. — Международная лотерея «Седьмое небо», уникальные выигрыши, поразительные возможности!
Этот разносчик уже проходил по вагону в другую сторону, Бабич видел его со спины, слова тогда заглушались стуком колес. Теперь, значит, возвращался обратно. В ношеных джинсах, рубашка навыпуск прикрывала обрюзглый животик. Лицо под белой бейсбольной шапочкой то ли распаренное, то ли красное от свежего загара. Цвета малинового варенья, определил про себя Бабич. Кому он опять предлагает — второй раз в том же вагоне, да еще пустом? Билеты перед собой держал, как карточный веер.
— Каждый выигрыш — необыкновенное приключение, вы себе даже не представляете, всего за тридцать рублей. Проверить можно прямо на месте…
Он еще говорил, но голос уже угасал, наконец смолк. Прошел еще немного между сиденьями, оглядываясь. У противоположного окна дремал небритый мужичок, свесив на грудь голову, слюна стекала с отвисшей губы. Бабич снова уткнул взгляд в книгу. Разносчик поравнялся с ним, помедлив, сел напротив. Отер шапочкой пот с лица, с открывшейся лысины, с седого загривка. То, что издали казалось загаром, на самом деле было краснотой густых жилок. Узор молодежной, не по возрасту, рубашки был составлен из газетных текстов и невнятных фотографических пятен. Бабич, не поднимая головы, исподлобья глянул на крупные заголовки. Язык был ему незнаком, понятны оказались только два слова: sex и catastrophe.
— Вы не знаете, какой это язык? — уловил его взгляд лотерейщик. — Я спрашивал, никто не знает. Про что это, интересно?
Бабич молча пожал плечами, перевернул страницу. Похоже, эта женщина встретилась сыщику не так уж случайно, в ее поведении было что то подозрительное.
— Раньше, конечно, меня самого бы спросили: что у вас тут написано, откуда у вас такая? — продолжал тот, как будто ему ответили. — Не рубашка, я имею в виду, пресса. Да? Теперь свобода слова, читай без цензуры. Понимаешь, не понимаешь — неважно. Достаточно, если разбираешь вот это, — он наклонил подбородок к груди, показал пальцем, — и вот это, да?
Бабич хмыкнул, давая понять, что ему мешают, перевернул страницу назад. Какую это записку вспомнил вдруг сыщик? Пропустил что то… Ладно, пока можно обойтись, не стоит искать.
— Про секс — это понятно, про катастрофы тоже, — лысый был, видимо, из породы разговорчивых, которым собеседник не обязателен. — Газете надо же завлекать читателя. Настоящих катастроф уже, кажется, не хватает, так все время предсказывают какую-нибудь небывалую. Каждый год то одну, то другую, вы не заметили? Землетрясение не сегодня завтра, комету вдруг обнаруживают, правда, пока не близко. Выбор большой, не соскучишься. А для чего? Я вам скажу, для чего: чтобы осознавали, как нам постоянно везет. Мы существуем, да? Пока еще существуем. А могли бы не существовать, мало ли что? Всего не предугадать. Это только думают, что все рассчитано наперед. Нет, живем, значит, надо пользоваться удачей. В этом же интерес. Вы не хотите один билетик? — он полез рукой под рубашку, она прикрывала, оказывается, сумку на животе, снова развернул свой веер. — Всего тридцать рублей. Проверка на месте.
А, вот он как повернул, усмехнулся про себя Бабич. Не забывает свое дело. Билеты были необычно крупные, размером с почтовую карточку. Какое-то новое мошенничество.
— Я в лотерею не играю, — сказал он вслух сухо, не поднимая взгляда от книги.
— Э, вы только думаете, что действительно не играете, — ничуть не смутился тот. Веер он свернул, но в сумку пока не возвращал. — Так многим кажется. А жизнь, если хотите знать, не бывает без лотереи, я пришел к такой мысли. Родился человек в Москве или в какой ни будь дыре, из которой до конца дней не выбраться — уже разный выигрыш. Вы скажете, почему не выбраться? Это я не могу ответить. Почему я не могу выбраться в Америку? А родился бы там, занимался бы, может, другим делом, не этим. В газете писали, какой то человек там наловчился выдувать мыльные пузыри необыкновенных размеров, разъезжает по всему свету, зарабатывает большие деньги. На мыльных пузырях, это же только подумать! Которые скоро лопаются. А другие почему то должны вкалывать в шахте. И это еще хорошо, если в шахте. Недавно показывали, что где то шахту закрыли, там шахтеры ничего не зарабатывают, так они в какие-то норы залезают ползком, стучат кайлом, как в старое время, представляете? Набирают этот уголь ведерками, кто-то у них покупает, они рады. Надо заработать на хлеб, их можно понять. Почему никуда не переберутся — это другой вопрос. Почему кто-то живет среди снега, где вечная мерзлота, есть же места теплей? Или то же самое нация. Нас же не спрашивают: какую ты хочешь выбрать? Кому-то, может, хотелось бы другую. Нет, кому какая выпала. Разве это не лотерея? Или вы хотите мне возразить?
— Это называется судьба, — не сумел промолчать Бабич.
— Судьба? Можно сказать и так… Я вам мешаю читать, да? Вижу, вам не терпится узнать, чем там кончится. — Он, наклонясь, заглянул снизу на обложку. — А, — проговорил понимающе, — вы уже, наверно, дочитали до этой женщины.
— А вы что, читали? — неприятно удивился Бабич.
— Читал, не читал, — махнул тот неопределенно рукой. — На обложке она есть, с пистолетом в руке. Не хочу портить вам удовольствие, дочитаете. Хотя скорей всего будете разочарованы.
— Это почему? — спросил Бабич. Забыл, в самом деле, эту картинку на обложке, до сих пор с ней ничего не было связано. Та самая женщина — с пистолетом? Или другая? Дал бы этот прилипчивый болтун сосредоточиться на чтении.
— Редко бывает иначе. Детектив хорош, пока его читаешь, чего то еще можно ждать. Достаточно, чтобы зацепила загадка, одна тянет другую, надо скорей получить ответ. А когда тебе его дают, вспоминаешь с начала, как все было, если, конечно, еще не забыл подробности — одна с другой почему-то не соединяется. Так быть не могло, все вместе было склеено слюнями, и объяснение тоже. Но свой интерес успел получить, это уже кое-что… Вы говорите, судьба, — он оживился, что-то вдруг вспомнив. — Вот, между прочим, я вам расскажу. На стадионе в Москве давно когда-то разыгрывались лотереи с разными выигрышами, чтобы привлечь зрителей. Может, вы по возрасту еще застали, нет? У моего знакомого отец однажды пошел на футбол, так вот, его месту — вы это должны оценить, не ему, а его месту — досталось, представьте себе, пианино. Не Бехштейн, конечно, и не Стэнвэй, даже не какой-нибудь «Красный Октябрь» — бракованное изделие не знаю какой мебельной фабрики, такое задаром было не жалко отдать, понятно. Зато рекламную акцию устроили, как уже тогда умели, с оркестром. Можно представить, как этот папаша ошалел, когда его провезли на грузовике вместе с пианино по беговой дорожке, доставили инструмент на квартиру. Ну, вы уже понимаете, разве можно было упустить бесплатный подарок? Хотя бесплатно это только называется, пришлось пригласить настройщика, потом педагога. Я его знал, это был такой немец Владимир Адольфович, он почему-то любил рассказывать, как ходил наниматься в оркестр Большого театра, к самому Голованову, и тот ему сказал: вы не музыкант, а сапожник. Почему он это рассказывал с гордостью? Сам Голованов! Неважно. Мальчика потом заставили ходить в музыкальную школу. Он мне говорил, что свой инструмент тогда ненавидел и вообще музыку. Но для родителей это была, может, неосуществленная мечта детства. Пианино пришлось все равно выбросить, покупать другое, немногим, я думаю, лучше. А что делать? И вот теперь он всю жизнь зарабатывает музыкой. Да еще как зарабатывает, в таком ресторане, куда я войти не могу. Это, как вы считаете, лотерея или судьба? Если оказалось, что музыка — его призвание? Может, выигрыши вообще не так случайны, как мы думаем, а?
Он достал из кармана несвежий платок, звучно высморкался, некоторое время приводил нос в порядок.
Бабич качнул головой, снова скосил взгляд на книгу. Пролистнул страницу, потом другую… «Алина держала пистолет двумя руками, на лице ее была презрительная улыбка». Надо же, на этом вдруг и открылось. Значит, действительно она? Этот лысый знал или просто догадывался? Замолк бы сейчас хоть ненадолго, подумал Бабич, видит же, что я не откликаюсь.
— Это детективы должны обещать логику, — лотерейщик, словно угадав его мысль, вернулся все таки к разговору, — в жизни бывает по-другому, я вам сейчас расскажу еще интересней. Знакомый врач работал на скорой помощи, его вызвали к какой-то старухе. Сердце или, может, что то еще, подробности не имеют значения. Он был хороший специалист, все сделал на уровне, вытащил, как говорится, старуху с того света. Но у нее оказался сын из каких-то новых бизнесменов или из новых бандитов. Ну, вы читаете детектив, вам не надо объяснять, что это бывает одно и то же. Он этого доктора увез вместе с матерью к себе на виллу и уже не отпустил. Машину отпустил, а его оставил, чтобы за мамашей присматривал. Почему-то в него поверил. Эти люди, вы же знаете, бывают сентиментальны. Возразить было нельзя, и, если подумать, зачем? Семьи у доктора не было, а что пришлось уволиться со службы, так эти и все будущие потери, я думаю, компенсировались, нам даже не представить, как. Он эту старуху так и проводил до конца, а потом при сыне остался уже как его личный врач. За границу с ним вместе уехал, насмотрелся такой жизни, можно вообразить. Назад, я думаю, уже сам не хотел. Тем более что от него уже и не зависело.
— Н-да, — неопределенно качнул головой Бабич. — Бывает.
Указательный палец оставался в полузакрытой книжке вместо закладки, но он уже понял, что дочитать здесь не удастся. И почему обязательно дочитывать? — подумал он. Надо было давно выйти. Он потянулся к бутылке — она оказалась пуста. Лотерейщик, словно удовлетворенный ответом, умолк, смотрел теперь куда-то в сторону. Бабич уже собирался положить книжку в сумку, но вдруг все-таки не удержался, снова открыл ее на предпоследней странице — так в учебнике решают подсмотреть, наконец, ответ.
«— Вас надо поздравить, капитан, — уважительно сказал полковник. — Только женщина могла заставить его раскрыться.
Алина промолчала».
То есть как? — стало сопоставляться в уме Бабича. Значит, эта Алина была из милиции, преступником оказался сам сыщик? Чемоданчик он нашел и присвоил, не устоял перед соблазном, потом сам же устранял конкурентов или свидетелей? Остальное вообще наворочено просто так, лысый был прав…
Он не успел додумать, лотерейщик вдруг тронул его колено. Бабич поднял взгляд, тот заговорщически показал движением поднятых бровей. От них удалялась по проходу девушка, она тоже, видимо, направлялась в вагон, где была открыта дверь. Белая блузка, светлые брюки, крупная черная надпись на ягодицах CODE перекрывала прозрачные контурные цифры.
— А? — лысый посмотрел торжествующе, как будто сам это придумал. — Неплохая идея? Хочется идти за ней вслед, всматриваться в эту попу, чтобы как-нибудь прочесть код или, может быть, угадать. Да? У вас что, не возникло такого желания?
Девушка была уже в конце вагона, когда в проходе появился багровый от натуги толстяк с двумя тяжелыми баулами в руках. Поставил их на пол, чтобы перехватить удобнее, и поскорей заспешил дальше, чему-то про себя улыбаясь.
— А, теперь понятно, почему она задержалась, — прокомментировал лотерейщик. — Не сразу согласилась на его помощь, нужно было время, чтобы уговорить. Он же ее вряд ли привлекал, с такой комплекцией. Вы могли бы его опередить, а? Если б не так долго думали. Почему нет? Вас ведь дома никто не ждет?
— Почему вы так решили? — холодно спросил Бабич. В горле вдруг запершило, ужасно захотелось пить.
— Ну, тут большая проницательность не нужна. Вот, все уже вышли, а вы никуда не торопитесь. Вы и этот, который спит. Багажа у вас нет, вас больше тянет читать, чем спешить домой. Нет?
— Вы тоже не выходите, — нечаянное попадание Бабича слегка уязвило.
— Моя работа в дороге, мне все равно возвращаться. Эта же электричка должна пойти назад, рано ли, поздно. Другой тут уже не будет. И я не скучаю. Чтение, вы же видите, здесь можно найти не хуже, чем в детективе. Мне нравится разговаривать, смотреть людей. Вот этот, который прошел, он ненамного вас младше, но видно, что предприимчивый. По лицу, по одежде, по всему видно. У него часы на руке, заметили, «Сейко»? Он, кстати, у меня уже купил сегодня билет. Игрок это игрок. А вы в лотерею, говорите, никогда не играли, по вам тоже видно. Зарабатывали всю жизнь честным трудом, да? Сейчас, я бы сказал, на пенсии, но вам все равно хватает, на жизнь не жалуетесь. Хотя как может хватать пенсии? Есть варианты. Дети помогают? Нет? Сдаете московскую квартиру за четыреста долларов в месяц, сами живете на даче. Это больше похоже. Привыкли к тому, что есть, чего нет, того вам не надо. С поезда можно сойти, но если он как раз в этот момент тронется? Тоже обидно.
— Играете в детектива? — буркнул Бабич. Опровергать неточности было бессмысленно.
Он положил, наконец, книгу в наплечную сумку — и неожиданно обнаружил там вторую бутылку. Надо же, забыл. Снизившееся солнце глянуло из противоположного окна, ослепив, как будто набрало вдруг силу, какой не имело в зените. Бабич невольно зажмурился, на время замер, привыкая к розовому сиянию в веках. Оно было приятно, как детское воспоминание. Выпитое, оказывается, успело незаметно расслабить. Совсем ведь уже собрался выйти, но эта бутылка снова напомнила о жажде, сделала ее нестерпимой.
— Да вы не обижайтесь, — сказал лысый. — Не в юности — ближе к старости начинаешь понимать: чтоб ощутить жизнь, надо выбиться из привычного расписания. Вы слышали этот анекдот, как один старый еврей докучал Богу? «Почему мне в жизни так не везет? У других все есть, а у меня ничего? Дай мне выиграть хоть один раз тысячу. Ну хоть один раз дай, Господи». Наконец, Богу это надоело. Слушай, говорит, купи хоть один билет.
— Слышал я этот анекдот, слышал, — усмехнулся Бабич. Отвернувшись от солнца, он достал из сумки бутылку, отколупнул крышку о металлическую оконную ручку. — Вы не забываете про свой бизнес, я уже понял. А этот толстяк, он при вас проверял свой билет? У него был выигрыш?
— А как же! Замечательный выигрыш, именной диплом «Человек года». Получит его по почте, очень красивый, с сургучной печатью. На конверте — вот, телефон, почтовый адрес, абонементный ящик. Совершенно официально. Можно будет заказать потом и медаль, даже с объявлением в прессе. Но это, правда, за дополнительную оплату. Диплом тоже хорошо, разве нет? Всего за тридцать рублей. Можно повесить на стенку, в рамочке, чтобы все видели.
Бабич с наслаждением присосался к бутылке, несколько крупных глотков сразу его освежили и словно развеселили.
— Надо же так придумать, — он отер губы тыльной стороной кисти. — Человек года!
— Я же сказал, уникальная лотерея. Тут все выигрыши не простые, особенные. Людям дается шанс выиграть то, чего они на самом деле, может, хотели, просто еще не знали, что такое возможно. Вот, здесь же, в соседнем вагоне, одной супружеской паре только что выпал участок на Луне.
— На Луне! — все больше веселел Бабич и отхлебнул из горлышка снова. — Действительно уникально! Я сразу почувствовал, что тут жульничество. Но что такое уникальное!
— Почему вы думаете, жульничество? — ничуть не обиделся лысый. — Фирма официально зарегистрирована во всем мире, вы просто не знали. Собственность будет оформлена по всем правилам. Вы бы посмотрели, как обрадовалась эта пара! Это же теперь самый шик, другие за такое приобретение платят большие деньги. Можно подарить выигрыш любимой женщине, можно оставить собственность наследникам. Летать ведь когда-нибудь начнут, может, уже скоро, будет такой дележ! Надо заранее позаботиться. Участок в самом престижном районе. По соседству участок итальянского премьер-министра, он тоже там приобрел, об этом в газетах писали. Будьте уверены, кто-то захочет перекупить этот выигрыш за настоящие деньги. Я же вам не успел рассказать, есть замечательные выигрыши. Например, главный, он называется «Седьмое небо». В рекламе не все пишут, это должен быть особый сюрприз…
Бабич засмеялся, голова у него уже слегка кружилась.
— Я, кажется, догадался: вы сами эту лотерею придумали, сами напечатали эти билетики, сами разносите по вагонам.
Тот охотно засмеялся в ответ.
— Теперь и вы почувствовали себя детективом. Тоже версия. Если б я только все мог сам!
— И второй раз по той же дороге уже не поедете, маршрут лучше менять, чтоб не встречаться с теми же покупателями. Нет, я ничего не имею против, наоборот, восхищен… Не хотите? — Бабичу показалось, что лотерейщик следит взглядом за движением бутылки в его руке.
— Слышь, дай мне тоже пивка, — вдруг подал с противоположной скамейки голос дремавший там до сих пор мужичок. Глаза у него раскрылись еще не совсем — мутные щелки среди небритых щек. Лицо вызывало мысль о мятой шерстяной варежке. — Дай пивка, а я тебе песенку спою.
Бабич, жмурясь, поглядел в его сторону. Солнце уже не так слепило. На немытом окне проявились оспины, оставленные всеми дождями лета.
— Только слова забыл, — сказал мужичок. — Нет, ты пивка-то дай, — спохватился он, увидев, что лысый взял у Бабича протянутую бутылку, — я тебе другую спою.
Лотерейщик сделал глоток, другой и передал мужичку остаток. Компания, однако, подумал Бабич. На лице его все еще держалась расслабленная усмешка.
— Ладно, дайте один, — неожиданно для самого себя махнул он рукой и достал из кошелька полусотенную бумажку. Лотерейщик извлек из живота деньги, отделил сдачу — две мятых десятирублевки, с готовностью развернул свой веер. Бабич помедлил, все еще сам себе усмехаясь: как будто выбирал билет на экзамене. Тронул сначала средний, но потянул первый справа. Поискал, где разорвать.
— Вы хотите открыть сразу? — осторожно спросил лотерейщик.
— А что? Боитесь, что выигрыша не окажется и я вам скажу, что об этом думаю?
— Э, если бы я этого боялся! Что вы! Но некоторым нравится оттянуть ожидание, поволноваться.
Бабич вынул из конверта сложенный вдвое лист, раз вернул. В рамочке из красивых вензелей поздравительными синими буквами было написано:
СЛЕДУЮЩИЙ ВЫИГРЫШ ВАШ
— Так я и знал, — смех его получился теперь немного возбужденным. — Ничего.
— Это как сказать: ничего, — лотерейщик приподнял брови. — А волнение, ожидание удачи, это чего то стоит?
Мужичок отер губы рукавом, запел:
— Ой, не думал, не гадал, Ой, куда же я попал…Бабич махнул ему рукой: не надо. Тот снова приложился к бутылке, хотя извлекать из нее было уже нечего.
— Да хотя бы развлечение, разговор, разве этого мало? — продолжал лотерейщик. — Всего за тридцать рублей, как эта книжка у вас. Которую теперь можно выбросить. А у вас даже написано: «Следующий выигрыш — ваш». Это не во всяком билете. Это дает право взять следующий со скидкой, всего за двадцать рублей.
— Ну, вы даете! — качнул головой Бабич — не без веселого восхищения. Он действительно почувствовал себя захмелевшим. — Вот это хватка! Теперь попробуете вернуть себе двадцать рублей сдачи. А если выигрыша опять не будет?
— Мне кажется, будет.
— Это почему?
— Не знаю, но мне так кажется. Я же говорю, в этой лотерее есть что-то особенное.
Бабич впервые встретился с ним взглядом. Обесцвеченная голубизна вокруг зрачков, краснота в слезящихся уголках. Почему я до сих пор слушаю этого прилипчивого жулика, подумал он, вместо того, чтобы выйти, почему делаю то, чего твердо решил не делать?
— Ладно, — сказал вслух. — Давайте еще один.
На этот раз он взял конверт, не глядя, вскрыл, вынул бумажку. Тем же шрифтом, но более крупно, там было написано:
СУПЕРВЫИГРЫШ. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
— О-о! — восторженно протянул лотерейщик. — Я же говорил! Дайте, пожалуйста, посмотреть, у вас потом будет время. Вот оно! «Вас поздравляет международная компания «Седьмое небо»», — начал он читать вслух: — Да, это действительно повезло. Я про этот выигрыш только слышал. «Новейшие разработки, специальная аппаратура. Особо благоприятный режим». Тут, конечно, реклама, подробности узнаете не здесь. «Автоматическая самонастройка. Предельное сближение потребностей и удовлетворенности… соответствие возможностей и желаний, без ограничений во времени»… Нет, тут шрифт немного мелкий, мне без очков трудно. Надо же, без ограничений во времени! Как это может быть? Но я могу вообразить. Бессрочный грант. Все, можно считать, позади, никаких проблем. Где заработать, чем утолить голод. Не надо искать, напрягаться, вкалывать. Если есть долги, можно не думать, пусть кредиторы кусают локти — вы для них станете недосягаемы… ха-ха… «Разнообразие в современном ассортименте. Пожелания учитываются в пределах индивидуальной программы», — продолжал он читать. — Не реклама, а целая поэма.
«Неприятные ощущения фильтруются». Да. Как выразился не помню какой философ: счастье есть отсутствие несчастий. — Лотерейщик передал выигрыш Бабичу. — Мечта, особенно если ты ни с кем не связан. Как раз для вас. Еще раз поздравляю. Теперь вы только напишите по этому адресу, дальше вам все организуют. Что вы молчите? Или вы не рады?… Что с вами?
Бабич встряхнул головой. С ним что-то произошло — как будто он на мгновение незаметно заснул или отключился, был где-то не здесь и теперь вдруг вернулся. Переменилось ли освещение, по-иному ли гулким стало пространство? Прежде он не замечал, что в вагоне так душно, несмотря на открытые окна. Недавнее веселое возбуждение сменилось внезапной усталостью. Не надо было пить вторую бутылку, подумал он. Что я хотел ему ответить?.. забыл…
— Ладно, — сказал он вслух, — спасибо за билетик. Мне надо идти. Счастливо вам оставаться.
Он встал — и неожиданно пошатнулся. Лотерейщик поддержал его за локоть. Бабич отстранился: не надо, у меня все в порядке. Нет, это не пиво, подумал он. Что-то с головой. Надо будет проверить давление. Я хотел ему сказать что-то другое.
— Желаю новых удач, — с усилием вспомнил он… Нет, снова было не то.
— И вам того же, — приветливо откликнулся лотерейщик. — Хотя чего вам теперь желать?
Мужичок напротив опять дремал, придерживая рукой пустую бутылку. Бабич хотел было потормошить его за плечо, но раздумал. Проснется, когда ему надо. Шаги в пустом вагоне отзывались непонятной тревогой. Его слегка пошатывало, как будто поезд двигался. Протиснулся, держась за стенки, через гармошку перехода. Открытая дверь оказалась в конце следующего вагона. Бабич поправил на плече сумку, спустился, держась за поручни, спиной вперед на щебенку между путей.
Платформа виднелась впереди в легком мареве, уменьшенная перспективой. Человек в форме железнодорожника шел в сторону Бабича от задних вагонов. Небольшая группа людей обступила там что-то, лежавшее на земле, на одном была милицейская фуражка. Бабич дождался, пока железнодорожник поравняется с ним, но спрашивать его ни о чем не стал, сам пошел к хвосту поезда по утоптанной, темной от мазута дорожке.
Между путями лежало тело, прикрытое мешковиной. Ее, однако, не хватило, чтобы закрыть его целиком, на уровне живота проступило темное пятно. Белая кость торчала из мяса, обутого в грязный сапог, откинутая рука еще сжимала разорванный красочный пакет. Из него высыпалась струйка ярких разноцветных драже, растеклась под листы подорожника, между стеблей лебеды и цикория, просачивалась сквозь щебенку. Голова была как-то неестественно вывернута, оскал полуоткрытого рта казался пугающей, блаженной улыбкой.
— Я эти конфеты в рекламе видел, по телевизору, — сказал кто-то рядом. — Дорогие, небось.
— Ты их только в рекламе видел, а у нас вчера целый ящик скинули, — ответил другой. — Он сынишке своей бабы нес, я знаю. Он всегда им носил. Дорогие! У нас бесплатно.
Бабич посмотрел на отвечавшего — ему показалось, что мужичок, только что дремавший в вагоне, все-таки незаметно сошел вместе с ним. Те же мятые шерстистые щеки, те же пьяные щелочки глаз. Слабость поднималась от колен к животу, подступала, как тошнота, к горлу, отзывалась сумятицей в голове.
— Ну, так у вас все просроченное, — сказал первый, не желая признавать чьего то обидного превосходства.
— Это для вас просроченное, а для нас в самый раз. Желудок же никогда не заболеет, если промывать каждый день спиртом. А у нас и с выпивкой нет проблем. Ни с чем нет проблем.
Бабич тупо смотрел на разорванную конфетную обертку, словно пытаясь что-то вспомнить, соединить мысли. Пестрый узор ее состоял из семерок разного размера и цвета. Что-то со мной не в порядке, думал он, такого никогда еще не было.
— Нам все с доставкой привозят — продолжал гордиться небритый. — На той неделе икра черная была, пожалуйста. О красной не говорю. Еда любая, техника, вещи. У нас и книги есть. Такое обеспечение вам тут не снилось…
Поезд в этот момент тронулся. Удлиненные тени людей заскользили по стенкам вагонов, словно пытаясь их удержать или хотя бы заглянуть, чуть подпрыгивая, в высокие окна. Ускользнул последний вагон, тени, уроненные на землю, растеклись неожиданно далеко, теряясь где то в зарослях бурьяна по ту сторону путей.
Закатное солнце озаряло открывшийся обширный пустырь, приземистые кирпичные постройки, березовый перелесок поодаль. Напряженная яркость была во всем — в багровом сиянии стен, в черно зеленых тенях листвы, в белизне тревожно обесцвеченных лиц. Золотом светились стволы тонких берез, светился бурьян, синие цветы еще не закрывшегося цикория, светилась щебенка, желто-бурые пятна мазута на ней темнели, сливаясь с подтеками спекшейся крови.
Колени еще мелко дрожали, но тошнота отпустила. Необычайно отчетливы стали очертания, звуки, отдаленные голоса, шуршанье шагов. Бабич медленно шел к видневшейся впереди платформе. Там стояла уже электричка, готовая вот-вот увезти назад торговца лукавыми, недостоверными выигрышами. Он, конечно, не жулик, но он шарлатан, думал Бабич. И не простой шарлатан. Нет, не простой. Странная, звенящая ясность была в голове — не хватало лишь слов для какого-то пугающего, щемящего чувства, в котором соединялось все: остановившийся вдруг поезд, обволакивающая болтовня лотерейщика, внезапная, непонятная слабость, раздавленный бомж, обитатель блаженной свалки, закатное сияние… необычное, новое понимание.
Спасибо, бормотал он, неопределенно усмехаясь чему-то и ощущая, как ему с каждым шагом легчает. Седьмое небо… спасибо. Никогда еще этого так не чувствовал. Всего за двадцать рублей. Пусть за пятьдесят. Спасибо, но я еще поживу, с усмешкой бормотал он, механически отрывая клочок за клочком от вынутого из кармана конверта и бросая по одному на рельсы. Нет, еще поживу.
Сеанс
1. Настройка
1
Теперь ты меня слышишь? Вслух подтверждать не нужно, достаточно мысли.
Что? Кто это со мной говорит? Где я?
Ну, вот и откликнулся. Уже кое что. Как себя чувствуешь?
Чувствую? А… Не знаю.
Есть объективные показания. В пределах нормы. Необходимые ощущения постепенно будут подключены.
Не понимаю. Это на самом деле?
Вопрос не имеет смысла.
Это происходит в мозгу… так спросить можно? Я еще живу?
Один вопрос лучше другого. Ты мыслишь, это я подтвердить могу, попробуй сделать умозаключение. Не будем тратить времени на технические подробности, оно у нас ограничено. Суть ты ухватить сможешь. Мозг, правда, пока еще не вполне активен. Да ты и прежде не особенно его напрягал, никогда не использовал даже малой доли его возможностей. Как и другие, впрочем. Так система устроена, ничего не поделаешь. Выявить, пустить в дело все заложенное в программу никто сам не может. И, наверно, не зря. Подключения, так сказать, на все сто в обычной жизни мозг бы не выдержал, перегорел. Оглядываешься однажды: жил ли, не жил? Это у всех так, но некоторым еще мерещится возможность ухватить что-то фатально ускользающее, недостижимое. Как будто прожитое еще не пережито до конца. Найти бы способы пробудить непроявленное, неразвернутое. Улавливаешь, о чем речь? Есть уже некоторые разработки, программы. Надо опробовать на материале. Предварительное согласие объекта не всегда спросишь. Но ты, будем считать, не отказался бы. Если бы успели спросить. Завещают же для эксперимента свои органы.
Вспомнил. У меня была такая идея. Откуда вы знаете? Литературный замысел. Я этого нигде не записывал.
Что значит не записывал? Не взял ручку, бумагу? Но вот, возникло же, всплыло что то. Откуда? Есть технологии, которых ты представить не можешь.
2
Сон. Это был сон. Кто то громадный, уродливый (нижняя губа распухла, черная) преследует меня на тяжелом устройстве, вроде грубо сделанной катапульты. Оно переваливает через нагромождения из камней, бетона, хватает по пути глыбы, швыряет в меня. Я успеваю уворачиваться, только однажды, наклонясь, сам стукаюсь носом об отлетевший осколок. Урод хохочет, довольный: «Ну, не обижайся, друг, значит, попал». Это похоже на игру, но я не знаю, что будет, если перестану увертываться. Наконец, с трудом (во сне двигаться трудно) взбираюсь на высокое нагромождение и с облегчением сознаю: сюда он не вкатит. Он действительно останавливается у подножья, но почему-то не раздосадован. С тихим торжеством отворачивает лежащую на тележке рогожу — я раньше ее не заметил: «Ты мне больше не нужен, ты у меня уже здесь». И под рогожей я с ужасом вижу — себя! Действительно себя, свое лицо, еще молодое, красивое, волосы слиплись прядями, потные, в глазах, обращенных ко мне, страдание, недоумение. Значит, я там, в его власти? Я понимаю, конечно, что это мой двойник, не я. Я же — вот! Но что теперь станут делать с ним, с моим двойником? Как его выручить? Ка кие у него — у меня! — страдальческие глаза! И что, если там — я? От невозможности найти разрешение я проснулся. Но долго еще не мог понять, сон ли был это.
Ну, различать нам как раз не надо. Реальностью будем считать то, что создается в мозгу. Этого урода ведь сам сочинил. Сам, кто же еще? Сны бывают гениальными даже у бездарностей. Проснешься, сам себе удивляешься: откуда что взялось? Интересно, ка кой тут сработал предохранитель, заставил проснуться?
3
Не знаю. Померещилось что-то еще, особенно важное. Таяло невозвратимо. Сердце колотилось по-настоящему. Посмотрел на часы: без пяти шесть. Еще темно. Решил, что лучше уже встать, все равно не засну. Сделал обычную гимнастику, побрился, позавтракал, покормил кошку, принял лекарство, собрался работать. Стал надевать часы — и обнаружил, что смотрел на них вверх ногами. Было всего без пяти двенадцать. От сбоя ли времени, от неизбежной ли долгой бессонницы — возникло чувство, что сейчас я все же смогу ухватить уже привидевшееся. Бессонный мозг — как воспаленная лампа, высвечивает все ясно.
Нет, вот этого не надо, на режим бессонницы переключаться не стоит. Что высвечивается, а что от яркого света гаснет, сам знаешь. Проворачиваешь в мозгу недодуманное, не так сделанное, перебираешь, сколько упустил непоправимо, как бездарно потратил лучшие годы. Увы, увы! Вспоминаешь незавершенный спор, задним числом наконец-то приходят убедительные, неопровержимые доводы. Почему не подоспели вовремя? Так все очевидно, логично. Мысли цепляются одна за другую, словно фарш прокрученный лезет из мясорубки. Переигрываешь сценарий, расправляешься с противниками, как подросток, воображающий себя героем боевика. Пробираешься по лабиринту, цель вроде рядом, а до нее все дальше. Держишься за логику, как за стенку — когда нибудь куда нибудь, может быть, доберешься. Только времени, глядишь, не хватит. Вот если бы стенку пробить! Бывает же: последовательное, долгое, правильное усилие не дает результатов, но угадаешь нечаянно точку — и все перевернется, откроется. Боязно, конечно, ушибиться. Да и за стенкой может оказаться вовсе не то, чего ждешь, вывалишься неизвестно куда. Ладно, что тратить время? Надо искать способы. Попробуем ввести музыку — так сказать, для настройки.
4
Ну? Почему перестал думать?
Разве я перестал? Я слушаю музыку.
Без слов нет отчетливой мысли. Это собака слушает и подвывает, а что у нее там, внутри, между поступлением звука и откликом? Но твое дело находить слова, без этого ничего у нас не проявится. Давай, вслушайся еще. Возникают какие-то ощущения, картины?
Не знаю. В незнакомую музыку трудно сразу входить. Что-то должно возникнуть? Может, подрегулируете?.. Неразборчивый общий гул, внутри переливы. Так смотришь на облака: они кажутся неподвижными, но внутри, если вглядеться… меняется, тает, вновь возникает. Тень облака на облаке. Мелодия куда-то уходит, сближается с другой… идущие рядом пути… вагон против вагона. Мы в открытых дверях друг против друга, не ощущая скорости, вровень, лицом к лицу, все ближе, совсем близко. Волосы ее растрепаны встречным воздухом, она убирает их с лица пальцами… невесомо, не прикасаясь… с улыбкой протягивает ко мне руку, другой держится за поручень, я тоже… еще немного, и соприкоснулись бы, дотронулись… Что это?.. почему вдруг заухало, заскрежетало? Я, кажется, отвлекся от музыки, перестал слышать.
Н-да. Как говорится, слова отдельно, музыка отдельно. Или, как сказал папаша, узнав, что вышло из его отпрыска: не об этом думал композитор. Тут есть авторская аннотация. «Столкновение лирической медитации с неумолимой реальностью… вариативные аллитерации первоначальных мотивов растворяются в фоновых фигурациях». А ты: заухало, заскрежетало. Одно, впрочем, стоит другого. Если бы про музыку можно было рассказать музыкой, про движение облаков облаками, про жизнь жизнью! Попробуем обойтись, чем есть. Тебе что-то вспомнилось или начал опять сочинять? Одно вообще не отделишь от другого, тем более у таких, как ты.
Не могу сказать. Этот скрежет все сбил. Если бы повторить? Музыку по другому слышишь, когда заранее знаешь целое.
При повторении не всегда получается то же. Методика не до конца отработана. Будем корректировать на ходу. Подключим другие возможности, наполним слова плотью, введем вкус, запахи, чтобы натекала слюна, трепетали ноздри.
5
Запах отработанного пара, локомотивной смазки, угольной гари. Запах вокзала, ожидания, многодневного дорожного пота, а может, прокисшего кваса: из резинового шланга от бочки у выхода на перрон натекала всегдашняя лужица. «Рупь пара!» — покрикивает торговка пирожками. Лицо распаренное, красное, как будто в ней самой не остывал пирожковый жар, черные усики над губой в бисеринках пота. Поддевает вилкой золотистое, в жирных пузырьках, тельце, в другой руке наготове оберточный обрывок…
Почему остановился?
Засомневался, какую употреблять форму времени. Запахи эти, отработанный пар, гарь угольная — когда это было? Рупь пара! Пирожки с какой-то склизкой требухой вместо мяса. Я однажды побрезговал… побрезгую их в рот взять — но тогда? сейчас? Они ведь вкусны… они были вкусны… от одного предвкушения натекала слюна, и зубы вдавливались, обрывали, сминали эту горячую, смешанную со слюной мякоть. И квас этот из тяжелых кружек, едва сполоснутых после чужих ртов, разбавленный той же водичкой, что натекала в лужицу — в жару хотелось вливать в себя кружку за кружкой, да еще истомившись в долгой очереди, сначала взахлеб, потом задерживая, освежая запыленное нёбо, горло, без мысли о какой-то там гигиене.
Ну вот, а говорил: повторить бы, заранее все зная. Возникает смазанность, как от совмещенных изображений. Настоящее время вообще условно. В нем пожить то реально не успеваешь, ожидание перетекает в воспоминание, не задерживаясь, а там все тает, переиначивается, перемешивается, сам знаешь. Посмотрим. Пользуйся, когда удобно. Чего ты сей час ждешь?
6
Вспомнил. Спохватился в последний миг. На светофоре уже светился зеленый. Успел добежать, вскочить на ходу. Хорошо, что двери в этой электричке не закрывались. Можно было постоять у открытого проема, подставив лицо встречному воздуху, выравнивая дыхание, наблюдать, высунувшись, как оживают рельсы, расходятся, снова сходятся, отражая небо, а поезд медленно, осторожно принюхиваясь, распутывает неразбериху привокзальных путей, и ведь не сбивается, выбирает единственный. С детских лет удивление: почему-то именно этот. Другие убегают в сторону, теряются где-то там, где тебя не будет. Из промасленного щебня между путями, среди мусорной мелочи, окурков, оберток от мороженого, пачек от сигарет или от папирос («Беломор» с голубой полоской, «Север», болгарское «Солнце»), пробивается пыльная лебеда, полынь, пастушья сумка, одуванчики, небесного цвета цикорий. Скорость смазывает подробности в обобщенную полосу. По соседнему пути уже догоняет нас электричка. Поравнялись, пошли рядом. Вот… опять та же музыка? Спасибо… Она стоит в двери напротив, держась одной рукой за поручень, другой укрощая у колен непослушный подол. Пути совсем сблизились, мы мчимся друг против друга. Волосы золотисто светятся вокруг ее головы, она убрала с лица прядь, потом, улыбнувшись, протянула ко мне руку. Я потянулся навстречу. Пространство между нами исчезло… можно удержать еще вот так, отчетливо, укрупненно? Она… да, это была она. Крапинки на серо-зеленой радужине, белая засохшая корочка на губе. Ничего не стоило перескочить из двери в дверь, как сделал бы в кино каскадер. А за ее спиной… кто это?.. Что снова за звуки? Их стало вдруг относить назад и в сторону, ее электричка замедляла ход у платформы, где надо было сходить мне, а моя почему-то разгонялась быстрей, быстрей, платформа ухнула, пересчитывая вагоны. Что же это такое, черт побери?
7
Постой, постой, тут давай проясним. Вскочил, надо понимать, не в ту электричку? Не успел на бегу уточнить, не посмотрел на табло? Всего только? И так из-за этого разволновался?
Я опять увидел ее. Отчетливо. Сейчас узнал отчетливо. Это была она.
Она?
Моя жена, будущая. Я ее, значит, видел раньше, такую, только не был знаком. Могли бы еще тогда встретиться, сойти на одной платформе. Вот когда он меня, значит, опередил.
Кто это он?
Я разве не говорил? Этот… возник за ее спиной. Наклонился к ее уху, что-то сказал. Она улыбнулась в ответ.
Может, просто спросил, сходит ли она. Запоздалая ревность, что ли?
Что значит запоздалая? Я уже знаю, что буду ее ревновать. Ведь все уже было. И это, оказывается, было, где-то запечатлелось, хранилось. Перепутанная электричка, девушка в вагоне напротив, они оба. Но прежде так не соединялось, я так не помнил, не понимал и переживать так не мог. Лучше б я их не видел.
Вот те на! Только начал по-настоящему ощущать, прикоснулся к чему-то — уже замигал предохранитель. Проще бы сочинительствовать, да? Ладно, попробуем переключить режим, с поправкой на личные особенности… Куда идет этот поезд?
Понятия не имею.
Ну, вот и хорошо. Так уже лучше.
Я, наверное, знаю… то есть, узнаю потом, просто забыл. Вышла ошибка, чего тут хорошего. Мне надо будет вернуться, это я помню.
К себе, да? Куда же еще? Если не заблудишься. Шутка. Минуточку…
расширение в пределах селекции эрекции проекции видений видимого на виденное внутри известного неожиданность подключение переключение отключение осторожно не спускать с горки бездна ограничена количеством знаков по умолчанию
Что это? Эй! Какой еще режим? Не понимаю. Вы слышите? Эй! Почему вы замолчали? Я перестал вас слышать. А вы меня? Что у вас там случилось? Или не хотите отвечать? Эй!
2. Переключение
1
Репродуктор повторил объявление на невнятном языке хрипунов. Без остановок, неизвестно куда. Мне, что ли, теперь так и ехать? Что-то не сработало, да? Я, знаете, вспомнил еще пивную пробку в той лужице, на вокзале. Прилив из шланга покачивал ее, словно кораблик с гофрированными бортами. На дне размокала обертка от карамели «Раковая шейка». Может, вставить, как вам кажется? Без последовательности?.. Нет, все таки не получается. Вот вот, казалось, готово было ожить счастливое детское чувство, когда больше хотелось ехать, чем приезжать. Вжимался носом в окно, провожал взглядом пустыри, перелески, заборы, поля, огороды, закопченные заводы, свалки, полные сказочных богатств, луга, домики путевых обходчиков, женщин с жезлами свернутых желтых флажков в руке, терпеливую очередь у шлагбаума, грузовики, телеги, автобусы, убегающие под мост реки, удильщиков на берегу, купальщиков по грудь в воде, белых уток. Вдруг свет заслоняла быстрая туча, диагонали дождя задерживались на стекле, а потом из просвета ослепляло омытое солнце, заставляло щурить глаза. Простор поворачивался вслед движению, долго не отставал, предлагал вглядеться в себя, оставаясь до конца не исчерпанным, как жизненное событие, столбы отсчитывали расстояние, между ними приплясывали провода, вверх, вниз на волнах перестука, и ритм этой музыки не казался однообразным. Было жаль, когда дорога кончалась. Уже? — спрашивал. — Уже приехали? А дальше нельзя? — оглядывался с завистью на тех, кому повезло ехать дальше. Все равно куда. Повторить бы опять, досмотреть сполна! Ну вот, за окном вроде уже виденное. Макет воспоминания. Так собрание драгоценностей, подобранных по дороге, камней, шишек, стекляшек, гаек, из которых фантазия уже создавала нечто одухотворенное, оказывалось время спустя кучкой мусора. Смотришь в стекло, заляпанное оспинами прежних дождей, не сквозь него — на свое полупрозрачное отражение, ощупываешь неприятный прыщик на подбородке. По стеклу ползет муха, останавливается, отупело ползет снова, не способная даже понять, как сюда угодила. В противоположном конце вагона несколько женщин покачиваются в такт колесному перестуку, кто-то вяжет, кто-то читает книгу. Знакомое промежуточное состояние. Сколько же еще ехать? Скорей бы пропустить время, из которого — мы это, в отличие от мухи, можем сказать — состоит жизнь. Вычитай еще одну пустоту, не заполненную ничем, кроме убаюкивающего ритма и ожидания. Так, что ли? Эй! Может, вы меня все таки слышите? Я вас не слышу, а вы слышите? По телефону такое бывает. Что у нас с вами не получается? Расползается, ускользает. Только неясное чувство тревоги. Проверьте, как там с питанием? Батарейки не сели?
2
Что этот зануда бормочет про батарейки? Осторожнее в выражениях.
От нас в его сторону не доходит.
Ничего, что подключились без спросу?
Раз так нечаянно получилось. Пока шеф там налаживает. Мы же не вмешиваемся. Сам-то он всегда искал способ заглянуть в чью-то жизнь.
Еще бы и сны подсмотреть!
А почему бы нет? Не наяву, конечно.
Во сне, что ли?
Есть другие состояния.
Это какие?
Не знаю терминов. Другая специальность.
Что то литературное.
Может, литературное.
Он все еще в неопределенности.
Вроде клонит в сон, но еще не спит.
Тревога мешает.
А тревога-то отчего?
От неизвестности.
Уже все-таки живое чувство. Неизвестность, неожиданность, новизна.
Как только что, когда увидел ее.
Вроде бы и так видел.
Так, говорит, не видел.
И опять отчего-то не по себе.
Билет-то его здесь уже не действителен, про контролера подумал.
Неосторожная мысль. Не надо было ее допускать. Теперь уже не исправишь.
3
Она вошла, раздвинув неслышно дверь, в светло-синем жакете без форменных знаков, с согнутого локтя свисала матерчатая кошелка. Словно дуновение беспокойства прошло от скамьи к скамье. Откладывали книжки, убирали вязанье, ставили на колени сумки, пакеты, извлекали кошельки, раскрывали. Кто-то, приподнявшись на цыпочки, снимал с багажной полки застрявшую кладь, высвобождал из-под чужой тяжести. Вошедшая медленно двигалась по проходу, смотрела с расстояния, что ей показывают, иногда брала в руки; от кого-то отмахнулась с улыбкой: да знаю я тебя, знаю. Только одна продолжала встревоженно рыться во внутренностях сумочки, вынимала то носовой платок, то записную книжку, что-то уронила на пол, подняла, раскрасневшаяся, растрепанная. Контролерша некоторое время терпеливо ждала. Я прикрыл глаза. Лучше не обращать на себя внимания, изобразить спящего. Между нами оставалось пространство пустых скамеек. Авось там и задержится, не дойдет. Есть ли у меня деньги на штраф? А на обратный билет? Ни сил, ни желания проверить карманы. Даже напрягать память. Нашла ли та встрепанная женщина то, что искала?.. Слегка приоткрыл глаза: контролерша теперь стояла спиной ко мне, держала перед собой круглое зеркальце на ручке, подкрашивала губы. Укрупненный глаз в черном обводе глянул на меня из отражения. Я поспешно опустил веки снова. Не уберегся, встретился взглядом. Она как будто задержалась на мне. Разглядеть бы получше лицо. Так красится на работе… Но эта ее улыбка…
4
Он ее, что ли, узнал?
Еще не решил. Не хочется узнавать.
Почему?
Еще не прояснил.
Надо будет напрячься.
Не хочется прояснять.
Лучше бы без напряжения.
Без проверки.
Насколько от него зависит.
Надеется проскочить.
Это в его характере.
Он это умеет.
Нет, что-то все-таки оживает.
Что то, значит, осталось.
5
Прикосновение паутинки к коже лица — прикосновение взгляда. Она сидела против меня на скамейке, разглядывала, наверно, уже долго.
— Глаза, может, откроешь? — наконец, сказала с ус меткой в голосе. — Без билета, что ли?
— Почему без билета? — я выпрямился на сиденье, словно в самом деле сейчас только проснулся и не могу разлепить сразу ресниц. Что это за тыканье — повадка человека, ощутившего власть? Принять его безропотно или самому ответить ей «ты»? — Билет то у меня есть, — продолжал я пока нейтрально, все еще как бы спросонья, — вот.
Рука нащупала ткань, не сразу нашла карман. Забыл. Я в легкой старой курточке без подкладки. Вынул на ощупь маленькую картонку, протянул, тут же сознавая, что делаю это напрасно.
— Что ты мне показываешь? — сказала она.
Завалялся, наверное, старый, выправлял я неуверенно мысль. Таких теперь нет. Надо поискать новый, бумажный. Хотя ведь и он не годится. Теперь — это когда? Стоило все таки отвечать покладисто, не возмущаться, я мог не так сориентироваться, допустить ошибку, худшую, чем безбилетный проезд.
Наконец все-таки открыл глаза. В вагоне включилось тусклое освещение, воздух за окном сразу сгустился. Замедляли ход силуэты зданий, закат просвечивал сквозь квадраты окон. Тени огней пробегали по желтым планкам скамеек, по лицу женщины, делая его молодым и как будто вправду знакомым — если бы оно не было нарисовано поверх настоящего.
— Рассеянность, — признал, пожимая плечами. — Билет-то я взял, но перепутал в спешке платформу, сел не на тот поезд, проехал свою станцию. Надо теперь возвращаться.
— Это куда еще возвращаться?
— К себе, — вспомнил я.
— Остришь, — усмешка дрогнула на губах, накрашенных до черноты. — Все. Считай, приехал.
Я пожал плечами: как скажет. Она встала и, не оборачиваясь, пошла. Я, помедлив, двинулся вслед за ней.
6
Поезд, вздрогнув, остановился, из переходной гармошки дохнуло блевотиной. Лишь в следующем вагоне я сообразил, что могу выскочить в открытую дверь, никто бы не удержал, женщина даже не оглядывалась. Вагон освещен был лишь фонарями заоконной платформы. Она успела на ходу снять жакет, светлая блузка в неверном свете переливалась муаровым узором. На крайней скамье кто-то спал, прикинувшись кучей тряпья. Слышалась музыка из приемника, компания теней продолжала пировать, хотя остановка была, похоже, конечная.
— Эй, дорогой, присядь с нами, — кто-то придержал меня за рукав. Пахло нарезанным луком, холодной курицей и огурцом.
— Не могу, — я сглотнул невольно слюну и тут же подумал: а почему не могу?
— Почему не могу? — подтвердил голос. Рука уже протягивала мне стаканчик — бумажный, но запах хорошего коньяка был неопровержим. — Когда у друзей праздник — не обижай.
Кавказский акцент обладает необъяснимой способностью сделать обращение дружелюбным, но едва уловимый полутон отделял интонацию от угрожающе оскорбленной. Почему, в самом деле, нельзя было за держаться, утолить голод, выпить, захмелеть вместе с людьми, способными жить легко, как хотелось бы самому, но все время не удавалось, с ними запеть, растроганно лобызаться, не думая ни о чем, хотя бы на время — а там, словно переключив стрелку, свернуть, может, на какой то другой путь, в края неизвестных возможностей, несостоявшихся встреч, неосуществленных желаний?
— Женщина, понимаешь, ждет, — невольно подладился я под акцент и показал движением головы. Она уже исчезала за выходной дверью, вовсе не дожидаясь меня. Но не найти было объяснения более убедительного.
— А, женщина, извини, — кавказец понимающе ослабил хватку. Упущена была возможность (который раз? не первый и не последний) приобщиться к беззаботности праздника, к жизни, скрытой в полутьме, но понятной больше, чем необходимость следовать за этой женщиной. Дальше, минуя чье-то копошенье, пыхтенье (высветилось пятно оголенной белизны), в черноту очередного перехода.
Вагон за ним имел вид служебный, половина его была отделена перегородкой, к стенам с двух боков жались скамьи без спинок. На одной сидел понурый чело век, щеки в седой щетине, потные пряди прилипли к лысине. Она сделала знак, чтобы я подождал здесь, прошла за перегородку. Открывшаяся дверь отозвалась немазанным визгом, похожим на болезненный крик.
Небритый на противоположной скамье вздрогнул, поднял голову.
7
Затяжной, мутный взгляд сфокусировался, прояснел. Мятые губы шевельнулись вначале беззвучно, пробно.
— Ты?! — выговорил, наконец. — Тебя-то зачем притащили? Они не имеют права, срок давности уже истек. — Смотрел, напрягая на лбу морщины. Седые пучки из ноздрей, краснота слезящихся, воспаленных глаз. — О господи!.. Возможно ль, что опять я сам не свой? — В голосе неожиданно проявилась актерская дрожь. Испачканный мятый пиджак, черная тряпица, бывшая когда-то артистическим бантом, размякнув, свисала с несвежего воротничка. — Почему ты так смотришь? Помнишь, я читал здесь с эстрады, в парке? «А поворотись-ка, сын! Экий ты смешной какой!»… Конечно, время всех изменило. Но в тебе осталось… я, как сейчас, вижу, — расширенные зрачки снова расслабились, он смотрел сквозь меня. — Сидел вот так же на скамейке и плел венок из одуванчиков. Из одуванчиков. Как девочка. Нет, лучше, нежней девочки. Нежная кожа, припухлые, яркие губы…
Дрожащие пальцы потянулись ко мне. Запах немытого тела коснулся ноздрей. Тошнота, похожая на детский испуг, поднялась из живота. Я невольно отстранился.
— Извините, но я не понимаю, о чем вы говорите. Я вас не помню.
Проехавший мимо состав отозвался в вагоне дрожью расслабленных сочленений. Рука опустилась.
— Это правильно, — он пожевал губами. — Не понимал, значит, не могу помнить. Так и держись. Доказать ничего нельзя. Только бы нас не мучили. Позволяли жить хоть тайком в своем мире. В мире чистой любви, искусства, поэзии, красоты. — Он поднял подбородок: — От низшего, земного, к высшим сферам влечет меня моя любовь во сне. Нет, говорят, признавай правду! Ты не хочешь признать правду? Надеешься спрятаться где-то у себя там? Чтец-декламатор, актеришка долбанный. Мы тебя оттуда достанем. Мы тебя вылечим. Мы тебя заставим признать правду. Покажем, кто ты на самом деле такой. Когда превратят тебя в кучу мяса, в помоечную собаку, в грязь, в дерьмо. Прости, что я перед тобой так выражаюсь. И тронут брезгливо носком сапога: понял, падаль, кто ты? Избавился от галлюцинаций? Теперь признаешься? Ужас в том, что реальности отрицать нельзя. Реальность — вот она, ты сам видишь. Но отказаться от своего — значит стать тем, что они хотят из тебя сделать. Они не могут, не должны знать, что это такое: жизнь, в которой присутствовал ты, мое чувство, безнадежность, невыразимость. Ты сам мог об этом не подозревать…
— Простите, — сказал я, подбирая слова, которые могли бы подействовать на сумасшедшего, — не обижайтесь, но, пожалуйста, хватит. Я не хочу вас обидеть. Меня тошнит, может, от пирожка, который я время назад съел. Это что-то физиологическое. Но я не могу ничего поделать. Вы говорите как будто обо мне, но я этого не знаю. Со мной этого не было, понимаете? Тот, о ком вы говорите — это не я.
— Как ты сказал? — сумасшедший на миг замер. — Обо мне, но не я? Это идея! Это можно считать решением. Ничего не оспаривать, не отрицать. Захотят тебя ткнуть носом: но вот, здесь же написано, это о тебе, ты сам подтверждаешь, от своего имени? Пусть, скажи, обо мне, но это не я. Это их озадачит. Как это о тебе, но не ты?.. ха-ха-ха…
8
Он снова вздрогнул, оборвал смех. Дверь на этот раз открылась неслышно. В проеме, для устойчивости расставив ноги, стоял человек в милицейском расстегнутом кителе. Фуражка сдвинулась косо, на груди белой нательной рубашки открывалось пятно цвета пива или мочи.
— Что, встреча старых знакомых? — удовлетворенно прокомментировал молчание. — Вечер приятных воспоминаний? Давно его знаешь? — обратился он ко мне.
И этот на ты. Актер посмотрел на меня испуганно, умоляюще.
— Я его не знаю, — пришлось сглотнуть невольный комок, чтобы высвободить голос. — И попрошу вас…
— Незнакомы, значит, — не стал меня дослушивать милиционер. — Ну конечно. Он с тобой знаком, а ты с ним нет. А может, постараемся, вспомним? Подсел кто-то однажды на скамеечке в парке? Да? Расстегни, покажи, мальчик, что у тебя? Или как-нибудь по-другому? Да не стесняйся, интересно же послушать, с подробностями. Ну? Будем молчать? Документы! — рявкнул вдруг изменившимся тоном.
— Какие тебе документы? Что ты дурь порешь? Он со мной пришел, — женщина показалась за его спиной, поправляя волосы, блузку. Краска с лица была стерта, она улыбнулась мне. Я готов был узнать — еще не ее, но эту улыбку. — Пропусти, — попробовала протиснуться мимо него, держа перед собой кошелку. Он боком прижал ее к косяку двери. Она охнула.
— Нашел время, козел! Моя смена кончилась. Ты же на службе.
— Именно что на службе. — Снова навалился на нее, не давая пройти. Она посмотрела на меня беспомощным взглядом.
— Не распускайтесь так при нем! — неожиданно при шел на помощь актер. Голос его был готов сорваться. — Вы не знаете, с кем имеете дело. Он еще про все это напишет.
Милиционер перевел осоловелый взгляд с него на меня.
— Что напишет? Журналист, что ли?
— Вам этого не понять. Мы у него все в мозгу.
— Ну…., — милиционер начинал закипать, — кой чьи мозги мы сейчас прочистим. Давай ка ты первый сюда…
Теперь сумасшедший обратил ко мне затравленный взгляд. Что он в самом деле вообразил, чего от меня ждал? Я посмотрел на женщину. Она высвободилась, наконец, вернула на лицо улыбку, сделала мне глазами знак: не вмешивайся.
— Пошли, пошли, — ухватила меня под руку. — Дорогу еще не забыл?
9
Ускользнул все-таки. Не стал вмешиваться.
А что он мог? Успел все-таки пожить, научен. Мысленно мог бы. В воображении. Воображение тоже ограничено.
Это чем?
Реальностью.
Смотря какое воображение.
Но способ-то уже сработал.
Какой способ?
Вот этот: о тебе, но не ты.
Практичный режим.
Глядишь, так честнее получится.
Прямо о себе не все вспомнишь.
Может, понемногу начнет узнавать.
В каком смысле? Знакомое или еще неизвестное?
Не понятое, забытое, не воспринятое. Других, себя.
Неизвестное в знакомом, да?
Открывать словно впервые.
Это конечно. Без неожиданности нет чувства жизни.
Хотя конец то известен заранее.
3. Попытка возвращения
1
После станционных фонарей близлежащие здания совсем растворились в чернильном воздухе. Редкие окна слабо окрашены в цвета занавесок или апельсиновых абажуров, готовых терпеливо дожидаться возвращения моды. Ярко освещен лишь фасад на другой стороне площади — железнодорожный клуб, измененный временем или памятью. Монументальный портик с колоннами странно уменьшился, как бывает с усохшими стариками. Даже с расстояния видно, как облезли на нем былые белила; пятнистого цвета краска на стенах последний раз была, кажется, охрой. Если подойти поближе, можно бы различить слои, выглядывающие один из-под другого, как обрывки газет по краям стенда, на который они наклеивались годами, и по сохранившимся клочкам текста определить хотя бы приблизительно дату. Но туда нам незачем, дата все равно значила бы не больше, чем координаты, нарисованные в ночном воздухе, сквозь который идешь сейчас, с уверенностью старожила минуя переходной мост, узнавая тепло рук, обхвативших твой локоть, щекой чувствуя ее взгляд, но сам к ней не оборачиваясь, чтобы не смутить, не спугнуть что-то, уже начавшее возникать. Мы шли с ней со станции. Мы идем со станции. По рельсам расползаются огни светофоров, красные, желтые, синие. «Подаю на пятый цистерны!» — распоряжается женский голос. С сортировочной горки спускаются по одному самостоятельные вагоны. Черная фигурка на путях коротким, быстрым движением подсовывает под разогнавшиеся колеса тормозные железные башмаки — вагон, взвизгнув, замедляет движение и уже мягко стукается буферами о буфера, поджидающие его. Всегда хотелось подолгу наблюдать эту непростую, рискованную работу, здесь нужны умение и осторожность: башмак может выстрелить из-под колеса, ушибить не на шутку. Дальше ведет она. Последний фонарь на стене завода делает темноту вокруг ослепительной, закопченные окна не пропускают наружу света, лишь струйка мутного пара выбивается от куда-то сверху, как свидетельство ночной жизнедеятельности, влажный потек на кирпичах отблескивает черной смолой. «На четвертый перевожу, на четвертый!» — предупреждает бессонный громыхающий голос, он не умолкает всю ночь, проникает сквозь стены, пахнущие холодной сырой плесенью. Летом не топится печка, тепло только под одеялом. Темнота, как на улице, еще непрогляднее, чем на улице.
2
— Вспомнил все-таки?..
Да. Оттаивает, проявляется. Запах керосина из кухни, старой картошки из погреба и как будто помойного ведра. Глаза открывать незачем, все равно ничего не увидеть. За стеной кто-то спит или еще не вернулся с ночной смены, это я тоже помню, надо сдерживать голос, свет зажигать нельзя.
— Ну, отдыхай пока.
— Я улыбку твою вспомнил. Ты говорила не со мной, но мне показалось, что улыбаешься мне. Я сразу в улыбку влюбился.
— Улыбка… ой, какой ты… Улыбка — это же так просто. Сокращение мышц, наработанное, перед зеркалом. Ты даже не сознавал, до чего был смешной. Ходил вокруг да около, не знал, как подступиться. Танцевал и не прижимался, боялся обидеть. Воспитанный неразбуженный дурачок. Тебе даже в голову не приходило, как я хочу этого сама. Как этого можно хотеть. Я ведь с ума по тебе сходила, прямо текла. Ты даже слов таких не знал.
— Почему же не знал? Знал.
— Ладно, не обижайся. Покраснел, небось? Не вижу. У тебя были другие слова. Говорить ты умел. И сам себе верил, сам от своих слов зажигался. Но я от твоих слов таяла. Думала, ты какой-то особенный, с тобой надо не как с другими. Если б, наконец, не постаралась сама… Ты, наверно, даже не понял, как все вышло.
— Почему же не понял? Это в лесу, когда мы упали с велосипеда? Прямо в траву, я на тебя… что ты смеешься?
— Не на меня. С кем ты меня путаешь? А говоришь, вспомнил. Кто у тебя еще был? Раньше, потом? Перемешались, не различишь? А как меня зовут?.. Подожди… имя вспомнил?
— Причем тут имя, если я тебя вот так помню, на ощупь… вот же ты… тут… и вот тут. Как же не узнал?
— Ух ты, снова какой! Подожди, …опять не туда… давай я тебе помогу. Это хоть вспомнил.
3
Всплеск импульсов, однако!
Когда запахи вспомнил, тоже был всплеск. Картошка из погреба, керосин.
Оживает, значит. Не просто воспоминание.
Необъяснимо все-таки.
Что?
Вот это. Положил руку, дотронулся пальцами — и оживает. Как будто подключился к аккумулятору.
Чего тут необъяснимого? Давно все объяснено.
Если бы! Отросточек тела входит в углубление другого — и это все? А какого, все равно? Почему он по имени ее не назовет?
Не уверен. Вдруг ошибется. В темноте Лию не отличишь от Рахили — пока не узнаешь.
Вот-вот! Думал, что любит ее, а ему, оказывается, другую подсунули. Эту, оказывается, не любит. Что значит узнать?
Прибор не покажет.
Вот и тычутся, наугад, на пробу. Пока не найдут.
Если найдут. Случается не то, что ищут, а то, что случается.
У кого как. Он ведь уже увидел ту самую, только еще не знает. Может, где-то в памяти держит, пусть пока непроявленно.
Это из романтической литературы.
Не поймешь, он все-таки ее любит?
Ему сейчас кажется, что любит.
Расплывчатое слово.
Не научный термин, что говорить.
4
Кто-то заворочался за стенкой, совсем близко.
— Это хозяйка. Не бойся. Он еще не скоро вернется.
— Не скоро?
— Повторяешь, чтобы выиграть время. Полгода еще досиживать… Ну вот, сразу сник. И не спрашиваешь, кто он? Да ты его и так знаешь. Его по бабской части тут все знали. Ты, помню, передергивался брезгливо: как он такой раздутой губой может целовать, кто с ним целоваться захочет? Губа! Что губа! Он так бабу ухватит — уже не вырвешься. Ты этого не умел. Или не хотел. Смотрел уже куда-то мимо меня, только изображал чувства. Или воображал. Вместо чувств у тебя воображение. Думал, можно устроить вокруг себя жизнь, как она видится. А он брал жизнь такой, какая она есть. Только вспомнить, как ты мне стал предлагать пятьдесят рублей на аборт… меня чуть не стошнило. Или ты и это забыл?
— На аборт? Но ты же потом сказала… ведь этого не было. То есть, выяснилось, что это была ошибка.
— Было, не было. Так растерялся, просто тебя жалко стало. И сразу слинял в Москву.
— Так совпало… сложилось. Я думал сразу вернуться. Ты что, хочешь сказать…
— О, встревожился! Не пугайся так, не пугайся. Ты же не хочешь знать, что со мной будет потом. После тебя.
— Будет?
— Будет, было. Все равно тебе знать незачем. Это уже не твоя жизнь. Если что дальше и будет, то не у нас. У каждого по отдельности…
— Эй, на пятом, — не унимается голос, — ты что там, заснул? Принимай последние!
Направляют, сцепляют, составляют заново.
— Когда-нибудь вспомнишь, как мы однажды еще встретимся. Я увижу тебя в поезде, подумаю: подойти к нему, не подойти? Решу подождать: захочет ли меня узнать? Ты ведь меня увидел. Отвел взгляд.
— Вот ты о чем… Я не был уверен. Ты так изменилась.
— Ты испугался узнавать, вот и все. Молчи лучше, молчи, все будет вранье. И зачем правда? Правда никому не нужна. Правду знать — жить станет невозможно. Проще потом досочинить, ты это умеешь, вот, как сейчас. Удобнее.
5
Все, погасло.
И уже не оживишь.
Было, не было?
Сношения без отношений.
Нет, что то вроде наметилось, проявилось. Неубедительно. По настоящему не получается. В каком смысле?
Соединяются, а остаются отдельными.
Это ведь у всех так. И то если удается.
У кого как.
Каждый думает, что у других по-другому.
Про других никто знать не может.
Разве что из литературы.
Причем тут опять литература?
Она, может, как раз для этого. Чтобы успокаивать: не терзайся, у других то же.
Это верно.
Еще чтобы запечатлеть, удержать. В жизни-то все проходит.
Даже воспоминание тает.
Но что-нибудь остается?
Пока неясно.
6
Густой предрассветный туман, не видно дальше вытянутой руки. Не тишина — беззвучие. Пахнет дымом. Из тумана возникла собака неопределенной по роды и масти, засеменила за спиной, обнюхивая след. Узнала, что ли? — я обернулся к ней. Она отпрянула, зарычала, оскалив клыки. Ну, ну, сделал я успокой тельный знак. Показалась похожей на мою. Я, знаешь, не совсем ориентируюсь во времени, но место — его мне и узнавать не надо, его я ощущаю, как воздух, который остался внутри, которым снова дышу. Моего пса звали когда-то Султан. Султан? Собака неожиданно завиляла хвостом, задом — откликнулась. Как немного, оказывается надо — назвать по имени. Я выкупил своего Султана за трешку у живодеров, он уже скулил, трепыхался у них в сетке. Так и остался на всю жизнь испуганным, от встречных собак убегал, позоря меня, когда я с ним шел по улице, зато был нежен и любвеобилен. От любви и пропал: увязался за пахучей сучкой, которую привезла с собой группа проезжих кинематографистов, вскочил вслед за ней в автобус, назад не вернулся. Было ли это, будет ли? А, Султан? Это, что ли, ты или твой потомок? Я при сел на корточки, протянул руку, пес с наслаждением доверчивой покорности подставил ухо. Эк сколько на тебе репьев. Поделись, нацеплю их себе, как ордена, сюда и вот сюда. Простые радости детства. На хорошую звезду, жаль, не хватит. Стоит вдруг осознать, что где то, кто-то помнит тебя, продолжает о тебе думать — как будто продолжаешь жить в других, через чью жизнь прошел, в ком-то что-то оставил, даже не зная этого. И в тебе остаются, продолжают жить все, с кем соприкоснулся душой, как будто ты — это еще все они. Оживают пробужденные запахи придорожных трав, еще не сожженной картофельной ботвы в огородах. Прохладна увлажненная пыль под босыми пятками. По сторонам дороги темнеют сгустки домов — непроявленные воспоминания. Мир прекрасен, когда видишь его, словно сквозь запотевшее стекло. Туман, как память, прикрывает убожество обветшалых построек, серых сарайчиков, покосившихся заборов — с волнением продвигаешься дальше, начинает яснеть.
7
От бурьяна свободен голый утоптанный пятачок, на нем очерчен круг, разделенный чертой пополам. Нож, воткнутый в землю, лишь слегка заржавел — заточка из пилки, рукоятка обмотана черной изолентой, еще липкой в ладони. Нож втыкается с лету, отрезаешь себе чужую территорию, прежнюю границу стираешь. Если он не воткнется или наклонится так, что не просунуть между концом рукоятки и землей два пальца, все у тебя могут отрезать обратно. Ускоренная модель завоевательной истории. Но особой виртуозности требует другая игра, там нож надо втыкать, бросая разными способами: за рукоятку, за лезвие, с пальца, с локтя. Самое сложное: раскачать нож двумя пальцами за лезвие и подкинуть, чтобы он воткнулся, перевернувшись сначала в воздухе. Это называлось «слону яйца качать». Проявляются, наливаются темнотой очертания стен, почернелые бревна. Рисунок кривой звезды на одном выжжен стеклом, которое называлось не увеличительным, а зажигательным. Окошки на покосившейся веранде тоже покосились, стали не прямоугольными — параллелограммами, иногда ромбами. Перекосились рамы, это понятно, но как такое могло произойти со стеклами? Нижняя ступенька крыльца провалилась, из щели поднялась высокая лебеда. В прихожей держится холод, настоянный на запахах давних времен, пыльного хлама, который сваливали сюда, медля вы бросить окончательно — вдруг еще пригодится, лыжа, оставшаяся без пары, дождется такой же, когда сломается следующая, прохудившуюся кастрюлю удастся когда нибудь залудить или использовать для других надобностей, школьные учебники, игрушки, почти целые, перейдут по наследству. Корзина с оборванной ручкой заполнена бумажными листками, прихотливо, по разному сложенными: непонятные отцовские изделия, что-то значившие для его смущенного ума. Дверь в комнату приоткрыта, я заглядываю, стараясь не пробудить звон стеклярусной за навески, осторожно ее раздвигаю — сдержать бы еще биение сердца.
8
На столе тяжелый плюшевый альбом. Мама переворачивает твердую страницу со вставленными в прорези фотографиями, вглядывается поверх очков, сдвинутых к кончику носа.
— Он тут совсем на себя не похож, — покачивает головой и переводит взгляд — не на меня, в мою сторону. — Мы с тобой похожи, а он — посмотри. Если б не знала, засомневалась бы.
— Фотографии! — хмыкает отец. Он сидит боком ко мне, дрожащие пальцы с трудом, замедленно складывают поперек лист бумаги, вырванный из школьной тетради. — Фотографии становятся похожи, когда человека уже нет.
— Значит, и хорошо, что его пока не узнать, — соглашается мама. Умиротворенная добрая улыбка задерживается на ее губах… Боже, эта ее улыбка!
— Твоя логика! — мотает он головой. Ногтем проутюжил складку, стал загибать угол. Так он начинал делать кораблик, обучая меня, получался по желанию с трубами или без, кошелек с четырьмя отделениями, голубь, способный летать, и самое восхитительное — надувной чертик с вылезающими рожками. Настоящие изделия, я уже строил фантазии, как налажу производство, начну продавать раскрашенные игрушки — зарабатывать, не дожидаясь возраста. Теперь он складывал что то по-новому. — А, ничего не выходит, — с досадой отбросил смятый листок. — Не складывается объем. Забыл. Теперь не восстановишь.
Недоуменные морщины на лбу, бескровный рот приоткрыт. Прозрачная слезинка вытекла из-под века у переносицы, задержалась на дряблой щеке.
— И жизнь не поправишь. Если бы я мог ему показать, объяснить, он, может быть, продолжил бы. Даже не поинтересовался, выбросил, как мусор.
— Что выбросил? Эти твои раскладушки бумажные?
— Раскладушки! Там написано было, внутри и снаружи. На разных сторонах, разных гранях. С пояснениями, правилами соединения. Модели жизненных ситуаций, объемные. С примерами из нашей жизни, из истории, из политики, правильные решения. Аналогии, анализ ошибок.
— Ты опять все свое. Думаешь, мир можно правильно расположить в своей голове?
— Как будто я этого не понимал! Что ты про меня думаешь! Я знаю, поддакивала из жалости, а вникнуть-то даже не пробовала. Конечно, в голове мир не расположить. Он просто там не уместится. Сколько было таких сумасшедших идей! Гениальные люди на этом сходили с ума. Но если вынести идею наружу, чтобы она сама, без вреда для головы, могла разрастаться. Составить систему, которая будет держаться, не разрушаясь — это уже докажет ее истинность. Я вводил все новые составляющие — и ведь получалось вначале. Не хватило только времени, чтобы со единить. Если бы ему объяснить, передать, чтобы до делал.
— Так жизнь устроена, чего ты хочешь? Мы свое от жили, у него свое. Дом этот снесут, новый поставят. Слышишь, уже машина разогревается?
— Какая машина?
9
Какая машина? Подождите!., я, кажется, опоздал, но еще можно остановить, спасти, что осталось. Подождите, я им скажу! Нарастающий рокот перекрывает голос, не слышно себя самого, отзываются дрожью стены, со стеклярусным перезвоном раскалывается голова, из расползающихся щелей сыпется чердачный песок, мусор и пыль прожитых лет, кусками отваливается штукатурка, накренилась, повисла балка потолочного перекрытия. Механическое чудовище мотает суставчатой шеей, приближаются челюсти, а голос все не может прорваться, бессильный, беззвучный. Поздно…
Что это?
Я ничего не трогал.
Это не мы.
Отключаемся.
Мы ни при чем.
Сматывай удочки.
Спуталась леска.
Бред.
Замыкание.
Боль имеет форму взрыва.
4. Соединение
1
Непроглядность. Иллюзия движения, без ориентиров. Из темноты в темноту. Словно бы гул с заунывными перебоями, натужное усилие на невидимых подъемах. Меня, что ли, везут? Куда? Знаете этот анекдот?.. Эй, послушайте! Не знаю, как к вам обращаться. Допустим, вы меня все-таки слышите. Почему я к вам обращаюсь на вы? Вы со мной на ты, а я, как подчиненный с начальством. Со мной что-то произошло?.. что-то еще происходит? Оставил меня одного — зачем? Тебе для чего то было так нужно? Чего то от меня ждал? Я для тебя то ли объект, то ли инструмент изысканий? Сам без меня не можешь?.. А?.. Ждите ответа, ждите ответа. Что-то начало возникать, высвечиваться — оборвалось. Расползается, исчезает. Куча обломков и мусора вместо дома, в котором жил. Успел застать напоследок. Механические челюсти догрызают остатки. Неузнаваемая местность вокруг. Бетонные надолбы в развороченных глинистых котлованах. Звон высокого синего неба в ушах. Чья-то ладонь похлопывает меня по щеке: эй, папаша! Папаша… Это ко мне?.. Можно ли помнить беспамятство? Я видел… видел опять родителей. Они были на себя не похожи, и все же я знал, что это они. Во сне так бывает. Хочу им сказать что-то важное, действительно важное. И не могу вспомнить слова. И они не знают, что я тут. Опоздал. Опять опоздал. Мы так и не сказали друг другу, что хотели. Как будто стеснялись. Все люди друг перед другом не могут раскрыться, не договаривают, что-то узнают запоздало. Но близкие, родные особенно. Удаляются, исчезают — остается лишь чувство потери, вины, недосказанности… невыразимой, невыразимой нежности. Ты, конечно, опять скажешь, что сны — то же запоздалое сочинительство. Относись к этому, как угодно, я не отказываюсь. Таким, как я, совсем без этого не обойтись. Я, может, и тебя сейчас продолжаю выдумывать. А?.. И тут никакой реакции. Что ж. Скрыт значит неуязвим. Не хватит голоса докричаться. Эй!
2
Да слышу я тебя, слышу.
Извините, не ожидал.
Неважно. Так получилось. Техническая накладка. Нет, впрочем, худа без добра. Нельзя же все время вмешиваться. Мысль может быть только твоя. Или ты ждешь, чтоб она снизошла откуда то? Ладно. Обращаться можешь, как тебе удобней, это не проблема. А что за анекдот ты упомянул, не договорил?
А… Человек в санитарной машине спрашивает: куда меня везут? В морг, ему отвечают. Но я, говорит, еще не умер. А мы, говорят, еще не доехали.
Ха-ха… юмор — это неплохо. Тем более напоследок. Сеанс, ничего не поделаешь, пора кончать.
Как это кончать? Какой сеанс? Так сразу, без предупреждения?
Что значит без предупреждения? Предупрежден был с самого начала. Всякое время ограничено, это входит в условие. Можно было, конечно, ожидать от тебя большего, но что успел, то успел.
Да я еще ничего не успел… подождите! Какие-то клочки, обрывки, они даже ни во что не соединились. Только начало проявляться. Мне надо восстановить еще так много… бесконечно много! Подождите… обступает так беспорядочно, невозможно вместить сразу. Ощущение дряблой кожи на губах, когда я прощался с папой… морщинистые складки на сгибах его пальцев, белые лунки на ногтях, совсем такие же, как у меня. Подождите. Запах маминых волос, запах сена и трав… о!., еще столько запахов, без них же ничего не почувствовать, не оживить. Запах талой подснежной воды. Холодный арбузный запах свежестираного белья, когда его занесешь с мороза. Запах картофельной ботвы, дождя, свежераскопанной земли. Запах антоновских яблок, наваленных на полу в прихожей, запах псины после дождя. Запах дыма, когда вернешься в дом, подбросишь в печку пару полешек, смотришь, как вырастает пламя, синее снизу, лицу сладко от печного тепла, которого не станет в городских домах, чай ник зеленый подрагивает на раскаленной конфорке…
3
Ну, ну, ну. Стоп. Занесло. Уже перегрузка. Ты что, на безразмерную эпопею замахиваешься? Всего ни в какой объем не вместишь, и не в объеме дело. Зависит от способностей. В иной рассказец, несколько строк поэтических, да что там! — в единственное мгновение может вместиться столько!.. Проваливаешься в него, а оно разрастается, растягивается. Жизнь, как ты знаешь, вообще не бывает сплошной. Невнятная текучка, без ясных чувств, вспомнить нечего — иногда лишь вдруг вспышки.
Да, да, это я уже понял. Удавалось изредка ощутить, ненадолго… еще бы только выразить…
Счастье зрения, счастье дыхания,
Счастье слов, наделивших способностью
Пережить все заново и сполна.
Ты что, заговорил как будто стихами? Чьи это?
Стихи? Не знаю. Мне кажется, это мои слова.
Однако! Неожиданно для тебя.
Если бы удалось передать. Я ведь по сравнению с другими ничего не умею, только искать слова. Но, может, это зачем-то не только мне нужно. Вдруг оживет и для них… как детское сновидение… трепет, словно подуешь на волосы ребенка… Подождите, вот:
Дрогнул краешек лепестка — улыбка,
Готовая распуститься…
Нет, все, хватит. Ишь как тебя заносит. Никак не уяснишь: уходит, уходит время. Хочешь, что ли, на стишки тратить остаток?
Про детей я уже не успею? Это же еще целая жизнь.
Сыпется песочек, сыпется. Соображай быстрей.
Но хотя бы напоследок что-то соединить, осмыслить. Нужна ведь какая-то закономерность. Как в музыке разрешение или кода, не помню сейчас, как у них это называется. Чтобы подвести к какому-то осмысленному завершению.
Всякая выстроенность условна. Музыкальное развитие сочиняется, а в обычном-то, реальном времени, как в детской игре — где вдруг застанет тебя команда: замри, там и замрешь. Ты все-таки до конца не можешь обойтись без сочинительства. Нет, это тебе не в укор. Сказано было сразу: для таких, как ты, прожитое не вполне пережито, пока не преобразится в мозгу, в душе, не проявится в словах, как скрытый, поначалу нераспознанный негатив. Может, это для чего то и нужно. Может, упорядоченность, завершенность сочиняются не просто для удобства, для приятного утешения. Может, вообще нет никакого природного чувства жизни вне искусства.
Как это нет? А любовь?
И ее, если хочешь, можно считать одним из порождений искусства. В отличие от секса.
Нет, а животные? Они ведь тоже могут умереть от любовной тоски.
Может, эта способность делает их больше, чем просто животными, кто знает. Люди ведь тоже не сразу стали собой. Ладно, хватит теоретизировать. Струйка-то иссякает, уже совсем тоненькая.
Как это иссякает? Подождите… подожди. Я как-то совсем растерялся… Господи! Все держу в уме главное-до главного еще не дошел. Я ведь… как же это сказать словами… был не совсем целым, пока не соединился с ней. Мне надо еще соединиться с ней. С ней ведь была еще целая жизнь.
С ней, ну конечно. Опомнился! Целая жизнь! Нет, самое большее — несколько мгновений, уже не минут, напоследок, если хочешь, на выбор.
Что значит на выбор? Как я могу выбрать?
Тоже верно, сам ты не можешь. Да и какой тут выбор? Наугад, как соединится.
4
Это?.. Не вижу, но чувствую прикосновение. Это она?
А кто же? Держит тебя на одной ладони.
Меня? На одной ладони?
Купает тебя в ванне, приподняла в воде. Весу то в тебе, как в ребенке, усох. Хорошо, что теперь уже не можешь себя видеть. И двигаться сам не можешь. Но что-то, значит, чувствуешь?
Чувствую. Еще как чувствую! Прикосновение ее руки… музыка счастья. И как же она прекрасна! Крапинки на серо-зеленой радужине, белая засохшая корочка на губе…
Ну, это не сочиняй. Ты же не видишь?
Ее вижу. Не знаю как, но вижу. Наверное, еще с тех пор, как мы мчались по соседним путям, друг против друга. Надо было только ее найти, встретить. Всего уже не повторишь, это невозможно, что ж… Главное, я с ней. И опять ее так хочу. Она это может видеть?
Стариковская эротика, этого еще не хватало! Чего у тебя видеть то?
И слышать меня сейчас не может? Мне так хочется бормотать ей на ухо всегдашние свои глупости.
Ну, бормочи, как сейчас, найдем способ ей передать.
Не через тебя же.
Меня то чего стесняться?
Все таки. Этого так просто не повторишь. Ты лучше мне объясни, как это возможно сейчас? Такая полнота… чувство счастья?
Знаешь, лучше без объяснений. И понять не старайся. Ты не был бы счастлив, если бы понимал. Все. Пора кончать.
Еще немного… совсем немного. Она мне говорила: не сдерживайся… Нет, еще хоть мгновение…
5
Теперь действительно все. От тебя бы зависело — никогда бы не кончил.
Я понимаю, я понимаю. Что делать? Без конца ничего не бывает. Не задержать. И запечатлеть почти ничего не успел. Да ведь и это исчезнет. От моей памяти, от меня самого не останется ничего, я понимаю. Но вдруг исчезнет все-таки не совсем? Я слышал, есть предположение: что-то все-таки остается.
А, вот о чем ты! Есть, в самом деле, о чем горевать. И чем тебя утешить, не знаю. Вроде бы со всем можно смириться. Собственная смерть неизбежна, к этому приходится привыкнуть. Тем более есть шанс, что это еще не конец, некоторые действительно утверждают, что после смерти можно как то продолжить существование, пусть хотя бы в виде неопределенной энергии. Этакого неясного облачка, растворенного среди прочих. Какой то смысл в этом можно вообразить. Что-то, как ты мечтаешь, все-таки остается. О твоих сочинениях помолчим, но хоть что то. Хорошо, пусть и самой на шей планете рано или поздно придет конец, она осты нет. Останутся другие — потомки догадаются, приду мают, как куда нибудь перебраться. Да? Но есть, оказывается, угроза нешуточная: недавно ученые, говорят, установили, что через двадцать три миллиарда лет прекратит существование сама Вселенная. Как возникла она однажды в результате Большого взрыва, так и кончится. Лопнет. Совсем исчезнет. Всего через двадцать три миллиарда, представь себе. Это уже совсем непонятно как вынести. Зачем же тогда все?
Пристыдил. Умолкаю.
И то хорошо. Считай, нет в жизни результата большего, чем ее содержание, все, чем она была наполнена. И смысла в ней нет, кроме того, что удается породить, если постараешься. До последних мгновений. Может, под самый конец что-то еще и откроется.
Да, да… Иногда как будто возникало. На мгновение.
Ну, тоже, считай, уже что-то. Давай на этом и завершим.
Подожди. Я хочу сказать… я тебе благодарен.
Да ладно, не за что, это все ты. Это тебя надо благодарить.
Подожди, я еще хочу спросить…
Нет, хватит. Времени больше нет. Отключаем.
6
Ощущение света на оболочке, еще не развившейся в глаз. Глаз, как посторонний пузырь, проплывает отдельно, болтаясь на кровавом оборванном стебле, в зрачке перевернутое небо с растущими вниз деревьями, крохотный зародыш вещества увеличивается, наращивает вокруг себя плоть, мягкую, нежную, с кожей, пропитанной белым молоком и пахнущей им, возникшее из ниоткуда тело колышется, разрастается и тут же теряет очертания, обвисает, мертвеет, морщится, пропадает среди других таких же, но все вместе продолжает существовать непонятно где, вне времени и пространства, младенец и старуха, глаза, руки, прах смешанных с землей жизней, плевки, окурки, пивные пробки, голоса и стоны, полет бабочки, прихотливый, как движение мысли, буквы и цифры, слова стихов, где все еще бушует восхитительный свежий ливень и с отяжелевших листьев падают драгоценные капли, невидимые дыхания сгущаются в пустоте, роятся, как пыль, светлые насекомые, жизнь каждого от рождения до смерти длится мгновения, но каждое вмещает бесконечность, как сонм ангелов вмещается на острие иглы, они мерцают, точно слабые звезды, чтобы тут же, на глазах, исчезнуть, взамен рождаются новые, все больше, больше, сгущаются, как небесная туманность, и вот сияние разрастается, вытесняя и заменяя мрак.
Сеанс окончен.
Ловец облаков
Г.Э.
1
Не совсем понятно, что произошло с Иннокентием в тот день, когда он в городском клубе сорвал выступление заезжего гипнотизера. Отец, словно предчувствовал, не хотел ему даже давать на билет деньги, но не сумел убедительно объяснить, почему стоило бы держаться подальше от разных сомнительных шарлатанов, которые заставляют людей забывать себя, бить на своем лице несуществующих комаров или ползать по полу, подбирая несуществующие монеты, на потеху гогочущей публике — и ведь хорошо, если не хуже, если вдобавок не устроят какую-нибудь пакость, не опозорят, например, перед девушкой… Но тут Семен Григорьевич почувствовал, что заныло свое, давнее, не зажившее, оказывается, воспоминание. У сына девушки еще не было, это он знал, хотя парню уже пора было дарить бритву, чтобы убирал со щек прозрачную мягкую поросль. Просто не пустить такого в клуб было нельзя, да деньги ему все равно бы дала мама. Чего Семен Григорьевич опасался, он точно сказать не мог. Он вообще не был уверен, что вполне понимает сына. Кеша целыми днями уединенно рисовал что-то на чердаке, он занимался в художественной студии при клубе, но своих работ дома не показывал. Отец лишь случайно увидел однажды его акварель. «Что это? — не понял. — Дерево? А я думал, облако. У дерева же должны быть ветки, листья. И оно должно откуда-то расти, должно отбрасывать тень». Насмешки в этих словах не было, разве что добродушная снисходительность провинциального фотографа, старающегося поспевать за временем, к устарелому рукоделию. Семен Григорьевич служил в городском ателье, с недавних пор увлекся цветной фотографией, с трудом добывал химикаты, первые опыты уже выставил на витрине. Там были не только портреты, но и пейзажи с настоящими, узнаваемыми деревьями. Приходя по утрам в свое заведение, он сам каждый раз восхищенно задерживался перед этим цветным великолепием, которое, что ни говори, обесценивало кустарные попытки изобразить реальность неточной кисточкой. Когда время спустя разорванная акварель была обнаружена в мусорном ящике, Семен Григорьевич немного смутился, потом даже встревожился, узнав, что сын вообще перестал ходить в студию. Выяснилось, правда, что там просто заболел преподаватель. С парнем требовалась осторожность. Договорились, что Кеша, раз уж ему любопытно, просто будет сидеть в зале, только с коварным взглядом гипнотизера встречаться не будет.
Ничего интересного на представлении поначалу не оказалось. Суетливый лысый толстячок в бархатной куртке цвета неспелой тыквы долго забавлял публику рассказом, как он в здешней гостинице азартно охотился на клопа, который полночи не давал ему спать, никак не мог выследить, наконец все же, как говорится, прижал его к ногтю (сцены охоты сопровождались картинным показом). «Но если бы вы знали, сколько родственников сбежалось на похороны!» — в ужасе обхватывал он пятернями лысину и отирал с нее пот большим клетчатым платком. Зал откликался покладистым смехом, Иннокентий неуверенно улыбался. До него многое доходило не сразу, особенно юмор, он знал свою слабость, над ним недаром то и дело смеялись, а тут его еще отвлекала беготня суетливых зайчиков, которых блестящая лысина как будто отбрасывала на стены. Когда вслед за лысым на сцену вышел сухощавый, вытянутый в длину человек в черном фраке, с лицом пожилого кузнечика, Иннокентий забыл про настороженность. Он попробовал вначале найти на стене отблеск от черной лакированной туфли, но увидел, что шнурок на туфле развязался, и стал ждать, пока гипнотизер споткнется. Блестящий никелированный шарик на конце жезла, который тот зачем то демонстрировал залу, показался знакомым — это была елочная игрушка, она лежала у них дома между оконными рамами на грязной вате среди дохлых мух. Вата разбухала, становилась подвижной, мухи, слетев, затерялись мелкими птицами среди переменчивых живых облаков. В невесомости плыла вместе с ними вишня в белой кипени у крыльца знакомого, но не совсем узнаваемого дома, будка собаки Мальвы и сама собака — маленькая, сказочно синяя тучка; вытянутой чередой плыли дома и сады сияющей улицы; на зеленом облаке полулежал сосед-алкоголик, подперев рукой сизую щеку, надвинув на лоб кепочку-восьмиклинку и мечтательно выставив вверх колено…
Но все это начнет по-настоящему проявляться много времени спустя, на картинах Иннокентия, они будут для него попыткой вспомнить, восстановить, запечатлеть то, что как будто привиделось и о чем словами он рассказать затруднялся. Облака, пробормотал неуверенно, когда его потом попробовали расспросить. Очертания менялись неуловимо, расплывались от звуков голоса, который вмешивался откуда-то: «Лови, ты почему не ловишь?» — а Иннокентий вертел головой в восхищенной растерянности, не зная, как это остановить, задержать, руки его были пусты и беспомощны. Он неуверенно поднял обе — и вдруг, утеряв равновесие, полетел глубоко, глубоко, глубоко, спиной вниз.
Очнулся он на дощатом полу, над ним, совсем низко, склонилось большое, вытянутое в длину лицо, белое от пудры или от испуга. Встревоженный кузнечик хлопал его пальцами по щекам, отстраняя другой рукой лысого помощника, который, надув щеки, собирался брызнуть Иннокентию в лицо. Ему было чего испугаться, такого в его гастрольной практике еще не было. Начиналось все, как обычно, ассистент выискивал в зале оцепенелых, безвольных, поднимал с сидений, выводил сначала по одному в проход между рядами, потом гуськом, положив каждому руки на плечи переднего, вывел на сцену, где они начали послушно блуждать в мире недостоверных красот, рвали цветы на лугу, тянулись за яблоками, приподнимаясь на цыпочки, или догадывались наклонить ветки к себе, ловили сачками бабочек, тоже кто как умел, но все-таки ловили — только этот тощий, с белыми ресницами, паренек топтался растерянно, вертел головой, поводил нелепо руками. «Ты почему не ловишь? — пробивался к нему гипнотизер. — Смотри, как они красиво летят, правда? Ты прежде такой красоты не видел». Можно было подумать, что до этого дурачка то ли не доходят слова, обращенные ко всем, то ли он их как то не так понимает. Такое случалось и прежде, среди выведенных на сцену попадались недотепы, которые все делали неправильно, как цирковые клоуны, бестолково пробующие подражать артистам, спотыкались на пустом месте, ничего не могли удержать — для публики это бывало непредусмотренной, дополнительной забавой. И тут в зале поначалу охотно смеялись — если бы этот болван вдруг не брякнулся наземь. Пришлось приводить его в чувство, на время оставив прочих блуждать без руководства в расползающемся пространстве, уже не под гогот публики, а под свист, и надо было ее успокаивать обещанием вернуть деньги, а потом спешно покидать город в надежде, что обойдется, глядишь, без последствий. Но это прошло уже мимо Иннокентия.
2
«Витаешь в облаках», — про него ведь и раньше так говорили. Он мог надолго замереть, уставясь в пространство, пустое для других, не слыша, что к нему обращаются, и потом, очнувшись, не сразу мог вспомнить свою фамилию. Нетерпеливых учителей в школе это не раз заставляло вслух усомниться в его умственных способностях, хотя он со всеми предметами при старании вполне справлялся.
Наверно, лучше других мог бы объяснить, что привиделось Иннокентию, руководитель местной изостудии Герман Иванович Дарский. В городе достоверно не знали, каким ветром занесло настоящего столичного художника в это провинциальное захолустье. Говорили разное, сам он о себе не рассказывал, ни с кем не заведя близких знакомств, и к нему с вопросами не подступали. Да если бы и стали расспрашивать, Герман Иванович не все бы мог объяснить. Когда-то его едва не исключили из Союза художников, обвинив то ли в идеализме, то ли в формализме, критику он благоразумно признал, был оставлен преподавателем в художественном училище, о выставках давно не помышлял, рисовал дома, уже не ожидая лучших времен. Соседи по коммунальной квартире как-то выразили недовольство запахом красок из его комнаты — он перестал писать маслом, оценив особые достоинства акварели: и материал был дешевле, и хранить бумажные листы в тесном жилье было проще, а в случае начальственной инспекции — мало ли что? — их было легче припрятать, скрывая свою неспособность исправиться. После смерти жены пришлось привыкать к одиночеству. Повзрослевшая дочь вдруг собралась эмигрировать, звала его с собой, говорила о возможности неофициально, без проблем, вывезти за границу все его работы. Почему он не захотел? Надеялся еще на какое то осуществление, боялся что то здесь потерять, там не найти, не чувствовал в себе способности наладить за ново жизнь в чужом непонятном мире? У дочери начались осложнения, кому то не захотелось ее отпускать. Германа Ивановича вызвали в дирекцию, объяснили, что он должен помешать ее отъезду, не дав официального родительского согласия. Почему он именно тут вдруг проявил твердость? Его стали уговаривать, напоминали о гражданской ответственности, потом пообещали дать мастерскую, которую он давно заслужил, наконец, припугнули, что он может лишиться работы. В день, когда она с семьей улетела, Герман Иванович слег в больницу, и уже выйдя из нее, прочел в училище приказ о своем увольнении.
Что можно было тут объяснить? Перед отъездом дочь все таки успела переправить его работы за границу, он запоздало, но уже решился за ней последовать. Теперь оставалось ждать от нее вестей, а пока искать непонятно где средства к существованию. Как бывает, подвернулась случайность — рукописное объявление на попутном столбе. Человек предлагал в обмен на московскую комнату половину дома в провинциальном городке Омутове с участком и с весьма приличной до платой. Посредник, вывесивший объявление для кого то из своих родственников, расписывал достоинства тихого места, обещал взять на себя все хлопоты по переезду, даже гарантировал Герману Ивановичу работу, можно считать, по специальности. Всколыхнулось что то вроде воспоминаний о довоенном дачном детстве; возможность избавиться от соседских взглядов уже показалась благом, дожидаться от дочери вызова было все равно где. И он доверился миражу, как доверяются недостоверной поэзии — но без нее, может, вообще не выдержать жизни. Городок оказался похожим на многие такие же, полдома — двумя комнатами с терраской, участок — крохотным огородом, но Герману Ивановичу огород был и не нужен. С деньгами его не обманули; они, правда, с каждым месяцем обесценивались и меньше чем через год иссякли. Но местные жители давно приспособились кормиться почти без денег, ему в нехитром хозяйстве помогала уважительная соседка. Письма от дочери сюда почему-то не до ходили, хотя свой новый адрес он сразу же ей сообщил и сам писал еще не раз. Может, ее собственный успел измениться? Со временем удалось напомнить себе, что он вовсе и не хотел уезжать, ему здесь было, в общем, неплохо. Тихая тоска стала такой привычной, что уже не ощущалась. Новости, доходившие по телевидению, подтверждали, что ждать, как всегда, нечего; когда они стали вдруг будоражить недостоверными надеждами, аппарат, как нарочно, пришел в негодность, и Герман Иванович почти этому обрадовался: новый купить было не на что. Он овладевал искусством сохранять покой, родственный угасанию. Потребность в рисовании отмерла сама собой, отсутствие прежних работ позволяло не бередить воспоминаний. С годами он все больше сутулился, отчего казался ниже своего роста. Голова при этом была горделиво откинута назад, седеющая шевелюра опускалась на плечи серой замшевой куртки, перхоть, вызывавшая мысль о пепле отгоревшей жизни, была на плечах незаметна, узкий черный галстук напоминал артистический бант. Немолодая библиотекарша, ходившая в студию, однажды назвала его осанку аристократической и сама тут же смутилась своих слов, как девушка.
Это было за пять дней до происшествия на сеансе гипнотизера. В то утро Герман Иванович неожиданно получил бандероль и письмо от дочери — она разобралась, наконец, с почтовым недоразумением. В бандероли оказалась коробка акварели, на крышке с иностранной надписью он не сразу узнал репродукцию своего давнего рисунка. Белобрысый мальчик, подняв сачок, мечтательно смотрел на разноцветные облака, точно собирался словить одно. Дочь писала, что в Америке ей удалось кого-то заинтересовать его работами, что она скоро приедет и все расскажет ему подробней.
Зачем он на другой день взял эту коробку с собой в студию? В сумятице всколыхнувшихся чувств было больше смутного беспокойства, чем радости. Может, вспомнился восхищенный взгляд симпатичной библиотекарши? Но та на занятие не пришла, и Герман Иванович устыдился тщеславного романтического порыва. Он проходил среди раскладных фанерных мольбертов, заложив, как всегда, левую руку за спину, рассеянно поправлял остро отточенным карандашом изображения драпировки с кувшином. Скучная безнадежность исходила от однообразных подобий. За спиной Иннокентия Бессонова он задержался. Этот худенький юноша с возрастными прыщами на лбу, пришедший к Герману Ивановичу не так давно, непонятно смущал его. Он быстро, почти небрежно справлялся с тем, над чем корпели другие, терял к заданию интерес, до конца так его и не выполнив, делал не то, что от него требовалось, не всегда заботясь об элементарной правильности — но была ли тут неумелость или совсем не ученическое своеобразие? Герман Иванович не спешил его поправлять.
Сейчас он, еще не наметив рисунка, замер над листом, увлажненным для акварели — и вдруг словно очнулся. Движение кисти без краски по отблескивающей прозрачно поверхности стало обозначать неявные очертания. Герман Иванович понял, что он рисует вовсе не драпировку с кувшином. Краска, слабо коснувшись листа, стала сама разливаться, расцветал, проявляясь почти мгновенно, луг, сияющие облака. Внезапно преподаватель увидел, что на листе возникает мальчик с его акварели. Бессонов, похоже, успел мимоходом разглядеть коробку, оставленную на преподавательском столе. Ловец парил среди облаков, не находя на земле опоры, свободный, как бывает во сне, влажные потеки на глазах преображались, подвижные, тающие. У Германа Ивановича почему-то защемило сердце. В следующую минуту сияние померкло, просохшая краска стала едва видимой, то, что было синевой неба, покрылось сыпью темненьких тлей: акварель, купленная в магазине канцтоваров, была явно замешана на песке.
Иннокентий, наконец, ощутил присутствие преподавателя за спиной, оглянулся беспомощно и виновато. А на Германа Ивановича накатила непонятная слабость, лоб покрылся холодным потом. Что это было? — не мог понять он. Извинившись, поспешил закончить занятия, пошел домой, осторожно, медленно, останавливаясь по пути, доставал из кармана коробку с красками, снова вглядывался в изображение на крышке. Репродукция была хорошего качества, но она словно погасла, засохла, казалась неживой по сравнению с тем, что на миг только что засияло, как воспоминание о невозможном, о чувстве свободы, похожей на полет, которого можно во сне испугаться. Возле своего дома ему пришлось остановиться снова. Он опять достал коробку. Вдруг показалось, что ловец облаков похож на этого Иннокентия. А ведь когда то он, помнится, попытался наделить его своими юношескими чертами, хотел вложить в него что то свое… передать что-то… не удавалось вспомнить…
Герман Иванович поднял голову, тупо уставился на табличку с названием: улица Урицкого. Ну и адресок у тебя, написала ему дочь. До него только тут дошло, что она имела в виду. До сих пор как то не сознавал своего адреса. Он ухитрялся многого не замечать, не допускать в сознание, тратил остаток душевных сил, чтобы ничего не называть своими словами: убогость быта, нищенскую зарплату, самодурство толстой завклубом Серафимы Петровны, которая заставляла его заниматься унизительной оформительской работой, хотя это не входило в его обязанности. Не подавал виду или уверял себя, что его это не задевает. Высоко поднятая голова должна была уравновесить сутулость, похожую на горб — и ведь уже не выпрямиться. Острие ясной тоски больно вонзилось в сердце. И с этим юношей будет то же, — успел смутно подумать он…
Очнулся он уже в районной больнице, откуда его увезет, наконец, спешно примчавшаяся дочь. Перед отъездом он еще вспомнит про коробку акварели, попросит дочь передать ее Иннокентию Бессонову, но не узнает, что у нее не нашлось времени выполнить его поручение, как не услышит, что произошло на скандальном сеансе с его учеником, который отказался увидеть то, что ему хотел внушить гипнотизер.
3
После непонятного происшествия на сеансе мама старалась всячески оберегать Кешу, поглядывая на него с тревогой, близкой к испугу. Не то чтобы он совсем изменился — стал больше обычного рассеянным, вялым, целые дни проводил на своем чердаке. Там у слухового окна был сколочен небольшой столик, где в теплое время года можно было уединенно заниматься. Считалось, что он готовится к выпускным экзаменам в школе. Ева Антоновна и раньше не особенно загружала сына работой на огороде, теперь перестала его посылать даже в магазин. Она вообще предпочитала все делать сама и при нескладной утиной походке ухитрялась находиться одновременно в разных местах: на кухне, в курятнике, у огуречных грядок. Работая на почте, она вставала раньше всех и спешила наносить воду с утра на весь день, пока все спали, чтобы по пути к уличной колонке никому не встретиться с пустыми ведрами. Семен Григорьевич посмеивался над бабьими суевериями, но перехватить у жены ведра не спешил. Ева Антоновна оправдывалась, что сама она в приметы не особенно верит, просто не хочет, чтобы другие считали ее причиной своих неприятностей. При надобности она сочиняла для себя временные приметы сама, а если они не оправдывались, переиначивала, приспосабливая к происшедшему в действительности. Эти самодельные приметы передавались иной раз другим и становились общим достоянием, обогащая фольклор — но не так ли возникали и все прочие, уже обкатанные временем?
Экзамены Иннокентий сдавал кое-как, учителя предпочли бы выпустить его из школы, даже если бы он вовсе молчал. Учебники он раскрывал ненадолго, начинал перебирать разбросанные вокруг рисунки, цветные репродукции, вырезанные бритвой из библиотечных журналов. Когда-то он их бесконечно копировал, умел сам по памяти очень похоже нарисовать что угодно, потом все больше пробовал воспроизводить то, что ему привиделось — явственно, как бывает только на самом деле. Это были попытки уловить мгновения, когда потоки нагретого воздуха колдовски начинали волновать очертания предметов, фокусничали с домами, деревьями, они становились, как воздух, легкими, парили в нем без опоры, не отбрасывая тени. Красками никак не удавалось выразить эту волшебную легкость, можно было только, прикрыв глаза, впрок запечатлевать увиденное на внутренней оболочке век. С чердака более близкими казались облака, он мог смотреть на них так долго, что в легком головокружении сам начинал зачарованно плыть вместе с ними куда-то, вглядываясь в живые, неуловимые, неисчерпаемо переменчивые формы, и водил воображаемой кистью, представляя, как однажды сумеет перенести их на бумагу, не умертвив. На сеансе гипнотизера ему на миг показалось, что это возможно — в таком настоящем, невиданном прежде сиянии вдруг открылся ему мир.
И вот он словно закрылся, отгородился завесой. Иннокентий смотрел из чердачного окна по сторонам, не в силах понять: случилось ли что-то со зрением? Или дело было просто в том, что вокруг горели торфяники, воздух был непрозрачным, мглистым, небо затянуто ровной белесой пленкой, как глаз спящей курицы? Пахло гарью, люди двигались неуверенно, точно угорелые. Он опускал взгляд на улицу, еще недавно тронутую зеленью мелкой травки. Сейчас зелень почти сравнялась цветом с печной золой и шлаком, которые выбрасывались на дорогу, чтобы избавить ее от грязи, и вместе с той же усохшей грязью приобретали вид белесого, бесцветного мусора. Толстая соседка Серафима Петровна вечность назад вышла за калитку с ведром, в шлепанцах, из под халата выглядывали серые тренировочные штаны со штрипками, рядом остановилась другая, тощая, с отвисшей кошелкой в руке — шла, видимо, из магазина. Обе стояли одна против другой, шевеля беззвучно губами, неподвижные в остановившемся времени, застыв, может быть, навсегда, как часть неизменного до тоски пейзажа. Неподалеку угнездились в нагретой пыли куры, когда-то белые, сейчас посеревшие, как на одноцветной плохо проявленной фотографии. Вишни отцвели, отгорели. Сосед-алкоголик Калюжный, переживший приступ бессмысленного трудолюбия, сидел на перевернутой тачке, добавлял в воздух дым из самокрутки, вставленной под прямым углом в плексигласовый мундштук. Много лет назад он начинал рыть у себя на огороде просторный погреб, в котором нечего оказалось хранить, теперь обдумывал, не оправдать ли затраченный труд, продолжив под землей линию метро от огорода до железнодорожной станции в пяти километрах. Тоннель должен был пройти под руслом реки Лешачихи, заодно избавив город от необходимости восстанавливать каждую весну хлипкий мост, который эта коварная река, взбесившись, неизменно сносила. Иннокентий проводил взглядом, как прутиком, по клавишам некрашеного забора, видел покосившуюся калитку, основания столбов прямо на глазах превращались в гнилушки, доски, сваленные у серой стены сарая, прорастали таким же бесцветным мхом, из них сами собой вываливались один за другим гвозди, чтобы вместе с досками превратиться в общую труху. На всем был унылый налет выгоревшей пыли, остывшей печной золы. Серой была вода, в которую Иннокентий пробовал макать кисть, краски теряли цвет прежде, чем он успевал их нанести на бумагу, и сама бумага безнадежно серела. Что то невозвратимо закрылось — и, может, не только для него? Может, другие даже не подозревали, что им не дано увидеть чего-то? Он был бессилен это объяснить, показать и чувствовал себя виноватым за свой, может быть, неисцелимо испорченный взгляд, за неспособность вспомнить, расколдовать омертвевший, поблекший мир. Работы на листах были неузнаваемыми, чужими, как засушенные цветы, он рассеянно рвал один за другим, но их накопилось много, это скоро надоедало, к тому же он вспоминал, что надо сохранить хоть образцы для поступления в областное художественное училище.
4
В училище Иннокентий поехал без желания, скорей по инерции, помня, как мечтал об этом когда-то. Все оказалось тягостней, чем он себе представлял. Неожиданным мучением оказалось почему-то рисовать гипсы: завитушки, розетки, головы, части тел. Начинало першить в горле, трудно становилось дышать, кашель заставлял класс то и дело поворачиваться к нему, а его в конце концов вынуждал отпрашиваться с занятий. За дверями класса кашель почти сразу сам собой проходил, однако затверделые обломки гипсовых облаков становились кошмарами ночных снов, перхотью застревали в горле. Он просыпался от удушья. С соседних кроватей доносилась возня, шепотки, девичье хихиканье, уши не удавалось закрыть наглухо солдатским негреющим одеялом. Из общежития он, не выспавшись, старался уходить на весь день, наспех выпив с утра стакан жидкого чая со скользким бутербродом, лишь бы подольше не возвращаться, не дышать запахом грязных носков, не подтверждать свою неспособность участвовать в общих выпивках, разговорах и развлечениях. После зимних каникул родители подкинули ему денег, он смог переселиться на квартиру к насупленной старухе, которая следила, чтобы жилец никого к себе не приводил и после десяти не жег электричество. В училище, к счастью, оказалась неплохая библиотека, он, спасаясь от зимних холодов, проводил там часы, не столько читал, сколько листал, задремывая, книги, альбомы по живописи.
Год прошел для него как в тумане, дни один от другого не отличались. Единственным приобретением было нечаянное знакомство с Федорчуком, мастером художественных ремесел. Задержавшись как-то в училище допоздна, Иннокентий застал в одном из помещений бородача в очках с круглой металлической оправой, с черной лентой на гладких умасленных волосах. Он толок что-то в медной ступе. Увидев в двери Иннокентия, вдруг попросил принести из соседней столовой пива. Самому ходить было трудно: подвернул на гололеде ногу. Оказалось, пиво ему было нужно, чтобы добавлять в яичную темперу. На следующих курсах учащихся собирались приобщать к новому доходному ремеслу: росписи деревянных кухонных досок. Они шли потом на продажу и вешались на стены как украшения. Федорчук по вечерам занимался собственным заработком. В ступе он толок для своих красок камни, которые летом собирал на берегу ближнего озера. На полках стояли разноцветные баночки с готовыми пигментами, бутылки с денатуратом и уксусом, пакеты с казеином и содой. Иннокентий вызвался ему помогать, толок камни, шлифовал мелким наждаком и пемзой поверхность липовых заготовок. Наслаждением было проводить ладонью по их гладкой, телесно нежной, как будто теплой поверхности. Федорчук устраивал для себя перекур, похлебывал из банки не использованный остаток пива. Магазинной химией, презрительно объяснял он, пользуются без всякого понимания, как попало. Работа не то что двух веков не переживет — через два года красок на ней не узнаешь. Для бумаги нужен один состав, для дерева другой, для стены третий. Он говорил тоном скупца, который предпочел бы не выдавать сокровенные секреты постороннему, но что то подталкивало его продолжать. Раскрывал потрепанную, в газетной обертке, книгу, читал вслух, ведя по строкам желтым, как ракушка, ногтем: «Если хочешь изобразить молодых людей, бери для состава яйцо городских кур, потому что у них желтки светлее, нежели у деревенских кур, которые, вследствие своего красноватого цвета, идут более для изображения старых и смуглых тел». И поднимал многозначительный взгляд. На досках самого Федорчука никаких тел, впрочем, не было, маленькие фигурки в театральных нарядах произвольно оцепенели, застигнутые внезапной командой «замри», среди цветов, фруктов, гороховых стручков, витиеватые росчерки тонких зеленых усиков соединяли всех в подобие хоровода. Поделки, способные пережить века, как и разговоры, которые не удастся потом вспомнить, вызывали у Иннокентия скорей уважение, чем понимание.
За этот год у него проступила прозрачная русая бородка, бритвой он обзаводиться не стал и волосам дал за зиму отрасти. Мама ахнула, когда он в июле приехал на каникулы — так повзрослел, изменился, на миг показался почти незнакомым. Мальва встретила его обычным восторженным лаем. Этот громогласный лай, исходивший, кажется, от великана-волкодава, мог показаться угрозой лишь незнакомцу, пока тот не увидел тщедушную черную карлицу. Мощь звуков была несоизмерима с инструментом, производившим их. Лай был не более чем бурным приветствием, гостеприимным радостным приглашением. Укусить Мальва могла разве что со страха. Если ее приходилось держать на цепи, то лишь в пору, когда она становилась притягательной для окрестных кобелей. Когда она преданно, влюбленно смотрела на тебя сливинами выпуклых глаз, закрадывалась мысль: не заколдованная ли восточная красавица помещена в уродливое кривоногое тело, может быть, в наказание за недозволенную любовь? Ева Антоновна, словно старуха-дуэнья, надеялась уберечь девицу от греха, но весной это не удалось, Мальва после неизвестного приключения ощенилась сразу четырьмя крупными щенками благородного серебристого цвета. В поселке и кобелей-то таких, кажется, нет, рассказывала Ева Антоновна сыну, подкладывая ему на тарелку своих несравненных вареников с творогом. Щенки уже через неделю переросли Мальву, мама не знала, что с ними делать. Сосед Калюжный вызвался их утопить, сами то они на такое способны не были, ни она, ни отец; тот не мог даже отрубить курице голову, платил тому же соседу. Выручил незнакомый прохожий: остановился возле калитки, залюбовался красавцами — и как было не залюбоваться, — улыбалась мама воспоминанию, — предложил взять всех, по пятерке за каждого. Она денег, конечно, не взяла: какие деньги, всплеснула руками, что вы, она могла только спасибо сказать, даже доплатила бы, лишь бы в хорошие руки. Ее немного смутило, что прохожий засунул всех в мешок, который при нем оказался, ведь так нести было неудобно и тяжело, но он успокоил встревоженную маму, ему, сказал он, недалеко…
Иннокентий слушал ее, кивал молча, наполненный рот избавлял его от необходимости говорить. Обнялся с пришедшим после работы отцом, неожиданно ощутил, прижавшись к колючей дряблой щеке, запах водочного перегара, неубедительно заглушенный мятными леденцами. Прежде такого никогда не было. Од на только Ева Антоновна могла этого не замечать, с ней он не целовался. У него была действительно беда — не только художникам приходилось узнать, чем может оказаться неустойчивость красок. Цветные фотографии, недолгая радость Семена Григорьевича, стали неумолимо выцветать, сначала на витрине, потом в домашних альбомах. Для него это было неожиданным разочарованием. Цвет, который время назад казался живым, становится неузнаваемым, химическим, мертвенные розово-синие тона вызывали тоску, похожую на тошноту, которую приходилось хоть как-то заглушать. В рабочие дни он задерживался в ателье с соседом Калюжным. Тот ценил возможность не просто выпить, но поговорить с интеллигентом, которого считал к тому же евреем (пусть фамилия у него и была русская), пройтись, как положено, насчет нации, тут же заверив собеседника в своей особой любви. Семен Григорьевич отмахивался, не это занимало его мысли. Он не мог понять, что делается не просто с фотографиями — с людьми. Клиенты приходили получать заказ, и не всегда удавалось узнать их на отпечатках, он теперь предлагал им отыскивать себя самим. Лица оказывались искажены, успевали стать одутловатыми, отечными, искривленными, на себя не похожи ми. Изменились ли так за два-три дня? Но даже на двух снимках, сделанных почти одновременно, они все чаще оказывалось разными — не скажешь, что тут один и тот же человек. Дело было не в объективе, не в химии, полувопросительно размышлял он, чокаясь очередной раз, нет, может, в самой здешней жизни? Калюжный вставлял в мундштук самокрутку с табаком, который выращивал сам, презирая слабый фабричный, глубокомысленно соглашался: это конечно, в жизни теперь везде сплошной отрицательный минус, все стало портиться. Вот, придумали когда-то народную мудрость: кашу, говорили, маслом не испортишь, — пускал он в воздух вонючий дым. Так ведь это смотря какое масло, верно? Недавно мне такое подсунули…
В выходные Семен Григорьевич вовсе не знал, куда себя девать. Ходил по комнатам с самодельной мухобойкой — обрезком резиновой камеры, прибитым к палке, выискивал затаившихся мух, которые еще не успели сдохнуть от скуки, и не останавливался, пока число настигнутых нельзя было разделить на три, а еще лучше на шесть — не замечая при этом, что сам, как жена, стал сочинять для себя приметы, то ли обещающие удачу, то ли оберегающие от неудач. В сердцах он все чаще мог обозвать жену дурой, Ева Антоновна кончиками пальцев убирала под глазами слезы, несоленые, как вода. Ее простая устойчивость вызывала у него смущенную догадку, что в мире, где сходятся, говорят, параллельные линии, с глупостью, может, соприкасается что-то большее, чем просто ум.
У Иннокентия встреча с родителями, самоотверженная мамина хлопотливость, отцовский рассказ о выцветших фотографиях пробуждали чувство неясной вины — словно он не оправдывал их ожиданий, по-настоящему не мог их понять, проникнуться их со стоянием. Это, наверно, знакомо всем: не получается настоящего разговора, невозвратимым оказывается детское чувство близости, когда можно было спрятаться от непонятного страха, уткнувшись лицом в теплую мамину юбку, когда отец на ночь рассказывал бесконечные сказки и так понятно объяснял устройство удивительного, чудесного мира. Еще недавно могу чий и сильный, он оказывался беззащитным и слабым, и приходилось беспомощно сознавать, что ты не в силах ничего изменить, возраст неумолимо отдаляет тебя от них — а может, и от себя самого? Любимые с детства предметы словно остыли, почужели, задушевные воспоминания невозможно было оживить. В большой комнате висела в деревянной старенькой рамке фотография красивой девушки — давняя гордость отца. Снимок сделан был против солнца, вокруг головы сиял ореол растрепанного в волосах света, затененное лицо казалось загадочным. Иннокентий всегда этой девушкой любовался. Он знал, что это его мама, но сейчас, мимоходом вновь задержавшись на ней взглядом, вдруг подумал, что странным образом любил маму и эту фотографию как-то по отдельности — они словно не совмещались.
Дома он отъедался и отсыпался, по городу не гулял, даже купаться на речку не ходил, избегая ненужных встреч и разговоров со знакомыми, с недавними одноклассниками. Забирался к себе на чердак, часами лежал там на жесткой кушетке с книжкой, в которой скоро начинал читать то, чего там не было написано. Так на чердаке он и проспал появление цыганки.
5
Мальва не только не отметила этого появления обычным своим заполошным лаем — когда цыганка вошла в калитку, она даже носа из будки не высунула, как будто ее там не было, забилась в самую глубину. В городе уже известна была способность этих людей непостижимо действовать не только на собак. Табор время от времени появлялся тут, женщины заходили во дворы, предлагали для продажи какой-нибудь мелкий товар, вроде крышек для консервирования, которые давно перестали быть дефицитом и никому нужны не были. Хозяйки заранее настраивались отмахиваться и от этих крышек, и от навязчивых уговоров заодно погадать, но устоять в конце концов удавалось немногим, и то если в доме случались мужчины. Когда обволакивающий проницательный взгляд вдруг обнаруживал у тебя всамделишную беду, сглаз или скрытую порчу, как было не избавиться от них тотчас, верь в это, не верь, хотя бы на всякий случай? Потом возникали, конечно, толки о выманенных деньгах, о попутно пропавших вещах, о досадной бабьей податливости, но для кого-то предсказания ведь сбывались взаправду — и разве не стоило платы участие в завораживающем колдовском ритуале, возможность прикоснуться к скрытым от тебя областям жизни, да хотя бы минуты недостоверного ожидания, взволнованного испуга, бестолковой надежды?
Участки в Омутове были теперь все больше огорожены глухими высокими заборами, на Вишневой улице лишь у Бессоновых оставался прозрачный штакетник. Цыганка уже миновала неслышно калитку и направлялась к крыльцу, когда Ева Антоновна вышла из-за угла дома с огорода. В приподнятой горсти, как на подносе, четыре небольших огурца, другая рука придерживала передник, наполненный яблоками-падалками, на лице задержалась всегдашняя улыбка. Вспоминалась ли ей какая-то приятная мысль, улыбалась ли она солнышку, ночному дождику, пролившемуся так кстати на грядки? А может, губы, лицо ее просто были так от природы устроены? Она чуть не уткнулась лицом цыганке в грудь — та была на полторы головы ее выше. Похоже, и вошедшая растерялись от нечаянного столкновения, на миг забыв, зачем сюда шла, вспомнила скорей наугад: не даст ли хозяйка, сказала, попить. Еву Антоновну это словно обрадовало: так просто. «Да, конечно, конечно», — засуетилась она, соображая, куда девать огурцы — и не нашла ничего лучше, как передать их цыганке: «Подержите, я сейчас, только руки сполосну». И уже от умывальника, приколоченного возле крыльца, обернулась снова: «Да вы, наверно, поесть хотите с дороги», — сказала полуутвердительно, улыбаясь верной догадке.
Великанша с трудом втиснула свое громоздкое тело за садовый столик под вишней. Лицо у нее было темное, оплывшее, словно камедь на вишневом стволе, глаза в коричневых круглых обводах, волосы повязаны черно-охристым цветастым платком. Она сидела прямо на низкой скамейке, возвышаясь, как королева, над столом, обитым клеенкой, не торопясь, степенно съела перловую похлебку, подогретую тут же на керосинке, жареную картошку с теми самыми огурцами. В благодарность за угощение она предложила Еве Антоновне погадать бесплатно, ей и на всю семью, и на той же поспешно протертой клеенке разложила старинные карты.
Можно было предположить, что на ублаготворенный желудок гадание для Евы Антоновны тоже должно было оказаться доброжелательным. Но для нее и карты не обязательно было раскладывать, и смотреть на ладонь не стоило — на простодушном лице все было написано, как в открытой книге. Она была от природы счастлива и как будто стыдилась этого, чувствовала себя немного виноватой за то, что ей так хорошо, лучше, чем другим. Зависть тех, кто не может чужого счастья простить, если и мешала жить, то им, а не ей. Соседи то и дело одалживались у нее по мелочам, долги возвращали не всегда, муж ее заслуженно ругал, а она, поплакав, успокаивалась, улыбка возвращалась на ее лицо, как солнце после короткого благодатного дождика. Все это карты рассказали в подробностях, заставляя Еву Антоновну изумленно покачивать головой: как это по ним можно было так точно увидеть? Из них же она, наконец, узнала, что муж ее стал пить: червь глодал его изнутри, объясняла цыганка на темном своем языке, жег внутренности, отравлял душу, и чем больше тот старается его заливать, тем больше дает ему пищи. На беду, карты предвещали, что он так и не сумеет избавиться от этой напасти до конца жизни, зато они с очевидностью показали, что жизнь эта окончится без страданий, причем для обоих в один день, и это несравненное обещание подействовало на Еву Антоновну умиротворяюще. Можно ли было желать лучшего?
Туманней всего высказались карты про сына. От отца, как уверяло взаимное расположение короля и вальта, он унаследовал беспокойство искателя, от матери, как подтверждала благополучно легшая крестовая дама — способность к оседлому счастью. Но сам он до сих пор почему то бродит, тычется на одном месте вслепую, не может найти что-то, чего не терял, не видел, глаза не затуманены — запорошены точно сухой пылью, а он не понимает, не умеет промыть их, прочистить… Тут цыганка, похоже, сама немного смутилась невнятности карточного расклада, но с этим ничего больше поделать она не могла. У нее были другие способы поискать подсказку. Она велела Еве Антоновне принести простой стакан и чистый белый платок, накрыла стакан платком, поднесла к ее уху. «Услышишь, что начинает кипеть, скажи». «Уже кипит», — подтвердила та с нешуточным испугом почти сразу. Гадалка сняла со стакана платок — на миг Еве Антоновне почудилась, что там по дну бегает крохотная белая мышка, только разглядеть ее она не успела. Цыганка сунула в стакан толстый палец, но вместо мыши осторожно вытащила из него, прижимая к стеклу, длинный вьющийся волос.
— Смотри, — торжественно подняла его двумя пальцами перед лицом, потом еще выше, — этот волос при ведет к тебе того, кто не дает сыну увидеть.
Волос вдруг вырвало из пальцев словно порывом ветра, хотя день был совсем тихим, и листья на вишне даже не шелохнулись.
Когда Ева Антоновна рассказывала потом про это Кеше и Семену Григорьевичу, муж, естественно, мог только хмыкать. Его, правда, смутило, что жена хоть из карт узнала все-таки о его тайной слабости, да это открылось бы все равно и так, рано ли, поздно, опровергать было смешно. Хотя как могли карты утверждать, что он от своей временной слабости не сумеет избавиться, если ему ничего не стоило опровергнуть самоуверенное предсказание хоть сейчас, ну, пусть с завтрашнего или, допустим, с послезавтрашнего дня, достаточно было лишь захотеть, усмехался он — еще не желая признать, что как раз неспособность захотеть — зародыш того самого будущего, которое уже угнездилось внутри него самого и разрасталось неумолимо, как клетки гибельной опухоли.
Все вообще можно было считать совпадением, в конце концов фокусом, который он растолковать, допустим, не брался. Однако никаким фокусом не объяснить было того, что произошло потом. Едва цыганка скрылась из виду, в калитку почти вбежала толстая Серафима, Серафима Петровна, соседка, заведующая городским клубом. Она запыхалась от непонятной спешки и не сразу смогла вспомнить, зачем ее сюда принесло — в домашнем халате, на волосах накручено полотенце после недавнего мытья. С полотенца свисал длинный вьющийся волос, Ева Антоновна уверяла, что отчетливо его увидела. «Вот, нашла у себя, подумала, может, ваше?» — бормотала Серафима растерянно, удивляясь собственным словам, а еще больше собственному тону, в котором звучало непривычное для нее виноватое заискивание. В руке у нее была плоская ко робка с красками и ловцом облаков на крышке. Один лишь Иннокентий смог ее узнать, спустившись с чердака, мама вначале отказывалась, потом так же растерянно стала благодарить, как будто ей сделали незаслуженный подарок.
Насчет «нашла» завклубом, конечно, лукавила. Краски ей еще год назад принесла в кабинет дочка Германа Ивановича, попросила передать Бессонову, ей самой некогда было его искать. Серафима Петровна была из тех, кто при каждой возможности старался компенсировать несправедливость, в которой была виновата перед ней жизнь — за то, что ее бросил муж, оставив ей неудачного сына, за то, что сын рос дебилом, за то, что редиска и лук на ее грядках не растут так же хорошо, как у соседки. Раз-другой она приходила просить у Евы Антоновны укроп, потом стала наведываться в ее огород без спросу, с таким видом, словно та была перед ней виновата. Слюнявый Гоша приходил вместе с ней, а то и без нее, чтобы получить у Евы Антоновны, как обязательную дань, хотя бы кусок хлеба, посыпанный сахарным песком. У Кеши он, не таясь, таскал когда-то игрушки, а тот уже знал от матери, что убогому надо уступать, хотя тот игрушки просто сразу ломал, не умея играть. Желание любым способом извлекать бесплатную выгоду однажды чуть Серафиму не погубило. Как-то в бане, уже одевшись, она почувствовала себя плохо. Баня находилась на другом краю города, встревоженные женщины вызвали ей машину скорой помощи. Пока Серафиму Петровну везли к поликлинике, ей полегчало, и она, не доехав, сказала, что может пройти сразу к себе на работу, в клуб, который находился в соседнем здании, причем под банным халатом оказалась не только одета, но и волосы под косынкой были у нее, говорят, расчесаны и даже уложены. Бесплатным транспортом ей удалось воспользоваться так еще раз, на третий водитель ехать к бане отказался, не захотел тратить на нее казенный бензин, а приступ на сей раз оказался взаправдашним, дело едва не закончилось плохо. Краски она, естественно, Иннокентию отдавать и не подумала, оставила Гоше, но тот скоро потерял к ним интерес, не сумев найти им применения, они затвердели, отчасти выдавленные из тюбиков.
Что заставило ее вдруг побежать с ними к соседке, что было делать теперь Иннокентию с непригодными красками? Он смотрел на коробку, перебирая в уме странные слова гадалки о глазах, которые следовало промыть, прочистить. Верно ли передала их мама? Надо было прояснить не их — смутное чувство, похожее на тревожную радостную догадку.
6
Прощание с родителями получилось, как всегда, суматошным, чего то опять не удавалось договорить, вспомнить. Мама все порывалась положить ему в рюкзак то еще одну баночку маринованных огурцов, то варенья. Иннокентий ухитрился перед уходом незаметно избавиться от лишнего груза, хотя знал, что потом будет об этом жалеть. К автобусу он уговорил их себя не провожать, у калитки по-мужски обнялся с отцом, из маминых плачущих объятий высвободился не без усилий и потом через каждые несколько шагов все оборачивался, махал им в ответ рукой, ощущая на губах влагу маминых слез, на миг-другой прикрывал глаза, стараясь надолго запечатлеть, удержать бедные, безвозвратно уменьшающиеся фигурки — как будто знал, что больше их не увидит.
На автобус Иннокентий и не собирался, он решил идти к станции пешком, сделав попутный крюк вдоль реки. Там, на лугу, за окраиной, расположился табор.
Еще не миновав прибрежный кустарник, он услышал непонятные гортанные выкрики. Маленький седобородый цыган размахивал суковатой палкой перед лицом рослой, могучего сложения, женщины; рядом с ней он казался карликом. Иннокентий узнал ее, хотя до сих пор не видел. Палка взвилась вместе с криком и опустилась на ее плечо. Женщина пригнулась, но не издала ни звука. Она увидела Иннокентия через голову коротышки. Тот продолжал что-то выкрикивать, вновь готовясь замахнуться, но тут взгляд женщины заставил его ощутить присутствие свидетеля. Он обернулся, тоже увидел Иннокентия и крикнул ему что-то на своем языке. Указующий властный жест делал слова понятными без перевода. Иннокентию показалось, что он не может шевельнуться, парализованный сверкающим взглядом; на самом деле он без слов покачал головой: нет — не столько отказываясь уйти, сколько желая сказать: не надо так. Седобородый двинулся к нему, для этого пришлось опустить палку, и стало видно, что он хром. По пути он увеличивался в росте: карлик рядом с великаншей, он, приблизясь, оказался ненамного ниже Иннокентия.
— Уходи, — сказал по русски, вытянув в сторону коричневый палец с большим черным камнем на перстне, и толкнул Иннокентия. Тот пошатнулся, но устоял, не сознавая, что опять мотнул головой. Старик не ударил — провел по его лицу снизу вверх костяшками твердых пальцев с перстнем. Потом вдруг плюнул желтой слюной в сторону и ушел, не оглядываясь, с силой тыкая палкой землю.
Иннокентий облизнул губы, ощутив в слюне привкус минеральной воды. Цыганка подошла, достала из складок юбки платок, мягко промокнула на его губах кровь. Он стал снимать с плеч рюкзак, чтобы показать ей коробку, начал было сбивчиво объяснять, кто он и почему пришел. Но это было излишне, она уже и так поняла все без объяснений, знаком позвала его следовать за собой. Они прошли краем луга, почти безлюдного. На траве были разбросаны одеяла, подстилки, разнообразная рухлядь. Кто то спал под пологом из синтетической кисеи, растянутым между кустами. На ветках сушились нижние юбки, тоже из какой-то прозрачной синтетики. На раскладном стульчике молодая женщина кормила грудью младенца. Рядом мальчик лет шести хрустел белой луковицей. Пожевал, подошел к матери, пососал освободившийся сосок, потом вернулся опять к луковице.
Великанша остановилась поодаль от всех возле погасшего кострища, опустилась перед ним на колени и стала раздувать угли. Расцветал, накаляясь среди серой золы, багровый бутон, лепестки огня высвободились, взметнулись. Женщина подбросила в огонь щепок, поставила на кирпичи закопченный котелок и расположилась рядом с Иннокентием на траве среди вороха своих пестрых объемистых юбок. Коричневый обвод вокруг глаз делал ее темное лицо с маленьким подбородком лицом нездешней большой птицы.
— Заступился? — неожиданно улыбнулась она и посмотрела на Иннокентия то ли насмешливо, то ли лукаво. Улыбка, осветив лицо, ненадолго изменила его, оно вдруг показалось совсем молодым. — Думаешь, почему я сама позволяю? Э! Женщине у нас терпеть надо. Это мой отец, — уже без улыбки пояснила она. — Только все не хочет поверить, что я его дочь. Хэ! — произнесла, качнув головой. — Мать уже до смерти довел, теперь меня мучит — а почему? Потому что сам несчастный. Мне ведь его жалко, я уже знаю, как он кончит, совсем скоро, а правды ему сказать не могу… Что так смотришь? — она опять встретила взгляд Иннокентия и качнула опять головой, вдруг сама себе удивившись: почему заговорила так с этим парнем? Зрачки у него были до смешного расширенные, синева вокруг них яркая. — Э, не слушай, мало ли что я брешу. Хочешь про себя узнать? Не боишься? Ну ну, по кажи.
Она взяла его руку, стала разглядывать ладонь, местами разглаживала ее пальцем, чтобы проявить точней, покачивала головой. Там, где у всех была одна линия жизни, у него, раздвоившись, пошли рядом две, смотри, показала она. Одна была короткая и кончалась отчетливо, тут все было понятно. «Доживешь не до старости, но до седины», — пояснила она туманно. Не обычной была другая линия, она то слабела, то набирала силу и не исчезала, а разветвлялась, терялась среди других. Не видела еще такой, покачивала головой великанша. От матери она знала, что все люди с детства живут двумя жизнями, внутри одной, непонятной, полной угроз, творят для себя неявную, самодельную, где можно укрыться, выгородиться, находить объяснение и утешение, без этого так просто не выдержать. Линия лишь кажется единой, переводил ее слова на свой более понятный язык Иннокентий, в каждой скрыты переплетения, но мало кто умеет вглядеться. Сны видят все, но делать их видимыми для других да но немногим, надо, чтобы взгляд оказался открыт для того, что вокруг, и для того, что внутри…
Неясная речь завораживала. Иннокентию казалось, что смысл доходит до него помимо слов. Он узнал, что ему предстоит встретить двух женщин, первая уже совсем скоро его разбудит, приобщит к загадке бессмертия и приоткроет завесу смерти, только он ее не увидит. Со второй он сразу взлетит к облакам и будет блуждать среди них, между землей и небом, никогда не возвращаясь туда, где был прежде, в облака под конец и уйдет. Голос доносился все более издалека, цыганка уже почти бормотала. Голова ли начинала кружиться, кружилось ли небо над головой? Великанша сняла с кирпичей котелок, не чувствуя пальцами горячего металла, поставила на траву. Она освободила с цепочки на груди тусклую ладанку, отвинтила крышку, по капала в котелок. Потом вынула из складок юбки кисет, достала оттуда щепотку буро-зеленого порошка, немного высыпала в котелок, остаток бросила на угли. Белый пахучий дым стал подниматься над ними, растекался вокруг. Цыганка налила дымящееся темное варево в большую фаянсовую чашку, протянула ему. Он взял ее двумя руками, осторожно тронул губами, потянул в себя жидкость, пахнувшую разогретой тиной.
Густое тепло медленно разливалась по телу. Вдруг Иннокентий увидел, что из тюбиков, оставленных на траве, стали выползать, растекаться размягченные краски. Трава засияла, промытая, обновленная, как после дождя. Пятна солнечной пижмы, небесные цветы вероники проявились среди зелени. Нарастала дивная легкость, тело теряло вес, не тяготило, обособлялось, всплывало. Он увидел сверху себя самого на зеленой траве рядом с великаншей, она сидела среди своих цветастых юбок, как среди нарядной клумбы, розовые гвоздики покачивались над ее охристо черным платком, разрастались на длинных стеблях. Вокруг них нежилась, обтекая луг, река, притоки были раскинуты в стороны, как белые руки. Дремучие длинные водоросли цеплялись за воду, замедляя течение, кувшинки вплетены были в них, как украшения.
Воздух становился текучим, все незаметно сдвигалось с места. Иннокентий плыл среди облаков, едва успев подхватить на плечо невесомый рюкзак, растерянно улыбаясь. На взгорке у берега сидели рядом старуха в синем платочке и старичок в соломенной шляпе. Внизу перед ними серый мохнатый козел равномерно гонял по кругу двух белых коз, приведенных ему на случку. Ритуальный неспешный гон завораживал, он казался бесконечным, как бесконечным было кружение облаков вокруг. Козы знали, что козел их догонит, да и сами только этого ждали, но не могли замедлить свой бег. На краю луга, подняв к Иннокентию голову, заржала стреноженная гнедая лошадь.
Он плыл, улыбаясь, среди своих будущих, уже запечатленных картин, над розовыми коврами иван чая, над окраиной города, над знакомой улицей, над своим домом, чтобы унести с собой уже навсегда незамутненной их щемящую убогую красоту. Родители у крыльца за стыли, провожая взглядом неясное видение, ладонями защищая глаза от слепящего света. Мама неуверенно помахала рукой вслед, в другой руке она все еще держала прозрачный пакет с пирожками, который он, конечно же, забыл с собой взять. Иннокентий помахал им в ответ, улыбаясь беспомощной, уже далекой улыбкой — невозможно было отсюда сказать им, что уплывает он безвозвратно.
Проявлялись, возникали и таяли все новые облака, точно воспоминания о забытых снах детства. Плыла любимая курица, которую так хотелось когда-то обнять, поднять на руки, поносить, а она вырывалась, громадная, больше него самого — плыла, теряя одно за другим короткие мягкие перья. Иннокентий двигался дальше, опьяненный невыразимым, невыносимо счастливым чувством. Он увидел четыре серебристые шкурки, распяленных на серой стене сарая, потянул в их сторону руку — ближняя шкурка вздрогнула, как будто ощутив призывную ласку, сама легко освободилась с гвоздей, стала медленно подниматься, раскинувшись на потоках воздуха, за ней одна за другой стали возноситься ввысь три остальных. «Эй, ты что делаешь? — выскочил на крыльцо хозяин, поднимая непонимающий взгляд. — Ты куда?» Но шкурки уже плыли по небу, драгоценные серебристые тучки, а к ним спешила присоединиться, как мать, напоенная синевой маленькая темная тучка.
Все вокруг сливалось, соединялось в одну большую, сплошную массу, разрасталось, темнело, и вот уже испускало водяные потоки. Струи дождя окружали Иннокентия со всех сторон, как все более густые заросли. Они заслоняли простор, воздух, набухавший темнотой и томлением. Он раздвигал их руками, готовый бесконечно блуждать в этом дожде, в его сплошном веществе. Одежда прилипла к телу, как вторая теплая кожа, рюкзак на плече был водяной тяжестью. Мир перемещался вниз, в лужах плавали деревья, вокруг вспыхивали пузыри со светящимися сосками. Возвращался древний хаос, когда суша еще не была отделена от вод. Красками растекались приозерные камни. Широкая рыба про плыла среди разноцветных струй, посмотрела, не удивляясь, выпуклыми глазами.
7
Иннокентий не сразу понял, что заблудился где-то среди полей. Темнота сгустилась незаметно, она становилась все непроглядней, черней. Он двигался почти на ощупь, ногами угадывая утоптанную дорогу и стараясь ее не утерять. Дождь стал ночным туманом. Горячий шум в ушах остывал, он ощутил озноб.
Стена возникла перед ним из темноты, как ее сгусток. Пальцы вытянутой руки нащупали шершавую древесину. От стены исходило сухое тепло — сверху угадывался навес. Все так же на ощупь он зашел за угол, увидел оконце, слабо высвеченное изнутри огоньком. Приблизил лицо к стеклу, заглянул. На подоконнике светился в плошке фитиль. Это была баня, деревенская баня. Иннокентий нащупал дверь, вошел внутрь. Было жарко, натоплено, сухо. Похоже, кто-то успел тут время назад помыться и забыл убрать огонек. По углам шебуршились невидимые обитатели. Он погасил фитилек, чтобы хозяева о нем не вспомнили, и тотчас оказался в кромешной темноте. По памяти нащупал сухую лавку, перебирать набухший водой рюкзак не стал, сунул под лавку. Сам разделся догола, одежку свернул в ком, положил себе под голову…
Ему показалось, что он тут же уснул — как будто на мгновение провалился. Внезапно его разбудил не голоса — колебание шагов: в предбанник кто-то входил. «Темнотища какая», — сказал женский голос. Иннокентий поскорей нырнул под лавку, стукнувшись об нее головой, уже оттуда загреб с нее себе одежду и башмаки, сам замер, не шевелясь.
— Фитилек погас, — отозвалась другая. — Спички-то где?
— На полке нащупайте… Ой, вы что?
— Не визжи… что кричишь? — успокоил ласковый голос; похоже, это была старшая. — Может, не зажигать? Ты где?.. ладно, ладно, чего все пугаешься? Пошли…
Мягкие босые шаги угадывались не по звуку — лишь по колыханию половиц. Чиркнула спичка, огонек оживил небольшое пространство вокруг себя. Иннокентий, не удержавшись, чуть выглянул из-под лавки. Два нагих, никогда прежде не виданных тела волшебно светились в колеблющемся сумраке.
— Сначала помоемся, что ли? — сказала старшая.
Было слышно, как ковш зачерпывает воду из бочки.
Женщина плеснула из него в темноту. Пар, хлынувший оттуда, сделал очертания совсем расплывчатыми. От усталости ли, от голода, от всего ли вместе в голове у Иннокентия пошло кругом. Непонятное волнение вдруг сделало тело бессильным.
Женщины устроились на скамье, под которой он лежал, горячая вода потекла на него сверху, четыре голых ноги были перед его лицом.
— Ух, хорошо, — сказала старшая. — А тебе в самом деле мужик нужен? Можно ведь и без него… даже лучше.
— Ой, нет, тетя Дуня, зачем так? Не надо. Я так не хочу… не умею… тетя Дуня! Вы же обещали. Вы что, в городе так научились?
— Зачем в городе? Научишься в местах, где мужиков нету… Да будет тебе жених, будет… я шучу… это просто положено так, для начала. Ты уже на выданье, налилась, надо попробовать, пока не перезрела. Да не дрожи так, не бойся, колдовство будет сладкое. Сама почувствуешь, что он уже близко, тут он и появится…
Иннокентий слушал, не понимая, что творится с ним и вокруг него. Мыльная вода продолжала стекать на него, она поднималась все выше. Наконец, он обнаружил, что лежит на желобе водостока и не дает воде уйти. Чуть приподнялся; вода, фыркнув, отошла, потом снова начала подниматься. Он слышал над собой непонятную возню женщин.
Вдруг у него защекотало в носу — видно, с водой туда попало мыло. Сдержаться, несмотря на старания, не удалось Иннокентий громко чихнул. Грохнул уроненный таз. Обе женщины заорали одновременно и ринулись в темноту. На миг Иннокентий замер, потом вскочил сам, кинулся к двери, подхватив в обе руки одежду, рюкзак, обувь.
На воздухе оказалось неожиданно светло. Между облаков высвободился полумесяц, похожий на козлиную морду, все вокруг заполнено было светящимся веществом, живым, призрачным. Два белых пятна удалялись по огородам, тускнели, уже почти растворились. Потом одно вдруг остановилось, начало приближаться, проявляться.
Иннокентий попятился, уперся спиной в косяк двери, с рюкзаком и мокрой одеждой в руках. Он замешкался, не зная, одеться ли, уходить ли голым. Только решать было уже поздно. Нагая женщина вплотную приблизилась. Это старшая вернулась все-таки за одеждой.
— Ты что, настоящий? — спросила она. В голосе ее слышалась усмешка. — Эта дурочка небось подумала: нечистая сила. Перепугалась, уже не вернется. Забилась небось где-нибудь в чулан. Я и сама подумала… Не ожидала, что у меня так получится. В свое-то колдовство трудней верить. Я же, думала, не умею, хотела с дурочкой поиграть. Получилось, значит. А если дотронусь?.. Ух, настоящий, правда… надо же! Ты откуда? — не могла сдержать она тихий смех. — Да хоть откуда, правда? — снова дотронулась. — Значит, хорошо постаралась… ишь ты, уже готовенький. У нас, ведьм, так бывает: постараешься для другой… но уж раз она испугалась… а ты то чего боишься? Совсем новенький, — бормотала она. — Идем, идем, вот сюда… вот так…
8
Хотя до начала занятий оставалось больше недели, Иннокентий поспешил зачем-то в училище. При ярком дневном свете он чувствовал себя словно не вполне наяву, брел, моргая и щурясь, позволял машинам на улице себя объезжать и не слышал за спиной ругани. Чтобы проснуться по-настоящему, до конца, надо было как-то вернуться в колдовскую пьянящую темноту, заново ее ощутить, пережить — но можно ли повторить дорогу, на которой заблудился однажды?
Мастерская Федорчука неожиданно оказалась открытой и почему-то пустой, это показалось тоже продолжением недостоверных, из сна, фантазий. (Хотя, как выяснилось потом, у мастера всего лишь скрутило живот, и отлучиться ему пришлось надолго.) Иннокентий еще не знал, что будет делать, но отчего-то вдруг учащенно забилось сердце. Он снял с гвоздя большую чистую доску, потрогал ладонью, узнавая нежную, напоенную телесным теплом поверхность. Острая морда козла на миг неуверенно выглянула из древесного узора, из просвета между облачными изгибами, попыталась было вновь спрятаться, но уже не успела. Ухмылка зубастого рта была человеческой, левый суженный глаз откровенно подмигивал. Иннокентий, хмыкнув, качнул головой в ответ.
Первый влажный мазок засветился изнутри лунным прозрачным светом. Все проявлялось ясно, само собой, до томительных выпуклых подробностей, до мелких резных трав, до белых козлиных ресниц. Незаметно для себя он стал то ли мычать, то ли без слов петь, погружаясь кистью в желанную темень, вновь ощутил томительную слабость в коленях, проявляя пухлые облака, а тело наполнялось знакомой мучительной силой, твердело до кончика кисти.
Напевая, он не услышал, как в дверь вошел Федорчук, измотанный унизительным единоборством с выходкой собственного организма. Остановился за его спиной, еще не придя в себя, еще перебирая в уме, какую порченую гадость, не углядев, имел неосторожность съесть или выпить недавно. Вид самовольно испорченной доски, да еще испорченной как-то пакостно, невнятной темной дристней, на время лишил его голоса. Он не мог найти слов для подступившей еще и отсюда жизненной мерзости. Брезгливо, двумя пальцами взял доску, молча швырнул под дверь. «Купишь чистую», — только и крикнул в спину уходящему — изгнанному навсегда.
На улице Иннокентий посмотрел на доску внезапно ослепшим чужим взглядом. Солнце засветило ее, как не закрепленную фотографию, изображение отблескивало неясно. Он подобрал возле мусорной урны газету, обернул в нее свою работу и пошел по сухой пыльной улице, не представляя, что теперь будет, но зная, что назад в училище не вернется. Направления он не выбирал, его тянули куда-то звуки отдаленной музыки. Вздохи низких басов волновали воздух, в нем колыхалась, высвечиваясь, призрачная августовская паутина. Мелодия, постепенно проявляясь, привела его к городскому рынку. Там было непривычно без людно. Лишь у входа в одиночестве томился на раскладном брезентовом стульчике небритый инвалид, перед ним на мешковине были разложены еще пригодные к употреблению водопроводные краны, электрические розетки и выключатели, мотки старой проволоки, прочий шурум-бурум. «И этот туда же», — глянул на Иннокентия с непонятной кривой усмешкой и почему то сплюнул в сторону.
Иннокентий прошел на звуки музыки дальше и увидел, куда стягивался народ. Между двумя стойками протянут был склеенный из бумаги плакат: «Ярмарка невест», над ним приспособили старое полотнище: «Добро пожаловать». Женщины, торговавшие обычно в разных рядах овощами, сметаной, цветами, возвышались, принаряженные, над двумя общими прилавками, улыбались смущенно и вызывающе, изредка отгоняя мух от выставленного товара. Не дожидаясь свах, которые, похоже, давно и безнадежно вывелись, они решили сами устроить свою судьбу. Рядом с ценниками у некоторых пристроены были бумажные таблички, пояснявшие для непонятливых: «Хочу замуж». Простота откровенных надписей, как ни странно, делала невозможными непристойности. Мужчины, попав сюда неожиданно, кружились перед прилавками, как серые мухи, не сразу решались задержаться, усмешки их были неуверенными.
Иннокентий, раскрыв рот, замер против дородной женщины с пышной высветленной прической. Она доставала на вилке голубец из большой алюминиевой кастрюли замухрышке в шоферской кожаной куртке. «Еще теплый», — улыбнулась золотыми зубами. Тот протянул было руку, но застеснялся грязных ногтей. На тыльной стороне Иннокентий успел прочесть голубую татуировку «Спи отец» с крестом и датой. «Умыться еще не успел, — пояснил шофер, пряча руку за спину. — Я днем товар привозил, не знал, что тут такое. Может, зайдем лучше в кафе, посидим? Что нам через прилавок говорить?» — «Только без выпивки», — предупредила, подумав, женщина. «Идите, идите, — поощрила соседка, — я присмотрю за товаром». Рядом с ней над прилавком круглела среди арбузов голова девочки, щеки по уши погружались в истекающий розовым соком ломоть.
Иннокентий сглотнул слюну. «Хочешь?» — поймала его взгляд женщина и улыбнулась с лукавым насмешливым пониманием. Он смущенно поспешил отвернуться и поскорей пошел дальше.
Духовой оркестр играл на площадке перед аттракционами. Между столбами вокруг нее трепыхались праздничные цветные флажки. Музыканты, похоже, ничего не умели, кроме маршей, но дирижер в офицерском кителе без погон задавал темп помедленней, делая марши плавной томительной музыкой. А может, музыка сама становилась замедленной, пока доходила до танцующих. Они, впрочем, не особенно за ней следовали, каждая пара создавала вокруг себя свою, прилаживаясь не к звукам — друг к другу и не осмеливаясь прижаться, ощутить другого телом, грудь грудью. Женщины поначалу отстраняли партнеров, чтобы не подумали о них чего, а потом ждали, пока недогадливый мужчина все-таки осмелеет, прижмется снова; если же он все не преодолевал робость, брались за дело сами. Это был танец, который не требовал уменья и выучки, он, как музыка, воспроизводил каждый раз заново главное в жизни, ее ритмы, порывы, желание и уклончивость, раздельность и совпадение, несмелость и неизбежность. Звуки взмывали ввысь, напрягая и волнуя над танцующими чистый, без облаков, купол. Иннокентий танцевал среди всех сам с собой, топтался, поворачивался медленно, как умел, прижимая к груди обернутую в газету доску, тощий, в растоптанных башмаках, в синих китайских штанах, со счастливой бессмысленной улыбкой вглядывался в лица, озаренные неясным еще ожиданием, которое не могло не разрешиться — что-то уже приближалось, набухало, сгущалось.
Музыка ли пропустила такт, сердце ли пропустило удар? Он замер, жмурясь от солнца. Растрепанное сияние в волосах пронеслось перед глазами — воспоминание восхищенного детства, только теперь оно было золотистым. Лицо удалилось, стало вновь приближаться, затененное против солнца. Девушка сидела в легкой расписной лодке, одной рукой она держалась за качельный канат, другой подносила к губам зеленого пластмассового дракона. Из раскрытой пасти выдувались не пузыри — мелкая мыльная пена.
— Не получается, — встретила она взгляд Иннокентия. — Бракованный, наверное. Может, попробуешь?
Он не сразу сообразил, пропустил лодку мимо, запоздало попробовал удержать канат и чуть не упал, утерял равновесие, неловко выронил доску. Порыв ожившего воздуха подхватил лист газетной обертки, он взметнулся вверх и там зацепился, обвил веревку, затрепетал на ветру.
— Ты что, немой? — прыснула девушка, снова приблизясь. Движение уже затихало. — Раскачай меня теперь посильней. Одной трудно. А лучше садись сюда сам. Что там у тебя? Дай подержу.
Он передал ей доску, сел напротив. Лодка, расписанная мальвами, подсолнухами и васильками, качнулась с готовностью. От толчка ли, от движения ли воздуха, от накопленного ли дыхания из раскрытой пасти дракона вдруг сам собой стал выдуваться пузырь. Он рос, наливаясь переливчатой радугой. Газетный парус напрягался, трепетал над снастями.
— Ух ты! — восхищенно смеялась девушка, разглядывая перед собой доску, расписанную Иннокентием. Лунные облака на ней преображались под ее взглядом. Засветилась сначала кромка, другая, растворился ночной туман, золотистое сияние заставило жмуриться зубастого длиннолицего бородача. Смех ее похож был на птичье пение. Пузырь уже устремлялся вверх, увлекая за собой лодку, и вот, наконец, высвободился из пасти дракона, оторвался, поплыл по небу среди таких же радужных облаков. Переливчатые, полупрозрачные, они стали заполнять синеву. Качели больше не надо было раскачивать, лодка колыхалась на волнах музыки, на басовитых придыханиях геликонов, над цветником разноцветных флажков внизу, над корзинами, полными алой брусники и темно красной клюквы, пунцовеющих яблок и желто-зеленых груш.
Они плыли под белым парусом среди сияющих айсбергов и хребтов. Навстречу пронеслось облако, полное птиц, поющее их голосами. Приблизилась в подвенечном платье вытянутая в длину невеста, девочки-подростки робко поддерживали за ней фату, прозрачные слюдяные стрекозиные крылья трепетали, переблескивая, за их спинами. Фата растягивалась в длину, становилась все бледней и где то уже вдали таяла. Едва различимый самолет добавлял в небо все новые четкие росчерки, кувыркался, выделы вал среди облаков фигуры — восторженный жаворонок, серебристая точка.
9
Ее звали Вероника, она жила самостоятельно, зарабатывала на жизнь мелкой торговлей, не доучившись на биолога в педагогическом институте. Получала у хозяев-оптовиков пластмассовые игрушки и украшения, лубяные изделия местных кустарей, дешевую бижутерию, добавляла и свои поделки: плетеные браслеты из цветных проволочек, ожерелья из лакированных абрикосовых косточек, всякую нехитрую чепуху. Теперь она стала выносить на продажу и доски Иннокентия. Он переселился к ней, в дом, удивительно похожий на родительский, такой же деревянный, уже покосившийся. Дощатый сортир во дворе был точно с таким же оконцем, вырезанным в виде сердца; даже трещины и разводы на когда-то беленом потолке складывались в очертания тех же танцоров, которые не раз переходили, кружась, на его рисунки, и пятна сырости на обоях становились в сумерках фигурами тех же играющих в чехарду гномов, разве что успевших переменить позы. Только этот дом был отгорожен глухим высоким забором от улицы, на которой оставался в одиночестве, как остров, среди пятиэтажных панельных новостроек. Уличная колонка у самой калитки была оставлена пока специально для него, но строительные краны подступали уже совсем близко, предупреждая о неминуемом скором сносе.
В училище Иннокентий просто перестал ходить, Вероника вразумить его не смогла; приказ об отчислении пришел на адрес прежней хозяйки. Соученики вряд ли заметили его исчезновение, а если бы их спросили о нем, не сразу смогли бы вспомнить, кроме не определенного: а, этот! — и лишь после некоторого усилия добавили бы: который кашлял, когда рисовал гипсы. Он до сих пор ни с кем, в сущности, не соприкасался по-настоящему, если не считать родителей, да еще, может, собаки. Вероника считала, что сама легко относится к жизни, но с ним она могла ощущать себя старшей не только по возрасту. Без нее он бы не вспомнил, что нужно сообщить родителям свой новый адрес, она помогла ему сочинить объяснение, почему он не может приехать на зимние каникулы, не огорчая их преждевременной правдой. Ей нравилось им по-матерински руководить. Она купила ему рубашку василькового цвета, красиво подстригла русую бородку, но волосы укорачивать не стала. С таким чувством девочки наряжают и причесывают своих кукол. Лоб его очистился от прыщей, глаза стали еще более синими. Он был в нее идиотски влюблен, забавлял ее своей детской нелепостью — и восхищал любовной неутомимостью.
Оставаясь без нее целый день дома один, Иннокентий заглушал работой беспокойное чувство, в котором сам себе не отдавал отчета. Краски, заготовки для досок, все необходимые материалы Вероника обычно добывала сама. Все работы этого недолгого счастливого периода отмечены были неизменным присутствием облаков, многоцветных, живых, подвижных. Вновь и вновь проплывали среди них те же дома и сады, что восхитили его когда-то на сеансе гипнотизера, знакомый алкоголик возлежал на том же зеленом облаке, собака с глазами восточной красавицы плыла навстречу серым щенкам, как темно-синяя тучка. Под облачными парусами плыли над крышами, над ярмарочными качелями и шарами корзины, полные ягод, плодов и цветов. Музыканты выдували из труб радужные пузыри, в них отражались окна с бегониями в горшках, удивленные круглые глаза пролетающих птиц. На мягкой сугробистой скатерти неровно расставлены были тарелки с варениками, сквозь тонкое тесто просвечивал где комковатый творог, где бледно лиловые вишни. Из чердачного слухового окна по пояс высовывался кто-то удлиненный, козлобородый, чтобы снять с взъерошенного, похожего на курицу облака желтых цыплят; внизу их дожидалась беспокойная дородная мать. На веревках между столбов, как праздничные флаги, плескались наволочки и простыни, штаны и рубашки; перекрученная после стирки простыня проливалась сверху узким дождем. Перистыми облаками расцветали на высоких небесных стеклах разводы зимних узоров, рыхлая снежная баба таяла среди них, вместе с ними.
А вот Вероника появлялась на досках редко, и то как бы помимо его желания. Танцующая девушка нечаянно приобретала с ней сходство, золотисто просвечивала фата пролетающей невесты, и в воздухе появлялся запах мандариновой свежести — он исходил от картины, как исходил от ее кожи. Эти работы Иннокентий пытался от Вероники припрятать, он их продавать не хотел. Зато для себя рисовал ее бесконечно. Если под рукой не оказывалось пригодной бумаги, он мог рисовать на чем угодно, пренебрегая наставлениями Федорчука, хоть на картонных упаковочных коробках, на фанере, на старых рулонных обоях, на дверцах белого кухонного шкафа.
Вероника вначале его работами восхищалась, особенно когда дни бывали удачные, кто-то покупал и хвалил его доски. Хотя и легко признавала, что в живописи не понимает. Но сама себе на его картинах нравилась редко, они все чаще стали вызывать у нее раздражение. «Это я? — фыркала, морщась, не желая узнавать себя на очередном листе. — Какая-то всклокоченная ведьма». Конечно, человек более понимающий, чем Иннокентий, сделал бы поправку на дни, когда она просто не могла быть с ним и начинало раздражать все: неустроенность быта, плохо протопленная и слишком быстро остывавшая печка, ветер, задувавший сквозь щели, которые приходилось закрывать листами картин, прикрепляя их кнопками к стене. Но, может, дело было еще и в том, что взгляд, поначалу восторженный, понемногу трезвел, как трезвеет неизбежно после достаточно долгой совместной жизни.
Иннокентий виновато смотрел на свои работы ее взглядом, и сам видел в них уже не то, что недавно. Он все больше понимал, что не только на фотографиях отца одно и то же лицо могло оказаться разным. Лица меняются в зависимости от освещения, настроения, погоды, бывают разными утром и вечером. Картину тоже можно видеть каждый раз, точно впервые, не узнавая. Расположенный, любящий взгляд откроет на ней не то же, что взгляд равнодушный, непонимающий, неприязненный. Хуже всего было другое: с некоторых пор Иннокентий стал замечать, что с его работами что-то действительно происходит. Он начинал обнаруживать на них очертания, фигуры, подробности, которых рисовать не собирался — они сами вдруг возникали непонятно откуда, из нечаянных натеков, совмещения красок, из складок местности, из переливов листвы на ветру. Не говоря о своеволии облаков: они продолжали на картинах жить своей, непредвиденной жизнью, в них постоянно что-то менялось, исчезало и появлялось снова. Можно было предположить, что Иннокентий просто забывал нарисованное, а потом удивлялся, не узнавал. Он знал за собой эту особенность памяти, позволявшую каждый раз заново восхищаться знакомыми, но, оказывается, забытыми стихами. Или, может быть, неправильно составленные краски, просыхая, так быстро начинали меняться?
Однажды он почти испугался, явственно увидев, как над Вероникой, которая безмятежно взлетала, откинувшись, на качелях своего неизменного праздника, вдруг нависло горизонтально мужское лицо. Оно сложилось, выдулось из бурого облака, преувеличенно большое, безбровое, голое. Вытянутые в сторону Вероники губы придавали ему сходство с мордочкой ящерицы; тело от плеч расплывалось, становилось не ясным. Гладкая кожа местами приобретала синеватый отлив, отблескивая, как на разломе крутая простокваша.
Иннокентий в растерянности обернулся, словно нечаянный свидетель за спиной мог что-то подтвердить или опровергнуть. Когда он посмотрел на лист снова, лицо непонятно куда пропало, будто успело спрятаться, растворилось. Вероника, оставшись на качелях одна, улыбалась прежней, но какой-то уже незнакомой, хитрой улыбкой. Надо было как-то отделаться от наваждения, самому проявить лицо отчетливей. Достаточно оказалось нескольких уточняющих мазков. Чтобы оно больше совсем не фокусничало, Иннокентий обвел подбородок снизу небольшой темной бородкой. А потом тонкой кистью провел от ушей к затылку едва заметную линию и завязал там бантиком тесемку, чтобы лицо, утеряв подвижность, престало меняться, стало всего навсего маской. Лист он засунул поглубже среди кипы других работ, зная, что Вероника сама не станет туда заглядывать. Непонятная тревога от этого лишь, однако, усилилась.
Наверно, в этом уже было что-то болезненное. Человек, сведущий в психиатрии, вправе был бы его тревогу назвать безотчетной ревностью. Захотелось немедленно одеться, пойти встретить Веронику на рынок. Иннокентий уже просунул руку в левый рукав куртки, но остановился в неуверенности: не рассердится ли она. Беда его была еще и в другом: чтобы выйти даже в ближний магазин, ему приходилось преодолевать себя, как будто, не признаваясь себе, он действительно боялся не найти обратной дороги.
Он вдел руку в другой рукав и вышел на двор поколоть дрова. В воздухе был запах противной гари: кто-то жег мусор на ближней стройке. Вернувшись, Иннокентий сбросил свежую охапку на жестяной коврик перед печкой, а потом надолго замер на корточках у открытой дверцы, зачарованный игрой огненных языков, их неуловимой переменчивой жизнью, — пока не спохватился, что к приходу Вероники пора почистить картошку.
10
Этот человек появился в доме вместе с Вероникой в конце февраля, под вечер. Он не был особенно высоким, но казался каким-то крупным, увеличенным, большелицым. Темная ухоженная бородка выравнивала скошенный подбородок, череп был наголо выбрит, как и гладкие щеки. От него исходил запах дорогой парфюмерии, сразу наполнивший весь дом. День был морозный, но одет он был не по-зимнему, в длиннополое легкое пальто — за оградой осталась машина, он на ней привез Веронику. Она выглядела взволнованной: это был какой то приезжий из столицы. Он купил на рынке две доски Иннокентия и захотел посмотреть другие его работы.
Показывала их ему, немного суетясь, Вероника, Иннокентий держался позади обоих. Под снятым пальто у приезжего был костюм из материи цвета черной радуги, она отблескивала под лампой, как влажная шкурка ящерицы. Он сам неспешно перекладывал листы на большом столе, с которого была убрана скатерть, время от времени поглядывал на Веронику, удовлетворенно покачивал головой, узнавая ее на рисунках.
Иннокентий потом не мог себе простить, что не вспомнил вовремя про лист, на котором однажды проявилось само собой безбровое голое лицо. Гость удивленно задержался на нем.
— Это же я, — сказал полувопросительно. — Живительное сходство, вам не кажется? — обернулся он к Веронике. Та закивала согласно. — И вы тут же? — отметил он. — Удивительно! — повторял, поднимая перед собой лист ближе к свету. — Я здесь больше похож на себя, чем в жизни, может так быть? — и сам засмеялся шутке. Тоненькую нить с бантиком на затылке он, видимо, так и не разглядел. — Потрясающе! Я ехал сюда с каким-то предчувствием. Работу я у вас, конечно, куплю.
Вероника оглянулась на Иннокентия, губы ее готовы были предвосхитить то, что он должен был сказать — так смотрит учительница, ожидающая от ученика единственно правильного, единственно возможного ответа и не понимающая, почему он медлит.
— Я ничего не продаю, — неожиданно сказал тот. Вероника даже рот приоткрыла растерянно, почти с испугом. Приезжий добродушно поднял перед собой ладони.
— Не будем спешить, надеюсь, у нас впереди достаточно времени. Мы ведь еще даже не обсудили цену. Я, может, вообще куплю у вас все. Вы меня очень заинтересовали. Очень.
Вероника, наконец, догадалась предложить гостю кофе. Он явно не спешил уходить. Предложил называть себя по имени: Гавриил, по фамилии представляться не стал, необязательно. О себе он вообще говорил немного расплывчато. Его можно было назвать бизнесменом, но бизнесменом, если угодно, нестандартным, широкого профиля. Он имел дипломы четырех учебных заведений, включая медицинское и экономическое, занимался разнообразным коллекционированием. Сюда, в областной центр, он приехал договариваться о приватизации (если не называть это покупкой) бездействующего пригородного санатория. Недвижимость в здешних местах была пока баснословно дешева, начальство, продажное, как везде, можно было подкупить сравнительно недорого, — с усмешкой откровенничал он, помешивая ложечкой в чашке сахар. У него с недавних пор появилась идея создать здесь особое заведение, название которому было еще не придумано. Может быть, Центр проявления способностей? Или, допустим, Институт экспериментальной гениальности? — полувопросительно поглядывал он на собеседников. Всякий человек, говорят, от рождения гениален, возраст, воспитание, а может, сама природа эту гениальность неизбежно глушит, — философствовал Гавриил, вытягивая к чашке с кофе большие тонкие губы. Он хотел в этом институте или центре собирать людей, которые о своих возможностях не всегда подозревают, гениев, так сказать, потенциальных, чтобы выявлять, стимулировать, реализовать их не всем очевидные возможности. Методики для этого уже разрабатывают приглашенные им сотрудники.
Время от времени он поглядывал почему-то не на Иннокентия — на Веронику, словно спрашивал у нее подтверждения. Она от его взгляда начинала суетиться, что-то без надобности переставлять на столе. Иннокентий сидел, потупясь, старался не смотреть на обоих.
Идею, рассказывал Гавриил, подал ему, между прочим, один местный литератор. Познакомился с ним как-то проездом, в небольшом городке. Любопытнейший, тоже никому пока не известный писатель. В своих сочинениях он упорно развивал мысль, что гениев скорей, чем где угодно, можно найти в русской провинции. Она недаром издавна славилась чудаками и фантазерами, изобретателями, которым ничего не удавалось воплотить, потому что они и не претендовали на практическое осуществление. Их интересовали не мелочи вроде усовершенствованной машинки для чистки овощей или экономной кофеварки, а проекты не менее чем космического масштаба, остававшиеся, конечно же, невостребованными, и философии соответствующие. Это после смерти некоторым воздавали должное, при жизни же невозможность реализоваться превращала кого в тихих рабочих лошадок, кого в мечтательных пьяниц, высокомерных сутяг, которые свою неосуществленность считали признаком особого превосходства над миром, заботы о поддержании жизни оставляя женщинам. Но эта же трепетная атмосфера поощряла, по выражению автора, ауру гениальности потенциальной, пересказывал Гавриил. Писателю, конечно же, уже было предложено в институте место.
Наконец, он поднялся, протянул Иннокентию на прощание руку, тот не сразу догадался ее слабо пожать. «Вы даже не представляете, как меня заинтересовали», — многозначительно посмотрел на него Гавриил. Над рукой Вероники он склонился, вытянув губы для поцелуя. Но она еще вышла его проводить к калитке. Накинула на плечи пальто, вернулась с красными пятнами волнения на щеках.
— Ты слышал, что он сказал? Он действительно хочет купить у тебя все. Я пока не пойму: он, что ли, действительно считает тебя гением?
— Мне кажется, он какой то резиновый, раздутый изнутри, — сказал Иннокентий.
— А, — отмахнулась она, — может, ты сам себя не понимаешь. Я-то уж точно не понимаю. Я ведь на этой картине вначале опять показалась себе уродкой. Честно могу признаться. Знаешь, сколько он за нее только что предложил?
— И не хочу знать. Я не буду продавать тебя.
Ему еще казалось, что он шутит.
— Ах, не хочешь? Может, ты действительно гений, но женщине, знаешь, с гением трудно. Ты хоть представляешь, сколько теперь стоят краски, бумага? Не говоря обо всем остальном? Спустился бы ненадолго со своих облаков. Посмотри хоть, как я одета. А как он одет, ты видел?
Он действительно этого не заметил, как никогда не замечал, во что одет сам.
— Одежда тебя только портит, — попробовал опять пошутить он.
— Ты хотел бы меня показывать голую? — нервно засмеялась она, не подозревая, как рискованно прозвучали ее слова. А может, и подозревала.
Никогда Вероника его так не волновала. В тот вечер он впервые нарисовал ее обнаженную, она с удовольствием позировала. Она лежала не на раскрытой постели — на мохнатой облачной шкуре, вывернутая рогатая голова смотрела на нее влюбленными, синими, еще живыми глазами, а она, отвернувшись, улыбалась восхитительной, лукавой и опять же какой-то новой улыбкой. Небесные вены просвечивали сквозь облачно-нежную кожу, волосы золотисто светились, разбросанные среди белизны, небольшие груди были снежными холмиками. Воздух наполнялся праздничной мандариновой свежестью. Наконец, рыжий маленький треугольник засиял между бедер, их потянуло друг к другу, все завершилось безумием. Комната раскачивалась на ветру вместе с уличным фонарем, специально для этого дома оставленным, оба они без качелей качались в светящемся воздухе вместе с тенями, переплетаясь, переворачиваясь до головокружения, пока, обессиленные, не затихли.
11
Среди ночи Иннокентий с усилием проснулся, сопротивляясь навалившемуся сну. В этом сне среди развороченного машинами пустыря возвышалась шаткая стремянка, голая женщина взбиралась на нее, держа в руке птичью клетку с раскрытой дверцей. Стремянка пошатывалась, неустойчивая, женщина балансировала с трудом. Держаться она не могла, в другой руке у нее был сачок с длинной ручкой, она пыталась им захватить крохотное дрожащее облако. Внутри облака просвечивала неясная тень, оно слабо увертывалось. Со спины женщину было не узнать, волосы у нее были закрыты зеленоватым прозрачным колпаком, как в парикмахерской. Вдруг она сачком настигла добычу — и тут же опора под ней опасно покосилась…
Досматривать Иннокентий не захотел. Он проснулся и сразу вспомнил, какая мысль неотступно беспокоила его в этом сне: надо было припрятать оставленную на столе работу, чтобы Вероника не вздумала ее показать Гавриилу. В комнате было темно, уличный фонарь, как бывало, погас, никому не нужный на улице, уже переставшей существовать, зажечь свет было нельзя, чтобы не разбудить женщину. Ночные очертания шевелились, бормотали недовольно, найти лист в потемках, на ощупь, не удавалось. Он что-то с грохотом уронил, испугался, что Вероника проснется, и до утра проворочался в полудреме, наполненной смутной тревогой.
Когда он снова поднялся, белый свет уже продавливался в немытое окно, как известковый раствор через марлю. От картины не было и следа, лист куда-то исчез, точно привиделся. Иннокентий с трудом дождался, пока проснется Вероника, успокаивая себя и одно временно мучаясь подозрением, что она просто спрятала от него работу — зачем? Однако та, проснувшись, сама начала с того же вопроса: куда девалась картина? Оба смотрели друг на друга недоверчиво — изобразить свою непричастность так искренне никто бы из них не смог. Оставалось надеяться на недоразумение, на то, что он сам, без вина опьяненный, припрятал свою работу безотчетно, как лунатик, а теперь не мог вспомнить, куда. Но когда-нибудь она должна была найтись — ведь не привиделась же, на самом деле.
Жизнь их между тем изменилась. На рынок Вероника ходить перестала. Доски Иннокентия теперь не нужно было выносить на продажу. Гавриил предложил уплатить вперед не только за них, но и за все будущие его работы. Пока они все оставались в доме, но согласие Вероника уже дала вместо него — и что он мог возразить? Гавриил предложил ей работать у себя, ему нужна была не просто секретарша — деловой помощник, референт по связям с общественностью. Он приезжал теперь вечерами вместе с ней, как к себе домой, извлекал из большого пакета бутылку вина, закуски. Вероника пристраивала в вазе принесенные розы — почему то всегда напоминавшие те, что украшали ее любимый торт. Пили они вдвоем с Вероникой, Иннокентию от вина сразу становилось тоскливо. Гавриила же оно делало особенно словоохотливым.
Работы по созданию Института, рассказывал он, шли полным ходом, пришедшее в упадок здание ремонтировалось, обновлялось, помещения перестраивались, в них завозили мебель и оборудование. По его словам, уже толпилась очередь желающих. Многим бы хотелось обнаружить, раскрыть в себе незаурядные свойства, а при надобности их пробудить, культивировать, и они готовы были за это платить, а как же иначе? Некоторых, допустим, следовало бы назвать скорей пациентами — но ведь известно, что отклонение от нормы можно называть болезнью, а можно и гениальностью, грань не всегда очевидна. И для ваших картин там уже предусмотрено место, лучше, чем в любой галерее, — ласково поглядывал он на Иннокентия, слегка приподняв в его честь бокал и трогая вино губами. И для работы, намекал он, можно будет создать особые, чудеснейшие условия.
Иннокентий слушал его, молча тоскуя. Вероника, разумеется, замечала, как он мрачнеет все сильней с каждым визитом Гавриила. «Ревнуешь?» — говорила, когда тот уходил, и с усмешкой трогала его плечо пальцами. А он сжимал ее пальцы своими, осыпал их поцелуями, брал каждый по очереди губами, одновременно начиная ее свободной рукой раздевать. Чем больше он ее ревновал, тем больше ему надо было успокоиться с ней. «Ну ревнуй, ревнуй, — довольно повторяла она, успокаиваясь вместе с ним. — Так ты меня еще больше восхищаешь».
За ней стали теперь присылать по утрам служебную машину. Она уезжала в институт, как на работу, — и возобновлялась тревога. Она ощущалась как запах, который остался в доме после первого же визита Гавриила и уже не покидал его, запах парфюмерии или медицины. Иннокентий принюхивался, озираясь растерянно, как будто не мог найти источник. Тот же запах исходил от косметического набора, который появился у Вероники вместе с новыми платьями, новыми вещами. Тревога стала близкой к испугу, когда Иннокентий обнаружил, что этот запах исходит уже и от работ. Ему показалось, что с ними продолжает происходить непонятное, в лицах, фигурах, даже деревьях и травах проявлялась какая-то сухая гипсовая белизна. Приступ внезапного кашля вновь напомнил ему об училище. В красках ли опять было дело? Или творилось что-то с самим воздухом, с его зрением?
12
Постепенно все работы Иннокентия перекочевали в заведение Гавриила. Был момент, когда он готов был порвать листы, лишь бы тот не увез их к себе, но сделать этого не сумел — на них была Вероника. Даже дверца кухонного шкафа (где стая голубей заполняла небо вокруг ее головы, а она пускала с ладони последнего) была снята с петель, открыв полки с пыльными стеклянными банками. Дом, ожидавший со дня на день сноса, все больше пустел. Вероника уже получила ключи от новой двухкомнатной квартиры в большом доме и перевозила туда понемногу некрупные вещи; старая рухлядь была ей там не нужна. Гавриил убедил ее купить современную обстановку для начала в кредит, сам он пока даже уплатить ей за картины не мог, у него не было свободных денег, объяснял он, все приходилось тратить сейчас на институт. Все чаще она и ночевать оставалась там. Гавриил лишь ненадолго привозил ее на еще не виданном в здешних местах черном американском внедорожнике, с эскортом хриплых от возбуждения собак, чтобы оставить Иннокентию необходимые продукты. Задерживать ее тот не решался — не чувствовал себя вправе. Способность, так восхищавшая еще недавно Веронику, теперь ему постыдно отказывала. Ему мешал ее новый вид: она сделала короткую модную прическу, волосы стали белокурыми, пополневшее лицо подрисовано макияжем. Но даже если он в минуту близости старался закрыть глаза, чужой, незнакомый запах лишал его силы. И как ей было об этом сказать? Она утешала его кисло и снисходительно. Зато не раз выговаривала ему, не понимая, почему он перестал рисовать — но это он мог объяснить еще меньше. Не получалось, вот и все.
Оставаясь в одиночестве, Иннокентий бродил по разоренному дому среди вещей, брошенных за ненадобностью, как он сам, потерянный и опустошенный. Он совершенно не представлял, как и где будет жить, когда не останется этого дома; сама Вероника с ним будущего не обсуждала, как будто оно подразумевалось без слов. А он и заговаривать не решался. Зачем он, в самом деле, был ей, такой, нужен? Бесполезная собака, готовая тереться о ее ногу, лишь бы погладила иногда, потрепала за ухом? Письма из дома почему то давно перестали доходить, он словно не замечал и этого, так до сих пор и не узнав, что его родители, как было предсказано, умерли в один день, а если точней, в ночь, не проснувшись от угара — захмелевший отец раньше времени закрыл вьюшку.
Необъяснимо пропавшая картина не давала ему покоя. Он боялся, что она, так и не найденная, может погибнуть вместе с разрушенным домом. Но еще невыносимей было представить, как она, в последний момент обнаруженная, попадет в надутые резиновые руки Гавриила. Вероника не раз давала понять, что она об этой картине помнит. Мысль о ней, нынешней, не наполняла его таким ревнивым отчаянием, как воспоминание о сияющих волосах, разметавшихся по облачной шкуре, об улыбке, лукаво проглядывающей в уголке губ — и об этом солнечном рыжем пятнышке под животом. Отчаянное желание все таки найти, увидеть картину сейчас, немедленно, вдруг наполняло его мучительной, забытой силой. Обнадеженный, он вновь и вновь начинал тыкаться по разным углам, переставлял сломанные табуретки, стулья, перешагивал тряпичную, ватную ветошь, разбросанную, как на цыганской стоянке, спотыкался о пустой футляр от швейной машинки «Зингер», о вещи, которых прежде не существовало. Грохотала от нечаянного удара садовая лейка, перекатывалась, чтобы устроиться рядом с ржавой самоварной трубой и вечнозеленым банным веником, нога вдруг запутывалась в скакалке. В чулане на Иннокентия однажды упала откуда-то сверху большая птичья клетка. Он некоторое время тупо держал ее в руке, смотрел на желтое перышко, прилипшее к остатку помета, что-то пытался вспомнить.
Опустошенный, он взял лист бумаги, попробовал по памяти набросать то, прежнее ее лицо. Кончилось тем, что он пририсовал к нему новую короткую прическу, протянул от ушей тесемку и завязал бантиком на затылке. Потом мелко порвал лист, бросил клочки в печку, поджег, стал ворошить кочергой угли. В комнату пошел дым: он забыл открыть вьюшку. Распахнул форточку, чтобы проветрить, и, не раздеваясь, лег на кровать. Постель теперь он не убирал весь день.
Приближался вечер, но еще было светло. Возможно, он ненадолго вздремнул. Прохладное дуновение заставило его открыть глаза. Перед открытой форточкой вздымалась легкая кисейная занавеска. В комнате было сумрачно, однако обои на стенах розовели, точно их коснулось закатное солнце. Воздух был полон трепетом оживших пылинок. Иннокентий перевернулся на спину, чтобы найти источник света.
Нагая прекрасная женщина улыбалась ему сверху, из-под потолка. Она раскинулась на жарком мохнатом облаке, разрумяненная, как бывает спросонья. Сияние исходило от волос, растрепанных больше обычного. В воздухе вновь отчетливо проявился головокружительный, опьяняющий запах — запах мандариновой свежести.
«Ты? — проговорил Иннокентий беззвучно, не в силах раскрыть рот. — Где ты пряталась?.. Я так и знал, — продолжал он, не дожидаясь ответа. Ты еще прекрасней, чем я воображал». — «Ты вообще меня все время выдумываешь, — усмехнулась она. — До сих пор не хочешь понять, что на самом деле я стерва». — «Не говори так!» — испуганно попросил он. «Стерва, еще какая». Сияющие частицы воздуха отозвались ее смеху тихим перезвоном. «И мне, между прочим, нравится быть стервой. Вообще настоящей. Не знаю, лучше ли, хуже, чем ты думаешь. Живой. Ты не хочешь знать правду, в этом, может, твое счастье». — «Да, да! — подтверждал он, не вникая в смысл, — незаслуженное, необъяснимое счастье. Я всегда изумлялся, не понимал, что ты могла во мне найти, и ждал неминуемого разоблачения. Я без тебя, оказывается, не жил, — говорил он. — Видишь, и рисовать не могу… ничего не могу». — «Какой ты все-таки дурачок, — снисходительно улыбнулась она. — Лег, даже не разделся. Ты что, не хочешь, чтоб я спустилась?» Иннокентий в замешательстве уже готов был сказать, что он ничего не сможет — и лишь тут, наконец, осознал, что на самом деле давно может…
А в следующее мгновение послышалась возня у входной двери. С грохотом упало и покатилось задетое пустое ведро, тихо чертыхнулась Вероника. Иннокентий отчаянно глянул вверх, сделал знак: спрячься! Женщина запахнулась краем облачной шкуры, не торопясь, поплыла в угол, к печке, спряталась в тесный зазор между белеными верхними кирпичами и потолком. Вот куда он не догадывался заглянуть! Оттуда, однако, продолжало исходить слабое свечение. Он догадался включить электричество, прежде чем в комнату вошла Вероника с заляпанными грязью резиновыми сапогами в руках.
Только в сапогах можно было теперь в распутицу добраться до калитки, хотя время назад Гавриил заплатил рабочим, чтобы подсыпали на дорогу щебня. Напротив дома уже стоял строительный сарайчик, подвыпивший сторож удивился, увидев, что она еще идет в дом. Ему он казался пустым, завтра его уже собирались сносить. Прийти ее уговорил Гавриил. Он был недоволен тем, что Иннокентий утратил работоспособность и она об этом не заботится, хотя могла бы постараться, так сказать, его стимулировать. В этом мире все связано, объяснял он, надо попробовать, ты ведь можешь? Она впервые не без обиды подумала, что он все таки ее просто использует, но противостоять ему не могла.
— Ну и в бардаке ты живешь, — оглядела она жилье, вызывавшее мысль о мусорной свалке. Поставила у двери сапоги, разделась, подошла к Иннокентию, чтобы обнять. — Ты что озираешься, с перепугу, что ли? Успел меня забыть? Не обижайся, что я не приходила. Столько работы. Надо обустраивать квартиру, ты же не помогаешь. — Она потерлась лицом о его щеку, поискала для поцелуя губы. Они были вялые, безответные. Потом начала одной рукой расстегивать пуговицу на его рубашке, той самой, которую когда-то ему купила, другой попробовала направить его руку к своей кофточке. — Да ты что? Что с тобой? — поощряла она растерянного любовника. Ей уже случалось видеть его всяким, но таким он еще никогда не был. Иннокентий стоял перед ней, страдальчески наморщив лоб, бессильно опустив руки и прикрыв глаза. — Ты прав, этот бардак лучше не видеть, — признала она и, отстранясь на секунду, выключила электричество. Он в смятении поднял взгляд: Вероника могла увидеть золотистое свечение в углу, над печкой.
— Я не могу, — жалко повторил он.
— Со мной сможешь, — уверенно сказала она, расстегивая теперь на нем брюки. — Еще как сможешь.
Прильнувши губами к губам, она стала легонько теснить его к кровати. Он пятился, потом, не удержавшись, упал на кровать спиной и в испуге подумал, что сейчас Вероника сама ляжет тут же лицом вверх. Но она склонилась над его оголившимся бессильным телом, тронула губами, безуспешно пробуя вдохновить. Никогда ему не было так стыдно.
И тут он увидел, что светлое облако снова выплыло из-за печки. Любимая с улыбкой смотрела на него из-под потолка, вдруг заговорщически подмигнула. Он был ошеломлен ее дерзостью и уже не отводил от нее восхищенного взгляда.
— А ты говорил, — довольно сказала Вероника и взобралась на него сверху, как всадница, наслаждающаяся своей властью. Короткая прическа не мешала ему видеть сияющую раскинутую гриву над собой. Оба постанывали в медленной, потом все более ускорявшейся скачке. — А ты говорил, — повторила женщина, удовлетворенно облизнув пересохшие губы. Упала с ним рядом, как была, ничком и сразу заснула, посапывая.
А Иннокентий продолжал лежать на спине, ошеломленный возвращением возлюбленной, все еще не веря в нежданное счастье. Как она тебя не увидела? — в молчаливом восхищении шевелил он губами. Спрячься получше, тревожился он уже во сне, чтобы тебя никто не увидел. Мы останемся здесь с тобой, я отсюда никуда не уеду, беспокоился он, не зная, как пересилить, перекричать нарастающее непонятно откуда тарахтение.
Он проснулся уже засветло. Шум разрушительного механизма наполнял воздух, прозрачно-белый от известковой пыли, она оседала на предметы, делая их гипсовыми. Вероника, еще не одетая, поставила стул на стол, сама забралась на эту шаткую пирамиду. В одной руке у нее была щетка на длинной ручке, в другой клетка с открытой дверцей. Застигнутое врасплох облако трепыхалось, пробуя увернуться. Не надо, зачем ты так, — услышал явственно Иннокентий. — Что ты с собой делаешь? — С собой? — усмехалась Вероника. Ты хочешь меня учить морали? Нравится парить на облаке? А ты спустись, может, станешь кое что понимать. — Не надо, жалобно просила женщина с облака. — Я ему нужна. Он без меня не сможет. Он с ума без меня сойдет. — Без тебя? Которую сам выдумывает?
Иннокентий оцепенел, словно лишившись голоса. Его возлюбленная забилась в дальний угол. Вероника с трудом дотянулась, слегка придавила облако, потом зацепила все-таки щеткой, поволокла по пятнистому потолку, подгоняя к клетке. В потолке обозначалась извилистая волосяная трещина. Облако по-птичьему верещало, увертывалось уже почти у дверцы, застряло там между ребрами клетки — и вдруг стало разрушаться.
Затверделый в падении обломок упал на кровать к Иннокентию. Белая гипсовая нога бугрилась узлами выпуклых варикозных вен. Дом сотрясался от приближения урчащего за стеной механизма, он уже начинал распадаться сам, не дожидаясь удара. Трещина в потолке расширялась, медленным зигзагом перечеркнула стену, расколола надвое затылок.
13
Центр пробуждения способностей, как официально стал именоваться Институт Гавриила, еще до начала своей работы был окружен слухами и легендами. Достоверно про него никто ничего не знал. Здание бывшего санатория вместе со старым запущенным парком окружала теперь высокая ограда из белого кирпича, охранники на проходной носили цивильную форму, даже с галстуками, но их упитанные физиономии никак нельзя было назвать интеллигентными. Увидеть поверх ограды можно было лишь верхушку растущей круглой башни с мелкими окошками иллюминаторами; их расположение позволяло предположить внутри довольно крутую винтовую лестницу. Сама башня все еще ощетинивалась строительными лесами, о ее окончательной высоте можно было только гадать. Говори ли, будто она предназначалась для медитаций и общения с космосом. В областной газете как раз в ту пору появилась публикация популярного экстрасенса, док тора технических наук, обнаружившего в здешних местах пока еще не объясненную энергетическую аномалию, делавшую их особенно открытыми влиянию не земных сил. В подтверждение приводились случаи по явления загадочных следов и неопознанных объектов — но этого добра, по справедливости сказать, в других местах тоже было достаточно.
Можно также упомянуть толки о громадном параболическом зеркале, которое будто бы предполагалось использовать для коллективных медитаций. Когда не сколько человек, держась за руки, посылали в него, сосредоточась, общую мысль, должен был возникнуть эффект, позволявший решать задачи, непосильные для каждого в отдельности, а в некоторых случаях да же предсказывать будущее. Из каких-то источников стало известно, что в Центре собирались установить конструкцию знаменитого японского модерниста, о которой незадолго перед тем рассказывали по телевидению. Лазерное устройство создавало подвижные голографические эффекты, которые пробуждали в зрителе ощущение Вселенной, приближали его, так сказать, к тайне мироздания — больше, чем традиционное созерцание Фудзиямы или звездного неба.
Особое любопытство вызывали, естественно, слухи о намерении использовать в практике Центра секс, который, как всем хорошо было известно, стимулировал разнообразные способности (или, выражаясь более научно, внутреннюю энергетику). Толковали о сеансах коллективного секса, даже о применении еще не известных, но уже почти разрешенных наркотиков.
Все это были, однако, не более чем разговоры. Желающих пробудить в себе незаурядные способности появилось, как и следовало ожидать, немало, но попасть в Центр было не просто. Многочисленным графоманам, разнообразным любителям-экстрасенсам, уникумам, умевшим двигать взглядом предметы или притягивать к своему телу металлическую посуду, на предварительном собеседовании вежливо предлагалось подождать очереди и сначала подумать. Принятые в него должны были уйти от обычной жизни и остаться внутри стен надолго, составив общину вроде религиозной или, если угодно, эзотерической. Кто-то из обиженных начинал, естественно, про Гавриила злословить. Получили хождение разговоры, что этот сомнительный делец наживался, привлекая в свой Центр исключительно богатых клиентов, искателей эзотерических впечатлений, присваивал их имущество, вынуждал продавать дома в пользу будущей общины. Утверждали, что само строительство здесь он затеял в кредит, за который не собирался расплачиваться, как и за многие приобретения, вообще был фиктивной, может быть, подставной фигурой.
Всерьез его, однако, никто ни в чем уличить не мог, да почему-то и не особенно старались. Подлинность каждого из четырех дипломов, включая медицинский, была, говорят, удостоверена. Впрочем, какое значение в наше время имеют дипломы? Недостоверные, даже злоязычные толки можно было считать способом интригующей хитроумной рекламы. Лично Гавриил публичности избегал, никаких интервью не давал, журналисты на территорию не допускались. Такая закрытость заведения наводила иных на мысль, не является ли оно проектом известных органов, с которыми, по старой памяти, лучше было не связываться?
Как бы там ни было, этому скользкому проходимцу следовало воздать должное. Когда он однажды исчезнет, лопнув, точно мыльный пузырь, предупреждал в не опубликованном сочинении один местный литератор, даже его следов не удастся найти.
14
Это, кстати, был тот самый литератор, что заинтересовал когда-то Гавриила философствованиями об особенностях провинциальной гениальности. В том же своем сочинении автор уверял, что сама идея Института экспериментальной гениальности была заимствована у него, Гавриил просто переиначил название. Оказавшись проездом в их городке, писал автор, тот даже пробовал выманить у него рукописи, соблазняя обещанием тотчас издать их. Литератор, человек уже в летах, при этом ни разу в жизни еще не печатавшийся, от соблазна сумел все-таки отказаться, как отказался потом и от предложения поселиться в этом самом новоназванном Центре, где смог бы жить, по словам Гавриила, не заботясь о пропитании, как в каком-нибудь столичном доме творчества. Невозможно было отделаться от чувства, писал автор, что тебя хотят для чего-то использовать. Может, чтобы ты написал рекламную хвалу благодетелю? — примеривал он догадки. Более правдоподобной показалась ему поздней мысль, что осторожность помогла ему действительно избежать опасности — он мог бы сам стать одним из пациентов опытного заведения и, глядишь, остаться там навсегда, пока его сочинения, в ценности которых он не мог сомневаться, начали бы выходить под чужим именем.
Следует тут сделать, конечно, скидку на литераторское воображение, а еще более на закомплексованность самолюбивого недоверчивого провинциала. Все это было, однако, лишь предисловием к рассказу о, может быть, гениальном, оставшимся никому не известным художнике, на работах которого сумел нажиться не распознанный вовремя прохиндей. Самого худож ника автор, как можно понять, лично не знал, рассказ о нем основывался на тех же разговорах, слухах и версиях. Писалось в нем, среди прочего, и о том, что картины, которых почти никто, включая автора, не успел даже увидеть, Гавриил будто бы за большие деньги продавал иностранцам — с непременным условием в течение какого-то срока их никому не показывать. Более достоверно было известно, что практически все кухонные доски Иннокентия неизвестные лица выкупили у владельцев за смешные деньги, остальные скоро объявлены были подделками. И подделки, между прочим, действительно множились, среди них, писал автор, были великолепные. Художник никогда своих работ не подписывал — а если бы и подписывал?
По ходу рассказа автор неизменно возвращался к болезненной, видимо, для него теме. Возможен ли вообще в наше время неизвестный гений? — размышлял он. Приятно бы, конечно, считать гением себя, потому что тебя не печатают, усмехался он (и нельзя было не отдать должное его способности к самоиронии). Идеология у нас уже не душит, можно что угодно показать, напечатать, хотя бы за свой счет. Дальше начинается тема успеха, бизнеса. И хотелось бы, как в романтические времена, продать душу дьяволу, лишь бы обеспечить себе несомненную, подтвержденную гениальность, так ведь и дьявола не найдешь. Не принимать же за него заурядного спекулянта.
Как я был бы, однако, счастлив, восклицал далее автор, если бы это скромное сочинение про живописца, картин которого никто не видел, позволило каждому хоть на миг, хоть отчасти воссоздать их в своем воображении, увидеть рожденный в его душе уязвимый, непрочный, прекрасный мир — и ощутить несравненное обаяние простой, провинциальной, исчезающей жизни. Мы все почему-то считаем значительным, продолжал он, лишь непреходящее, монументальное, вечное. А может, значительней всего именно это — обреченное, трепетное, живое. Надо лишь сравняться с тем, кто осчастливлен был даром видеть, чтобы благодаря ему причаститься к этой способности. Так причащаешься к гениальности в мгновения любви, писал автор (не без высокопарности, увы, присущей провинциалам), так гениальны бывают сны. Жизнь стала бы невыносимой без этой равносильной чуду возможности.
В Центре Гавриила, если верить далее сочинителю, художник продолжал рисовать уже не на бумаге и не на досках, он покрывал картинами целые стены. Те немногие, кто успел эти работы увидеть, с трудом находили потом слова для рассказа о нежных, едва проявленных очертаниях, которые необъяснимо сгущались из полупрозрачных переливов. Увы, после некачественного, как это теперь обычно бывает, ремонта краска скоро стала со стен облезать, осыпаться вместе со штукатуркой. На стенах вместо прежних образов сами собой начали возникать картины распада, разрушения, о которых художник не помышлял, и картины эти производили, по свидетельствам некоторых, впечатление ошеломляющее. На них невозможно было просто смотреть долгое время, возбужденно повествовал автор. Зритель поневоле втягивался в них и оказывался внутри пугающего мира, где никого, кроме него, не было, где части не связывались друг с другом, где терялось представление о верхе и низе. Этот мир был лишен постоянных координат. Земля уходила из-под ног, голова начинала идти кругом. Ненадолго возникал старый дом и тут же уходил в развороченную землю, сквозь него прорастали растительные формы. В разных сюжетах без видимой связи возникали фрагменты разрушенного города, обломки предметов, осколки посуды, обесформленная детская коляска свисала с покореженных металлических конструкций, и конструкции эти не просто срастались — прорастали одна в другую, соединенные ржавчиной навсегда, так, что уже было не определить, чем они были по отдельности. Если зритель вовремя не успевал опомниться, он страдальчески застревал в сгустках, комках, осыпях, в не проходимом месиве золы и грязи.
Надо признать, созданные фантазией сочинителя картины производили изрядное впечатление, следовало воздать должное его изобразительному мастерству, но к Иннокентию они, во всяком случае, отношения не имели. Как и попутные теоретизирования литератора о современной «эстетике разложения», о трагизме гения, для которого лабиринты душевного ада отождествляются с драмой времени.
Зато на Иннокентия весьма был похож возникавший время от времени на страницах рассказа голубоглазый человек с неухоженной бородкой-мочалкой. Проступившая седина делала ее не русой — латунной. Он бродил по пустынным коридорам, заглядывал в одну дверь, другую, словно искал кого-то, всматривался в редких встречных и проходил дальше, не узнавая, с неуверенной виноватой улыбкой. Чего он не мог найти? — задавался вопросом автор. Пропавшие свои картины? А может быть, просто дверь, из которой вышел? Это повторялось снова и снова. Каждый очередной поворот казался ему неожиданным, незнакомым. Случалось, что, заблудившись, художник ложился спать где придется. Не так ли блуждаем все мы, философствовал автор, теряя ориентацию, в лабиринтах бесконечного одиночества, недостоверных воспоминаний, с надеждой однажды очнуться, найти, наконец, выход в мир, который нам однажды привиделся и от которого мы оказывались отгорожены?
15
В то утро Иннокентий проснулся с чувством неясно го ожидания. Все еще спали. Над кроватями, над смутными одеяльными холмами витали облака прозрачных недосмотренных снов. Сумеречный свет проникал в помещение не из окна — он исходил от большой картины, которая пока неотчетливо проявлялась среди облупленной краски и пятен на штукатурке. Стволы могучих лип растворены были в тумане, листва наверху была его пятнистыми сгустками. Захотелось приблизить, сделать отчетливей выпуклую бугристость коры. Он спустил ноги с кровати, еще в полудреме сделал несколько шагов, ощутил пятками прохладную сырость свежевымытого линолеума или глинистой, еще росистой дорожки. До него не сразу дошло, что он отправился в путь босой. Твердая шероховатость ствола под рукой была несомненной. На стволе проявилась почти слившаяся с ним бабочка, она спала, сомкнув над собой еще ночные темные крылья. Иннокентий не мог уверенно назвать место, по которому шел, но все ясней было чувство тревожного и радостного узнавания. Он несомненно видел его когда-то во сне, а наяву не раз томился, не мог вспомнить. Казалось, исчезло навсегда, безвозвратно — и вот, оказывается, продолжало где-то существовать.
Босые пятки узнавали прикосновение травы, пробившейся сквозь утоптанный песок. Знакома была уличная колонка, испарина росы на чугунной верхушке. Иннокентий подумал, что еще совсем рано, никто не может ему сейчас здесь встретиться, кроме мамы с ведрами — и тут же узнал калитку, обвисшую на последней ржавой петле, умывальник у крыльца, столик под вишней. В непросохшей прозрачной лужице на клеенке чернела утонувшая муха. На грязной вате между оконных рам еще лежал потускневший елочный шар, и он по качал головой: почему не убрали вторую раму, ведь уже, кажется, не зима?
Из двери дохнуло кислым запахом обугленных, залитых водой балок. Лохмотья черной неряшливой паутины свисали с потолочных углов. У печки на корточках замер отец. Красные отсветы из открытой дверцы молодили его лицо, разглаживали кожу. Он повернулся, поднял на Иннокентия взгляд. Глаза слезились, должно быть, от дыма. Дряблая кожа лица вновь стала безжизненно серой, под тяжелым носом набухала прозрачная капля. Ты? — проговорил неуверенно. — Значит, вспомнил все-таки. Так сильно изменился. А я?… Что так смотришь, как будто не узнаешь? Изменился? Тревога и в то же время надежда слышались в его голосе. Комок подступил к горлу, не давал сразу ответить. Видишь, — отец достал из нагрудного кармана маленький рентгеновский снимок, посмотрел, повернув к огню, на просвет. Мой зуб. Удалили не помню когда, а как сохранился! Тоже ведь попробуй понять: его уже нет, а тень осталась, как была, может, навечно. Качество! Хотя зачем? Зачем он у меня хранится? — снова поднял на сына недоуменный ожидающий взгляд, и тот, наконец, понял, каких слов ждал от него отец: он искал подтверждения, что еще способен меняться. Человек продолжает меняться, пока жив последний, кто его помнит, он меняется в его памяти, вместе с ней, как меняется только живое, обреченное исчезнуть, быстрее ли, медленней — время и для живых движется с разной скоростью. Ну вот, обрадовался отец подтверждению. А то мать говорит: ты все такой же. Думает меня утешить. У меня ведь еще ногти растут, посмотри, и щетина, правда? — тронул он пальцами щеку и всхлипнул по стариковски жалко, невыносимо. — Вот только сны перестал видеть. Ты еще видишь сны? А я не пойму. Мне если и снится, то бессонница.
Иннокентий увидел, что он уже клюет носом. Надо бы напомнить, чтобы оставил открытой заслонку.
Сплошная бессонница, очнулся снова отец и с недоумением посмотрел на оказавшееся в руках полено. Послед нее, что ли, осталось? Сейчас принесу еще, поспешил сказать Иннокентий. Босые пятки ощущали неровности вздутого пола, между гнилыми половицами зиял черный провал. Куда же ты? — слышал он за спиной голос мамы, она окликала его, с трудом ковыляла из кухни. Подожди! Даже вареников опять не попробовал. Сейчас вернусь, крикнул он, не оборачиваясь, ощущая постыдное облегчение, как в детстве, когда удавалось, набедокурив, вовремя улизнуть, спрятаться. Про заслонку забыл все таки. Ничего нельзя было вернуть, и вернуться было нельзя, только чувствовать себя на всегда виноватым перед родителями.
Ступенька крыльца провалилась. Вместо поленницы за углом оказались груды битого кирпича, доски заброшенного строительства. У незнакомой дорожки оставлено было серое корыто с засохшим цементом. Над горкой сырого песка, возвышаясь, желтел одуванчик. Поляна вокруг была уже белой от отцветших кругляшей — маленьких игрушечных облаков. Глыбы затверделого мусорного бетона, тронутые серо-зеленым лишайником, постепенно становились частью природы. Приходилось глядеть под ноги, чтобы не пораниться, не ступить в лужу слизистых кухонных отбросов; ее густо покрывали, копошась, громадные жирные мухи.
За деревьями зарозовело рассветное небо. Иннокентий поднял взгляд и увидел перед собой покрытое лесами кирпичное строение. Оно уходило высоко вверх и там обрывалось неровными уступами. Он вошел в от крытый черный проем и сразу оказался в колодезном сумраке. Пахло строительной сыростью. Воздух заполняла, как паутина, болезненная тишина. Спираль металлической лестницы поднималась куда то вверх.
Иннокентий поднял взгляд — и словно со дна глубокого круглого колодца увидел над собой круговерть облаков. Пришлось прислониться рукой к стене. Перед ним открывалось то, о чем он всегда мечтал, — возможность подняться наверх.
Кружевные литые ступени были высокими, каждый шаг давался теперь с усилием. Легкость недавнего пробуждения испарилась, тело тяжелело все больше. Поравнявшись с проемом очередного круглого окна, он останавливался, поглядывал наверх, отмечая приближение цели. Зеленый пар курился теперь внизу. В одном месте между нижними оконными кирпичами успела накопиться земля, из нее поднялся нежный росток лебеды, по нему ползла вверх божья коровка. Иннокентий хотел подставить ей палец, чтобы взять наверх вместе с собой, но она, не дожидаясь, выпростала из под лаковых тяжелых надкрыльев прозрачные, настоящие, и взлетела сама, все выше, выше. Иннокентий со чувственно проследил ее полет и продолжил подъем.
Наконец, он оказался на верхней площадке еще не за вершенной стройки. Круглая кирпичная кладка вокруг деревянного помоста оставалась разновысокой, уступчатой, над ней криво торчали в разные стороны ребра строительных лесов. В единственной почти готовой стене оставался открытый проем.
Над деревьями из-за горизонта поднималось, увеличиваясь, большое круглое солнце. Оно заглянуло в проем, засияло все ослепительней, наполняя его. Башня плыла навстречу ему, навстречу ветру и облакам. Воз дух звенел оглушительно. Иннокентий на миг зажмурился, приспосабливая глаза к сиянию.
Перед ним во всю ширь открывалась картина, которую он мысленно рисовал всю жизнь, — последняя, счастливейшая картина. И он шагнул в нее с чувством сбывшегося освобождения.
16
На этой картине был сам Иннокентий, счастливый ловец облаков, во весь рост, в неровной кирпичной раме. Зрителю со спины были видны только его уходящие, исчезающие босые пятки, затылок стал уже совсем прозрачным — просвет, полный бледной утренней синевы. То, что было его телом, на глазах таяло, растворялось. Сквозь него открывался прекрасный сияющий мир — художник переходил в него, чтобы уже не вернуться, как никогда не возвращаются на своих путях облака.
Знакомая улица плыла среди них. Вишневый цвет прохладно розовел в рассветных лучах. Печной дым отделялся от трубы, плыл над крышами, унося с собой внутреннее тепло дома, запах праздничных, еще не подрумянившихся пирожков. Взбитые сладкие белки набухали в воздушной миске под легким маминым веничком. Пирамида пухлых подушек неслась по ветру трехъярусными фрегатными парусами. От слегка подсиненных наволочек исходила прохлада и свежесть детства, полотно прострочено было на маминой швейной машинке следами невидимой мышки. Она только что пробежала по белизне, что-то с собой унося — Иннокентий узнал в дальнем облаке очертания молочного зуба, который он когда-то бросил под печку, приговаривая, как учила мама: «Мышка-мышка, вот тебе лубяной, дай мне костяной». Мама и отец смотрели от калитки, запрокинув навеки головы и прикрывая от солнца глаза ладонями. Растрепанный свет запутался в волосах хохочущей девушки, она взлетала на качелях все выше и выше, в край кипенно-белых холмов и долин, небесных хребтов и потоков. Увидевший их растворялся в этом сиянии, чтобы остаться в нем уже навсегда.




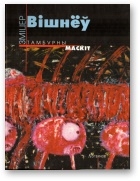
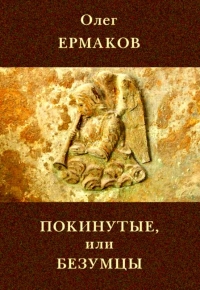

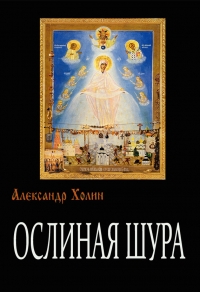



Комментарии к книге «Ловец облаков», Марк Сергеевич Харитонов
Всего 0 комментариев