Татьяна Чекасина День рождения. Шесть новелл и одна история
Об авторе
Биография – это материал писателя, от богатства которого зависит богатство его творчества. Я предпочитаю на эту тему не распространяться. В моих произведениях и так видно не вооружённым глазом, что написать то, что в них написано, невозможно без основы, которой и является сама жизнь. Но есть публичные факты. Например, я являюсь автором оригинальной концепции преподавания писательского мастерства. Изложение этой концепции имеется в докладе, прочитанном мной на конференции по экспериментальной драматургии, прошедшей в Киеве в 1994 году, где были представители нескольких стран, в том числе филологи из США. Нашу страну представляли преподаватели Литературного института имени Горького. Или такой факт: в 2009 году, когда я работала в аппарате Союза писателей России, на конференции, посвящённой итогам писательского года, мною был сделан доклад под названием «Погром в литературе…», который можно легко найти в Интернете.
Что касается моих взглядов на жизнь, то они тоже обнародованы на всех страницах социальных сетей, где я периодически выступаю со своими заметками о политике и о литературе. Особенно меня волнует тема разрушения русской литературы, которое случилось в 90-ые годы, когда писателей повсеместно заменили любителями, их книжки и до сих пор читатель видит всюду вместо книг писателей. Я ничего не имею против любителей, но они не способны заменить профессионалов в писательском деле. Именно разрушение пространства писателей, даже почти их физическое уничтожение, вызвали эффект домино: обрушилась культура. Писателей уничтожили под видом борьбы с «советской идеологией». Но это именно тот случай, когда «свято место пусто не бывает». На смену пришла тоже идеология, которая агрессивно господствует у нас в стране и по сей день. Это идеология стяжательства и разрушения.
Только возрождение современной русской традиционной литературы, признание её гуманитарной созидательной роли и помощь ей на государственном уровне способны остановить процесс нравственного падения общества, который, к сожалению, продолжается и теперь.Татьяна Чекасина
Лауреат медали «За вклад в русскую литературу»
Член Союза писателей России с 1990 г.
(Московская писательская организация)Предисловие
Татьяна Чекасина – традиционный писатель. Не в значении «реакционный», «застойный» или «советский». Здесь речь идёт не о каких-то политических взглядах, а о взглядах на искусство: что считать таковым, а что – нет. Слова «традиционное» и «нетрадиционное» по отношению к искусству появились вместе с так называемой «нетрадиционной эстетикой». Тогда и произошла подмена понятий. Стали называть «эстетикой» то, что ею не является (помойки, матерщину, всяческие извращения).
Этим занялась некая «новая писательская волна». Представители этой «волны» так назвали сами себя. Объявили: будут «делать искусство» в литературе, не базируясь на эстетике.
Но в литературе такого быть не может по определению. Это же созидательная сфера, сродни фундаментальной науке, но даже ещё более традиционная, так как речь идёт не о законах физики, а о человеческой душе. Она не изменилась со времён Аристотеля, труд которого «Эстетика» до сих пор является одной из основ литературного искусства.
Отменить эти законы, по которым живёт искусство литературы уже века, – одно и то же, что отменить электричество и вместо лампочек начать жить снова при свечах, но объявить это прогрессом. Для искусства литературы таким электричеством является открытая раньше электричества система координат духовных ценностей.
Все слышали слова: вера, надежда, любовь, истина, красота. Но не все понимают, что без соблюдения этих параметров создать что-либо в области искусства литературы просто нереально. Как только человечество получило соответствующие знания, так и стали появляться произведения искусства в области литературы. Это – фундамент, без которого любая постройка рухнет как искусство. Так что правильней называть не «традиционные», а «настоящие», «истинные» писатели.
Татьяна Чекасина работает именно в той системе координат, о которой было сказано ранее. Традиция автора Татьяны Чекасиной идёт от русских писателей: Льва Толстого, Максима Горького, Михаила Шолохова, Ивана Бунина. Её предшественники среди зарубежных писателей: Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек, Эрих Мария Ремарк, Томас Манн.
Татьяна Чекасина – автор шестнадцати книг прозы.
«День рождения» (рассказы).
«Чистый бор» (повесть).
«Пружина» (повесть и рассказы).
«Предшественник» (роман).
«День рождения» (одна история и шесть новелл).
«Обманщица» (один маленький роман и одна история).
«Облучение» (маленький роман).
«Валька Родынцева» (Медицинская история).
«Ничья» (две истории).
Маленький парашютист» (новеллы).
«Маня, Манечка, не плачь!» (две истории).
«Спасатель» (рассказы).
Кроме этих книг выпущено четыре книги романа «Канатоходцы»: Книга первая «Сны»; Книга вторая «Кровь»; Книга третья «Золото»; Книга четвёртая «Тайник». Персонажи этого романа жили при советской власти и поставили себе цель её свергнуть. Для осуществления своих очень серьёзных амбиций они пошли очень далеко. У персонажей были прототипы. В основу легло громкое дело тех лет. Этот роман пока не издан целиком, впереди его продолжение: выход ещё восьми книг. Это произведение поражает масштабом, не только огромным объёмом текста и огромным охватом огромного пространства жизни нашей страны, но и мастерством исполнения. Практически не было ещё создано в мире удачных по форме больших произведений. Здесь мы сможем восхититься не только содержанием, но и отточенностью форм, что уже со всей силой проявилось в первых четырёх книгах. Тут хотелось бы заметить, что творчество настоящих писателей, как правило, ретроспективно. Лев Толстой написал «Войну и мир» намного позже, чем свершились те события, о которых он писал. Писателю свойственно смотреть на прошлое как бы с высоты времени.
Произведения Татьяны Чекасиной вошли в сборники лучшей отечественной прозы и заслуженно заняли своё место рядом с произведениями таких выдающихся писателей нашей современности как Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Казаков и других. Повесть «Пружина» признана в одном ряду с произведениями Василия Шукшина, Мельникова-Печёрского, Бажова и Астафьева по широчайшему использованию народных говоров, этого золотого фонда великого русского языка.
Почти все новеллы Татьяны Чекасиной выдержали много переизданий. Почти все они были прочитаны по радио и много раз были прочитаны перед благодарной читательской аудиторией, вызывая в ней смех и слёзы, заставляя задуматься о себе и о других. Но и другие произведения написаны так, словно они прожиты автором, либо самим писателем, либо очень близкими ему людьми. Это всё написано самой жизнью.
А по форме каждое произведение – отлитый, огранённый кристалл, через который можно увидеть не только душу человека, но и все аспекты бытия. Даже география представлена широко. Ни одно произведение не повторяет обстановку предыдущего, будто автор жил всюду, бывал всюду и знает о людях и о жизни буквально всё. Это и не так уж удивительно, ведь Татьяна Чекасина работает в литературе без малого тридцать лет, не стремясь к поверхностной славе.
В настоящее время Татьяна Чекасина – это настолько активно работающий автор, что практически все опубликованные произведения получили новые авторские редакции. Даже нет смысла читателю обращаться к их старым версиям.
Татьяна Чекасина – это острый социальный писатель. Напомню, что писатель советский и писатель социальный – довольно разные авторы. Например, все великие писатели являются социальными писателями. Но среди советских писателей было много графоманов. Куда больше их сейчас среди буржуазных сочинителей, которые никогда не бывают писателями истинными.
Не только глубокой философией бытия проникнуто каждое произведение Татьяны Чекасиной, но и трепетным отношением к жизни людей вокруг. Как у каждого истинного писателя. Её произведения – это хорошая, крепкая, настоящая русская литература.
Сычёва Е.С.
кандидат филологических наук,
преподаватель МГУ им. М.В. ЛомоносоваБаллада с задержанием. Милицейская история
«Не запирайте вашу дверь…»
Булат Окуджава
Дверь оказалась незапертой.
На стук (звонок не работал) вышли соседи-пенсионеры, он и она в одинаково обвислых трико.
– …и никого? – поглядели подозрительно в отворённую квартиру напротив: ковёр, хрусталь, зеркала…
– Я пришла к подруге, – громким голосом стала им объяснять какая-то незнакомая девушка. – Позвонила, никто не отозвался, и вижу – дверь не заперта… Открыта дверь…
– Как её зовут, эту вашу подругу? – спросил следственно пенсионер.
– Женя Горьковая.
– Такую не знаем, впервые слышим, – сказала пенсионерка немного испуганно.
– Раньше тут жили очень порядочные люди, – пенсионер неодобрительно оглядел девицу, явно заметив её заметную одежду.
– Ну, что вы, ха-ха-ха! Я буквально позавчера… Нет, простите, поза-позавчера… Женька! Горьковая! Моя сокурсница… Бывшая…
– Может, вы всё-таки перепутали квартиры? – начал пенсионер, снисходительно оглядев это «чудо в перьях», хотя перьев на ней не было.
– Нас это не касается, – пенсионерка поглядела на мужа так, будто сказала: разве не видишь, что она врёт, и потянула мужа за верхнюю часть трико.
Они ушли к себе в квартиру, а девица скользнула в приоткрытую дверь. Надев одинаковые очки, он и она сели в одинаковые кресла и продолжили смотреть сериал, который их завораживал своей тупостью, убийствами, слезами плохих актрис и заверениями в любви плохих актёров. В советское время, когда эти пенсионеры были молоды, таких глупостей по телевизору не показывали, стремясь поднять их уровень развития, чего не удалось, и этот уровень пошёл ещё вниз со всей этой перестройкой. Последние слёзы и выстрелы затихли, и появилось милицейское лицо с криминальной хроникой. По словам капитана милиции участились квартирные кражи. Оба телезрителя повернули друг к другу сонные лица:
– Слышала? – спросил он.
Она разразилась тирадой, так как вспомнила, что хотела кое о чём рассказать ещё после булочной, где встретила соседку, но из-за склероза (лекарства и от меньших болезней купить не на что) забыла:
– Вот что мне рассказала соседка с первого этажа: в нашем микрорайоне ходит по подъездам миловидная девушка. Вид такой, будто идёт к кому-то в гости: маленькая сумочка (а в ней-то – фомка!), коробка из-под торта (в неё напиханы пустые пакеты, их она набивает украденным в квартире добром!) Когда эта воровка уже на улицу выскакивает, то вид у неё совсем другой, будто ей надо на вокзал и даже просит иногда какого-нибудь мужчину дотащить сумки до такси.
– Откуда эта бабка знает такие подробности, она что, в милиции работает? – не очень-то поверил пенсионер.
– Не она, сын у неё работает в милиции!
Оба покосились на телефон старого образца, стоявший на специальном столике. После звонка в милицию представители закона явились довольно оперативно: отделение неподалёку. Пенсионеры поднялись с кресел, забыв про общий для обоих радикулит, и, отталкивая друг друга, устремились занять вакантное место у дверного глазка. Что касается слышимости, то через их старенькую дверь было слышно, о чём говорили на лестничной клетке:
– Пройдёмте, уважаемая… Пройдёмте, я вам говорю…
– …но Женя Горьковая! Она же скоро придёт…
– Пройдёмте!
– …а квартира?
– Это не ваша забота, квартиру мы опечатаем.
Суета у дверей, кружевной рукав махнул прямо в глазок.
– Дай и мне посмотреть, – умоляла жена мужа, который победил в схватке у глазка.
Но тут уже раздались шаги на лестнице, и оба, не сговариваясь, ринулись к кухонному окну. Подоконник уставлен банками, но всё увидели бдительные граждане. На подъездную дорожку вышли два милиционера. Один был в штатском, он шёл впереди и нёс гитару. За ним подскакивала на высоченных каблуках задержанная, а за ней шёл плечистый в форме. Вскоре все трое скрылись за углом дома и, к сожалению, наблюдать было больше нечего.
– «Моя милиция меня бережёт», – засмеялась девушка напряжённо.
Её спутники промолчали. Шли они гуськом: впереди узкоплечий угрюмый милиционер в штатском (он нёс гитару). Позади – широкоплечий в форме при погонах. Дождь усилился, забарабанил по гитаре.
– Несите, пожалуйста, струнами вниз! – попросила девица с высокомерной интонацией.
Так показалось милиционеру в штатском, и он быстро перевернул гитару, даже слишком быстро. Но вскоре пришли. Типовое здание милиции, на площадке перед ним автомобили тоже типового назначения. Вошли в райотдел. Тут было оживлённо. Деловито сновали сотрудники, кто-то (явно не сотрудник) пьяно рыдал за дверью. Какая-то женщина взвизгнула, хохоча, мужской голос побожился: «Век воли не видать, гражданин начальник».
Вошли в кабинет.
– Спасибо, Влас, – сказал милиционер в штатском милиционеру в мундире и пристроил гитару между собой и сейфом у большого начальственного стола.
Влас вышел, оглядев девицу с сожалением уходящего.
Стол был пуст, как ночная железнодорожная платформа, но из его ящика хозяин достал авторучку и бумагу, разлинованную и озаглавленную словом «Объяснительная».
– Пишите: кто вы, где работаете или учитесь. Где проживаете. Цель посещения дома номер двадцать три квартиры триста восемьдесят восемь по переулку Рабочих.
– Это столь необходимо? – спросила задержанная, положив ногу на ногу и откинувшись удобно на неудобном стуле.
– Столь необходимо, – повторил он быстро, самому не понравилось. – Садитесь вон за тот столик в углу.
Кроме начальственного, тут имелся ещё один стол, похожий на парту недоразвитого ученика: весь в кляксах, захватан по краям.
– Можно, я буду писать на коленях, дайте подложить какую-нибудь книгу. Извините, как вас зовут?
Он понял, что дал промашку: не представился первым, и то, что эта девка ему об этом напомнила, оказавшись вежливей его, представителя закона, немного покоробило, а потому ответил слишком напористо:
– Клековкин Виктор Викторович.
Влас вернулся. Сел поодаль, засмотревшись. Посмотреть было на что. Одета она в какое-то пончо (юбка под ним еле угадывается), чулки ажурные, туфли мелкие (совсем не по погоде) с большими, по виду серебряными лирами вместо пряжек.
– Лейтенант, взгляни-ка на гитару, – прервал его наблюдение Клековкин, – дорогая? – передал гитару через себя и через стол.
Влас взял гитару бережно (её хозяйка сразу поняла, что этот не понёс бы инструмент под дождём струнами вверх), покрутил в руках…
– Думаю, что да. Но можно уточнить.
– Значит, скорей всего, дорогая? – с надеждой переспросил Клековкин.
– Скорей всего, – Влас продолжал рассматривать инструмент, струны тронул пальцами, и гитара ответила не просто бренчанием, аккордом… – Тут нацарапаны на деке буквы…
– Мои инициалы! – девица следила за его действиями одобрительно.
– Всё равно, надо проверить, может быть, вы в той квартире гитару взяли и там же нацарапали свои инициалы, – предположил Клековкин.
– Ха-ха-ха! – она рассмеялась.
Лейтенант Влас поглядел на неё тоже довольно весело.
– Вот за столик не хочет садиться: говорит – грязный, – будто пожаловался Клековкин и усмехнулся, мол, стол-то в порядке, а вот девица гнёт из себя невесть что. Но все гнут до определённого момента.
Влас сказал:
– Такую посетительницу (он нарочно назвал её так, будто она никакая не задержанная) я бы за свой пустил. Вы, Виктор Викторович, разрешили бы…
– Ладно, садитесь сбоку моего стола, – согласился Клековкин.
Он иногда соглашался с этим Власом Потёмкиным, так как робел перед красивыми и физически сильными людьми. К тому же, этот считал себя умным и цивилизованным, окончил в этом году юридический институт. Какие нынче институты, Клековкин знает, сам туда и не пытался. Сам он довольно давно школу милиции одолел. Он уже дослужился до капитанской следовательской должности. Специалист по розыску квартирных воров. Таковой, он считал, вполне может быть и задержанная, по описанию похожа она на воровку-тихушку [1] , шныряющую в этом микрорайоне.
Лейтенант ушёл и унёс с собой гитару.
Пока девица писала объяснительную, Виктор Викторович подошёл к форточке, возле которой привык быстро и тайно от начальства, этого не одобрявшего, покуривать. Из тёмного стекла на него посмотрело отражение. Лицо небольшое, глаза посажены вразнотык. Иногда они стремительно и жутковато для собеседника сбегаются к переносью, и это, как правило, сбивает с толку допрашиваемых. Следователь и не должен быть красавчиком, – считает Клековкин. Этот Влас Потёмкин не в счёт, ещё полные потёмки, – выйдет ли из него настоящий следователь. Красавчики, это, как правило, сутенёры.
С этой категорией преступников хорошо знаком Клековкин, они зачастую бывают наводчиками при квартирных кражах. Есть такой, например, кликуха Штырь. Другое дело он, следователь Виктор Викторович… Он росточком невелик, плечи узки, бёдра широковаты. Заметно, чёрт бы побрал, даже в мундире с погонами! Но это не так угнетает Виктора Викторовича. Мужские принадлежности недоразвиты – вот беда! В результате он всех баб считает кобылами, ну, а воровок, само собой, терпеть не может по долгу службы. И тут – держись! Он не какой-то растяпа, доверяющий подозреваемым. В райотделе некоторые считают, что Клековкин излишне бдителен, но Виктор Викторович уверен: «излишней» бдительности нет! В этом мире столько краж! А от кражи до убийства один шаг. Часто так и бывает: начнётся расследование с кражи, а там вскоре и труп…
– Пожалуйста, – листок, исписанный изящным почерком, небрежно перелетает с края на середину начальственного стола.
Клековкин степенно усаживается в своё кресло. Любит самые первые объяснения до этого мига незнакомых людей. Процесс напоминает радостную встречу фотографа с только что проявившимся на мокрой бумаге снимком.
– Так-так-так, – приговаривает он тонким голоском, стараясь его занижать искусственно, мол, написано-то оно, может, и так, но вот как оно на самом-то деле… – Поднял трубку телефона: – Сергеев, проверь-ка данные… – И «данные» диктуются Сергееву. – Вот вы пишете: «Нигде не учусь, нигде не служу». На чьём иждивении находитесь?
– Я получила наследство.
– В объяснительной укажите фамилию, имя, отчество того, кто вам оставил наследство. И сумму.
– Пожалуйста. Полякова Анастасия Васильевна. Это моя бабушка… Умерла в мае. Десять тысяч долларов…
– И с мая…
– С мая не учусь в институте.
– И нигде не работаете…
– Я работаю.
– Где?
– Дома.
– Надомницей? Укажите, каким ремеслом занимаетесь: если вяжете из ниток или плетёте корзинки, или…
– …или веники, – засмеялась девушка.
Смех у неё был, на слух Клековкина, отвратительный. Язвительным и гордым.
– Я – творческий человек, свободный художник, – пояснила задержанная безо всякой уверенности, что тут её поймут.
– А-а! – краткое понимающее вырвалось у Клековкина. Взгляд стрельнул по выпростанным из кружев накидки нежным ручкам.
Вот его мать до пенсии знай мыла полы в заводоуправлении «Электрокабеля»! Сестра и теперь там же спину гнёт (зрение минус пять!) Недёшево, чёрт возьми, ей достаются эти провода-проводочки! Или взять его, Витьку. С шестнадцати лет пластался сверловщиком на «ящике номер сорок два», потом армия: деревянная продуваемая ветрами вышка, автомат до онемения в пальцах, мороз, тундра, зэки… Лишения и борьба.
Вот как люди-то живут! Клековкин ощутил во всём поведении этой девицы нечто цепляющее. Ещё когда шли в райотдел и она попросила гитару нести струнами вниз… И тогда в её необычном громком голосе уже проклюнулось какое-то выдрючивание. Ему ли не знать этих, в сетчатых чулках! Но, всё-таки, у него не было полной уверенности, что перед ним шмара, совмещающая профессию с домушницей. Не было уверенности, что она и есть его контингент. Даже непонятно: вдруг, она не проститутка? С ними он любил… Ишь, свободная она художница! Знаем мы эти художества! Ишь, воображает! Будто она у себя в особняке, где он дворник распоследний!
– Кем же была ваша бабушка? – спросил.
– Профессором…
– Вот видите! А вы… институт бросили! – Девка молоденькая, он ведь её старше лет на пятнадцать, может и повоспитывать. А, если она проститутка…
– Я не хочу быть инженером.
– Ах, да, творчество, я и забыл. Что ж это за творчество?
– Сочиняю стихи и музыку, декламирую под гитару.
Ноги у неё… Глаза сфокусировались. Он сказал себе, что надо держаться, что ему сейчас почему-то трудно, но он должен держаться. Спокойствие – главное в следовательской работе. Спокойствие и злость. Ненависть к подозреваемым. В райотделе номер тринадцать вдруг сделалось совсем тихо, будто он превратился в такое помещение, где ночью устали и спят. Вошёл Влас. Гитару держал перед собой привычно, будто и раньше имел дело с этим инструментом. На стол Клековкина легла бумага, прочтя которую, тот нахмурился.
– Лады, – гитару опять втиснул между собой и сейфом.
Лейтенант не спешил уходить. Экспертиза подтвердила: инициалы на деке нацарапаны давно, стало быть, гитара, скорей всего, принадлежит девушке. Сегодня рейд провели по ресторанам: такой визг стоял в райотделе… Эту что-то мешало определить в знакомый разряд.
– Говорит: творческая личность, наследство получила, сидит дома, не работает…
– Я работаю, – повторила девушка, с приходом Власа почувствовавшая какую-то неявную, но поддержку. – Я могу доказать, Виктор Викторович. Разрешите, я спою вам и сыграю.
Клековкин впал в лёгкий ступор: как это разрешить! Какие ещё песни разрешить! Но тут вошёл майор, начальник, увидел гитару:
– Что, музыканты пошли? – почему-то сказал, сегодня добрый, видно, от начальства получил какое-то поощрение.
– Пожалуйста, позвольте, – быстро разобралась в субординации присутствующих и в настроении главного милиционера Полякова. – Я покажу свою работу, для следствия, для дела…
– Ну, если «для дела», – расщедрился начальник.
– Моё сценическое имя Мага Полякова, – властный жест в сторону гитары. Получив её, оглядела, приложила к уху, подтянула на колках струны, послушала, будто спросив, не обидели ли тебя здесь?
Тут заглянул ещё один милиционер по фамилии Сергеев, который по просьбе Клековкина проверял личность этой девушки, ответ на запрос он положил на начальственный стол, а сам тоже не ушёл. Все они будто изготовились для концерта.
– Про осень, – объявила исполнительница, нисколько не стесняясь, будто перед ней была привычная публика. Гитарный звон, тихий, грустный, вкрадчивый. На песню не похоже, но складно.
За окном ветер
перелистывает пёструю дорогу,
в окно рвётся.
Я не хочу уходить в осень.
Пусть все уходят,
я в лете хочу остаться.
Жаль, что тёплых дней не вернуть…
Гитара повторила за голосом невесело, но и не тоскливо. Голос вступил, был он таким сильным, что, кажется, стены милиции рухнули, и все они оказались прямо на осенней мостовой под осенним дождиком и полетели за листьями потому, что научились летать. Гитара вздохнула, и певица вздохнула, хотя эти вздохи не были вздохами, они были музыкой:
Ну, что ж… Я пойду тихим городом осени.
Мне никто не сделает больно,
потому что для всех я придумала одну
Добрую-добрую песню.
Гитара поиграла ещё и смолкла. Но зазвенела вновь, так как исполнительница немного суетилась, спешила: боялась, что прервут. Не прервали. И она объявила вновь:
– Про яблоню
Громадный куст яблони, именно куст,
потому, что яблоня низкая и широкая.
Ветки её опираются о забор.
Весной цвела эта яблоня таким
Белопенным парашютом,
что сараев и помойки не было видно,
одна яблоня. Воздушная,
будто из мыльных пузырей.
Гитара заиграла марш. Выбив марш, смолкла. Вступил голос, тихий, но не жалобный, скорее, жёсткий, но не грубый:
Но ты не видишь яблоню.
Ты видишь мусорный ящик.
Ты рационалист.
Ты думаешь: опять не увозят мусор.
Ты ждёшь машину,
она придёт и увезёт отбросы…
Гитара печально вздохнула, но запела празднично и голос запел также:
А яблоня…
Она по-прежнему хорошеет в углу…
– С отбросами тоже надо кому-то возиться, – вздохнул седовласый майор.
Его подчинённые одобрительно засмеялись. Но в их смехе, как и в его словах, не было ничего плохого, и девушка улыбнулась артистически:
– Этот цикл я посвятила Сэй-Сёнагон.
Милиционеры не спросили, кто такой (такая), и Полякова охотно сама объяснила, что это древняя писательница, книжка которой очень близка ей по мироощущению. Она сама тоже живёт в согласии с природой, радуясь каждому мигу жизни, который всякий раз делает попытки останавливать.
– Можно, я спою ещё одну балладу?
– Валяйте, девушка, – сохранил милость майор.
– Про шишки. – Опять зазвучала гитара. Играла Полякова умело. Её осторожные пальцы добывали из инструмента ту музыку, которую она хотела. Она не всё время смотрела на струны, иногда взглядывала поверх них.
Милиционеру Власу, вдруг, показалось, что она смотрит прямо на него, но каким-то несколько неожиданным для него взглядом. Не то его удивило, что она на него посмотрела (на него ещё как смотрели!), а то, что в этом взгляде не было ничего привычного. Ни кокетства, ни заигрывания. Она смотрела так, точно не замечала ни его лица, ни его стати, а будто смотрела куда-то в него, обращаясь к чему-то запрятанному в нём, к тому, кто был в нём, о ком он сам, кажется, не знал, но догадывался.Ты жевал когда-нибудь шишки?
Шишки обыкновенные с ёлок?
Вопрос был задан, но отвечать на него, конечно, было глупо, да и не требовалось ответа. Музыка играла, и звучала она тревожно, немного надсадно, будто гитаре было больно.
…Больно было стоять
и смотреть тебе вслед.
Ещё больней было бы
бежать за тобой и догнать.
Ты шёл уверенным и горьким шагом!..
Коричневый плащ
развевался на ветру за спиной,
как флибустьерский парус.
Это так модно!
Все ходят в коричневых плащах!
Музыка разразилась гневом, протестом, но обрела нежность, сделавшись тише…
Но в том, что ты уходил,
была такая горечь!
Ведь это у нас была гроза в лесу,
поваленные ёлки и много клейких шишек.
Запах от них сладкий, срывать нелегко:
пальцы слипались, а под ногами
– сорванные грозой провода.
Между проводами прыгали
и много шишек нарвали,
и пробовали их есть.
«Бойтесь электричества,
– кричали взрослые с дачи, —
вас дёрнет током от столба и убьёт».
Прозвучал отрывистый музыкальный интервал, форте, фортиссимо! А после – спокойно, грустно:
Мне показалось, что я опять
разжевала свежую шишку (а ты уходил!),
и зубы склеиваются,
и запах во рту зелёный-зелёный…
Куда ж ты уходишь?
Ведь это с тобой мы сидели
на поваленной ёлке…
Ну, почему я тогда не ступила
На оголённые провода…
Гитара смолкла. Голос смолк. Оказалось, что в райотделе номер тринадцать, да и во всём этом отдалённом районе огромного города, самая настоящая глубокая ночь. С диким визгом тормозов влетела во двор патрульная машина. Майор поднялся, сказал:
– Добре, ребята, – и пошёл на выход.
Сергеев последовал его примеру.
…А Влас этот, молодой плечистый Влас, пошёл на выход неуверенно, потому что вспомнил, как отец сломал гитару, разбил о косяк, чтоб сын не отвлекался от учёбы в школе (девятый класс), не лоботрясничал, изображая из себя Высоцкого и Джона Леннона… Теперь Влас в порядке, и школу окончил, и даже юридический, отец доволен, мама тоже. Конечно, возня в милиции с подследственными достаёт, и тогда хочется собрать старую гитару. Иногда видит во сне её, раздробленную на кусочки (в жизни только дэка отломилась, струны со звоном взвились), и плачет во сне, как по умершему человеку. Однажды проснулся – все щёки мокрые от слёз… Девица нынешняя умела играть, хотя и он мог бы играть теперь не хуже, если бы не перестал. Что касается её как задержанной, то его дело – сторона. А Клековкин, тот в замешательстве. Но «эта задница» всегда в замешательстве, пока не начертает любому гражданину на лбу статью уголовного кодекса. Влас вышел.
…Клековкин всё это время делал вид, что он так, присутствует, потворствуя невольно чудачеству старшего по чину, а на самом деле занят срочной работой, но глаза его, то и дело зорко выпаливали в Полякову, эту исполнительницу баллад.
Она, вроде, ожидала от них другой реакции. Но реакция была такой, более чем сдержанной. Успокоила себя: выслушали, не перебивая, значит, в сущности, оценили. Розовая краска удовольствия растеклась по её смугловатым щекам. Она сидела, немного уставшая от того, что пережила сейчас. Нынче баллада «Про шишки» получилась лучше, чем в общежитии института, где она выступала перед своими недавними однокурсниками.
В милиции снова стало шумно, будто ночь моментально превратилась в какой-то ненормальный день. Кто-то заорал утробно. Сапоги прогремели по коридору, звеня подковами. Голос воскликнул задавленно: «А ну, без рук!» И тут же прозвучала затрещина, а после чей-то стон. Несмотря на весь этот шум, здесь было очень немо (так казалось Поляковой), и перед ней сидел полностью немой следователь Клековкин.
Виктор Викторович слышал впервые, чтобы человек наигрывал так на гитаре, при этом выпевая какие-то слова (не песня это, а непонятно что). Но вдруг, вспомнил, что её пение называется, кажется, речитативом, слово, которого он никогда не говорил вслух потому, что, как ему казалось, не знал этого слова, но сейчас оно откуда-то выскочило, его удивив.
Он заметил, что лицо у задержанной было накрашено совсем не так, как у девок. Грим не прибавлял Поляковой женской привлекательности, и, скорее, отталкивал он мужской взгляд. Такой вывод сделал Клековкин случайно.
Он испугался непривычного для себя понимания, излишней широты собственной души, которая ему в этот момент показалась… предательской. Но этот чужой ему Клековкин продолжал-таки подмечать: и одета не так! И чулки узорчатые совсем не так смотрятся под этим бесформенным одеянием, похожим на костюмчик грустного клоуна (материя разрисована белыми и красными яблоками). Виктор Викторович подумал, что он, пожалуй, её отпустит. Вот и патрульная прибыла, могут подбросить задаром. Живёт она недалеко отсюда, но, если на такси, то недёшево, ведь ночь.
– Нельзя ли вызвать такси? – спросила небрежно девица ещё тем особым артистическим голосом, с которого не успела пока перейти на обыденный.
Голос этот уколол Виктора Викторовича. Вернее, суть самой просьбы, в основе которой лежало неведомое ему презрение к только что уважительно припомнившейся оплате за ночное такси. Живут же некоторые, наследство сваливается, чёрт возьми! Не-ет! Так дело не пойдёт! Расслабляться нечего.
– Вы, кажется, сказали, что исполняете свои песенки где-то… Где? В клубе, в концертном зале, в филармонии?
– Нет, я, к сожалению, такой возможности не имею. Я довольствуюсь случайными слушателями. Но меня это не смущает, так как правильно сказано: «Искусство принадлежит народу». Когда я училась, то выступала в институте. Я хочу совершенствоваться и я добьюсь. К тому же, человек искусства радуется уже тому, что живёт искусством, это – «сон золотой». Есть и другой вид сна – «сон разума», и он, конечно, «рождает чудовищ». Плохо, если не уважают первый, а второй господствует во всевозможных видах. Что касается меня, то у меня есть некоторые идеи и мне бы хотелось их реализовать.– Девочек-то «с идеями» полон лагерь под Тагилом! – вырвалось у Виктора Викторовича. Он вспомнил спецколонию для проституток.
– Они что, за идеи сидят? Но ведь, кажется, то время прошло…
– Для них время никогда не пройдёт, – сострил.
– Не правда ли странно, – вздохнула Полякова. – Ночь, милиция, двадцать первый век… А знаете, Франсуа Вийон все свои стихи написал в тюрьме?
– Ну-ну, эрудированная, – усмехнулся Клековкин, будто быть таковой плохо.
– Моя жизнь ещё не определилась. Я ищу себя…
– А вот это мы слышали! Пьёте, курите, и не только сигареты обычные, но и с «травкой»… Ваша бабушка не одобрила бы такой образ жизни!
– Зря вы обобщаете. Можно искать себя, но иметь вполне чёткие представления о том, где верх, где низ, где правая сторона, а где левая, где чёрное, а где белое. Мой образ жизни! Чем же он плох? Я сижу дома (сочиняю), потом гуляю, развлекаюсь, езжу в гости.
– К кому?
– К своим друзьям, к знакомым…
– Они, ваши друзья, тоже ничего не делают или все наследство получили?
– Ну почему! Некоторые учатся, другие пока ищут себя…
– Понятно. Значит, вся ваша компашка дурью мается?
– Напрасно вы считаете бездельем поиск себя. – Она словно взялась терпеливо обучать пониманию жизни этого занятного, по её мнению, человечка.
Клековкин поразился её наглостью. Как ведут себя в милиции бабёнки? Нормальные, не преступницы? Тише воды, ниже травы! А эта готова своим голосом зычным всему райотделу доложить, что сама она бездельница, а друзья её трутни!
– К вашему сведению, – решил пустить в ход главный аргумент, из-за которого, между прочим, и продолжал, как он считал, следственные действия, – гражданка Евгения Горьковая, – понизил голос до шёпота, – не проживает по этому адресу, – его глаза в этот миг сфокусировались, и это, конечно, испугало подследственную.
– Но она живёт там! Я была у неё на прошлой неделе, вернее, в прошлом месяце… была…
– Назовите фамилию квартиросъёмщика!
– Я… я не знаю.
– Хватит врать, Полякова! Кто вас направил в эту квартиру?
– Никто. Я сама. Я ничего не делала. Отпустите…
– Отпустим. Когда выясним.
Клековкин погремел ключами сейфа, достал оттуда бумажные листки, сколотые скрепкой.
– Вот ознакомьтесь…
Полякова не спешила брать.
– …за тем столиком написано, где ты сесть не захотела.
– Не надо мне тыкать, мы с вами не пили на брудершафт!
– Я не пью и вам не советую. А будете кричать – примем меры.
– Какие?
– Узнаете.
Она взяла эти бумажки, стала читать:
...
Объяснительная
Я, Непоренкова Алла, была задержана в квартире неизвестного мне музчины. Он ушёл рано. Я осталась одна. Взяла его электробритву и положила к себе в сумочку. Взяла там же ещё денег в тумбочке. Он мне дал за ночь всего сто рублей. Я взяла пятьдесят долларов, остальные положила обратно. Этот адрес мне дал один парень, как зовут его, не знаю, у него кликуха Штырь.
...
Объяснительная
…Я была задержана в номере с мущиной по имени Олег. Он оказался домушник. Я приходила в гостиницу «Маленький приют» каждый вечер. Шла в номер, куда говорила администратор Камова Л.Т… Там были и другие девочки, они также работали, как я. Получали, когда как. Парень по кличке Банкет мне знаком, но никаких адресов я от него не получала.
...
Объяснительная
Признаюсь вам честно в том, что я занимаюсь тем, что встречаюсь с мужщинами и получаю от них денежные суммы, но бумажник не брала. Адрес мне дал Бойко, зовут его, кажется, Вовка, а кличка Штырь.
– Зачем вы мне такое дали? – Полякова швырнула бумажки на стол.
– А ты не шуми!
– Не тыкайте!
– Вас тоже нашли в чужой квартире!
– …с мУЗЩиной? – ухмыльнулась она.
– Нет, но квартиросъёмщик не Женя Горьковая, а именно – мужчина. И ответьте мне на такой вопрос: вам известен гражданин Бойко, он же Штырь, он же Банкет?
Полякова расхохоталась.
У Виктора Викторовича пока не было жены. Он хотел жениться на подруге своей сестры, на тихой-тихой «Белой Мышке». Она-то была согласна! Но он… Он, Клековкин, видал баб. Особенно эти хороши. Он словно бы отравился их красотой, их особой одеждой, их красивыми сочными ртами, их весельем, их умением. Нет, теперь ему такую подавай… Он эту «Белую Мышку»-Машку и обнять не хочет, и приласкать не желает. А те, что ржут на весь райотдел… Ух, какие они! Жениться на такой, на криминогенной, конечно, невозможно… Исключено.
Сие противоречие, этот, можно сказать, дуализм Клековкина, и подогревал его раздражение к девице Маргарите Поляковой. Да, кто она есть? Она – как те, что сейчас моют пол в коридоре, у которых ночь предстоит в «обезьяннике». Там они проведут нынешнюю ночь. Будут материться, просить «сигареточку», называть «красавчиком» и «мальчиком» и, в конце концов, он не сможет устоять, и в его записной книжке прибавится ещё один телефончик, ещё один адресок… Полякова – не лучше! Все они одинаковы, кто шатаются по вечерам, кто не сидят с матерями дома, как его сестра Глашка, как её подружка «Белая Мышь»… Глаза Виктора Викторовича опять сбежались к переносице, сфокусировавшись между глаз допрашиваемой.
Она уже не смеялась, оторопело взирая на этого, показавшегося ей очень странным человека, на его ещё нестарое лицо, сохраняющее следы былой конопатости. Глаза ужаснули. И не своим дефектом, а старческой пустотой.
– Я не знаю этого человека, – сказала тихо, – этого… Бойко.
Ещё одна машина прибыла, взвизгнув резиной об асфальт.
– Вот что… Рита, – сказал издёрганно, но решив изменить тактику, точно старший брат сестрёнке: – Вы, видать, не испытали всей сложности жизни! Вам, Рита, надо подумать о профессии, да и мужа найти – для девушки, так сказать, – главное дело.
– Не Рита, – поправила Полякова величественно.
– А… а как? Тебя же Маргаритой звать…
– Да, полное моё имя Маргарита, а сокращённо – Мага. Так меня зовут знакомые, друзья и родные. Но ещё Мага – моё сценическое имя. Мага Полякова. Я, по-моему, уже представилась, когда здесь знакомила вас с моей работой как исполнительницы. Меня никто никогда не звал Ритой и звать не будет. А для вас я Маргарита Всеволодовна!
Клековкин растерялся. Какая, чёрт, Мага! Он по-доброму, он с пониманием, он не какой-то тупой чурбан, он видал людей, он к ней как к человеку, а она ему – Мага! Я покажу тебе Магу, Маргарита Всево-ло-дов-на!
– Вот что, Рита, – повторил, накалившись тихой яростью… – Нечего тут какую-то певицу изображать. Те, кто шляются ночами… Ты ведь можешь так угодить к не очень добрым людям…
Говоря всё это, он вспомнил, что Влас (умник, институт закончил и скоро уйдёт в другой отдел, где не будет заниматься всякой мелочью) говорит, что из него, из Клековкина, никогда не выйдет первоклассного следователя, мол, упрям. Да, он такой! А почему? Жизнь у него тяжёлая!
Невыносимая жизнь была у его мамки, уехавшей из деревни, так как нагуляла его, Витьку, от «молодца» с «Электрокабеля». Помогли эти кобели из «кабеля», горожане-подлецы на уборке свёклы и репы! А потом в городе Глашку также незаконно родила от хмыря из гаража, смотавшегося на север строить газопровод… У Глашки тоже жизнь: слепнет, чахнет, жениха так и нет!
Руки Клековкина взвились над столом. Волна непонятного ему беспокойства поднялась в его душе. Ему стало так худо, что он с силой лязгнул дверцей сейфа, чтобы прекратить этот непонятный, не служебный ночной разговор и… прекратить Полякову! Всю. Вместе с её голосом, одеждой, манерой говорить, тем самым унижая его, Виктора Викторовича, следователя, хозяина в этом (лучшем на этаже!) кабинете!
– Гитару, разрешите! – вскочил, одёрнув пиджак (мундир сегодня дома, но и пиджак вечно застревает на бёдрах), – пройдёмте!
Полякова тоже вскочила, подумав, что, слава богу, её для какой-то формальности сведут к седовласому доброму начальнику, а потом одна проблема: такси. Среди глухой ночи она не ездит: опасно голосовать. Но вечерним городом она любит гулять с подругами, друзьями, спешить к ним или от них… И что-то ни разу ещё не довелось ей «угодить к не очень добрым людям»… Сегодня впервые… Но всё равно она не верила, что с ней может произойти что-то подлое и злое, и не где-нибудь, а в милиции!
– Можно я сама понесу гитару? – попросила так, будто гитара могла её защитить.
– Нет, нельзя, после…
Полякова посмотрела Клековкину в лицо и поняла, что она беззащитна перед этим маленьким суровым милиционером, что от него исходит власть и сила, что ей не вырваться, что она в плену. Но тот пожилой руководитель, он-то понял, – подумалось ей, – и он её, конечно, защитит!
Клековкин закрыл на ключ кабинет, а в нём гитару, точно отрезав путь к сближению двух родственников, сильным из которых был, конечно, не Полякова. Без инструмента она выглядела неуверенно. Деревянно ставя ноги, обутые легко и живописно, пошла за следователем молчаливым коридором.
– Да, сроду не бывала в милиции, – сказала, бодрясь.
Они спустились по лестнице, выложенной розовыми линолеумными плитками. Сейчас здесь стояла беспощадная стерильная тишина. В подвале перед ними открылся вестибюль, в нём – тот самый милиционер по имени Влас… Дальнейшее произошло быстро.
Полякова не успела оглядеться, как почувствовала нечто необыкновенное. Её взяли под локоток, и она незаметно для себя очутилась в полутьме за скрипучей дверью, которая крепко, точно крышка от ящика, замкнулась. Поляковой почудилось: из жизни она перешла в какой-то кинофильм, оказавшись на месте героини, и совершенно не понимая логики происходящего.
Она надавила руками железную плиту… И ещё более убедилась: не жизнь, кино… Вернее, сон! И какой жуткий сон! И надо посильней толкнуть дверь, чтоб пробудиться. Снова руки напряглись, нажали холодную металлическую твердь. Ни звука! И тогда она стукнула кулаком. Звук раздался, глухой, но чёткий, приободрил, как бы ещё убедив, что она в этом сне. Захотелось во что бы то ни стало проснуться. Она опять ударила и даже выкрикнула под свой стук:
– Откройте, откройте, вы не имеете права!
Ей показалось, что она в могиле: её сюда поместили в живом виде, она тут задохнётся, вот-вот умрёт, придавленная стенами склепа. Она явственно ощутила: склеп, очень узкое пространство, в нём – ничего, кроме лавки, свет проникает через зарешеченное оконце величиной с папку для бумаг. Поглядела в оконце. Там было вольное пространство, Клековкина не было, за столом зевал Влас.
Полякова закричала чужим голосом, перестав контролировать, какие слова выкрикивает. Она слышала себя со стороны, но не воспринимала голос как свой. Кажется, этот человек (бывшая она) произносил такие слова: «сволочи», «гады». Ей даже послышалось, что он отчётливо произнёс слово «ублюдки», которое, – она знала – синоним незаконнорождённого (в жизни это слово не употребляла). Пробуждения не происходило. Она поняла: падает. С высоты своей всегдашней жизни. «Это смерть, – подумала. – Так, может, я умираю?»
– Не хочу, не могу тут, откройте, откройте! – она уже плачет без остановки, с ней истерика.
В соседних камерах проснулись постояльцы, они возмущены тем, что им не даёт спать «какая-то курва».
– Полякова, так вы заработаете срок, – дошёл до сознания знакомый голос.
Дверь отворилась. Полякова сделала попытку прорваться в свободное пространство между дверью и человеком. Вблизи увидела она вовсе не благородное, как ей показалось при исполнении своей баллады «Про шишки», лицо милиционера Власа, а такое же почти ущербное, как у Клековкина. Рука Власа крепко схватила её за локоть. Страшная электрическая боль пронзила руку до плеча. В глазах потемнело.
Она опомнилась, лёжа на железной лавке в полутьме запертой камеры. Рука болела, Мага подумала в страхе, что пальцы не смогут зажать струны! Какая вышла странная история из её нынешней прогулки по городу, для которого она придумала одну добрую песню. Одну добрую песню на всех… Правая рука не болит и сама начинает выбивать ритм о тюремную лавку, будто о гитару:
Вечер был поздний, улицы пусты.
А мне так хотелось увидеть тебя,
Поболтать с тобой о том, о сём,
Спеть тебе мою новую песню…
Тебя не оказалось дома,
а дверь не заперта.
Что ж, я сяду на диван,
буду петь новую песню,
будто пою её для тебя.
Она бормотала неуверенно, будто ощупью слова и музыка, точно вода, искали среди чащи, скал, домов и дорог своё русло.
И вот я одна в чужой квартире.
играю и пою. Мне хорошо.
Я, словно уснувшая царевна
Из сказки о семи богатырях…
Заночевала девушка, выгнанная из дому злой мачехой, в домике среди густого леса. Наутро вернулись хозяева-охотники, они назвали её сестричкой и отвезли к жениху в целости и невредимости…
Думая так с лёгкой иронией, она вдруг, вспомнила косые глаза Клековкина. Ей показалось, что увидела она вслед за этими глазами их уже древний опыт: трупы умерщвлённых, злодейски растерзанных людей: мужчин, женщин, детей…
Будто спустилась в подвал, в некую вполне реальную преисподнюю. Холод этого помещения обморозил ей щёки, сковал губы, затормозил дыхание и речь.
И поняла она, что все прежние представления в её голове обрушились, будто некая чёткая картинка мозаики на облицовке храма – ссыпалась из-за сейсмического толчка. И стала ей неприятна романтическая лживость, вкрадчивая философия «открытой двери». От этой лжи до «сна разума» один шаг, а чудовища всегда найдутся. Вот, хотя бы здесь: отделение милиции номер тринадцать…
…Утром её освобождают, протягивают гитару какие-то незнакомые люди, они сменили Клековкина и Власа. Из ворот райотдела Полякова выходит одновременно с девками. Те матерятся, дегенеративно взвизгивают.
Дождь снова, гитару Полякова завернула в пончо. Идёт она, не видя домов и людей. Ей кажется, что на этом кончилось всё. Кончились её «добрые песни для всех». Ей показалось, что не нужны они никому, даже ей самой. Может, жизнь её тоже закончилась?
Она стояла у дороги, готовая перейти шоссе в неположенном месте. Хотела, было, широко шагнуть прямо под колёса, но подумала: «А гитара?»… И прижала гитару крепче к себе, и проголосовала машину, вполне надёжное такси, с добрым лицом над рулём…Новеллы
Залётный музыкант
Нина Стрикова, девочка двенадцати лет, через сугробы заброшенным огородом пробиралась в барак, где жили сезонники – молодые дядьки и парни, приехавшие валить лес.
Глубокую тропку в огороде девочка Нина протоптала с тех пор, как появился в посёлке Коля. Он тоже жил в этом бараке, но не работал в тайге. Он играл в клубе на баяне, который носил в специальном футляре с собой всюду: в столовку, в клуб, в контору леспромхоза, где ему обещали повысить зарплату.
В клубе начались репетиции. Как выучат песни, поедут на выступление за сто километров по зимнику в город с хорошим названием Надеждинск, где много высоких домов. И Нина собралась, она пела в хоре. Раньше вечерами смотрела поезда, сидя у окна. На станции пассажирские поезда задерживались две минуты. Глаза девочки Нины так жадно вглядывались в окна поезда, будто хотели отыскать знакомое лицо. Но из окошек вагонов, из-за красивых шторок смотрели на их глухой полустанок только незнакомые люди, пассажиры. Они смотрели на маленькие домики их маленького посёлка и на брёвна. Брёвна лежали повсюду на открытых платформах вагонов, брёвна просто так валялись, брёвна были сложены аккуратно в штабеля.
Мать и отец Нины Стриковой приехали сюда на заработки, когда Нине и семи не было. Она здесь выросла, но этого никто не заметил. Родители – тоже. Они работали в тайге в лесной делянке. Каждое утро уезжали на автобусе, вечером их привозили обратно. Родители уставали, почти сразу валились спать. Говорили, что хотят «робить», чтоб потом жить. Но когда они перестанут «робить», не обозначили. Родителям было не до Нины, но, уходя каждый вечер в барак, она побаивалась, что они об этом узнают, а потому делала вид, что идёт помогать коменданту общежития Асе водиться с ребёнком.
Ася приехала прошлой зимой. Говорила, что она беженка, но все знали: бежала-то она от мужа, который хотел «зарэзать» Асю. Она всем говорила, что он скоро отыщет её и зарежет обязательно. А пока она жила холостой и весёлой жизнью. В начале этой зимы у неё родился ребёночек, Хачатур, Хачик, рыжий, как Петька-тракторист. Все догадывались, кроме него. Он был деловой, приехал на два сезона заработать денег на строительство новой избы для себя, для своей матери и для красивой жены Анны (портрет возле его койки на стене).
– Добрая ты, – хвалила девочку Ася, сидя на высоком табурете перед жёлтым зеркалом и заплетая лохматую косу, – все тебья будут любит и будешь щаслива. – Глаза у Аси были большими и печальными, как два тёмных окна.
Ближе к вечеру приезжали рабочие из тайги. Входная дверь общежития начинала бухать, холод влетал в коридор, куда выходят топки печей с железными ковриками у каждой. Надо много дров, чтобы в комнатах было тепло. Каждый вечер Ася носила дрова, подкладывая в печи. «Таскай да таскай», – говорила она. Хачик лежал один и плакал. Вот и нужна была Нина, ох, как она тут была нужна… То игрушку над ним повертит, то поговорит пищащим голосом, глядишь, – ребёнок замолчал. Она даже по примеру Аси пелёнку ему перестелила. Так водиться ей не понравилось, пусть уж мать. Но туго завёрнутого, точно кукла, тёплого и тяжёлого ребёнка держать было приятно. Кукол ей всегда не хватало.
Довольно умело покачивая на руках дитя, добровольная нянька прислушивалась к голосам, иногда подходила к двери и выглядывала в коридор. Услышав, что приехал Петька и его бригада, она положила ребёнка в кроватку и постучала в дверь, которая была напротив Асиной.
– Дядя Петя, здравствуйте! Здравствуйте, дяденьки!
– Чего тебе? – Петька сидел на кровати, разматывая портянки. Огромные валенки стояли рядом. – Переодеться не даст! – заорал. Лицо покраснело, а глаза побелели от злости.
– Его нет, – ответил вежливо другой дядька, зовут Ромкой, но она должна называть Романом.
– Дядя Роман, а когда он будет?
– Повезло Кольке на малолетку, а ну пш-ла отседа! – Петька сунул ноги в тёплые тапочки.
Понятно девочке Нине, не такая она маленькая, что дядькам надо после работы переодеться в домашнюю одежду. Дома они ходят в спортивных костюмах, будто какая-то волейбольная команда. Но она так заждалась… Ещё со школы, с уроков мечтала: прибежит в барак, а там Коля…
– Тебе сколь лет? – продолжил воспитание Петька, видя, что девчонка не исчезла, а торчит на пороге, выпуская из комнаты драгоценное тепло.
– Тринадцать, – нарочно преувеличила Нина.
– Врёшь! Одиннадцать! – нарочно преуменьшил Петька. – Эт-то что ж у тебя за отец, что разрешает к мужикам в бараки бегать?..
– Какое тебе дело, – остановил Петьку Роман.
Нина посмотрела на кровать, на ту, что в углу у окна: там валялись в беспорядке бумаги с чёрными значками нот. Лицо её бледное порозовело так, что теперь по нему можно догадаться, каким симпатичным оно будет к шестнадцати годам, и тогда в посёлке все точно заметят, как выросла у Стриковых дочка. Правда, неизвестно: заметят ли они сами.
– Когда нас из делянки к конторе привезли, видел его: в контору зашёл твой музыкант, – сказал Роман. – Наверное, не скоро будет: директора уламывает, чтоб, наконец, добавил… – Последние слова для Петьки, но девочка тоже поняла.
– Ага! – взъярился тот. – Я б такого догнал, да ещё б добавил! Нихрена не делает, а зарплату ему повысь!
– У меня на родине в деревне есть такой…
– …и скажешь: получает больше?
– Нет, меньше. Но у нас никто не зарабатывает таких, как здесь, денег. Тут, всё же, лесоповал…
Петька, конечно, ещё что-то стал возражать, голос так и взвизгнул нервно, в ответ успокаивающе загудел Ромкин бас. Нина не слышала слов, уйдя в Асину комнату. Дверь оставила открытой. Ася эта, комендант, она же уборщица и даже истопница, непонятного возраста маленькая тёмненькая тётенька. Пробегая по коридору мимо своей комнаты с дровами или с вёдрами воды для умывалки (с уличной колонки таскает), она уже не раз захлопывала дверь пинком. Но девочка Нина делала вид, что не понимает и открывала вновь. «Ничего, всё равно, дождусь», – вздрагивала от каждого стука входных дверей. Вот опять затопали в сенках, колотят по валенкам веником, вваливаются, занося свежее морозное облако…
Просто так поджидать Колю неловко, к тому же Петька может про неё сказать родителям. И, хотя местные рабочие и сезонные работают по разным бригадам, но, вдруг, в магазине встретятся или в конторе… В школе уже есть слух, что она «барачная». Если до родителей дойдёт… Из леса они приезжают злые. Стоимость квартиры в Надеждинске опять выросла: ещё «робить да робить». Оба с топориками для обрубки сучьев. Топорики, вроде, небольшие… Так бы сесть в поезд и – ту-ту… Взял бы кто, увёз… А потому даже хорошо, когда заревёт Хачик, снова можно его носить, приговаривая и напевая. Любит ребёнок, когда ему поют, улыбается большим ртом. Глаза у него черные, не то, что у Петьки – белые, а, значит, когда мальчик вырастет, будет красивей своего случайного папки, и жить ему на свете, возможно, будет куда веселей, чем этому психу с женой Анной в новой избе. Так думала девочка, потому что она уже много что понимала и рассуждала о жизни по-взрослому. Сонно сидя с заснувшим ребёнком на коленях, представила, что это не Асин ребёнок, а её, что отец не Петька, а Коля с такими ласковыми глазами…
Ни у кого нет таких глаз: ни у физкультурника, в которого влюблена половина девчонок их класса, ни у дядек-закарпатцев, хотя они красивые, как на подбор. Про мальчишек школьных говорить нечего, она их в упор не видит. Хорошо заглянуть в Колины необыкновенные глаза… «Ну, давай петь вместе, это называется дуэтом… Стой рядом, слушай аккомпанемент». И они пели взрослую песенку, которую любят орать приезжие с Украины. Нина давно знает слова наизусть:
«Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвила.
Ты ж мэнэ, молодого, с ума, с разума свила».
Слова немного исковерканы, считает девочка, но так даже смешней. Хохлы от восторга пускаются в пляс.
Когда Коля приходит вечером, то достаёт из футляра баян, начинает играть. Он играет для того, чтобы «не потерять форму». За два года в армии не потерял, а теперь, тем более, ни к чему. «Баян меня кормит». Из «красного уголка», где есть телевизор, прибегают на музыку. Одному Петьке не нравится.
Когда они репетируют в клубе, где Колю все зовут Николаем Васильевичем, то он делает другим ребятам замечания, мол, не ту ноту берёшь… Только не Стриковой. Он даже сказал, что она может стать солисткой! Ни с телевизором, ни с приёмником, ни с магнитофоном не сравнить то, как поёт сам Коля! Он может петь всё! Всё, что по радио, только сам! Когда Нина слышит его голос, то у неё такой восторг в душе и такие мечты!
Вот, например, представила, что они поют с ним вдвоём, но не в общаге, и не в их маленьком бревенчатом клубе на репетиции, а на высокой, летящей под звёздами сцене. На ней, на Нине, красивое взрослое платье и туфли на высоких каблуках! «Огромное небо, огромное небо, одно на двоих!» После они идут гулять в лес… Лес не такой, как нынче, не зимний, а будто уже лето. Они садятся на поляну, Коля обнимает её. Она видела, как дядьки-сезонники в соседнем леске со столовскими тётеньками… Они, поселковые дети, вообще любят подглядывать, видели уже много чего. Нина рассорилась в классе: подружки сказали, что Коля её «испортит», а сам уедет. Но она слушать никого не хочет. Ей совершенно наплевать на всех: на родителей, на Петьку белоглазого и на девчонок, которые с мальчишками крутят. Но кто мальчишки? Это ж дети, а петь ни один не умеет.
Невнятно донеслось: ти-и. И смолкло. Нина вздрогнула, положила ребёнка, выскочила из комнаты. Дверь напротив была настежь, ровный жёлтый свет ложился на половицы. Шумно там было, и это «ти-и» раздалось неспроста: Коля доставал из футляра баян. Теперь уже послышался гуд: разошлись меха, – баянист надевал на плечо ремень, началась музыка… Нина встала так, чтоб видеть Колю, сидящего на стуле, но не лицом к двери, а сгорбленной спиной. Голова его была наклонена к плечу, затылок казался грустным, нестриженым, волосы спускались на воротник.
Его соседи по комнате не возражали против музыки. Роман сидел у стола и похлопывал ладонью в такт. Баянист раскачивался слегка: влево-влево, вправо-вправо… Музыке было тесно в комнате, она выплывала в коридор. Народу прибывало, мимо Нины заходили со своими стульями.
Коля играл. Песен знал столько, что никто не мог догадаться, какую запоёт следующую. Сегодня, точно концерт давал, – играл без остановок. В одну песню вставил свои слова, и получилось не «вдали от России…», а «вдали от Тамбова». Слово «вдали» он выпевал с такой бесконечной тоской, что Нине стало жалко Колю. Ему хотелось уехать из их посёлка, который назывался Лявдинка, в свой родной и, видимо, прекрасный город, почти такой, наверное, как Надеждинск, где Нина была один раз со школой во время краткой поездки на школьных каникулах.
Когда баянист уставал, то без всяких предупреждений обрывал песню и застёгивал на черную пуговичку меха. «Эту-то доиграй», – простанывал кто-нибудь. Но Коля, словно не слыша, укладывал баян в футляр, и все расходились, Нина тоже. По дороге пела. И когда лезла огородом к своему дому, мечтала, что завтра уж они точно споют дуэтом…
Сегодня он, как обычно неожиданно, оборвал песню, но добавил:
– Вот и всё.
Видимо, до «концерта» здесь был разговор, так как сразу кто-то откликнулся:
– Правильно, чего тут забыл, глухомань.
– Я бы вообще никогда сюда не заехал, но этот ваш директор сманил заработками. Родителей ещё не видел! Они ждали, что сын после дембеля приедет домой… Уже два месяца я тут… Но, ладно бы заработок… Он что мне обещал? А что вышло?.. И сегодня опять начал завтраками кормить. Но с меня хватит. За такие гроши…
– Дома тебе ещё меньше платить будут, – напомнил Роман.
– Зато родной город.
– Да просто – город, он всегда лучше какой-то Лявдинки! – поддержал кто-то.
– По мне так лучше моей деревни ничего нет. Вот только на новую избу заработаю, – высказался Петька. Его никто не поддержал.
– И что, прямо сегодня? – спросил Роман.
– По пути из конторы зашёл на станцию и со злости купил билет.
– Вечерним? – кто-то спросил невесело.
– Ну да. Мне осталось полтора часа… – Коля вдруг резко стал доставать баян, пуговичка сама отстегнулась и меха разошлись с гудом, а он развернулся на стуле и тут увидел стоявшую в дверях Нину.
– А-а, девочка, – сказал рассеянно, как всегда забыв её имя. – Иди, споём на прощанье. «Огромное небо одно на двоих», а?
Заиграл вступление, но запел один.
У Нины дрожали губы, она их кусала, чтобы остановить дрожь. Но и плечи вздрогнули, и вместо песни вырвались всхлипы. Коля оборвал музыку, с беспокойством потянул её за рукав.
– Не уезжай-те, – шептала она громко, – не уезжай…
Она так рыдала, что все, кто был в этой комнате, все эти рабочие, мужчины, приехавшие на заработки, растерялись. Даже Петька, присвистнул и не сказал своё: «Везёт тебе на малолеток», а покачал головой сокрушённо. А Коля, Николай Васильевич, будто впервые увидел это существо, немаленькое и явно – женское. Он, конечно, уже был наслышан, поддразнивали, но как-то не верил, а тут увидел её лицо, глаза, глядящие на него так, что даже поразился: ни у одной из его бывших в жизни женщин не было таких молящихся на него глаз. Она выбежала, Коля прокричал:
– Погоди, школьница, хорошо поёшь, эй…
…Сидя в Асиной комнате на высоком непонятного назначения табурете перед жёлтым зеркалом, Нина, как недавно Ася, смотрела на своё отражение мокрыми глазами.
– Не плачь, Нина, я тебе наговорила: шастье, шастье… Дура я, девочка, – Ася постукала себя пальцем по гладкому лбу.
А Коля снова заиграл. Полно, широко разводились меха, звуки, будто сливались в гроздья, тяжёлые, литые, падали. А высокие лёгкие нотки тревожно взлетали, вились… Нина уже не плакала, глядя в зеркало на своё вдруг повзрослевшее лицо. Ася кормила Хачика. Баян не умолкал. Время было позднее, а Коля всё играл. Никогда он так много не играл, общежитие слушало. Последняя нота повисла в тишине, как вздох. Жильцы стали расходиться. Роман басил довольно:
– Пропал билет, сколько стоит? Надо собрать тебе деньги…
Коля отмахнулся и посмотрел на стоявшую рядом Нину:
– Ну что, завтра-то споём?
– Не уехал! – радостно откликнулась она.
В посёлке была ночь. Нина Стрикова лезла по снегу заброшенным огородом. Небо было в больших почти южных звёздах.
О детях оленеводов и о трёх билетах в кино
«Алёна опять врала кому-то по телефону»; «Алёна разбросала в прихожей обувь, искала кроссовки»… Дедушка – ужасный стукач. Он всё докладывает бабушке. Как за собой убрать, – он «после инсульта», а как подслушивать и подглядывать – никаких остаточных явлений. Взрослые люди, в основном, глупые и почти все – кривляки.
Утром Алёна наблюдает бегущих в офис на работу к новой двери, обитой после евроремонта свежими узкими дощечками (другая, что в квартиры, древне-бордового цвета). Эти взрослые люди входят с улицы во двор через арку, где обычно ветер гудит, как в трубе. Так вот они сразу прижимают руки – к воротникам, к ушам, бегут… А на защищённом от ветра пространстве двора они выпрямляются и на своё отреставрированное крыльцо всходят так важно, будто никогда не боялись ветра. Дождя они ещё больше боятся… Алёна усмехается: Фридрих Ницше под проливным дождем без шляпы и зонта мог идти медленным шагом! Алена ходит так же. Ницше был никакой не фашист, а поэт и хорошо воспитан. Так говорит папа…
Алёна смотрит в узкое кухонное окно. Это даже не окно, а долька, уцелевшая от замурованного окна. Наверное, боком можно пролезть, но она пока не пыталась. Вот бы стукнуть по стеклу деревянным молотком для отбивки мяса, протиснуться и повиснуть над двором, похожим на комнату без потолка… Она прочла недавно «Мастера и Маргариту». Где про Пилата – скучно, а где про ведьм и Бегемота, – классно. Чайник вскипел, но есть не хочется. Надо собрать рюкзачок. «…Несовершенный социум игнорирует субъекта, ущемляет личность, торжествует посредственность, зажимается яркая индивидуальность…» – Сказав это, Алёна оглядывается: где дедушка? «Опять Алёна бормотала из лекции Эдуарда наизусть». Эдуард – папа, у которого с дедушкой проблема отцов и детей.
Девочка надевает резинку с нанизанными на неё ключами (от подъезда, от квартиры, от почтового ящика). Прячет их под одежду, металл холодит кожу. Теперь – дверью хлопнуть, чтоб замок защёлкнулся, и – навстречу ветру мимо кинотеатра «Искра»… «Все люди равны – разве это истина? Впрочем, истины как таковой не существует. Она – где-то рядом, но не более». Так говорит папа. Алёна механически переходит проспект.
В школе она не думает. Это не то место, где можно думать. Учителя бубнят нудно. Но это – лучший вариант. Математичка как наденет красное платье, так и проорёт весь урок. «Так этика связана с эстетикой». Когда математичка в синем, на уроке тишина. Ученики спят с открытыми глазами, будто оправдываясь: «Я ничего плохого не делаю, только умоляю, дайте досидеть в покое до звонка!» Один Митюнков доволен. Глазки у него, как у заводной мышки, крутятся от доски – в свою тетрадь и обратно: «Спросите, я все знаю! Какие интересные уравнения! Ура, опять сошлось с ответом!»
«Шевелёва! Тебе звонят из Сыктывкара!» Алёна бежит пустыми коридорами, куда доносятся голоса учителей. По лестнице, быстрей, в учительскую! Здравствуй, мама! Уже вылетаешь? Ура! Встречаю! Да что мне уроки, что эта школа! Ничего, я не маленькая, сяду в автобус на аэровокзале и прикачу к самому приземлению!
Или так…
Опять у нее важнейшее дело. В полдевятого пришел вертолёт. Он сел посреди тундры, покрытой колючками ягеля и кое-где оставшимся от долгой зимы снегом. «Генриетта Вадимовна, вертолёт даётся вам на весь день в личное пользование», – говорит редактор. Мама забирается в кабину и летит на буровую над тундрой, где пасутся олени, и мансийский мальчик по имени Савва кричит: «До завтра!» Мальчика уж не видно…
Наконец, уроки кончились. Но не кончился день. Косо светит солнце, на улице сентябрьский ветер, в нём – летнее тепло, но резкость уже осенняя.
– Пойдешь в «Искру»? «Погоня за приведениями», – спросила Машка, она любит, чтоб её звали «просто Марией».
Зашли в кассы кинотеатра.
– Я не знаю, – говорит Алена. – Это, наверное, ширпотреб. Лучшие фильмы Феллини, Годара, Бергмана… Так говорит папа.
– Мой отец, к сожалению, не блещет эрудицией, – Машка-Мария отворачивается к кассе, но Алёна видит – профиль у неё обиженный, губы поджаты.
– Мы, – говорит Машка («мы» звучит так, словно буквы огромные, как на плакате). – Мы идём втроём.
Лицо у Алёны краснеет. Оно, обычно бледное, вспыхивает.
– МЫ тоже можем втроём, но фильм, наверное, дрянь…
– Втроем? – спрашивает Машка, глаза недоверчивые, как у самой настоящей Марии.
– Да, мама прилетела. Спецрейс. Ночью, – небрежно роняет Алёна.
– Не ври!
– Ну почему ты так думаешь!.. Я правду…
– А-лё-на, – качает головой Просто Мария, постарев лет на пятнадцать.
– Ты можешь не верить, да и эта «Погоня…» – «Не надо засорять сознание тем, что ему может навредить». Так говорит папа… Руки суетливо шарят в карманах куртки. И Алёна делает шаг, протягивая деньги в кассу, неуверенно подталкивая их в глубину окошка, похожего на бойницу. – Ну, кто врёт? Мы тоже идём!
Здесь сквозняк, дверь то и дело распахивается. Три билета, похожие на синий лыжный флажок, трепещут в Алёниных пальцах.
– Вот это да! – поражается Машка. – Наши родители познакомятся… – И тут же понимает, что сказала лишнее. Разговоры с Алёной похожи на трудный спуск с горы: надо вовремя увидеть преграду и обойти.
– Конечно! Но я в этом не вижу перспективы. Впрочем, рада, – лицо Алёны уже не алое, обычное, бледное, глаза тревожные. – Пожалуй, пойду, до сеанса полчаса, надо предупредить, они в той квартире.
– Конечно! Беги, – говорит с облегчением Машка, нелегко вздыхает Мария.
Алёна срывается с места, бежит, но за углом сбавляет шаг, нехотя бредёт. В витрине булочной выставлены искусственные бублики, цилиндры и караваи хлеба, на вид черствые и тяжёлые, ими можно убить. «Хлеб способен превращаться в камень. И это происходит значительно чаще, чем думают некоторые, и в самой повседневной жизни». Так говорит папа. Вот и трамвай. Ладно, она поедет во двор своего детства. Алёна не считает себя ребёнком, и даже подростком не считает… «Время и возраст индивидуальны для каждого». Так говорит папа.
Двор Алёниного детства очень уютный. В нём так много зелени! Его ограждают шпалеры пирамидальных тополей. А внутри двора тополя, акации, клёны, шиповник… Всё это посадили те, кто переехал в этот дом, когда он был новым. Алёна тогда была маленькой. Вместе с папой и мамой она посадила вон ту красивую берёзу. Алёна присаживается на край родной песочницы. Какой-то мальчик строит домик. Алена начинает ему помогать. Домик обваливается. Они снова…
…Это было давно: такой же мальчик маленький толкнул её, тогда – маленькую, и она упала носом во влажный песок этой песочницы. Тогда было так: заиграешься, а потом глаза на дом и видишь окна. Все три: кухонное с открытой форточкой, широкое – родительской комнаты и маленькое – её окно. Там и до сих пор старые игрушки, скакалка на гвозде. Нынче окна темны. Этажом выше зажгли свет. В этом переулке рано включают лампочки: даже днём темновато от зелени. Мама кричала из окна: «Алёна, домой!» Теперь бы она живо… Но ключа от этой квартиры нет. И от этого времени нет ключей. Оно закрылось от Алены.
…Маму решили показать по телевизору… Она говорит: «Я не буду выступать, если не разрешите быть вместе со мной на телеэкране моей дочери». «Хорошо, Генриетта Вадимовна, пусть ваша дочь участвует в телепередаче». Мама бросается к телефону: «Алёна! Приходи скорей!» Мама выбегает на улицу встречать дочь. Она ждёт там, на углу детсадика… При чём тут детсад? Куда подевалась телестудия?…Вот её черное, блестящее кожей пальто, высокие сапоги, под полями шляпы – мамино лицо! Алёна несётся через сквер, через дорогу. У неё такие ноги, что она одним махом перепрыгивает легковую машину, водитель от страха пригибает голову к рулю… Мама! Мама! – кричит Алёна и почему-то плачет…
Она видит, как слезы капают в песок…
– Нет, только не это! – утирает лицо рукавом скользкой куртки.
– Смотри, я сам построил! – говорит мальчик.
– Молодец!
Домик уже падает.
Бабушка сегодня, наверное, её потеряла. Алёна удивляется: как можно быть в таких преклонных годах (ведь ей шестьдесят!) такой глупой! Кормит, кормит. Подносит дедушке еду. Он поест, засыплет крошками стол и пол. Бабушка уберёт, протрёт, сядет Алёна. Бабушка снова подаст. А дедушка вернётся на свой пост наблюдения. Он подсматривает в щёлку дверей, раскачиваясь на качалке: «тук-тук» – это ручка кресла бьёт в стену. Там уж дыра скоро будет, штукатурка пробита до кирпича. Алёна ненавидит кормежку. Она к еде равнодушна. «Ты раньше так любила макароны!» У бабушки все разговоры про еду, про то, что продаётся в овощном, что в «универсаме», а что в «гастрономе-маленьком»… «Если сегодня позвонит отец, я ему расскажу, как ты плохо ешь» «Сегодня не позвонит. У него заочники». Вот интересно, – думает Алёна, – она (то есть бабушка) притворяется или забывает, что папа звонит только по четвергам? И, если притворяется, то зачем? Алёна ждёт четверга. Они долго говорят. Вернее, говорит папа. Она лишь подаёт голос: «Я слушаю, папа»; «Я внимательно слушаю, папа»; «Я всё поняла, папа». Иногда ей хочется спросить кое о чём, но не спрашивает…
Ну, вот и совсем стемнело во дворе её детства. Мальчика увела домой его мама. Алёна осталась одиноко сидеть на краю песочницы. Ей вспомнилось, как они втроём пошли в кино… Они с мамой вышли из-под арки и сразу увидели у кинотеатра «Искра» папу. Он держал в руках три синих билета и сверток, в котором были орехи. Во время фильма он давил орехи руками, стараясь это делать тихо, но они всё равно щёлкали, сухие вкусные грецкие… Хорошо, что в кино были одни ребята и не сердились на них троих… Это – не «вранье», как скажет Машка, это правда. Так было много веков назад.
– Здравствуй, мама! Папа, привет! Как вы накурили!
– Будешь пить чай, дочь?
– Я привезла брусники…
Это тоже не «вранье», это было. Они пили чай втроем. И Алёна заснула случайно в кресле…Дверь ей открыл папа, быстро поцеловал, метясь в щеку, попадая в лоб:
– … этот отрыв детей оленеводов от стойбищ…
– По-твоему, пусть бедные дети оленеводов погибают? Алёнушка, радость моя, – мама обняла Алёну.
– А генетика?
– Инфекция! Ненормальное питание!
– Сырое мясо? Они должны его есть. Сырое мясо и сырую рыбу. Это – сила. Я бы сам с удовольствием…
– Хорошо-хорошо, но чай с тортом ты нам подашь, хотя бы?
Алёна сидела у мамы на коленях. Ей было неудобно, ручка кресла впивалась в бок, но Алёна не двигалась. Дым от маминой сигареты нависал, точно полог, над ними, над обеими.
– …дети оленеводов перестали охотиться, ловить рыбу, оканчивают школы, уезжают в большие города, поступают в институты…
– Ну и прекрасно! Пусть поступают!
– Пусть они занимаются любимым делом! Не надо им мешать! Они так жили веками!
– Не жили, а вымирали!
– Я против всякого насильственного вмешательства в природу!
– Человек – не природа! Принеси из кухни конфеты. Ты хочешь кушать, доченька?
Алёна сидела на коленях у мамы. Ей было неудобно, но ей было так хорошо, что она не хотела есть, пить, двигаться и врать. Ей хотелось только, чтоб скорей закончился разговор про детей оленеводов.
– В интернате они овладевают культурными навыками!
– Но другие навыки они забывают! Навык охотника, например!
– Да зачем, черт возьми, ему этот навык! Доченька, милая, мне тяжело, ты большая, пересядь на табуреточку! – проговорила нервно мама, и Алёна пересела. – Вот я тебя спрашиваю, на кой дьявол ему, сыну оленевода, учиться бить белок в глаз? Чтобы иностранные кокотки имели по десять шуб?
– Мама, а кто такие кокотки?
– Алёна, никогда не слушай, что говорят между собой старшие! Ешь торт, пей чай, – ответила мама сердито.
Алёна вдвое сгибается над неудобным журнальным столиком. В этой квартире большой обеденный стол папа завалил книгами, письменный – своими бумагами. Среди толстых папок с материалами незаконченной докторской диссертации выглядывает из рамки фотография Алёны в возрасте семи лет в белом фартучке первоклашки. На кухне стол заставлен посудой. Чай слишком горячий, табуретка холодная. Мамино лицо близко, но почему-то хочется закричать: «Ма-ма!»
– …но, голубушка, надо думать о потребностях каждого человека в отдельности, – сказал папа. – Алёна, детка, пересядь в кресло, табуретка сломана, можешь упасть…
Алёна пересела и сразу стала засыпать. Ей снилась карусель, они с мамой мчатся… Вдруг, стоп, дёрнулась карусель. Алёна открыла глаза, голова неудобно наклонена к плечу.
– …не называй меня голубушкой, идиот!
– А я бы на месте твоего главного редактора не поставил в номер газеты, пусть и северной газеты, эту корреспонденцию об уроках охоты в интернате!
– Это почему бы ты не поставил, эстет?
– Не называй меня эстетом! Потому что этот учитель будет не так учить, как отец, отцы… А потому дети оленеводов…
– А сколько времени? – спросила Алёна.
– Не «сколько времени», а «который час», – папа махнул рукой в сторону будильника.
– Ой, – испугалась Алёна.
– Что случилось? Ты бабушку с дедушкой не предупредила? Давай, доченька, собирайся, а то поздно будет. Как жаль, что в этой квартире так и нет телефона, никакой просто коммуникабельности, – быстро проговорила мама. – Возьми подарки; бруснику, доченька, возьми.
– Спасибо, мама.
– Математика – как? – спросил папа. – В четверг, как обычно, звоню. У меня окно между парами (маме пояснил).
– Улетаю завтра днём. Ты ещё в школе будешь…
– До свидания, мамочка!!!
Представив всё это с большой яркостью, Алёна встала с песочницы, поглядела на окна. Все горят, а эти три бездонны. Билеты! Она вошла в подъезд. Здесь пахнет, как раньше: в пять лет, в семь, в десять. Почтовый ящик тот же. Голубая краска облупилась местами, напоминает карту. Вот Африка: «Да здравствуют наши чернокожие братья!» Билеты, будто телеграмму, бросила в щель. Папа удивится, когда будет вынимать почту, у него громадная подписка: газеты, журналы на двух языках… Интеллект – всё для человека!
Алёна выходит на улицу, садится в трамвай. Из «Искры» выпустили сеанс. Так некстати! Машка увидела (здесь всегда яркое освещение):
– Что же вы не пошли, такой фильм!
– Ерунда, не жалей, Алёна, фильм так себе, – сказала Машкина мама.
– А мне понравились погони! – Машкин отец по виду – полный дебил.
– Знаете, нам было совершенно некогда! – сказала Алёна с лекторской интонацией. – Мы обсуждали проблемы жителей севера. Они живут ещё в ужасных условиях и даже иногда умирают от рахита и цинги. Но ведь вы понимаете, мы не можем оставить на произвол судьбы этих бедных детей оленеводов и охотников!
– Какая ты умная, Алёнушка, – сказала Машкина мама.
У Марии одно в глазах: «Врёшь, как врёшь!»
Дедушка дал с пенсии двадцать рублей, бабушка – тридцать. Оба ворчали, что она пришла поздно. У Алёны и без них денег полно, ей папа даёт, мама присылает. Но она почти не тратит, кроме как на мороженное, на ананасный компот… В основном, копит. То на модные тряпки, то на Петербург… Но иногда ей кажется, что она ничего не купит, никуда не поедет…
Алёна засыпает в отдельной хорошей комнате, бывшей папиной: гантели в углу, грамоты над диваном: «Лучшему хоккеисту факультета», «Лучшему спортсмену…»… Теперь папа забросил спорт, ведь интеллект главнее…
Последний раз это было. Последний раз в жизни. Мама помогала Алёне мыться в ванне. В той квартире ванна сидячая, и ноги в неё уже и тогда не входили, мама приговаривала: «Это не ребенок, это журавлёнок…» После Алёна ещё подросла, может быть, еще подрастёт. Но тогда была жизнь, а теперь – ожидание. Завтра четверг. Папа позвонит. «А ты видел три билета в почтовом ящике, папа?» – спросит Алёна.
Наверное, пришла пора кое о чём спросить…Кольцо
Алёшка ездил «зайцем» с четырёх лет, а сейчас ему было много – пять. Он лежал под суровым одеялом и смотрел в чистый потолок. Дети спали, а он не спал… За окном по спелому шиповнику стучал дождь. Надвигалась осень, всё ближе становясь к дому, где теперь жил Алёшка. Дом этот похож на большой кривобокий скворечник, кругом кусты с гладкими ягодками, набитыми колючками. Алёшка попробовал одну, горло закололо. Но… отплевался. Плеваться он научился тоже в четыре года. Дождь шелестел, точно брёл кустами человек в плаще. И на озеро падал дождь.
Вчера Алёшка плакал. Угрюмо метались ветки у окон, ветер их бросал на стёкла. И навеки не стало тепла! Но потом возле кровати сидела незнакомая тетя. Она шептала сказку про зайчика и пахла, как пододеяльник. Тётя поняла Алёшку: оставила поиграть золотое колечко. Со всех пальцев кольцо скатывалось, два не влезали, хотя он и пытался просунуть. Вертел кольцо, да и уснул. Плакал редко. Он мог со случайными прохожими разговаривать о том, о сём…
Жил он раньше в другом доме: зимний день, солнышко сквозь серую занавеску, пустой покарябанный стол. Мама спит в пальто и в шапке. И на нём одежда для улицы. Он взял да и отправился погулять.
– Мальчик, ты с кем, где твоя няня или бабушка? – спросила незнакомая тётя.
– Я хожу-брожу сам. И езжу на тррроллейбусе.
– Разве у тебя есть деньги?
– Нет.
– А как же ты ездишь?
– «Зайцем».
Такой ответ почему-то рассмешил прохожих.
– А не заблудишься?
– Нет. Я перрребегаю улицу и залезаю в дррругой тррроллейбус.
– А машины?!
– Я быстррро!
Однажды он нашёл дырку в заборе. Пролез и очутился на базе. Алёшка не знал, что это база, но из домика выскочила тётя в чёрном полушубке:
– Нельзя, малыш, тут база!
– У тебя есть кукурррузные палочки? – спросил он с надеждой.
– Какой маленький! – изумилась она.
И после он часто бывал в тёплом домике. Тётя-сторожиха стала варить суп и для него в большой блестящей кастрюльке.
– Как жизнь? – спрашивала.
– Хорррошо, – отвечал он, катая «р».От берега отчалила лодка. В ней сидела женщина. Лодка скользила под дождём. Женщина гребла. По лицу катились капли. Брови были мокрыми. Когда лодка по дну наполнялась, женщина черпала ковшом и выплёскивала воду за борт. А жила она не на том берегу, где теперь жил Алёшка. Стены своей комнаты она завешала портретами писателей, пол заставила стопками книг, на которых он, например, мог бы сесть и посидеть. Читать-то пока не мог. Ещё у женщины был проигрыватель и пластинки с величественной музыкой, но одна – со сказкой про Кота в Сапогах. О! Это была весёлая пластинка, и она бы, несомненно понравилась Алёшке!
Кусты на берегу клонились под водой. Свежие струйки щекотали шею, затекая под плащ.
– «Льет дождь, – говорила стихи женщина, плывя на работу. – На даче спят два сына».
Но на даче спали не два и не три сына, а много, они все были чьи-то сыновья, и у некоторых имелись матери и отцы, но все дети и зимой, и летом жили на этой старой деревянной даче. Здесь не ходили троллейбусы, на которых Алёшка привык ездить «зайцем».Все удивлялись, как он, такой маленький, и ездит! И устроили собрание жильцов. Много дядей, тётей (и с базы пришла) кричали в коридоре: «Кем вырастет Алёшка?» Дядя милиционер сказал толстым голосом: «Отобрать, да и всё!» Алёшка вертел головой, не понимая, что отобрать. Неужели старый игрушечный самосвал, который ему подарил соседский мальчик? Не может быть! Он ни за что обратно не отдаст! Мама Алёшкина опустила лицо и сказала: «Согласна…» Больше он её не видел. Его отвезли в больницу и вывели всех глистов, а потом сюда в дом незнакомый. Рядом лежала вода широко, точно самый огромный океан. Когда на Алёшку надели казённую синюю майку, он услышал: «Мать отказалась…» Майка ему понравилась: она обтянула его туго-туго. …Он вылез из-под одеяла, подошёл к окну и увидел, что озеро рябит от дождя.
В милиции за ночь насорили.
– Пошевеливайтесь, – сказал дежурный.
Задержанные мыли пол. Одна из них, молодая женщина с белыми полупокрашенными волосами села на стул, попросила сигарету. Тряпку она держала перед коленями, и с неё стекала мутная вода. Вода мутной ночи, мутной её жизни…
– Благодарррю, – сказала, катая «р». А выпить не найдётся? – пошутила.
За окном, забранным решёткой, хлестал дождь.
– Похмелье, – согласно зевнул старшина.Лодка стукнулась о берег носом, откачнулась. Женщина поставила весло в воде, по скамейкам перешла на мостик. Привязала лодку; когда тянула канат, заметила, что нет её кольца. Она шла среди жёсткой высокой травы, по пути наелась спелой черемухи, промытой дождем. На поляне была тишина. Детский дом ещё спал. Вот и осень, – легко вздохнула женщина, подходя к воротам. На клумбах горели красные и фиолетовые астры. А из окна на неё смотрели: она вгляделась и узнала. …Лоб у Алёшки был низок, губы толстые, а глаза враскось. Он был похож на маму, что этим утром мыла в милиции пол. Он протянул руку и стукнул колечком по стеклу. И оттуда, с тропинки, ведущей к дому, ему помахала клеёнчатым рукавом женщина и засмеялась мокрым лицом.
День рождения
Под утро, похожее на глубокую ночь, мы поняли, что придётся ехать, что всё свершится сегодня: но как так? Ещё рано! Рано! Пять утра! И в такую рань куда-то ехать!
Машина мчалась. Окна белы, ничего сквозь них не видно. Приехали. Крыльцо, освещённое лампочкой. А дальше, за дверью, начало совсем другого, не такого, как всегда, времени.
Как же я устала за ночь! Велено раздеться. Женщины командуют, они авторитетно спокойные, изучающие и даже …жёсткие. Жёсткость тут лишняя, считаю я. Голоса у них ледяные и, словно (как и стены) белые. Велят (приказывают) встать на весы. Будто пред закланьем. Спрашивают и записывают. Про себя возмущаюсь: разве можно тут ещё что-то спрашивать да записывать? Не видите, что творится? Но измотанность гасит последнее проявление воли. Сижу тупо на кушетке.
Интересно: а куда подевался мой враг? Где боль? Свирепствовала только что, перед выездом так ударила, что я подумала: конец! И, надо же, отдыхаю! Даже странно… Неожиданная мысль: «она испугалась». Нет, не так: «она почувствовала, что пока надо затаиться…» Додумать эту, возможно, весьма позитивную идею, не даёт команда: «Туда». Иду бодро, куда велят. И попадаю в сырость плохой бани с тусклым светом. Здесь шумит вода, хлоркой несёт нещадно.
Одна из ледяных тёток, обычная бабка в рваном халате и в галошах. Так как обувь сама по себе редкая, я загляделась. Лицо у санитарки тоже удивительное: рябое, всё в одинаковых рытвинках. «Давай ложись!», – бухает на «ты». Чем эта бабка тут занимается – не позавидуешь. Она промывает чужим людям кишки, вот и орудие труда в боевой готовности: резиновая грелка, но с трубкой, по которой идёт вода в человека, лежащего в позе гермафродита на затянутой клеёнкой кушеточке. После этого следует естественное в таком грязном туалете, что кратко объемлет страх, но радость отдыха от главного сильнее страха.
Вообще, состояние такой силы отчаяния, что уже всё на свете не имеет значения, – лишь бы продлилось затишье среди боя… Душ рядом. Видимо, хлещет день и ночь, никаких кранов. Никому из нас, прибывающих сюда, не положено регулировать воду. Идёт, сыплется, словно немелкий горох, «одна вода», довольно горячая. Жаловаться некому, да и растерянность: а, собственно, как тут мыться ниже пояса, венчик душа на крепкой железяке, уходящей под потолок? Попытка сообразить развлекает. Вроде, голову мыть не обязательно… Всё-таки удалось, человек изобретателен в мелочах. Но грустно! Будто я одна в целом мире стою под уродливо бьющим грубым душем… Неужели есть ещё хоть один такой загнанный человек?
После мытья бабка вручает полотенце, и готова куда-то сопровождать, стоит с угрожающим нетерпением в дверном проёме, за которым оказывается небольшой, будто вестибюль крематория, вылизанный коридор. Светильники дневного света горят стройно и безжалостно. Может, ведут умирать… Мы идём вдоль стены до открытой двери:
– Туда, – говорит бабка-санитарка. И, надо же, хихикает.
А я пугаюсь, но вижу: комната, окно в глубине, за ним чёрное утро. Должно быть утро: я не спала всю ночь.
Сейчас должно быть утро нового любимого с детства дня: январь. Пятое число, ёлочно-подарочное. Каникулы, счастье…
На кроватях лежат. У окна – большой волосатый живот. Волосатый вкруговую. Мне велят лечь напротив дверей, это хорошо: так не виден этот раскрытый живот. Вот, если б он принадлежал мужчине, толстому-толстому, но мужчине… Но это, конечно, женщина. Какое-то время я предаюсь праздному рассуждению: как жутко иметь такое волосатое тело и как с этим бороться… Вот как ноги побрить, если они волосатые, это известно. Я рада этим отвлечённым и отвлекшим от главного (страшного) мыслям косметического характера. Да и лежать так хорошо, и даже после столь варварского душа приятно. Кровать чистая, одеяла нет, только простыня. О, как мне делается легко и спокойно…
Нянька ушла, пришёл врач. Руки молодые, мягкие, в лицо не смотрю. Всё записал, умненький, деловой.
И вот уже полностью обманутая затишьем, закрываю глаза. Я почти уверена: всё то ужасное, с чем прошла ночь, отпало, не вернётся. В состоянии невиданного блаженства я проваливаюсь в радужный восхитительный сон… Куда-то еду, еду… Мне так хорошо уезжать подальше от этого кошмара… Неожиданно – ухаб! Подбрасывает… И адская боль врезывает, подлая-подлая боль! Я просыпаюсь, точно пойманная рыба, открываю рот, дышу, боясь на этой раскалённой суше умереть. Вижу: кафель на стене – белые гладкие плитки до самого потолка. Моя боль взвивается по кафелю и соскальзывает вниз. Снова интервал. Простыня культурно прикрывает тело, на которое смотрю, будто на опасного врага, готового нанести новый удар.
Кто-то орёт, отвратительно причитая:
– Ой, мамочки, о-ой, родненькие!
Мимо моей койки пробегает врач, за ним женщина в белом халате. Ещё аккуратней накрываюсь и слегка поворачиваю голову. Так и есть: живот волосатый, он-то и орёт. Голос врача недовольно:
– Прекратите метаться.
Живот смолкает. Мне стыдно за него. Я хочу что-то подумать о том, как же стыдно так кричать, так «метаться-раскрываться», но снова укатываюсь с горки вниз… Детство, каникулы, качусь: впереди бескрайняя ледяная долина пруда. Так хорошо мчаться на санках с горы!.. Неожиданно – стоп, снова удар… Этот приступ мне удаётся победить, но труднее. Я так занята своей особой, что не заметила, как исчез с кровати у окна странно-волосатый живот и с ним неспокойные крики. Сама я спокойна. Когда врезывает вновь, дышу глубоко; и, если уж совсем нестерпимо, стискиваю зубы. Душно, тошно, простынку придерживаю, но, кажется, и она давит. Она тяжёлая, мешает своей тяжестью.
Со стороны окна засинелось. Теперь уже ясно: утро. Свет близится, идёт…
Сон схватывает внезапно, да так крепко он наваливается на меня, опрокидывается всей мягкой приятной тяжестью. И нет меня – один тёмный сон, будто нырок в смерть за силой, чтобы жить дальше. Будит она. Боль. Резкая, дикая! Блестящие пронзительно белые кафельные плитки: один ряд, другой. Боль по ним, как по клавишам рояля до самого верха, до верхней ноты, для слуха отвратительной.
Что же может произойти в комнате этой, если здесь такие немыслимо белые сверкающие, взвизгивающие стены? И негде взгляду задержаться, неоткуда взять сосредоточенность, чтоб остановить этот визг. Чей?.. Вбежал белый халат, руки знакомые. Врач. Его что, кто-то звал? Э-э, да это же она звала… Моя боль, это она визжала. А я? Я – нет. Я сильная. Неужели я тоже потеряю стыд и заору какие-то «мамочки-родненькие»? Сжимаю губы, зубами прихватываю нижнюю, чтоб не вырвалась, чувствую – солоно во рту – прокусила. Но зато эта змея, главная боль, очевидно ослабела. Только тесно, хочется разметаться, распластаться, а может, разорваться вдоль.
Опять как-то так вышло: кричу. Бессловесно, но явно крик взлетает сам к последнему ряду кафельных плиток! Лично я не хотела кричать. Ну, и отошло. Но только откатило, как опять! Всё, я пропала. Борьба идёт не на равных, и противник победит. Простынка сбилась. Когда отошла боль (не на большое расстояние отошла – это уж точно), всё поправила: рубаха, простыня… Лежу смирно и тут же проваливаюсь. Похоже: я раздвоилась! Одна Я хочу спать, а другая… Невыносимо! Засыпаю, и всё! Не расти трава! Другая Я… Ха! Не Я! Всё в том-то и дело! Не Я, а ОН!
Я похожа на какой-то странный овощ, внутри меня вырос ещё один овощ и мечтает выйти, разорвав мою жалкую оболочку. Ему в это утречко на свет надо! Ему! А не мне. Мне вообще-то надо спать! И я засыпаю! Но боль будит, конечно. Она с НИМ заодно. Нет ничего более жестокого: пытка, как пытка. Какой там стыд – пропадает всё. Где эта простыня? Зачем простыня? Зачем всё…
Врач и ещё кто-то в белом, они крутятся возле меня. Ага, – решаю (конечно, никаким решением это не назовёшь) – всё случится прямо тут, на этой кровати. Крик уже заматерел, обнаглел. Крик, полный значимости и важности, сам вырвался, сам вспорхнул по блестящим рёбрышкам кафеля от низких нот до высоких:
– Аааааааааааааааа!..
Врач этот, чужой чей-то сын или, может быть, уже чей-то муж, что-то делает там со мной, в чём-то удостоверяется, оголив весь мой несчастный белый живот, напоминающий гладкий перезрелый неведомый снаряд. Последняя капля стыда… Да, что я окончательно потеряла, так это стыд! Может, от значимости момента. Потому что все, кто в это холодное зимнее утро входят сюда, обычные люди, ничем не обременённые, и только я и подобные мне имеют право на эти нечеловеческие вопли.
– Надо её вести!
Мне хочется возразить: куда ещё? Никуда не хочу! Но уже поднимают и тащат. Впрочем, иду сама, еле передвигая ноги, с двух сторон поддерживают. В низу живота так спрессовано, далеко не уйдёшь… Куда же, всё-таки, прёмся? Коридор, направо дверь… Свет ослепляет: мы оказываемся, будто в цехе, где производят какие-то сложные приборы.
Подводят к столу. Железный стол! И, надо же такое выдумать, велят взбираться! Узнаю – гинекологическое кресло, разложенное, замаскировавшееся под стол; вот и эти крутящиеся холодные полукольца для ног. Ноги приказывают водрузить. Какой уж стыд, но всё равно противно, так как народу тут хватает. Под часами, висящими на стене, стоит обычный стол. В треугольнике между своих ног вижу белые шапочки за ним. Боль оглушает. И, всё-таки, никак не верится, что всё, такое большое содержимое живота, каким-то образом выйдет наружу.
Чьи-то руки мягкие настойчивые. Они ничего не делают, просто лежат сверху. И приказ от них: «Не терять схватку даром» (такая тут пошла терминология). Но где взять сил? Почти светло за окном, забеленным до половины. Неужели за этой замазкой есть город, дома, люди, автомашины? Тут теперь только боль. Часы на стене идут. Руки эти глажу своими, будто прошу у них избавления. На какое-то время белые халаты обступают меня со всех сторон. А потом отхлынули. И только руки эти со мной. Моя оболочка, моя кожура лопнет! Боль меня разорвёт. Мне мало места, и эти люди ничем не помогут мне! Между своих раскинутых ног, уставших и затёкших, вижу стену. Часы на ней, но я не могу сообразить, который час… Знаю только, что это утро, что день начинается, день рождения… Сколько раз мы потом будем праздновать этот день!
Кто-то говорит спокойным сонным голосом человека, отработавшего ночь и потому безразличного:
– В деревне раньше рожали в поле, в стогу, в бане…
– Ребёнок долго стоит в родах, – возражает другая.
Я слышу это так, будто ко мне сие не имеет отношения, я в оцепенении, в жутком страхе последнего ухода. Но инструмент этот вижу. Ножницы. Почти самые обычные. Знаю: режут по мне – кровь брызнула на маску склонённого у моих ног лица. Моя кровь. Но мне совсем не больно. Глаза над маской… Я потом её узнаю по этим глазам. Мне видится наша смертельная близость с этими глазами. Я забываю, что это для неё всего лишь работа. И делается просто, будто волна поднимает меня! И забыто всё: боль, страх, стыд… В последний момент меня нет. Я – средство, та дорога из небытия в бытие, по которой проходит новая жизнь!.. И сразу легко. Надо мной держат тельце. Розовато-синеватое.
– Мальчик, – говорят глаза над маской, уже свежей, окровавленную сменили.
Мне очень-очень хорошо. Вижу какой-то сосудик плоский подносит санитарка, и кто-то говорит:
– Чистая кровь.
Я пытаюсь высмотреть, что же творят с тем существом, которое хриплым баском простонало, как бы нехотя, лениво оповестив о жизни своей…
Изабелла и Катя. Святочный рассказ
Нет, мать не оставила её в роддоме, а принесла ребёнка в подвал и ну её воспитывать!
– Я из тебя человека-то сделаю!
Младенец лежал, ничего не понимая.
– Ты у меня будешь хват из хватов, за мамку всем бошки поотрывашь и в помойку побросашь!
Ребёнок заревел.
– Я те повеньгаю! Не ори!!!
Дочь испугалась и умолкла согласно.
Дни стояли морозные, в окно дуло, молодая мама раскочегарила печку, да и не заметила, как один уголёк выпал. Мимо шла соседка Пантелеймоновна, и потом она всем раззвонила:
– Вижу: дым из окошка. Оно фанерой закрыто, из-за фанеры так и прёт. Хорошо – дверь была не на замке. Вбегаю и вижу: сама в одурении, а крошка кричит во всю головушку, посинела аж.
За месяц младенческий надоела медсестра, «гадина чистенькая»: «Как же так можно, мамаша!» «А вот так! Пошла отсель! Как хочу, так и воспитую!»
Пролетело десять лет. В доме культуры играли в прятки. У шторы тяжёлой (от пола до потолка) ненароком очутились вместе, притаились две девочки. Одна полненькая, нарядная с красивыми, как две хризантемы, бантиками:
– Сейчас нас найдут!
– Фигу! – возразила другая, худышка, сиплым тенорком. – Айда за мной! Я каждый зауголок тута знаю. Я не только на «ёлках», я тута каждый день ношусь. Мы по лесенке на верхотуру проберёмся!
– А там… не страшно?
Слуховое окно прикрыто решёткой, девочки смотрели через квадраты в ней.
– Гли-ко, город!
– Это как в «Тимуре и его команде»! У них тоже был чердак. Читала?
– Не-ка.
Когда спустились вниз, нарядная, холёная девочка, поражённая бывалостью незнакомки, предложила:
– Давай обменяемся телефонами.
– Чё это?
– Ты мне – свой, а я тебе – свой.
– У нас…нету-ка.
– Нет телефона?
– Нам вскорости приладят, и тогда звони, сколь влезет, – заверила худенькая.
В светлом зале старшая сестра, тоже нарядная, в очках, ужаснулась:
– Ой, у тебя бантики в паутине!
Новая знакомая отказалась выйти на свет. Глядя между тяжёлых штор с неясной пока надеждой, она твердила цифры, их порядок запоминая навек. Это был первый номер телефона в её жизни.Мама и дядя Валя (жена его опять турнула) спят. Допоздна сидели. На столе бутылка, на дне – остаток вина, «бормотуха» (сладкая!) Девочка проснулась первой за шкафом на своей кроватке, отданной соседями десять лет назад. Ноги не входят, спать приходится скорчившись. Темновато у них в комнате: стекло на окне давно выбито, вместо него фанера, и днём горит лампочка. На полу уголь валяется, задергушки оконные побурели. Кроме хлеба отсыревшего, еды нет. Придётся голодом. Телефон! Вот он! Перед сном записала прямо на стене, давно не белёной.
Во дворе хорошо: катись ледяной горкой хоть к самому «Космосу» (бетонные блоки, целые стены – стройка). Врачи (у-у, собаки) запретили кататься по льду, мол, болезнь – от холода. Фигу! Скорее шлёпнуться на лёд и помчаться: мимо белой уборной, мимо сараев. Возле них дядьки пилят широкой пилой с двумя ручками: туда-сюда (дзы-дзе). Запах свежих опилок уколол лицо. Коленки ткнулись в сугроб – приехали: забор, лаз…
Вот и простор большой улицы: трамвай пробренчал, такси промахнуло, грузовик чуть не смял… В кармане позвенькивает мелочь – дядя Валя дал. Всё чего-нибудь принесёт: то яблоко, то апельсин. Он добрый, хотя и не умеет ростить детей. «Хочешь быть моей доченькой? Мои дылды не признают отца. Так и говорят: ’’Пошёл ты на пень…’’. Невежливые». «Заткнись! – отвечает ему мама. – Первей своих воспитуй, сколь влезет, а своей я и сама накостыляю!» «Я тебя, Анька, уважаю, – отвечает маме дядя Валя. – Мы с тобой: одно слово – рабочий класс. Пролетарии мы… всех стран…»
…Как страшно, оказывается, звонить! Тыкаешь в цифры, рука дрожит. Трубки делают изо льда…
– Да, слышу. Не кричи, у меня слух почти абсолютный. В музыкалке все учителя твердят: «С такими данными надо сутками играть!» Посмотрела я в клавир: одни диезы и бемоли, – неторопливо и непонятно, как по радио, будто сквозь улыбку, говорит в ухо трубка. – Приходи ко мне. У меня дома такая ёлка! Папа привёз из экспедиции…
– А как? Я же не знаю дом!
– Ты где находишься?
– В будке! Мы с мамкой из неё звонили врачам, но дядя Валя не захотел от пьянки кодироваться.
В телефоне появляется молчание, а затем немного растерянный вопрос:
– А улица какая, где эта будка?
– Улица Красная! – догадка осеняет, пронзает: – Знаешь, где «Космос» строят?
– А ты что… там и живёшь?
– У самого! Я в жёлтом доме живу. В подвале.
Опять молчание, более продолжительное и более удивлённое. Рука замёрзла, варежки потеряны, ноги тоже окоченели. А голос спокойненько говорит:
– Я живу в доме, где гастроном с колоннами, на проспекте…
Ну, это место знакомое! Когда мамка на вокзале шалавилась, по этому проспекту они сто раз в троллейбусе ездили, а в гастрономе покупали: то молоко, то кефир (когда деньги есть, конечно). Дома там – ого-го! Сплошные. Один дом превращается в другой. В каждом по магазину, а то и по два. Надо бежать скорей, отогревая руки и ноги, да твердить: подъезд первый, квартира шесть.Каждое утро дедушка, почётный железнодорожник и персональный пенсионер, спускается в магазин. Покупает молочные продукты, сыры, колбасы, рыбку красную, и полную сумку тащит домой. Сын в разъездах, сноха – артистка, вот и волоки.
– Здрасьте!
– Здравствуй, девочка! – ответил дедушка. В подъезде очки у дедушки запотели, но через туман разглядел он что-то необычное, а потому спросил немного въедливо: – А ты к кому такая?
Бойкий голосок выдал номер квартиры.
– К нам?!
Они входят в лифт, едут на четвёртый этаж. Лифт останавливается, и они выходят на площадку: дедушка, удивлённый и не обрадованный, и девочка в задубелом на холоде плаще с разными пуговицами. Там, где нет пуговиц, видна куртка, взятая у матери вкрадче из-под матраца. Интернатское пальто, новёхонькое, загнала мамка у перехода, а то дворничиха чуть дверь не оборвала: «За комнату не плачено! Свет вырубим!» Гадина. Мама и не слышала, как она куртку из-под неё тянула, они с дядей Валей на работу не пошли, будто у них тоже зимние каникулы.
Пока дедушка неторопливо, словно раздумывая, отпирает высокую обитую бордовой кожей дверь, девочка притопывает.
– Холодно? – поглядел с опаской.
– Малость заколела!
На всякий случай девочка рассмеялась. Вышло хрипловато. Её смех прокатился гулкой широкой лестницей, ударяясь о гранит ступенек, будто слепленных из каменных зёрнышек.
Дедушка открыл дверь:
– Ну, входи, коли так… – А что «коли так», не сказал. – К тебе, Катенька, тут…
– Изабелла! Ой, ты чего так вырядилась? Бабушка, это такая смелая девочка, и её Изабеллой зовут! Представляешь, у неё имя, как у винограда! Когда мы на юге отдыхаем, там столько этого винограда!
– Девочка, Изабелла, а ты чья?
Ну и бабушка! Как врачиха! Того гляди, пырнёт иглой. На пень нужны эти уколы! В больнице только знай кололи, ехидницы! Да лучше подохнуть.
– Я вам всё распроясню! Меня так назвала наша соседка в доме Пантелеймоновна. Маникюршей она работает. Деньги ей под салфеточку кладут. Умеют люди за «так» хапать, это тебе не уборщицей вкалывать: пока все туалеты вымоешь, – в глазах темно, а как получать – фига. Когда был пожар и дым у нас с мамкой, она взяла меня, Пантелеймоновна-то, и пошла давать имя. У неё кругом пузырьки. Я была маленькая у неё в комнате, ногти я красила, да и рожу заодно! Ха-ха-ха! Я и маленькая была смелая, хват хватом…
– Господи, а мать, где мать этой девочки! – воскликнула вполне бессмысленно бабушка, как бы теряя сознание.
Дедушка стоял возле двери. Точно боясь упасть, он крепко стиснул медное кольцо тяжёлой ручки. (Золотая! Вот бы поиграть!) Но был он, вроде, и наготове бежать за помощью в ещё одну имеющуюся на этой площадке квартиру.
– Мамка моя, говорите, где? Они уже тю-тю с дядей Валей! Поди, у рынка…
Ужас на лице бабушки сделался подвижным: подкинулись брови к гладко причёсанным волосам, затрепетали. А Катя навалилась на стену и (рохля она известная, «одиннадцать лет, а ума нет», – говорит старшая сестра) начала понимать, что допустила оплошность.
– Погодите! Бабуля, дедуся! Мы с ней, – у Кати уж и радости в голосе нет, и восхищения именем – ноль, да она уж и не произносит это, казавшееся только что красивым имя, – мы с ней познакомились там!
– Где это там!? – вонзается вопросом бабушка. – Где ты ходишь, господи, неужели на катке? Нет, я и отцу, и матери скажу, пусть сами разберутся и с катком, и с этикетками.
– Ну, бабушка! Чем плохо собирать этикетки?
– Ты же календарики собирала, – укорил дедушка. – А спички – дело серьёзное, вдруг, пожар. По вине такой девочки, помнится, весь наш барак даже и не шаял, а сразу пыхнул – и нет его!
– Дела давно минувших дней, – окоротила бабушка эти неуместные воспоминания о бараках.
– Мы познакомились в ДРК!
– На «ёлке»?
– Да.
– В Доме работников культуры?
– Да.
Бабушка ошеломлённо посмотрела на Изабеллу:
– А ты что, девочка… у тебя родители – работники культуры?
– …про рынок, – просуфлировал шёпотом дедушка.
– Что же они делают на рынке? – спросила недовольная подсказкой бабушка. – Ты, кажется, сказала, что твои родители пошли на рынок? Они торгуют чем-то?..
– Нет! Что вы! Они ночью пойдут на стройку… Знаете, где «Космос»? Наберут извёстки, в мешок покладут, а утречком – к рынку, там у ворот извёстку всем продают: тридцать рублей – кучка; покупай да бели, сколь влезет…
– Они работают…?
– Мамка в ДРК. А дядя Валя – маляр, но редко ходит на работу: он, то болеет, то пьяный.
– А мама твоя тоже пьёт?
– Ну, дак! Жить-то надо, вот и поддаёт.
– Какой кошмар! Постойте, погодите, – бабушка скрылась за матовой стеклянной дверью. – Катя, помоги мне.
– В ДРК она мне ничего такого не говорила про своих родителей! – слышался из-за дверей виноватый Катин голос. – Да и одета она была нормально: в школьную форму. И никакого запаха «трущобы», как ты сказала, бабушка, я не почувствовала, так как у меня насморк!
Бабушка вышла в прихожую с большим пакетом, протянула Изабелле.
– Девочка, ты беги… Ну, скорей! – дедушка отворил двери, с площадки потянуло холодом.
Изабелле стало зябко. Ей показалось, что её сейчас выбросят из жизни, которую она, явившись непрошенно, полюбила, непонятно за что. Она вышла и запрыгала по лестнице, на которой не видно ни соринки, ни пылинки, угля и тараканов, крошек и окурков тоже нет. «Как в больнице», – подумала Изабелла с ненавистью.Домой она прискакала быстро, предчувствуя радость оттянувшего руку подарка. Юркнула мимо парадного, спустилась во двор чёрной каменной скособоченной лестницей вниз да вниз… Дядя Валя с мамой сидели за столом, пели песню:
«Ох, мороз, мороз,
не морозь меня…»
Изабелла развернула свёрток на своей кроватке. Что там было! Вот это да! Платье, совсем почти новое, шапка, и ещё полно добрых вещей! А среди них – завёрнутый в полотенце хрусткое каравай с изюмом.
Мать поглядела:
– Давай сюда хлеб! Озолотилась где-то! Я ж говорила, будешь у меня пройдошной да пронырливой. А ещё, собаки, из интерната вышибли, я им покажу такой пилонефрит! [2]
– На-ка, доченька, выпей с нами винца! – пригласил дядя Валя. – За обновочки-то и выпей за свои, поди, не ворованные?
– Ты чё, сдурел? Чтоб моя девка, да с ворьём ватажилась? Поди, Пантелеймоновна, лахудра старая, отдала. Она всё нам чё-нибудь сбагрит; вона, гли-ко, кастрюлю притаранила, целая, а что ручек нет, дак…
Темно было. А катко!.. До самой помойки – сплошной лёд, стрелой вёз! Изабелла каталась вслепую. В темноте полнёхонькой, спотыкаясь, нашаривала врезавшуюся в сугроб дощечку и смеялась, хохотала прямо до упаду… Снова и снова в пьяной радости взбиралась она по склону на самый верх ледяной горки и едва успевала сесть. Никого не было вокруг: ни детей, ни взрослых. Все уж спали давно, а она летала…
Ей хотелось на фанерке на своей переметнуться через все сугробы, через заборы, домчаться до «Космоса», пронестись и над ним! Скорее в полёт, снова и опять, сколь влезет…хват хватом…Мама Саня
У Александры Ивановны случилось горе… Сын Андрюшка привёз из армии узбека и женился на соседней разведёнке. Но поняла она это только тогда, когда вышла на работу и рассказала обо всём старшему корректору, умной женщине Маргарите Семёновне.
Рассказав, ушла в цех верстать газетную полосу. В голове продолжал звучать укоризненный голос Маргариты: «Как ты могла такое допустить, Саня!», а потому в полосе Александра ничего не видела. Она остервенело поддевала шилом не те строчки. Слёзы падали на металл, задерживаясь на его жирной смазанной чёрной мастикой ребристой поверхности. Кое-как закончила, оттиск отнесла в корректорскую, не оставшись там под осуждающим взглядом Маргариты Семёновны ни на одну секунду.
В цехе, как всегда, было много работы: поставила раму для следующей полосы, притащила набор от линотиписток. Пока возилась, немного успокоилась и даже подумала, что, может, никакого горя у неё и нет, но тут явилась, дымя папироской, Маргарита Семёновна. По долгу службы она должна была читать всё, что наверстает Александра. Её глаза мутно-серого цвета выражали любопытство: обычно Александра работала безукоризненно. Глядя выпытывающе поверх очков, корректор проговорила прокуренным голосом, полным сипения:
– Саня! Ты запорола вёрстку.
Оттиск этой газетной полосы Маргарита Семёновна держала согнутым, двумя пальцами, как бы давая понять, что прибежала не столько ради выправления ошибок в вёрстке, сколько для того, чтобы выправить ошибки Александры, совершённые ею в жизни.
…Окна типографии шли почти вкруговую, открывая с трёх сторон лохматое от облаков небо, зеленеющие под снегом, не успевшие пожелтеть кроны лип, а на рябине – галдящую воробьиную тучу. Александра глядела на воробьёв, привычно подперев боком верстак, а Маргарита Семёновна, как для долгого разговора присела на краешек стола. Александра поняла: разговор предстоит неприятный.
Маргарита Семёновна всегда давала полезные советы. С большим трудом им следовала Александра, потому (считала Маргарита Семёновна), что у Александры не хватало ума. На этот раз было много советов. Но, как ни странно, Александра всё выполнила. Подружилась, можно сказать, со своей соседкой по дому портнихой Лидией Петровной, с которой они несколько лет не здоровались. Но, следуя совету Маргариты Семёновны, Александра поздоровалась первой, заговорив о том, что скоро должен вернуться Андрей. Лидия Петровна обрадовалась. Её дочь Нелечка окончила текстильный техникум. Эта акция называлась словами Маргариты Семёновны: «Сына женишь по-хорошему». Вторая заключалась в том, что в двух комнатах, принадлежавших Александре в коммуналке, был наведён старческий уют. На диванах и на креслах были постелены белоснежные покрывала, купленные по дешёвке, но добротные. На столе были разложены кружевные салфеточки («Ты пожилой человек, Саня, тебе нужен покой»).
Старший корректор Маргарита Семёновна, с которой Александра работала в типографии с юности, знала, что у верстальщицы Саньки жизнь вышла непутёвая: замуж трижды выходила, и всё неудачно. Сына Андрея растила одна; тот не блистал учёбой, кое-как закончил ПТУ на слесаря-сборщика. Служить в армии напросился в воздушном десанте… «Как ты могла такое допустить!» – всплеснула руками советчица. Сын Маргариты Семёновны был «спасён» ею от армии с помощью справки, купленной у знакомого врача. «Останешься без сына или вернётся инвалидом», – прогнозировала умная женщина, а потому Александра ждала со страхом окончания службы.
Перед этими выходными, перед ноябрьскими праздниками, выдали зарплату. Пришла домой с работы и обомлела: в коридоре висел бушлат.
– Баба Саня, дядя Андрей приехал! – сказал соседский мальчик.
Его младшая сестрёнка захлопала в ладоши, хотя Андрея помнить не могла. Дениска помнил, всё же постарше, да и, к тому же, Андрей подарил ему игрушечное авторалли, видимо, ребёнок поджидал приезда соседа, так как без него тут некому было с ним поиграть с таким же азартом.
В комнате, обставленной для тихой старческой жизни, раздавалось похрапывание. На новом диване спал во весь рост в физкультурном костюме Андрей, без всяких сомнений абсолютно здоровый. Александра приковалась взглядом к родному лицу. Кудри, не патлатые, как до армии, а короче и темней, рука свисает тяжёлая… С непонятной тревогой смотрела мать на эту руку. «Повзрослел», – подумала, очарованная своим взрослым сыном. Будто оцепенев, она боялась заплакать. Была ли она когда-нибудь ещё такой счастливой… На раскладушке спал ещё кто-то, накрытый детским одеялком Андрея: черноволосая голова, загорелые тонкие руки; лица, уткнувшегося в подушку, не разглядела.
Надо было готовить (варить, жарить, печь), но сначала – в магазин. На обратном пути позвонила в дверь к портнихе, обрадовав их с дочкой новостью. Нелечка примеряла новое платье (хорошо шьёт Лидия Петровна). В одной из комнат – солидная швейная машина, внушительная, как станок. Берёт, правда, портниха эта дорого, но теперь сошьёт уж Александре… по-родственному, со скидкой… Она как-то раз сама сказала: «Саня, как ты одета!» Понимать они стали друг друга прямо с полуслова. А накануне был у них разговор: Лидия Петровна хвалила Андрюшку, мол, из всех безотцовых мальчишек их двора он один и не сел, и, вроде, удивилась этому. Но образование не устраивало будущую тёщу. Решили: вытолкают сообща на учёбу (автотехникум за углом), а пока… не всякий и с образованием столько заработает, сколько Андрюшка на сборке двигателей.
В большом их общем коридоре проснувшийся Андрей играл с детьми в прятки.
– Мы тебя нашли! – оба повисли на нём.
– Есть хотите? – спросила, входя, Александра.
– Хотим! – с привычной радостью откликнулась малышня.
Андрей собирался что-то сказать… Лицо его остановилось:
– Мамка, – неловко обнял.
Сын оказался ещё больше, чем был. На стол взгромоздил руки, счастливо улыбался. Соседские детишки пристроились рядом.
– Я пригласила Лидию Петровну с Нелечкой.
– Зачем? – догадался.
– Девочка выучилась, специалист по тканям, каждый день в новом платье, но при этом скромная.
Пожал плечами (что это могло означать?) Конечно, парню не очень нравится, когда девица по нему сохнет, но и должно быть лестно: эта с пятого класса у дверей. То ручку, то карандаш, то книжку, а у самой полно всего. Лидия Петровна плакала на этой кухне: «Саня, она меня с ума сведёт: “Люблю”, – говорит». А он её в упор не видит. Лучше Нелечки не найти невесты в их микрорайоне. Девчонки сейчас пошли какие: пьют, курят, гоняют с парнями на мотоциклах. А эта всё уроки учит, всё с портфельчиком.
– Мама, я тут… с другом приехал… – Вроде, не возразив, сын перевёл разговор: – Говорил я ему: езжай к себе на родину, там тепло, а он заладил: «Нет, я с тобой». У него все родные погибли. Сирота! – Андрей поднял светлые глаза, они чуточку косили, и было в них столько доброты, что у Александры перехватило дыхание.
Карим, затянутый в мундир, явился на общую кухню. Доставая из буфета посуду, Александра обернулась да чуть тарелки не выронила: лицо тёмное, глаза – щёлки, сам мелкий… «Как такого взяли в десант?»
– Тётя Саня, – представилась.
Улыбнулся тот ослепительно, склонив голову набок, будто прислушиваясь к её непонятному имени.
– Мама Саня? – спросил, покосившись на Андрея.
Андрей засмеялся, Александра усмехнулась. Гость понял: сказал что-то особенное.
Накрыли на стол. «И как только друг друга понимают», – Александра с тревогой посматривала на узбека и на сына своего беззаботного, готового всему радоваться. Но за столом разговор шёл складно, Карим хорошо знал русский язык, и Александре подумалось, что он нарочно назвал её так, чтоб подольститься.
– Первый раз меня вытолкнули из вертолёта…. Сам бы ни за то не выпрыгнул, – гудел голос Андрея.
Гудела счастливым гудом душа Александры. Подперев голову руками со следами порезов от металла, она хотела запеть хорошую русскую песню, но ком в горле из множества чувств, подкативших враз, никак не давал песне вырваться, и она клокотала в душе, и так горячо было от неё, что весь мир хотелось теплом этим обогреть.
Под такое настроение она согласилась, чтоб Карим пожил у них. Встав из-за стола, отодвинула к стене раскладушку, на которой недавно спал гость, говоря, что так не понадобится раскладывать каждый вечер, забыв, как устраивалась в этой комнате (теперь ей придётся перейти в маленькую). Не подумала. И только нынешним утром поняла, что все эти планы рухнули.
Соседские дети нахлобучили на свои головёнки армейские шапки и ходили «строем». Мальчик командовал, серьёзно сдвинув брови: «Раз-два, раз-два!» Девчушка весело повизгивала, и они, трое взрослых людей, тепло переглянулись.
– Дверь стукнула, посмотрю, кто, – вскочила Александра, хотя знала, что это – Альба.
Продрогшая, согнувшаяся пополам, стаскивала она сапоги, рядом плясали дети:
– Дядя Андрей приехал!
Альба распрямилась, кинула на вешалку куртку. Рыжие волосы хлынули на плечи. Отмахнувшись от них, посмотрела Александре в глаза синими тихими глазищами:
– Вот и две зимы…
В комнату вошла робко, нерешительно остановившись на пороге.
– Привет… – Андрей смутился от неожиданности, быстро оглядел её и замер.
– Здравствуй, – смутилась и она.
Альба была высокой, тонкой, но с большой грудью, будто всегда была кормящей матерью. Андрей вскочил, уронив пару стульев, сдвинув их застолье, чтобы соседка оказалась рядом с ним.
– С Владькой не живёшь? – взял осторожно её красноватую огрубевшую руку, спрашивая так, будто это значило больше, чем простая информация о жизни соседей.
– Нет, – слишком резко ответила она. – На алименты подала.
Александра достала ещё одну тарелку, посмотрев на сына. Он всё держал Альбину руку в своей, будто не знал, что делать: пожать или нет, а смотрел необычно серьёзно в её бледное страдальческое лицо.
– Не приходит?
– Приходил – выгнала, – Альба с торжеством взглянула на Александру. – Мы с тётей Саней его не пускаем.
– Сколько можно издеваться, – выговорила Александра. Сердце беспокойством облилось, но тут же и смолкло, уж очень хороша была Альба в своей непривычной смелости. – Ты ешь, голодная, с работы…
– Думаю, надо тебе с ним совсем… развестись, – сказал напористо Андрюшка, глядя на открытую кофточкой долгую белую шею.
– Думаешь?… Влад сказанул, уходя, что я без него с детьми пропаду…
– Сам он пропадёт, – ответил Андрей и добавил уверенно: – А мы никогда не пропадём.
Альба ещё больше смутилась, горячая радость хлынула ей в лицо.
– Знакомься, – представил Андрей, – сослуживец мой.
– Алля? – переспросил Карим, и опять вызвал смех.
Пришла Лидия Петровна с дочкой.
– Нелечка, садись, угощайся, – суетилась Александра.
– Спасибо, – откликнулась за девушку мать.
Личико у Нелечки было немного птичьем, с детства такое. Опасливо покосилась она на раскрасневшуюся Альбу, которая покрикивала через стол на детей, затеявших игру. Андрюшка что-то спросил у Нелечки из вежливости, продолжая разговор с женщиной (о своих планах вернуться на сборку автомобилей…), называл Альбиной, то есть её полным именем. Раньше так не звал. И та всё: «Андрей» да «Андрей»… Показательно иной раз то, как люди начинают друг друга называть… Но, врубив музыку, пригласил он танцевать всё же Нелечку, и Александра одобрительно поглядела на сына, тревожные мысли выскочили из её разгорячённой, непоследовательной головы.
– Доченька, смелей! Ты прекрасно танцуешь! – Лидия Петровна закачала головой в такт музыке, пояснив Александре: – Специально водила в танцевальный кружок.
Вскоре музыка стала выделывать такие «виражи», что мама Нелечкина не смогла поспеть. А дочка… И дело не в том, что она была низковата для партнёра по танцу… С видом школьницы-отличницы Нелечка вопросительно взглядывала на свою мать, но не поднимала глаз на Андрюшку. Она не попадала в такт и была готова разреветься. Её личико птичье заострилось злобой, будто танец этот причинял ей боль. Танцевали они по-модному, на расстоянии, а потому партнёрша могла прекратить танец самовольно, и удержать её никто не смог. Этого не видела Александра: убегала на кухню. Когда возвратилась, портниха с плачущей дочкой уходили.
– Куда вы? – ловила за рукава Александра, чувствуя, как рушится задуманное.
– Ладно, Саня, – Лидия Петровна нервно распахнула дверь на лестничную клетку. – Да, платье-то я не смогу тебе сшить, много заказов, как-нибудь в другой раз…
Нелечки уже и след простыл, только истеричный топот каблучков вниз по лестнице (туфельки – загляденье). Александра со вздохом защёлкнула замок. Посреди комнаты под гремевшую музыку танцевали Андрей и Альбина. Она, будто цветок распрямилась, вытянулась к внезапно хлынувшему на неё свету.
– Ай, хорошо! Ай, хорошо! – дружно хлопали в ладоши Карим и дети.
Музыка не кончалась… Андрей с Альбой танцевали… И теплом веяло от них, словно прохладным вечером от костра. Так они встретили праздник седьмого ноября. Было ещё застолье, и ещё Андрей с Альбой танцевали, потом они куда-то уходили втроём, а вернулся один Карим. Потом сидели оба (он и она) в кухне допоздна и разговаривали… И Александра сама взяла ребятишек да и увела их к себе, мол, вы как хотите, нам пора спать.
А нынче утром… Нынче утром Александра проснулась на работу и поняла, что жизнь-то её переменилась непредвиденно и молниеносно. В комнате на раздвижном кресле спала, как в кроватке, маленькая Наташка. Чтоб её не разбудить, Александра тихо вышла в коридор. В квартире стояла жара, двери комнат – настежь. В большой комнате на раскладушке чернела голова Карима. На диване спал один, развалясь, мальчик Дениска. А в соседской комнате утренняя сильная луна освещала спящих под простынёй. У шеи Андрея кудрявилась Альбинина голова, и рука её тонкая, но округлая лежала поперёк его могучей груди. Александра вспомнила свои мечты… Теперь она смотрела на советчицу жалобно, будто провинилась. Ковыряя в металле шилом, она бессмысленно поддевала металлические строчки, тут же засовывая их обратно.
– Где была твоя голова, Саня? – качала своей головой осуждающе Маргарита Семёновна.
– Да, да, – соглашалась Александра, – всё как-то случайно вышло…
– Да, нет, Саня, далеко не случайно, – возразила корректор, приступив к выправлению ошибок в неверно свёрстанной Александрой жизни. – Ты сына неправильно воспитала. Помнишь, надеюсь, этого, как его, Лупикова?
– Лупатикова, – покорно поправила Александра, навалившись на верстак, глядя в окно, где шумели воробьи. Тоже дураки, думают: весна, а это просто потепление…
…Лупатиков жил в какой-то удивительной семье. У него были и отец, и мать, и отдельная комната, и магнитофон, и велосипед, чего, кстати, долго не могла купить Александра Андрюшке. Но эти обеспеченные люди забывали поздравлять сына с днём рождения. Они никогда не дарили ему подарков, видимо, считая, – и так всё у мальчика есть. Выдаваемые на школьные завтраки деньги, Димка стал копить на подарок к своему дню рождения, ничего не ел, на физкультуре упал в обморок… Пришлось ей, Александре, устроить день рождения чужого мальчика у себя дома в коммуналке. Они с Андреем подарили ему краски (он довольно хорошо рисовал). Надо было видеть радость этого Лупатикова, когда Александра внесла в комнату большой пирог с вареньем; посредине была выложена подрумянившимся тестом надпись: «Дима: 10 лет»… Ещё был у Андрюшки друг, которого дома били старшие братья, одно время он жил у них. Ещё один тоже квартировал какое-то время: его мать вышла замуж… Так получалось…
– …потому он и привёз тебе узбека. Не удивляйся, парень не виноват, – казнила Маргарита Семёновна. – А соседка?
– Что соседка? – переспросила хмуро Александра.
– Не помнишь, как ты с ней нянчилась? Как Андрея втянула в эту историю? Как за детьми её ходишь, будто за своими внуками?
…Альба в эту комнату переехала с мужем Владом. Он много говорил, так как считал себя сильно образованным. Закончил институт, пока Альба работала на обувной фабрике, сшивая на машине верх к босоножкам. К Владу она относилась с большим терпением, как к младшему. Вскоре он стал её бить (не пьяница, хвалился трезвостью). Сам признавался: бьёт жену без причин, просто, у него, у Влада, такой «особый характер», вспыльчивый. Альба с утра до вечера работала, стирала, мыла, бегала с детьми по поликлиникам. Александра сразу прониклась к Владу презрением и Андрюшке об этом говорила, так как привыкла с сыном быть честной. Но он и сам отлично разобрался в этом «особом» характере, сказав однажды: «Садист этот Влад…» Словом, они (и мать, и сын), невзлюбили соседа, но уважали соседку. Кто знает, может быть, Андрей уже и тогда не только её уважал… Накануне отъезда Андрея в армию разразился обычный скандал. Впервые вмешались. Александра хотела вызвать милицию, но не успела. Сын выдавил дверь соседей и оттащил Влада от жены, которую тот в этот момент пинал ногами. Андрей стал бить Влада так, будто хотел расквитаться за все Альбинины мучения. Хорошо, Александра своими мощными руками вырвала Владика из рук Андрея, отворила ему дверь, чтоб успел Влад ускользнуть. Иначе Андрюшка не в армию бы загремел, а в тюрьму, о которой напомнила недавно Нелечкина мать Лидия Петровна. На призывной пункт провожать пошли все: Александра, ведя за ручку мальчика, и Альбина с дочкой на руках.
Ну а после наступили дни Альбининой безденежности: с выгнанного Влада не получала ни копейки, на время он вообще исчез. Девочка постоянно болела. Александра как-то незаметно стала для этих детей самой настоящей, почти родной бабкой, а для Альбины, можно сказать, «мамой Саней». Так случилось: ближе, родней этой соседки и её детей не было никого и у Александры. Когда они вдвоём говорили об Андрее, теплом светились Альбинины синие глаза. Видимо, ждала его, даже в кино не ходила, и они вечерами смотрели вместе передачи по новому телевизору, подаренному типографией Александре на её недавний юбилей.
– …зачем ты пригрела эту змею… Другая бы комнату сменила, не делала бы такого зла своей благодетельнице!
Александра подняла глаза, тёплые от только что пережитых дум про Альбину. И вдруг её лицо преобразилось, стало свирепым, обнаружилось в нём уже несколько поутихшее бойцовство закалённой коммунальной соседки.
– Это Альба-то – змея?..
Но Маргарита Семёновна продолжила:
– Что же, твой сын не может своих детей иметь?
– Почему? Они мне сказали, что у них будут и общие дети.
– Как же они прокормят такую ораву?
Александра хотела сказать, что прокормят, ведь они оба такие трудяги, да и она им будет помогать, но не сказала об этом Маргарите Семёновне.
– А узбек? Он что, так и будет жить у тебя?
– Почему? Он до армии парашютную школу закончил, прыжков у него больше, чем у Андрея, – говорила с такой гордостью об этом маленьком чужом Кариме, будто он был тоже её сыном, – его в отряд возьмут по тушению пожаров, комнату возле аэродрома дадут, – сказала поспешно.
У неё появилась потребность защитить их всех перед этой женщиной, перед доброй своей советчицей. И вспомнилось ей, как Маргарита Семёновна развела своего сына с хорошей женой, но не полюбившейся ей почему-то. Вспомнила, как она возненавидела соседей за то, что «здороваются сквозь зубы». Она подбрасывала им мусор под двери и судилась. Сначала – с верхними, потом – с нижними… Сколько бы Маргарита Семёновна ещё могла судиться, если бы жила не в отдельной, а в коммунальной квартире?!
– Ладно, сама как-нибудь, – сказала Александра.
– Ошибок куча, – Маргарита швырнула газетный оттиск на верстак.
– Выправлю, – пообещала Александра с той самостоятельностью, которой она почему-то не имела столько лет перед этой умной женщиной.
Во дворе типографии таял недавно выпавший снег: ноябрь походил на весну. Александра Ивановна вышла из ворот и увидела всех: Андрея, Альбину, детей и Карима. Они стояли на противоположной стороне, ожидая, когда она перейдёт к ним (собрались в планетарий).
– Мама! Не торопись!
– Тётя Саня! Мы подождём у перехода!
– Мама Саня! Салям…
– Бабу-у-шка!
– Ну, компания! – пробормотала она, заходясь сердцем от радости. – Кого хочешь, с ума сведут…
Когда они все вместе шли другой стороной по одному тротуару, Александра оглянулась и увидела в окне типографии Маргариту Семёновну. Глядит она на них, держа папиросу у лица, и не улыбается.
Несгибаемая вера. Послесловие автора
Когда у нас в стране зачеркнули писателей и разрешили так называться всякому, кто захочет так называться, то случилось главное в списке многочисленных разрушений, которые принесла с собой эта самая перестройка: изменились ориентиры. Человек не может жить без ориентиров. Можно назвать их ещё цели . Бесцельно живут только животные. А человек всегда к чему-то стремится, куда-то идёт вполне нацеленно. Человек не может жить вне этого процесса. Например, бомж. Это тоже человек и тоже идёт к цели: его цель собственное уничтожение.
Много потратили сил разрушители искусства литературы в нашей стране. Правда, они за эту пропаганду получили деньги и должности. Им заплатили. Часто – из-за океана. Зато для других людей страны итог вышел не очень выгодный. Человек пошёл не туда. Он пошёл за бомжами. За представителями самого низкого уровня человеческой социальной лестницы. Причём скопом. Весь народ. Смена ориентиров предполагает смену авторитетов. Так появились в качестве авторитетов слабенькие поэтики и поэтесски, мелкие сочинители якобы прозы и так далее.
Эти мелкие заменили гигантов, истинных представителей искусства: Сергея Есенина и Михаила Шолохова, например. Какая-то мелкая поэтесса стала авторитетной, на неё всяк стал ссылаться и цитировать её неумные строки. Какой-то путаный сочинитель непонятных стихов, в своё время совершенно напрасно выдворенный из страны, занял пьедестал великих поэтов. И в результате на пространстве представителей искусства литературы, которые являются традиционными писателями, то есть в писательстве людьми грамотными, поселились любители. Любители не имеют понятия о рифме, не имеют понятия о смысле, не понимают, что такое художественное произведение литературы вообще, они не учились профессии писателя и у них нет к ней способностей. От огромного количества их книг уже тошнит читателя, но власти предпочитают не замечать этого явления, которое не является безобидным, если вспомнить известную истину, что станет, если слепые поведут слепых.
Вы прочитали мою книгу «День рождения». Она, в основном, состоит из новелл. Немного расскажу о том, откуда берутся новеллы. Вообще все произведения литературного искусства берутся не «из сора», как ляпнула одна мелкая поэтесса, которую стали считать крупной, а из чего-то прекрасного, доброго, а иногда и великого, происшедшего в самой жизни. Иной раз это бывает великое горе, а иногда любовь…
Например, моя новелла «Залётный музыкант» произошла из одной моей командировки, когда, приехав корреспондентом газеты в забытый богом и людьми уголок, я вдруг обнаружила там нечто противоположное тому тёмному миру, который там царил. Мир был, конечно, неустроенный, но мир людей никогда не воспринимается традиционным писателем как какая-то мусорная куча. Люди живут в разных местах. Это люди – народ, к которому у писателя как его представителя, душа полна уважением, сочувствием и пониманием.
«День рождения» – так называется другая моя новелла. Об этой вещи сказал один мужчина, что такое ни один мужчина написать не сможет. Речь идёт не о вечеринке, а буквально о том, как происходит рождение человека. Много было за эти разрушительные годы на печатных страницах интима, который всецело был превращён в порнографические, а иногда и в некрофильские описания. Надеюсь, что эта вещь развернула читателя от грязи к возвышенному, от смерти к рождению. В этой книге есть своя особенность: здесь сосредоточились все мои новеллы о детях. Эта не главная моя тема. Все мои главные произведения не о детях. Главными персонажами моих больших произведений: романов и повестей, как правило, являются мужчины, способные на очень мощные духовные движения и очень сильные реальные поступки. Но тема беззащитности мне тоже очень близка. В наше время процветания жестокости даже по отношению к детям, я пою гимн маленьким существам. Я с ними, как гражданка великой страны, как мать и как просто женщина, которую любят.
Я – профессиональный писатель. Книги писателя от книг непрофессионала отличаются многими параметрами, об этом я могу прочитать целый курс по основам писательского мастерства. Здесь упомяну лишь об одном компоненте: о многомерности использования пространства даже самого небольшого по объёму произведения.
Например, в книге «День рождения» есть «Баллада с задержанием» (Милицейская история), где имеется и задержание, и баллады, и физиология неполноценного мужчины, и жестокость, и картины жизни нашей страны на протяжении многих лет. Здесь затронута и сомнительная философия «открытой двери», которая так широко бытовала в советское время и была сильно растиражирована с лёгкой руки не всегда умных «бардов» того времени. В советское время было так много всяческих запретов, что иногда и слабенькие стихи, в которых говорилось мило и трогательно о какой-то навсегда открытой двери, выходили на не соответственный им уровень пропаганды, способной управлять слабым сознанием в качестве руководства к действию. Есть в этой истории и «сон разума, который рождает чудовищ». И бытует этот сон разума не во времена далёкого древнего уже художника, а непосредственно сейчас, когда быт насыщен жестокостью и подлостью, и, к сожалению, нет ей границ.
Скажу несколько слов о новелле под названием «Изабелла и Катя» с подзаголовком Святочный рассказ. Святки, колядки… Приходы детей в чужие дома за получением всяких подарков… Моя персонаж Изабелла в какой-то степени выступила в роли таких детей и кое-что себе наколедовала… На одном из моих вечеров в Центральном доме литераторов один из выступавших коллег в ранге академика предложил эту новеллу включить в школьные учебники. Да, эта новелла понятна детям, подросткам, но она, всё-таки, как и другие мои рассказы о детях, написана для взрослых. Опять же о смыслах… Маленькое пространство этого святочного рассказа насыщено таким количеством идей, как философских, так и социальных, что они неизбежно останутся за пределами сознания незрелого человека. Не каждому и взрослому доведётся прочитать всё, что заложено в этой новелле.
В заключение скажу, что все мои персонажи и то, что случилось с ними, из жизни, но не со свалки, а из её высоких сфер, где властвует добро, любовь и несгибаемая вера в торжество справедливости.
Татьяна Чекасина
Лауреат медали «За вклад в русскую литературу»
Член Союза писателей России с 1990 г.
(Московская писательская организация)Примечания
1
Воровка, совершающая кражи, в основном, из незапертых квартир (феня, арго преступников, прим. автора).
2
Правильно: пиелонефрит – тяжёлое заболевание, часто приводящее к ранней смерти (примечание автора).




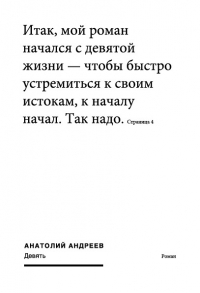



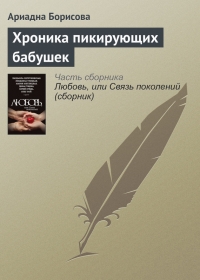

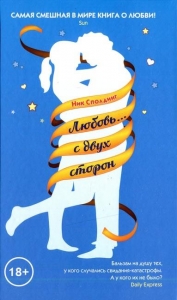


Комментарии к книге «День рождения», Татьяна Чекасина
Всего 0 комментариев