Джефф Дайер Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси
Посвящается Ребекке
Для каждого твоего шага в землю уже впечатан след.
Роберто КалассоВысокие стены, башни, балконы, скалы — вид вдоль изгиба реки, словно вдоль Большого канала в Венеции, или с Джудекки — и вдали погребальный гхат Маникарники…
Аллен Гинзберг, «Индийские дневники»Часть первая Влюбиться в Венеции
Увы, сказать об этом кино нечего; впрочем, роман мне тоже никогда особо не нравился.
Иосиф Бродский, «Водяные знаки»Изгнанные, побежденные, разочарованные, израненные или же просто заскучавшие всегда находили здесь то, что, судя по всему, ни одно другое место не могло им дать…
Генри ДжеймсОднажды в июне 2003 года, когда на какое-то мгновение показалось, что вторжение в Ирак было, в общем, не такой уж и плохой идеей, Джеффри Атман[1] вышел из дома на прогулку. Ему нужно было хоть куда-то пойти: теперь, когда истаял первый приступ облегчения, сопровождавший осознание глобальной составляющей момента — что Саддам все-таки не повернул против Лондона свои несуществующие ракеты массового поражения и, следовательно, миру не грозит быть ввергнутым в пожарище новой мировой войны, — мириады треволнений не столь впечатляющего масштаба мстительно зароились вокруг. Утренняя работа едва не довела его до тошноты. Предполагалось, что он быстренько набросает текст на тысячу двести слов, проходящий по разряду «работа мысли» (и не требующий по самой своей природе ни единого мозгового усилия ни со стороны читателя, ни со стороны автора… и все же никак ему не дававшийся), но эта самая «работа» вызвала у него прилив столь невыносимой скуки, что вот уже полчаса он пялился на маячившее на экране компьютера электронное сообщение из одной-единственной фразы (адресованное заказавшему текст редактору). Сообщение гласило:
«Я больше не в силах делать эту хрень.
Искр. ваш, Дж. А.».Экран предлагал бескомпромиссный выбор: «Послать» или «Удалить». Что может быть проще. Кликни «Послать», и все будет кончено в мгновение ока. Кликни «Удалить», и пожалуйста — ты там, откуда начал. Если бы прекратить собственные мучения было так же просто, каждый день случались бы тысячи суицидов. Ушиб палец на ноге по дорогу в ванную. Клик. Изгваздал манжету мармеладом заутренним чаем. Клик. Дождь зарядил, стоило выйти за дверь, а зонтик остался наверху. Что будем делать? Вернуться за ним, идти так и вымокнуть или… Клик. Еще только печатая первую букву, как, впрочем, и сейчас, держа мышку над «Послать», он прекрасно понимал, что не сделает этого. Сама мысль о том, чтобы «послать», отвращала его от этого. И вот вместо того, чтобы отправить письмо или вернуться к статье о «неоднозначной» художественной инсталляции в Серпентайне[2], он сидел парализованный моментом, не в силах ничего предпринять.
Чтобы разрушить чары, пришлось нажать «Удалить», а после этого бежать из дома, словно с места какого-то ужасного, хотя так и не совершенного преступления. Может, свежий воздух (если его можно таким назвать) и движение вольют в него жизнь, дав силы закончить уже наконец эту дурацкую статью и собрать вещи, чтобы улететь завтра в Венецию. А что в Венеции? Еще одна куча всякой хрени, с которой нужно будет разбираться. Подразумевается, что он едет освещать открытие биеннале — это ладно, это еще куда ни шло, — но потом его ждет интервью с Джулией Берман (ну хорошо, ВОЗМОЖНОЕ интервью с Джулией Берман), и тут уже помимо статьи о биеннале он должен будет убедить ее — упросить, умолить, выстелившись ей под ноги, — дать это чертово интервью, которое меж тем сделает еще большую рекламу новому альбому ее дочери и подпитает и без того раздутую шумиху вокруг папаши, Стивена Морисона, от которого и так проходу нет. И посреди всего этого он должен был заручиться — ну, это как минимум — ее согласием передать «Культур»[3] эксклюзивные права на воспроизведение сделанного с нее Морисоном рисунка — рисунка, которого не только никто доселе не публиковал, но и которого никто из «Культур» в глаза не видел, но который уже приобрел статус редчайшего и невероятно ценного артефакта, — из одного только страха, что конкурирующее агентство первым наложит на него лапу. Каждый пункт этого плана сам по себе был не особо важен. Однако с точки зрения маркетинга и общественного резонанса (или, если угодно, издательского дела, рекламы и тиража) звезды в небе над «Культур» расположились нужным образом. Он должен был найти Джулию Берман, проинтервьюировать и выбить из нее картинку и права на публикацию. Боже правый…
Женщина, толкавшая по тротуару детскую коляску-внедорожник, бросила на Джеффа быстрый взгляд и так же быстро отвела глаза. Кажется, он опять был занят своим любимым делом — не то чтобы разговаривал вслух сам с собой, но тщательно артикулировал слова губами, бессознательно открывая рот под фонограмму мыслей, горестно бившихся о берега его разума. Рот пришлось закрыть и застегнуть. С этим надо было срочно завязывать. В длинном списке всего, что ему нужно было срочно прекратить или, напротив, начать делать, этот пункт красовался в первой строчке. Но если уж на то пошло, как перестать что-то делать, если ты понятия не имеешь, что делаешь это? Шарлотта не раз тыкала ему сюда пальцем, когда они еще были вместе, но, скорее всего, он «пел под фанеру» годы и годы до того. К концу их отношений она не упускала случая поддеть его «караоке с выключенным звуком». «Стоп, — говорила она. — Ты опять это делаешь». Сначала все это сходило за шутку, а потом… потом, как и все прочее в браке, превратилось в камень преткновения, в проблему, в одну из множества мелочей, из-за которых жизнь на планете Джефф, как она называла необитаемые пустоши их брачного союза, стала для нее невыносимой. Чего Шарлотта не понимала, так это что жизнь на планете Джефф была невыносимой и для него — больше, чем для кого бы то ни было. В конце концов, это была его планета. Впрочем, эти муки Шарлотта считала лишь своей прерогативой.
Однако сейчас рядом не было никого, кто предупредил бы Джеффа, что он опять идет по улице и беззвучно разевает рот со странным выражением лица. Привычка была и вправду плохая. С ней надо было что-то делать. Впрочем, кто поручится, что по его губам сейчас нельзя было прочитать что-нибудь вроде: «Это очень плохая привычка с ней надо что-то делать ведь может статься что я сейчас иду по улице и изображаю ртом что-то вроде это очень плохая привычка…» Он вновь попытался слепить губы, чтобы как-то стряхнуть эти мысли. Ведь, по сути дела, единственным способом прекратить изображать слова ртом было прекратить изображать их у себя в голове — перестать думать мысли, которые давали на выходе эти слова. И как, спрашивается, это сделать? Да, такие штуки с наскоку не возьмешь — в них глубоко копаются в тиши ашрамов, а не разглаживают щеточкой для бровей на приеме у визажиста. В конечном счете все, что происходит внутри, неизбежно проявится и вовне. Интерьер будет экстериоризован… Джефф натужно улыбнулся. Если ему удастся ввести это в привычку — чтобы его лицо светилось радостью и в состоянии покоя, — тогда, как знать… посредством интериоризации экстерьера внутри, возможно, тоже воцарятся мир и благость. Только вот улыбаться так было очень утомительно. Стоило ему перестать концентрироваться на этом деле, как лицо тут же стянуло в обычную совершенно-не-улыбчивую мину. Слово «обычная» тут явно было ключевым. Большинство проплывающего мимо народа выглядело уныло, словно смертный грех. У большинства были такие лица — если бы на этих лицах хоть что-нибудь задерживало взгляд, — словно душа смотрела из них волком, скалясь беззвучно и злобно. Пожалуй, Алекс Фергюсон[4] был прав: уж лучше просто яростно жевать жвачку. Если так, то решение было рядом, в маленькой местной лавчонке.
За прилавком обнаружилась молодая девушка индийского происхождения. Сколько ей было? Семнадцать? Восемнадцать? Изумительная внешность и сияющая улыбка, какую редко встретишь на такой работе. Может, она первый день в магазине, отдыхает после выпускных школьных экзаменов, или как они там сейчас называются, или пашет на сердитого папашу, который по-английски почти не говорит, но уже настолько вписался в местный контекст, что выглядит не менее паршиво, чем соседи, чьи предки прибыли на острова с норманнами. Атмана всегда воротило от встреч с этим типом: несмотря на мимолетность их общения, оно напрочь высасывало даже те крохи хорошего настроения, с которыми Джефф переступал порог магазина. Было чертовски трудно подавить привычку говорить «спасибо» и «пожалуйста», но этот парень категорически отказывался подчиняться нормам элементарной вежливости, поэтому Джефф быстро хватал то, за чем пришел — газету или плитку шоколада, — и молча протягивал деньги. Сейчас, однако, все было по-другому. Джефф протянул девушке фунтовую монету. Она дала сдачу, встретилась с ним глазами, улыбнулась. Еще пара лет, и она будет едва замечать тех, кого обслуживает: взгляд на покупки, деньги туда, сдача сюда, — даже не пытаясь сделать из финансовой транзакции низового уровня, каковой оно все и является, нечто другое. Но сейчас это было волшебно. Как же легко заставить человека (то есть Джеффа) почувствовать, что жизнь (то есть он сам) прекрасна, сделать мир чуточку лучше. Ей-богу, загадка, почему так много народу — и Джефф часто оказывался в этом смысле «человеком из народа» — поступает ровно наоборот, делая этот самый мир на весьма ощутимую чуточку хуже. Джеффу, когда он вышел из магазина, было куда лучше, чем когда он туда вошел; очарованный, даже слегка воодушевленный… даже не то чтобы воодушевленный, а скорее заинтересованный. Тем, что на ней, скажем, могло быть надето под футболкой и джинсами с заниженной талией… тот самый образ мыслей, из-за которого многие мусульмане, то есть так называемые мусульмане, ратуют за паранджу. Пару дней назад он читал, что британские мусульмане — самые разочарованные, озлобленные и нетерпимые во всей Европе. К чему, право, в сотый раз говорить о необходимости интеграции мусульман в британский образ жизни? Да сам тот факт, что их все так достало, свидетельствует о необычайно успешной ассимиляции. Какие еще нужны доказательства?
Пережевывая эту крайне важную тему — в последний момент он предпочел жвачке шоколадку, — Джефф брел в Риджентс-парк. То, что по-хорошему ему сейчас следовало идти домой и опять садиться за работу, лишь гнало его вперед. Небо над парком набухло облаками. Джефф пересек Мерилбоун-роуд.
Стоило ему — а он был человеком Привычки с большой буквы — ступить на Мерилбоун-Хай-стрит, как моментально запустилась программа, приведшая его в Patisserie Valerik[5], где пришлось заказать черный кофе и горячее молоко с миндальным круассаном, хотя ни того, ни другого Джеффу совсем не хотелось. Обычно он бывал тут по утрам, но сейчас, в послеобеденный штиль, для кофе было слишком поздно, для чая слишком рано (на самом деле это было то проклятое время суток, когда вообще ничего не хочется) и уж совсем не ко времени читать газету, которую Джефф все равно прочел от первой буквы до последней несколькими часами ранее, лишь бы не писать эту чертову «работу мысли». К счастью, компанию ему составила книга, «Гид по Венеции» Мэри Маккарти. Первый раз он проглотил ее четыре года назад, вернувшись с биеннале 1999 года, а сейчас решил перечитать — вкупе с прочими туристическими стандартами по Венеции — в порядке подготовки к новому путешествию. Миндальный круассан размером и комплекцией мог потягаться с некрупной индейкой, и когда Джефф через него прогрызся, он уже одолел целую главу о «Буре» Джорджоне.
«В хронической праздности» аристократии эпохи Ренессанса, рассуждала Маккарти, присутствовала некая «новая меланхолия». Не сходная ли меланхолия обуревала праздных обитательниц Мерилбоун-Хай-стрит? Похоже, все же нет. Как и все остальное, праздность за прошедшие века изменила свое качество, стала куда более стремительной. Было в этих супругах инвестиционных банкиров и менеджеров по рисковому инвестированию, элегантно коротающих часок между ланчем и временем, когда нужно забрать детей из lycée[6]или Американской школы, что-то тревожно-нетерпеливое. В праздности они явно достигли вершин, в совершенстве овладев искусством так забить себе день, что быть несчастными попросту не оставалось времени. Тогда, в Венеции Возрождения, время не текло, а накапливалось, словно ожидая, что вот-вот разразится буря. Вот вам и меланхолия, которой «пронизаны полотна Джорджоне, дыхание скрытой тревоги, не способное пошевелить и листка на дереве… Такое странное впечатление возникает из-за абсолютной неподвижности пейзажа».
В 1999-м Атман картины не видел, но на этот раз дал себе зарок забежать в музей в свободное время (если таковое найдется): увидеть картину, оценить ее — и город — на свой лад, что бы там про нее ни писала Маккарти.
Набитый выпечкой и едва не искря от кофе, Джефф покинул «Валери» и проинспектировал книжный магазин «Оксфам» — в рамках обычной программы дружественного визита на Мерилбоун-Хай-стрит. Правда, застревание у витрины дорого выглядящего салона причесок в расписание не входило. Он в жизни не платил за парикмахерские услуги больше десяти фунтов (включая чаевые), тридцать лет не стригся нигде, кроме как у цирюльника по соседству — по крайней мере, со времен унисекс-бума середины семидесятых, — и вообще-то в стрижке не нуждался. Однако вот он открывает дверь, входит и делает первые робкие шаги к тому, о чем мечтал уже не один год: покрасить волосы. Джефф давно уже усматривал в седых волосах симптом, синоним внутренней угрюмости и принимал их в этом качестве как неизбежность — но сейчас весь мир трепетал в ожидании перемен. Джефф решительно захлопнул за собой дверь. Подсушенный феном интерьер приятно пах средствами и снадобьями и выглядел весьма консервативно — явно не из тех мест, где, покрасив волосы не в шокирующе-оранжевый или кислотно-красный, вы выглядите старомодным идиотом. Атмосфера тут напоминала скорее клинику или спа-салон.
Шатен с бесформенной головой — и отчего это парикмахеры часто выглядят так, словно им самим не помешала бы помощь коллег? разве это не должно настораживать? — спросил, назначено ли ему.
— Нет, но я хотел узнать, нет ли у вас сейчас окошка.
Тот углубился в тяжелый и толстый фолиант — настоящую Книгу Судного дня, при виде которой волосы у кого угодно встанут дыбом.
— Помыть и постричь?
— Да. На самом деле я хотел…
Джефф смутился, как персонаж романа пятидесятых годов, застигнутый при попытке купить презервативы.
— …можно ли у вас покрасить волосы?
Парикмахер, до сей поры проявлявший лишь чисто вежливый интерес, чуть больше сфокусировался на объекте.
— Да, — ответствовал он. — Покраска — это искусство, как и все остальное. Мы делаем это исключительно хорошо. Так хорошо, что все выглядит настоящим.
— Это Сильвия Плат[7], не так ли?
— О да.
Парикмахер, цитирующий стихи. Да, и вправду фешенебельное место. Или, может, в этой части Лондона такое в порядке вещей? Джефф был бы рад ответить какой-нибудь контраллюзией, но как назло в голову ничего не лезло. Он объяснил, что ничего радикального не хочет, нужно, чтобы все было ненавязчиво.
— Вроде того? — с улыбкой спросил парикмахер.
— Вроде чего?
— Вроде как у меня?
— О! Да, точно!
Что волосы у него крашеные, поверить было невозможно — все выглядело совершенно естественно, разве что у самых корней чуть проглядывала седина. Они пустились в более детальные переговоры. Стоило все невообразимую кучу денег, но зато уже через десять минут — и это ему повезло, поскольку у них только что отменился клиент, — Джефф сидел в кресле, а парикмахер колдовал над его волосами. «Спокойно, осторожным шагом», — твердил себе Джефф, но парировать выпад ответной цитатой из Плат было, пожалуй, уже поздно: человек, во власти которого он оказался, был поистине maitre d’[8]; сама покраска была осуществлена силами молодой дамы в обильном пирсинге (брови, нос, слюна поблескивает на проткнувшем язык гвоздике), которая предпочитала работать молча. Тем лучше для Атмана. Сидя в кресле, он был целиком поглощен последствиями превращения в мужчину-который-красит-волосы. Этим можно было заниматься, если ты эмигрировал в Америку или просто перебрался в какое-то новое место, где прежнего, седого, тебя никто не знал, — ему же предстояло заново родиться на родной почве, в Лондоне, на Мерилбоун-Хай-стрит. Как, однако, незаметно подкрадывается старость. Колени сгибаются уже с заметным трудом. И лучше уже не становятся. Да, бывает так, что сегодня хуже, а завтра лучше, но прежними им уже не стать. Приходится смириться, что с коленями у тебя проблемы. Приноравливаешь походку, чтобы как-то смягчить, компенсировать, а тут откуда ни возьмись боль в задненижнем отделе. Все это было так сложно и ремонту чаще всего уже не подлежало. Зато теперь с одним из симптомов старения — не самым, возможно, худшим, но уж точно самым заметным — у него на глазах расправлялись быстро и безболезненно. Да, так вот все просто. Для этого требовались лишь деньги и чуточку времени. А в остальном сидишь себе под одной из этих марсианских сушилок, ждешь и гадаешь, не стоило ли выбрать оттенок посветлее или, если уж на то пошло, потемнее. Или, может, просто подровняться.
И вот он настал — момент лжи. Серебряную фольгу сорвали, голову Джеффа запрокинули назад, над раковиной, волосы вымыли шампунем с запахом миндаля, затем сполоснули. Рывком возвращенный в вертикальное положение, он оказался нос к носу со своими новыми волосами. Мокрые, они выглядели охренительно черными. Сушка же походила на проявление поляроидной фотографии задом наперед: чернота постепенно выцветала до весьма убедительного оттенка молодости. Все получилось! Головой Джефф был снова темен, но волосы крашеными не казались. Он выглядел моложе лет на десять! Результат был так прекрасен, что он мог бы с обожанием всматриваться в свое отражение целую вечность. Это был, конечно, он, но темноволосый, правдоподобно молодой он. Еще ни разу в жизни он не потратил восемьдесят фунтов с большей пользой! Счастливее его могла бы сделать лишь возможность записать их на счет издержек по подготовке к грядущему биеннале. А завтра его ждет Венеция. Жизнь была прекрасна, куда прекраснее, чем три часа назад, когда он сбежал из дома, чтобы только не писать эту дурацкую статью — которую, тем не менее, все же надо доделать. Если бы не это, если бы сейчас не нужно было тащиться домой и садиться за эту ерунду, ей-богу, было бы неплохо снова забежать в тот магазинчик, купить еще шоколадку и глянуть, на месте ли та индийская красотка.
И вот снова дома, снова за компьютером, а основополагающий вопрос: на сколько его еще хватит «заниматься этой хренью»? — меж тем никуда не делся. Хватило, как оказалось, минуты на две; к тому же Джефф постоянно отвлекался на е-мейлы (то принять, то отправить), которые все никак не кончались. Бог мой, что за жалкий способ зарабатывать себе на жизнь. Давным-давно, когда волосы у него были такого цвета — или темнее — сами по себе, ему дико нравилось писать всю эту ерунду. Ну, или по крайней мере нравилось видеть ее напечатанной. И то, что крашеные волосы словно отмотали ленту времени вспять, со всей безжалостной очевидностью высветило, как мало он, Джефф, на самом деле продвинулся за минувшие полтора десятилетия. Вот он сидит и марает бумагу все тем же самым, чем и пятнадцать лет тому назад. И ведь не скажешь, что работать стало легче, но что куда унылее — факт. Как и тогда, сперва Джефф мучился, чтобы налить воды до необходимого количества слов, а после, налив уже прилично, обнаруживал, что их почему-то стало слишком много, и принимался снова втискивать мысль в нужный объем (который все равно оказывался больше, чем реально шло в печать). И все же к одиннадцати часам он закончил, сделал ее, победил. После чего отпраздновал победу чашкой ромашкового чая — впереди были дни и дни беспробудного пьянства — и остатками «Ньюснайта»[9] (надо же, Паксман уже такой седой!.).
Завтра его уже будет ждать Венеция… Пока же — куда более безотлагательно и менее приветливо — его уже ждал Стэнстед[10]. При всем богатстве вариантов — светофоры, пробки, поломка двигателя: он заранее заложил люфт на всевозможные задержки — на этот раз ровным счетом ничего не случилось: все прошло гладко, и, прибыв в аэропорт, Джефф обнаружил, что у него еще куча свободного времени. Да, такая вот у нас транспортная система — умудряешься тратить почем зря массу времени, даже когда все идет как надо. В очереди на регистрацию перед ним оказался Филипп Спендер — директор галереи Гагосяна[11], — в своем кремовом костюме, ставшем уже самостоятельной торговой маркой, и дорогих солнечных очках, воздетых на дорого постриженное темя.
— Джефф, дружище! Как неудивительно тебя тут встретить.
— Тебя тоже, Фил. — Спендер в упор глазел на Джеффовы волосы. — Выглядишь отлично.
— И ты, Джефф…
Он все еще глядел на новую голову Джеффа. Вопрос «Ты что, покрасился?» уже вскипал пузырьками у него в мозгу — невысказанный в это пока что трезвое время дня, но видимый прямо-таки невооруженным глазом. В какой-то момент он обязательно вырвется наружу и задастся — скорее всего, когда будет обеспечен максимум внимания публики. Они встречались пару вечеров назад на открытии выставки Грейсона Перри[12] у Виктории Миро[13], так что контраст между тем, что было (седое), и тем, что стало (совершенно явно неседое), был для Фила абсолютно очевиден и нескромен. Они выяснили, кто где остановится (практически по соседству) и кто на какие вечеринки пойдет (масса совпадений, хотя у Фила приглашений было больше, в том числе на незапланированный, полуподпольный концерт «Крафтверк»[14], о котором Джефф даже не слышал, не имел ни малейшего желания туда идти, но который теперь с достойным лучшего применения упорством занимал его мысли). Стандартное начало биеннале: раж по поводу приемов и вечеринок, зависть и страх, что тебя не пригласили куда-то, где лучше, чем тут, где раздают такие наслаждения, которых тебе не полагается. А на месте, в Венеции, еще хуже: ты можешь быть на потрясающей вечеринке, кругом отличные люди, красивейшие женщины, выпивка, все счастливы — но какая-то часть тебя все равно корчится при мысли, что где-то полным ходом идет другая вечеринка, на которую тебя не позвали. И тут ничего не поделать. В мире искусства Джефф никогда не был своим. Он мог оказаться полезен по части рекламы галерей или отдельных авторов, но сам по себе особой ценности не представлял. Он был из тех, кого можно купить относительно дешево (пара бокалов прозекко[15] и канапе по-азиатски), кто всегда счастлив стать чьим-нибудь «плюс один»[16], если его проведут на мероприятие, куда иначе не попасть. Он находился в самом низу пищевой цепочки — но ведь есть люди, которым в ней места вообще не нашлось… к тому же далеко не все в очереди на регистрацию ехали на биеннале. Там имелась еще пара семейств на грани скандала, несколько туристов с рюкзаками и группа чрезвычайно краснолицых ирландцев, выглядевших так, словно они купили билеты на самолет исключительно ради того, чтобы попасть в дьюти-фри.
— Знаешь, — протянул Фил, словно читая его мысли, — с тех пор, как «конкорды»[17] перестали пускать в воздух, полеты уже совсем не те.
— Весьма, — ответствовал Джефф.
Откуда взялось это «весьма»? Раньше Джефф так не говорил. Скорее всего, дело в Джоне Ле Карре[18], прочитанном пару недель назад. Цирк. Охотники за скальпами. Бебиситтеры. Весьма. Возможно, Фил был шпионом Гагосяна, но параллельно тайно работал на «Белый куб»[19], пришло в голову Джеффу. Дело тут было даже не в «двойной агентуре», а в том, что Гагосян тоже наверняка давал вечеринку, на которую его, Джеффа, не пригласили. И какой же Спендер мерзавец — стоять тут и разглагольствовать, зная, что у них в галерее будет прием, и намеренно не приглашать туда Джеффа. И снова Фил словно бы прочитал его мысли.
— Ты ведь придешь к нам?
— К вам — это когда? Что-то не припомню, чтобы мне присылали приглашение.
— В пятницу. Точно должны были прислать, я сам вносил твою фамилию в список.
Как это типично: стоит тебе увериться, что кругом одни негодяи и враги, как они тут же оказываются на удивление великодушными и заботливыми. Главный — и единственный — негодяй тут, конечно, он, Атман, подозрительный и всегда готовый думать о других самое худшее.
Фил щелкнул своим черным шпионским чемоданчиком.
— Вот, — протянул он приглашение. — Возьми.
— Спасибо.
Джефф изучил бумажку, отметив название спонсора — «Moё't»[20], это хорошо — и время начала. Дьявол! Ну конечно, оно в аккурат накладывалось на австралийскую вечеринку и вдобавок на обед, который он отменил, как только получил австралийское приглашение. Такова реальность биеннале: не получить приглашения — мучительно, но еще мучительнее получить и оказаться перед искушением пойти в куда большее количество мест, чем позволяют законы физики.
Да, Венеция начиналась уже тут, в Стэнстеде, чему были неопровержимые доказательства: и он, и Спендер стреляли глазами через плечо друг друга на предмет, не принесло ли кого еще из своих. В соседних очередях, грозивших вот-вот слиться в одну исполинскую, Джефф приметил ряд знакомых. Мэри Бишоп из «Тейт Модерн»[21] болтала по телефону и параллельно рылась в сумочке — в результате чего уронила зажигалку и паспорт. Сосед по очереди — Найджел Штейн — наклонился и подобрал их. Джефф помахал им обоим. На самом деле кругом толпилась куча знакомого народа, и все в свою очередь рыскали глазами по сторонам и махали друг другу.
Несмотря на свою выдающуюся длину, очередь продвигалась быстро. Приближаясь к стойке регистрации, Джефф не без некоторого удивления разглядывал прибитый над ней слоган авиакомпании: «Эйр Метеор»: «Нам сверху на вас положить!» Тот же самый шрифт, тот же самый желтый фон, что и у остальной рекламной графики, но ни над одной другой стойкой такого любопытного текста не висело. Вскоре стало ясно, что слоган прилеплен поверх другого, но так точно и аккуратно, что заметить подмену было сложно. Учитывая, как быстро это нужно было сделать — аэропорты нынче не слишком располагали к партизанским диверсиям и художественным шалостям, — акция действительно впечатляла. Не исключено, что к ней приложил руку Бэнкси[22]. Причем возможно, что авиакомпания тут была не так уж ни при чем — в порядке расширения, пусть и ироничного, узнаваемости бренда и в знак поддержки независимого искусства. Компании типа «Райанэйр» и «Изиджет» пытались подвести концепцию под стиль «без излишеств», и «Метеор» тоже развлекался, как умел. Что видишь, то и имеешь. Или, если быть более точным, не имеешь. Это были бюджетные перелеты, доведенные до абсурда. Компания тщательно избавилась от всего, что делало полеты хоть сколь-нибудь приятными, оставив лишь самую голую суть: перемещение из пункта А в пункт Б, притом что Б на поверку нередко оказывался вовсе не в Б, а в соседнем городке В, если не в ближайшей стране Г.
Спендер успешно прошел регистрацию. Обернувшись у самой стойки, он бросил: «Увидимся на той стороне», словно они собирались пересечь, как минимум, реку Стикс. Джефф шагнул вперед, протянул паспорт, ответил на пару дежурных вопросов по поводу оружия и наркотиков, сказал, что багажа у него нет, только ручная кладь. Регистраторша пожелала ознакомиться с нею, и он пододвинул к ней меньшую из двух своих сумок. Получив посадочный талон и держась так, чтобы заслонить вторую, он прошел стойку и устремился к паспортному контролю и зоне личного досмотра. При отсутствии более достойной цели его жизнь строилась теперь из таких вот мелких триумфиков и победок. Не сдав свои сумки в багаж, Джефф сэкономил себе на прилете массу времени.
Посадка превратилась в некрасивую мелкую свару. Популярность мест ближе к голове самолета оказалась столь высока, что Джеффу достался главный приз: ряд у самого выхода. Он уложил сумки — одна из которых была настолько большой, что не лезла в багажный отсек над головой, — друг на друга, одарил соседа улыбкой, пристегнулся и изготовился провести в таком положении два не слишком комфортабельных, но довольно занятных часа. Самолет был полон; все друг друга знали, все летели на биеннале. Откровенно говоря, происходящее сильно походило на школьную экскурсию, организованную учителем по ИЗО и частично спонсированную дружественными пивоварнями.
На биеннале ты чудом оказывался в царстве благородных излишеств. Шампанское лилось рекой. Ходили слухи, что украинская делегация заказала себе на прием черной икры на сто пятьдесят тысяч долларов. Но в самолете этим пока даже не пахло. Кампания по снижению затрат была просто поразительна, местами до экстравагантности. Ни цента врагу! Отмена бесплатных обедов и напитков была только началом. Теперь под сокращение попали униформа стюардесс, дизайн и графическое оформление стоек регистрации, количество цифр на посадочных талонах и даже, кажется, набивка кресел. Не говоря уже о подушках. Невольно возникало подозрение, что и на аварийном оборудовании тоже сэкономили — к чему разоряться на спасательный плот, если и так понятно, что, упади самолет в море, всем все равно будет крышка? Как уже говорилось, пострадал и внешний вид стюардесс. Та, что демонстрировала технику безопасности, судя по всему, страдала воздушным вариантом кессонной болезни. Никакой макияж — а его было наштукатурено столько, что это походило на первую стадию снятия посмертной маски, — не мог скрыть последствий постоянной смены часовых поясов и перепадов давления. Девушка явно провела в воздухе годы.
Впрочем, в данном конкретном рейсе все, кажется, шло по плану. Самолет разбежался, успешно оторвался от земли, набрал высоту, приличествующую для бюджетных перелетов, и — не случись какой-нибудь незапланированной катастрофы — имел все шансы приземлиться через пару часов в Венеции (или, по крайней мере, где-то рядом). Даже такой эпизодический летун, закоренелый жалобщик и горячий сторонник улучшений, как Джефф, не мог не признать, что для двухчасового полета условия были вполне терпимые. Он купил себе колу и маленькую банку чипсов «Прингле» — «И чек, пожалуйста!» — и погрузился в присланную ему вчера с курьером прессу о Джулии Берман, Стивене Морисоне и их дочурке Ники.
Вполне обычная история. У них был роман, она забеременела, растила ребенка сама. Морисон, конечно, давал ей какие-то деньги, но в целом вел разгильдяйскую жизнь популярного художника, писал себе картины и забавлялся с моделями и ассистентками, последняя из которых была лишь на пару лет старше его дочери (сейчас ей как раз сравнялось двадцать два, и она готовилась к выходу первого альбома, обложку к которому соорудил ее знаменитый папаша). Ники уже поведала о себе читателям «Вог»[23], и еще одно интервью — на этот раз с «любящей уединение» мамашей и ее знаменитым портретом, до сих пор «тщательно оберегавшимся от взоров публики», — обещало стать модной сенсацией. И организовать его нужно было лично Джеффу, так как «оригинальная и эксцентричная» Джулия Берман не пользовалась электронной почтой. (Как сказал Макс Грейсон, его редактор в «Культур»: «Ты же все равно там будешь… да и договориться — раз плюнуть. Даже тебе не удастся все испортить».) Берман было сейчас между пятьюдесятью и шестьюдесятью; поговаривали о грядущих откровенных мемуарах. Об этом Джеффу по возможности тоже стоило разузнать.
В свое время Джулия была красавицей, настоящим секс-символом, как тогда говорили. Некое ностальгическое очарование окружало ее до сих пор… хотя на самом деле нет ничего трагичнее этих старых кошек, вынужденных торговать красотой, которая уже давно отцвела. Джеффу как-то довелось интервьюировать одну из таких разваливающихся красоток на Брайтонском фестивале. Вот же ужас! Облака сигаретного дыма, хриплое контральто и ассортимент классических анекдотов: как она была под кислотой, а Джимми Хендрикса[24] рвало в ее камин… или как она спросила Джорджа Беста[25], чем он зарабатывает на жизнь! — и все вежливо слушали, сплоченные одной невысказанной мыслью: старухе даже вспомнить нечего, чтобы хоть как-то подогреть к себе интерес. Единственную доступную ей рекламу составлял факт ее затянувшегося существования на этом свете — сам по себе довольно удивительный. Жалко и нелепо. И кем после этого был сам Атман? Очевидно, еще более жалким и нелепым созданием, поскольку его работой было подавать наводящие реплики для ее феерических анекдотов — за это ему оплатили расходы на транспорт и дали четыре бесплатных талона на выпивку. Как бы сильно он ни презирал других, проводя потом все эти вычисления, себя Атман неизменно чувствовал еще более презренным. Особенно потому, что на том же фестивале он вызвался взять интервью у Лорри Мур, писательницы, чьи книги обожал, но с которой никогда не встречался, — и услышал в ответ, что, увы, эта вакансия уже занята. Вывод прост: для сплетен ты еще сгодишься, а серьезную работу нам есть кому отдать. Или, если угодно, для дамского журнала ты сгодишься, но литературное обозрение — уже не твой формат. Чтение такого рода обычно запускало у Джеффа хорошо отлаженный механизм самоуничижения, и этот раз не стал исключением. Все же он заставил себя проглядеть оставшиеся вырезки и полюбоваться на снимки Джулии, сделанные — пришлось даже проверить сопроводительную надпись — ну, разумеется, Дэвидом Бейли. И что говорить, она была на снимках дьявольски хороша. Грациозная, как пантера, с какими-то неимоверными, огромными пурпурными браслетами на запястьях и тем, что принято называть «взглядом с поволокой». Взглядов с поволокой больше не носят (сама фраза уже устарела не меньше, чем пресловутые «точеные лодыжки»), их вытеснили «горячие» попки и трусики «Лоудед»[26] из эры Интернета.
Джефф понятия не имел, на что она сейчас похожа. Джулия Берман уже много лет не давала поймать себя в объектив — и это была последняя и, пожалуй, самая презренная часть его задания. Ему предстояло каким-то образом сфотографировать ее в неформальной обстановке. Причем — и такое бывает только с ним — никаких тебе телефотообъективов, а только обычный бытовой цифровичок с четырехкратным оптическим приближением. Главная же ирония всей этой катавасии, вгонявшая Джеффа в депрессию больше всего остального, — это что на каком-то уровне его, по-видимому, все же считают мастером своего дела. Другие завидовали, что он получает такие задания. И одним из тех, кто завидовал этим заданиям, был сам Джефф. Он ворчал и ныл, но страшно даже представить, как бы он заворчал и заныл, если б узнал, что старуху Берман отдали другому.
Текст — так называемая завлекалочка — был скучищей, необходимость тащиться на свидание с этой замшелой мисс в ее съемном палаццо — мукой, но Венеция в пучине биеннале… нет, пропустить Венецию было нельзя.
Он запихал вырезки обратно в папку, полистал немного «Гид по Венеции», задремал и был разбужен капитаном, объявившим по громкой связи, что борт начинает снижение над аэропортом Тревизо. Ничего необычного. Но когда вслед за этим он объявил температуру на взлетном поле — плюс тридцать шесть, — по всему салону пронесся вздох удивления. Тридцать шесть по Цельсию, это… это — сколько же? — девяносто пять по Фаренгейту. Ничего себе!
Все уже успели прийти к выводу, что тут какая-то ошибка, но стоило ступить на вибрирующий трап, как стало ясно, что единственная ошибка крылась в этом самом выводе. Это напоминало Ямайку в разгар жаркого сезона. Зной немедля породил среди британских пассажиров что-то вроде легкой истерии — эйфорию вкупе с ужасом. На такое, похоже, никто не рассчитывал. Кто-то, наверное, уже успел получить от прибывших ранее коллег звонки или е-мейлы: да, говорят, в Венеции жарко… но, Господи Иисусе, там действительно была ЖАРА! Она отскакивала мячиком от раскаленного бетона взлетной полосы. Воздух дрожал и обжигал, как сковородка. Вряд ли где-то в мире могло быть жарче — разве что в Каире, да и то навряд ли.
Как и следовало ожидать, венецианский аэропорт Тревизо был даже не рядом с Венецией. Благодаря своему месту Джефф прошел въездной контроль одним из первых. Он взял раунд, обошел всех соперников и был готов к старту. Но оказалось, что тащить с собой сумки в салон было совершенно ни к чему. У здания аэропорта притулился автобус, нанятый специально под их рейс, который не двинулся с места, пока все не добыли свой багаж, не прошли таможню и не погрузились в него. В итоге Джефф целый долгий мокрый час слонялся по залу прилетов размером с садовую беседку при температуре сауны. Лишь после этого автобус, набитый гостями биеннале, неторопливо пополз к городу, в который они, собственно говоря, и прилетели — хотя бы номинально. Джефф втиснулся на сиденье рядом с рыжей дамой, которую вроде знал в лицо (но при этом никак не мог вспомнить ее имени), — куратором из «Барбикана»[27], весь перелет трещавшей по своему «Блэкберри»[28]. По причинам, не ясным даже ему самому, Джефф отказывался становиться владельцем мобильного телефона, не говоря уже о «Блэкберри», а это означало, что немалую часть жизни он проводил практически в небытии, пока все нормальные люди звонили, писали и обменивались информацией. Читать он ничего не взял, за окном ничего не показывали. Сначала он мечтал, чтобы уже наконец закончился полет… теперь — чтобы автобус уже наконец доехал до города. Когда, интересно, пройдет это чертово желание, чтобы что-то закончилось, и можно будет наконец-то прочно утвердиться в настоящем?
Окончание поездки этому никак не помогло, так как пришлось продираться сквозь забитый автобусами автовокзал со всеми сумками и в немыслимой жаре. Как в итальянской вариации на тему маслянистой и глубоко деморализующей инсталляции под названием «Эта машина идет задним ходом». Но стоило ему сесть на вапоретто[29] на Пьяццале Рома, как Джефф очутился в той самой Венеции. Как же здорово ездить всюду по воде — даже притом, что теплоходики набиты народом не хуже лондонского метро в час пик. Разница, однако, была в том, что на этот раз его везли по Большому каналу сквозь живой мираж погружающейся в сумерки Венеции. Венеции, объятой обезумевшим жаром кузнечного горна. Венеция никогда не разочаровывает и никогда не удивляет; это город, оказывающийся в точности таким, каким ему и дóлжно быть (пожалуй, только пожарче), идеально совпадающий с первым впечатлением любого туриста. Нет никакой настоящей Венеции: настоящая Венеция — это Венеция открыток и фильмов, какой она всегда и была. Наблюдение, которое отнюдь не блещет новизной. Так о ней обычно говорят — все, включая и Мэри Маккарти, которая, правда, зашла еще дальше, утверждая, что о Венеции нельзя сказать ничего, чего бы уже не сказали до вас, «…включая и это утверждение». И все же первым впечатлением от нее всегда был и будет шок — неужели такое место и вправду существует? Не на картинках и в книгах, а в этой вот реальной жизни, со всеми своими венецианскостями, сваленными в кучу: каналами, палаццо, вапоретто, гондольерами и прочим. Город, возведенный на воде. Какая непрактичная, но замечательная идея! Джефф читал несколько версий того, как оно так получилось, но все они совершенно ничего не проясняли. Лучше уж думать, что такой она и явилась на свет в самый момент своего основания — полностью сложившейся и уже придавленной столетиями. Когда он выбрался из толчеи вапоретто на Салюте (ему сказали, что от этой остановки до отеля пять минут пешком), уже почти стемнело. Как и следовало ожидать, никакого отеля рядом не оказалось, или же он так мастерски маскировался, что опознать его оказалось совершенно невозможно. Если бы не жара, и не тяжелеющие с каждой минутой сумки, и не нарастающее давление в мочевом пузыре, было бы даже славно прошвырнуться по окрестностям, но три упомянутых фактора лишали прогулку всякой прелести, превращая любые телодвижения в унылый подвиг в стоградусном пекле. Якобы пятиминутное блуждание по лабиринту переулков, узеньких каналов и крошечных площадей, выглядевших как назло на одно лицо, вылилось на деле минут в двадцать. Отель, в дверь которого Джефф в конце концов уперся лбом, оказался, конечно, вовсе не там, где он ожидал его найти, и в то же время именно там, где ему и полагалось быть. Джефф вытащил паспорт. Регистратор отпустил какой-то комментарий по поводу жары (‘ары’)[30]. У конторки возник коридорный со стаканом воды на сверкающем серебряном подносе — воды настолько ледяной, что у Джеффа заломило зубы.
Какое облегчение — забраться в свою приятно дорогую берлогу (бронь и оплата — за счет «Культур»). Располагалась она на последнем этаже и вид имела изумительный — не на лагуну или Большой канал, а на крыши домов, таких же, как этот, — море крыш. И какое облегчение, что оформлена она была в минималистском стиле, как бутик, — белые простыни, светлое дерево, — а не утопала в рококошных завитушках, как подавляющее большинство гостиничных номеров в Венеции. Какое облегчение! Это была одна из тех фразочек, что постоянно жужжали у Джеффа в голове, фразочек, которые, будь они частью музыки, составляли бы тему, или мотив, прихотливо вплетающийся в симфонию, надолго исчезающий и растворяющийся в ткани пьесы — но всегда проступающий вновь.
Как и во всех этих отелях-бутиках — а был ли на свете хоть один отель, втайне не считающий себя бутиком? — комнату украшали книги, завлекательно выставленные в эстетически выгодных точках интерьерного пространства. И разумеется, все они были о Венеции. Тихо жужжал кондиционер. Не то чтобы Джефф в принципе в нем нуждался или часто использовал, но в этих обстоятельствах он был единственным спасением от убийственного зноя. Для ужина, на который Джефф намеревался пойти, было, увы, слишком поздно. Он был организован журналом «Современные художники», и, хотя обычно Джефф старался избегать больших сидячих трапез — они здорово поглощали время, — это был бы отличный способ просочиться в мир биеннале. Ну да ладно. Пойди он сейчас, и поспеет лишь к десерту, к тому же оттуда будет трудновато улизнуть, чтобы попасть на исландскую вечеринку (за этим приглашением пришлось поохотиться: там должна была выступать Бьорк[31], а может, и диджей Джинг) неподалеку от Кампо Манин. Он позвонил с городского телефона редакторше на мобильный и оставил сообщение, в котором во всем обвинил самолет, автобус и разницу во времени. Затем Джефф скинул одежду, ополоснулся, выхватил из сумки свежую рубашку, трусы и носки, выбежал на улицу и наскоро перекусил в траттории в паре домов от отеля — совершенно тоскливый салат, хлеб, бывший свежим в прошлой жизни, и домашние равиоли.
Консьерж клятвенно заверил его, что, если он сядет на вапоретто и проедет буквально одну остановку — через Большой канал до Санта-Мария-ди-Джильо, — Кампо Манин будет оттуда всего в паре минут пешком. Что самое поразительное, так оно и оказалось. Джефф легко нашел нужное палаццо и даже прибыл вовремя — гости только собирались. Изнутри доносилось глухое буханье музыки, но, так как жара явно не торопилась спадать, все толпились снаружи, во дворе. Джефф подхватил с подноса у официанта беллини[32] — первый на биеннале и первый из, скорее всего, очень многих — и осушил его в пару глотков. На таких больших мероприятиях всегда чувствуешь себя не в своей тарелке, пока не приметишь кого-нибудь из знакомых, так что Джефф недолго думая поменял пустой бокал на полный, оказавшийся на подносе последним. Его он заглотил почти так же жадно, но в этот момент увидел Джессику Мерчант в блузке с чем-то вроде оп-арта Бриджет Райли[33]. Они чокнулись, Джефф отпустил комплимент по поводу ее блузки и поздравил с новым романом, который она опубликовала два месяца назад. Половина всех знакомых Джеффа писала книги, которые он, честно говоря, даже не пытался читать. На тех же, которые все-таки пытался, сдыхал на половине. Однако опусы Джессики он всегда проглатывал со все возрастающим восторгом. То был воистину добрый знак, что первой в Венеции он встретил ту, которую мог превозносить без устали. Проблема была в том, что его дифирамбы явно доставляли адресату столько неудобств — может, он уж слишком льстил? — что она немедленно сменила тему и принялась расспрашивать Джеффа о его собственной долгожданной книге.
— Я надеялся, что о ней уже все забыли, включая издателей. Я так за нее и не взялся.
Это, по крайней мере, было не менее искренне, чем его восхищение Джессикой. Попиши достаточно долго журналистику — и можешь быть уверен, что издатель непременно углядит в какой-нибудь твоей статье зерно будущей книги. Письмо, пересланное ему «Эсквайром»[34], повлекло за собой телефонный звонок, тот — обед, а тот — контракт на написание книги о… Джефф постарался поскорее выкинуть эту мысль из головы. Даже тогда у него не было ни малейшего желания писать эту книгу, но он надеялся, что контракт и аванс — даже такой мизерный — сподвигнут его засесть за работу. И это действительно помогло. На месяц. После еще полугода вялых судорог он окончательно забросил книгу и снова стал писать журнальный бред. Узнав, что его редактор увольняется, Джефф поздравил себя с тем, что успел слегка подзаработать, так ничего и не сделав. Не считая краткого звонка от наследника редактора, от него, судя по всему, больше никто ничего не ждал. Даже аванс возвращать не пришлось. Просто здорово! Он сделал лишь одну ошибку — оповестил всех в первом приступе энтузиазма, что работает над книгой. Отсюда и весь этот разговор. Джефф еще раз объяснил, что давно забросил, похоронил этот проект.
— Я вас не виню, — сказала Джессика. — Писать книгу — это сущий ад.
Как много народу случайно или намеренно заставляет тебя почувствовать себя полным нулем (многие, кстати, думали, что у Джеффа по этой части особый талант)! Но после разговора с Джессикой всегда словно летаешь. Словно она только что обняла тебя за плечи и сказала, что вы вместе в одной лодке.
— Так оно и есть, — подхватил Джефф. — Ума не приложу, почему все вдруг ударились в это дело. Но вернемся к вам. Вы для кого-то пишете о биеннале?
— Для «Вог», — сказала она.
Вот зачем нужно писать книги. Тебе начинают предлагать такую работу. Как обычно, Джеффово восхищение немедленно окрасилось в оттенки зависти, несмотря на то что за вычетом некоторых деталей — отель, гонорар и тема статьи — они здесь были за одним и тем же. И в этом суть биеннале: все здесь делают одно и то же, по одной и той же схеме, лишь с отдельными незначительными вариациями на тему. Ты приезжаешь в Венецию, смотришь тонны картин, ходишь на вечеринки, пьешь как лошадь, часами городишь совершеннейшую чушь и в конце концов возвращаешься в Лондон в состоянии демонического совокупного похмелья, с печенью, еще на шаг приблизившей тебя к могиле, записной книжкой, почти свободной от записей, и первыми признаками герпеса.
К ним присоединились режиссер Дэвид Кайзер (на самом деле он снимал телепрограммы) и главный редактор «Фриза»[35], Майк Адамс. Джессика тоже их знала. Кайзер был только что из Саудовской Аравии («Реально гнусная страна, куда стоит ехать, только если вы хотите как следует испортить себе жизнь»). Жизнь без алкоголя в течение недели сказалась на нем очень сильно.
— Будто ты в пустыне и видишь мираж, — поделился он с ними. — Занимаешься всякими делами, общаешься с людьми, а тебя каждую секунду глючит. Так и маячит перед глазами пинта пива. И климат как нельзя располагает к выпивке, а этого-то как раз нельзя.
Майк и Джефф попеременно качали головами в знак отвращения и кивали в знак сочувствия. История носила явный гуманитарный оттенок, хотя основное ее содержание заключалось не в этом, а в том, как Кайзер неожиданно для себя обнаружил, что является мусульманином:
— …и тут подходит ко мне не то полисмен, не то член комитета по общественной нравственности. Ни тебе солям али кун или что-то типа того — нет, чтобы хоть как-то представиться, так сразу тебе: «Коран читал?» Читал, говорю. «Правильно читал?» Думаю, да, говорю. «Тогда ты мусульманин, — говорит. — Хорошо». Конец цитаты. Убийственная логика.
— И пока он с тобой говорит, — ввернул Майк, — ты так и видишь перед собой большой, холодный «Хайнекен» в запотевшем стакане, верно?
— Ну, необязательно «Хайнекен». Иногда это был «Будвар».
— Но всегда светлое? А темное, нефильтрованное?
— Для нефильтрованного было слишком жарко. И вообще, не будем вдаваться в частности. Тут есть тема поважнее.
— Я думал, мы уже по уши в важном, — заметил Джефф. — Неужели мы еще не приблизились к сути?
— Суть в том, что нужно было поехать в Саудовскую Аравию, чтобы понять: при прочих равных в последние тридцать лет мои отношения с пивом были если не самыми страстными, то уж точно самыми постоянными из всех, которые я когда-либо имел.
Поскольку Кайзеру стукнуло сорок шесть, это было похоже на правду. Однако задержаться на этих важных вопросах подольше им не удалось. По законам социальной физики группа из четырех человек неизбежно начинает вовлекать в свою орбиту новых собеседников — Мелани Ричардсон из Института современного искусства, Натали Портер, писавшая для «Художественного обозрения», и Скотт Томсон, которого Джефф знал, хоть и эпизодически, больше десяти лет. Все это время, пока другие меняли работу или делали карьеру, Скотт преспокойно сидел на одной и той же непритязательной должности в «Обозревателе», перемежая это долгими периодами странствий. Так он зарабатывал себе на жизнь, хотя истинным его призванием было постоянно меняться — каждые несколько лет он с энтузиазмом кидался во что-то новое, да так самозабвенно, что это напрочь перечеркивало все, во что он с таким неистовством вкладывался еще вчера. Последнее его помешательство, впрочем, было то же, что и восемь месяцев назад: «Горящий человек», большая тусовка в пустыне Невада. Он уже был там пару лет назад и собирался снова поехать в августе. «Опыт, переворачивающий всю жизнь» — называл он ее. Ровно то же самое Джефф слышал от него в последнюю их встречу, на вечеринке на фризовской Ярмарке искусств, и был вполне готов поверить ему на слово. Впрочем, у Майка были на этот счет другие взгляды.
— По моему опыту, эффект «опытов, переворачивающих всю жизнь», проходит очень быстро, и через несколько недель ты выныриваешь на поверхность, ничуть не изменившись. Хотя в девяти случаях из десяти именно меняющие жизнь опыты часто помогают тебе осознать всю не-изменность собственного бытия. Потому-то все эти романы и пользуются такой популярностью, ну, там где есть день или событие, «изменившее навеки всю их жизнь». Сплошная фикция.
— Уж ты-то точно не меняешься, чувак. Циничный, как всегда.
Скотт (называвший всех подряд чуваками) ничуть не обиделся; говоря это, он едва не смеялся, в то время как тирада Майка была не то чтобы агрессивной, но достаточно жесткой.
Легкая неловкость, порожденная этой перепалкой, была нарушена неким субъектом в голубом льняном пиджаке, который налетел на Джеффа, расплескав свой бокал. Он наполовину обернулся, и Джефф машинально извинился. Никакого самообладания не понадобилось: агрессия сдалась без боя. Это был в своем роде триумф эволюции. Столкнувшись с каким-нибудь непокорным артефактом — зависшим компьютером или зажевавшим бумагу принтером, — Джефф моментально вскипал, но во всех социальных ситуациях гнев сам собою и без всяких усилий мутировал в свою улыбчивую противоположность.
Кто-то похлопал его по плечу. Джефф моментально узнал новоприбывшего, да, собственно, он знал его довольно хорошо, вот только имя как нарочно вылетело сейчас из головы. Как свидетель, изучающий составленный полицией фоторобот, Джефф на автомате регистрировал детали его внешности, — широкий нос, короткие темные волосы, белую рубашку, подчеркивавшую загорелую кожу, — но почему-то они отказывались складываться в имя, равно как и в личность. Джессика и Мелани уже болтали с парнем в выцветших джинсах и голубой футболке с портретом Боба Марли. Майка и Кайзера отлив унес куда-то еще. Их маленькая группка, начавшая было наращивать свою гравитационную массу, неуклонно растворялась, опробуя себя в других формациях. Ах, то была Венеция… Типичная венецианская вечеринка, полная красивых женщин, сплошь упакованных в «Миссони» и «Прада».
— Здесь столько красивых женщин… — начал он.
Как же, черт возьми, его зовут? Прежде чем начать прочесывать свои мозги в поисках этого проклятого имени, Джефф думал эту самую мысль, но, высказанная вслух, она, даже будучи предельно точным наблюдением, приобрела довольно грубую окраску. Словно бы твоя жизнь прошла в каком-то начисто-лишенном-женщин захолустном пабе, где вечно никого нет, кроме пары завсегдатаев, отрешенно пялящихся в свои пинтовые кружки с фирменным пивом, которым только и делать, что запивать печаль-тоску. Окинув мысленным взором эту картину, Джефф сделал глоток своего сугубо женственного беллини.
— …что просто поразительно, — закончил он.
Они стояли, вооруженные беллини, озирая окрестности. Конечно, было весьма приятно тусоваться на вечеринке, полной красивых женщин, но главная прелесть ситуации — то есть вечеринки, полной красивых женщин, — заключалась в том, что в толпе непременно должна отыскаться одна, бесконечно изумительная, просто блистательная, но которую лишь один из собравшихся здесь мужчин — по идее, это должен быть он, Джефф, — сможет правильно оценить. И так оно и оказалось.
Сначала он увидел ее волосы — темные, словно тень, спадающие ниже плеч. Она стояла к нему спиной. Она была высокой. На ней было бледно-желтое платье без рукавов, оттенявшее тонкие загорелые руки. Ее собеседником был мужчина с бритой головой и в полосатой рубашке. Парень, чье имя Джефф так и не вспомнил, тем временем толковал о художнике, о котором Джефф слыхом не слыхивал и который сделал ту графику с деревьями, притом что у него на них ушла целая вечность, а выглядят они точь-в-точь как фотографии — да, в этом-то и соль, — хотя на самом деле это рисунки. Джефф вежливо кивал, но все его внимание было приковано к темноволосой женщине в желтом платье. Она все еще смотрела в другую сторону, все еще болтала с тем бритым парнем в полосатой рубашке, но каким-то образом Джефф уже знал, что, когда она обернется, она будет прекрасна. Уверенность в этом была столь могучей, что даже вытеснила нетерпение. Можно было просто стоять и ждать. Он и стоял, сжимая в пальцах ножку бокала. Бритый парень смеялся чему-то сказанному другим бритым парнем. Другая женщина подошла к ней и прикоснулась к плечу. Наконец она обернулась, узнала кого-то, улыбнулась, поцеловала в щеку. Еще не успев как следует рассмотреть ее лицо, Джефф знал, что оказался прав. Она разговаривала с вновь прибывшей, а он разглядывал ее темные глаза и резко очерченные скулы. Разделенные прямым пробором волосы были почти прямыми. Непристрастному наблюдателю ее лицо могло бы показаться слишком худым и, может, чуточку лошадиным. Так оно и было; изъян, который намертво впечатал его в воображение Джеффа и который, конечно, вовсе не был изъяном. Он больше не слушал, что ему говорили; он просто стоял, не сводя с нее глаз и хватая ртом воздух. С трудом переведя наконец взгляд на своего собеседника, Джефф обнаружил, что тот уже перестал вещать о фотографиях, которые выглядели как рисунки деревьев, или о чем он там вещал, и переключился на что-то другое. В голове у Джеффа медленно оформилась мысль о том, что, видимо, он вступил в смутную полосу жизни. Он имел весьма смутное представление о происходящем, смутно ощущая, кто он и где находится, и не менее смутно припоминая, что, кажется, и раньше с кем-то знакомился и даже встречался. Все выглядело так, словно он был все время смутно пьян. Единственное, что не вписывалось в общую смутную картину мира, была женщина в желтом платье, которая — он вновь устремил на нее смутный взор — все так же болтала с друзьями. Парень с дьявольски смутным именем продолжал вещать. Джефф слушал его, вернее пытался слушать, параллельно прикидывая, как бы ему представиться женщине в желтом платье, которой, когда он обернулся, на месте не оказалось. Причина этой беды, которая, впрочем, таковой не была, состояла в том, что она со своей подругой подошла совсем близко и здоровалась с Фрэнком. С Фрэнком! Точно, так его и звали, Фрэнк Делэйни. О боги! Женщина, с которой он хотел познакомиться, явилась и открыла ему тайну имени человека, которого он хотел вспомнить. Да что здесь происходит? Неужели это один из тех дней, когда, что ни сделай, все в точку. Когда достаточно просто подумать, чтобы так оно и случилось? Это было то самое везение, от которого люди сходят с ума, решив, что с ними говорит Всевышний, веля им убивать президентов и знаменитостей.
Теперь можно было положиться на время. Джефф стоял и улыбался, держа в руках пустой бокал из-под коктейля; если Фрэнк удосужится вспомнить его имя, через пару мгновений он будет представлен той, с кем хотел познакомиться здесь больше всех. Сейчас, вблизи, стало видно, что на желтом платье есть бледный рисунок. На лице ее не было краски, а если и была, то наложенная столь умело, что оставалась невидимой; шею обвивало серебряное ожерелье. Джефф решил, что ей должно быть чуть за тридцать. Глаза, смеявшиеся чему-то, что говорил Фрэнк, были темны. Фрэнк наконец представил их. Ее звали Лора, Лора Фримен. Джефф пожал ее руку, ее тонкую руку. На среднем пальце обнаружилось большое желтое кольцо из оргстекла. Ее подругу звали… как именно, переволновавшийся Джефф забыл в то же мгновение, как услышал ее имя. Озабоченный тем, чтобы произвести хорошее впечатление, он сосредоточился на своей безымянной собеседнице, пока Лора беседовала с Фрэнком. Откуда она? Нравится ли ей в Венеции? Он задавал какие-то вопросы, но не слушал ответов, а взгляд его все уплывал и уплывал к Лоре, которая всего раз посмотрела в его сторону, встретившись с ним глазами. Фрэнк что-то сказал ее подруге, и Джефф воспользовался этим, чтобы в первый раз обратиться к Лоре. С чем — не имело никакого значения. Это могла быть любая чушь. Нужно было просто что-то сказать, что угодно, бросить пробный шар. Он смотрел на нее и понимал, что может сказать лишь одну вещь. Если он скажет что-то еще, это будет ложь, но, поскольку сказать то, что ему хотелось, не представлялось возможным — ты прекрасна, и если только голос у тебя не как у Дэвида Бекхэма, через минуту я буду по уши влюблен, — он промолчал. Она ждала его слов, а он просто стоял и молча смотрел на нее. Она была высокой, пять футов десять дюймов[36], вероятно лишь на пару дюймов ниже Джеффа. Под тонкой бретелью желтого платья виднелась белая — от бюстгальтера. Грудь у нее была небольшая. Тем временем в голове у Джеффа жужжало: «Веди себя обычно, веди себя обычно, скажи уже что-нибудь обычное. Не строй из себя идиота». Тут она сама пришла к нему на помощь.
— Так когда вы приехали в Венецию?
Он смотрел, как она произносит слова. Это был самый обычный на свете вопрос, и, хотя ему оказалось не под силу нарушить чары, Джефф по крайней мере смог перестать строить из себя идиота.
— Только что, пару часов назад. А вы?
— Вчера.
Она была американкой.
— Откуда вы?
Они уже говорили. Они беседовали. Так все и получилось: она что-то сказала, он ответил. Все просто.
— Лос-Анджелес, — сказала она.
Он прикусил язык, едва не ляпнув «завтра же переезжаю туда», а вместо этого поинтересовался, первое ли это для нее биеннале.
— Второе. Я была тут в прошлом году. То есть два года назад.
Джефф с энтузиазмом закивал. Два года назад. Просто поразительно, каким волшебным, каким интересным может быть столь простое утверждение.
— А вы?
— Только один раз, четыре года назад.
Это был самый захватывающий разговор в его жизни, но продолжать в том же духе было нельзя. В какой-то момент придется вырваться из круговорота банальностей. Она смотрела на него так, словно ждала, ждала, что он скажет что-нибудь интересное… и если этого не произойдет, она будет искать повод прервать эту беседу ни о чем.
— Мне нравится ваше платье, — вырвалось у Джеффа.
Эффект был двойным: с одной стороны, напряжение у него внутри стало меньше, а с другой — и любопытным образом одновременно, — куда больше. Слишком близка была эта фраза к провозглашению любви к той, что находится внутри платья.
— Спасибо, — сказала Лора.
Сразу стало ясно, что она полностью отдает себе отчет в произведенном на Джеффа впечатлении, но вместо того, чтобы еще сильнее напрячься, он вдруг расслабился.
— Прекрасное платье, — заявил он прямо, — но чем бы оно было без плеч. И что еще важнее, без…
Она чуть приподняла брови — удивленно, неопределенно. Сказать «без груди» было бы ужасно — это бы сразу порвало ту нить, что начала свиваться между ними, и хотя голова у Джеффа была, как всегда, набита грубостями, он сказал именно то, что сказал:
— …без ключиц, — словно и не хотел сказать ничего иного.
Она явно расслабилась — он не оказался полным тупицей! — и была польщена.
— Что ж, спасибо еще раз.
Он говорил искренне. Плечи ее были нешироки и хрупки, но выглядели сильными.
— Полагаю, мне следовало бы вернуть комплимент…
— Умоляю, не чувствуйте себя обязанной.
— Нет, мне бы и вправду хотелось.
— Ну хорошо. Рубашка подойдет?
Он раскинул руки. Жест получился довольно неопределенный — не то красуется, не то плечами пожимает.
— Рубашка хороша.
— Спасибо. Вижу, мне придется вытаскивать его из вас по кусочкам, но это моя любимая рубашка. Она такая…
— Голубая?
— Нет.
— Мятая?
— Эээ… нет. Хотя да, можно было складывать поаккуратнее. Нет, я искал слово… «мужественная», что ли. Извините, мне не следовало это говорить. Вы и так к этому шли.
— Неужели? Я-то думала, я иду к «дешевая с виду».
— Так это и есть синоним к «мужественная». Вот ваше платье как раз выглядит дорого.
— Что, в свою очередь, есть синоним к…
— Именно.
Ого, он уже ловил все на лету. От былого паралича не осталось и следа. Если Джефф что и чувствовал сейчас, так это чрезмерную самоуверенность.
— Пятьдесят долларов, эконом-магазин.
— Да что вы! А смотрится так, будто стоит, ну, не знаю, вдвое дороже.
К ним подплыл официант.
— Желаете беллини? — галантно вопросил Джефф.
Они поменяли свои пустые бокалы на полные. Покончив с этими вводными упражнениями, они заговорили о биеннале, о том, кто где остановился и насколько. Она улетала в воскресенье. Джефф разглядел ее поближе. Родинка на скуле, сережки (маленькие, золотые), довольно полные губы.
Тут к ним обернулись Фрэнк и ее подруга.
— Мы идем посмотреть, не даст ли нам аудиенцию Брюс Нойман[37]. Пойдете с нами?
Фрэнк явно обращался к ним обоим. В других обстоятельствах Джефф не раздумывая воспользовался бы шансом приблизиться к такой величине, но сейчас — хотя он заставил себя промолчать — каждая молекула в нем вопила «мы останемся тут, спасибо Фрэнк».
— Мы останемся тут, — сказала Лора.
— Мы скоро вернемся, — сказала ее подруга.
— Как зовут вашу подругу? — осторожно спросил Джефф, провожая глазами Фрэнка.
— Ивонн.
— Ивонн… ну да. Разумеется.
Облегчение от возможности побыть немного наедине с Лорой было таким сильным, что у него снова отнялся язык. Как было бы славно вернуть разговор к ее платью и его рубашке и прочим метонимам — если это то самое слово — женственности и мужественности. Вместо этого он довольно тупо спросил, чем она занимается.
— Работаю в галерее, — отвечала Лора.
Внезапное желание немедленно перебраться в Лос-Анджелес вновь дало о себе знать. Боже, что же у него за жизнь, если он готов вот так, с полуоборота, все перечеркнуть? Хотя, возможно, дело в том, что «все» здесь на самом деле значит «ничего».
— А вы? Что вы делаете?
— Я журналист. Фрилансер. Если бы это была нормальная работа, я бы ее бросил и занялся чем-то еще, но фриланс, увы, и есть то самое «что-то еще», чем занимаешься, когда бросишь работу, так что возможности у меня довольно ограниченны. Или так, или никак — хотя одно от другого подчас не слишком отличается.
— А я вот как раз бросаю работу. Хотя галерея пока об этом не догадывается.
— А почему? Что случилось?
— Я отправляюсь путешествовать. Делаю то, что обычно делает молодежь в двадцать лет. Только я — с опозданием лет на десять.
Ага, он был прав, ей тридцать один или тридцать два. Ничто сегодня не может укрыться от него. Ей-богу, таким проницательным он не был уже много лет.
— И куда же вы едете?
— А, куда все, туда и я. Юго-Восточная Азия, Индия.
Да что же с ним такое! Через две минуты после Лос-Анджелеса он уже был готов продираться с рюкзаком через джунгли Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. Ну да, если никакой более достойной цели у тебя нет, поневоле хватаешься за каждую проплывающую мимо соломинку. Скажи она, что подумывает о переезде в Румынию, он и тут был бы «за». Ну, или на Марс, чего мелочиться.
— А вы уже бывали в Индии? — спросил он.
— Однажды. В Гоа и Керале. На этот раз я хочу в Раджастан и Варанаси, который Бенарес.
— Одно и то же место, да?
— Да.
— Санскрит, так? «Наси» — место; «вара» — много. Место, у которого много имен.
Она рассмеялась. У нее были идеальные зубы, довольно крупные, — настоящие американские зубы.
— Понятия не имею, потрясающе это или натуральное «бен» как «полное» и «арес» как «дерьмо». Возможно, сразу и то и другое, как оно часто бывает.
Они еще раз чокнулись. Джефф смотрел, как ее губы касаются краешка стекла, смотрел, как она пьет. Ни тени розового не осталось на бокале — она не пользовалась губной помадой. Он глотнул из своего, и это простое действие сразу же вернуло ощущение жары, от которой должно было принести облегчение.
— Бог мой! — сказала она. — Какая невыносимая жара.
Она прижала холодный бокал ко лбу. Взгляд Джеффа скользнул вдоль гладкой подмышки. Стекло оставило на лбу несколько бисеринок влаги.
— Завтра, очевидно, будет еще жарче.
Он не хотел сказать ничего такого этим метеорологическим комментарием, но в нем прозвучал смутный намек на более тонкую ткань, осыпающиеся лепестки одежды, влагу пота. Белье, нагота… Жара.
— На самом деле все не так. У меня в отеле не говорят «жара» — это «’ара». А завтра у них будет «’арче».
— ‘Ара будет еще ‘арче?
— Именно.
— Куда же еще. Мне и так сдается, что здесь все испарится еще до наступления утра.
Ничего невозможного в этом явно не было. Очень легко представлялось, что просыпаешься утром — и обнаруживаешь этот полузатонувший город пустым и по щиколотку в гнусно пахнущей грязи: широко раскинувшееся ничто на месте лагуны, влажная бурая пустыня и последние рыбы, трепыхающиеся и хватающие ртом воздух. Хотя, с другой стороны, можно будет наконец-то вычистить каналы и хорошенько отремонтировать фундаменты зданий. Удивительно, что ничего подобного еще не сделали в порядке арт-проекта, вроде знаменитых «оберток от Христо»[38]. Если бы все это носило временный и обратимый характер, получился бы отличный аттракцион для туристов.
— …писать очень интересно, хотя… — говорила тем временем Лора.
— Да нет, какая это литература, это так…
Он пожал плечами и замолчал, гадая, есть ли у него при всем словарном богатстве английского языка шанс закончить предложение не тем термином, который вертелся на языке. Увы, шанса не было.
— …хренотень какая-то, — покорно закончил он.
За это время слово успело созреть, набрать вес и вырваться наружу с двойным смыслом — характеристикой его работы в целом и осознанием того ужасного факта, что никакой альтернативы у него нет.
— А, хренотень, — засмеялась она. — Самая суть англичан.
— Факт, у вас есть свобода и стремление к счастью. У нас… сплошная хренотень.
— Вы пишете о биеннале?
— Да. Вы знаете такую певицу, Ники Морисон?
— Дочку художника Стива Морисона?
— И Джулии Берман, которая, кстати, должна быть где-то здесь. Мне нужно взять у нее интервью и выманить ее портрет, сделанный Морисоном. В графике. Издатель журнала, на который я работаю, просто чокнулся на этой картинке, хотя в глаза ее не видел.
— А что в ней такого особенного?
— Понятия не имею.
На этой ноте у Джеффа снова пропал дар речи. Абсурдность его работы, всей этой хренотени, которую он вынужден писать, затопила его целиком и неизбежно пролилась бы наружу, рискни он сказать еще хоть слово. И снова она пришла ему на помощь:
— Но вы же пишете в основном об искусстве?
— На самом деле нет. Я вообще по визуальной части слабоват.
Это был его главный козырь. Он заготовил его еще до поездки в Венецию, решив, что сделает из него главную шутку биеннале, которую можно будет повторять при каждом случае. Правда Джефф совершенно не рассчитывал, что сможет опробовать его в таких идеальных обстоятельствах.
— Да и я не очень, — сказала она.
О нет! Она была совершенно серьезна и сказала именно то, что хотела сказать. Она даже не поняла, что он шутит. Патологически искренняя калифорнийка в чистом виде. Его разочарование было столь очевидным, — возможно, он даже опять шевелил губами, беззвучно проговаривая свои мысли, — что Лора со смехом ткнула его в плечо.
— Шучу, — на всякий случай объяснила она.
Джефф был сражен наповал. Она не только выдержала его лучший удар, но и легко парировала, заткнув его за пояс.
— Извиняюсь. Как я уже говорил, я только что приехал и еще не вошел в ритм.
— Все в порядке. Отмотаем назад. Итак, вы пишете в основном об искусстве?
— Иногда. Знаменитости. Интервью. Очерки. Статьи. Вся обычная…
— Хренотень?
— Да вы ловите на лету. Жили когда-нибудь в Англии?
— Лондон. Стрэтфорд. «Буря»[39]. Оксфорд. Котсволдс. Портобелло-роуд. Хокстон. На все — полтора дня.
— Ну, думаю, вы все успели. Страна-то маленькая.
— Но передвигаться по ней довольно трудно.
— Глупо даже пытаться. Особенно по воскресеньям. Сталкивались небось с табличками «Строительные работы» и «Служба замены транспорта»?
— Как раз в воскресенье я прилетела из Пизы в Стэнсфилд. В самолете нам сказали, что нужно будет сесть на поезд «Стэнсфилд-экспресс», и там же продавали билеты — несмотря на то что никакого поезда в природе не существует. Вместо поезда оказался автобус. И стоил он целое состояние…
— И ехал целую вечность. Добро пожаловать в Англию.
Они мало что сказали друг другу, но слова эти несли колоссальный груз ожиданий. Это был чистый случай, одна сплошная фортуна, но воздух между ними уже потрескивал от напряжения. Она была действительно красива — могла понравиться любому, но, видимо, лишь он ощущал эту красоту как силу. Он желал ее — не сексуально, пока еще нет; это было слишком узко, слишком обедняло спектр его желания — и не будь это желание взаимным, оно бы ни за что не возникло. Никакой его победы в этом не было — просто так получилось. Они могли встретиться где угодно — где угодно в Венеции в этот уик-энд или где угодно в мире в грядущие годы, — и результат все равно был бы тем же. Они могли не сказать друг другу ни слова, и ничего бы не изменилось. В конце концов все свелось бы к тому же.
Фрэнк и Ивонн вернулись в сопровождении парня по имени Луис Как-Его-Там. Все трое были до крайности возбуждены встречей с Брюсом Нойманом, но вечеринка тем временем явно клонилась к закату. Заговорили о том, что делать дальше. Все были полны решимости отправиться куда-нибудь еще — за исключением Лоры. Джефф с удивлением слушал, как она объясняет, что устала и хочет вернуться в отель. У него закралось было подозрение, не стратегический ли это ход, цель которого — остаться одной, ну, то есть с ним, — но у нее ничего такого в мыслях явно не было. Она просто хотела домой. Пока все сворачивались, он сумел тихонько сказать ей, так чтобы никто не слышал:
— Я очень хотел бы снова вас увидеть.
— Взаимно.
— Мне позвонить вам? В отель?
Она покачала головой. Из-за паузы между двумя вопросами он так и не понял, к чему это относилось — «нет, не в отель, позвоните мне на мобильный», или «нет, не надо звонить мне в отель» (в том смысле, что Лучше зайдите туда), или даже — хотя этот вариант пока казался наименее вероятным — «не надо звонить и вообще оставьте меня в покое».
— Мы можем где-нибудь встретиться? — настойчиво спросил он. — Или мне все же позвонить вам? Где вы остановились?
Вопросы теснились и наскакивали друг на друга, хотя на самом деле это был один-единственный вопрос. Джефф надеялся, что в нем не прозвучало охватившего его отчаяния, хотя исключать такую возможность было нельзя — отчаяние сквозило в самой постановке вопроса.
— Ничто из перечисленного.
— Правда?
Итак, он все понял неверно. Никакая искра между ними не пробегала. Энергия шла только от него, причем в таком количестве, что, разбившись прибоем об ее скалы, она отхлынула назад и теперь стекала по его лицу как разбитое о макушку яйцо — вылившееся из своей скорлупки эго.
— Но надеюсь, мы еще увидимся.
— Хорошо… Возможно… Признаюсь, я совершенно сбит с толку.
— Думаю, мы еще увидимся с вами на этой неделе. Здесь, в Венеции. Но было бы чудесно привнести в эту историю элемент случайности, вы не находите?
— Это зависит от того, столкнемся мы с вами еще или нет.
— Думаю, столкнемся. Вечеринок так много.
— …Так много, что мы вполне можем все время оказываться на разных. На какие вы собираетесь пойти? Просто интересно…
Она ничего не ответила, но смотрела на него так, что стало ясно: снова его очередь говорить.
— Надеюсь, мы встретимся.
— Я тоже.
Растерянный, он стоял, не зная, что делать дальше.
— Понимаете, — продолжала она, — если у нас нет шансов, то и… Давайте посмотрим на это так: если мы снова встретимся, это будет чудесно, даже романтично. Разве нет?
— Да, но, видите ли, я англичанин и поэтому воспринимаю все немного по-другому. Я заранее предвижу, что мы разминемся — вот ведь хренотень! — и до конца своих дней буду гадать, как бы все повернулось, если б этого не случилось.
— Так будет даже еще более романтично.
— Зато куда менее весело. На определенной стадии романтика неизбежно превращается в трагедию.
— А на память как, не жалуетесь?
— Жалуюсь, если честно. А что?
— А то, что чуть раньше по ходу нашей беседы я уже упоминала, где остановилась.
— Неужели?
— Точно.
— Я сказал «в трагедию»? Я имел в виду — «в фарс».
Он хорошенько порылся в памяти.
— Вот хоть убейте, не помню, чтобы вы такое говорили…
(А было ли это в самом деле?)
— А может, вы шепнете мне еще раз мимоходом? Уверен, я тотчас же забуду.
— Если я скажу вам, где живу, вы будете все время там торчать.
— Да ни за что!
— Поспорим? Лишь только я выйду в холл, и вот он вы, откуда ни возьмись. «Какое поразительное совпадение! Я как раз шел мимо…» Ну да, последние два часа все шел и шел мимо. А что, нельзя тут ходить?
— Вы и вправду думаете, что я вами так интересуюсь?
— Я и вправду думаю, что вы человек как раз такого типа.
— Все верно. Я такой и есть.
— Лукавый?
— Ужасно.
(Крайне умнó было так сказать: чистосердечное признание снимает обвинение.)
Она потянулась к нему и поцеловала в губы. Ни разу на его памяти простой поцелуй в людном месте и в полностью одетом виде не был так напоен желанием. Как? Почему? Он уже было решил, что она передумала и сейчас пригласит его с собой, но поцелуй лишь подтверждал ее уход.
— Вы так и не скажете мне, где остановились?
Она пожала плечами.
И ему не оставалось ничего другого, кроме как смотреть, как она уходит прочь. Темные волосы ниспадают на плечи. Обнаженные руки. Спина, бедра, стройные ноги, узкие лодыжки, белые босоножки.
Безвоздушное пространство, оставленное пока несбывшимся обещанием этой встречи, мгновенно обратило все его возбуждение в отчаяние и тревогу. Он заново прокрутил в голове детали нового знакомства — странные словечки, взгляды, недосказанности, — но ему не хватило сосредоточенности, чтобы превратить их из источника мучений во что-то другое. Одно-единственное слово тамтамом билось у него в голове: черт, черт, черт. Но — черт! — это же неправильно. На самом деле он был счастлив, совершенно счастлив — ведь именно такие чувства (со всем их отчаянием и тревогой) и делают жизнь стоящим делом. Лучшим решением было поймать поднос и организовать себе еще один беллини. Как оказалось, он был чуть ли не последним. Через мгновение официанты свернули бар. Джефф углядел в толпе Дэйва Глэндинга, пробрался к нему и похлопал по плечу. Дэйва он знал уже лет двадцать. С технической точки зрения это делало его одним из старейших друзей Джеффа. В целом он им и был — в том самом смысле, какой вкладывал Сирил Конноли[40] в свою знаменитую фразу о том, что очень старые друзья почти неотличимы от врагов. Довольно размытая по числу участников компания, и Дэйв в том числе, как раз намеревалась проследовать в бар «Хейг». Фил Спендер, все еще в своем знаменитом кремовом костюме, в котором он был в Стэнстеде, направлялся туда же. А вместе с ним Кайзер, Мелани и прочие деятели из Института современного искусства. Еще некоторое время вся эта толпа толклась на месте, пока все ждали всех, а потом снялась и торжественно покинула вечеринку, пьяная и полная восторга первой ночи биеннале.
Из-за жары и дикого количества народа весь хейговский бар высыпал наружу, на пьяццу, откуда открывался вид на Большой канал и Гритти в одну сторону и на мерцающую белоснежную Санта-Мария-дель-Джильо — в другую. Кайзер проник внутрь и вернулся с первой партией напитков, по большей части пива. Теперь Джеффа со всех сторон окружали лондонцы, большую часть которых он знал по презентациям и выставкам: дом вдали от дома, Сохо в ренессансном обрамлении и с поправкой на жару. Снова множество женщин в красивых платьях, но без одной конкретной, одетой в желтое, ночь зашла в тупик и ничего не обещала. Как же быстро мир умеет сужаться до одного-единственного человека, одной-единственной женщины. Даже самый законченный ловелас время от времени подвержен приступам необъяснимой моногамии. Джефф был счастлив, он веселился вовсю, но теперь, после встречи с Лорой, ощущение невероятной удачи тихо грызло его изнутри, так что приходилось усилием воли возвращаться к бурлившей вокруг, подобно шампанскому, беседе.
К ним присоединилась Джейн Феллинг. Много лет назад они с Джеффом пару раз переспали, но никогда не бывали на людях вместе, так что и нужды в расставании вроде как не было. Она пришла со своим новым бойфрендом, так что Джеффу пришлось наступить на горло давней привычке грубо заигрывать с ней по пьяной лавочке. Но, может, он и поспешил, так как она сама принялась с ним флиртовать.
— Ты сегодня выглядишь дьявольски мужественным, Джефф, — заявила она, целуя его в губы.
— И ты, Джейн. Я хочу сказать, женственной.
— У тебя какие-то другие волосы.
— Буду честен: я их покрасил.
— Тебе идет, и к тому же выглядит почти незаметно. Я сразу подумала, что что-то не так, но не могла понять что.
Просто удивительно, как мало секс влияет на отношения с другими людьми. Или даже так: удивительно, как то, что обычно определяет отношения, иногда вдруг становится пустым и незначительным, почти не оставляя следа, превращаясь в мелкое стеклышко в мозаике агрессивной и беспорядочной жизни мегаполиса.
Тем временем Джейн уже вспоминала в обществе Фила и Кайзера подробности их первого «свидания» с Джеффом.
— …если это событие, конечно, можно почтить таким словом, — сказала она, беря его под руку. — Мы тогда пошли в… Слушай, а куда мы пошли? Я что-то не припомню.
— Во французский ресторан.
— Точно. Короче, мы отлично поужинали. Джефф был таким обаятельным и остроумным, что я решила: с ним определенно стоит переспать. Но тут приносят счет, и он говорит… Что ты тогда сказал?
— Ты можешь записать это на редакционные расходы?
По идее, это должно было выставить Джеффа не в лучшем свете, но в данном случае он был скорее горд собой.
— Классический Атман, — одобрил Кайзер, хлопая его по спине.
— Самое же приятное, что а) так она и сделала и б)…
— Я все равно с ним переспала!
Они чокнулись под взрывы смеха и звон стекла. На самом деле они уже не первый раз рассказывали на пару этот анекдот. После нескольких бокалов он всегда шел на ура. И все же он был рад, что Лора их не слышала. Было во всем этом что-то слишком лондонское — быть может, в самом словечке «переспать».
— Что ж, могу наконец-то отплатить услугой за услугу. Кто-нибудь хочет еще выпить? Я угощаю.
Глупый вопрос. Выпить хотели все.
В баре, ожидая, пока его обслужат, Джефф решил, что, будь он художником, стоило бы по примеру Трейси Эмин с ее «Всеми, с кем я когда-либо спала»[41] сделать инсталляцию на тему всего бухла, которое он в себя когда-либо вливал. Пиво, вино, шампанское, сидр и прочее. Боже, да под одно только пиво ему понадобилась бы галерея размером с авиационный ангар: кружки, банки, бутылки… То был бы портрет не только его жизни, но и целой эры. Некоторые марки, с которых он когда-то начинал, с тех пор успели исчезнуть с лица земли: «Тартан», «Дабл Даймонд», «Трофи» и «Долгая жизнь»[42], с чьим названием уж явно промахнулись. Сам проект тоже был бы интернациональным — не только домашние сорта, но и те, которыми он наслаждался за границей, взять хотя бы «Перони», который он только что заказал у бармена в количестве пяти штук. Поданные бутылки были скорее прохладными, чем охлажденными, и Джефф спросил, нет ли чего похолоднее.
— Даже великолепнейшие холодильники Венеции с трудом справляются со зноем и неутолимой жаждой холодных напитков, им порождаемым, — ответил ему бармен на эпическом английском. Джефф молча забрал почти теплое пиво и понес его наружу, к изнемогающим от этой самой жажды лондонцам.
К ним успел присоединиться бойфренд Джейн, Марк. Один из тех, кто заказывал пиво, бесследно исчез, так что освободившийся бокал достался Марку. Это был один из тех парней, которые вроде бы не слишком привлекательны и вроде бы не слишком интересны, но стоит лишь его увидеть, и он тебе уже нравится. Джефф отхлебнул своего тепловатого пива. Марк углубился в разговор на другом конце стола, а Джейн наклонилась к Джеффу:
— Знаешь, что мне в нем особенно нравится?
— Откуда же мне знать?
— У него все легко и просто.
— Я понимаю, о чем ты. Мне тоже нравятся легкие люди. Хотя я не из таких, я знаю. Наверное, потому они мне и нравятся.
— В них есть что-то такое… мужественное.
— Я только сегодня употреблял это слово, правда в другом контексте. Да, оно самое. А вывод? В тех, кто напрягается, есть что-то такое… немужественное.
— И все равно ты прелесть. — Она поцеловала его в щеку.
— Спасибо, Джейн. Ты тоже.
Она пересела к Марку, и на том все закончилось. Но какой, право, приятный обмен мнениями! Настолько приятный, что пора, пожалуй, выдвигаться в сторону дома. Впереди еще целых четыре дня; было бы мудро вернуться в отель в первый вечер в более-менее приличном состоянии желудка и нервов. Завтра предстоит куча дел, и все их придется делать, выискивая глазами Лору.
Джефф попрощался с одними, помахал другим и отправился домой.
Через пару минут он уже безнадежно заплутал. Внезапные тупики и каналы, которые не пересекало ни единого моста, и такие же, как он, заблудшие души, сгрудившиеся под мутными фонарями и растерянно тычущие пальцами в туристические карты, — вот все, что попадалось ему на пути. Знак на углу утверждал, что, повернув налево, он попадет на площадь Сан-Марко; однако, повернув направо, он — о чудо! — тоже должен был неизбежно оказаться на Сан-Марко. Как часто мы предоставляем знакам делать за нас выбор… или, по крайней мере, принимаем их помощь в этом деле. Этот конкретный знак дезавуировал сам себя. С таким же успехом его могло здесь и не быть. Призванный прояснять, он только напускал тумана. Или?.. Приоткрывал краешек некой высшей истины касательно Венеции: куда бы ты ни шел и как бы ни пытался оказаться где-то еще, ты все равно попадешь на Сан-Марко. Делай что хочешь, иди куда вздумается, все равно результат будет тем же.
Когда ты устал, едва волочешь ноги и глаза у тебя слипаются, безумная география этого города может довести до безумия, но сегодня это было захватывающе, это было забавно, это была часть «венецианского экспириенса», того же, что у всех остальных. И все же Джефф вздохнул с облегчением, когда без предупреждения и в нескольких милях от того места, где он оставил его несколько часов назад, перед ним послушно возник отель. Ночной портье спал — никогда не поймешь, кому больше подходит эта работа: страдающим бессонницей или склонным к нарколепсии[43], — но сумел прийти в сознание ровно настолько, чтобы выдать Джеффу ключ.
Кондиционер выморозил комнату до состояния холодильника. Джефф выключил его, и тишина сгустилась еще на пару делений.
Ему снилось, что он спит, но не у себя в комнате, а на берегу канала — широкого, быстротекущего венецианского канала. Город выглядел даже еще дряхлее, чем был на самом деле, — побитым временем, грязным, замусоренным. Он проснулся оттого, что кто-то тянул его за руку, тянул и давил, и давление это становилось все сильнее и болезненнее. Джефф открыл глаза и узрел собаку с древними глазами, которая грызла его руку. Он попытался было отогнать ее другой рукой, однако никакой другой руки у него не было, а была лишь та, что сжимала в окровавленных зубах собака. Во сне он проснулся, но не мог пробудиться ото сна, в котором собака кусала его за руку, грозя совсем ее отгрызть. А может, все было не так? Он был весь мокрый. Возможно, собака вытащила его из канала и тем спасла ему жизнь? Кто знает. Джефф проснулся, утопая в поту. Он лежал у себя на кровати, никакой собаки рядом не было, но простыни были хоть выжимай.
Солнце методично раскаляло крышу отеля, служившую по совместительству потолком его комнаты. Солнечный свет проникал сквозь жалюзи, беспощадный, как в полуденный зной. Однако на часах было всего без пятнадцати восемь. Джефф был с похмелья, недавний сон не шел у него из головы, и он чувствовал себя совершенно неотдохнувшим и слишком взволнованным всем, что готовил ему грядущий день, чтобы попытаться вновь уснуть.
Он включил кондиционер и распахнул шторы и ставни. В мгновение ока комнату затопило солнцем, которого хватило бы на небольшой город. Звеня золотой струей о днище унитаза, Джефф поймал в зеркале отблеск своего нового темноволосого «я». Вот ведь черт! С такими волосами он выглядел лет на пять моложе, чем неделю назад. Правда, похмелье и недосып благополучно состарили его на те же пять лет, так что выходило баш на баш. Он искупался под душем, побрился, почистил зубы, облачился в шорты и любимую футболку — голубую, невероятно выцветшую, с логотипом компании по производству скейтбордов — и устремился туда, где его ждал завтрак.
Снаружи было уже жарко, как в пустыне, — но какое это имело значение? Он был в Венеции и испытывал острое счастье при мысли, что жив и что станет сегодня искать Лору — здесь, в этом городе, который уже давным-давно проснулся и занимался своими делами. С барж — или как они тут называются — продавали фрукты и овощи, по каналам скользили гондолы, высматривая первых пассажиров. Люди выглядывали из окон, кричали и махали друг другу. По узким улочкам катили тележки с самой разной снедью. Все это очень смахивало на «Шоу Трумана»[44]. Каждый день на протяжении сотен лет Венеция просыпается и надевает эту маску, притворяясь реальным городом, хотя всем известно, что она существует лишь в воображении туристов. Новшество заключалось только в том, что гондольеры, пекари и торговцы фруктами были такими же туристами, купившими себе безмерно растянувшийся во времени «тур выходного дня». Гондольеры наслаждались видом торговцев фруктами, торговцы фруктами исподтишка фотографировали гондольеров и пекарей, и все вместе они любовались настоящими местными жителями — ордами вооруженных фотоаппаратами японцев, американцами, справляющими свой медовый месяц, бюджетными путешественниками, не упускающими случая стянуть под шумок пару евро, ну и конечно мучающимися похмельем гостями биеннале.
Один из них сейчас бесцельно брел по набережной, зорко выглядывая кафешку, где дают именно такой завтрак, какого ему хотелось, и куда потом он мог бы возвращаться каждый день. Там должны были подносить свежевыжатый апельсиновый сок, хороший кофе (впрочем, с этим в Италии проблем обычно не было) и более-менее приличные круассаны или корнетти (что почти невероятно), которые можно было бы употребить, сидя в тени и с видом на какую-нибудь пьяццу (но не такую большую, чтобы вид счета за чашечку кофе оставил вас в состоянии непередаваемого экзистенциального шока, с застрявшим в горле вопросом «Сколько-сколько?»).
Такое место обнаружилось на удивление быстро, на маленькой площади, в конце обсаженной деревьями улочки, откуда открывался вид на канал Джудекки. Кофе оказался великолепным, а корнетто после выуживания из него меда, который Джефф терпеть не мог, удалось превратить во вполне сносный круассан. Кто-то оставил на столике номер «Републики», который Джефф честно пробежал глазами. Главной новостью, что предсказуемо, была «'ара». Che caldissimo! Всего половина десятого, а уже жарко, как в полдень.
Заказывать кофе вместе с апельсиновым соком было ошибкой. По дороге в отель за всем, что могло понадобиться ему в течение дня, Джеффу пришлось сделать спринтерский рывок — последнюю сотню ярдов он бежал почти вприпрыжку и, взлетев по лестнице, от души попользовался туалетом в своем номере. Испытанное им облегчение было мощным, но, увы, мимолетным. Телефон начал трезвонить, когда Джефф еще сидел на унитазе.
— Пронто!
— Что еще, к чертовой матери, за «пронто»?
— Ах, это ты, Макс. Я пытался сойти за местного.
— Я тебе уже целую вечность звоню.
— Я выходил позавтракать. Который час? Не думал, что ты заявишься в офис в такую рань.
— Я говорю с мобильного. Почему бы и тебе его не завести? Ты — единственный человек на свете, у которого нет мобильного. И ты еще считаешь себя журналистом!
— Не знаю. Перспектива выбора подходящего аппарата сводит меня с ума, а словосочетание «журнал звонков» вызывает депрессию.
— Я тебе скажу, что у меня вызывает депрессию. Это твое интервью. Ты уже поговорил с ней?
— Я только вчера прилетел, если ты запамятовал.
— Так ты с ней еще не говорил?
— Я оставил ей сообщение, — соврал Джефф.
— И как, по-твоему, она должна ответить на это сообщение, если у тебя нет телефона?
— У меня есть телефон. Если мне, конечно, не мерещится, я сейчас по нему говорю. Давай проверим. Тут есть такая штука, в которую нужно говорить…
— Очень смешно.
— Да-да. И я даже слышу голос у себя в ухе, голос какого-то человека из другой страны, с которым я бы по доброй воле разговаривать не стал. Слушай, это определенно телефон.
— Нам позарез нужно это интервью. Я доступно выражаюсь?
— Вас понял.
— И снимок!
— Есть, сэр.
— Ты кретин, Атман, — сказал Макс и повесил трубку.
Как все-таки чудесно иметь дело с человеком, с которым вас уже почти полтора десятилетия связывают рабочие отношения. Какое это счастье — обходиться без пустых любезностей и никому не нужной болтовни. В качестве запоздалой, но символичной акции гражданского протеста Джефф спустил за собой воду.
Идти в Джардини было слишком рано, зато-самое время заглянуть в Академию и полюбоваться «Бурей», пока музей не заполонили толпы туристов. Как и все остальное в Венеции, музей был на ремонте, но при этом открыт для посетителей, и перед входом даже не змеилась очередь. Объявление на кассе гласило: «Извините, у нас нет кондиционированного воздуха». Во втором, поменьше и на итальянском, говорилось что-то о «La Tempesta»[45] Джорджоне. Черт! С музеями всегда так: если у тебя в городе всего один свободный день, музей непременно будет закрыт, а если и открыт, то та единственная вещь, ради которой ты пришел, окажется на выставке или на реставрации. Но нет, подозрительное объявление всего лишь объясняло, что из-за ремонта здания «Бурю» перевели в зал номер тринадцать, куда Джефф и устремился.
Там оказалось пусто. Зал и картина были в его полном распоряжении.
В правой части полотна молодая мать кормит грудью младенца, устремив взгляд прочь из картины — в глаза тому, кто рассматривает этот шедевр. Скорее всего, она только что искупалась в реке, которая отделяет ее от элегантно одетого молодого человека, расположившегося в левом нижнем углу. Он глазеет на даму, опираясь на посох. Он глядит на нее, она — на нас, мы — на них. Что бы между ними ни происходило, мы в этом замешаны. За спинами персонажей, на заднем плане — хотя на самом деле это никакой не задний план, — мост пересекает аквамариновую реку. За мостом над городом сгущаются тучи. Белая птица — вероятно, аист — восседает на крыше одного из зданий. В небе кипит чернильная синь. Трещина белой молнии вспарывает тело грозы.
«Остановленное Джорджоне мгновение, — пишет Маккарти, — носит идиллический характер, однако в этой идиллии скрыто дурное предчувствие. Вот-вот случится что-то ужасное». Тут ее понесло куда-то не туда. Глядя на «Бурю», невозможно сказать не только что это за «что-то» — не говоря уже о том, ужасное оно или нет, — но и в каком времени оно пребывает: случилось ли это в прошлом, случится ли в будущем или вообще не случится. Здесь нет ни «до», ни «после», или, по крайней мере, их невозможно друг от друга отличить, так тесно они сплелись. Но в остальном нельзя не признать, как точно ей удалось облечь картину в слова. Это и впрямь неподвижность, чреватая бурей.
Может, в музее и не было никакого «кондиционированного воздуха», но внутри было явно прохладнее, чем снаружи, где Джеффа поджидала жара. Он купил в киоске литровую бутыль воды и трехдневный билет на пристань вапоретто при Академии. Не заставивший себя долго ждать теплоходик был битком набит художниками. Симпатичный и представительный Вольфганг Тиллманс[46] болтал со старым кровопроливцем Марком Квинном[47], чья последняя работа — гигантская металлическая орхидея — красовалась на рекламном плакате музея Пегги Гуггенхайм[48]. Пробираясь на нос, Джефф миновал Ричарда Вентворта[49], в панаме и полосатой синей рубашке, выглядевшего так, что хоть сейчас снимай его в телефильме о каком-нибудь художнике, который был по совместительству одним из кембриджских шпионов[50].
— Мысль недели, — сказал он, когда Джефф протискивался мимо. — Мир искусства, шоу-бизнес. О чем нам это говорит?
Увы, Атман не смог проникнуться тонкостью этих различий: впереди образовалось свободное место, и он был твердо намерен его занять. Однако чье-то встречное намерение оказалось еще тверже, и Джефф остался стоять, но, по крайней мере, тут, на носу, подобие ветерка, порожденное движением вапоретто, овевало его намеком на прохладу. Проплывая мимо Сан-Марко, они повстречали несколько вапоретто, шедших встречным курсом. На палубе одного из них, облокотившись на перила, стояла Лора в белом платье. Да, без сомнений, то была она. В руке она держала туго свернутый желтый зонтик. Джефф не мог разглядеть номер вапоретто, понятия не имел, куда он идет, и знал лишь одно — она плывет в другую сторону. Он поспешно вытащил карту и попробовал прикинуть, куда она может направляться, но все было тщетно. Она могла плыть куда угодно. Джефф устремил безнадежный взор на струи пены, углом расходившиеся позади вапоретто. И как прикажете рассматривать эту неудавшуюся встречу? Как добрый знак — так как она вполне могла предвещать новые — или как первый и последний шанс, подобно тому, как в Лондоне можно вывалиться на улицу после вечеринки поздно ночью и сразу увидеть такси, но в последний момент пропустить его и зависнуть бог весть где на много часов, потому что других нет и не будет. Шанс, который одновременно есть отсутствие шансов.
Говорят, значение имеет не то, что происходит в вашей жизни, а то, что, как вы думаете, в ней произошло. Однако эта теория заходит недостаточно далеко. Вполне может статься, что центральным событием вашей жизни окажется то, чего в ней на самом деле не случалось… или чего, как вы думаете, в ней не случалось. Иначе нам не было бы никакой нужды в фантазиях — все ограничивалось бы воспоминаниями и историями, трехслойными событийными историями: что произошло, что на самом деле произошло и что, как вы думаете, произошло. Вот так. Вполне достаточно.
От того, другого вапоретто осталась лишь легкая зыбь, которую властно стирал с лица вод, чуть угасая в силе, пенный кильватер его собственного теплохода. Двойное аннулирование. Они разошлись, как в море корабли.
Джефф сошел на берег на Сан-Заккария, где ему предстояло получить аккредитацию в пресс-службе биеннале. Его пугали дикими очередями и многочасовым ожиданием под палящим солнцем, но, к счастью, перед ним оказалось всего несколько человек. Дэн Фейрбэнк как раз отходил в этот момент от стойки регистрации с пропуском в руке. Это было довольно неожиданно, так как, по последним сведениям (впрочем, двухнедельной давности), он занялся режиссурой рекламных роликов. Приметив Джеффа и явно намереваясь избежать слишком громких расспросов, он подошел и sotto voco[51] объяснил, что изыскал возможность раздобыть аккредитацию, чтобы «поскорее обрести доступ к тому, что иначе невесть когда увидишь». Через мгновение Джеффа пригласили к стойке, и Дэн смог благополучно удалиться.
Юная девица за стойкой, улыбающаяся и в красных солнечных очках, была в восторге от своей работы и стремилась сделать все возможное, чтобы этот важный журналист получил всю информацию, какая только может ему понадобиться, несмотря на то, что его интересовала лишь возможность попасть — обрести доступ — в максимум мест, где происходило что-то более-менее интересное. Общество биеннале было крайне иерархично. В основании пирамиды находилась простая публика, не имевшая пока что доступа никуда и — по крайней мере, на этом этапе — бросавшаяся в глаза своим полным отсутствием. На вершине пребывали художники и кураторы крупных институтов и известных коммерческих галерей; далее по нисходящей — коллекционеры, затем журналисты и критики и, наконец, целая армия тусовщиков, плавно перемещавшихся с выставки на выставку в поисках даровых зрелищ и бесплатных угощений. И в этой, казалось бы, гибкой кастовой системе журналист вроде Джеффа был всего лишь тусовщиком, которому повезло чуть больше, чем другим — тусовщиком с аккредитацией. Если уж на то пошло, то художники в массе своей были тоже тусовщиками, но с кисточкой или фотоаппаратом вместо бейджика, а кураторы… о, это были тусовщики, наделенные властью. При всем многообразии акредитационных бейджиков лишь самые «виповые» обеспечивали проход куда угодно, когда угодно и на что угодно. И наконец, превыше всего этого, на самом пике пирамиды, располагалось царство суперважных персон, где сам факт наличия какого бы то ни было пропуска — кроме твоего собственного богатства или славы, дававших самоочевидное право идти куда тебе заблагорассудится и быть везде желанным гостем, — был признаком недостаточности.
Получив свою обычную, не обещавшую никаких приятных излишеств карточку, Джефф испытал прилив внезапного вдохновения.
— А не скажете ли, — обратился он к регистраторше, — моя коллега, Лора Фримен, уже зарегистрировалась?
Конечно, она не была журналисткой, но, как и Дэн, вполне могла воспользоваться благами левой аккредитации. А если она и вправду зарегистрировалась… есть шанс узнать название ее отеля, а возможно, и номер мобильного. Пока девица с энтузиазмом прочесывала компьютерные списки, Джефф стоял, едва не приплясывая на месте: какая удача — тайно проникнуть в жизнь Лоры, чтобы собрать о ней как можно больше информации, чувствуя себя настоящим частным сыщиком, проницательным и хитроумным и… Но нет, никакая Лора Фримен на биеннале не регистрировалась.
— А. Ну все равно спасибо.
Девица оказалась не просто полезной. В этот краткий эпизод общения она привнесла чары, к которым мужчины Джеффова возраста особо чувствительны: легкий намек на то, что она оказала ему эту услугу не по доброте душевной, и не из служебного долга, и даже не из личного к нему расположения, а потому, что нашла его по-мужски привлекательным. Так ли это было в действительности или нет, не имело значения (да и вероятность такого расклада в целом стремилась к нулю). Важна была лишь ее манера общения, игривая просто от избытка удовольствия, благодаря чему Джеффу удалось потешить себя этой славной мыслью. Не будь он столь поглощен мыслями о Лоре, можно было бы устроить на этот счет небольшую проверку — «Не хотите ли выпить со мной бокальчик после работы?» — которая, скорее всего, дала бы отрицательный результат. Так что Джефф просто поблагодарил девицу за помощь, пожелал ей удачного дня, и обмен любезностями завершился широкими улыбками обеих сторон. В целом все это очень напоминало сцену с индийской красоткой в лондонском магазинчике, переписанную под венецианские реалии.
Вооружившись всемогущим журналистским пропуском, Джефф снова вышел в зной, который уже перешел в категорию научной фантастики. Возможно, именно вожделенная карточка спровоцировала у него приступ служебного рвения: он зашел в ближайшую tabaccheria[52] и купил телефонную карточку, чтобы позвонить Джулии Берман и договориться об интервью. Пока он кокетничал с девицей на регистратуре, температура, казалось, успела взлететь еще на десять градусов. Но телефонная будка переплюнула и этот рекорд. На том конце никто долго не брал трубку. Джефф тщетно ждал, пока ему ответит человек или хотя бы машина, потом нажал на рычаг и снова набрал тот же номер. С тем же эффектом. Честно говоря, он испытал огромное облегчение. Он сделал все, что мог, неоднократно звонил — дважды! — и не получил никакого ответа. Он приложил все усилия, чтобы выследить Джулию Берман, но безуспешно, так что теперь он имел полное право заняться другими делами, которых у него была целая куча, и самое важное из них — посещение биеннале (не считая, конечно, поисков Лоры).
У входа в Джардини[53] студенты и молодые художники раздавали приглашения на свои выставки — альтернативные, полуподпольные реплики биеннале, как правило, с музыкой и диджеями. Когда Джефф попал внутрь, всего через час после официального открытия, Джардини был уже переполнен.
Первой остановкой на маршруте патриотично стал британский павильон, отданный на этот раз Джилберту и Джорджу[54]. Еще в восьмидесятых критик Питер Фуллер организовал против них настоящий крестовый поход, узрев в их лихом творчестве угрозу всему, чем он дорожил. Ко времени своей смерти (а погиб он в автокатастрофе) Фуллер, должно быть, уже понял, что все его усилия пропали втуне, ибо Джилберту и Джорджу сама судьба назначила стать крестными не одного поколения молодых хулиганов из YBA[55] — а теперь еще и получить в свое распоряжение британский павильон на биеннале. Стоит ли говорить, что работы их были скучны, как невинный детский грех, — все та же кричащая всеми красками живописная мазня в витражном стиле, которую они кропали годами, но, с точки зрения Джеффа (а как еще можно смотреть на искусство?), это было неважно. Ну, не смогли они сказать нового слова в искусстве — а разве от них кто-то этого ждал? Да и какой теперь прок пинать двух этих дряхлых пугал?
По идее, отсюда нужно было начинать систематическое знакомство с экспозицией, методично обходя национальные павильоны, но в Канаду и во Францию, располагавшиеся рядом с Британией, уже выстроились гигантские очереди художников-иммигрантов, так что Джефф пропустил их и стал фланировать по выставке в совершенно хаотическом порядке. От Джилберта и Джорджа он отправился в Норвегию, где обнаружил стену из желтых и черных кругов в стиле оп-арт. Правда, это оказались не просто круги, а мишени для дартса — целая стена мишеней. На некотором расстоянии от нее располагались большущие коробки с красными и зелеными дротиками, которые можно было метать в стену, постепенно меняя рисунок и распределение цветов. Джефф как раз прицелился последним из пригоршни красных дротиков, когда кто-то позвал его по имени. Обернувшись, он схлопотал дротик промеж глаз. Дьявол! Это был Бен Дженнингс, ловко проделавший старый трюк с развинченным дротиком — в лицо Джеффу полетело лишь безобидное оперение. Правда, приятнее ему от этого не стало.
— Кретин!
— Чудесно, правда? — невинно поинтересовался Бен, завинчивая дротик обратно. — Джексон Поллок вкупе с Джоки Уилсон[56].
На нем была светло-голубая рубашка, уже ставшая от пота под мышками темно-синей. Давным-давно он был видной фигурой в Сохо, остроумцем, новым Кеннетом Тайнаном[57], встающим на крыло. Теперь же, пятнадцать лет спустя, все — даже такой наемный трудяга, как Джефф, — видели в нем лишь писаку, которому не хватило дисциплины, настойчивости или таланта, чтобы реализовать некогда подававшиеся им блестящие надежды. Но, похоже, ему на это было наплевать. Он с наслаждением колесил по арт-мероприятиям в разных концах света — Арт-Базель в Майами, Базель сам по себе, Армори в Нью-Йорке, Фриз в Лондоне, Берлин — и пописывал статейки, полные слухов и сплетен. Джефф привычно думал, что терпеть его не может, но при встрече невольно чувствовал к нему расположение — отчасти потому, что под маской обаяния и дружелюбия Бен был явно несчастен в силу тех же самых вещей, которые снаружи, казалось, делали его счастливым. Как бы там ни было, а повеселиться Бен умел. Прошлой ночью он, к примеру, «пустился в дископляс и зажигал до четырех утра». Это было жалко и ужасно незрело, но даже сейчас, в сорок пять, у Джеффа засосало под ложечкой при мысли о том, что кто-то вернулся домой позже него и веселился больше него — даже если сам он веселился до упаду и добровольно решил пойти спать. У других представления о хорошо проведенном времени с возрастом претерпевали предсказуемые изменения. Обычно все сводилось к воспитанию детей, покупке недвижимости и выходным с гольфом. Джефф же оставался поразительно постоянным в своих предпочтениях. Ему нравилось пить, принимать наркотики, бегать по вечеринкам и волочиться за женщинами, которые — еще один признак постоянства — в идеале были теперь немногим старше, чем когда он только начал этим заниматься. Да, в последние годы чуть больше времени стало проводиться дома в трансе перед телевизором, но это не было его любимым занятием, а просто способом восстановиться и прийти в себя. Временами сама мысль о том, чтобы «еще повеселиться», ввергала его в ступор смертной тоски, но заменить ее все равно было нечем. И ему никогда, ни разу в жизни, не доводилось испытывать страсть к своей работе, если не считать того, что его страстное отвращение к ней было на диво постоянным. Неудивительно, что он испытывал к Бену такие двойственные чувства: Бен был более тучной и дородной версией самого Джеффа. И правда, почему бы не любить кого-то, кого ты терпеть не можешь et vice versa[58], рассуждал Атман.
— Я тебя вроде видел вчера на исландской вечеринке, — небрежно бросил Джефф.
Они набрали еще по пригоршне дротиков и стояли рядом, бездумно меча их в стену из мишеней, по которым было невозможно промахнуться.
— Я был на приеме в честь Эда Раски[59].
— Разве это было вчера? Я думал, что завтра.
— Завтра тоже будет.
— У них что, каждый вечер прием в честь Эда Раски?
— Ага, на сто восемьдесят персон! А каждое утро, наверное, завтрак.
Они метнули последние дротики. Бен сообщил, что у него есть информация из надежного источника: сегодня ближе к вечеру в венесуэльском павильоне будут подавать тараканов в шоколаде. На том они расстались и устремились каждый к своей цели: Бен — в швейцарский павильон, а Джефф — к инсталляции финской художницы, чье имя — Маария Вирккала — ни о чем ему не говорило.
…Простая деревянная лодка плывет по застывшему морю из битого муранского стекла — осколкам и отходам — скорее всего, с расположенных вокруг Венеции фабрик. Внутренность лодки, выкрашенная в тускло-красный цвет, постепенно наполняется капающей с потолка водой. Время от времени — так редко, что впору подумать, не привиделось ли тебе, — лодка чуть покачивается…
Джефф был совершенно заворожен. Хорошо, что ему пришло в голову зайти сюда в самом начале осмотра, пока он еще не пресытился впечатлениями и восторгами до такой степени, когда вообще перестаешь что-либо видеть.
Австралия и Германия оказались набиты битком, так что Уругвай стал подлинной отдушиной: никаких тебе очередей и толп — впрочем, и никакого искусства. Нет, они, конечно, развесили пару тряпок на веревках для сушки белья, но даже по низким меркам других павильонов это было как-то нелепо. И никаких бесплатных подарков! В других странах раздавали бесплатные холщовые сумки, порой довольно элегантные и всегда — крайне полезные (для складывания бесплатных сумок из других павильонов). Кое-где по пресс-карточке даже давали неплохо изданные каталоги, но Уругвай в эти буржуазные игры принципиально не играл.
В спресованной географии Джардини Уругвай благополучно соседствовал с Соединенными Штатами, представлявшими длиннющие горизонтальные полотна Эда Раски с вереницей зданий — некоторые в цвете, другие черно-белые. Отлично, хорошо, уже видели, сколько можно? Джефф быстро перемещался по павильонам, используя в качестве aide-memoire[60] маленький цифровичок, на который потом — вкупе с каталогами — можно будет ориентироваться при написании статьи. Поразительно, что хотя все вокруг было заполонено искусством, смотреть было почти не на что — ну, или, по крайней мере, мало что заслуживало быть увиденным. Временами встречался откровенный мусор для глаз. Да уж. Смотреть было не на что, но со всем этим надо было ознакомиться и хотя бы мельком сунуть нос в каждую дверь. Очень многие выставлявшиеся работы можно было бы причислить к концептуальному искусству, если бы уровень умственного развития зрителей был примерно как у первоклашек. Что ж, не без того, однако многие произведения и выглядели так, словно их сделал первоклассник — правда, с амбициями семнадцатилетнего русского, чья вдовствующая матушка экономила каждый рубль, чтобы послать его в теннисную школу во Флориде. Причем работы могли быть младенческими, но питавшая их жажда успеха, чьим результатом и символом они были, имела воистину раблезианские масштабы. В других исторических обстоятельствах любая группка таких творцов могла бы легко взять Рейхстаг или установить в Камбодже беспрецедентно жестокий режим.
Очень скоро павильоны начали сливаться у него в одно размытое пятно. Вспомнить хотя бы примерно, что и где он видел, стало невозможно. Огромные, яркие, психоделическо-наркотические полотна определенно были в Швейцарии. Видеодуш, облицованный с трех сторон вместо кафеля мониторами, откуда непрерывным потоком лились образы — теннис, новости, порнуха, «Формула-1», гепарды, лесные пожары, пустыни, бокс, футбол, — был русским. А вот красный пластмассовый замок — входишь внутрь и оказываешься в совершенно красном мире, — чей он был? Ясно лишь, что не того же автора, который додумался до совершенно синей комнаты. Ничего, кроме синего. Ни углов, ни пятен, ни теней — сплошное синее ничто. Абсолютно абстрактная среда, пространство света, хотя никакого источника света там не было, кроме синевы со всех сторон. Джеффу повезло — он оказался внутри в тот момент, когда инсталляция была пуста. Единственным органическим объектом в ней был он сам, но и этого оказалось достаточно — его оказалось достаточно, — чтобы если не разрушить совершенство переживания, то, по крайней мере, жестко определить его, втиснуть в рамки некоего понимания. Сам факт того, что он был там, внутри синевы, означал, что это отнюдь не бестелесный опыт, к которому инсталляция подошла дразняще близко. Джефф даже уселся на пол, чтобы поменьше осознавать тело, которое приходилось везде таскать с собой, и раствориться в этой не имеющей ни источника, ни направлений синеве. Это было дивное место, и из того, что он успел увидеть, оно, пожалуй, было больше всех похоже на искусство, на то, что люди — во всяком случае, сам Атман — от него хотят. Это было место, откуда можно улететь, где можно себя потерять, — произведение с эффектом полного погружения. В идеале самой совершенной арт-инсталляцией был бы ночной клуб, полный народу, с грохочущей музыкой, огнями, дым-машиной и, возможно, наркотиками. Назови ее «Ночной клуб», сделай ее круглосуточной — и это будет сенсация биеннале.
Курсируя от павильона к павильону, Джефф все время натыкался на знакомых: с кем-то он виделся вчера, а с кем-то сталкивался в Венеции впервые. Большинство страдало похмельем. Когда у Хейга все закрылось, особо стойкие переместились в «Бауэр» — туда набилось столько народу, что удивительно, как терраса не рухнула в Большой канал. У всех уже были на экспозиции свои фавориты, свои «обязательно сходи» и «не трать время» — и, разумеется, большой ассортимент бесплатных сумок. Однако еще никто не видел финскую лодку под дождем в стеклянном море — как если бы это был глюк. Чем больше Джефф о ней рассказывал, тем больше она для него значила. Скотт Томсон был десять раз прав, говоря, что местное искусство отстало от «Горящего человека» на сотни тысяч миль.
По рукам шли бутылки с водой и веера. Одни страдали от жары больше, другие меньше, но все соглашались, что пекло было невообразимое. Люди прятались в горячей тени деревьев, обмахивались, пили воду, мяли в руках бесплатные сумки с каталогами и делились планами на вечер, чувствуя неимоверное облегчение, когда оказывалось, что все идут в одно и то же место. Они прощались и снова сталкивались полчаса спустя у входа в испанский павильон, пылая энтузиазмом после Сербии или настоявшись в очереди в Израиль из-за мер безопасности, уместных разве что в аэропорту. Джефф уже встретил всех, кого знал, и опознал всех, с кем не был знаком, — Ника Сероту[61], разговаривавшего с Сэмом Тэйлор-Вудом[62]; Питера Блейка[63], разговаривавшего с самим собой (ничего особенного: половина народа тут была намертво приклеена к мобильным), и девушку, которая вполне могла быть актрисой Наташей Макелоун[64], но, впрочем, могла ей и не быть, — и лишь ту, кого он хотел видеть больше всего, он так и не узрел. Лоры нигде не было.
Добравшись до таксофона, он снова набрал номер Джулии Берман.
На этот раз ему ответили.
— Бонджорно. Добрый день. Это Джулия Берман?
— Слушаю вас.
— О, прекрасно. Меня зовут Джеффри Атман. Я из журнала «Культур».
В этот момент ей следовало бы сказать что-нибудь вроде «да, я помню, как поживаете?». Сгодился бы даже какой-нибудь ободряющий звук, вроде «у-гу». Однако в трубке не было ничего, кроме дыхания, легкого, едва слышного… и действующего на нервы.
— Извините, что сваливаюсь вот так, как гром среди ясного неба… то есть я надеюсь, не совсем как гром… Кажется, мой издатель, Макс Грейсон, должен был с вами связаться.
Дыхание.
— По поводу возможного интервью… короткого интервью о вас, ну, о вашей жизни и об альбоме вашей дочери. Что-то вроде того.
— Как вы сказали вас зовут?
— Джеффри Атман.
— Из журнала…
Едва справившись с искушением сказать «Рэззл» или «Чикс»[65], Джефф ответил вежливо и точно:
— «Культур». Через «у», и на конце «р».
— Да, я что-то припоминаю.
У нее было нарочито британское произношение, небрежно-претенциозное. Джефф подождал, пока она скажет что-нибудь еще, но, видимо, опять была его очередь продолжать разговор.
— Тогда, эээ… если это вам удобно, не могли бы мы провести интервью в ближайшие пару дней?
— Когда именно?
— Когда и где вам будет угодно.
Рискованный ход. Ему может быть сколько угодно неудобно, но часть этикета интервьюера — позволить интервьюируемому диктовать условия. Это дает ему ощущение собственной важности, которое, по идее, должно бы сделать его чуть сговорчивее… хотя на практике общение после этого становится совсем невыносимым.
— Как много времени это займет?
— Совсем недолго, если вам некогда.
Джефф занимался этим ремеслом достаточно долго, чтобы понимать: для нормального интервью не нужно много часов. Хватит и двадцати минут, чтобы набрать цитат на более-менее пристойную статью — а ничего другого здесь и не требовалось, — это и так в два раза лучше, чем нужно. В любом случае у него есть в Венеции дела поинтереснее, чем слушать эту престарелую «топ-хит-давным-давно» (что, по сути, не более чем эвфемизм для «хитом-то-никогда-и-не-была»).
— Завтра я не могу, так что лучше сегодня. И поскорее. Около четырех.
— Превосходно, — сказал Джефф, искренне имея это в виду.
— Вы сможете приехать ко мне?
— Безусловно. А… это куда?
Она продиктовала Джеффу адрес — ни о чем ему не говоривший — и инструкции, как туда добраться.
Инструкции оказались на поверку очень точными и недвусмысленными. Джефф доехал на вапоретто с Джардини до Кампо д’Оро и оказался у нужного дома ровно в назначенное время. Он нажал на металлическую кнопку звонка, но было непонятно, произвело ли это какой-то эффект в недрах дома. Ни колокольчика, ни звука шагов. Дверь осталась закрытой. Он подождал, и был уже готов напомнить о себе еще раз, когда вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверь отворилась. Солнце было таким ярким, что он не сразу разглядел окутанную тьмой фигуру. Чуть присмотревшись, он различил длинные темные волосы, тронутые сединой, и тонкое лицо: возраст не смягчил его черты, но лишь туже натянул кожу на кости черепа. Она протянула ему узкую ладонь и пригласила войти из зноя в прохладу. Дверь сухо щелкнула у них за спиной. На ней было синее платье до колен. Они поднялись по темной лестнице — она шла впереди, босая, — в апартаменты на третьем этаже. Квартира была большой и просторной, с очень простой мебелью, разглядеть которую Джефф не успел, так как его сразу провели наружу, на террасу. Там стояли маленький железный столик, выкрашенный белым, и два кресла. Большой полотняный зонтик бросал на них благодатную тень.
Она спросила, что он будет пить. Джефф ответил, что минеральная вода его вполне устроит, и она снова ушла в темноту, оставив его одного. Сверху открывался вид на маленький канал, куда выходили террасы и других квартир.
Хозяйка вернулась с бутылкой и двумя набитыми льдом стаканами — каждый венчал ломтик лимона. Когда она разливала воду, лед трещал и трескался. Вся сцена походила на рекламный ролик, не хватало только слогана «Как освежает!». Джефф сделал большой глоток.
— Как освежает! — глупо сказал он, роясь в кипе набранных в Джардини льняных сумок в поисках диктофона. — Вы уже были на биеннале?
— Еще нет, — сказала она. — Завтра.
Он принялся рассказывать обо всем, что смог вспомнить, — главным образом о стене из мишеней и финской лодке, медленно наполнявшейся дождем по пути через разноцветное стеклянное море. Наконец он нашел диктофон.
— Не возражаете, если я буду записывать нашу беседу?
— Ничуть.
Он положил приборчик на стол между ними и нажал «Запись».
— Он реагирует на голос, — сообщил он собеседнице. — Правда, здорово?
Еще одно идиотское замечание, но Джефф был крайне доволен, что сделал его. Много лет назад он пытался поразить интервьюируемых своей проницательностью, расторопностью, остроумием и вообще глубоким профессионализмом. Это, как выяснилось, было ошибкой. Интервью идет куда лучше, если твой предмет думает, что перед ним полный тупица. Он снимает защитные кордоны и становится более экспансивным, чтобы хоть как-то компенсировать твои явные промахи. Хотя здесь, как Джефф уже начал догадываться, этот прием не сработает. Она не проявляла недружелюбия. Она просто была настроена по-деловому. Интервьюируемые обычно пытаются очаровать тебя — этой было явно все равно. Хотя воды в его стакан она подлила. Он ее не интересовал — знаменитости никогда не интересуются ничем, кроме того, как они будут выглядеть на страницах журнала, — но ее точно так же не интересовала и она сама.
— Можно я начну с вопроса об альбоме Ники? — Он едва не извивался, задавая этот вопрос. — Что вы о нем думаете?
— Он мне понравился.
Он подождал, пока она продолжит. Продолжения не последовало.
— Не могли бы вы чуть пояснить?
— Он мне очень понравился. Славные мелодии. Тексты тоже ничего, по крайней мере некоторые.
— Может быть, что-то конкретное?
— Я так навскидку их не помню, но, по-моему, у нее неплохой слог.
— А сам процесс записи? Я слышал, вы пели бэк-партии на нескольких треках?
— Было очень мило с ее стороны предложить мне попробовать. Конечно, петь я, как ни пыжься, не умею, но это и неважно — там столько всего звучит, что меня почти не слышно.
«Как ни пыжься»… последний раз он слышал это выражение много лет назад.
— Мне альбом тоже понравился, — сказал Джефф, даже не попытавшийся послушать заранее-ясно-что-паршивый диск, который пиар-отдел примчал ему с курьером — со срочностью, более уместной при экстренном переливании крови.
— Вы обычно слушаете что-то подобное? Я хочу сказать, какую музыку вы предпочитаете?
— Мне нравятся более старые вещи. Это выдает возраст, но я люблю Боба Дилана[66] и «Дорз»[67].
— Вы были знакомы с Диланом?
— Нет, я только мельком видела его в Блэкбуше в семьдесят каком-то году.
— В семьдесят восьмом. Я тоже. Правда, это было нечто?
Вот так случаются прорывы — момент, когда люди обнаруживают, что у них есть что-то общее, даже если это общее есть у всех от двадцати до семидесяти лет от роду, — интерес к Бобу Дилану. Благодаря небольшому лукавству с Джеффовой стороны интервью теперь имело шанс перерасти в то, чем оно всегда пытается прикинуться, — в непринужденную беседу.
— Я также был на концерте в Эрлс Корте.
— Там меня не было.
— А что еще вам нравится? — спросил Джефф, борясь с искушением углубиться в дебри диланологии.
— «Танджерин Дрим», — сказала она. — И «Ван дер Грааф Дженерэйтор»[68].
Было непонятно, шутит она или говорит серьезно.
— А вы видели «Ван дер Грааф» вживую? — спросил Джефф, просто чтобы что-то спросить.
— Я немножко знала Пита Хэмилла.
— Правда? И каким он был?
— Очень славным. Славным, начитанным английским мальчиком с хорошими манерами.
— «Н to Не Who am the Only One», — назвал Джефф.
— «Pawn Hearts»[69], — парировала Джулия Берман.
Джеффу показалось, что она вот-вот рассмеется, но нет, до этого не дошло.
— Был и еще один, правда, я все время забываю название…
— «The Least We Can Do is Wave to Each Other».
— Точно.
— «Aerosol Grey Machine»[70].
— Бог мой, — воскликнул Джефф, — вы и вправду знаете этого вашего «Ван дер Граафа».
Подобные разговоры были ему не впервой — другие группы, но формат в целом тот же, — так было много раз, но всегда с мужчинами. Слышать это от женщины было совершенно непривычно, зато его интерес к такому диалогу был на порядок выше. Словно прочитав его мысли, она сказала:
— Странное получается интервью, вы не находите? Ваш «Культур», через «у» и «р» на конце, — журнал о прогрессив-роке?
— Увы, нет. Хотя было бы здорово, — ответил он, внезапно поняв, что чувствует себя здесь с ней отлично. И интервью пройдет как нельзя лучше. Ну, или прошло бы, не протяни она руку и не выключи диктофон.
— Вы любите курить траву, Джефф?
— Еще бы!
— Прекрасно. Буду с вами честной — я обожаю покурить, хотя я была бы вам признательна, если бы вы не упоминали это в интервью.
— Ни в коем случае.
Она ушла во тьму апартаментов, заставив Джеффа пожалеть о своем самоуверенном «еще бы!». В прошлом веке он и вправду любил курнуть, но новое тысячелетие ознаменовалось засильем сканка[71] какой-то суперсилы, так что он благоразумно бросил это дело. В восьмидесятые обкуриться гашишем было кайфово и весело, но обдолбаться сканком — а им можно было только обдолбаться, и никак иначе — это был совсем другой экспириенс. Прямой путь в беспредел, в объятия паранойи и депрессии.
Она вернулась с пакетом травы. Джефф старался не показать виду, что нервничает.
— Эээ… один момент, — заметил он. — Табак я не курю.
— Я тоже. Это хорошая ямайская трава, а не тот ужасный сканк.
— Слава богу, — он едва не взвыл от облегчения, — терпеть его не могу.
Как замечательно складывалась эта поездка в Венецию. Все, решительно все шло как по маслу.
— Жуткая отрава. Страшно подумать, что он делает с мозгами детишек, которые курят его день и ночь.
— О, весьма, — сказал он уже второй раз за последние два дня.
Она скрутила небольшой тонкий косяк, затянулась и передала ему. Он сделал то же самое и вернул его. Трава подействовала сразу и самым приятным образом. Они вместе словили кайф. Свет стал ярче и чище. Канал отбрасывал блики на желтую стену дома напротив. Его повело сильно, но при этом совершенно изумительно. Прямо как в старые добрые времена.
— Так мы говорили о «Хоквинде»[72], — сказал он.
— И запомните, никаких упоминаний о том, что мы делали, в вашей статье. Никаких намеков и подмигиваний.
— Обещаю.
Горло у него горело. От большого глотка минералки его защипало еще сильнее.
— С сожалением оставляя тему прогрессив-рока семидесятых, хотел бы попросить вас немного рассказать о Стиве Морисоне.
— Обаятельный мужчина. Довольно приличный художник. Совершенный ублюдок.
«Это полный улет!» — подумал Джефф, но уже через мгновение не мог вспомнить, имел он в виду интервью или траву.
— Надеюсь, не надо просить вас воздержаться от цитирования и этого моего высказывания?
— Разумеется. Вы имеете в виду весь ответ или только последнее предложение?
— Я имею в виду первые два.
Они расхохотались. Все было так весело.
— А что вы думаете о том, что он делает теперь? В шестидесятые его очень уважали. Я имею в виду, как изменилось ваше отношение к нему с течением времени?
— Его творчество было очень разным. Лучшие его вещи не уступят Ходжкину[73].
Джефф внимательно посмотрел на нее, стараясь проникнуть через темные стекла очков, увидеть ее глаза, понять, что она хотела сказать этой ремаркой. Ходжкин в последние годы превратился в ходячий курьез. Джефф подождал, пока она разовьет эту тему, но она уже переключилась обратно на Морисона.
— Его ранние фигуративные работы и вправду хороши. У него был дар схватывать, как человек стоит, какие у него отношения со средой. А если не было никакой среды, то какие у него отношения с самим собой. Это давало такую психологическую глубину, которую не всегда можно облечь в слова, но которую явно видно. Ее мог почувствовать каждый, несмотря на то что в картине не было ничего — ровным счетом ничего — внутреннего. Она получалась объективной, словно фотография.
— О да, — сказал Джефф.
Впечатленный точностью ее анализа, он, однако, никак не мог вспомнить, с чего все началось. Вот в чем прелесть диктофона — это все равно что иметь внешнюю память. Правда, диктофоны для этого хорошо бы включать.
— Черт, — сказал он и снова нажал «запись».
— Надеюсь, вы не ждете, что я скажу все то же самое еще раз?
— О нет, что вы.
Мимо проплыла моторная лодка, канал вздохнул и вспенился, расходясь клином, снова оживляя золотые блики на стене.
— А как… вы воспитывали Ники одна, живя то в Лондоне, то во Франции? Как это было?
— Отлично. У нас была чудная квартира в Париже. Приличное жилье в Лондоне. В деньгах я недостатка не испытывала. А Ники была очень легким ребенком.
— И что же? Чем вы занимались? Я имею в виду, помимо воспитания Ники.
— У меня не было потребности чем-то всерьез заниматься. Написала несколько статей. Подумывала — очень абстрактно — написать книгу, но руки так и не дошли.
— Поговаривали о мемуарах…
— Ну да, я сделала пару черновых набросков, но мне не хватило усидчивости, да и не было ничего такого, о чем мне хотелось бы написать глубоко. Так что у меня не было ни опоры, ни стимула. Да, несколько знаменитых друзей, но им я была слишком верна — или же слишком пристрастна, — чтобы поведать что-то действительно интересное. Сами знаете, такие книги лучше всего получаются, если они замешаны на предательстве. Я не испытывала желания предавать или сводить счеты. А сама идея литературного труда не слишком меня вдохновляла. Так что я просто жила. Скажите, вам бывает скучно?
— Мне? Да, постоянно.
— Это большое преимущество. Понимаете, я никогда не умела скучать. Я вроде тех странных людей в Индии или Африке, которые сидят на обочине дороги, уставясь в пространство. Я могу ничего весь день не делать и при этом чувствовать себя совершенно счастливой. И у меня никогда не было амбиций. Даже в самой элементарной и негативной форме — зависти к чужому успеху. Наверное, поэтому у меня было так много друзей: я действительно радовалась их победам, в то время как очень многие вокруг оценивали свою жизнь лишь в сравнении с тем, как преуспевают все вокруг. Наверное, я слишком много говорю…
— Нет, вовсе нет. На самом деле все это очень здорово…
Джефф покосился на диктофон, желая убедиться, что он работает, что, включив запись, он случайно его не выключил. Под кайфом такие вещи случаются сплошь и рядом.
— И все это относится прежде всего к Ники?
Он метил прямо в цель — как острие булавки. Или как Паксман[74].
— Да. Было ясно, что она что-то такое сделает. Если не музыка, то живопись или литература. В ней есть эта неудовлетворенность миром — в отличие от меня. Мне всегда было очень комфортно с тем, кто я и что я.
И это была правда. Она сидела перед ним в комфортной позе и болтала о себе без всякого налета эгоизма, просто рассказывая о человеке, который по странному стечению обстоятельств был ею самой. Да, у нее явно должно быть много друзей. С ней было легко. С ней ты чувствовал себя комфортно — при этой мысли Джефф немедленно почувствовал себя крайне некомфортно. Нужно было как-то перевести разговор на рисунок, о котором просил Макс и который в каком-то смысле был важнее всего интервью, вместе взятого. Тень дома Джулии медленно ползла по стене напротив, как грузовая марка[75], — казалось, на крышу дома неспешно грузят тонны песка, и он постепенно погружается в канал.
Джефф выключил диктофон:
— Отлично. Спасибо вам большое. Это будет отличное интервью.
— Прошло довольно безболезненно.
— Вот и прекрасно. Есть еще один момент… Макс Грейсон, мой издатель в «Культур», просил узнать у вас… Есть ведь рисунок, сделанный с вас Стивеном? Макс надеялся, что, может быть, вы разрешите воспроизвести его в журнале вместе с интервью.
— Вы хотите взять рисунок с собой?
— Не обязательно. Как вам будет удобнее. Если хотите, они могут прислать курьера, или его можно отсканировать и переслать по электронной почте. Но… было бы здорово, если бы вы хотя бы разрешили мне на него взглянуть.
— Могу я поинтересоваться, зачем мне это может быть надо?
— Да, разумеется. На самом деле одна из вещей, которую меня просили… точнее, уполномочили сделать, — это договориться с вами о гонораре.
— И?
— Тысяча фунтов?
— Странно. Это одна из тех ситуаций, когда я могу быть несговорчива.
— И это ваше право.
— Что, если я попрошу больше денег? Денег, которых я, кстати, даже не особенно хочу, но ведь это же обычно так и делается.
— Совершенно верно. Может быть, полторы тысячи? Если честно, больше они не дадут. Это, как говорится, потолок.
— Я принесу рисунок.
Она снова скрылась. Джефф встал и сделал несколько шагов. Он все еще был сильно под кайфом, и на улице все еще было дико жарко. Сочетание этих двух факторов заставило его снова спрятаться в рассеянной тени зонтика.
Джулия вернулась с папкой. Она распустила тесемки, явив взору толстый лист желтоватой бумаги, затем закрыла папку, повернула ее вверх ногами и снова открыла.
Их глазам предстал рисунок. Она была нага. Меж ее широко расставленных ног красовалось пятно сплошных каракулей. У нее была красивая грудь — и явно ее собственная. Те же выдающиеся скулы, то же странно пустое выражение лица. Даже волосы были те же. Легко представлялось, что разденься она сейчас, он увидел бы почти такое же тело, как на рисунке.
— О боже, — сказал Джефф.
Он смотрел на лицо на рисунке, но не мог заставить себя взглянуть в глаза той, что подала ему листок. Не только потому, что на рисунке она была шокирующе нагой, но и в силу его странной психологической глубины — того самого таинственного свойства, о котором Джулия уже сегодня говорила. Женщина на картинке открывалась, позволяла мужчине, своему любовнику, смотреть и рисовать ее. Беспрепятственно любоваться своей обнаженной возлюбленной — не об этом ли мечтают все мужчины? Если мужчина — художник или даже просто подросток с видеокамерой, то на бумаге или на пленке запечатлевается не только то, что он видит, но сама неизбывная сила его желания, его жажды видеть… Однако ее лицо дышало абсолютным безразличием. Сколько бы ни было во взгляде художника любви, она осталась без ответа. Смотри куда хочешь, говорило это выражение, мне дела нет. Ты увидишь все, но лишь то, что роднит меня с любой другой женщиной на свете. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы понять — отношениям между этими двоими осталось жить недолго. И скорее всего, Морисон это понял — если не в ходе работы над рисунком, так по его окончании. Возможно, это было уже не важно для обоих. Возможно, они довольствовались моментом, пришпиленным к этому листку бумаги, словно бабочка. Но если это было правдой, откуда в нем такое одиночество: не женщины — она была умиротворена и абсолютно спокойна, — но смотрящего на нее человека, самого художника?
«Гипнотическая взаимосвязь между предметом и зрителем присутствует во всех картинах Джорджоне. Причины ее можно искать, с одной стороны, в бездвижности застывшей во времени сцены, а с другой — в твердости и пристальности взгляда изображенного человека… Неподвижность рождает ощущение беспокойства».
— Это… — он прочистил горло, — это действительно выдающаяся работа.
— Да.
Он протянул ей листок. Она осторожно вернула его в папку и аккуратно завязала тесемки.
— Думаю, вы понимаете, что у меня нет ни малейшего желания давать ее вашему журналу — какому бы то ни было журналу — ни за тысячу фунтов, ни за полторы… ни за сколько угодно.
— Я понимаю, — сказал Джефф. — Она очень личная.
Она внимательно посмотрела на него.
— Вы не слишком преданы своей работе, — сказала она. — Но зато вы все понимаете. С профессиональной точки зрения это недостаток.
Джефф пожал плечами.
— Ваш издатель тоже обладает этим качеством?
— В любом случае это не повод для увольнения. Особенно учитывая, что я фрилансер и, строго говоря, у меня нет работы, с которой меня можно уволить.
— Это вселяет оптимизм, — рассмеялась она.
Встреча подошла к концу. Они сошли вниз по прохладной, темной лестнице. Джулия открыла дверь. Джефф сказал спасибо и был уже готов пожать ей руку, но она наклонилась и поцеловала его в щеку. В этом не было ничего сексуального, и в то же время это не был стандартный континентальный поцелуй щекой к щеке, давно уже ставший условностью сродни рукопожатию. В нем была какая-то труднообъяснимая близость, причиной которой была не трава, и не само интервью, и даже не только что виденный им рисунок. Джефф попрощался, ступил наружу в то же пекло и услышал, как за его спиной гулко хлопнула дверь.
Он дошел обратно до причала на Кампо д’Оро, думая, уже в десятый раз на дню, что на улице, похоже, стало еще жарче. Вапоретто прибыл быстро и был непривычно пуст. Жара жарой, но из своего трехдневного проездного он выжимал все, что мог. Он погрузился на борт, нашел себе место на корме и полез в кучу бесплатных сумок за диктофоном, чтобы послушать, записалось ли интервью и что там вообще получилось. Но вместо диктофона он вытащил фотоаппарат. Черт! Он забыл сфотографировать Джулию Берман. И рисунок не добыл, и фотографию не сделал. Из трех задач он не сумел либо просто забыл выполнить две. А единственное, что он таки сделал — само интервью, — стало жертвой саботажа чертова диктофона, который был выключен в самой интересной его части. Джефф еще раз заглянул в сумки: по крайней мере, сам диктофон был на месте. Он впал в панику, мучась желанием выскочить на следующей остановке, помчаться назад, снова позвонить в дверь и — не станет ли она возражать, и не не слишком ли ее затруднит, если бы он… Хотя на самом деле все будет как с тем электронным письмом — Я больше не могу делать эту хренотень, которое он не отправил за день до отъезда в Венецию. Джефф и без всяких размышлений прекрасно понимал, что не сойдет на берег, не вернется обратно, явится в Лондон с пустыми руками и услышит от «Культур», что они больше не хотят, чтобы он делал эту хренотень, так как ему нельзя доверять. Он почти что слышал вопли Макса — даже самую простую вещь, которую его попросили, и не просто попросили, а наняли, за деньги, и ту не может сделать! И он знал, что, как только его официально избавят от необходимости делать эту хренотень, он поймет, как на самом деле мечтает и дальше делать ту же хренотень, от которой он еще вчера хотел отделаться. Если бы не трава, если бы можно было трезво все обдумать! Вот еще одна вещь, о которой приходится помнить, если куришь траву, — потому-то он и бросил постепенно это дело: когда ты укурен, непременно наступает такой момент, когда тебе позарез нужно быть неукуренным, когда нельзя быть укуренным, когда нужна ясная голова. Венеция текла мимо, сверкающая, мокрая, зелено-золотая. Многие гранд-палаццо были празднично украшены баннерами с рекламой мероприятий и выставок биеннале. Поглядев по сторонам, Джефф убедился, что вапоретто, успевший тем временем несколько раз пристать, уже был битком набит. Ладно, что теперь поделать с фотографией, которой он не снял? Ничего. Разве что выбросить ее из головы — вместе с беспокойством.
У Академии много народу сошло, но еще больше набилось обратно. Кораблик отплыл от пристани и ушел под мост. На другой его стороне Джефф увидел Лору, облокотившуюся на перила. Вокруг кружили голуби, ныряли под арку и скользили поверху. На Лоре было белое платье; кружевной зонтик бросал тень на лицо — ага, разумеется, это и в прошлый раз был зонтик не от дождя, а от солнца. Если бы она посмотрела вниз или хотя бы вдоль канала, то увидела бы его; но она глядела — улыбаясь — на своего собеседника, примерно того же возраста, что и Джефф, или чуть моложе. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы по выражению ее лица, по устремленному на него взору и по его позе — одна рука на перилах моста — понять: это не стоп-кадр посреди долгой прогулки по городу в компании друг друга. Нет, эти двое столкнулись только что и случайно. Все это пронеслось в голове у Джеффа за долю секунды. Можно было позвать ее по имени. Он мог бы окликнуть ее… Он все еще спорил с самим собой на тему, стоит или не стоит это делать, когда — постепенно и вдруг — стало уже поздно что-то решать. Вот так всегда! Позвать ее и помахать рукой перестало быть возможностью и стало поводом для сожалений.
Он сошел с вапоретто на Салюте, отправился в отель и поднялся к себе в номер. Простояв минут пять под почти холодным душем, он напялил толстый, явно регулярно воруемый отельный халат и улегся на кровать. Ощущая лишь остаточный эффект травы — какое счастье! — он лениво листал одну из книжек по Венеции, подобранную для гостей отелем: щедрое издание тернеровских[76] видов города. Все они были полны света, который растворялся сам в себе, — воды и света, сливавшихся в экстазе; краски становились светом, а солнечное сияние нисходило языками пламени, парившими над водой. Некоторые краски были настолько прозрачны, что размывались лишь в намек на цвет. Хотя город узнавался с первого взгляда, сама идея невещественной Венеции — блистающего растворения воды и света, обращения всего в воздух, в танец струй — жестко противоречила реальным впечатлениям Джеффа. Больше всего его поразило в Венеции как раз то, насколько она была вещественной. И не только само место, но и обитающие в нем люди. Она была не из тех городов, где люди веками, поколениями рождаются, живут и умирают. Нет, тут всегда присутствовал стандартный набор персонажей, постоянное и неизменное население, лишь менявшее костюмы в соответствии с той или иной эпохой. Каждый здесь пребывал до конца времен в определенном возрасте и занятии, как увязшая в янтаре муха. Старик в бакалейной лавке по соседству — Джефф пару раз заходил туда, чтобы купить бутылку воды, в три раза больше и в три раза дешевле, чем те, что стояли у него в мини-баре, — явно был стариком-бакалейщиком уже не первую тысячу лет. Горничная тоже подвизалась на этом благородном поприще целую вечность. Они просто были тут. И то же самое происходило с городом, где они жили. Это было самое определенное место на земле, и в таковом качестве оно пребывало с начала времен, задолго до того, как оно предположительно появилось на свет. Возможно, Атлантида вовсе не исчезла под волнами моря, а просто снова вознеслась над ними в облике Венеции. Да, повсюду здесь была вода, текучая и акватическая, размывающая и растворяющая, но на ее фоне камни и здания казались еще осязаемее, еще вещественнее. Венеция не только выглядела так, словно пребывала здесь целую вечность, но и — несмотря на все истории о том, что каждый год она погружается в море на столько-то сантиметров, — внушала уверенность, что она будет стоять тут во веки веков, даже если ядерный Армагеддон превратит весь остальной мир в тернеровскую свистопляску горящей воды и обожженного воздуха.
Это был необычный вечер без обязательного ужина в честь Эда Раски. Ужина же в честь Эда Раски не было лишь потому, что в честь него давали вечеринку. То, что вечеринка в галерее Пегги Гуггенхайм действительно была в честь Эда Раски, Джефф понял, только когда по дороге туда внимательно изучил приглашение, отпечатанное на толстой бумаге с конгревным тиснением. Ко времени его прибытия в сад уже набилось около тысячи человек и еще сотни — рой неприглашенных — пытались туда прорваться. Словно бы правительство Венеции уже пало и последние вертолеты готовились взлететь из Гуггенхайма, прежде чем победоносные армии Рима и Флоренции займут город. Безупречно вежливая охрана пропустила его вместе с зажатым в руке приглашением через ворота. В саду все, как обычно, заправлялись беллини, с ненасытной потребностью в которых едва справлялись официанты. Было просто не протолкнуться, а вокруг столов с напитками царил полный хаос. У Джеффа в голове почему-то отложилось, что будут подавать ризотто. Вроде бы это было в приглашении… но ничего такого там не оказалось, да и ризотто, по крайней мере пока, вокруг не наблюдалось. Сготовить ризотто на такое количество народа было бы крайне амбициозным и трудоемким предприятием, но, судя по всему, его ожидал не только Джефф. На самом деле ризотто и то, что оно, скорее всего, так и не появится, было главной темой беседы в саду. Присутствующие возлагали на него большие надежды ввиду необходимости справляться со все большими количествами беллини; без ризотто же способность потреблять беллини прискорбно уменьшалась. С балкона галереи бородатый американский не то посол, не то культурный атташе призывал собрание к спокойствию или хотя бы к тишине на пять минут, чтобы он мог произнести речь. Когда гул голосов чуть смолк, бородатый сановник поприветствовал Эда Раску, вознося его до небес и объясняя слушателям, какая это честь видеть его тут и какой он все же замечательный художник. В конце спикер призвал всех поднять бокалы в честь Эда Раски, что было, конечно, очень мило, но несколько избыточно, так как во время его речи собравшиеся не поднимали бокалов, лишь когда их заново наполняли напитками уже порядком сбившиеся с ног бармены. Сразу после речи двери галереи распахнулись настежь. Ага! Не иначе как там ждало гостей ризотто. Когда осознание неизбежности грядущего ризотто проникло в головы присутствовавших, толпа ринулась на штурм. Месторасположение Джеффа было идеальным. Он быстро взбежал по ступенькам, но узрел не чаны с наваристым рисом, а картины и скульптуры времен расцвета модернизма — Дюшана[77], Макса Эрнста[78], Пикассо, Бранкузи[79], — здесь трудно было даже представить, что настанут времена, когда людей будет больше волновать бесплатное ризотто, чтобы заесть бесплатные беллини, которыми они щедро заправлялись в саду.
Подобно потопу, толпа находила себе вместилища, заполняя все новые уровни здания. Внезапно Джеффа снова вынесло на террасу и едва не прижало к тылу статуи Марино Марини, изображавшей парня на коне — ну или, по крайней мере, на чем-то четвероногом, — из объемистой бронзовой задницы которого что-то торчало — возможно, это был купированный хвост. Наездник простирал вперед обе руки, зачарованный не то игрой воды и воздуха, не то великолепием вида на Большой канал. Протиснувшись мимо него, Джефф обнаружил, что хвост скакуна, или что это там такое было, композиционно дублировался спереди торчащим членом всадника. Но поразмышлять о символизме этих деталей он не успел, так как через мгновение одержимая жаждой ризотто толпа заполонила и террасу. Напитки подавали и тут, а к ним — какую-то жуткую черствую выпечку вроде самосы[80], но не такую острую. Джефф стал протискиваться к столу с напитками, возле которого он углядел Бена.
— Не видать ли ризотто?
— Не думаю, что нам вообще его сегодня подадут, — ответил Бен.
Он выглядел крайне понурым. Джефф разделял его чувства. Он и сам был чертовски голоден, хотя предусмотрительно съел по дороге несколько треугольничков пиццы.
— Заманивают обещаниями ризотто, а ризотто ни черта и нет, — мрачно прокомментировал он.
— Нет даже самой малости. Хотя бы для тех, кто пришел вперед всех.
— Да, нет ни грамма.
— Только пара несчастных беллини.
— Если быть объективным, то хренова туча беллини. У тебя самого в руках два.
— Хоть какая-то компенсация.
— Слишком мимолетная, — резюмировал Джефф, приканчивая свой.
А поскольку их прижали прямо к столу с напитками, взял себе еще два.
С бокалами в каждой руке, Бен и Джефф протолкались к краю террасы с роскошным видом на Большой канал. Солнце садилось по-тернеровски, готовясь скрыться за крышами на другом берегу. Небо перечеркивали дымчатые следы самолетов. Почти напротив них высилось палаццо Гритти. По сравнению с тем, что творилось здесь, там было явно скучно. Пассажиры проплывавших внизу вапоретто задирали головы и мечтали оказаться либо тут, упиваясь даровыми беллини, либо там, на террасе Гритти, переплачивая за них бог весть сколько.
— В беллини ценно то, — сказал Джефф Бену, — что он и вправду сильно освежает.
— В таких погодных условиях трудно придумать что-то лучше.
Это сказал Кайзер. Теперь их было трое с шестью бокалами в руках. Проблема с беллини была только в том, что не успеешь оглянуться, как нужно снова проталкиваться к столику с напитками за новым коктейлем.
— Меня бы устроило, если бы их подавали в бокалах побольше, — заметил Бен.
— Мудрая мысль, — согласился Джефф. — Подавать их в этих наперстках — просто подлость.
В принципе, это была шутка, вернее, начал он эту сентенцию определенно как шутку, но к концу фразы ее вопиющая истина стала такой очевидной, что закончил он с искренней обидой и гневом. Особенно ввиду того, что мизерные наперстки снова были абсолютно пусты. Он уже препоясывал чресла, готовясь устремиться к бару, как в проблеске чисто венецианского волшебства перед ним возник официант с кувшином беллини. Все трое в едином порыве протянули вперед руки, глядя как виночерпий вновь наполняет ненасытные парные емкости.
— Не Будда ли учил принимать все, что кладут тебе в чашу для подаяния? — вопросил Бен.
— Золотые слова!
Охваченные внезапным вдохновением, они чокнулись чашами для подаяния и пригубили божественный напиток — пригубили в том смысле, что выпили его залпом. Хотя, как выразился Джефф, беллини был и вправду сильно освежающим напитком, бороться с удушающей жарой не получалось. В атмосфере было что-то маниакальное. Атман закрыл глаза и отдался звуковому ряду, гулу голосов, пандемониуму разговоров и смеха, замечаний и вопросов на разных языках, хлопков шампанского, звона бокалов, шуток и веселья, брызгами разлетавшихся повсюду. Этот саундтрек можно было бы занести в фонотеку с пометкой «Толпа народа хорошо проводит время». И послать эту запись в какую-нибудь отдаленную часть Солнечной системы в качестве звуковой иллюстрации к понятию «общественно-развлекательная жизнь землян» — ну, или хотя бы «даровые возлияния на высшем уровне». Джефф открыл глаза. Перед ним расстилался Большой канал. Словно ты проснулся и понял, что оказался во сне, куда более чудесном, чем все, что видел, пока спал. Что за город, что за удивительное, прекрасное место! Кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся.
Это была она, Лора. Та же самая женщина, но в другом платье.
Ну конечно в другом. Что за пиршество для глаз — лицо, волосы и платье с маленьким желтым бейджиком, слова на которым были слишком малы, чтобы их можно было прочесть. Его счастье было столь велико, что он почувствовал себя свободным и уверенным.
— Вы меня нашли! Я же говорил, что так и будет.
— Разве это не вы должны были меня искать?
— Я быстро понял, что единственный способ преуспеть в этом деле — это прекратить все поиски и позволить вам найти меня. Хотя где-то внутри я никогда не переставал искать. Я и сейчас вас выглядывал — только не в той стороне.
Настало время поцеловать ее. В губы. Что он и сделал, не испытывая по этому поводу ни малейшего замешательства.
— Я рад, что нашел вас, — сказал он.
— Я тоже.
В такой близи он смог прочитать, что написано на ее бейджике: «Мое стоп-слово — ОЙ!!»[81]
— Как вы проводите время? Все отлично?
— Да, а вы?
— Должен признать, что все сложилось просто превосходно.
— Вы были в Джардини?
— Да. А интересно знать, когда там были вы?
— Я пришла около половины второго.
— А на мосту Академии вы были где-то в шесть?
— Да, кажется, примерно в это время. Почему вы не подошли?
— Вы с кем-то разговаривали. И к тому же не было времени соскочить с вапоретто. Я как раз сделал то интервью с Джулией Берман, и дело кончилось тем, что она накурила меня травой. Так что все вокруг было чуть странным. Я был немного не в своей тарелке.
— Вас накурили?
— В итоге я забыл добыть рисунок. Ох, это долгая история. Я рассказывал вам вчера о рисунке?
— Упоминали. Но интервью было важнее, разве нет?
— Не знаю, может быть. Не в этом дело. Я видел рисунок, который сделал с нее Морисон, но она мне его не отдала.
— И каков он?
Не нарочно ли он подвел беседу — конечно, бессознательно — к обнаженной женщине с расставленными ногами? Или в этом все же не было ничего бессознательного?
— На рисунке она. Ню. Лежит, глядя на рисующего ее Морисона.
— И? — Она приподняла брови.
— Взять его было бы бестактно.
— Это был хороший рисунок?
— Да, думаю, да. В нем есть глубина. На самом деле очень мощная работа.
— Вы же не собирались сейчас сказать что-то скучное про «мужской взгляд»?
— Как раз собирался, — парировал он, глядя на нее. — Вы это сказали специально, чтобы я на вас посмотрел?
А ничего другого он сейчас и не хотел — прекрасно сознавая, что это «сейчас» способно растянуться на «всегда». Смотреть на нее в этом красно-золотом платье. Смотреть на нее и представлять ее белье, ее наготу. Переключившись обратно в настоящее, он произнес:
— А вы? Что вы делали после? После моста Академии.
— Это уже больше похоже на допрос, чем на вопрос.
— В некотором роде это он и есть. Там тоже все подчинено желанию получить ответ. Так много всего о вас хочется знать. Например, что вы делали после моста Академии.
— Я пошла покупать очки. Мне понадобились солнечные очки.
Она порылась в сумке. «Фрейтаг», красный, за исключение пары деталей.
— Мне нравится ваша сумка, — сказал Джефф.
— Мне тоже. А знаете, что мне нравится в ней больше всего?
— Минутку… — Пока она копалась в сумке, он успел ее рассмотреть и даже мимоходом заглянуть внутрь. — То, что у нее есть молния? Без молнии ее красоте недоставало бы практичности.
— Высший балл!
— А вы думали, я скажу «она такая красная» или что-то вроде того?
— Нет. Я как раз не сомневалась, что вы скажете про молнию. Затем, собственно, и спросила — чтобы вы блеснули своей проницательностью. Есть у нее и еще одно достоинство — второе отделение. — Она показала. — И тоже, заметьте, на молнии.
— Миры внутри миров. За счет чего в ней можно меньше рыться.
— Меньше-то меньше, — согласилась она, продолжая рыться в сумке, — но вот чтобы совсем перестать — никак.
С этими словами она наконец извлекла на божий свет свои очки от солнца и тут же их надела. Очки были насекомообразными: в таких любая женщина похожа на Кейт Мосс или подружку английского футболиста[82]. Без сомнения, то был шедевр золотого века солнечных очков. Джефф видел через них ее глаза, а поверх — свое отражение на фоне венецианской архитектуры.
— Примерьте.
Он взял у нее очки и взглянул сквозь них на мир. В надвигающихся сумерках небо пылало странно и тревожно, как когда все затянуто облаками, на которые прямыми лучами светит солнце, превращая их в горящий черный занавес. Казалось, надвигается буря — буря золотисто-зеленого света.
— Фантастика, — сказал Джефф, возвращая очки. — Кстати о фантастике: что это за платье? То, вчера вечером, было изумительно, но это — самое прекрасное платье в мире. Даже на «Оскар» не стыдно надеть.
— По мне, так слишком короткое. Но все равно спасибо.
— Где вы его нашли?
— Ага, допрос возобновляется. Во Вьентьяне.
— Честно говоря, не знаю, где это.
— В Лаосе. — Она произнесла это с ударением на первый слог.
— Знаете, что мне в нем больше всего нравится?
— Что?
— Рукава.
— Их нет.
— В точку. — Они чокнулись бокалами.
— А как ваши журналистские усилия? — спросила она. — Вы нашли, что сказать?
— О Венеции нельзя сказать ничего такого, что уже не было сказано до тебя, — блеснул остроумием Джефф.
— Не исключая и этой сентенции, — еще остроумнее резюмировала она. Эта реплика позволила ему перевести дух, зато следующая добила окончательно:
— Так досталось ли вам хоть немного ризотто?
— Нет. Ни зернышка!
— Шутите.
— Нет, это вы шутите. Его же нет.
— Вы правы. Сейчас нет. Но я съела целую тонну.
— И где же его подавали? Неужели я так промахнулся! Я нахожу вас и узнаю, что лишился ризотто. Подтверждая его существование, вы подтверждаете и тот факт, что мы с ним разминулись.
— Простите. Я принесла дурные вести.
— И каким же оно было?
— Очень вкусным. Гороховым.
— Дьявол! Мое любимое. Там, наверное, ничего не осталось?
— Остатки убрали еще до того, как я вышла на террасу.
Джефф стоял как оглушенный.
— Я соболезную вашей потере. — Она легонько коснулась его рукава.
— Я рад своей находке.
В этих словах было столько неожиданного чувства, что беседа застопорилась. Наконец Лора спросила:
— А Джулия Берман? На что она похожа? Воплощенная фантазия какой-нибудь давно не юной дамы?
— Она была ужасно милой, но, честно говоря, я уже в том возрасте, когда даже в фантазиях о не самых юных дамах присутствуют дамы моложе меня.
— Неплохо сказано. И раз уж мы затронули эту тему, сколько вам лет? Примерно.
— Мне сорок… что-то вроде того.
Она посчитала на пальцах. Изобразила удивление, взглянула на него. В отчаянии пересчитала снова и уставилась на Джеффа с откровенным ужасом:
— Нет-нет. Не может быть.
— Очень смешно.
— Вы отлично выглядите… что-то вроде того. Для своего возраста.
— Я должен кое в чем признаться.
— В чем же?
Он наклонился и зловеще прошептал:
— Два дня назад… я впервые в жизни… — он сделал трагическую паузу, — покрасил волосы.
Она чуть не подавилась от смеха, так что ей пришлось выплюнуть беллини обратно в бокал.
— Ну, я кое-что подозревала… — сообщила она.
— Правда?
— Нет. Шучу. Выглядит превосходно, как будто нет никакой краски. Итак, вы накурились прямо на работе.
— Знаю. Мне ужасно неудобно. Кажется, я всех подвел. В том числе и себя. А вы?
— Вас интересует, не подвели ли вы меня или не подвела ли я сама себя?
— Меня интересует, любите ли вы покурить? Калифорния должна быть весьма благоприятна для этого дела.
— Калифорния весьма благоприятна для всего.
И то же самое сейчас можно было сказать о Венеции. Канал между Гритти и Гуггенхаймом бороздили стремительные катера и медлительные водные такси, но сейчас они не столько привозили народ, сколько увозили. Пик вечеринки миновал. Выпивки было по-прежнему много — как и угощавшейся ею публики, и в других обстоятельствах такая вечеринка могла бы длиться часами, не сбавляя оборотов. Но во время биеннале развлечений в городе было великое множество, и, как только веселье начинало затухать, вечеринка быстро сходила на нет. Если еще полчаса назад главной темой разговоров было «как тут здорово», то сейчас на лицах читался немой вопрос «куда податься дальше?».
Народ неспешно потек к выходу. Они присоединились к группе, направлявшейся на вечеринку какого-то русского коллекционера в каком-то палаццо — Джеффа туда никто не звал, но у Лоры было приглашение на двоих. Таков уж был его удел — быть вечным «плюс один». Возможно, стоило официально сменить имя, чтобы так и называться Плюс Один.
Они покинули Гуггенхайм и углубились в лабиринты каналов и переулков Венеции. Пара человек из их группы немедленно отстала. Когда они проходили мимо Академии, туда как раз причалил вапоретто, и все загрузились на борт, чтобы сойти на следующей же остановке, в Сан-Тома. Джеффу было все равно, куда ехать. Прибыв к палаццо, где давали вечеринку, они, все восемь человек, беспрепятственно проникли внутрь. Это была по сути та же вечеринка, с которой они только что ушли. Та же сцена в других декорациях: нагретый солнцем двор, куча выпивающих людей.
За исключением того, что — как это ни возмутительно — напитки были небесплатны. Невероятно, но факт. Предполагалось, что за них надо платить. Джефф обнаружил это вопиющее нарушение вечери-ночного этикета уже в импровизированном баре. Стремясь произвести достойное впечатление, он уже собрался было купить бутылку прозекко, когда бармену пришлось спешно переключиться на клиента, утверждавшего, что его обсчитали. В это мгновение мимо Джеффа скользнула обнаженная рука, схватила бутылку из ведра со льдом и вмиг исчезла. Он оглянулся и увидел удаляющуюся спину Лоры. Жест воздетой над морем голов руки недвусмысленно приглашал его последовать за ее обладательницей.
К тому времени, когда Джефф разжился двумя пустыми бокалами, бутылка уже пенилась на мраморной балюстраде, готовая к разливу.
— Ну вы даете, — выдохнул Джефф.
— Она ужасна, — произнес мужчина, которого он вроде где-то видел. — Когда-нибудь она определенно влипнет. Но как бы там ни было — за Лору!
Джефф присоединился к тосту, втайне опасаясь, как бы ему самому не влипнуть — эта женщина могла разбить его сердце с той же легкостью, с какой она украла бутылку прозекко. Ледяной напиток нашел массу поклонников и не протянул и нескольких минут. Когда кто-то отправился за добавкой, Лора повернулась к Джеффу:
— Вам не кажется, что уже пора?
— Да, несомненно, кажется. А что пора?
— Поговорить об искусстве.
— Каком именно?
— Очень смешно. Что вы сегодня видели?
Джефф поведал ей о финской лодке в море из осколков (она ее тоже пропустила), стене из дартса, синей комнате, видеодуше…
— И общее впечатление?
— Общее впечатление такое, что я бродил там и думал: «В банальность лишь нищие верят…»
Ничего такого Джефф, разумеется, тогда не думал, зато подумал сейчас, произнося эту фразу.
— Но, согласитесь, это же совсем не так. Потому что на самом деле банальность никого не увлекает. Мы привыкли во всем ее усматривать. Она успокаивает, служит привычным знаком качества. В ней есть некая часть нас самих. Мы живем в эпоху концептуального прорыва — вот что в самом деле увлекательно. Всем интересно, как долго это еще продлится, прежде чем пузырь наконец лопнет. Только штука в том, что пузырь уже лопнул, но, даже лопнутый, все равно надувается. Это новый закон физики.
— Весьма непривычно слышать такие речи от галерейщицы.
— Знаю. Именно поэтому я и ухожу. Вместо этого я собираюсь стать менеджером хеджевого фонда. В Варанаси.
— Хотел бы я быть менеджером хеджевого фонда. Или хотя бы знать, чем занимаются люди этой профессии.
— Они собирают искусство.
— У вас есть своя коллекция?
— Несколько небольших вещей. Подарки от художников, чьи выставки я делала. А у вас?
— В общем, нет. Искусством это не назвать. Мне так нравится владеть вещами, что мой организм отказывается коллекционировать что-либо, кроме книг. Книг и бутлегов Дилана.
— А я?
— В смысле? Вы хотите знать, не коллекционируете ли вы случаем бутлеги Боба Дилана?
— Нет.
Она подняла бокал к губам и отпила глоток.
— Я хочу знать, понравится ли вам владеть мной.
— Двадцать мне было в восьмидесятых. Это было время феминистского террора. Скажи вы такое в восемьдесят четвертом, это был бы верх игривости — но почти наверняка идеологическая ловушка.
— Я и есть ловушка. С медовой приманкой.
— Правда? Всегда хотел попасть в одну из них. В восьмидесятые таких не было. Ну, или были, но без меда. Скорее с чем-то вроде «Веджемайта»[83].
Эта приятно двусмысленная тема была прервана прибытием еще одной бутылки прозекко, еще нескольких человек и оживившейся дискуссией о Венеции и Тернере. Джефф как раз сегодня проглядел книгу по этой тематике и чувствовал себя вполне способным сделать вклад в беседу, однако он не смог вставить ни слова.
— Тернер приехал в Венецию… — вещал Дейв Глендинг.
— Последний из этих «Боев корабля „Темерарий“», или как их там… — вторила ему Мария Флеминг.
На этой стадии вечеринки можно было говорить все что угодно. В словах мог отсутствовать всякий смысл, и можно было не ждать, пока кто-то закончит свою мысль, и даже вовсе друг друга не слушать.
— А вот Констебл[84]… — начала какая-то незнакомая Джеффу женщина, но дальше ей сказать не дали, так как в этот момент Кайзер произнес:
— На биеннале есть только один художник, который мне небезразличен.
Здесь вдруг возникла пауза, так как всем стало интересно, чем закончится столь смелое заявление.
— Беллини! — И он поднял бокал в ответ на бурю аплодисментов, которыми была встречена эта сентенция. В каком-то смысле с этим согласились все, а некоторые согласились и во всех смыслах. Тут была зона свободного огня, где один вполне логичный разговор легко перетекал в другой, являвшийся его естественным продолжением, хотя никакой связи между ними не было, а степень абсурдности обоих стремилась к абсолюту. У Джеффа не было никаких шансов вклиниться в этот поток, но тем не менее он получал от него массу удовольствия — хотя бы потому, что кругом было столько людей куда пьянее него. Фигурально выражаясь, он был трезв, как слегка поддатый пономарь.
Тем временем дискуссия об искусстве переключилась на новую тему: что делать дальше? Решили перебраться на вечеринку в палаццо Зенобио, расположенное где-то неподалеку. Лора и Джефф пошли было со всеми, но Зенобио оказалось настолько забито, что внутрь никого не пускали, пока кто-нибудь не выйдет: один туда — один оттуда, а в итоге ноль. Последовала еще одна интерлюдия, в ходе которой неопределенности стало больше, а энтузиазма — меньше. Кайзер и еще пара человек объявили, что пора на покой — в том смысле, что они направляются в «Хейг». Прямо через канал от них был другой бар, «Павильон Манчестер», куда и двинулись все остальные, в том числе Джефф с Лорой.
Большинство посетителей бара не имело никакого отношения к биеннале — обычные бюджетные путешественники со своими рюкзаками, которым и сами вечеринки, и ажиотаж по поводу приглашений были так же чужды, как люмбаго, — впрочем, людей искусства там тоже хватало. Некоторые из этих людей искусства были друзьями людей искусства из компании Джеффа и Лоры, которая, понеся по дороге некоторые численные потери, быстро пополнила свои ряды. Джеффа это вполне устраивало: чем больше кругом народу, тем легче остаться наедине.
Они взяли по пиву и уселись снаружи, на теплых ступенях горбатого мостика, изогнувшегося над сонным каналом. Со всей болтовней, которой был так полон вечер, это был первый напиток, который можно было просто пить, блаженно потягивая и наслаждаясь им одним. Все предшествовавшее ему было просто топливом, питавшим споры и шутки и сгоравшим в мгновение ока.
Они сидели молча. Джефф снова смаковал взглядом то, чем и так любовался весь вечер. На ней были розовые босоножки без каблука. Под одной лодыжкой алела полоска кожи, натертой другими туфлями. Ноги у нее были загорелые.
— Который вы раз в Венеции? — спросила она.
— Третий. Биеннале два года назад и еще один раз, очень давно, когда мне был двадцать один. Я ехал к другу на Корфу и ночевал на вокзале. Все бы хорошо, если бы стражи порядка не подняли всех спозаранку, так что я потом слонялся весь день в полусне, страшно усталый, время от времени съедая кусок пиццы, чтобы не упасть. До Корфу всего рукой подать, но путешествовал я по Интеррейлу[85] — знаете такой билет? — поскольку так было дешевле. И вот на вторую ночь, вместо того чтобы спать на вокзале, я отправился поездом во Флоренцию, спокойно проспал всю дорогу, а там сел на поезд обратно и еще поспал. Это тоже было утомительно, но я хотя бы посмотрел город — в те моменты, когда мог держать глаза открытыми.
— А почему вы не пошли в отель?
— Это было ужасно дорого. Я был один, и отель казался мне непозволительным излишеством.
— Дешевый аргумент!
— Знаю. Но урок я усвоил. Угадайте, где я остановился в этот раз?
— Где?
— В отеле.
Лора сидела на ступеньку выше, сомкнув колени; когда она рассмеялась, перед Джеффом мелькнули белые трусики, и от этого зрелища сердце его пустилось вскачь. История секса — это история мимолетных видений: лодыжки, декольте, коленки. А с некоторых пор — татуировки, кольца в пупке, пирсинг в языке, белье… Лорино белье… Каждая смена позы дразнила надеждой еще разок заглянуть ей под платье.
— Пытаетесь заглянуть мне под платье? — спросила Лора.
— Нет! То есть не сейчас. Сейчас я изо всех сил пытаюсь смотреть вам в глаза. Но пару секунд назад — да, я пытался.
— Сколько вы говорите вам лет?
— Сорок с небольшим. Ближе к середине. Но есть вещи, у которых нет возраста. В четырнадцать тебе интересно, что у женщин под платьем, и в сорок тебе интересно, что у женщин под платьем. И вот тебе семьдесят, ты уже одной ногой в могиле, но даже воздевая глаза к небу, ты все равно стремишься напоследок заглянуть кому-нибудь под юбку. Юбки могут становиться то длиннее, то короче, но принципиально ничего не меняется.
Джефф чувствовал себя так, словно произнес речь, в которой ясно и доходчиво изложил свое кредо. Может, так оно и было. Они еще немного посидели молча.
— Скоро пойдем? — сказала Лора.
— Хоть сейчас, — сказал Джефф.
— Тогда пошли.
Они оставили бутылки на ступеньках и двинулись прочь. Он обнял ее за плечи; ее рука обвила его талию. Они шагали по пустым переулкам, покинутым даже кошками, вдоль каналов и через маленькие площади, выжидательно провожавшие их глазами.
— Каковы наши шансы найти ваш отель? — спросила она.
— Не знаю, но стимул у нас определенно есть.
Они сверились с картой, уже порванной от небрежного складывания. Затем спросили дорогу у флегматичного мужчины, выгуливавшего собаку.
— Sempre dritto! — отвечал он на все их вопросы. — Все время прямо!
Ярдов через сто двигаться «все время прямо» стало невозможно. Пришлось повернуть, и повернули они явно не туда. Дальше все пошло еще хуже. Тупики выскакивали как из-под земли. Мостов, по которым вроде можно было срезать путь, на месте не оказывалось. И все же через двадцать минут блужданий и возвращений по собственным следам они уперлись в отель. Ночной портье бесстрастно выдал им ключ.
В комнате было прохладно. Лора направилась прямиком в ванную. Белая дверь закрылась, за ней побежала вода. Джефф созерцал дверь, пока она не отворилась снова.
— Можно, я воспользуюсь этим? — Она показала маленькую зубную щетку из тех, что любезно предоставляются отелем.
— Конечно.
Дверь снова захлопнулась, и Джефф вновь уперся в нее взглядом.
Когда она наконец вышла, он проследовал внутрь и почистил зубы собственной щеткой. Потом открыл дверь. Она не лежала на кровати и даже не сидела на ней, а стояла у стола и листала книгу с тернеровской акварельной Венецией. Она закрыла книгу и положила ее на стол; он подошел к ней. Их поцелуй словно пришел из столетней дали, когда люди до самой брачной ночи не надеялись испытать ничего подобного. Именно эти первые мгновения поцелуя определили все, что было после. Он прикоснулся к ее лицу, ее волосы упали ему на руки, на лицо. Пока они целовались, он поднял ей платье до бедер. Ее руки оказались на его спине под рубашкой. Она чуть подалась назад, чтобы он поднял платье повыше, затем снова оперлась о стол. Взглянув вниз, он теперь мог видеть белое белье, которое раньше заметил лишь мельком. Его руки скользили по невероятной нежности ее ног, по внутренней стороне бедер. Он притронулся к хлопковой ткани меж ее ног, прижал сильнее. Она расстегнула его рубашку. Ее пальцы, двигаясь по лесенке ребер, посылали искры в его позвоночник. Он потянулся ей за спину, расстегнул молнию на платье и высвободил плечи. Потом расстегнул ее бюстгальтер и наклонился, чтобы поцеловать грудь. В одном из сосков было продето серебряное колечко. При виде его у Джеффа закипела кровь. Его руки уже были на ее стремительно твердеющих сосках, легонько играя с колечком. Он наклонился и взял ее сосок в рот; колечко громко стукнуло о зубы. Они снова поцеловались. Он оттянул ее трусики, и его пальцы скользнули внутрь нее. Затем он отступил назад и встал на колени, целуя ее живот. Его руки лежали на столе по обе стороны от нее. Он прошел языком вниз по ее животу и дальше, так что теперь он мог видеть ее и вдыхать ее запах. Она протянула руку вниз и отвела трусики в сторону. Он сидел неподвижно, глубоко вдыхая носом и выдыхая ртом. Ее касалось лишь его дыхание. Никто из них не двигался. Он запрокинул голову, и она соскользнула с края стола, чуть согнув ноги, почти касаясь его языка, придвигаясь все ближе… Она целовала его в губы вагиной, двигаясь с ним в такт. Он проник внутрь нее большим пальцем — внутрь и наружу и снова внутрь, — а затем и остальными. Она теснее прижалась к его лицу, затем стянула платье через голову и швырнула его на кровать. Он встал, и они снова поцеловались — ее запах остался на обоих их лицах. Она была нага, за исключением маленьких белых трусиков. Пока они медленно продвигались к кровати, она начала расстегивать его брюки и забралась внутрь. Он снял брюки и трусы; она наклонилась, чтобы избавиться от своих. В этот момент он разглядел под ее бедренной косточкой маленькую татуировку. Сперва он решил, что это акула, но нет, это, конечно, был дельфин, ликующе выпрыгивавший из зубчатых волн.
Теперь они оба, нагие, сидели на кровати. Волосы у нее внизу были густые, очень темные и мягкие, выщипанные в узкую полоску. Она целовала его живот, а он лизал ее все ниже и ниже, пока его лицо не оказалось меж ее ног, а ее губы не сомкнулись на его плоти. Левой рукой он раскрыл ее ноги и зарылся в нее лицом. В первый раз он увидел ее анус. Она еще глубже погрузила его член в рот, влажный, как вагина на его лице. Так они оставались, двигаясь в едином ритме, пока она не стала кончать, кончать ему на лицо, а его сперма не хлынула ей в рот.
Они расплели ноги и руки, кажется впервые осознав, что лежат, уткнувшись лицом в гениталии друг друга. Близость по природе своей непостоянна и неровна; у нее есть свои отставания и паузы. Кроме того, Джеффа слегка интересовал вопрос об этикете произошедшего. Можно ли это расценивать как секс? Лора, судя по всему, думала о том же.
— Итак, теперь ты собираешься заняться сексом?
— Ну, может быть, не совсем теперь, — задумчиво ответил Джефф.
Она улыбнулась и подарила ему поцелуй.
— Ты пахнешь вагиной.
— А ты — семенем.
— По идее, ты должен был сказать: «Твое лицо пахнет спермой, сука».
— В общем, да. Но, знаешь ли, у меня как раз сейчас прилив посткоитальной нежности.
— У меня тоже. Мне понравилось, как ты это делал.
— А мне — как это делала ты. И вот это мне тоже понравилось. — Он прикоснулся к колечку в ее соске.
Он сказал то, что хотел сказать, но подлинный смысл его слов заключался в том, что здесь так много всего, что может нравиться и даже больше.
Они лежали бок о бок, по очереди неуклюже пили воду из большой бутыли, купленной им накануне.
— Как удивительно все получается, правда? Встречаешь женщину, вы разговариваете, потом она разрешает сделать это с собой — ну, все то, что тебя в общем и целом влекло лет с тринадцати. И она даже не просто разрешает тебе все это сделать — она еще и хочет этого. И сама тоже хочет с тобой что-то сделать. Разве это не здорово?
— Почему ты мне все это говоришь? Именно мне?
— Мне нужно этим с кем-то поделиться. А тут есть только ты.
Она протянула ему воду и перевернулась на живот. Его глазам опять предстал дельфин, которого он мельком видел ранее. Пересчитав рукой все позвонки ее загорелой спины, он спросил:
— Когда ты сделала себе эту акулу?
— Идиот, это дельфин.
— Я же тебе говорил, что слабоват по визуальной части.
— Пять лет назад. В Сан-Франциско. Ты любишь дельфинов?
— В каком-то смысле я им завидую.
Он поставил воду на прикроватный столик, коснулся дельфина, а после погладил ее ноги и ягодицы. Его пальцы скользнули меж ее ног. Джефф вновь почувствовал прилив силы.
— Мы все еще говорим об этом?
— Возможно.
— И о чем же именно?
— Мы говорим о том, как это приятно, когда мои пальцы внутри тебя.
— Да, это действительно приятно, — сказала она. — Продолжай в том же духе.
Ее ноги приоткрылись чуть шире. Теперь он видел, чем там занимается его рука.
— В таком?
— Мммм… А презервативы у тебя есть?
— Да.
Она перевернулась на спину. Они поцеловались.
Утром они позавтракали — апельсиновый сок (отлично), кофе (превосходно), корнетти (вполне терпимо) — в том же кафе, где он был накануне. Они сидели в тени на блестящих серебристых стульях, оба в солнечных очках, и глядели на украшенную деревьями улицу с видом на канал Джудекка. И это было счастье. То самое счастье, которое до них уже испытывали многие и не только в Венеции — в других городах и в другие, подобные этому, утра. Глядя на ее длинные загорелые ноги, он чувствовал их гладкость под своими ладонями, под своими губами.
— Чем бы ты завтракала, будь ты дома? — спросил ее Джефф.
— Полный английский завтрак. Яичница с беконом, фасоль, черный пудинг.
— А ты знаешь, что это такое?
— Какая-то дрянь, жаренная в овечьей крови, или что-то вроде того?
— Скорее наоборот.
— На самом деле это был бы апельсиновый сок, кофе и круассаны.
— И все это есть в Лос-Анджелесе? Классный, должно быть, город.
— Апельсин наверняка бы был без кофеина.
Джефф листал газету, подтверждавшую то, что они — и вообще все — и так знали: сегодня будет еще жарче, чем вчера.
— Тут есть статья, — сказал он, глядя на нее поверх газетного листа, — о том, что мужчины биологически запрограммированы за завтраком читать газету. Что скажешь? Это может быть правдой?
Лора меж тем макала остаток корнетто в кофе, свободной рукой убирая за ухо непослушные волосы. Джефф сложил газету и бросил ее на стол — очень мужским, завтрачным жестом.
— А ты в хорошем настроении, — заметила она.
— Угадай с одной попытки почему.
— Потому что провел ночь не на вокзале?
Голуби в поисках крошек пикировали к ним на стол. Лора их отгоняла: зловредные птицы не только мешали, но и могли принести заразу. Она порылась в сумке — в той же самой сумке, в которой она рылась вчера, еще до того, как они переспали, — и в конце концов извлекла на свет распечатку своего расписания, исчерканную вдоль и поперек.
— Что у нас сегодня за день?
— Пятница.
— Бамс.
— Что такое?
— У меня сегодня ланч с боссом. А это значит, что мне пора. Нужно еще забежать в отель и переодеться.
— Переодеться? Во что-нибудь еще более феерическое?
— Не обязательно. Просто на этом, к сожалению, осталась пара пятен.
— Извини. Это ужасно бестактно с моей стороны.
— Ты прощен. Кроме того, мне нужно свежее белье. Гляди.
Она многозначительно опустила взгляд и чуть раздвинула ноги. Под платьем на ней ничего не было.
— Ужас, правда? Будучи в русле современной культуры, я понимаю, что после Шэрон Стоун[86] это смотрится пошло.
— Но мне все равно нравится, — возразил Джефф. — Только подумай, как много может измениться за десять часов! Вчера вечером ты обвиняла меня в том, что я пытаюсь заглянуть тебе под платье, а теперь сама мне предлагаешь это сделать.
— Это привилегия, а не право.
— Вчера ты сказала, что я тобою владею.
— Я сказала: «Понравится ли тебе?..»
За этим разговором Джефф выковыривал ложкой мед из своего корнетто.
— Медовая ловушка протекла, — сказал он, поднимая ложку.
— Что ты намерен с этим делать?
— Рискуя показаться вульгарным, я должен был бы это вылизать. Но я ненавижу мед. Поэтому я его ликвидировал.
Он положил измазанную медом ложку на тарелку.
— А ты? — сказала Лора. — Чем тебе сегодня нужно заняться?
— Переодеваться я не буду. Мне хорошо и в том, что есть на мне, мерси.
Еще один приступ непонятной застенчивости и даже скромности. Когда они одевались в отеле, он, несмотря на жару, напялил брюки вместо шорт.
— Мне сегодня нужно только в Арсенал. Может, встретимся там позже?
— Не знаю, когда я туда попаду. Возможно, к двум. Если не буду успевать, я позвоню.
— У меня нет телефона.
— У тебя нет телефона?
— Нет, но я могу сам тебе позвонить.
— У меня его тоже нет.
— Удивительное совпадение.
— А разве тебе по работе не нужен телефон?
— Возможно. А разве тебе по работе не нужен телефон?
— Определенно.
— Мы, наверное, последние два человека на земле без телефона. Отщепенцы.
— Не проблема. Если в два меня не будет у кассы Арсенала, значит, я не приду. В этом случае мы встретимся в четыре на мосту Академии.
— Отлично. Возьмем еще кофе?
Они заказали еще два капучино, два сока и два корнетти. Помимо птиц настойчивый интерес к их столику проявляла еще и оса, привлеченная, надо думать, медом. Мимо быстро прошла художница Фиона Баннер[87]. Со своими иссиня-черными волосами и большущими очками, она выглядела так, словно прибыла сюда инкогнито и маскируется под Фиону Баннер. Джефф помахал ей, но она его не заметила.
Он мог бы просидеть тут целый день, всю жизнь. Но Лора сказала, что ей пора. Он заплатил по счету, и они поцеловались на прощание.
— Я устала, — сказала она.
— Я тоже.
— Жалко, что нельзя пойти прилечь.
— Что ж, я не занят…
Ее руки обвили его шею.
— Увидимся. В Арсенале в два.
— Или у Академии в четыре.
Он глядел, как она идет прочь легкой походкой. Ее волосы на солнце были цвета тени.
Испытывая острую радость от того, что не надо повторять вчерашний забег от кафе до отеля, Джефф решил отправиться в Арсенал пешком через Кампо Санто-Стефано и Сан-Марко. Сказать, что он шел пружинистым шагом, значит не сказать ничего. Он шагал по Венеции так, словно она принадлежала ему, словно была создана специально для него. О, жизнь! Полная скуки, раздражения, досадных неудобств и беспокойства, но в то же время совершенно фантастическая вещь. Что за поразительная, невероятная планета! Чрезвычайно жирная особа в белой майке как-то странно на него посмотрела. Должно быть, он опять шевелил губами, артикулируя свои мысли. Но кому какое дело, когда это такие мысли — мысли, помогающие на свой маленький манер делать мир отличным и счастливым местом.
На то, чтобы добраться до пьяцца Сан-Марко, такой пленительной на фотографиях или ранним утром и кишмя кишащей голубями днем, у него ушло довольно много времени. В юго-западном углу народу было особенно много. Особенно вокруг Джеффа. Слева на него кто-то просто откровенно навалился. Молодой парень — симпатичный, лет под двадцать, возможно, из Восточной Европы — изъяснялся на итальянском с таким диким акцентом, что Джефф в упор его не понимал. На нем были солнечные очки. Он еще раз навалился на Джеффа, продолжая болтать. Да что он такое несет? Понять было совершенно невозможно. Может, это был вообще не итальянский? Тут он почувствовал какой-то толчок с противоположной стороны, в районе правого бедра. Парень слева продолжал вещать на своем тарабарском языке, который мог быть совсем не итальянским. Что?.. Черт! Его же грабят! Джефф заорал: «Ladro!»[88] — и завертелся в толпе, расчищая вокруг себя место. Все глаза обратились сперва на него, а потом на говоруна и на его сообщника, которые уже спешно удалялись с места происшествия. Джефф проверил карманы. Деньги, проездной на вапоретто, пресс-карточка… Все было на месте. Неудавшиеся карманники еще были в поле зрения; им было явно не по себе от устремленных на них осуждающих взглядов. Джефф вдруг возликовал. Его попытались ограбить и не смогли. Чувствуя себя непобедимым, он завопил на английском в сторону этих двух албанцев или, может, сербов.
— Какие же вы карманники? Да вы мочу из вагины своей матери украсть не сможете!
Стоило этим словам вылететь у него изо рта, как ощущение непобедимости сразу испарилось. Оскорбление могло оказаться настолько серьезным, что… вдруг эти дикари воспылают местью, и их честь потребует, чтобы они вернулись и закололи наглеца, осмелившегося оскорбить их мать? К счастью, с их английским они, похоже, не поняли, что он там кричит. Зато пожилой итальянец рядом с Джеффом, по-видимому, оказался ценителем бранной речи, так как он одобрительно похлопал его по плечу, восклицая: «Брависсимо! Брависсимо!»
Начинающие преступники, перепуганные и вконец сбитые с толку, явно страшась линчевания куда больше, чем Джефф — клановой мести, ускользнули восвояси — безвредные, нищие, пришлые и катастрофически малочисленные.
Неподалеку ошивались несколько высоких негров, торговавших поддельными сумками «Прада». По их флегматичной медлительности было не понять, на чьей стороне их симпатии. Возможно, они были солидарны с бедными славянскими братьями, на которых мог обратиться слепой гнев толпы. Или же, напротив, радовались шансу подчеркнуть — пусть даже и пассивно — свою относительную законопослушность в том смысле, что продавать из-под полы бездарные кожаные фальшивки, быть может, и не очень законно, но сами они в целом честные торговцы, стартующие в деле, которое однажды может превратиться в благородный розничный бизнес.
Тем временем Джефф вышел на Рива-Дельи-Скьявони, или на набережную, как он тут же пляжно ее про себя окрестил. Она была забита туристами и предназначенными для них киосками, но уже через сотню ярдов стала приятно пустынной. Вид на море или на канал — Джефф не был уверен, где тут одно переходит в другое, — заслоняли огромные яхты: «Экстазея», «Нептун» и «Морской бриз». Последнее название особенно подчеркивало полное его отсутствие в природе. Город безропотно пекся в безветренном зное.
Наряду с национальными павильонами в Джардини, Арсенал был еще одним ключевым объектом биеннале. Здесь выставлялись работы художников со всего света, отобранные директором биеннале и объединенные — по идее — той или иной темой. То, что эту тему из явно случайного подбора экспозиции невозможно было вычленить, отнюдь не умаляло впечатления — по крайней мере, для Джеффа. Здесь было на что посмотреть: живопись, инсталляции, фотография, видео, скульптура (или что-то в этом роде), и даже, что удивительно, отдельные рисунки. Джефф прогулялся по всем залам, вбирая в себя все подряд — несмотря на то что внутрь, по большей части, ничего не проникало. Он смотрел на закольцованное видео ребенка, играющего в руинах разбомбленного города (Белграда, как оказалось), целых пять минут, пока понял, что тот пинает не футбольный мяч, а человеческий череп.
Еще через пару минут он углядел боковым зрением снимки загорелой обнаженной плоти. Порнуха! — тут же услужливо подсказал мозг. Современное искусство замечательно хотя бы потому, что грань между ним и всеми теми вещами, которые обычно помечают надписями «Только для взрослых», «Сексуально откровенные сцены» и грифом XXX, становится все более зыбкой. Однако на поверку это оказалось полной противоположностью порнухи. То были полноцветные снимки женщины, занятой произведением на свет новой жизни. Море крови, весьма кишкообразная пуповина и, наконец, перепачканный и скрюченный крошка-инопланетянин. Уф! Вообще на такое следует наложить вето. Эти изображения были совершенно безнравственными. Они могли навек отбить охоту к сексу. Да и не только к сексу. Они могли навек отбить охоту жить.
Стоит ли говорить, что эти снимки — как и вообще все выставленные здесь фотографии — были размером с «Плот „Медузы“»[89]. Ну и пусть это всего лишь снимки парня, онанирующего в кожаном кресле в Цюрихе; или недоеденный магазинный сэндвич с яйцом и салатом, брошенный на автобусной остановке в Стокгольме; или бабушка художника, уныло толкающая тележку по рядам дешевого супермаркета в Барнсли. Увеличь их до исполинских размеров, и они будут выглядеть — да, если честно, полной хренью, но при этом, как ни странно, искусством.
Как и в Джардини, здесь тоже встречались, обменивались приветствиями, сравнивали впечатления — кто где успел побывать с утра, кто после чего проснулся. Никогда не склонный к амурным откровениям, Джефф ничего сейчас так не хотел, как кричать во все горло о своей победе и хвастаться своими похождениями, но каким-то чудом он сумел сдержаться. Все, кого он встречал, пребывали в состоянии еще более глубокого, чем день назад, похмелья, а некоторые уже успели понабрать бесплатных каталогов, сумок и футболок. Самые предприимчивые даже разжились бесплатными бутылками «Асахи»[90], которое раздавали в стратегически расположенных точках экспозиции прямо из набитых льдом чанов.
Возлегающий на подушках и красно-оранжевых коврах под мельтешащей неоновой свистопляской Скотт Томсон призывно помахал ему рукой. Поскольку все остальные почтительно обходили это место или осматривали инсталляцию буквально на бегу, Джефф оглянулся по сторонам, ожидая увидеть спешащую к нарушителю спокойствия охрану.
— Давай сюда, приятель, тут можно, — воззвал Скотт.
Джефф подошел и с удовольствием приземлился на кучу мягких подушек, устремив взор вверх, на безумное хитросплетение неоновых реклам, светящихся перчиков чили, пластмассовых бананов и бог весть чего еще.
— Вот это ближе к теме, правда? Почти как «Горящий человек», — сказал Скотт.
— У них там тоже есть такое?
— Да, навалом, но куда лучше. А вдобавок еще и перформанс или что-то вроде того. По крайней мере, коктейль тебе точно дадут.
— И кто же автор?
— Джейсон Роудс[91]. А вся эта реклама…
— Да-да, что это? Марки мексиканского пива или что?
— Да нет. Синонимы женских гениталий.
Джефф снова уставился вверх, пытаясь выделить и расшифровать красные, синие и фиолетовые буквы: Дом-под-холмом, Тортилья, Hombre[92] (это что еще за черт?), Каток, Банк, Птичка, Грязная-резаная-рана (боже, что за урод такое придумал?), Вкусняшка, розовая Пантера… Там было еще не меньше сотни, но он уже и так все понял.
— И как это называется?
Скотт пожал плечами и протянул ему путеводитель, ткнув пальцем в название: Тихуанатанжершанделиер[93].
— Язык сломаешь!
— Ну вот, ты только что изобрел еще один синоним.
«Что забавно, как раз сегодня ночью…» Джефф этого не сказал, но его лицо, по-видимому, и без того излучало некую нескромную радость бытия.
— Тебе знакомо выражение «как кот, объевшийся сметаны»? — спросил Скотт, задумчиво глядя на него.
— А что такое?
— А то, что именно так ты сейчас и выглядишь. Не припомню, когда в последний раз ты был таким счастливым.
— Я и не был таким счастливым уже сто лет, — ответил Джефф, которому Скотт сейчас нравился больше, чем когда бы то ни было. Он бы с удовольствием развил эту тему, но как раз настал момент проверить, не явился ли источник его счастья на первое из их потенциальных рандеву. Он встал и, улыбнувшись на прощание Скотту, удалился. Теперь, когда первый лед был сломан, инсталляцию постепенно заполнял народ, устраивавшийся на подушках, чтобы отдохнуть и поболтать.
Он прождал Лору у кассы до десяти минут третьего, надеясь, что они смогут вместе расслабиться в неоновом гнездышке Тихуанатанжершанделиера. Потом подождал еще десять минут. Она не появлялась. Он был уже готов нырнуть обратно в недра Арсенала, как вдруг заметил в отдалении все тех же негров, торгующих своей поддельной «Прадой», невзирая на палящий зной. Даже здесь они пытались всучить прохожим свой товар. Какая завидная настойчивость… и оптимизм. Какой смысл продавать сумки, когда их тут повсюду даром раздают? И однако же люди их покупали, по крайней мере, проявляли интерес, вступали в переговоры по поводу цены, качества и скидок на оптовые (больше одной) покупки. Кругом толпилось множество людей, фотографировавших и снимавших на видео счастливых продавцов и их потенциальных покупателей. В конце концов все стало ясно. Африканцы тоже были произведением искусства, живой инсталляцией, имитацией внешнего мира, точно так же, как их сумки были имитацией оригинальных «Прада» и «Луи Виттон», поднимая тем самым ряд животрепещущих вопросов о подлинности и ценности вещей, об обществе потребления, эксплуатации и многом другом, что так вот с ходу и не разглядеть. Порнография, оказавшаяся рождением ребенка; футбольный мяч, оказавшийся черепом; коммерция, оказавшаяся искусством. Сегодня все было не тем, чем кажется. И хотя Джефф, казалось, был совершенно поглощен художественным концептом африканцев и их сумок, по сути, это было симуляцией и маскировкой, попыткой скрыть — от себя и ото всех, кто мог бы за ним наблюдать, — тот факт, что он просто надеялся дождаться Лору. Однако в конце концов ему пришлось смириться с тем, что она, похоже, не придет, и, бросив по сторонам последний взгляд, вернуться внутрь.
Там ему в глаза бросилось нечто пропущенное при первом обходе: фотографии знаменитых ученых и интеллектуалов, читающих лекции, ведущих семинары и в целом являющих пример того, что жизнь ума может быть если не гламурной, то уж точно прибыльной. Там была Линда Нохлин[94], с докладом «Блеск и нищета порнографии» на коллоквиуме в Париже; Эрик Хобсбаум[95], объясняющий, почему история — это умение никогда не извиняться; Эдвард Саид[96], такой благообразный, элегантный и собранный, как если бы Ричард Гир[97] уже дал согласие на байопик[98], — ведущий группу обожающих его студенток через минные поля востоковедения и поздних стилей или объясняющий, почему Соглашения в Осло[99] все так испоганили.
В обычных обстоятельствах у него никогда бы не хватило терпения высидеть целый видеосеанс, но сегодня он чувствовал себя усталым и с наслаждением плюхнулся на пол в темноте зала, позволяя сюжетам развиваться своим ходом… хотя большинство из них конечно же никак не развивалось. В одном видео женщину снимали сзади и чуть сверху, на фоне реки. Она не двигалась, только волосы и плащ шевелились от ветра. Перед ней серая муть воды неспешно текла слева направо, занимая собой весь экран. Время от времени через кадр проплывал какой-нибудь мусор: бутылки, ветки, полиэтиленовые пакеты. В какой-то момент мимо продрейфовало что-то более крупное — возможно, дохлое животное, кошка или собака. Река продолжала течь, туманная, замусоренная, бесконечная. Над водой носились тени птиц. Атман смотрел и смотрел на все это, даже когда закольцованный ролик вернулся к началу и река вновь потекла с исходной точки.
Другое видео было про боксера с бритой головой, ведущего «бой с тенью», — он наскакивал и отпрыгивал, делая выпады в сторону женщины, стоявшей совершенно неподвижно. Его кулаки останавливались в дюймах от ее бесстрастного лица, не касаясь его. Она даже не пыталась уклониться, лишь пряди ее волос шевелились в порождаемом его ударами токе воздуха. В какой-то момент, когда он промахнулся буквально на миллиметр, ее ноздри чуть затрепетали. Он делал обманные движения, приседал, держал защиту, нападал, чуть всхрапывал носом, как это делают боксеры, выжидал, пока противник откроется, и обрушивался на него с серией жутких ударов, бил левой и правой, делал хуки и апперкоты — по корпусу, по голове, по лицу. И все это время она стояла перед ним — безмятежная, невредимая и очаровательная.
Еще с вапоретто он увидел Лору посреди моста Академии. Она разговаривала с мужчиной, которого он не знал. К тому времени, как он сошел на берег, незнакомец уже испарился. Он подошел и встал ровно туда, где стоял ее собеседник. На Лоре было белое платье. Она чуть приподняла зонтик от солнца. Теперь лишь часть ее лица была в тени. Волосы ее были подколоты, подчеркивая длину шеи и очерк скул. Она подняла зонтик еще выше, и в ее глазах блеснуло солнце.
— Приди в мою тень, — сказала она.
Джефф придвинулся, и она опустила зонтик, укрыв их обоих тенью. Он поцеловал ее в губы. У них был легкий запах и привкус вишен.
— Тут хорошо, — сказал он. Они словно оказались в капсуле, скрытые от остального мира.
— О да. ‘Ара ‘арче, чем всегда. Но под этим вот хоть капельку прохладнее.
Она вытащила из своего «Фрейтага» пакетик вишен.
— Угощайся! — Взяв вишню за черенок, она поднесла ее ко рту Джеффа. Он обхватил ее губами, как Тесс из фильма Полански[100]. Она выдернула черенок и выбрала еще одну — себе. Они жевали, а она так и стояла, держа в руке два черенка. Его рука лежала на ее бедре, у самой татуировки. Под тонкой тканью платья он явственно ощущал резинку трусиков. Она развернула его к каналу, и они вместе уставились на террасу Гуггенхайма, на безымянные палаццо, праздные гондолы и причальные столбы, похожие на красно-белые шесты, когда-то служившие вывеской парикмахерам.
— Ты добралась до Арсенала? — спросил он.
— Мой ланч перенесся на два, так что, переодевшись, я отправилась прямо туда. Была уверена, что встречу тебя, но в полвторого мне пришлось уйти.
Они сравнили впечатления. Они могли столкнуться чуть не десять раз: Лора тоже провела четверть часа в вагинальном неоне Тихуанатанжершанделиера, видела бой с тенью и видео с рекой. Обидно, конечно, но теперь это не имело значения, так как они наконец были вместе.
— Что теперь? — спросила она. — У тебя еще есть какие-то дела?
— Абсолютно никаких.
— Тогда пройдемся?
Не дожидаясь ответа, она двинулась прочь. Джефф последовал за ней.
Они прошли Кампо-Санто-Стефано и углубились в лабиринт торговых улочек, где было слишком людно, чтобы держаться за руки. В маленьком магазинчике продавались перчатки, выставленные в витрине так, словно одетые в них руки умоляли их купить. Они перешли по мосту небольшой канальчик, где образовалась впечатляющая пробка из гондол. В той, что запрудила движение, был всего один пассажир, восседавший на своем троноподобном сиденье с видом Чингисхана, запоздало постигшего всю тщетность жизни, проведенной в завоеваниях. На лицах остальных туристов застыло не столь явное, но очень схожее выражение — неохотное признание того факта, что, поддавшись уговорам гондольера, они попались на удочку одной из древнейших моделей развода на деньги.
Они дошли до магазинчика, торговавшего стеклянной посудой, вазами и фонариками, сплошь украшенными точками, полосками и зигзагами всевозможных цветов, — пожалуй, самым красивым и уж точно самым дорогим стеклом на свете. Маленький стаканчик — в такой могла бы вместиться разве что детская порция апельсинового сока — стоил восемьдесят евро. В первое мгновение это их шокировало, но затем идея восьмидесятиеврового стакана почти сразу начала просачиваться в мозг. Достоевский вполне мог иметь в виду эти стаканы — и их цены, — когда описывал человека как создание, привыкшее к вещам.
— Многовато для посуды, — сказал Джефф, — но уверен, на этой неделе в Венеции полно людей, которые могут себе это позволить.
— Тут дело не в том, чтобы позволить их себе, — возразила Лора, — а в том, чтобы не бояться их разбить. И потом, что значит позволить себе что-то? Это лишь способ экстернализации и оценки того, как сильно тебе чего-то хочется.
Они стояли, любуясь этими стеклянными стаканчиками — такими ненужными и такими желанными.
— Знаешь… — сказала она. — Я собираюсь купить тебе такой.
— Нет!
— Да. И это еще не все. Ты собираешься тоже купить мне такой.
— Я? Ого!
— Да. Но мы сделаем это только при условии, что не будем бояться их разбить. Разумеется, мы завернем их в бумагу, когда полетим домой, и не станем ставить в них зубные щетки, но мы будем обязательно пользоваться ими, когда захотим. И знаешь, как мы себя при этом будем чувствовать?
— Так и подмывает сказать «бедными», но кажется, правильный ответ — «богатыми». Хотя облегчение, которое я сейчас испытываю, больше связано с тем, что ты не собираешься их красть.
Они вошли в магазин. Внутри было чудесно, но, даже просто находясь там, он невольно чувствовал себя слоном в посудной лавке — крайне неуклюжим и неповоротливым. Любой неосторожный жест мог стоить очень дорого. Боясь, что стекло может треснуть даже от слишком пристального взгляда, Джефф старался смотреть на всё мягко.
Стаканчики были совершенно разными, но настолько красивыми, что выбирать пришлось почти что наобум. Он выбрал для Лоры красно-белый завиток, похожий на шарик сливочно-малинового мороженого, замурованный в стекле. Она нашла для него бледно-голубой образчик с мелкими оранжевыми пузырьками. Они расплатились. Продавец завернул покупки в розовую шелковую бумагу, обращаясь с ними так бережно, словно это были только что извлеченные из гробницы Тутанхамона артефакты, которые могут рассыпаться в прах от контакта с грубым воздухом этого света.
Оказавшись снаружи, Джефф увидел, что рядом, дверь в дверь, располагается пресловутая «Прада». На мгновение он забеспокоился, что раз они только что создали определенный прецедент, то после покупки немыслимо дорогой посуды им придется одаривать друг друга еще более дорогой одеждой.
— Ну что, — сказала Лора, — пошли искать применение нашим новым стаканам?
Джефф чуть было не пискнул инстинктивно «Где?», но подавил этот импульс и вместо этого сказал:
— Идем! — и вновь пошел с ней рядом, стараясь идти шаг в шаг.
— А в посудомоечную машину их можно класть? — спросил он на ходу.
— Еще бы. Никаких специальных привилегий у них нет. Это просто стаканы, а не иконы, которым надо бить поклоны.
— Но ведь есть и другая проблема, — не сдавался Джефф. — Не будут ли теперь все прочие стаканы казаться рядом с ними менее значимыми? И если мы вдруг станем пить шампанское из обычных фужеров, не покажутся ли они нам банками из-под варенья?
— Если бы все так думали, — прервала его Лора, — человечество не эволюционировало бы даже до той ступени, на которой пьют из банок от варенья.
Они шли через менее провокационную часть города, где в магазинах продавались нормальные вещи по нормальным ценам.
— Ты знаешь, где мы? — спросила Лора.
— Не совсем.
— А куда мы идем?
— Нет. Но хотел бы узнать.
Пять минут спустя так и случилось. В конце переулка оказался маленький отельчик с громким именем «Эксельсиор»[101]. Лора взяла ключ у дамы-портье, которая встретила ее широкой улыбкой, не проявив ни малейшего интереса к ее новому другу. В крошечном лифте, тесном даже для двоих, она указала Джеффу на табличку в пластиковой оболочке, пришпиленную под инструкцией по эксплуатации.
— Глянь на этот шедевр концептуального искусства.
ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ,
НЕ ЦАРАПАЙТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ОБОЛОЧКУ
МЫ СТАРАЕМСЯ ДРУЖИТЬ С ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДОЙ, НО, ЕСЛИ ВЫ ПОЦАРАПАЕТЕ
ОБОЛОЧКУ НАМ ПРИДЕТСЯ ЕЕ ВЫБРОСИТЬ.
— Ты права, — сказал Джефф. — Этой табличке место в Арсенале.
Комнатка оказалась маленькой. Ее главной достопримечательностью была огромная белая кровать, которую невозможно было ни проигнорировать, ни избежать. Лора сполоснула новые стаканы, смяла розовую шелковую бумагу и выкинула ее в корзину.
— Что желаешь в качестве инаугурационного напитка? Есть обычный набор мини-бара, плюс я купила по случаю жары минеральную воду и гранатовый сок.
— Вот это было бы отлично!
Как приятно не чувствовать себя обязанным пить алкоголь — особенно днем.
— Если мы сейчас разобьем стаканы, то скажем: «Ого! Какой дорогой гранатовый сок». Так что можно ничего не бояться. Чин-чин!
Они осторожно чокнулись стаканами, затем поцеловались. Явно довольные, что оказались в таких роскошных сосудах, гранатовый сок и газированная вода с энтузиазмом шипели и булькали.
— Ты вкуса граната.
— И ты.
Она прикусила его нижнюю губу. Ее рот приоткрылся. Они снова целовались. Ему никогда еще так не нравилось целоваться. Потом — непонятно, по чьей инициативе, — они перегруппировались таким образом, что он целовал ее бедра, а она лизала его живот. Он приподнялся, чтобы она могла стянуть с него брюки. Она вытащила из его трусов член и принялась лизать его по всей длине. Он стянул ее трусики — снова белые — с бедер и снял их, а вот что делать со спущенным до пояса платьем, не знал. Тогда она села и сама сняла его через голову. Ее запах — и его желание — были сегодня сильнее, чем вчера. Он вдохнул этот запах и зарылся лицом меж ее ног. Она перевернулась и оказалась над ним. Капли падали ему прямо в рот. Она села, лаская его соски и плавно двигаясь по его лицу, блестевшему от ее влаги. Он поднял руку и осторожно потянул ее за сосок. Она отстранилась от него, легла на кровать и подняла ноги:
— А теперь трахни меня.
Он протянул руку к брюкам, в кармане которых были презервативы.
— Презерватив не нужен, — сказала она. — У меня есть колпачок. Просто вчера его при себе не было.
Он лег на нее. Его член скользнул в ее вагину, а ее язык — ему в рот.
Он начал двигаться внутри нее. Ничего подобного он доселе не испытывал. Она открылась ему на нефизическом уровне, что лишь усилило чисто физические ощущения их тел, двигавшихся в едином ритме. Он сознавал, что находится внутри нее, но все происходящее слишком напоминало внетелесный опыт. Слово, настойчиво всплывавшее в мозгу потом, когда они лежали в объятиях друг друга, было таким же малоупотребимым, как некогда слова «вагина», «член» и «трахаться». Причастие. Она облизывала свои пальцы, увлажняла их слюной из своего рта и из его, выгибала спину, прижималась к нему бедрами.
— Я кончаю, — сообщила она.
Ее влажный палец проник в него, и мгновение спустя он уже тоже кончал вместе с ней, внутри нее.
Они лежали неподвижно.
— Да, — сказал он, — это было крайне приятно.
— И вправду, — промурлыкала она.
Когда его член выскользнул из нее, они повернулись на бок и обнялись. Джефф незаметно задремал.
Проснулся он через десять минут; его рука онемела под ее шеей. Она тоже просыпалась. Он вытащил из-под нее свою руку, и она покалывала, медленно возвращаясь к жизни.
— Ты самый худой человек, с которым я когда-либо спала, — заявила Лора. — Это как заниматься любовью с гладильной доской.
— На свете наверняка есть такая страна — скорее всего какая-нибудь бывшая советская республика, — очень бедная и страдающая от дефицита обычных бытовых товаров, где то, что ты сейчас сказала, самый большой комплимент, какой только может сделать женщина мужчине. Где бы такое место ни было, я найду его и, если все сложится, перееду туда жить.
— Я сама как раз оттуда, — сказала она, и они снова поцеловались.
Джефф остался лежать, а она встала, чтобы принять душ. Он смотрел, как она идет в ванную: узкие бедра, тонкая, длинная спина. Она спустила воду в туалете, а потом включила душ. Когда она вышла из ванной, завернутая в белое полотенце, настал его черед ополоснуться. Вынырнув из облаков пара, он увидел на ней то же белое платье, в котором она сюда пришла. Он помог ей застегнуть молнию и крючок на самом верху.
Они вышли из отеля и отправились в почти пустую тратторию, которая всего через пару часов будет набита битком, как пчелиный улей. Вина им не хотелось, только минеральной воды. Джефф спросил ризотто, Лора — телячью отбивную.
— Странный и довольно противоречивый выбор, — прокомментировал Джефф. — Хотя я прекрасно понимаю, что после вчерашнего пиршества в Гуггенхайме сама мысль о ризотто может быть невыносима.
— На самом деле, — сказала Лора, — я должна тебе кое в чем признаться касательно вчерашнего вечера.
Внутри у него что-то кольнуло.
— И в чем же?
— Я соврала тебе насчет ризотто. Его не было.
— О нет!
— Я подслушала, как вы с другом о нем говорили.
— Я в ауте!
— Забавно, так сейчас уже никто не говорит. А выражение-то хорошее. Надо бы организовать кампанию по возвращению его в лексикон.
— Ты права. Мы в ауте.
— Так оно и есть!
Пока Джефф наслаждался своим горохово-грибным ризотто — ввиду Лориного признания еще более соблазнительным, — она рассказывала ему про выставку, которую хотела бы когда-нибудь курировать. Много раз наблюдая, как люди уходят из галереи глубоко разочарованные, она решила взять быка за рога и сделать выставку под названием «И это всё?», где были бы представлены творения самых без конца разочаровывающих современных художников. Не прошло и нескольких минут, как проект разросся до целой серии экспозиций, и Джефф с Лорой уже вовсю придумывали к ним названия.
— «То, это и все прочее».
— «Кое-что из ничего».
— «Почти что ничего».
— «Скудный улов».
— Кульминацией же будет симпозиум кураторов и критиков, — вдохновенно продолжила Лора. — Что-нибудь на тему «И как вы вывернетесь на этот раз?».
Было ужасно забавно так вот весело болтать, но Джеффу не давало покоя свербящее чувство, что говорят они не о том, что интересует его превыше всего, а именно как сделать так, чтобы они могли провести остаток жизни вместе. Они заказали еще бутылку минеральной воды. Джефф смотрел, как она ест на десерт клубничное мороженое. Затем они взяли два эспрессо.
После ужина — а есть непоздно, как пенсионеры, было так прекрасно! — они прогулялись по жаркой вечерней Венеции, держась за руки. Джефф где-то читал — это была одна из тех вещей, про которые считают своим долгом сказать все, кто пишет о Венеции, — что это город-нарцисс, вечно глядящийся на себя в зеркало. И все, что он сейчас видел, отражало его — их — чувства. Город сиял отраженным счастьем.
У обоих были приглашения на австралийскую вечеринку в Джудекке. Они заскочили к Джеффу в отель, чтобы он мог переодеться, а затем отправились на набережную Дзаттере, где собирались сесть на вапоретто. Спускались сумерки. В церкви позади них зазвонили колокола, перебивая друг друга, низвергаясь водопадом звуков. Широкое зеркало воды, отделявшее их от Джудекки, темно мерцало, нехотя отдавая поглощенный за день свет. Потом оно померкло, потемнело в цвет неба: сперва в глухо-синий, а дальше в сланцево-черный. Вдали показался вапоретто — и с ним первые звезды.
Они сошли на Паланке, откуда надо было пройти совсем немного. Когда они прибыли на вечеринку, там уже была уйма людей; по крайней мере, на террасе яблоку было негде упасть. Как и в две предыдущие ночи, жара выгнала всех на улицу. Каждые пару минут раздавался хлопок новой бутылки прозекко; беллини лился рекой. Иными словами, все было совершенно как всегда, за тем лишь исключением, что в этот раз Джефф пришел сюда вместе с Лорой, с женщиной, с которой он познакомился на первой вечеринке и переспал после второй. Он подхватил с подноса пару бокалов и передал один Лоре, с которой здоровался кто-то из друзей. С Джеффом уже тоже здоровались — правда, не друзья, а Грэм Харт, арт-критик «Обсервер». Он то ли зависал тут с самого начала, то ли еще до вечеринки успел как следует поднабраться беллини. Было трудно понять, что он говорит; более того, было трудно понять, где заканчивается одно слово и начинается другое. Из его рта извергался недифференцируемый поток того, что явно было речью, но не несло никакой информации. Впрочем, это было не единственное, что извергалось у него изо рта. Говоря, он не просто брызгал слюной, но умудрился плюнуть Джеффу прямо на нижнюю губу. Этот холодный и чуждый сгусток Джефф, будучи человеком воспитанным, не мог так просто взять и вытереть. Сделав это, он бы публично признал тот факт — который оба предпочли проигнорировать, — что Грэм только что на него плюнул. Кроме того, Харт активно потел, больше чем кто-либо из гостей, которые тоже активно потели, и все время вытирал себе лоб старомодным носовым платком.
Постепенно Джефф акклиматизировался к тому, что рассказывал ему Грэм, а именно к подробному отчету о гигантском объеме спиртного, которое ему, Грэму, пришлось выпить за день, однако новообретенная способность к понимаю лишь утвердила его в нежелании слушать это дальше. К счастью, Грэм уже так поднабрался, что ему было совершенно все равно, когда Джефф незаметно покинул его — а может быть, он даже этого не понял. Одной из причин поскорее сбежать было зародившееся у Джеффа подозрение, что он видит перед собой еще одно пророческое зеркало. А что, если он тоже выглядит так, когда напьется? Не был ли Грэм предвестием того, каким он будет еще через пару часов и дюжину беллини? Каким же ужасным, наверное, кажется мир бывшему пьянице, а ныне трезвеннику, исцелившемуся алкоголику, окруженному со всех сторон алкашами и выпивохами! Перспектива эта была столь ужасна, что Джеффа понесло обратно к бару. По дороге туда он налетел на неистовую Монику Вебер, ведущую репортажи о культурных событиях недели на немецком ТВ. Она поинтересовалась, идет ли он завтра на выставку, которую курировал некто Жан-Поль. Джефф напрочь забыл про это шоу, но сказал, что да, конечно, непременно пойдет.
— Я тоже пойду, — заявила она, — но лишь с одной целью: сказать ему, как я его ненавижу.
Это был превосходный план, и Джефф немедленно к нему присоединился. Он тоже будет совершенно счастлив сказать Жан-Полю, как сильно он его ненавидит, хотя, по правде сказать, Джефф не питал к нему ненависти, так как с трудом помнил, кто это такой, а прояснить вопрос не представлялось возможным. Заприметив других знакомых, они с Моникой устремились к ним. В каком-то смысле биеннале походила на «Танец под музыку времени»[102], ужатый до четырех дней: все те же люди, возникающие жданно и нежданно и выглядящие от раза к разу все более несвежими.
Джефф взял себе напиток и двинулся прочь от бара, толкаемый и толкающийся в ответ. Терраса тем временем уже перешла из разряда «очень людно» в разряд «битком набито», так что трудно было выпить свой бокал, не пролив беллини на соседа. Площадь перед зданием, где скапливалось все больше желающих попасть внутрь, была не менее запружена. Джефф как раз поздравлял себя с тем, что находится уже внутри, а не еще снаружи, когда кто-то похлопал его по плечу. Это оказалась Лора, по которой отнюдь нельзя было сказать, что она выглядела несвежей.
— Угадай, что мне только что дали, — сказала она.
— Эээ… беллини?
Она покачала головой и наклонилась к его уху:
— Грамм кокаина.
— Нет!
— Да.
— И как это случилось?
— Встретила друга. Он забыл поздравить меня с днем рождения и решил компенсировать это сейчас.
— Милые у тебя друзья.
— Ну что, попробуем?
— Разумеется.
— Тогда пошли.
Они протолкались через толпу к туалетам. Удивительно, но очереди не было, и никто не заметил, как они забрались в кабинку. Джефф запер дверь и свернул десятиевровую купюру, пока Лора сооружала с помощью кредитной карты две узкие дорожки. Она втянула одну, и он быстро сделал то же самое.
— Отлично, — выдохнул он, расправляя банкноту. — Спасибо.
— Мне, пожалуй, надо пописать.
Неуверенный в том, означало это просьбу удалиться или просто было объявлением о намерениях, Джефф сказал:
— Можно я посмотрю?
Она подняла платье, опустила трусики до колен и, не заботясь более о его присутствии, принялась писать. Джефф просунул руку меж ее ног, чувствуя, как горячая влага бежит по коже. Он был уже готов попросить ее потом, попозже, когда они вернутся в отель, помочиться ему на лицо, но даже на пике кокаинового кайфа успел подумать, что это вполне может оказаться за пределами ее сексуальных предпочтений — на самом деле это могло оказаться слишком даже для него. Он вымыл руку под краном, и они вместе выскользнули из туалета, сияющие, шмыгающие носом и никем не замеченные.
Он и раньше был в неплохом настроении, но теперь, когда по задней стенке его горла стекала химическая струйка кокаина, оно стало поистине превосходным. К сожалению, этот подъем настроения ознаменовался встречей с Чарлзом Хассом, чья рука покоилась в лубке. Джефф собирался познакомить его с Лорой, но она уже оживленно болтала с Ивонн — подругой, с которой она была в вечер их знакомства. Так что Джеффу пришлось остаться с Чарлзом.
— Итак, Чарлз, — сказал он, — как поживаешь? Только кратко.
К сожалению, поживал он так бурно, что о краткости речь тут не шла. Сломанная рука стала последним довеском к длинной цепочке несчастий, простиравшейся в прошлое до их последней встречи, состоявшейся — что? год назад? ну надо же! Сначала его бросила жена. Через шесть месяцев у него умерла мама, а еще через месяц после похорон его на велосипеде сбило такси, и он сломал руку, откуда, собственно, и лубок. И как же он справлялся с такой полосой неудач? Ну, как-то справлялся. Ковылял как мог. Чтобы переставлять ноги одну за другой требовалось все же меньше усилий, чем чтобы просто лечь и умереть. Просто бредешь себе дальше. Пахарь прокладывает последнюю усталую борозду, даже если плуг по жестокой случайности отхватил ему руку по локоть. Что ж, подбираешь ее второй, целой, и стараешься побыстрее оказаться дома, и ни боль, ни неудобство, ни предстоящий курс усиленной физиотерапии тебе не страшат, если — и это весьма большое ЕСЛИ — тебе повезет и руку таки пришьют назад. Просто ковыляешь потихоньку, и все. А что еще делать? Единственная альтернатива — никуда не ковылять. Хотя в целом продолжать ковылять так же просто, как бросить все и сдаться. Пока Чарлз распространялся таким образом о своих бесконечных несчастьях, мысль о том, что за полосой невероятного подъема и удачи, в которую он случайно угодил, последует без всякой передышки что-нибудь подобное, буквально пригвоздила Джеффа к земле, навевая тоску и уныние. Жалость к себе вспенилась гигантской волной и нахлынула на него, грозя сбить с ног.
— Со мной ведь никогда не приключится ничего плохого, правда, Чарлз? — произнес он.
— Нет, уверен, что нет.
— Ты правда уверен?
— Ну, сам понимаешь, никогда нельзя…
— Пообещай! Пообещай мне, что со мной никогда не случится ничего плохого. Я должен быть уверен!
— Обещаю.
— Скажи это всерьез, — не унимался Джефф. — Поклянись могилой своей матери.
Чарлз бросил на него недобрый взгляд. Джефф понял, что зашел слишком далеко, но выбраться из этого водоворота можно было, лишь зайдя еще дальше. Он схватил здоровую руку Чарлза и проникновенно заглянул ему в глаза. Страх, что случится что-то ужасное, к этому времени уже вцепился в него так же крепко, как он — в руку Чарлза. На шутку это уже не походило. Да, началось все с шутки — хотя бы в некотором смысле, — но, увы, таковой не осталось. Многие вещи в жизни начинаются с шуток, а заканчиваются как что-то совсем не смешное. Если не соблюдать хотя бы элементарную осторожность, это несмешное может начаться прямо сейчас. Он мог схлопотать от Чарлза по морде — особенно теперь, когда он отпустил его здоровую руку. Джефф попытался было изменить тактику и взять себя в руки, но все было напрасно. Мысль о том, что Чарлз может дать ему в морду, трансформировалась в ощущение угрозы, в предчувствие, что в ближайшем будущем кто-то непременно врежет ему за то, что он, Джефф, сделал, или, наоборот, не сделал, или должен был сделать, но пренебрег или забыл.
— Штука в том, — сказал он Чарлзу — что у меня просто сил не хватит справиться с чем-то плохим. Я и так вишу на волоске.
— Давай сменим тему, — предложил Чарлз.
— Отличная идея! — обрадовался Джефф.
Мимо как раз проходил официант с одним полным бокалом шампанского на подносе. Джефф схватил его — с рукой в лубке, Чарлз, даже если он того хотел, никак не мог его опередить — и сделал могучий глоток.
— И все-таки, как у тебя дела? — радостно вопросил он Чарлза, вдруг снова придя в отличное расположение духа — настолько хорошее, что первый рассмеялся своей шутке. — Видишь, я извлек урок из твоего примера. Несколько секунд назад я был в серьезной депрессии, но мне хватило упорства вырваться из ее силков. И я рад, что у меня получилось. Я справился, и вот я снова здесь, на этой классной вечеринке, разглагольствую в компании друга, чей стакан, кстати сказать, трагически пуст.
Джефф все равно чокнулся с ним своим полным. Что жизнь? Американские горки, да и только! Он снова чувствовал себя великолепно. В отличие от Чарлза, который выглядел совсем потухшим.
— Ну же, — произнес Джефф. — Я знаю, что пару минут назад вел себя как настоящий нытик, но теперь все отлично, поверь. И я знаю, что по-хорошему мне следовало бы предложить этот бокал шампанского тебе, но тут расклад был пятьдесят на пятьдесят, а я понимал, что в тот момент нуждался в нем больше.
Чарлз развернулся и пошел прочь. Черт, да у него совсем нет чувства юмора! Но впрочем, это было уже неважно, так как ему тут же подвернулась Валери Сакс в приличном подпитии, что-то пьяно втолковывающая стоящему рядом мужчине — Павлу Как-его-там. Они потрясли друг другу руки, но фамилию его Джефф все равно не уловил.
— Он из Польши, — сказала Лора. — Он граф.
— Между нами, — вставил невесть откуда взявшийся Грэм Харт, который едва ворочал языком, — не тот ли это граф, который, всё просрав, приехал к нам сюда?
Граф Павел Как-его-там, похоже, не расслышал эту гнусную ремарку, но Джеффу эта группка собеседников уже наскучила. Тем более что к нему направлялась Лора. О боги, она была умопомрачительно красива, все еще на волне кокаина, а пятнадцать минут назад она писала ему на руку. И вот сейчас это божественное создание подошло и обняло его за талию. Не жизнь, а фантастика! В свете этих двух дней в Венеции все, что было раньше, теперь казалось не напрасным. Он не сделал в жизни ни одной ошибки, потому что все в ней, включая ошибки, привело его в это «здесь и сейчас». В том-то и вся штука. Нельзя выбрать из жизни кусочки получше; нужно брать оптом всю партию, все взлеты и посадки. Но если взлеты будут такими, как сейчас, то можно с охотой подписаться и на все посадки, ибо в сравнении с первым второе стирается, тает, так что после его и не вспомнить.
Пока Джефф третировал беднягу Чарлза, Лору пригласили на вечеринку на яхте. Сама яхта дрейфовала в паре сотен ярдов от места веселья, у Джудекки, и туда уже отправлялась небольшая компания. Хозяином яхты был немец, Джеймс Хофман, и его вечеринки всегда были прекрасны. После тесноты и шума этой, перспектива оказаться на другой, куда меньшей, да к тому же на яхте, выглядела бесконечно привлекательно. Тем более что в последние полчаса запасы спиртного стали заметно истощаться. Не то чтобы Джеффу хотелось еще чего-то выпить, однако сам факт того, что выпивка скоро закончится, сразу лишил праздник всякого очарования. Вечеринка чахла на глазах и, как только это стало заметно, зачахла в рекордные сроки. Пора было ее покинуть.
Как это часто случается в Венеции, яхта оказалась куда дальше того места, где ей надлежало быть. Они уже прошли так много — так что даже пристань вапоретто в Дзителле осталась позади, — что поневоле засомневались, не проглядели ли они ее. Но нет, она была на месте, на приколе у Чиприани, прекрасная и безмятежная.
Они поднялись по сходням и были встречены кем-то из команды, по-морскому белоснежным с ног до головы.
— Разрешите подняться на борт, сэр? — бодро вопросила Лора, отдавая честь. Их впустили без всяких расспросов.
Вечеринка не просто проводилась на яхте, но и в целом была морской по духу. По прибытии на борт гостей просили разуться, а в качестве компенсации выдавали офицерские фуражки.
— Тебе идет, — сказал Джефф Лоре.
— Вам тоже, капитан, — отозвалась она.
Их хозяин, герр Хофман, официально поприветствовал собравшихся на борту судна. Со своей бородой и немецким акцентом, он выглядел как настоящий капитан подводной лодки. Нетрудно было представить его прильнувшим к перископу и обстреливающим торпедами конвой торговой флотилии, нимало не заботясь о спасении утопающих. Впрочем, его судно едва ли можно было назвать тесным. Да и мазутом там не пахло. Это была воплощенная мечта о яхте: более дешевая, чем у Романа Абрамовича, но все равно кошмарно дорогая. Можно было представить ее — что-то во всем этом заставляло Джеффа мыслить штампами из киносценариев — на карибских или средиземноморских просторах с грузом из ожиревших мафиози и шлюх в бикини, попивающих «Кристалл»[103], поедающих на ужин свежевыловленную рыбу, находящуюся под угрозой вымирания, и занюхивающих все это кокаином высшей пробы. Что еще приятнее, сегодня на борту была только международная арт-тусовка: интеллектуалы, художники, знатоки и любители изящных искусств и изящных вещей, то есть как раз те люди, которые любят пить шампанское и нюхать кокаин. По крайней мере, рыбы, находящиеся под угрозой вымирания, могли чувствовать себя спокойно! Кроме того, яхта находилась в двух футах от суши, и с нее можно было сойти в любой момент, что тоже добавляло вечеру приятности. Джеймс был пленительным собеседником в том плане, что все его речи сводились к выражению удовольствия, которое доставляло ему присутствие Джеффа и Лоры на борту его судна. Впрочем, долгого разговора не получилось — кругом было множество других гостей, которых надо было поприветствовать и заверить в том, что они оказали ему большую честь, прибыв на эту маленькую вечеринку.
Загорелый официант, игриво выряженный в белую морскую униформу, предложил Джеффу и Лоре шампанское. С бокалами в руках, они спустились с палубы в салон. Даже на этой относительно просторной лодке Джеффу приходилось пригибаться, чтобы пройти в дверь. Внизу несколько человек танцевали под неспешную музыку.
Приятный побочный эффект от приема запретных субстанций заключается в том, что, раз попробовав их, ты как по волшебству обретаешь доступ в наркотическую реальность. Ты отправляешься на поиски волшебных грибов, бродишь целый час по полю, согнувшись в три погибели, съедаешь те несколько штучек, которые в конце концов находишь, и вдруг оказывается, что они везде, куда ни глянь, так и просятся в руки. То же самое было и тут. Все еще на взводе после дорожки, которой они порадовали себя на предыдущей вечеринке, Джефф и Лора болтали с хозяином в салоне, когда он поинтересовался, не сопроводят ли они его в спальню, чтобы отведать «немножко кокоса». Там уже было четверо или пятеро человек в фуражках, удобно устроившихся на огромной белой кровати или в креслах, болтающих, смеющихся, пьющих шампанское. Джеймс пропустил Джеффа и Лору внутрь и тщательно запер за собою дверь. В ногах кровати лежало зеркало с небольшим количеством порошка, гостеприимно организованного в три дорожки, две из которых предназначались Джеффу и Лоре. Они вежливо оставили самую длинную хозяину, но ввиду его аппетитов этого, похоже, было недостаточно, ибо он тут же дополнил ее еще одной, более длинной и широкой. С шумом вдохнув в себя обе, Джеймс вновь сообщил им, что страшно рад видеть их на борту своей яхты, но, если они его любезно извинят, ему нужно уделить внимание другим гостям. На этом он встал и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Это уже не просто наркотическая реальность, восторженно думал про себя Джефф, это реальность, неотъемлемым элементом которой являются яхты. Я — часть яхтово-наркотической реальности! И это просто чýдная реальность. Настолько прекрасная, что Джефф не мог понять, хочется ли ему быть тут, в спальне, танцевать в гостиной или стоять на палубе, наслаждаясь жаркой морской ночью. Лора оказалась более решительной. Она взяла его за руку и предложила вернуться к гостям. Они улыбнулись на прощание тем, кто никуда не торопился, и вышли, тщательно, как Джеймс до них, прикрыв за собой дверь.
Они поднялись на палубу. На черной воде мерцал Сан-Марко. Яхта тихонько покачивалась. Джеймс, улыбаясь, подошел к ним, обнимая за плечи мужчину в белой ковбойке и темных джинсах, выглядевшего на этой тематической морской вечеринке несколько странно. По идее хозяина яхты должно было уже буквально распирать от кокаина, но внешне это проявлялось лишь в еще большей формальности и корректности его поведения.
— Вы позволите мне представить вам мистера Троя Монтану?
Джефф почти ожидал, что за этой фразой последует непременный щелчок каблуками. (Возможно, единственное, что помешало Джеймсу это сделать, была палубная обувь на резиновой подошве.) Не то чтобы в нем ощущалась какая-то скованность. Напротив, Джеймс чувствовал себя вполне непринужденно — просто непринужденность его выражалась в любезности, какую редко встретишь в наши дни, особенно среди тех, кто взвинчивает себя кокосом. Может, это и есть вершина европейского изыска? Или же, что, в общем, то же самое, он был одним из тех, кто нюхает кокаин, чтобы расслабиться? (Джеффу доводилось пару раз встречать таких людей.) Мистер Монтана, чей туалет вполне соответствовал если не стилю вечеринки, то уж точно его фамилии, держал в руке бутылку шампанского, из которой он наполнил уже опустевший — да как быстро! — бокал Джеффа.
— Итак, Трой, вас пригласили на эту вечеринку, или вы нелегально проникли на борт на своем деревянном коне? — не преминул запоздало сострить Джефф.
Как всегда, он тут же забеспокоился, что его слова прозвучали не столько остроумно, сколько грубо. Впрочем, кто его знает. Сейчас все было как-то размыто по краям. Главное, не допустить, чтобы и в центре все стало нечетким. Трой не улыбнулся, но и не обиделся. Возможно, он даже не расслышал. Судя по тому, как он все время шмыгал носом, он тоже насладился гостеприимством Джеймса и был не расположен напрягать свой слух. Он был куратором и на следующие выходные ехал на Документу[104], а еще через неделю — на Арт-Базель… или наоборот. Оттуда, где стоял Джефф — на яхте посреди Венеции, — эта перспектива выглядела просто блестящей: еще два уик-энда, как тот, что сейчас! Да, и мне того же. Он попросил Троя повторить название его галереи, но оно тут же вылетело у него из головы. Джефф вообще имел особенность тут же забывать все, что ему говорили, даже если говорившим был он сам. Впрочем, сейчас это было неважно. Тем более что Трой предлагал спуститься в салон и посмотреть, что там творится.
Музыка играла уже потяжелее и пофанковее, чем раньше. Лора сказала, что ей нужен стакан воды. По дороге к буфету их перехватил Джеймс и вновь заманил в спальню. Там все было как раньше, только свет слегка приглушили. Когда Джеймс начал делать новые дорожки, Лора предложила использовать ее запасы, но эта инициатива была немедленно отвергнута.
— Ни в коем случае, — заявил хозяин, вынюхав дорожку. — Доставьте мне удовольствие. Прошу вас.
Вот уж воистину ходячая реклама цивилизующего влияния кокаина!
Лора воспользовалась любезным предложением, и Джефф последовал за ней, побуждаемый аппетитом, который и без того уже был вполне удовлетворен.
Джеймс познакомил их кое с кем из присутствующих, в том числе с парой, сидевшей вместе в одном кресле и до того момента страстно целовавшейся. Впрочем, к тому, что их прервали, пара отнеслась весьма благодушно. Джефф чокнулся с ними и пожал руки еще нескольким людям в пределах прямой досягаемости. Безупречный формализм хозяина оказался заразителен, и Джефф невольно ему подражал. В таком ключе беседа текла куда легче, позволяя полностью сосредоточиться на невероятном кокаиновом приходе, который он в данный момент ощущал. Правда, сосредоточившись на нем, он тут же страшно захотел поведать миру о своем невероятным кокаиновом приходе — еще немного, и он начнет скакать туда-сюда, как Марадона на неаполитанском матче. Его сердце дико колотилось, колени подрагивали, но присутствие Джеймса вынуждало Джеффа вести себя так, словно он только что вышел с целительского сеанса в эксклюзивном спа на Тихоокеанском побережье. Через закрытую дверь доносилась музыка — глубокий, но ненавязчивый ритм; слышались смех и речь на нескольких языках. Он расчистил на кровати место для Лоры, чья фуражка была лихо заломлена на затылок. Целовавшаяся в кресле пара вновь обратилась друг к другу. В дверь постучали, и молодая женщина неопределенной национальности вошла и пристроилась на кровати рядом с Джеймсом. Атмосфера балансировала на грани расслабленного зависания в незнакомой компании под экстези в необычно роскошном чилл-ауте и откровенной чувственности, грозящей в недалеком будущем перетечь в секс-вечеринку. В любом случае, Джефф был слишком взвинчен, чтобы выяснять, чем все закончится. Они с Лорой вернулись обратно в салон, где танцевало с дюжину человек, в том числе и ковбой Трой. Музыка гремела громче прежнего. Глаза у Лоры сияли. Ее босые ноги легко порхали по разноцветному восточному ковру, служившему танцполом. К ним присоединился еще кое-кто из гостей, и вскоре у них образовалась теплая танцевальная компания.
Танец выветрил из Джеффа навязчивую рассеянность, навеянную коксом, и после еще одного бокала шампанского и пары дискуссий (из которых он все равно потом не помнил ни единого слова) он опять стоял на палубе, а вокруг все пили и болтали. Он облокотился на перила и стал смотреть на окантованный огнями горизонт, словно неся вахту на мостике эсминца. Неподалеку стояла женщина в поблескивающем зеленом платье. Они обменялись улыбками, но не заговорили. Черные воды плескались светом, отражая звезды. Ночь была густой от зноя. Мимо промчался катер, всколыхнув яхту, которая потом еще долго чуть покачивалась. В отличие от травы, кокаин не прибавлял моменту лиризма — и вообще был не о том, — но Джефф без конца возвращался к мысли: если это не лучшие минуты моей жизни, то я уж и не знаю, что еще… Мне невероятно хорошо, говорил он себе. Так хорошо, как еще никогда в этой гребаной жизни! Последние шесть или сколько там часов стали сгустком всего, чего он когда-либо хотел от этой самой жизни. И в самом деле, что еще? Главное, что ты понятия не имеешь, что тебе уготовано и что случится завтра. Боже, да он дожил до философии Тома Хэнкса — местами «Форест Гамп», а в остальном «Изгой»[105]. Кокс, конечно, прекрасен, думал Джефф, но глубоких мыслей от него не дождешься. А с Томом Хэнксом штука в том, что все его фильмы — ну, не то чтобы все, а самые смысловые, — на самом деле о стремлении вернуться домой. «Спасти рядового Райана», «Изгой» и «Аполлон 13», который вообще вознес этот вопрос до уровня универсальной истины. И в этом, собственно, их главный недостаток, поскольку жизнь — она скорее про то, как не хочется возвращаться домой, даже если вместо этого придется отправиться в открытый космос. Кстати, возможно, действительно пора отправляться — в отель. Но уходить пока что не хотелось. Джеффу по-прежнему было дико хорошо, хорошо, как никогда в жизни, или, по крайней мере, он так думал. Может, он и в самом деле хотел уйти. Может, наслаждаясь жизнью или думая, что наслаждается жизнью, он уже был готов насладиться ею как-то иначе. Все еще чувствуя кокаиновый драйв, Джефф в то же время сознавал, что драйв этот уже не такой запредельный, не такой, каким он был еще совсем недавно, когда он был куда сильнее, чем Джефф того хотел, — и именно о спаде этих ощущений он теперь в каком-то смысле сожалел. Эти постэйфорические симптомы действия кокса, когда каждый импульс мгновенно превращается в свою противоположность, были ему знакомы. Теперь главное — вообще не думать никаких мыслей, чтобы не провалиться в некий сон наяву, подобно кусающей себя за хвост собаке. И как это люди умудрились подсесть на кокаин? Он даже не был уверен, что тот ему нравится — хотя если тебе что-то не нравится, это вовсе не значит, что ты этого больше не хочешь. Он несколько раз прогнал эту сентенцию через мозг, пытаясь распутать узлы, в которые она сплелась. После чего поднял свой бокал шампанского и поглядел сквозь него на зеленоватый и пузырящийся Сан-Марко, похожий на затонувший город. Сделав большой глоток и лихо заломив фуражку как какой-нибудь проспиртованный хемингуэевский забулдыга, Джефф облокотился на перила. Джеймс, снова вынырнувший из спальни, любезничал с гостями. Среди них была и Лора, болтавшая с каким-то парнем примерно Джеффова возраста в светлом льняном пиджаке. Завидев Джеффа, она направилась к нему.
— Позвольте прочесть вам небольшую лекцию о льне, — сказала она. — С определенного возраста он заставляет мужчину выглядеть на десять лет моложе. Но до этого возраста он заставляет его выглядеть на десять лет старше.
Аксиома была превосходной, но сопутствующие пониманию арифметические сложности его немного удручили. Предприняв краткий ментальный обзор своего гардероба, Джефф с облегчением обнаружил, что ни единой льняной вещи в нем не было. Возможно, эта инвентаризация заняла чуть больше времени, чем он предполагал.
— …не пора ли нам двигаться к дому? — как раз говорила Лора.
— А который сейчас час? Ой, у тебя же тоже нет часов.
— Три. Я только что спрашивала.
— Три? Как это мы так припозднились? Пошли!
— А тебе хочется?
— Не знаю. А тебе?
— Мне хочется одновременно и остаться, и уйти.
Они решили уйти, хоть и не знали, хотелось ли им того. Они отыскали Джеймса, который снова поблагодарил их за то, что они почтили своим присутствием его скромный сабантуй. Лора протянула ему свою фуражку, но Джеймс сказал, чтобы они оставили их себе в качестве сувениров. Наконец они спустились по трапу и нетвердой походкой двинулись вдоль по набережной, как сошедшие на берег матросы, которых интересуют только драки, шлюхи и наколки.
Джефф обнимал Лору за плечи. Ночь была безлунной. Возможно, это были как раз те дни, когда светила на небе не видно. Его отсутствие навело Джеффа на мысль о том, что и днем на биеннале его нигде не было.
— Знаешь, чего сегодня не хватало в Арсенале?
— Чего?
— Фотографий Луны и космоса. Это то, что мне нравится больше всего. Картинки из архива НАСА, программа «Аполлон», выходы в открытый космос, лунные модули, восход Земли. Голубой шарик на фоне черноты Вселенной.
Замечание было верным, несмотря на то что разговор из-за него сошел на нет.
Они совершенно не подумали о том, как вернутся домой, на материк, если можно так выразиться. На Зителле они сверились с расписанием и после долгих и сосредоточенных раздумий пришли к выводу, что вапоретто должен прибыть через двадцать минут. Это значило, что раз уж гулять было так приятно, то они вполне могли пройтись пешком до следующей остановки, Реденторе. И они двинулись дальше, в обнимку, периодически стукаясь бедрами. Темная вода плескалась о берега канала. Над головой серебристо и стремительно промелькнул спутник.
Когда они пришли на Реденторе, почти одновременно с вапоретто, там уже собралась целая толпа народа.
Они уселись снаружи, на самом носу. Еще одна тихая, ясная ночь. Лагуна была неподвижной, темной и гладкой, как зеркало. Ветер, образовывавшийся от движения вапоретто, овевал их лица жаром. Казалось, что они летят на открытой космической станции, оставляя позади шлейф трепещущих звезд.
Наутро они вернулись туда, где завтракали накануне и где Джефф ел за день до того, в свое первое утро в Венеции.
— Ничего не могу с этим поделать, — сообщил он Лоре по дороге. — Я запрограммирован все время возвращаться в одно и то же место. И в идеале — за один и тот же столик. Который как раз сейчас свободен.
Они уселись. Солнце радостно поблескивало на металлических стульях и посуде. Утром Джефф провел десять минут в ванной, промывая, продувая и прочищая свой нос с тем, чтобы он снова заработал. К тому же у него болела голова. Не будь он так счастлив, чувство раздражения, вызванное усталостью, и комплексное похмелье непременно взяли бы над ним верх (сон после кокса — если вообще повезет заснуть — не имеет ничего общего с отдыхом, так как мозг, хоть он и считается спящим, продолжает лихорадочно работать). Лора же выглядела прекрасно, словно совсем не устала — по крайней мере, ему так казалось. Милым, подобающим жене жестом она пододвинула ему газету, но, увы, печать оказалась слишком черной, а бумага — слишком белой, чтобы Джефф мог насладиться чтением.
— Капитан Джеймс был роскошен, — сказал Джефф. — Примерно полгода после реабилитационного центра для наркоманов?
— Если так, — сказала Лора, — то это лучшие полгода для знакомства с ним.
Они заказали еще воды, еще кофе и пару стаканов апельсинового сока. Однако гвоздем меню стал аспирин, который Лора достала из своей волшебной сумки.
После завтрака они отправились к ней в отель, чтобы она могла переодеться. Джефф воспользовался ванной и улегся на кровать, глядя, как Лора раздевается, а потом одевается. Самочувствие его постепенно улучшалось. Она надела синее платье с воротником хомутиком, оставлявшим спину почти голой.
— Ты готов?
— Это, пожалуй, слишком сильно сказано, но где-то в глубине души, наверное, да.
Джефф встал, сунул ноги в сандалии и вышел вслед за ней.
Кругом была масса связанных с биеннале мероприятий, ни на одном из которых они еще не были. К счастью, то, куда они особенно хотели попасть, «Красное превращение» Джеймса Таррела[106], было ближе всего — рядом с Риальто. Проект был частью крупной экспозиции, но все остальное они спокойно пропустили и встали в очередь в темную комнату.
На первый взгляд это выглядело просто как нарисованный на тусклом фоне красный прямоугольник, который как будто чуть светился. Но когда они сели и стали на него смотреть, он начал меняться, причем так незаметно, что совершенно нельзя было сказать, когда и как он это делает. Красный стал каким-то другим красным — не то чуть темнее, не то чуть ярче, не то еще каким. Нет, форма осталась той же, но по мере изменения цвета его углы становились менее резкими. В этой изменчивой красноте был свой внутренний ритм. Поверхность же картины была совершенно плоской и бесконечно красной. Они сидели молча. Время медленно таяло, измеряемое исключительно градациями света и цвета — пурпурный, темно-пурпурный, пурпурный, который уже почти синий, а потом и вправду синий… Они сидели, наверное, футах в десяти от света, но никакого расстояния между ними не существовало. Цвет и свет буквально касались их. Начался новый цикл. Они встали и потрогали плоскую поверхность красного, но их руки ничего не встретили. У этого источника света не было ни дна, ни сторон — они ощущали только свои руки, зависшие в меняющемся, текучем красном, который уже был даже и не красным. Иллюзия, но даже будучи иллюзией — и именно в силу этого — не менее реальная, чем любые другие, совершенно не иллюзорные вещи.
Они вышли наружу вконец дезориентированные. Квадрат алого света все еще пульсировал у Атмана в голове, когда они садились на вапоретто у Риальто. Они не знали, куда тот идет, и это превратило водный трамвайчик в круизное судно. О Тарреле не было сказано ни слова.
В первый раз со времени приезда Джеффа в Венецию появились кондуктора и принялись проверять у всех билеты. Оказаться владельцем действительного трехдневного проездного вдруг стало чем-то вроде подвига, которым вполне можно было гордиться.
— При желании мы можем провести на вапоретто целый день, — самодовольно заявил Джефф.
— Можем, — согласилась Лора, — но в этом случае наверняка помрем: а) от скуки; б) от морской болезни.
Они протарахтели под мостом Академии, миновали Гритти, Гуггенхайм и Сан-Марко. Затем оставили позади Джардини и вышли в лагуну, где, возможно, начиналось настоящее море. Небо и море распахнулись во все стороны. Над головой кружили чайки. Вапоретто словно бы играло в догонялки с собственным кильватером. Пару раз о борт плеснули маленькие волны, оставшиеся от лодки, плывшей в противоположном направлении. Маршруты отмечали причудливые буи. С одного из них явно кто-то нырнул — под водой все еще виднелись ноги. Возле другого из моря вздымалась рука ярко-красного цвета; все это были, конечно, арт-объекты, скульптуры в натуральную величину.
Время от времени Лора заглядывала в карту. Наконец она заявила, что им нужно сойти на следующей остановке.
— А что там такое?
— Сан-Микеле, — ответила она. — Кладбище.
Теперь его было видно. Точь-в-точь «Остров мертвых» Бёклина[107], но только симметричное и аккуратное — и совсем не зловещее.
После вапоретто земля качалась у них под ногами. Лора раскрыла свой лимонный зонтик, который светился в ярком свете дня как второе солнце. Все женщины наверняка хотят, чтобы у них был зонтик от солнца, а все мужчины — быть с женщинами, у которых он есть. Они прошли в ворота, вступив в пределы изогнутых стен острова. Внутри пространство кладбища было явно больше, чем могло показаться снаружи. Кругом теснились утопающие в цветах могилы.
— Тут похоронен Дягилев, — сказала Лора. — И Стравинский.
Первый указатель, который они увидели, был к могиле Эзры Паунда[108]. В поле белой стрелки, показывавшей направление, кто-то приписал черным маркером: «И. Бродский». Строго говоря, это было граффити, но весьма цивилизованное. Формально вас отправляли к Паунду, но некий неизвестный доброжелатель любезно взялся уточнить канон, пусть даже и партизанским методом. Так что Паунд теперь неизбежно вел к Бродскому. Джефф в жизни не читал Бродского, но знал, что это большая величина, и понимал, что для многих сейчас он куда интереснее Паунда. На следующем попавшемся им по дороге знаке под именем Паунда опять стояло «И. Бродский».
Тем не менее первой они увидели могилу Паунда. Это был плоский камень с латинскими буквами: EZRA POVND. Довольно много цветов. Посмотреть на могилу знаменитости всегда приятно, даже если эта знаменитость тебя не очень-то интересует — но в наши дни действительно сложно было представить себе какого-нибудь страстного любителя Паунда, разве что среди филологов. А может, он, Джефф, в этом мало что смыслил, может, сердца отдельных юношей и по сей день пылают модернизмом, стремлением сделать всё по-новому, пусть даже никто не знает, что это за «всё».
Бродский и вправду был поблизости — на расстоянии плевка. Надгробный камень с именем на русском и английском и годы жизни: 1940–1996. Тут все было не то чтобы откровенно замусорено, но все же похоже на могилу Джима Моррисона на парижском Пер-Лашез. Несколько свечей-таблеток с остатками парафина на донышке, открытки с посланиями. Лора подняла одну из них. С одной стороны был вид Большого канала, с другой же буквы почти совсем расплылись от влаги и выцвели от солнца. Рядом, на желтом стикере, все стерлось до неузнаваемости. Было уже не разобрать не только слов, но даже на каком языке они были написаны. Возле камня стоял маленький синий стаканчик, полный шариковых ручек и карандашей — все ужасно грязное. Один-два, постаравшись, еще можно было пустить в дело. На стихотворение их бы явно не хватило, а вот на номер телефона — вполне.
Лора порылась в сумке и поставила в стакан сверкающую новенькую ручку. Теперь кто-то сможет написать побольше. Она даже добавила пару страничек из своей записной книжки. Будущее было чистой страницей, готовой отдаться всякому, кто придет после Бродского с желанием что-то сказать.
— В Индии тебя постоянно преследуют дети, — задумчиво сказала Лора. — Они все время просят «школьную ручку», это все, что они знают, как сказать. И просто повторяют с вопросительной интонацией: «Школьная ручка?» Это очень мило, даже трогательно, если у тебя есть ручки для раздачи. Если же нет — ты чувствуешь себя жадным, как Скрудж[109].
Они пошли дальше. Под зонтиком было жарко, но все же не так, как снаружи. Дягилев и Стравинский оказались соседями. Могила Дягилева тоже явно была местом паломничества, но в несколько ином виде. На могиле поэта оставляли ручки; здесь вместо них оставляли балетки. Всего их было три — две левых и одна правая. И конечно, море записочек. Могила Стравинского была пустой и голой: никто не оставил там ни скрипки, ни пианино.
На набережной они подождали вапоретто. Не без труда втиснувшись в кормовой отсек, они глядели, как остров мертвых ускользает вдаль. Через несколько минут от него не осталось ничего, кроме тонкой ниточки земли в окружении моря и знойного неба.
Они сошли на Джудекке, едва поспев на ланч — буквально через пару минут ресторан прекратил принимать заказы. Официант посадил их за столик под зонтом прямо у края воды — идеальная обстановка для феноменально посредственной еды. Салат представлял собой порцию уже явно отвергнутого кем-то латука с половинками помидоров и пригоршней тертой моркови. Пенне[110] с томатным соусом походила на блюдо, которое можно самому приготовить из пакетика за десять минут, — Джеффа в детстве кормили чем-то подобным. Более непритязательную трапезу трудно было даже представить.
Они попросили счет. Мимо проследовала баржа, груженная бетономешалками и большим краном. За ней тащился паром величиной с целый квартал — такой мог заслонить собой всю «материковую» Венецию. Это океаническое судно противоречило своими размерами окружающей реальности; вряд ли можно было представить себе что-то еще больше. На его борту были машины, автобусы, грузовики. И люди — целый плавучий город. Буквы на боку — «МИНОЙСКИЕ ЛИНИИ» — наверняка можно было разглядеть из космоса.
Волны, порожденные этим монстром, атаковали набережную. Джефф и Лора шли по ней рука об руку мимо рыбаков, чьи позы говорили об отсутствии всякой надежды что-то тут поймать. В голове Джеффа проплыла мысль с легкой восточной окраской: лишь тогда можно стать хорошим рыбаком, когда сама мысль об улове покинет твой разум. Или же для этого нужно реинкарнироваться в треску или дельфина — желательно того, что у Лоры на заднице. Вода, мимо которой они шли, сверкала и поблескивала. Кто это там сказал, что не все то золото, что блестит? Он был чертовски прав, ибо позолоченная солнцем вода сверкала так, что впору было подумать, будто кроме сверкания она ни на что не способна. Но это, конечно, было не так — она качалась и волновалась, и действия эти порождали сверкание. Пока они ждали вапоретто, Джефф вдруг вспомнил, что у него с собой есть камера.
— Можно я тебя сфотографирую?
— Естественно.
— Я совсем про нее забыл. Надо было снять тебя на могиле Бродского.
Лора стояла у кромки воды. Без зонтика.
— Сделай что-нибудь. Ну, не знаю, какой-нибудь жест.
— А так плохо?
— То, что ты там просто стоишь, — это не жест.
Или все-таки…
— А так? — Она даже не шелохнулась.
— Идеально!
Он нажал на кнопку и сделал снимок. Она стояла там в своем синем платье на фоне синей воды. Он показал ей то, что получилось. Она глянула без всякого интереса.
— Тебе не нравится, когда тебя фотографируют?
— У меня как-то был бойфренд, который все время снимал меня на фото и на видео. Это было так скучно.
При упоминании бойфренда Джефф ощутил укол ревности. Хотелось бы, однако, взглянуть на фотографии, сделанные этим самым бойфрендом. Приметив мужчину с куда более дорогой камерой на шее — у нее был громадный объектив, а на ремне надпись большими четкими буквами: «Кэнон», — Джефф спросил, не согласится ли тот сфотографировать их с Лорой его собственным скромным аппаратом. Они сняли очки и стояли, улыбаясь и держа друг друга за талию, пока фотограф делал снимок с куда большей тщательностью, чем это было нужно. Мимо пролетела стая птиц. Щелкнул затвор. Джефф поблагодарил фотографа и взял у него камеру. Кадр был совершенно заурядный — просто еще одна пара в Венеции, улыбающаяся, с очками в руках, на фоне неба и воды, — всего лишь подтверждение того, что да, они были тут вместе и выглядели именно так.
На материке Лора предложила пойти в Гритти и что-нибудь выпить. По дороге туда Джефф осознал то, что до сих пор от него ускользало: вездесущность Вивальди. «Времена года» доносились из церкви. Их же играл уличный музыкант. Невозможно было пройти и пятисот ярдов без того, чтобы не услышать хоть одно время года.
— А Вивальди что, родом из Венеции? — спросил он у Лоры.
— Даже если нет, они с лихвой компенсируют этот пробел.
— Так можно всерьез возненавидеть Вивальди.
— Так можно всерьез возненавидеть Венецию.
В Гритти только что освободился столик, и они уселись на террасе. Отсюда открывался великолепный вид — особенно на сновавшие мимо лодки, набитые людьми, фотографирующими привилегированное меньшинство — жующих сигары мужчин и упакованных в «Прада» женщин, — счастливчиков, которые могут пить коктейли на террасе Гритти. Было тут, правда, и несколько людей помоложе, менее состоятельных с виду, с каким-нибудь одним баснословно дорогим напитком, но зато вовсю угощающихся бесплатными орешками. Джефф подумал было взять кампари с содовой, но потом, как всегда, заказал пиво. Бокалы прибыли в сопровождении маленьких тарелочек, на которых красовались горсть больших зеленых оливок, арахис, несколько сырных чипсов и три экзотических канапе: сашими с черникой, помидор с моцареллой (более привычный вариант) и икра с огурцом — все на круглых католических облатках. Каждые пару минут к ступеням подкатывали такси, из которых царственно выходили люди, мельком появлялись на террасе и исчезали внутри здания. То была утонченность проверенной временем старой scuola[111]. Беседы в этих условиях сводились к приятному многоголосому шелесту и междометным поддакиваниям. Обычно приходится повышать голос, чтобы перекричать громкую музыку, но здесь его приходилось приглушать вровень с мягким джазом, тихо игравшим в колонках — не громче жужжащего над ухом насекомого. И все же было приятно сидеть тут, глядя через канал на террасу Гуггенхайма, где два вечера назад они чокались беллини и глядели сюда, на Гритти. После всех этих вечеринок было даже как-то непривычно сидеть в баре, где за напитки нужно платить, особенно если их можно будет списать потом на представительские расходы.
— Только не оборачивайся сразу, — сказала Лора. — Там приехали Джей Джоплинг и Дэмиен Херст[112].
Джефф подождал для приличия пару секунд и затем обернулся, чтобы взглянуть, как эта всемогущая пара вступила на террасу, а затем проследовала внутрь. Тем временем по каналу приплыл какой-то человек в сандоло — он стоял в нем и одновременно греб веслом. Джефф знал, что это именно сандоло, так как Моррис в своей книге любезно снабдила его перечнем всевозможных плавсредств, бороздящих воды Венеции. Лора сказала, что такое часто можно увидеть на Ганге, — тем более что загорелый гребец был наголо брит и одет в свободный белый наряд. Он двигался медленно, но верно, ничуть не заботясь о более крупных судах, спешащих мимо в обе стороны. Правда, отсутствие в лодке сиденья все равно выглядело как абсурдный недосмотр. Непонятно было, почему его нет, если оно явно было бы там очень кстати.
Не надеясь больше увидеть Херста и Джоплинга (которые и правда больше не показывались), Джефф с Лорой расплатились и отправились пешком к нему в отель. По дороге они купили связку бананов и съели их — по два банана каждый, — сидя на низком парапете неизвестного канала. Несмотря на дикую жару, внутри бананы были прохладными.
— Ты похож на обезьяну, — сказала Лора, глядя, как он ест.
В отеле она почистила зубы дежурной щеткой, которой пользовалась в первую проведенную здесь ночь. Джефф улегся на кровать. На телефоне мигал красный огонек — новое сообщение.
— Знаешь, — сказала Лора, выйдя из ванной, — у нас же все еще есть кокс, подаренный мне Мартином. Хочешь?
— Разумеется.
Она порылась в сумке и сделала две дорожки на прикроватном комоде. Джефф видел ее лицо в зеркале над комодом и безо всякого зеркала — затылок, волосы, спину, ноги, зад. Она отошла и сделала приглашающий жест. Он втянул одну тоненькую дорожку и снова сел на кровать. Лора наклонилась, так что тонкая ткань платья обтянула ягодицы.
— На что это ты там смотришь? — спросила она, выпрямляясь.
— Если одним словом — на тебя. Если тремя… — Он замялся.
— Ну?
— На твой зад.
Она снова наклонилась и занюхала вторую дорожку. Джефф поднял глаза и поймал ее взгляд в зеркале. От кокса вкупе с темой разговора его сердце тяжело стучало. На скошенном краю зеркала вспыхнула разноцветная полоска спектра.
— И о чем же ты думал, пока смотрел? — спросила она. Их диалог происходил через зеркало. Разговаривали не они, а их отражения, живущие своей независимой жизнью.
— Я думал, что хочу подойти к тебе и положить руки по краям твоего платья, возле самой кромки.
Он встал, подошел к ней и положил руки по краям ее платья, чувствуя ладонями ткань. Он прижался к ней членом, она чуть подалась назад.
— А потом я медленно, очень медленно поднял бы тебе платье…
Дюйм за дюймом платье поднималось, открывая ее загорелое тело.
— …пока не увидел первый проблеск белья.
Когда платье скользнуло выше бедер, его взору предстали голубые хлопковые трусики. Они стояли молча, не двигаясь. Он поднял взгляд и увидел, что она смотрит ему прямо в глаза, которые тут же вновь сосредоточились на маленьком темно-голубом треугольничке, исчезающем меж ягодиц. Он чуть наклонился, чтобы погладить тыльную сторону ее бедра.
— Затем… — продолжал он, лаская внутреннюю поверхность ее ног, подбираясь все ближе к голубой ткани, но не касаясь ее самой, — я бы встал на колени, чтобы мое лицо оказалось вровень с твоим задом.
Он опустился вниз; его лицо остановилось в дюйме от нее. Он протянул руку — ее трусики были мокры. Одним пальцем он отодвинул их в сторону. Она еще сильнее наклонилась вперед. Он слегка раздвинул ее ягодицы ладонями. От зрелища ее ануса, тугого, почти без волосков, его член стал еще тверже. Он несколько раз лизнул ее зад, потом снова развел ягодицы и протолкнул язык внутрь, чувствуя, как пульсирует ее сфинктер. Она подалась назад, к нему. Он держал ее за бедра, зарываясь в нее лицом, проникая в нее языком. Никакого вкуса он не ощущал. Она запустила пальцы себе в трусики. Он расстегнул брюки.
— Трахни меня вот так, — сказал она.
Платье упало на пол, и она вышла из него. Он встал и снова увидал в зеркале ее лицо, ее грудь. Его член проскользнул внутрь нее. Когда она наклонилась еще сильнее вперед, он больше не мог видеть ее лица, а лишь ниспадающий поток волос и спину. Она расставила ноги еще шире и снова запустила руку между ними. Он потер пальцем ее влажный анус. Она еще сильнее прижалась к нему. Он осторожно ввел палец внутрь, ощущая тугую пульсацию, и они вместе кончили.
Они немного постояли без движения. Он открыл глаза. Ее лицо снова всплыло в зеркале.
— Давай ляжем, — сказала она.
Они растянулись на кровати, расслабленные после секса и все еще пьяные от кокаина. Было трудно понять, что им теперь делать. В обычных обстоятельствах можно было бы уснуть, но сейчас об этом не могло быть и речи, так что они просто лежали и молчали. Потом Лора встала и сказала, что хочет принять ванну. Что было отличной идеей. Пока набиралась вода, она открыла мини-бар.
— Тут есть бутылочка белого вина, — сообщила она. — Не желаешь?
Эта тоже было отличной идеей. Все еще нагая, она открыла бутылку и наполнила два стакана. Джефф разглядывал ее с головы до ног.
— Какая жалость, что с нами нет наших специальных стаканчиков, — сказал Джефф.
Тем не менее они благополучно чокнулись тем, что оказалось под рукой.
— Да уж, — сказал Лора, удаляясь в ванную, — иногда приходится пить из банок от варенья.
Джеффа вдруг потянуло написать хотя бы немного о биеннале, и он вскочил с постели. Импульс, правда, испарился, стоило ему сесть за стол и открыть лэптоп. Он был полон восторженных эмоций, но мозг его был прохладен и пуст; мысли неслись через него стремительным потоком, и лишь одна не отпускала ни на миг — мысль о Лориной заднице. Чем же так манит нас женский зад? Откуда берется это непреодолимое желание засунуть туда палец, член, язык? В содержимом задницы нет ничего приятного — оно ужасно и противно, но вот само вместилище… Быть может, ему стоит написать небольшое эссе — как раз на пять сотен слов — о том, что современный мужчина любит больше куннилингуса одну только вещь — лизать женский зад. Он чувствовал себя римским императором в век сервисного обслуживания. Ему пристало бы сейчас бить себя по-тарзаньи в грудь, но Джефф ограничился тем, что включил телевизор. То была уникальная свобода, высший шик отельных комнат: не возможность среди бела дня заняться сексом, не римминг и не кокс, но право в любое время включить телевизор и смотреть что угодно (хоть там и нечего смотреть), не мучась ни стыдом, ни угрызениями совести. Проводи Атман побольше времени в отелях, он в жизни не раскрыл бы уже ни одной книги. Если бы все на свете жили в номерах, то книги отошли бы в прошлое — люди утруждали бы себя лишь чтением меню рум-сервиса. Он щелкал каналами, пока не наткнулся на нарезку хроники спортивных катастроф: лыжники, кувыркающиеся по склонам, матадоры, повисшие на рогах у быка, мотоциклисты, переворачивающиеся в воздухе на полной скорости. Зрелище выглядело таким привлекательным не из-за страдающих людей. Нет, в членовредительстве не было ничего приятного. Но вот в моменте полета, пока человек еще не приземлился на землю бесформенной кучкой, определенно присутствовало нечто идиллическое. Если бы земля была не такой твердой или гравитация — не такой всесильной, как было бы забавно, когда тебя подбрасывает на двадцать футов вверх в результате оплошности на трассе или треке… Но даже телик, к которому люди прибегают сплошь и рядом, когда они не в состоянии концентрироваться, не мог удержать его внимания. Он встал и посмотрел в окно на скопище крыш, на незримую гравитацию неба. Лора окликнула его из ванной, спрашивая, который час и когда им нужно выходить. Черт, уже шесть! Им нужно выйти через полчаса, крикнул он в ответ. Весь сегодняшний день был похож на каникулы или даже на медовый месяц. Они любовались достопримечательностями Венеции, не встретили никого из знакомых — и вдруг им снова нужно вспомнить о том, что они здесь по работе. Их ждали вечеринки, на которые нужно пойти, друзья, с которыми нужно пообщаться, беллини, которые нужно выпить. И кроме того — вот досада! — прямо сейчас над ухом звонил телефон.
— Приветствую, Макс.
— Откуда ты узнал, что это я? У тебя что, определитель номера на отельном телефоне? Ты поэтому весь день не отвечал?
— Нет. Меня не было. Просто я надеялся, что это ты, и вот мечта стала явью…
— Короче, давай к делу.
— Я сказал «мечта», да? Извиняюсь, я имел в виду «кошмар».
— Очень смешно. Так что там у тебя происходит?
— Все получилось просто отлично, — слукавил Джефф. — Интервью прошло на ура.
Но лукавство тут же уступило место панике: нужно было срочно придумать, как ответить на вопрос, который сейчас неизбежно последует, — о рисунке, которого он не добыл, и фотографии, которую не сделал. — И…
— Ну да, все тип-топ. Слушай, мне надо идти. У нас с ней назначена встреча по поводу снимка. Я позвоню тебе завтра, о’кей?
Макс, должно быть, тоже торопился, так что Джеффу удалось завершить разговор, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. Лора вышла из ванной, голая, с тюрбаном из полотенца на голове. Это было очень по-домашнему, словно они были уже давно женаты.
Может быть, как раз поэтому по дороге на вечеринку (Джефф не знал, куда они идут, и просто брел за Лорой, как щенок) он все больше убеждался в том, что идти туда ему не слишком хочется. К тому времени, как они прибыли на место, отстояли очередь и проникли внутрь, это состояние сгустилось до степени «совсем не хочется». Ему хотелось спросить Лору о том, что их ждет, когда и где они снова встретятся, но, сделав это, он нарушил бы то совершенное настоящее, во власти которого они все еще пребывали. Впрочем, долго это продолжаться не могло. Времени оставалось все меньше, а на задворках сознания постоянно маячила мысль о проблемах, с которыми ему неизбежно придется столкнуться, когда их время окончательно истечет, когда он снова окажется в Лондоне без рисунка и без фото, не готовый сказать ничего вразумительного об искусстве, про которое ему тут полагалось писать. Хотя все это его в данный момент не так уж волновало. По большому счету биеннале — это всегда куда больше вечеринки, чем искусство. Только вот сейчас вместо того, чтобы околачиваться по вечеринкам, он бы предпочел отправиться домой (то есть в отель) с Лорой и лежать на кровати, пока она будет скользить вагиной ему по лицу. Но сколь бы увлекательной ни выглядела эта идея, сейчас это было совершенно невозможно. В Венеции надо развлекаться, ходить на вечеринки вроде этой, откуда, если все будет хорошо, можно будет уйти домой не в одиночестве… Мысли упорно лезли в голову, как бывает, когда ты сильно устал. Почему же, когда все так отлично складывается, куда лучше, чем даже в самых смелых мечтах, он так себя накручивает? А просто потому, что остатки кокаинового драйва, наложившегося на глубоко запрятанную в подсознании усталость, мутировали во всепоглощающую, беспредметную тревогу. Словно бы у него вдруг стали быстро отрастать седые корни. И как же с этим справиться? Просто выпить еще беллини, чтобы успокоиться, и нюхнуть еще кокса, чтобы взбодриться.
И это в общем помогло, ну, хоть как-то. Они с Лорой употребили по дорожке в туалете и вышли оттуда рука об руку, шмыгая носом и сияя от счастья. Тревога мгновенно обратилась в возбуждение, хотя и с некоторым оттенком тревоги. В колонках громыхала какая-то танцевальная музыка.
— Звучит знакомо. Не узнаешь, что это?
— Это ремикс Пола Оукенфолда[113] на «Времена года» в исполнении Найджела Кеннеди[114], — ответила Лора.
Было непонятно, шутит она или нет, но звучало вполне правдоподобно.
К ним подошла Моника, чтобы поведать, что она так и не сказала Жан-Полю, как сильно его ненавидит, так как поняла, что на самом деле он ей очень даже нравится. Джефф заявил, что это демонстрирует слабость воли и что если бы он, Джефф, увидел Жан-Поля, то непременно сказал бы ему, что ненавидит его, невзирая на свое личное к нему отношение. Он познакомил Монику с Лорой, которая тут же познакомила его с кем-то еще, чье имя он не уловил, так как именно в этот момент к ним присоединился Фил Спендер. Джефф поспешил извиниться перед Филом за то, что так и не попал на его вечеринку, на которую ему так хотелось пойти, но про которую он совершенно забыл и вспомнил всего пару секунд назад. И тайный концерт «Крафтверк» он тоже, увы, пропустил. Фил в свою очередь хотел знать правду о Джеффовой голове: он что, действительно покрасил волосы? Джефф признался, что да.
— Добро пожаловать в наш клуб! — подмигнул ему Фил.
Ха! Так тут все это делают? Они шутливо понаскакивали друг на друга, следя за тем, чтобы ничего случайно не пролить на все еще безупречно свежий кремовый костюм Фила — просто удивительно, как ему удалось сохранить свою девственность. Слева от Фила он углядел Джейн, а чуть поодаль Джессику и Кайзера. Он был знаком тут с кучей народа и еще большую кучу знал в лицо — не то по предыдущим вечеринкам, не то уже по этой. А ведь были и такие, кого он знал, но попросту не узнавал… Короче, тут были все, включая тех, с кем он все еще продолжал знакомиться; он им что-то вещал, они что-то вещали ему, говоря то, что они уже говорили кому-то другому. И Джефф тоже все глубже увязал в повторах, все туже затягивая петли бессмыслицы. Кем бы они ни были, это была их последняя ночь в Венеции, когда они были тут все вместе, попивая беллини, несмотря на то что кое-кто уехал еще днем. Биеннале — по крайней мере эта его часть, сам вернисаж, — была невероятно короткой. Пока ты там, внутри, все крутится с такой бешеной скоростью, как будто будет длиться вечно. Ты мечтаешь пропустить хоть один вечер, чтобы отдохнуть, расслабиться, но не можешь себе это позволить, так как биеннале идет вроде бы долго, но в то же время проносится поразительно быстро. Не успело все начаться, как тут же и закончилось. Вроде она только что открылась, а через пару мгновений глядишь — уже всё. Ну вот, опять он что-то бормочет сам с собой. Это все алкоголь и наркотики. И то, и другое словно пронзает мозг ультрафиолетовым лучом, расцвечивая его унылую, выгоревшую зацикленность. Годами жизнь подтачивала и истощала его когнитивные способности, однако в обычных условиях масштабы катастрофы были скрыты от восприятия. Но стоило ему употребить волшебное вещество, как внутренний распад мгновенно обнажился. Еще пара лет, и его мозг будет как изъеденный морем коралл под названием мозговик, хотя нет, скорее коралл-безмозговик, безжизненный, бесцветный, мертвый. Волосы еще можно восстановить и покрасить, а вот мозг… Можно, конечно, начать принимать всякие пищевые добавки — стимуляторы памяти, средства, усиливающие выработку серотонина, нейростероиды. Но пока — завидев приближающегося официанта, Джефф протянул ему пустой бокал, свою чашу для подаяния. Само это действие помогло ему взглянуть на свои мозговые проблемы в менее проблематичном и более оптимистичном ключе. В молодости он гордился своим умом. Идя по улице, и даже ни о чем таком не думая — просто следуя куда-то по своим делам как любой другой обормот, он постоянно наслаждался ощущением своей умности. Он никогда ничего с ней не делал, никак ее не использовал, только писал всякие глупые статьи и время от времени вставлял в разговор умные замечания, большинство из которых даже не были особо умными. Он просто чувствовал себя умным, и это было чертовски приятное чувство. А сейчас он с той же убежденностью (и куда большей обоснованностью) чувствовал, что вступает в свои глупые годы. Глупые годы дополняли смутные. На самом деле одно прилагалось к другому. Смутные годы и глупые годы были одними и теми же годами, и более того — они уже начались. Что ж, поприветствуем их. Когда начинаешь забывать имена, как не устают напоминать рекламные объявления в газетах, это, конечно, крайне неловко, но, помимо этого, быть глупым прекрасно. Это первый знак просветления.
У него в кармане лежал маленький цифровик. Джефф извлек его, собираясь сделать один из тех бесполезных и бездарных во всех отношениях снимков из серии «вечеринка в самом разгаре», где у всех обычно красные зрачки. Он включил ее, и она почему-то заработала в режиме воспроизведения, так что на экране возникла не мельтешащая вокруг толпа, а сделанная днем фотография — они с Лорой на Джудекке. Он наехал на нее зумом, убирая себя из кадра и приближая ее лицо, а потом только глаза — все ближе и ближе, пока они не перестали быть глазами, превратившись в галактику пикселей в момент Большого взрыва.
Рейс Лоры был в два часа пополудни. Сейчас же было одиннадцать утра. Он лежал на ее постели с больной головой, прижимая к носу бумажный платок, и смотрел, как она пакует вещи. Белое платье, а сверху красно-золотое, купленное ею в Лаосе (в месте, где он в жизни не был, но теперь хотя бы знал, как оно произносится), и, наконец, синее — все было аккуратно сложено в чемодан. Это походило на какой-то извращенный стриптиз наоборот и даже хуже — словно она собирала вещи в загробный мир, в жизнь-после-Венеции, в жизнь-после-него, оставляя его, как если бы он уже умер. На ее месте он попытался бы поменять рейс или, на худой конец, просто плюнул бы на пропавший билет и купил новый, на более позднюю дату. Но он был на своем месте. А она улетала. И уже почти все собрала.
Они обменялись электронными адресами и номерами телефонов, но так и не условились о новой встрече. Обычно получается, что это мужчины приходят и уходят, а женщины плачут им вслед, но тут почему-то бросали его, и если он хоть на минуту потеряет контроль, то вполне может расплакаться. Мысль об этом немедленно вызвала к жизни другую картинку: его крашеные волосы текут, как девичья тушь, пятная лоб и щеки черными разводами. Вчера он чувствовал себя римским императором, способным на все; сегодня из носа у него текла кровь, во рту была кислая сушь, голова горела и раскалывалась, и ему хотелось не то горько рыдать, не то выть. В семнадцать лет он прочел «Женщину французского лейтенанта» и был крайне впечатлен озвученным Фаулзом различием между викторианским восприятием мира: я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно — и современным экзистенциальным подходом: у меня это пока что есть, и потому я счастлив. Почему-то оно ему запомнилось, однако претендовать сейчас на экзистенциальное удовлетворение было бы абсурдом. В 2003 году, на пятом десятке, ему суждено было познакомиться со своим внутренним викторианцем. Здесь, в Венеции, он обнаружил, что, похоже, был последним здравствующим жителем той эпохи.
Он услышал, как Лора застегнула молнию чемодана — тот же самый звук, но громче и грубее того, когда он расстегивал ей платье. Это было везение, просто везение, что они так подошли друг другу в сексе, но стоило этому везению случиться, как оно тут же превратилось во что-то другое, не дававшее поверить, что все дело было только в нем.
— Вот тебе подарок, — сказала она, протягивая ему пакетик кокаина. — Там еще кое-что осталось.
Оно было ему так же нужно, как пуля в висок, которая была ему совсем не нужна, поскольку по всем ощущениям она там у него уже была. Вся его голова была одной сплошной раной, но сейчас хотя бы нос перестал кровоточить. Он швырнул скомканную салфетку в корзину.
— И не забудь стакан, — добавила Лора.
Он стоял на комоде, тонкий и дорогой, и выглядел точь-в-точь как икона в оранжево-голубых красках, которой он, по заверениям Лоры, не являлся. Джефф встал, завернул его в газетный лист и положил в пластиковый пакет.
Лора подошла к нему и поцеловала в губы. Они стояли обнявшись. Ее волосы слегка пахли городом. Она ни словом не обмолвилась о будущем, о том, когда они снова встретятся, — как, впрочем, и он. Он не стал это делать, потому что не стала она. Может быть, и она промолчала, потому что он ничего не сказал? Он не был в этом уверен, но чувствовал, оправданно то было или нет, что инициатива здесь принадлежит ей. Странная, глубоко современная форма близости — совершенно не викторианская, — когда проще лизать зад человека, чем спросить его, когда вы опять увидитесь. Когда я тебя опять увижу? Паршивая популярная песенка в исполнении какой-то паршивой поп-группы снова и снова крутилась в его пустой голове, набитой мыслями, но все равно пустой.
— Как я уже говорил, — изрек он наконец, — все было крайне приятно.
— Весьма.
— Лично я нахожу это настолько приятным, что не отказался бы повторить все еще раз.
Вот он и сказал или хотя бы начал эту тему.
— Я тоже.
— И когда это, по-твоему, могло бы быть?
— Не знаю. Но надеюсь, скоро.
— Но мы же не можем и на этот раз оставить все на волю случая. Нельзя рассчитывать, что мы просто где-нибудь столкнемся.
— Да, я знаю.
— В маленькой Венеции это могло сработать, но в масштабах всего мира, сама понимаешь, все ставки будут против нас.
— И тут ты прав.
Прижимая ее к себе, он чувствовал, как у него снова встает член — даже сейчас, когда эта история грозила перейти в разряд воспоминаний. Или в нечто обратное — в тоску по тому, что вскоре станет нереально маловероятным.
— Я могу приехать к тебе в Лос-Анджелес, — сказал Джефф. — Или куда бы то ни было, где ты будешь, когда отправишься путешествовать.
— Это было бы здорово.
— Так мы спишемся?
— Конечно.
Говоря это, они так и стояли обнявшись. Но теперь настало время отпустить друг друга, чтобы он мог взять ее чемодан и свой стакан, выйти из комнаты и втиснуться в крошечный лифт с этим дурацким призывом не царапать пластиковую оболочку.
Лора оплатила счет и выписалась из отеля. Дальше она собиралась дойти пешком до автобусной станции, но попрощаться они решили здесь, в крошечном скверике перед отелем с громким названием «Эксельсиор». Они снова поцеловались. Джефф вдохнул едва уловимый аромат ее волос, все еще новый, но уже такой знакомый. Потом она подхватила чемодан и покатила его к станции, а он пошел в другую сторону.
Куда? Какая разница. Он шел один сквозь удушающую венецианскую жару. Она уехала, а он перекочевал из «плюс один» в «минус один». Оставалось только идти куда-нибудь, вот он и шел один через пустой людный город. Так бывает, когда плаваешь в море и вдруг из прибрежной теплой воды попадаешь в полосу ледяного течения. Только что он был в шумном, густонаселенном районе, а сейчас улицы совершенно пусты и вокруг один только солнечный свет. Было бы облегчением повстречать сейчас сербских карманников, подраться с ними, потерять сознание и очнуться в канале. Но ни их, ни, хвала небесам, кого-нибудь из знакомых поблизости не оказалось.
С момента пробуждения Джефф чувствовал дикую усталость — как много лет назад, когда он впервые оказался в Венеции и провел ночь на вокзале. После часа ходьбы он достиг такой степени усталости, какая бывает лишь во сне, когда идешь и идешь — и никуда не можешь прийти. Он был в мертвой зоне туризма, где прогулка превращается в муку, а каждый шаг требует усилий десяти. Воздух наполнил нежный колокольный звон. По мере приближения к его источнику — церкви, которой он раньше не видел, — перезвон превратился в золотой водопад, безжалостно обрушивающийся на его пустую голову.
Он продолжал брести по улицам, которые постепенно становились все более знакомыми… Потому что он как раз подходил к палаццо Зенобио и к бару под названием «Павильон Манчестер». Вот это удача! Теперь, по крайней мере, ясно, чем можно себя занять — можно выпить пива. Это сильно смахивало на рекламу светлого пива или на венецианский ремейк «Трудного пути в Александрию»[115]. Пиво! Он пересек Понте-дель-Сокорсо, горбатый мостик, где они сидели после вечеринки в Зенобио, на которой было так много народу, что внутрь было не попасть.
Пытаешься заглянуть мне под платье?
Бар был открыт, но почему-то пуст. Даже с учетом того, что день был воскресный, отсутствие посетителей выглядело странным. Официанты переворачивали стулья и ставили их на столы. Все выглядело так, как будто здесь недавно побывали мародеры.
— Что случилось? — спросил Джефф.
— У нас все кончилось.
— Что кончилось?
— Напитки.
— То есть выпить нечего?
— Си, нечего.
— Совсем нечего?
— Niente[116]. Все кончилось — пиво, вино, виски. Finito[117].
Официант выглядел одновременно донельзя усталым, гордым, удивленным и слегка напуганным этим обстоятельством. Судя по всему, подобного в его жизни еще не случалось. Но, возможно, он того и ждал. Если бы в Венеции играла английская футбольная команда, алчная потребность в спиртных напитках воспринималась бы как нечто само собой разумеющееся, но неутолимую жажду мировой арт-тусовки он явно недооценил. Джефф, конечно, был разочарован, но и нечто приятное в ситуации явно присутствовало. Раньше ему приходилось лишь слышать о таком, но он впервые видел своими глазами бар, выпитый досуха, — и даже мог поздравить себя с тем, что внес в эту катастрофу некоторый посильный вклад. В любом случае оставаться здесь не имело никакого смысла. Все, кто заходил сюда ранее, очевидно, были того же мнения. Подобно стаям саранчи, они спикировали на бар, выпили все, что в нем было, выжали из него до последней капли весь алкоголь и отправились дальше. Многие уже отправились восвояси — не в другие бары, а в другие города, другие страны. И хотя в принципе это заведение все еще номинально было баром, свое предназначение оно уже утратило. В нем царила скорбная атмосфера. Это был архитектурный аналог жуткого похмелья. Словно бы здесь случилось что-то ужасное и постыдное — никто уже не помнит что, однако память об этом пронизывает собой потолки, полы, стены. Как если бы на это место обрушилось какое-то проклятие, и не видать ему больше хмельных праздников, когда шампанское течет рекой — так бурно, что наконец вытекает, оставляя лишь пустоту, которую никогда уже не заполнить, послевкусие тщетности и бесполезности. Он поблагодарил бармена и ушел, чувствуя себя еще более усталым.
Он купил в продуктовой лавке бутылку «Феррареле»[118] и пошел дальше, подыскивая место, где можно было бы присесть. Это можно было сделать где угодно, но он все шел и шел, пока не плюхнулся наконец, вконец измученный, на берегу какого-то старого канала, даже не особо красивого с виду. В воде плавал теннисный мячик. Он вытащил свой баснословно дорогой стакан, наполнил шипящей, пузырящейся водой и осушил одним глотком. Потом проделал это еще раз и еще, пока бутылка наконец не опустела. А дальше он просто сидел, скрестив ноги, как бывший яхтовладелец, превратившийся волею судеб в попрошайку, потерявший все, кроме этого оранжево-голубого кусочка прежней роскоши. Хорошо, конечно, думать, как вчера — или позавчера, или когда там это было (ему уже казалось, что он в Венеции целую вечность), что мгновения счастья искупают собой все остальные, делая жизнь стоящей. Хорошо так думать, когда купаешься в счастье, когда эти остальные мгновения даже и не вспомнить, эти чертовы мгновения вроде этого, когда — уже! как быстро! — те, счастливые, становятся невозможно далекими.
Рядом курлыкал голубь. Джефф смотрел, как он дергает головой и что-то клюет в пыли. Птица выглядела невозможно, неприлично глупой, едва способной выполнить возложенный на нее природой долг — быть голубем. Этим исчерпывались все ее способности. Она даже разучилась летать, и просто подпрыгивала, всхлопывая крыльями. Это была уже не птица — просто голубь.
Мимо проплыла лодка, груженная сломанными стульями и бревнами. Вода заплескалась о стенки канала. В его сторону шла итальянская семья — мама, папа и черноволосая девчушка лет пяти-шести, прыгавшая между ними на большом упругом кресле-игрушке в виде кенгуру. Она сидела у кенгуру на коленях и держалась руками за его передние лапы. Этот необычный транспорт, похоже, доставлял родителям не меньше удовольствия, чем едущему на нем ребенку.
Они смеялись и держались за руки, и поздоровались с Атманом тепло и приветливо, словно приглашая порадоваться зрелищу их дочки, прыгающей вдоль канала на своем кенгуру, и разделить их счастье. Атман улыбнулся им в ответ. Зрелище и вправду было замечательное. У игрушки даже была сумка, из которой выглядывал маленький кенгуренок. Будь такое возможно, он бы не раздумывая забрался в эту сумку и упрыгал вдоль по набережной с этими веселыми людьми.
Когда они скрылись из виду, Атман, не зная, что делать дальше, подобрал свой стакан и двинулся прочь. Он прошел через Кампо-Санта-Маргерита, не обращая внимания на нелепых, выкрашенных серебряной краской мимов, изображавших статуи, и вскоре вышел на небольшую пьяццу — да даже и не пьяццу, а так, местечко, стиснутое тремя церквями, стоящими бок о бок. Две из них были снежно-белыми, и одна из белоснежек звалась Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко. Он чувствовал себя таким опустошенным и измученным, что перспектива всего за пять евро побыть в прохладной тьме, сдобренная щедрой дозой Тинторетто, показалась ему не менее привлекательной, чем стакан пива в «Манчестере».
После полуденного солнца тьма слепила. Бегло осмотрев первый этаж, он стал взбираться по ступеням. Сама идея церкви всегда шла в архитектуре рука об руку с неконтролируемым стремлением к вертикальности, и потому одноэтажность в клерикальном зодчестве как-то не прижилась. Джефф продолжал карабкаться вверх, к сводам. Все самое главное было здесь. И всего этого было так много. Пожалуй, даже слишком много. Стены, своды — на каждом их дюйме теснились пророки, ангелы и крепко сбитые святые. Всюду, куда ни глянь, из мускулистой тьмы выплывали фигуры и образы. Все проступало из тьмы. Тинторетто написал здесь подлинную бурю. Джефф плохо знал источники; изображения ни о чем ему не говорили, кроме того что это явно были библейские сцены. Насколько он мог судить, Тинторетто втиснул лучшие моменты обоих Заветов в одно здание. Библия вообще легко поддается всякого рода ужатиям. По большому счету, все на свете либо низвергается из света в тьму, либо восходит из тьмы к свету, которого здесь было не очень-то много. Зато бородатых пророков, струящихся драпировок и клубящихся туч хватало. С точки зрения маркетинга подача — что людей можно загнать в рай угрозами и страхом — была совершенно неверной.
От усердного разглядывания потолка у Атмана заболела шея. Опустив голову, он заметил, что вокруг бродят люди с небольшими зеркалами в деревянных рамках размером с экранчик портативного телевизора. Он тоже взял одно из стопки на другом конце зала — чуть ли не на другом конце света. Первое, что он увидел, было его собственное лицо на фоне библейского вихря под куполом. Зеркало походило на квадратный, в чем-то даже кубический нимб. Нимб, зеркало, потолок в виде фона — все неясно мерцало во тьме. И в то же время сияло, но лишь потому, что в таком темном пространстве любая частица света, сколь бы скудной она ни была, представлялась священной. Что же до погодных условий, то опустошающий потоп и буря с проливным ливнем могли разразиться в любую минуту. Джефф огляделся: не считая парочки тихих японцев, он был здесь совсем один. Он плюхнулся на стул, положил зеркало на колени и высыпал на него Лорин подарок. С помощью буклета, где говорилось о том, как Тинторетто создавал свой убойный шедевр, он соорудил неровную дорожку. Окруженная зеркальной тьмой, она казалась как никогда белой — белой как облако. Он еще раз быстро огляделся, наклонился и вдохнул порошок. Частично забитый свернувшейся кровью, его нос издал характерный хрюкающий звук. Ха! Его зрачки в зеркале — и без того расширенные от темноты — стали еще больше. Тут-то несравненное искусство прошлого и вправду ожило. Все закружилось и словно высветилось изнутри, как если смотреть на мир со дна глубокого колодца. Остались лишь свет и тьма, и они жили, двигались. Формы увеличивались в размерах, вращались и танцевали. Все кружилось и сплеталось, и сплетение и кружение были чем-то одним. И все фрески — теперь он это ясно видел — были явно, хоть и в аллегорической форме, про кайф. Пророки и мученики, празднующие Пасху, сгрудились вокруг стола, полные желания урвать больше, чем им причиталось или предлагалось в виде угощения. Светящиеся нимбы над головами святых были похожи на облачка прямой речи в журналах комиксов, и все они прямо говорили о том, что святая братия была под кайфом.
С новыми силами Атман устремился в придел, где одна стена была целиком отдана Распятию. Ничего не скажешь, впечатляющее зрелище. Все по-прежнему клубилось и вращалось, но теперь еще и неумолимо сходилось в одну точку. Весь этот хаос теперь стремился к единому центру, и центр этот был здесь. Здесь было средоточие всего, хоть и не вполне понятное в деталях. Впрочем, теперь он догадался: парень, зачем-то указывавший на один из рукавов креста непомерно длинным копьем, на самом деле держал в руках веревку — одну из двух, медленно поднимая этот самый крест с прибитым к нему вором. Погода, и без того неспокойная на других фресках, на этой была катастрофически ужасной. По сравнению с тем, что творилось тут, «Буря» Джорджоне была подобна душу в чайной чашке. Дождя не было, но все было пропитано влагой. Даже свет был насквозь пропитан тьмой.
Атман все еще держал в руках зеркало. Он взглянул на свое лицо — старое, мятое, взволнованное. Откинувшись на спинку стула, он стал смотреть на эту громадную порцию искусства — большую, чем человек способен переварить. Это была сногсшибательная картина, можно даже сказать, великая, если только великая картина — это максимум действия и максимум атмосферы в максимальном масштабе. В настоящий момент все это выглядело довольно точным определением максимального величия. Это было высокое концептуальное искусство во всей своей красе, и не было никаких сомнений в том, кто звезда этого шоу, к кому приковано всеобщее внимание. Все на картине, на которую он смотрел, смотрели на распятого Христа, даже два вора, распинаемые по обе стороны от него, даже люди внизу, как, к примеру, парень на лошади, который смотрел совсем в другую сторону. Атман не знал, сколько он тут просидел, пялясь на фреску, но совсем о ней не думая, ожидая богоявления, которое так и не случилось, — просто глядя на нее, без всяких мыслей. Быть может, это и было богоявление — полное растворение в том, что он видел.
Потом, как это обычно бывает, он понял, что нагляделся, и встал, чтобы уйти.
Оказаться снаружи было не просто шоком, это было как воскресение из мертвых. Ярчайший день. Мир не перестал существовать; над головой была все та же голубая синева; ‘ара была еще ‘арче, чем когда-либо. Как же быстро эти незамысловатые шуточки въедаются в плоть и кровь — и как быстро они становятся печальными, о, какими печальными они вскоре становятся! Он прошел мимо женщины в черном, стоявшей на коленях — она просила подаяния, — и бросил пару евро в пустую банку из-под чипсов, которую та приспособила под чашу для милостыни. Дойдя до более-менее приличного канала, он сел на берегу, но не заплакал. Мир был неподвижен. По воде плыло несколько бензиновых радуг. Было невероятно душно. Джефф был мокрым от пота. Он снял промокшую рубашку, закатал брюки выше колен и так и сидел у воды, полуголый и тощий, испытывая искушение раздеться до трусов и войти в канал, как в длинный детский лягушатник с застоявшейся водой.
Мимо протарахтело водное такси. Над ним спикировала чайка, держа в клюве мертвого голубя: дурное и какое-то негигиеничное предзнаменование. Может, это был тот самый голубь, которого он видел раньше. Джефф откинулся на камни и лег, глядя в ничего не выражающее небо. Там, в вышине, плыл самолет, оставляя за собой тонкий белый след, постепенно расползавшийся в дорожку белого порошка на фоне пустой синевы.
Часть вторая Умереть в Варанаси
Это не река,
А объяснение реки,
Занявшее место реки.
Дин Янг… Только подумать: пока я играю с неверными образами,
Город, который я воспеваю, стоит
На своем предназначенном месте,
С присущей только ему планировкой,
Населенный как сон…
Хорхе Луис Борхес, «Бенарес»С судьбой вся штука в том, что она может взять и не прийти, а если все-таки придет, то вряд ли в узнаваемом обличье.
Просто в три часа дня (а не трагически среди ночи) раздастся обычный телефонный звонок, и человек на другом конце провода скажет, что ваш анализ крови на ВИЧ дал положительный результат или что полуодетое тело вашей подруги только что выловили из Ганга. Это было бы очень удобно, это продвинуло бы сюжет вперед и зарядило энергией — хоть ход этот не блещет новизной — цепочку совершенно бесцельных событий. Но нет, это всего лишь редактор «Телеграфа», который хочет знать, не готовы ли вы прямо сейчас вылететь в Индию, чтобы написать путевой очерк о Варанаси.
— Все будет просто замечательно, — сообщила она. — Бизнес-класс до Дели, а оттуда местный рейс до Варанаси. Пять ночей в «Тадж-Ганге». Я бы и сама слетала, если бы меня кто отпустил.
Вообще-то в Варанаси должен был отправиться один из постоянных корреспондентов, но он буквально накануне заболел. («Как будто не мог уже на месте что-то подцепить, как все остальные», — сказала она.) Потому-то она и звонила вот так, в последнюю минуту. Написать же надо было всего ничего — каких-то тысячу двести слов. В ближайшую неделю у меня не было в Лондоне никаких дел… Так что я сказал, что да, о’кей, я еду.
Через два дня, вечером накануне отлета, я столкнулся с Анандом Сети на открытии выставки Фионы Рэй[119] в галерее Тимоти Тейлора. Я его немного знаю — с тех давних пор, когда мы оба были студентами. Теперь он был банкиром (а стало быть, и коллекционером искусства). Вырос же он в Бомбее, и ему случалось бывать в Варанаси, а весной он собирался туда снова.
— Где ты остановишься? — поинтересовался он.
— В «Тадже», — гордо объявил я, зная, что сеть гостиниц «Тадж» — одна из самых фешенебельных в Индии.
Но Ананд покачал головой. Это совсем не то. «Тадж» находится на самой окраине, так что к гхатам придется ездить каждый день, а трафик там ужасный. Единственное место, где стоит останавливаться, это «Вид на Ганг». По его словам, это был один из лучших мировых отелей. Я принял это к сведению, хотя менять отель было уже поздно. Мне захотелось ему что-то противопоставить и тоже чем-нибудь блеснуть, но, прежде чем я успел сказать, что лечу бизнес-классом, Ананд упомянул, что только что купил пару полотен Рэй, одно из которых было размером с ворота гаража.
По поводу уличного движения в Варанаси Ананд серьезно заблуждался. Оно там вовсе не ужасное. Слово «ужас» здесь никак не применимо. Равно как и само понятие дорожного движения.
Поездка из аэропорта в отель прошла нормально. Она была кошмарной, хаотичной и опасной, но в целом ничем не отличалась от других переездов в других странах. «Тадж» стоял посреди тропического парка и был укомплектован кортами для бадминтона и тенниса. Помимо этого я не заметил ничего особенного — просто зарегистрировался, принял душ и переоделся. Мне было не по себе от нарушения суточных ритмов, я был сильно уставшим и голодным, но хотел скорее посмотреть город. Я поел дала[120] и риса — я могу месяцами жить на дале и рисе, и в Лондоне я, собственно, так и жил — в индийском ресторане при отеле и договорился со своим гидом Джамалом, что он отвезет меня в город. Машина оказалась одним из тех крепких белых «амбассадоров», неустанно восхваляемых в каждой книге и статье об Индии за их крепость, белизну и надежность. Первые несколько минут дороги все выглядело совершенно нормально: шум, гам, толпы народа — ничего сверх ожидаемого. Но потом картинка стала чуть не на глазах сжиматься и, что интересно, ускоряться. Дороги резко сузились, число машин возросло. Я увидел нечто похожее на построенный вокруг дерева дом. Из окон его торчали ветви. Когда я покупал свою квартиру в Лондоне, агент предупредил меня, что в пятидесяти футах от нее на тротуаре растет дерево, чьи корни могут стать причиной осадки здания или повредить фундамент. А тут был целый дом, чью гостиную — наподобие знаменитых домов Райта[121], — должно быть, почти целиком занимал ствол громадного старого дерева, который отсыревал в сезон дождей, а в ливень постоянно тек. Тем временем Джамал просвещал меня на тему местного дорожного этикета.
— Если хочешь водить машину в Бенаресе, тебе нужны три вещи — хороший клаксон, хорошие тормоза и везение.
Сказано это было как бы между прочим, непринужденным тоном, выработанным в ходе общения с сотнями новоприбывших туристов.
— Я бы еще добавил сюда ремень безопасности, — вставил я.
Это было последнее, что я успел сказать, так как наш водитель Санджай, как вскоре выяснилось, до этого момента просто разминался, отдыхая и собираясь с силами перед лицом грядущих испытаний. Вообще-то я давно привык к безумному дорожному движению в Азии. Я — ветеран перманентных пробок Манилы, локального джихада Явы и полномасштабного безумия Сайгона, но тут было что-то другое. Машины, рикши, тук-туки, велосипеды, телеги, снова рикши, мотоциклы, грузовики, пешеходы, козы, коровы, буйволы и автобусы образовывали одно сплошное стадо. Дикая плотность движения — единственное, что мешало этому табуну пуститься вскачь, сметая все на своем пути. В какой-то момент нас вынесло на круговую развязку — мы поехали по ней в одну сторону, тогда как все остальные спокойно двигались в противоположном направлении. Если бы водителям приходилось выбирать, куда ехать, они бы просто стояли и гудели. Оглушительный хор клаксонов делал это приспособление совершенно бесполезным, но крайне важным для жизни. Улицы были узкие, с выбоинами, перерытые вдоль и поперек, без права первоочередного проезда, без проезжей части, без остановок — вообще без всяких правил. Поток машин был настолько густым, что от того, что стояло впереди, позади или сбоку, вас отделял буквально дюйм. И при этом поток не останавливался. Ни на одно мгновение. Мы продолжали ползти, пропихиваться и проталкиваться вперед. Завидев малейший шанс продвинуться — хотя бы на ярд, — Санджай не медлил ни секунды. То, что в Лондоне грозило бы неминуемым столкновением, здесь давало возможность оценить любезность соседей по дороге. Возможностей таких ни у кого, разумеется, не было, а сама идея любезности не имела никакого смысла, так как единственная — и всеобщая — мотивация состояла в необходимости продолжать ехать. По дороге от аэропорта до отеля Санджай весьма неумеренно пользовался клаксоном; сейчас же, в черте города, вместо того чтобы без конца давить на кнопку, он, похоже, вообще перестал ее отпускать — как, впрочем, и другие водители. В отличие от всего остального, в этом, по крайней мере, был какой-то смысл. Зачем убирать руку с кнопки, если через долю секунды ее снова придется туда возвращать?
По мере углубления в лабиринты города характер дорожного движения снова изменился — оно стало похожим на процессию, особенно когда мы выехали на улицу, ведущую через рынок к реке. Бешеная активность на дороге вскоре сровнялась с хаосом, царившим на обочинах, а потом и вовсе уступила ему лидерство, — крики, гомон и безумные нагромождения суматошной, не замирающей ни на секунду торговли, покупки и продажи, погрузки и разгрузки. Тем временем автомобильная фаза путешествия явно подходила к концу. Все вокруг было чем-то завалено. Всего было слишком много. Все было громким и вызывающе ярким и изо всех сил старалось стать еще громче и ярче, чтобы затмить соседей. Все истошно кричало и вопило о себе. Вещей было так много, и все они так бросались в глаза своей яркостью и громкостью, что было совершенно не понять, что из чего сделано и для чего предназначено. Это была яркость, шумность и крикливость в своем тотальном выражении.
Напор людей, машин и животных в конце концов достал даже Санджая. Наш крепкий и накачанный «амбассадор» мог ехать дальше до скончания века, в том не было никаких сомнений. Для этого ему нужна была только дорога, но дорога, увы, кончилась. То есть она не то чтобы кончилась, но просто перестала быть дорогой. Двигаться дальше было нельзя. Когда я открыл дверь и протиснулся наружу, в уши сразу же ударил дикий шум. Джамалу полагалось меня сопровождать, но я настоял на том, что прекрасно справлюсь без него, и предложил подождать меня тут. После чего влился в поток людей, текущий к реке.
После клаустрофобии улиц зрелище могучего Ганга и раскинувшегося над противоположным берегом неба стало окном в другой, более просторный мир. По обеим сторонам ступеней, ведших к Дашашвамедх-гхату[122], теснились нищие, размахивавшие металлическими чашами — пустыми, не считая горстки риса и редких монеток. Этим еще повезло — у некоторых не было даже чаш. Впрочем, этим тоже повезло — у некоторых не было даже рук.
За пределами всей этой толкотни словно бы через небольшой океан открывался вид на другой континент, выжженный и пустынный. Словно я прибыл на первый в мировой истории морской курорт, сильно нуждавшийся в ремонте, но не ставший от этого менее популярным. Что бы ни происходило в прошлом в Варанаси, до руин ему было далеко — и всегда будет далеко. Даже если все здания в нем рухнут, он не придет в упадок. Небо над ним было празднично-синего цвета. Флаги хлопали и реяли на ветру. Все полнилось каким-то явственным, хоть и непонятным смыслом, я ясно это ощущал. Повсюду было буйство красок, которые могли заткнуть за пояс радугу. Леденцово-розовый храм уткнулся шпилем в небо, как ракета, чей запуск был отложен на века, но все еще не отменен и даже предрекался в скором будущем брахманами, посиживавшими в теплой тени грибообразных зонтиков. Чем они были заняты? Открывали древнюю мудрость своим ученикам или просто болтали с друзьями о крикете (Индия только что проиграла в отборочном турнире Южной Африке)? Были они просветленными или вообще не по этой части? Или и то, и другое сразу? Даже фальшивые святые (а Джамал предупредил меня, что многие из них насквозь фальшивы) все равно были подлинными. И все кругом были ужасно дружелюбны. Я стоял тут всего минуту, а кто-то уже пытался пожать мне руку. Впору почувствовать себя знаменитостью или королевской особой, прибывшей с официальным визитом. Правда, как выяснилось, здороваться со мной никто не собирался. Этот тип пытался продемонстрировать мне какой-то вид массажа: он мял мою руку и никак не отдавал ее обратно. Все это время какая-то женщина совала мне под нос свою чашу для подаяния, чтобы я мог понюхать рисинки на дне. Мальчишка тянул меня на лодочную прогулку. Другой же пытался отбить меня у него и зазвать на свою лодку. Я был тут самым высоким, возвышался над толпой, словно радиовышка, транслируя на всю округу, что я только что прибыл в Варанаси, вообще впервые в Индии и меня можно брать голыми руками. Я был легкой добычей, простаком, ясной мишенью — хочешь на лодке катай, хочешь делай массаж. Я выдернул свою руку и пошел дальше, стараясь выглядеть так, словно я провел тут не одну неделю, насмотрелся на прокаженных и вовсе не спешил увидеть, как сжигают трупы на Маникарника-гхате.
Но именно туда я и спешил — увидеть, как сжигают трупы. (Оказавшись в новом месте, не лишне заняться тем, что тут делают все.) Я уже видел впереди костры. Отсюда они казались совсем небольшими, как на празднике или вечеринке, которая еще не закончилась, хотя пик веселья давно миновал. Я записал в своем блокноте: «Конец дня. Костры в свете солнца у реки. Медленно стелется дым. Люди плывут через дым, через солнечный свет. За всем этим — шпили храмов, один из которых опасно накренен».
Вся эта процедура на Маникарнике — дело сильно трудоемкое, как на фотографиях Сальгадо[123], где крестьяне копошатся на склоне горы — в данном случае горы настолько выработанной, что она уже перестала быть горой. Тут были огромные штабеля дров, выше некоторых домов, постоянно разбираемые и восполняемые, питающие неутолимую потребность в огне. К гхатам подходили баржи, груженные такими огромными бревнами, что за раз можно было поднять лишь одно или два; поленья стаскивали на берег, тяжелые и могучие, безвольно лежащие на плечах носильщиков, как забитые на охоте звери. Дерево складировали, рубили, взвешивали и тащили обратно к воде, затем снова взвешивали. Для каждой кремации требовалась тонна дров. Тонна — в смысле того, что очень много, а не как точная мера веса в тысячу килограммов. Дым пятнал небо, коптя сгрудившиеся вокруг гхатов храмы и дома. Коровы жевали мокрые ноготки, роясь в пепле, покрывавшем глинистый речной берег. Вода была темной, со взвесью сажи, словно тоже сожженной. Вокруг бродили местные собаки. Горело сразу с полдюжины костров, за которыми присматривали местные работники. Вокруг стояли люди и разговаривали — и все это время поленья таскали туда и обратно, а в огонь тыкали ветками. Как на заре промышленной революции — никакого организованного производства, зато избыток рабочей силы, и все это на службе у смерти.
Джамал предупредил меня, что фотографировать тут нельзя, но и в целом этикет этого места был мне не ясен: можно ли подходить к кострам, а если да, то как близко? Слева возвышался большой, сильно закопченный дом, с балкона которого взирала на происходящее кучка туристов. Стоило мне взглянуть на них, как мальчишка в линялой футболке с эмблемой «Планеты Голливуд» уже дергал меня за рукав, предлагая туда провести. Как только ты демонстрируешь в Индии хотя бы намек на заинтересованность в том, чтобы что-то увидеть, купить или сделать, кто-нибудь непременно прочтет эти знаки и приступит к воплощению этого желания — ибо что есть интерес, как не желание, которое, в свою очередь, формирует спрос, — в жизнь с целью получения финансовой выгоды. Об этом я узнал позже. Сейчас же мне сказали: «Пошли», — и я пошел.
— Снимать нельзя. Камеры нельзя.
— У меня нет камеры, — заверил я его, давая понять, что я не новичок, не только что с лодки и уж никак не японец. Но все же последовал за мальчишкой во вьетнамках по потемневшим ступеням в пустую комнату с балконом, на котором я видел туристов, которые, однако, успели куда-то подеваться.
— Смотри, — объявил мой проводник, словно отдавая команду, подобную той, когда он сказал «пошли».
И снова я повиновался. Отсюда были хорошо видны костры и река за ними, но никаких тел я разглядеть не мог, лишь кучи бревен, огонь и густую толпу, в том числе и туристов, которые пару минут назад стояли тут, на балконе. В комнате не было никого, кроме меня и мальчишки в голубой футболке, который тоже стоял у парапета, глядя вниз, на гхат. И пары его приятелей, ненавязчиво возникших с другой стороны от меня. Старше него и жестче с виду. Этот дом — хоспис, объяснил один из них. Место, куда люди приезжают умирать. Я кивнул, улыбнулся и снова стал смотреть на реку. Он повторил то же самое еще раз.
— Спасибо, это полезно знать, но сейчас мне и в живых неплохо, — ответил я.
Это была первая изреченная мной на индийской земле шутка. Комментарий по поводу ремня безопасности таковой не был, как, впрочем, и эта сентенция, но после бесконечных «Здравствуйте» и «Нет, спасибо» они приятно разнообразили речь. У говорившего со мной парнишки, выглядевшего странно старым, было что-то не то с одним глазом — вроде бы косоглазие, но не такое, как у всех.
— Это хоспис, — снова сказал он. — Люди приходят сюда умирать. Люди смотрят здесь за людьми, которые приходят сюда умирать.
Я кивнул.
— Сделай пожертвование, — сказал его друг, проясняя ситуацию. Для хосписа атмосфера была подозрительно угрожающей. Я дал им купюру в десять рупий и вновь повернулся к реке.
Труп, завернутый в алый саван, как раз подносили к берегу; процессия плакальщиков что-то пела, протяжно пела и пела какой-то гимн. Слов было не разобрать и понять ничего нельзя. Они опустили тело в воду и… Черт, этот парень с косым глазом — на самом деле у него косили оба глаза, нивелируя друг друга, вот в чем было дело — снова дергал меня за рукав. На этот раз при нем была какая-то старуха, которой тоже нужно было дать денег, так как она была сиделкой, присматривавшей за больными, которые приходили сюда умирать. Я полез в карман и вытащил купюру. Это оказалась сотня рупий — грубо говоря, целое состояние. Я отдал ее и двинулся к выходу. Пять рупий сделали бы их счастливыми; сто превратили меня в мишень. Меня опять тянули за рукав — двое старших ребят и тот, в майке с «Планетой Голливуд». Обнаружилась вторая так называемая сиделка, которая тоже желала получить сто рупий. Инфляция в Индии может быть мгновенной: сто рупий вдруг стали ходовой единицей. Интересно, за что? За то, чтобы уйти отсюда живым?
— Для сиделки, — изрек один из старших ребят, тот, у которого с глазами было все нормально.
— Если она сиделка, то я — Флоренс Найтингейл[124], — сказал я с широкой улыбкой. В этом убогом домишке я обнаружил целый кладезь юмора, однако раскапывать его дальше, наверное, не стоило.
Не уверенный в том, что будет дальше, я пошел к выходу. Но ничего не случилось. Они сделали чисто символическую попытку преградить мне дорогу, но не пытались применить силу.
Внутри мрачного строения все выглядело как-то зловеще, но стоило мне оказаться на улице, под косыми лучами солнца, как было уже сложно сказать, что же только что произошло. Действительно ли подростки мне угрожали? А старухи — вдруг они были настоящими сиделками? В любом случае, судя по их виду, сиделка бы им самим не помешала.
У реки обнаружилось что-то вроде смотровой площадки, откуда туристы — в том числе и те, кого я видел раньше, — наблюдали за кремацией. Я подошел и встал неподалеку от них, снова чувствуя себя в безопасности.
Все тут было предельно ритуализовано и в то же время индивидуально. Худой мужчина с обритой головой, одетый лишь в отрез белой ткани, обводил процессию вокруг пока еще незажженного костра, брызгая на завернутое в саван тело маслом. Я решил было, что это плакальщики, но ничего траурного в них не было. Через несколько минут зажгли поленья. Бритоголовый и его друзья стояли вокруг костра и наблюдали за происходящим, шутя и болтая. Да уж, индусы не из тех, кто портит людям настроение! Траурные лица здесь были лишь у нас, туристов. Из прогорающего костра торчала пара обугленных ног. Один из служителей навалил на тело еще несколько бревен и аккуратно затолкал ноги обратно в огонь. Я так и не знал, как близко можно подходить к огню, но, похоже, это ровным счетом никого не волновало. Одна японка стояла почти среди друзей и родственников умершего, у самого огня, словно она была вдовой, готовой броситься в погребальный костер супруга, чтобы продемонстрировать свое горе. Впрочем, интерес японки был довольно незаинтересованным. Она просто хотела, как и все мы, получше рассмотреть происходящее, но действовала более решительно. Через ее плечо я разглядел голову трупа, роняющую в огонь капли жира, — я уже ясно видел обнажившийся череп. Снова раздалось пение — по улице приближалась еще одна процессия. Коровы флегматично подъедали остатки цветов. Пепел от прежних кремаций прочесывали граблями, а затем просто сгребали в воду. Тело, которое только что принесли для сожжения, погружали в реку, как бы совершая посмертное крещение.
Солнце село. Света почти не осталось. Лишь огни запылали еще ярче. Быстро темнело. В сумерках река казалась почти черной. Вниз по течению плыла флотилия плошек с огоньками — словно живое созвездие.
В рамках тактики «делать то же, что и остальные», я покинул Маникарнику и присоединился к толпе туристов, собиравшихся принять участие в ежедневной церемонии на Дашашвамедх-гхате. Кругом сновали дети, продававшие маленькие плошки-свечи, которые так прелестно смотрелись в ночной реке. Все они продавали одно и то же и твердили одно и то же:
— Пять рупий. Мать, отец, сестра, брат. Хорошая карма!
Я купил парочку, зажег и долго смотрел, как они, покачиваясь, уплывают в темноту. Какие они были красивые! И поначалу было также очень красиво покачиваться в сгущающихся сумерках среди других людей и молча ждать, пока все начнется. Впрочем, едва начавшись, церемония быстро потеряла свою привлекательность. Не нужно было быть слишком разборчивым, чтобы понять: в этом показном ритуале не осталось ничего живого — просто светомузыкальное шоу на потребу туристам. Весь смысл, который ему полагалось бы иметь, давно выветрился — не то вчера, не то бог весть когда. А может, это происходило прямо сейчас, у нас на глазах. В самом действе не осталось ни капли живой крови, но каждый вечер оно должно было кровоточить заново, отчего все это выглядело еще более вялым и безжизненным. Все равно что пытаться разглядеть в «Мышеловке»[125] кровавое величие «Макбета». Воздух кишел мошкарой и звуками нестройных песнопений, ревом раковин и колокольным перезвоном. Я ушел, не дожидаясь конца, прежде чем церемония набрала обороты.
На следующее утро, еще до зари, как только небо слегка посерело, я вернулся к реке. Было куда холоднее, чем я ожидал, но все же недостаточно холодно, чтобы отпугнуть сотни людей, пришедших совершить омовение в Ганге. Алое солнце как раз всплывало из речного тумана. Мир, исчезнувший с наступлением ночи, снова возвращался к жизни. Дальний берег оставался расплывчатым — неовеществленная серая мгла, лишенная форм и свойств.
Вместе с другими туристами из «Таджа» я погрузился в лодку, тихо заскользившую по реке, на берегу которой люди погружались в воду, молились, совершали подношения богам. Я сказал, что лодка тихо скользила, но на самом деле мы шли против течения: лодочнику приходилось усиленно грести, чтобы мы хоть как-то двигались вперед. Работа его отлично согревала. Он стащил через голову свитер и остался в красной рубашке с коротким рукавом. Остальные были в теплых куртках с капюшонами или кутались в одеяла — и из этих одеял мы глядели на костлявых — но иногда и очень даже толстых, — дрожащих, полуголых индийцев, мужчин и женщин, молодых и старых, плескавшихся в ледяной реке. Мы решили, что она наверняка должна быть ледяной, раз уж течет с Гималаев. Впрочем, трогать воду, чтобы проверить, никто не стал. Единственное, что мы были готовы иметь на руках, это антибактериальный гель, который у всех был с собой. В лодке было четверо постояльцев «Таджа» — самых отчаянных из всех, так как мы пришли к гхатам без гида. При нас была только теплая одежда, фотоаппараты и уверенность в том, что на берегу нас ждет водитель. Канадская пара, Джин и Поль — обоим было лет за пятьдесят, — были дружелюбны и открыты как большая снежная равнина. Мэри — голландка, ближе к сорока, довольно милая, но излучающая одиночество, обреченное само себя усиливать и продлевать. Выражение «она не в моем вкусе» в ее случае было чуть ли не универсальным: она была ни в чьем вкусе. Кто-то сказал ей, что в Ганге живут дельфины, которых иногда можно увидеть.
— В это как-то трудно поверить, — возразил я. Это было негативное высказывание, но никакого негатива я в него не вкладывал, к тому же последнее слово все равно осталось не за мной, поскольку в разговор вмешалась Джин, заявив, что слышала то же самое от человека, который видел их своими глазами.
В горизонтальном свете утреннего солнца стены и окна прибрежных дворцов щеголяли своей древностью. Но то, что солнце светит не сверху, а вдоль, не означает, что здания действительно древние. Свет древний, а сами здания — нет. Ни одно из них не старше восемнадцатого века. История Варанаси — это бесконечный перечень того, как город то «сравнивали с землей», то «вновь отстраивали». Но отстраивали его не раньше, чем он начинал выглядеть так, словно вот-вот рухнет сам. Каждый атом воздуха тут пропитан историей, которая даже не история, а миф, так что построенный сегодня храм назавтра уже выглядит так, словно стоял тут от начала времен. «Каждое утро — это заря времени, — записал я у себя в блокноте, — а каждый день — все время в целом».
Названия большинства гхатов были написаны линялыми, но яркими буквами: Чусати-гхат, Ранамахал-гхат. На Мунчи-гхате снимали не то фильм, не то видеоклип. Солнечного света им было недостаточно, и они усилили его мощными софитами, так что все вокруг сияло белым. Кхамешвар-гхат с поблекшим желтым храмом, который никто не хотел снимать, выглядел в сравнении с ним темным и скучным. На Чоуки-гхате плакат такого же желтого цвета гласил: «Ганга — это линия жизни индийской культуры». Храм на Кедар-гхате был расписан белыми и розовыми вертикальными полосами; а ведущие к реке ступени напоминали бело-розовую зебру: оп-арт на индийский манер. Край храмовой крыши заполонили боги, раскрашенные как игрушки, — распихивая друг друга, они поглядывая на нас, в то время как мы восхищенно глазели на них. Прачки-дхоби стояли по бедра в реке, молотя по камням одеждой и простынями, пока те, видимо, не приходили в состояние покорной чистоты. Чуть выше по течению был Харишчандра-гхат, еще одно место кремации, но далеко не такое живописное, как на Маникарнике. Горстка людей, несколько роющихся в пепле собак, всего один горящий костер. Его отличительным признаком было квадратное желто-черное строение, похожее на смотровую вышку спасателей, но бывшее, как и все здесь, либо храмом, либо усыпальницей, либо сразу и тем и другим.
— Будь по мне, — задумчиво сказал Поль, — я бы устроил все немного иначе. Сначала прачечная, а ниже по течению — крематорий.
— Согласен, — рассмеялся я.
Но не зря же кто-то из философов задавался риторическим вопросом: «Откуда взялась логика?» Из нелогики, конечно. И нелогичное находилось выше по реке, чем логичное. Туда-то мы и направлялись.
К нашей лодке подгребла другая. Человек в ней продавал те же плошки с фитильками, что так красиво плыли прошлой ночью по реке.
— Хорошая карма! — заверил он нас, но никто в лодке уже не хотел никакой кармы, ни плохой, ни хорошей.
Мужчина неопределенного возраста стоял по плечи в воде, молясь и не обращая никакого внимания на холод. Рядом с ним тщательно мылся белоголовый старец, используя в качестве мочалки полиэтиленовый пакет. Мы проплыли мимо того, что некогда было плавучей станцией по контролю за загрязнением воды. Она торчала в реке, сама превратившись в часть проблемы, с которой некогда боролась. За нею, на ступеньках Джайн-гхата, высился горчично-коричневый храм, также покинутый и никому не нужный; современное голубое здание позади него походило на спортивно-развлекательный комплекс.
Остальные члены нашей экспедиции отправились на лодке обратно на Дашашвамедх, а я сошел на Асси — последнем гхате в пределах береговой дуги города. Большинство других гхатов состояли из бетонных ступенек, но Асси был просто грязным глинистым берегом, полого спускавшимся к реке. Увидав, как я поднимаюсь вверх по склону, ко мне кинулся какой-то мужчина с вопросом, не нужна ли мне лодка.
— Я только что вылез из лодки, — отрезал я и тут же осознал всю неуместность своего ответа с местной точки зрения. Ведь вопрос был задан в тот момент, когда я был не в лодке и, значит, по всем меркам, мог ее нанять. Никакие расчеты относительно возможности принятия клиентом предложения в таких случаях не производятся; главное успеть его сделать, пока тебя не опередил кто-то другой. Что же до звукового оформления этой сцены, то звон колоколов из ближайшего храма соперничал со звуками индийской попсы, несшимися из колонок стереосистемы, чья громкость превышала все разумные пределы.
Солнце уже начинало пригревать. Мимо процокала коза, белая, но с черными ногами и копытцами, словно одетыми в кокетливые темные носки. Вдоль улицы располагалось несколько магазинчиков и небольшой отельчик, возле которого целыми семьями сидели нищие, все еще не согревшиеся после ночи. Пахло древесным дымом.
Было всего одиннадцать часов, но, поднявшись на заре времени, я уже испытывал острую потребность в ланче. В местечке с литыми красными стульями я устроился на террасе с видом на реку и заказал себе дал и рис. Противоположный берег уже не выглядел таким нематериальным, как несколько часов назад. Пришло еще несколько человек, один из которых уселся за столик рядом с моим. Лет ему было чуть за тридцать, волосы подстрижены коротко, по-военному; загорелые, мускулистые руки. На нем была синяя футболка с эмблемой нью-йоркской радиостанции FM-89,9 и линялые джинсы, на носу — авиаторские солнцезащитные очки. Пониже очков на правой скуле красовался шрам в форме буквы U. От всего этого вкупе с широкой улыбкой он выглядел как актер, играющий роль агента ЦРУ под прикрытием. Мы поздоровались, задали друг другу ряд обычных вопросов: откуда кто приехал и где в Индии успел побывать. Заказал он то же, что и я, — мне подали дал и рис вскоре после того, как он уселся за своей столик. Я протер руки антибактериальным гелем, сказал, что нет, нигде я больше не был и приехал сюда, в Варанаси, из Лондона.
— Чтобы сразу нырнуть где поглубже, ага? — сказал он.
Американец, возможно, сразу бы уловил по акценту, откуда тот родом, но по мне — он звучал просто как янки. Он был из маленького городка в Иллинойсе, но сейчас жил в Окленде. Сюда он приехал из Ченная, с фестиваля южноиндийской классической музыки, где было по семьдесят концертов в день. Это было потрясающе, сказал он. Через пару недель фестиваля он понял, что больше не захочет слышать ни одной музыкальной ноты до конца своей жизни. Я спросил, кто там выступал. Он стал сыпать именами, которых я не знал; правда, среди них была и пара знакомых. На своем веку мне доводилось слушать многих музыкантов, испытавших влияние индийской музыки, но в целом «индийское» звучание было для меня довольно смутным компонентом более широкой и вечно всеми пинаемой категории «этнической музыки». Радуясь случаю блеснуть своими познаниями, я перечислил тех, кого знал: Рави Шанкар, Талвин Сингх, Трилок Гурту… еще сказал, что слышал Нусрата Фатеха Али-Хана в Хэкни-Эмпайр в 1990 году, и под конец упомянул Ри Кудера и запись, которую он сделал с кем-то из индийцев, чье имя я забыл.
— Это В. М. Бхатт, — сказал он не ради рисовки, а просто чтобы помочь. — А я, кстати, Даррелл.
Мы пожали друг другу руки, официант принес его ланч, и мы углубились в дал в дружелюбном молчании. Он мне понравился. В нем было что-то надежное.
Когда я закончил, Даррелл вытащил из сумки толстый том истории Индии и спросил, читал ли я такую штуку. Пока он ел, я полистал его потрепанные страницы.
— Нет, не читал, — признался я. — И как оно вам?
— Сплошная мука. Единственное, что помогает мне не сдаваться, это «Индо-Гангская равнина». Мне ужасно нравится это словосочетание.
— Мне тоже… Это просто… очень звучное название.
— Сразу хочется туда поехать, правда? Увидеть эту Индо-Гангскую равнину.
— А может, мы уже на ней — в этот самый момент?
— Говорим об Индо-Гангской равнине, сидя на Индо-Гангской равнине, да? Неплохо!
— На самом деле я не очень понимаю, где она. Она такая большая, что непонятно, где она заканчивается.
— Или начинается.
— Она везде.
— Она нигде.
— Это…
— …просто Индо-Гангская равнина!
С этого момента стало ясно, что мы подружимся.
После обеда мы отправились в книжный магазин, где помимо книг продавалось много дисков с классической музыкой — ситар[126], саранги[127], вокал. Даррелл полистал «Индийские дневники» Аллена Гинзберга[128]. Там было несколько страниц с фотографиями, на одной из которых очкастый бородатый поэт стоит на чугунном балконе в Варанаси и пожимает руку смышленого вида мартышке без всяких признаков видового шовинизма (что, конечно, относится к Гинзбергу, так как сама обезьяна взирает на человека с явным недоверием).
— Вам нравится Гинзберг? — спросил меня Даррелл.
— Если честно, я всегда считал его выскочкой.
Возможно, как и мудрой обезьяне, мне следовало бы оставить свое мнение при себе, но книгу Даррелл все равно купил.
Рядом с магазином оказалось агентство путешествий, где Дарреллу нужно было заказать билеты на поезд. Он собирался уехать из Варанаси на пару недель, а потом снова вернуться, чтобы побыть здесь подольше, поселившись в «Виде на Ганг».
— Друг в Лондоне тоже советовал мне этот отель, — сказал я.
— Там суперздорово, — ответил он, — и это совсем рядом.
Мы попрощались у дверей книжного. Учитывая, как мало времени мы пробыли вместе, я даже удивился, что мысль о расставании с ним меня порядком удручила. Я сказал, что надеюсь еще увидеться с ним до отъезда.
— Наверняка, — ответил он, — город-то маленький. По крайней мере, туристическая его часть. А «Вид на Ганг» всего в паре домов отсюда. Сходите посмотреть.
Мы еще раз попрощались, и я пошел его смотреть. Ананд расписал его так, что я ожидал увидеть переоборудованный дворец махараджи или бутиковый вариант Тадж-Махала, но выглядел он вполне по-домашнему. Индиец за стойкой регистрации был так любезен и кроток, что, казалось, не желал говорить — словно сам акт произнесения слов подразумевал агрессию или, что более вероятно, мог вырваться наружу брызгами кроваво-красного бетеля, который он жевал. В ответ на мой запрос он принялся изучать лист бумаги величиной с рабочий стол, в котором, похоже, мог разобраться только он один. Хотя, судя по выражению его лица, ему это тоже давалось с трудом. Документ был организован достаточно просто: вверху — номера комнат, а по вертикали — даты. Однако все содержимое этой несложной таблицы было исчеркано вдоль и поперек, затерто ластиком и написано по новой. Глядя на изучающего ее регистратора, можно было решить, что это какой-нибудь провидец, пытающийся прочесть будущее в случайной мешанине чайных листьев на дне чашки, или археолог, столкнувшийся с интересным палимпсестом[129], хранящим тайны сгинувшей в веках цивилизации.
— У нас есть комната со вторника, — наконец сказал он.
— Со вторника, — повторил я.
На мгновение я выпал из реальности и вынужден был спросить, какой сегодня день.
Сегодня, как выяснилось, была суббота.
Точно, сегодня суббота, а во вторник я должен был лететь в Дели, а оттуда в Лондон. Я спросил, можно ли посмотреть комнату. Он ответил, что ко вторнику комната освободится, но неизвестно какая. После чего жестом пригласил меня все-таки пойти и посмотреть. На первом этаже была нагретая солнцем терраса, большая, обставленная цветами в горшках, с видом на реку. Противоположный берег к этому времени приобрел еще более явные очертания и даже некую форму. Чета средних лет обедала на террасе. Буквально по соседству высились бурые ступы пары храмов. На телеграфных проводах сидели два попугая цвета лайма. Всего тут было по два, но это даже радовало.
Я заглянул в комнату, вернулся на ресепшн и сказал, что я ее беру. Это было не совсем правдой. Я действительно собирался, как и планировал, вернуться в Лондон, но билет был со скользящей датой, а иметь в своем распоряжении не один план действий всегда приятно.
Регистратор записал мою фамилию в колонке комнаты номер девять — если я все правильно понял, — что, впрочем, отнюдь не означало, что мне достанется именно она. Я попрощался с ним до вторника, и он кивнул мне на индийский манер — покачав головой.
Обратно я шел вдоль тех же гхатов, мимо которых утром плыл на лодке. Это напоминало прогулку по пляжному побережью в Хоуве[130], только здесь было куда интереснее. Собака глодала нечто, показавшееся мне сначала куском дерева, но оказавшееся головой другой собаки или лисы. Дхоби уже закончили колотить бельем по камням. На некоторых гхатах ступеньки были покрыты сушащимися сари длиной с хорошую ковровую дорожку. Стали ли они чище, чем до стирки, сказать было трудно: к мокрой ткани пыль приставала в момент. Меня все так же спрашивали, хочу ли я взять лодку, и я все так же отвечал, что нет. Мужчина, которого я видел с реки, все еще стоял по плечи в воде, молясь и пребывая в трансе. Возможно, он был здесь уже не одну неделю, и даже не один год.
По дороге я пытался — частично для себя, а частично ради статьи, которую мне предстояло написать, — запомнить хотя бы в общих чертах последовательность гхатов, понять, как они выглядят и что на них происходит. С Маханирвани все было просто: он спускался к реке широким бетонным фартуком, и на нем паслись буйволы. Даже не столько паслись, сколько праздно слонялись, а присматривавший за ними мальчишка время от времени хлестал их хворостиной. Учитывая, что это были водяные буйволы, устроились они тут весьма недурно. Время от времени буйволы — а с ними были и коровы — преклоняли колени у кромки воды или просто садились в реку. Возможно, они даже не подозревали о существовании такой вещи, как трава. Для них это были самые настоящие, хоть и несъедобные прерии. В реальности же это были даже не прерии, а часть крикетного поля, на границе которого, прямо среди скотины, нес вахту тощий мальчишка, призванный следить за тем, чтобы мячик не улетал в Ганг. Это был теннисный мячик, мокрый и грязный, однако у подающего был донельзя решительный вид. Правда, у отбивающего он был еще решительнее, и игра часто прерывалась, пока мальчишка, который по идее должен был этого не допускать, вылавливал мяч из реки. Все это могло бы стать отличной иллюстрацией статьи о закате популярности крикета в Англии.
Большинство зданий смотрели на реку, наслаждаясь видом. Однако то, что стояло на Данди-гхате, было повернуто к ней спиной и походило на раздевалку скатившегося в нижнюю лигу футбольного клуба, игравшего в оранжевом и бледно-голубом. Дворец на Карнатака-стейт-гхате щеголял трагическим великолепием покинутого игорного дома для пенсионеров и домохозяек. Аура тяжелых времен — массовых развлечений и поблекшей славы — простиралась до самой Харишчандры, где проводились кремации и стояла желто-черная спасательная вышка. Там уже горела пара костров, а золотой мусор ноготков и саванов у кромки воды, казалось, копился целые века. Вода у ступеней выглядела мертвой.
Я миновал Кедар-гхат с его полосатым бело-розовым храмом. Белые полосы на поверку оказались светло-голубыми. Предложения лодок не прекращались ни на мгновение.
Впереди что-то происходило: толпа народа, какая-то суета. Это была съемочная площадка, которую я видел с воды, — огромные экраны, осветительные приборы, камера на рельсах. В царившей там неразберихе было совершенно непонятно, где тут съемочная группа, где массовка, а где просто зеваки. Рядом с этим столпотворением, но совершенно вне его, сидел перед маленькой оранжевой часовней святой старец. У него были седые волосы и борода, выглядевшая так, словно ее сделали из шкуры какого-то длинношерстного животного, мифического по происхождению, находящегося на грани вымирания и страдающего недержанием. На куске синего брезента сидело, скрестив ноги, с дюжину слушателей, внимая учителю, перед которым лежала некая — очевидно, святая — книга размером со слегка устарелый дорожный атлас какой-нибудь крупной страны. Говоря «слегка устарелый», я имею в виду времена, когда машин еще не было. Да и дорог, в общем, тоже. Тем временем режиссер проинструктировал о чем-то актеров, съемочную группу и массовку. На площадке появились новые экраны и осветительные приборы. Один из актеров играл роль святого. Он выглядел более здоровой и прилично одетой версией сидевшего чуть поодаль старца. Волосы и борода актера были явно накладные: они выглядели как человеческие, но в то же время не его. Краснозадые обезьяны скакали и вопили в кронах деревьев за часовенкой, периодически спрыгивая на ее оранжевую крышу. Одна даже слезла вниз и попыталась отобрать у гуру святой дорожный атлас. Действовала она быстро, но оказалась недостаточно сильна. Атлас выпал у нее из лап, и учитель преспокойно продолжил свои наставления. По ходу дела он сунул руку в полиэтиленовый пакет, достал оттуда нечто похожее на кусок старого помета, хотя на самом деле это был сильно перезрелый банан, и не глядя швырнул в сторону обезьяны. Последняя немедленно схватила подачку и снова вскарабкалась на крышу святилища. Режиссер крикнул: «Начали!» — а обезьяна уселась и стала поедать банан над головой у гуру. Снимали сцену, в которой герой стоит на переднем плане, а молодая женщина в зеленом сари пытается проскользнуть незамеченной у него за спиной. Киношный святой в ней был не занят и просто слонялся поблизости. «Снято!» — объявил режиссер. Пресытившаяся бананом обезьяна повисла вниз головой и схватила одну из ноготковых гирлянд, висевших за спиной у настоящего гуру. Возможно, эти двое работали на пару, и смысл происходящего заключался отнюдь не в уроке дорожного ориентирования, а в наглядной иллюстрации процесса эволюции. Все мы поначалу предавались кражам, качаясь на деревьях и норовя стащить все, на что только можно наложить лапу, — книгу, гирлянду, банан. Но со временем мы научились сидеть со скрещенными ногами, и говорить, и слушать, так что потребность красть и подворовывать постепенно сошла на нет. По большому счету, то, что некоторые из нас пошли еще дальше и стали снимать фильмы или слагать стихи, уже ничего не меняло. Обезьяна сидела на оранжевом куполе, склонив голову набок, словно осознавая порочность своего поведения. Казалось, она внимательно слушает… хотя, возможно, она просто глумилась или прикидывала, как раздобыть очередной банан. Режиссер снова скомандовал: «Начали!» — и ту же сцену отсняли по новой. Герой бесстрастно смотрел прямо в камеру. За его спиной мелькнула девушка в зеленом сари. Обезьяне все это надоело, и она ускакала прочь. Святой старец продолжал бормотать свои наставления.
Я отправился обратно в отель на авторикше. Проехав пару сотен ярдов, водитель остановился, чтобы забрать у приятеля груду крошечных лиловых баклажанов. Почти в ту же секунду что-то стукнуло нам по багажнику. Я не обратил на это особого внимания — просто небольшое столкновение. Возможно, в нас въехал сзади другой автомобиль или тук-тук. Но это оказался полицейский, стучавший по крыше нашего тук-тука своим жезлом: увесистым местным эквивалентом дорожного знака «остановка запрещена». Мы снова рванули вперед. Это мало походило на обычную поездку. В «амбассадоре» мы ехали как в бронированном танке. Сейчас же происходящее больше походило на футбол, притом что в роли мячика выступали мы. Впрочем, это был даже не футбол, а что-то вроде видеоигры. Я оказался слишком высок для тук-тука. Сложившись вдвое, чтобы втиснуться на сиденье, я почти ничего не видел, пока что-то не оказывалось в нескольких футах или дюймах от тук-тука, грозя разнести нас на кусочки. Вдобавок ко всему остальному — конкурирующему движению, встречному движению, шуму, грохоту и выхлопным газам — мы, видимо, еще и участвовали в гонке с препятствиями. Мы без конца подскакивали на чем-то вроде лежачих полицейских или проваливались в какие-то канавы. Любая подвеска здесь бы сразу приказала долго жить, но, поскольку все подвески здесь уже давно свое отжили, это никого не волновало. Тут вообще никого ничто не волновало, так что мы просто лихо перекатывались через все подряд. Разве что кроме люка, который по местному обыкновению был не закрыт. Мы обогнули его в самый последний момент, хотя неизвестный доброжелатель честно предупредил нас об опасности, положив на его край полкирпича. Машины, автобусы и тук-туки влетали в поле зрения и с ревом проносились мимо. Гениальные бизнес-идеи — не мой конек, но тут мне пришло в голову, что этот заезд можно было бы переложить на компьютерную игру под названием «Varanasi Death Trip»[131], или просто — памятуя о Де Ниро и Скорсезе — «Водитель тук-тука»[132]. Цель ее была бы в том, чтобы добраться из «Тадж-Ганга» до Маникарники (и обратно), не попав в аварию, не утратив рук и ног и сохранив хоть какую-то часть нервов.
В обретенной ценой немалых страхов безопасности «Таджа» я съел обед, а после выпил пива в баре: им оказался «Кингфишер» со слегка бензиновым вкусом, но зато в стеклянной бутылке. Народу вокруг было мало; за барной стойкой никто не сидел, и поговорить было не с кем. Вероятно, именно с целью скрасить подобное одинокое питие, отель снабжал своих постояльцев подборкой книг о Варанаси. Одна из них называлась «Город конца времени» и состояла из фотографий Майкла Акермана. К ним нужно было чуть приноровиться: здания выглядели знакомыми, но снимки были черно-белыми, а в городе, по которому я гулял весь день, самой примечательной чертой был цвет. Возможно, это был самый разноцветный город на земле. Избавиться от цвета — значит воссоздать место, которое в некотором роде было совсем не местом, а скорее ошеломленным впечатлением от увиденного. Это были фотографии мыслей фотографа, того, что творилось у него в голове, пока он был здесь, или потом, в его воспоминаниях, или пока он спал, утопая в поту и видя во сне Варанаси. Тут были обезьяны, печальные и задумчивые, понимающие, хоть еще и не зная того, что если другие вещи умирают, то когда-то умрут и они. И вот, пожалуйста, одна из них, всего лишь через несколько страниц, уже была мертва, как чья-то любимая собака, — а вокруг нее валялись мелкие монеты. Люди сидели и читали за решеткой не то клетки, не то храма: нормальная жизнь в месте, где сама идея нормального была не менее экзотичной, чем обезьяна, прикорнувшая у вас на плече. Улицы — как провалы между зданиями, где можно ходить, куда можно выкидывать мусор, где можно жить или не жить. Лицо, испаряющееся в огне. Обритые головы, темное пятно какого-то животного. То, что больше не живо, грифы размером с индейку. Тряпки, бывшие когда-то одеждой. Ткань с ликами божественного, вся в пятнах. Снимки были пятнами. Время было пятном. Я сделал глоток пива. На эти изображения должно было не просто смотреть, как на снимки. Они заговаривали с тобой, спорили и даже пытались танцевать. Одни походили на яркий день после мрака какого-нибудь закоулка, в другие было нельзя проникнуть взглядом, как после целого дня достопримечательностей на ярком солнце не разглядеть все тот же закоулок; лучшие же были сразу и тем и другим. Посмотришь на них немного, и краски реального города — розовый, и оранжевый, и вермильон, и синь неба — выцветали, забывались, сужались до бесцветного накала электрической лампочки, белого сияния хлопка, блика солнца на воде или радужке глаза и черноты всего остального, — ночи, которая никогда не уходит, а маячит неподалеку и ждет.
На следующий день я углубился в эти переулки, на этот раз цветные. Со мной была моя крошечная цифровая камера, но кончилось все, как всегда, тем, что ни одного снимка я так и не сделал, хотя все кругом так и просилось в кадр. Во многих переулках едва бы разошлись два человека, но мимо меня умудрялись протискиваться велосипеды, мотоциклы и даже коровы. И это то, что я начинал понимать об Индии: здесь для всего есть место. Даже когда места нет, оно все равно найдется. Верно было и обратное: в сколь бы узком переулке ты ни оказался, всегда найдется еще более узкий проход, ведущий в еще более узкую улочку. Когда это переставало быть правдой, там оказывался тупик, или же узкая улочка выводила тебя на такую, что казалась рядом с ней целым проспектом. Трудно было даже представить себе, что эту сеть переулков и проходов можно нанести на карту. Но в этом не было нужды. Все и так прекрасно знали, куда идут и как туда попасть. Большинство же были уже там. Женщины в желтых и красных сари мелькали по сторонам как подвижные свечки. Все тенистые уголки и задворки были набиты магазинчиками, прилавками и спящими людьми. Каждый был занят каким-нибудь делом, даже если оно заключалось в том, чтобы просто сидеть. Сидеть, бить баклуши — а на самом деле ждать. Все эти ленивые зеваки, ничем, казалось бы, не занятые, мгновенно оживлялись, как только появлялась хоть какая-то возможность что-нибудь продать. Это удавалось им, даже если мгновение назад они спали, подложив под голову затекшие руки. Если предметом продажи были ковры, то на их стопках они и сидели. Большая часть торговли шла прямо внутри общины владельцев прилавков. Они постоянно что-то друг у друга покупали: еду, чай, сладости. Но чаще всего они покупали деньги. Сдачи ни у кого никогда не было. Если кто-то из туристов хотел купить сувенир или игрушку для оставшихся дома, в Вашингтоне или Лондоне, детишек, то к другому прилавку тут же посылался мальчишка, чтобы купить мелких денег на размен. Таким образом, любая мелкая транзакция рождала невероятный всплеск экономической активности, которая расходилась волнами по всей округе, оживляя ее и пробуждая всеобщий интерес. Гашиша я еще не купил — и даже не был уверен, что хочу его курить, — но маленькую трубку по случаю уже приобрел. У продавца их были десятки, причем некоторые вообще не пропускали воздух. Я расплатился банкнотой в пятьдесят рупий и получил в качестве сдачи — после забега мальчишки — бумажку в двадцать рупий, которая выглядела так, словно ее выкопали со дна компостной кучи. По мне, так это был явный плюс — то, что в Индии вещи сохраняли свою ценность, несмотря ни на что. В другой жизни я, наверное, с удовольствием бы тут работал. Было что-то соблазнительное в мысли о том, чтобы работать за прилавком, где тебе сразу и рабочее место и паб, где можно зависать с друзьями без пива, без жены и даже без покупателей. Жизнь без жены была, конечно, менее заманчивой. В этом случае приходилось утешаться газетой. Многие тут носили впечатляющие очки с толстенными линзами и черными пластмассовыми оправами, придававшие акту чтения газет ученую важность. Каждого читателя газеты, сколь бы ни было вокруг суетно, окружала медитативная атмосфера старой библиотеки. Неспешный шелест страниц. Солнце в зените; от пикирующих вниз лучей тень кажется глубже. Солдаты в свитерах цвета хаки сидят, баюкая на коленях ружья с деревянными прикладами, напоминающие о Второй мировой войне. Рядом — маленький, залитый солнцем дворик, где играют в бадминтон. С трех сторон его окружают отвесные зеленые стены, и сидящим на них обезьянам нет никакого дела до игры. Их интересуют только бананы, а бананов сейчас не дают.
Вскоре после этого я оказался возле храма — не знаю какого, но точно не огромного Вишванатха[133] с мерами безопасности на входе, как в аэропорту, включая металлодетекторы и обыск. Вот почему тут толклось так много солдат: Вишванатх, Золотой храм, и мусульманская мечеть располагались чуть ли не на голове друг у друга, призывая верных жить в мире. Старый сценарий «соседей по преисподней», возведенный в степень активного теологического принципа и запредельной близости. Нет Бога, кроме Бога, гласит один храм. Есть миллионы богов, утверждает другой. И тот факт, что люди годами жили в гармонии, не означает, что через мгновение они не вцепятся друг другу в глотку. Отсюда и солдаты.
Я снял сандалии и вошел в храм. Вымощенный плиткой пол оказался влажным. Внутри было темно, сыро и не слишком чисто. Моему взору предстал широкий ассортимент богов, втиснутых в расположенные вдоль стен ниши, и не менее широкий ассортимент детишек, жаждущих поведать гостю, кто это такие. Был тут и Ганеша, увитый оранжевыми ноготками, темноликий, с глазками-бусинками, сделанными и в самом деле из бусин. Ганеша, тут же объяснил один мальчишка, это бог удачи — и нетрудно было понять почему. Он выглядел так, словно не мог поверить в свой счастливый жребий — полуслон, а все же бог! Это вообще характерная черта индуизма: сколько бы их ни было, всегда можно втиснуть еще одного. Там были и Гаруда — полуорел, — и обезьяна Хануман. Индуизм — это студия Диснея мировых религий. Каждому богу полагаются супруги, и всем им — персональные транспортные средства: Вишну путешествует на орле (Гаруде), Шива — на быке (Нанди), Картикейя — на павлине… Полный перечень средств передвижения и всех их ответвлений отследить нереально, но можно почти наверняка предположить, что этот «транспорт» (который, казалось бы, мог сам позаботиться о собственных перемещениях) тоже что-то под собой имеет, и тот же Гаруда порой разъезжает на сове или черепахе. А слон Ганеша на чем? Ну разумеется, на мыши.
Если у великих монотеистических религий и есть что-то общее, так это отсутствие чувства юмора. Найдется ли в Библии или Коране хотя бы одна шутка? Индуизм же, как я теперь ясно видел, был одной сплошной шуткой. Но не просто шуткой, а чем-то абсолютно смехотворным. Но и это еще не все. Идею смехотворности он перечеркивал тем, что выстраивал из нее целую космологию. Не знаю, насколько верно это наблюдение, но здесь, в индуистском храме, сама идея смехотворности становилась возвышенной.
Храм оказался очень маленьким, и моя экскурсия быстро закончилась. Я дал мальчишкам пару старых рупий и вышел на уже почти забытое солнце. Мои сандалии стояли там, где я их оставил. Приятно было снова надеть их, чтобы не брести босым по пыльному, усеянному навозом Варанаси. Мысль об изобретении и развитии обуви как несомненном признаке эволюции преисполнила меня счастьем; мои комфортно обутые ноги зашагали пружинистым шагом. Но одновременно с этим энтузиазм мой начал быстро испаряться. Идея смеха как оживляющего жизненного принципа, только что казавшаяся столь убедительной, на фоне этой, куда более пешеходной идеи прогресса выглядела безнадежно… смехотворной. Стоило мне это подумать, как я тут же расхотел гулять. И захотел отправиться обратно в отель, чтобы сыграть по дороге в «Varanasi Death Trip».
Я купил банку кока-колы (чтобы разжиться мелочью) и поймал тук-тук (у водителя которого мелочи, конечно, не было). Я не хотел называть свой отель, так как это неизбежно влекло за собой резкий скачок цен, но понял, что ни одного другого ориентира вблизи него я не знаю. Так что пришлось озвучить «Тадж». Однако пять минут спустя мы решительно свернули с главной дороги.
— Эй, куда мы едем? — вскрикнул я не то чтобы в сильном гневе, но просто чтобы перекричать дорожный шум и собственное стрекотание тук-тука. — Почему мы свернули?
— Главная дорога перекрыта, — сказал он.
Она, конечно, могла быть перекрыта, но вряд ли находилась в худшем состоянии, чем эти объездные пути. Да и не пути это были вовсе, а просто пыльные проулки, немощеные, замусоренные, щебенистые. Мы снова свернули — на еще более узкую и менее «проезжую» улочку, тянувшуюся, наверное, через одну из самых нищих частей города. Впрочем, возможно, это было не так. Есть множество градаций бедности. В сравнении с некоторыми другими местами это вполне могло показаться относительно благополучным и даже желанным. В куче мусора рылись две счастливые с виду свиньи. Какая-то часть кучи уже слежалась в однородную темную массу, в геологическую залежь концентрированной грязи — чистую, совершенно лишенную примесей грязь, грязь, в которой уже не было ничего, кроме грязи. Верхний же ее слой состоял из гниющих овощей, из которых приспособленное к подобной жизни существо наверняка могло бы извлечь массу высокоусвояемых питательных веществ. Венчали кучу корона из побуревших ноготков, куски промокшего картона (не годящегося уже даже на растопку) и вполне свежие экскременты. Все это было украшено россыпью синих полиэтиленовых пакетов. В каком-то смысле это был потенциальный туристический аттракцион: современная манифестация классической идеи нищеты и убожества. Она настолько меня взволновала, что я уже был готов попросить водителя остановиться, чтобы рассмотреть все получше, возможно, даже сделать пару снимков. Но, прежде чем я успел озвучить эту идею, водитель остановился сам. Нас окружала плотная толпа детей. По Варанаси носятся орды грязных ребятишек, босых и в расползающихся от старости футболках, вымогающих у туристов рупии. Но эти дети были куда беднее, и это сразу бросалось в глаза. Они были нищими даже по самым безденежным меркам. Они были грязными даже по самым грязным стандартам — грязнее окучивающих помойку свиней. Вполне возможно, что эта помойка на самом деле была их игровой площадкой… если не кухней. В них не было ничего очаровательного, и все же они были детьми, детьми с зубами, и глазами, и тонкими ручками, и в силу этого обладали — или могли бы обладать — неким очарованием. Это были детеныши гиены, городские щенята динго, дикие и опасные создания. Точнее, это были отдельные, но весьма подвижные части единого шевелящегося роя с дюжинами глаз и многочисленными ручками, каждая из которых тянулась в тук-тук, хватая все подряд — мою сумку, камеру, руки, карманы. Водитель выглядел насмерть испуганным. К счастью, со мной уже раньше случалось нечто подобное, когда в Неаполе на меня напала банда десятилетних мальцов. Тогда я просто не успел сориентироваться; когда же я понял, что происходит, они уже скрылись с моим бумажником. Сейчас, крепко зажав сумку между коленей, я лягался и раздавал оплеухи направо и налево, используя локти, кулаки и прочие части тела, чтобы лупить все, что оказывалось в пределах досягаемости, но стараясь не попасть никому по лицу. Вряд ли у них имелись какие-то родители, но перспектива появления на сцене чьего-нибудь папаши, жаждущего узнать, почему этот богатый турист расквасил нос его сынишке, меня совсем не вдохновляла. Отчаянно дерясь, а заодно приглядывая за своими карманами и не выпуская из захвата ценное имущество, я велел водителю немедленно трогаться.
— Поезжай! — заорал я со всей имперской властностью, на какую только был способен. — Поезжай, я сказал!
Тук-тук ожил. Ручонки все еще шарили и тыкали; не в силах заграбастать что-то более существенное, они принялись больно щипаться. Тук-тук медленно тронулся с места.
— Быстрее! — взревел я, не прекращая молотить все, что попадало под руку. — Езжай по ним, если понадобится!
Мы с ревом ринулись прочь. На крышу тук-тука приземлился прощальный привет — камень или кирпич, а скорее всего просто кусок сухого дерьма, — но мы уже вырвались из окружения. Водитель ничего не сказал. Я тоже ничего не сказал. Было неясно, намеренно ли он меня, как пишут в триллерах, подставил, был ли он замешан в организации этой засады или стал такой же, как и я, невольной его жертвой. Вид у него был напуганный. Ну да бог с ним, я уже был в безопасности. Я подумал, что версию этого инцидента стоило бы включить в сценарий «Varanasi Death Trip». Я высунулся наружу и поглядел назад. Детеныши гиены все еще толпились возле кучи мусора. Они возбужденно прыгали, размахивая каким-то поблескивающим на солнце предметом, словно это был трофей, свидетельство и залог победы. Я проверил свои вещи: камера была при мне, так же как и айпод; пояс с деньгами был по-прежнему на талии. И тут я понял: меня таки ограбили. Трофеем, которым они восторженно размахивали, была пустая банка из-под кока-колы.
На следующий день я обзавелся еще одним новым другом — или, по крайней мере, разговорился еще с одним человеком. Длинный пролет из синих и белых ступенек вел от Шивала-гхата к книжному магазину и кафе «Матери Риташи»[134], на крыше которого на одном из двух свободных белых стульев сидел Андре Агасси[135]. Не тот Агасси, какой он сейчас или каким был несколько лет назад к моменту своего ухода из спорта — бритоголовый, славный Будда с переваливающейся походкой и бекхендом[136] в два кулака, — а Агасси-неформал лет в двадцать с небольшим — небритый, длинноволосый, с серьгой в ухе и в бейсболке. Я уселся на другой стул, гадая, работает он тут или просто зашел что-то купить. Как выяснилось, немного того и другого. Его друг, Чандра, держал этот магазин, а он время от времени заходил потусоваться и помочь. Акцент у него был американский, звали его Ашвин[137], а сходство с Агасси — я просто не мог его не отметить — было не только внешним. Как и у Агасси, у него были персидские предки.
— Но все же вы американец?
— В этом воплощении.
— А в предыдущих? Вы знаете, откуда были родом в прошлых жизнях?
— От бога.
— Ну, а если говорить об этом воплощении, из какой вы части Америки?
Ашвин был из Калифонии и жил в Варанаси уже четыре недели. Он только что вернулся из одного бангладешского офтальмологического лагеря «Матери Риташи», где делали недорогие операции по удалению катаракты и исцеляли прочие несложные болезни. Я ничего не знал о матери Риташе, и он принес мне книжку с картинками, рассказывающую о ее жизни. У нее было бледное лицо, а нос ее, казалось, побывал в руках того же пластического хирурга, который работал с Майклом Джексоном. Определить ее возраст было невозможно. Но так или иначе, то была добрая сила. Все собираемые ею деньги шли прямиком на нужды бедных. Ашвин познакомился с ней в Санта-Фе, где она работала уже с богатыми, собирая деньги на благотворительность. Поначалу он отнесся к ней с обычным скептицизмом, но, увидав ее воочию, ощутил исходящую от нее эманацию чистой любви. Впрочем, и это его до конца не убедило. Он спокойно ушел, но позже в тот же день столкнулся с нею снова — она сидела с друзьями в парке под деревом. Она снова посмотрела на него, и он ощутил, как ее любовь — не к нему лично, а ко всем, к миру, любовь вообще — наполняет его сердце. И так, через любовь к ней, он нашел Бога.
— Какого именно бога? — спросил я.
Я не хотел звучать цинично, но тут, в Индии, и вправду было из чего выбирать, и некоторое прояснение вопроса было бы нелишним. Он сложил ладони вместе и поднял глаза к… небесам, да, пожалуй, так это и следует назвать.
— Бога любви, — ответил он.
Это был хороший, совсем не сектантский ответ. Придраться тут было не к чему, хотя в глубине души я, конечно, так и сделал. Он рассказал мне кое-что еще о матери Риташе и о том, чем она занималась, и все это — в этом также вряд ли можно было сомневаться — делало мир лучше. Тем не менее было в блаженном взгляде Ашвина что-то такое, что невольно наводило на мысли о внушительных дозах прозака или золофта[138]. Любовь, которой он был полон — искренняя, абсолютная, безусловная, жизнеутверждающая и достойная всяческих похвал, — вот и все, что отделяло его от тяжелой депрессии, которая, как ночь на аккермановских снимках, ждала своего часа. Любовь держала эту ночь поодаль, но в конечном счете она же делала его более восприимчивым к этой внутренней тьме. Какая-то часть меня даже втайне надеялась стать свидетелем этой коллизии.
И все равно было славно посидеть тут, попить колы и послушать его речи. На прощание мы пожали друг другу руки, сказав, что наверняка скоро увидимся.
Я выписался из «Таджа» и въехал в «Вид на Ганг». Потом позвонил в авиакомпанию, отменил имевшуюся бронь и сделал новую — на тот же ночной рейс в Лондон, но пару недель спустя. Я не спешил покинуть Варанаси, но с удовольствием перебрался в другой отель. Волнение и шум ежедневной дороги до гхатов и обратно успели мне поднадоесть — как если жить где-нибудь за городом и ездить на работу в центр, — а от санитарного комфорта «Таджа» я просто устал. Переезд в «Вид на Ганг» преисполнил меня таким счастьем, что весь первый день я провел на террасе, заказывая себе то ланч, то напитки и просто читая. Ну, или пытаясь читать.
Я накупил кипу книг по индуизму в книжном магазине с многообещающим названием «Гармония» — том самом, куда мы заходили с Дарреллом, — но на них оказалось очень трудно сосредоточиться. Как я ни старался, я не мог отследить, кто там кто и что к чему относится. Было трудно понять — персонаж в одной части истории и в другой, через пару страниц — это одно и то же лицо или несколько? Все были аватарами[139] всех остальных. Просто собой не был никто. Шива, Вишну, Кришна — все они были друг другом. Это был мир, в котором Тор[140] вместо того, чтобы размахивать молотом и превращаться обратно в тщедушного Дона Блейка[141], возгорался к новой жизни в виде Человека-Факела[142] (который одновременно был Доктором Роком[143]) или, что еще более непостижимо, в виде пришлой звезды из конкурирующей мифологической системы: Зеленого Фонаря[144] или, скажем, Лоис Лейн[145]. (Вообще это странный недосмотр со стороны «Марвел», что супергероический потенциал индуизма до сих пор до конца не освоен.) Даже не будучи друг другом, они все время превращались во что-то еще, чтобы наказать соперника или выбраться из очередной передряги. А так как силы и возможности их были безграничны, никакая передряга не длилась слишком долго. Имена были, конечно, важны — что могло быть важнее имен! — но они все время менялись и были, так сказать, в совместном пользовании. Другая сложность заключалась в том, что эпические проделки этих богов — все эти байки о яйцах размером с планету, каплях воды, из которых возникают озера, морганиях век, способных погасить солнце, и испытаниях, длящихся сотни тысяч лет, — относились как раз к тем вещам, которые я никогда не мог читать. После досадного опыта с Габриэлем Гарсией Маркесом, я не выносил даже намека на магический реализм в литературе. Стоило мне, помнится, дочитать до того места, где деревья у него в романе начинают разговаривать друг с другом, как я тут же забросил эту книжку. Но в сравнении с тем, что творилось в индийских мифах, говорящие деревья были скучным документальным репортажем. Магический реализм тут не пытался прикрыться даже фиговым листочком чего-то реального. Возможно, если поглощать эти сказки еще в детстве, с головой погружаясь в баснословность «Махабхараты» и «Рамаяны», то мозг под действием такого раннего импринтинга отформатируется нужным образом, и все это будет иметь какой-то смысл, аллегорический и в то же время буквальный, фантастический, но вполне достоверный. Увы, этот шанс я давно упустил.
Возможно, я слишком к себе придираюсь, так как кое-что я все же усвоил. В большинстве книг имелись глоссарии, и, хотя далеко не все термины я понял до конца, было приятно узнать, откуда такие вещи, как «Шакти»[146] (группа, образованная Джоном Маклафлином, Рави Шанкаром и Закиром Хусейном в семидесятые годы), «Раса»[147] (ресторан в Стоук-Ньюингтоне), «Самсара»[148] (клуб, где играют трансовую музыку) или «Сурья»[149] (как Сурья-Самудра, курорт в штате Керала), позаимствовали свои названия.
Благодаря Керуаку, Гинзбергу и битникам понятия кармы и дхармы давно вошли в обиход, но такие слова, как «мокша»[150] и «бхакти»[151], были мне внове. Они не поддавались прямому переводу, так как идеи эти не имели эквивалентов в нашем ограниченном западном сознании. Зато с «даршаном» — актом божественного прозрения, откровения — было все понятно. Именно за этим индуисты ходят в храмы: увидеть своего бога, дождаться, когда он им откроется. Чем больше внимания уделяется богу, чем больше на него смотрят, тем больше его сила и тем легче его увидеть. Ты идешь увидеть своего бога и тем самым улучшаешь его видимость: исходящая от него аура частично питается даруемой ему силой.
Усвоить эту идею было просто, так как у нее есть вполне мирской аналог — поклонение знаменитостям. Чем больше звезду фотографируют, тем сильнее ее звездная аура. Я как-то видел Дэвида Бекхэма, выходившего из автобуса на курорте Ла Манга в Испании. Я, разумеется, знал его по фотографиям, и теперь их суммарный эффект давал о себе знать. Вспышки фотокамер делали его блистательным, глянцевым, почти божественным. Я узрел его во всей его бекхэмности и бекхэмичности. Между тем тот, кто не видел всех этих снимков, не был в курсе изменений его прически и ползучей россыпи его татуировок (в том числе и неправильно написанного на хинди слова на предплечье), скорее всего, не увидел бы его таким. Но, возможно, такой гипотетический наблюдатель, который бы не знал, что перед ним сам Дэвид Бекхэм, — увидел бы нечто более истинное или хотя бы более интересное, чем все остальные, прекрасно понимающие, кого и что они видят. Здесь, в Варанаси, плохо информированный турист явно видел не тот же самый город, который видели тысячи паломников, специально приехавших сюда или постоянно здесь живущих. Но все это отнюдь не означало, что турист не способен на даршан в той или иной форме. Даже не зная, на что я смотрю, я все равно мог видеть. И если есть на свете место, специально созданное с учетом глаз и зрения, — возможно, для этого даже есть какой-нибудь санскритский термин, — так это Варанаси.
На следующее утро смотреть было решительно не на что. Река, гхаты, даже небо — все исчезло. Густой туман стер все, оставив лишь какие-то неясные детали: размытый силуэт соседнего храма, темные тени, движущиеся по улице внизу. Я оделся и пошел вниз, к гхатам. Сперва до меня доносился чей-то кашель, и только потом я различал в паре футов от себя человека. На каждом шагу мне все равно предлагали лодочные прогулки, хотя проку в них не было никакого: вокруг не было видно ни зги. Но потом я все же кое-что увидел: из тумана выплыла лодка, словно возвращавшаяся из царства мертвых… или немертвых. В ней сидело двое пассажиров, закутанных в серые одеяла. Через некоторое время она опять растаяла в тумане, бесшумно погрузившись в его огромное серое одеяло. Несколько пятен цвета — желтая вывеска, синяя стена — выглядели сырыми и приглушенными, словно были собственными призраками.
К полудню туман незаметно рассеялся, отчего день показался еще ярче обычного. На террасу гостиницы прилетел зимородок, радостный оттого, что его видят, что он опять существует. Когда я снова вышел на улицу, все небо было заполнено змеями. Еще раньше я заметил на Мунши-гхате небольшое синее святилище размером с будку аварийного телефона на обочине шоссе. В центре святилища, там где полагалось бы быть телефону, виднелось что-то оранжевое, обшарпанная и неопределенная фигура. В ее общей округлости можно было различить ком тела и комочек головы, но только более круглый и менее очерченный, чем у индийского бога в изображении Генри Мура[152]. Кто же это был? Ганеша? На самом деле это мог быть любой из них. Определить было совершенно невозможно, но сила его от этого не уменьшилась и не иссякла — напротив, его сущность лишь сгустилась. Она рождала ощущение не эрозии или деградации, а отстраненности. Бог, кем бы он ни был, удалился вглубь себя. Сократив себя почти до ничего, вплотную подойдя к тому, что уже не поддавалось определению как самость, он еще больше обнажился и стал самим собой. Я был в этом уверен, хоть и не понимал, на кого или на что смотрю.
— Кто это? — спросил я мальчишку.
— Хануман, — мгновенно ответил он.
Почему? Потому что узнал обезьяньего бога (или увидел, что это он) или потому что был в курсе, что эта округлость была его статуей, так как знал, что в этом синем святилище — как и во многих других — живет Хануман? Все эти вопросы были излишни. Все они были об одном и том же. Эта шаровидная оранжевая масса была Хануманом — и точка.
— Очень могущественный бог, — добавил мальчишка.
Доказательством того служило уже самое отсутствие сомнений, с которым он назвал его имя.
Домой я ехал на лодке. Воздушные змеи реяли над городом, как искры над костром.
На следующее утро снова был туман, и на другой день тоже. Вдобавок к этому по всей Северной Индии резко упала температура. Газеты пестрели репортажами о «морозах» и нарушениях работы транспорта. Самолетные рейсы отменялись, а наземные перевозки по всем направлениям происходили с сильными задержками. Поезда из Дели в Варанаси опаздывали на десять часов. Даже змеи над городом почти не летали.
Когда туман отступил — что меня сильно порадовало, так как эффект новизны к тому моменту давно прошел, — змеев над городом стало прибавляться с каждым днем. Повсюду в небо с земли тянулись струны. Тонко и незаметно они обвили своей упругой сетью весь город — даже лодочные весла на реке. Нельзя было ступить и двух шагов, чтобы в них не запутаться. Они развевались на каждом дереве и свисали с каждого телеграфного столба как оборванные провода.
Теперь я уже узнавал людей вокруг — это были все те же дети со змеями, все те же уличные проныры, все те же лодочники. Туристы постарше и посостоятельнее тут долго не задерживались, отправляясь дальше, в Агру или Кералу. Мало кто из них оставался больше чем на два дня. Путешествовавшая с рюкзаками молодежь зависала надолго, и чем дольше она здесь зависала, тем больше соответствовала международным стандартам бомжовости. У многих были дредлоки; другие же — как Ашвин, с которым я еще пару раз сталкивался, — носили тюрбаны, которые прежде, похоже, были саронгами. Женщины носили покрывала, чтобы защититься от дневного солнца и вечерней прохлады, а также из уважения к местным стандартам скромности. Большинству этих путешественников было от двадцати до тридцати, и интересовались они в основном просветлением, йогой, курением травы, духовным ростом и внутренним освобождением. Это были потенциальные ученики, тогда как в Варанаси обретались дюжины — если не сотни и не тысячи — разнообразных гуру и наставников, готовых помочь им вырваться из темницы собственного «я» или указать прямую дорогу к просветлению, или куда они там еще стремились. Большинство возвращались домой на несколько фунтов легче (как в плане веса, так и в плане наличности), но в остальном премного обогащенные духовным опытом; кто-то всерьез слетал с катушек — репутация Варанаси как города, где очень легко поехать крышей, соперничала разве что с его репутацией рассадника заразы; некоторые же со временем становились похожи на парней постарше, типа меня, выглядевших так, словно они жили в Гоа лет десять, а то и больше. Часто в их облике присутствовала некая суровость — как и полагается мужчинам, привыкшим проводить вечера в одиночестве за чтением «Господина Ганджубаса»[153] или избранных сочинений Гурджиева. Как и меня, их часто можно было обнаружить на террасе бара «Лотос-лаунж» за поеданием отменного качества блинов в сопровождении капучино (лучшего в Варанаси) или чая. Мы приветливо кивали друг другу, но, словно горстка чернокожих на белой вечеринке с коктейлями, тактично избегали даже временных альянсов, дабы не подчеркивать наш общий статус возрастных отщепенцев. Не то чтобы молодежь была недружелюбна — просто они были молоды. Нет, даже не это: я не то чтобы чувствовал, что все они моложе, а скорее не мог не думать о том, каким же старым я, должно быть, им казался. На их месте я бы тоже не обращал на человека моего возраста никакого внимания. Я бы тратил всю свою энергию на убеждение молоденьких девушек в европейских футболках и местных платках в том, что их поведение — каким бы оно ни было раскованным — мои стандарты скромности никак не оскорбит.
Эта молодежь могла быть здесь совсем не ради секса, но она определенно была тут ради смерти. Им так же не терпелось посмотреть на сжигаемые на Маникарника-гхате трупы, как и всем остальным — к примеру, мне. До этого я никогда не видел трупа — здесь же струящаяся к гхатам процессия смерти была нескончаемой. Я уже привык к носилкам, которые плакальщики несли по улицам к реке, распевая «Рама нама сатья хай…», и к омываемым в Ганге телам. Случайные детали, поразившие мое воображение в первый день, были неотъемлемой частью одной и той же церемонии, воспроизводимой десятки раз на дню. Впрочем, настроение здесь никогда не было траурным, так как местные мертвые не приветствовали изъявления горя. Главным в каждой церемонии был мужчина с обритой головой и в одеянии из куска белой ткани. Отсутствие волос и бровей носило ритуальный характер и помогало ему зависать между мирами мертвых и живых. Он проводил траурную процессию вокруг незажженного костра — пять раз против часовой стрелки (ибо в смерти все переворачивается). Он поливал поленницу сандаловым маслом, после чего зажигал костер от негасимого священного огня, горевшего здесь, в Варанаси, на Маникарника-гхате от сотворения мира, который здесь же и закончится, хотя закончиться он, как и путешествие от жизни до смерти, не может.
Тело горело не один час. Ближе к концу кремации все тот же распорядитель разбивал бамбуковой палкой прокалившийся череп, дабы выпустить на волю душу. В самом конце он выплескивал горшок гангской воды себе через плечо — всегда через левое, — чтобы символически погасить последние искры костра, после чего, не оглядываясь, быстро уходил. На этом все заканчивалось. Душа отправлялась в путешествие к предкам, на ту сторону. Длилось оно одиннадцать дней, на протяжении которых родственники блюли траур и пировали, поминая усопшего. На двенадцатый день, если все прошло хорошо и все ритуалы отправлялись должным образом, душа благополучно прибывала на место.
Дальний берег Ганга был пустынен, так что поверить, что путешествие это носит не только физический характер, было совсем несложно. Причина незаселенности того берега, как объяснил мне мальчишка со старым лицом, была проста: если ты умрешь там, то переродишься ослом.
Между тем на этой стороне вокруг территории, отведенной под кремации, всегда кипела деятельность. Путешествие из жизни в смерть никогда не прекращалось, и здесь, в зале ожидания перед вылетом, все тоже было в движении. Похороны следовали одни за другими, но происходило и много чего еще: люди спорили, запускали воздушных змеев, играли в карты или на музыкальных инструментах, занимались йогой, купались. В нескольких ярдах от кремационной площадки возвышалась местная Пизанская башня — сильно покосившийся на оползающем глиняном берегу Ганга храм. Когда-то он был ярко-розового цвета, но сейчас почти сравнялся с безжизненным бурым колором прибрежной грязи. С одной стороны он казался лишь слегка накренившимся, зато с другой, казалось, вот-вот рухнет. Я подумал было, что эта уязвимость делала его особенно благоприятным местом для поклонения высшим силам, но, видимо, зря. Было непохоже, что им перестали пользоваться и что сила этого места полностью иссякла только потому, что наступили тяжкие времена. Это был просто старый храм, пришедший в негодность и предоставленный сам себе. Словно вулкан, не активный, но и не потухший — и даже не что-то среднее, — он все еще живописно смотрелся на фотографиях. А значит, был жизнеспособен, играл свою роль, вносил свою лепту. Если у него и было имя, я его не знал.
Непрестанно менявшийся дальний берег реки служил перманентной декорацией моего бытия. В первых лучах утра он являл собой чистую потенциальность. Когда расплавленный солнечный диск выплывал из-за горизонта и на ощупь пробирался через серый туман, он становился хрупкой инаковостью. Постепенно глаз начинал отличать песчаную полосу на переднем плане от видневшейся за ней зелени. Ночью же все растворялось. И тогда я думал о том дне, когда солнце впервые село за горизонт и не было никаких гарантий, что земля снова вынырнет из объявшей ее тьмы. Даже сейчас, годы и годы спустя, когда завтра в истории мира наступало уже бессчетное количество раз, мне казалось, что тот берег не просто проявляется из ночи, но что каждый раз его приходится воссоздавать заново, и так день за днем.
Издающаяся в Лакхнау «Хиндустан таймс» отличалась крайней неопределенностью формулировок: «В этом году фестиваль Макар Санкранти в силу некоторых астрономических причин празднуется в течение двух дней». Берега Асси и других гхатов были запружены людьми, пришедшими совершить омовение в эти первые, самые благоприятные дни нового года. Улицу у отеля заполонили нищие и те, кто раздавал им милостыню. По утрам было еще холодно, но по случаю праздника солнце сияло особенно ярко.
— Сегодня как-то ветрено, — сказал я увязавшемуся за мной на прогулку мальчишке.
— Это потому, что сегодня день воздушных змеев, — ответствовал он.
Ну конечно. Подобно тому, как у каждого божества был свой транспорт, так и у каждого следствия была своя причина. Макар Санкранти был кульминацией охватившей весь город одержимости воздушными змеями, но, оказывается, их было весело не только запускать. Помимо этого их еще можно было ловить или сбивать — при помощи шеста или крикетной биты, да и вообще всего, что попадалось под руку. За змеями шла настоящая охота прямо среди дремлющих и безразличных ко всему буйволов, вполне удовлетворенных пережевыванием жертвенных цветов, а в их отсутствие готовых пощипывать даже собственную тень.
На Маникарнике змей неожиданно рухнул прямо в один из костров и, что не удивительно, тут же загорелся. Странно другое — как он вообще туда попал, ведь горячему воздуху положено стремиться вверх. Но, очевидно, здесь действовали обратные законы физики. Углядев возможность вырваться из круговорота бесконечных взлетов и падений своего бытия, змей благоразумно воспользовался этим дающимся раз в жизни шансом и нырнул в огонь самосожжения.
Я полистал книги о Варанаси, но там было столько информации, сколько я не вместил бы за всю свою жизнь. Именно это место избрал для жизни Шива. Именно здесь начался мир. Перекрестки тут были священны, притом что некоторые были отмечены особой благодатью, но и сам Варанаси был одним большим перекрестком между этим миром и тем. В общем, не было на земле места, которое заслуживало бы посещения больше, чем Варанаси, хотя в каком-то смысле он был не вполне земным. Я где-то читал, что Лурд[154] для тех, кто там живет, — совсем не Лурд. Скорее всего так же обстояло дело в Мекке: интересно, куда ее жители совершали паломничество? Но в Варанаси все было иначе. Ехать куда-то отсюда было бессмысленно. Все время было сосредоточено здесь, а возможно, и все пространство. Этот город был мандалой, космограммой. В нем был весь космос.
А еще в нем был я, старейший долгожитель «Вида на Ганг». Я был единственным, кто был в курсе этого обстоятельства, по той простой причине, что никто не жил тут так подолгу. Приезжаете вы, скажем, во вторник и видите, что тут уже обосновалось некоторое количество постояльцев. Вам и невдомек, что я видел, как все они прибыли, так же как и вы сейчас, и увижу в свое время их — и ваш — отъезд. Такой вот бесконечный мир.
Я прожил в «Виде на Ганг» достаточно долго, чтобы убедиться в правоте Ананда Сети: это действительно был один из лучших мировых отелей. А все потому, что, как объяснил мне его владелец по имени Шашанк, «мы понятия не имеем, как управлять отелем». С большинством отелей, в особенности категории люкс, все очень просто: они выкачивают из постояльцев деньги. Каждое желание, каждая прихоть могут быть мгновенно удовлетворены — правда, за это приходится порядком раскошелиться. За время своего пребывания в «Виде на Ганг» я съел немереное количество ланчей, завтраков и ужинов, постоянно заказывал соки, чаи и — десятками — бутылки воды. Заинтересовавшись в какой-то момент, во что мне это обойдется, я спросил Камаля, одного из приветливых, улыбчивых непальцев, работавших в отеле, ведут ли они какой-то подсчет всего, что я тут потребляю. Нет, как оказалось, это я должен был все записывать, вот только они забыли выдать мне для этого специальный бланк. Камаль немедленно извлек откуда-то нужную бумажку и сказал, что я могу начать с сегодняшнего дня. Протягивая руку за бумажкой, я услыхал позади какой-то шорох и, оглянувшись, увидел крысу, которая тут же юркнула за шкаф.
— Не обращайте внимания, — сказал Камаль. — Она тоже гость.
В главном зале отеля висел портрет отца Шашанка в возрасте тридцати с чем-то лет и в весьма импозантном костюме. Этот портрет напоминал шпионскую картину в каком-нибудь фильме, где через нарисованные глаза проглядывают настоящие, шпионя и подсматривая. Именно тут в полусоседской обстановке, способствовавшей сближению гостей, подавались ужины. По мере того, как люди съезжались и разъезжались, сходились и расставались, царившая в отеле атмосфера все время менялась. Комбинации и национальный состав гостей никогда не повторялись. Пару дней доминировали французы: они ужинали вшестером за большим обеденным столом, болтая по-французски и невольно создавая у всех остальных ощущение, что мы во Франции, сами того не желая. После их отъезда в большинстве оказались американцы, живо демонстрировавшие окружающим свое дружелюбие и хорошие манеры. Иногда вдруг объявлялся какой-нибудь одинокий японец. Или же это могли быть индийцы, пара немцев, любопытные скандинавы, экспрессивные итальянцы. Потом наступил период, лишенный явно выраженных или неоспоримых признаков, когда круг людей, понаехавших со всего мира, был вполне разношерстным (большей частью одиночки и лишь иногда пары). При любом раскладе как минимум один человек обычно болел и отсиживался у себя в комнате, незримый и несчастный. Все откуда-то приехали и куда-то потом направлялись. Все рассказывали о поездах, тумане и, конечно, задержках. У всех были свои любимые места и места, где они чем-то заболели. У каждого были свои анекдоты; каждый знал что-то такое, что и все остальные.
По вечерам я ужинал в отеле. Было приятно встречаться с людьми; иногда после десерта мы не расходились, а сидели и болтали, хотя ужины эти никогда не перерастали в нечто большее. Если кто-то желал под вечер выпить пива на террасе, в магазинчик, что на рынке, посылался мальчишка купить бутылку «Кингфишера», но в самом отеле алкоголь был под запретом. Для людей, привыкших сочетать социальную жизнь со спиртным, отсутствие вина за ужином означало, что окончание трапезы было и окончанием вечера. Сидеть же с пивом на террасе после наступления темноты было еще слишком холодно. Так что мы желали друг другу спокойной ночи, рано шли спать и перед сном читали в постели, предвкушая новый рассвет.
Тем не менее я не страдал от одиночества. Поскольку «Вид на Ганг» был подороже большинства других мест на реке, гости тут были чуть постарше или, по крайней мере, смешанных возрастных групп, так что я легко курсировал между ними как какой-нибудь переходящий вымпел.
И все же я был вне себя от радости, когда Даррелл снова объявился в Варанаси. Мы провели тогда вместе всего пару часов, но, когда однажды ближе к вечеру он возник на террасе — «Эй, привет, приятель!» — ко мне словно бы вернулся старый друг. Волосы у него были такими же короткими, как в тот раз, будто и не отросли за эти пару недель. Он теперь тоже жил в «Виде на Ганг», хоть и в номере на первом этаже. В ожидании лучшего варианта ему пока что приходилось ютиться в клетушке без окон, расположенной с тыльной стороны отеля (как говорят индусы, «в задней половине»). Мы заказали черного чаю и долго говорили о том, где он побывал и что происходило тут в его отсутствие. Как если бы мы сидели в какой-нибудь забегаловке в его пыльном родном городке на Среднем Западе, и он только что вернулся из большого мира, порядком попутешествовав, пока я оставался дома, работая на бензоколонке или в хозяйственном магазине.
На обратном пути в Варанаси он завернул в Бодхгаю, где Будда достиг просветления. Даррелл собирался пройти пятидневный ритрит, но выдержал только одну ночь. В плане энергетики это было одно из самых сильных мест, в которых ему доводилось бывать, — а ему не терпелось уехать. В Бодхгае каждый был либо монахом, либо нищим, либо туристом — и всех их было в избытке. В городе были специальные точки, где за сторупиевую купюру давали девяносто монеток по одной рупии, чтобы их можно было раздать такому же количеству нищих — и этого бы еще не хватило.
— Что мне в этом понравилось, так это наценка, — сказал он. — Десять процентов — очень просто считается.
— Жаль, я не знал, что ты возвращаешься, — сказал я. — Попросил бы тебя привести мне монеток. В Индии мелочь лишней не бывает. Мог бы взять за услугу еще десять процентов, чтобы поиметь свой интерес.
— Но десять процентов от девяноста — это девять. То есть расчеты сразу усложняются. До тебя бы доехала восемьдесят одна рупия.
— И теперь эта сделка уже не кажется мне такой выгодной. Может, понизим твою квоту до пяти?
— Пяти от девяноста? Это бы я еще подумал.
— И то верно. Мы уже начинаем мелочиться.
Это была, конечно, просто болтовня, но вместе с тем — первый разговор такого рода за долгое время. Впервые я мог говорить с человеком, инстинктивно понимающим другую разновидность математики, ту, что люди обычно не схватывают: что можно быть одновременно и стопроцентно искренним, и стопроцентно ироничным. Я чувствовал себя в таком разговоре как дома. И тогда я подумал, что хоть и говорил, будто не страдаю от одиночества, все же я его порядком ощущал.
С момента возвращения Даррелла в Варанаси моя жизнь стала неуловимо иной. А потом все в корне изменилось уже для нас обоих, когда вскоре после этого в город прибыла Лалин. Она путешествовала одна — прекрасная, дружелюбная индианка (мы так решили — выглядела она совсем по-индийски и разговаривала с Шашанком на хинди). Уже на второй день после ее приезда мы ужинали втроем. Волосы у нее были темные и длинные. Она носила очки в черепаховой оправе, белую футболку и брюки и уютный синий кардиган. В ней была какая-то внешняя нервозность — она бегала взглядом по комнате и рассеянно почесывала тыльную сторону кисти, — но в то же время казалась совершенно спокойной. Она была из Бангалора, в пять лет переехала с родителями в Лондон и выросла в Хаунслоу. В этот приезд она уже успела побывать в Бангалоре и в Хампи (Даррелл тоже там был), а совсем недавно — в Лакхнау, где посетила весьма любопытный музей.
— Насколько мне известно, — поведала она нам, — это единственный музей в мире, куда можно войти, только если купить билет в зоопарк.
Наше сближение с Лалин заметно ускорилось благодаря инциденту, связанному с еще одной новоприбывшей. Звали ее Франческой, она была итальянкой, и наш ужин с нею ознаменовался затяжной дискуссией об исламе и женщинах, добровольно носящих паранджу. Франческа была категорически против паранджи. Лалин тоже, так же как Даррелл и я, так что нельзя сказать, будто мы подходили к вопросу с сугубо противоположных точек зрения или с непримиримо разных культурных позиций. Нет, причина нашего затянувшегося спора заключалась только в том, как Франческа произносила слово «паранджа»[155]. Телятина была для нее символом абсолютно подчиненного положения восточных женщин. Вместо того чтобы поправить ее, мы с Дарреллом и Лалин тоже принялись на полном серьезе рассуждать о телятине, изыскивая все новые способы не дать полемике угаснуть.
— То есть ты полагаешь, что телятина — это не просто дело личного вкуса? — строго спрашивал меня Даррелл.
— Нет, телятина, безусловно, относится к числу серьезных этических проблем, — отвечал я.
Чем дальше, тем труднее нам было сдерживать смех.
— Это так ужасно… — подытожила наконец Лалин.
Она тщетно пыталась побороть смех и, не в силах закончить предложение, начала его снова:
— Это так жестоко… Не знаю, как так можно, но тема телятины преследует нас даже в ресторанах.
На какое-то мгновение мы смолкли, а потом нас как прорвало. Стоило нам поддаться этому долго копившемуся приступу хохота, и остановиться было уже невозможно. Франческа сидела перед нами, ошарашенная и сконфуженная, в ожидании объяснения, но мы были не в состоянии даже попытаться его дать, не приумножив уморительности этой ситуации. Когда же объяснение наконец последовало — со стороны Лалин, — Франческа восприняла его добродушно (ну почти), однако грех уже был совершен: мы преступно объединились против новичка, исключили ее из нашего круга, и все это веселье — чудовищное, всепоглощающее и абсолютно безудержное — было целиком и полностью за ее счет. Она и так не планировала задерживаться в Варанаси, а наша едва прикрытая паранжой телячья хохма уж точно не вдохновила ее остаться здесь подольше.
У Лалин, так же как у меня и у Даррелла, не было пока дальнейших планов. Что меня крайне радовало. Когда маешься одиночеством, встреча с приятными тебе людьми может увлечь не меньше, чем влюбленность. Даррелл сразу мне понравился, но сейчас все было даже еще лучше по той простой причине, что нас стало трое. Я никогда особо не любил общаться с друзьями один на один, когда ты вынужден играть в одни ворота. В компании из двух человек рано или поздно все обязательно сводится к разговору «по дуплам» — не ради того, чтобы приподнять «покров телятины» над какой-то важной, но скрытой от глаз истиной, а просто чтобы не дать разговору затухнуть. Когда же вас трое, он не может затухнуть, потому что мяч «всегда в игре». А так как все мы жили в одном отеле, то никогда не условливались о встрече. Но все равно сталкивались друг с другом у гхатов, в «Лотос-лаунже» или, если уж мы совсем разминулись, на террасе «Вида на Ганг». В результате наши отношения носили оттенок счастливой случайности, без конца продлеваемой и обновляемой.
Среди путешественников есть такой негласный договор — не расспрашивать друг друга о том, кто чем зарабатывает на жизнь. В результате ты поневоле становишься крайне любопытным и по тому, как с ними обстоят дела сейчас, пытаешься вычислить, чем же они занимаются или занимались дома. (Я уже не помню, как мне удалось узнать, что Даррелл занимался пром-дизайном, но так как я понятия не имел, что это такое, подобная информация мне мало что дала.) Лалин была исключением из этого правила, уже на третий день проговорившись, что работает на телевидении, на компанию, занимающуюся производством телепрограмм, и просто взяла отпуск, чтобы попутешествовать по Индии.
Как-то раз, проведя все утро на гхатах и в переулках, она выступила с идеей сериала из шести частей.
— Это будет телевизионное реалити-шоу, — сказала она. — Кто-нибудь из Департамента здоровья и гигиены приезжает в Варанаси, чтобы насадить тут британские стандарты. В первой серии он занимается своим делом, инспектирует и так далее. А потом, на протяжении остальных пяти, мы наблюдаем, как у него постепенно едет крыша.
Мы сидели втроем на террасе и пили пиво перед ужином. Мы чокнулись и выпили за ее идею. Я рассказал им про «Varanasi Death Trip», и мы снова чокнулись — на этот раз за мой прожект. Вот с такой же мелочи, наверное, началась когда-то британская Ост-Индская компания. От пары бутылок «Кингфишера» до основания Британской империи — как гигантского механизма эксплуатации и наживы — был всего один шаг, казавшийся исторически неизбежным.
Другой схожий приступ предпринимательского энтузиазма случился, когда мы нашли местечко возле Шивала-роуд, где можно было купить пива по семьдесят рупий за бутылку. В отеле оно стоило двести, и эта накрутка была вполне разумной. Из-за многочисленных храмов, расположенных по соседству с Асси, нигде в округе нельзя было продавать алкоголь, и каждый заказ пива предполагал специальную доставку. А тут три по цене одной — перед таким соотношением было невозможно устоять, так что, когда мы с Дарреллом открыли это место, перед нами тут же встал вопрос покупки оптом. Мы наткнулись на него случайно, привлеченные толчеей тел, выглядевших так, словно они покупают тут крэк. На самом же деле они отоваривались крепкими напитками через крошечный проем в массивной дверной решетке. Соседняя дверь оказалась не столь укрепленной, и в этом более мирном ларьке продавали пиво. На следующий вечер мы вернулись и купили по десять бутылок каждый, после чего, позвякивая, поехали на рикше в отель и набили ими свои холодильники. При таком раскладе мы могли бы продавать другим гостям отеля пиво по двойной цене, что все равно бы было на шестьдесят рупий дешевле, чем у отельных мальчишек. А запустив эту аферу, могли расширить поле деятельности.
— Рэкет!
— Азартные игры!
— Лодки!
— Трава!
— Шлюхи!
— Гирлянды из ноготков? — кротко вставила Лалин.
— К дьяволу ноготки. Кремации — вот на чем в этом городе можно сделать большие бабки!
Еще нас объединяла неприязнь к хиппи, собиравшимся на ступенях возле гхата Асси. Иногда я видел, как они ковыляли по улице туда, где, видимо, жили, — или оттуда, — но именно там, на ступенях, они проводили почти все свое время. Они шествовали медленно и плавно, словно сама идея спешки или срочности свидетельствовала о пребывании в ловушке самых низменных аспектов их текущей инкарнации. От местных садху[156] они переняли манеру восседать с отсутствующим видом, словно в состоянии высшей осознанности, некой мудрой отупелости, просветленности на грани ступора. Укуренность была здесь очень кстати, и хотя я никогда не видел их курящими, несложно было догадаться, что они весь день на чем-нибудь торчат.
Одна из женщин в их толпе была на самом деле крайне привлекательной — вернее, была бы таковой, если бы не ее грязное покрывало и тщательно культивируемое убожество облика. У нее были лучистые глаза, оливковая кожа, дредлоки (разумеется!) и тонкие лодыжки. Приоденься она хоть немного — не обязательно в дизайнерский наряд, а просто в обычный повседневный прикид международного путешественника — да еще помой голову, и ни один мужчина не прошел бы стороной. И пусть бы в ней осталось чуточку той дикости, что перевешивала в ней сейчас все остальное. Не нужно было большой фантазии, чтобы представить ее студенткой выпускного курса Нью-Йоркского университета, зажиточной еврейской барышней, увлекающейся йогой, питающейся только сырыми овощами и быстро соглашающейся на анальный секс. Стоило мне это представить, как вся ее аура дикости куда-то подевалась: на самом деле в ней не было ничего жестокого или брутального. Ну да, она была грязна до крайности, но за всем этим стояли прежде всего кротость и покорность. В ней было что-то туповатое, как у всех новообращенных в какой-нибудь культ, — счастливая удовлетворенность и полное принятие той роли, которую она подписалась играть.
То, что я тут же выложил все это Лалин, немало говорит о наших отношениях. Шутка про анальный секс принадлежала, кстати, тоже ей. Мы были друзьями, а друзьям положено друг друга развлекать. Она была невероятно хороша собой, но мы были просто друзьями, так же как мы с Дарреллом были просто друзьями — хотя, как потом оказалось, не в том же смысле, в каком они с Дарреллом тоже были друзьями.
Есть такие мужчины, которые, даже не стараясь никого привлечь, всегда оказываются с красивыми подружками. Просто все так складывается. Я не имею в виду успешных и амбициозных типов, для которых желание добиваться того, чего они хотят, вполне естественно, которые коллекционирует женщин просто в силу своей ненасытности. Нет, тем, про кого я говорю, часто даже не хватает драйва и амбиций. Возможно, отсутствие этой самой старательности, пробивного начала в мирских и сердечных делах как раз и составляет неотъемлемую часть их обаяния.
Не считая одного-единственного случая — настолько исключительного, что я тогда вдруг почувствовал себя совершенно другим человеком, — я никогда не относился ни к чему с посылом «будь что будет», практически гарантирующим, что это обязательно произойдет. Не имея желания — или, пожалуй, лучше сказать, тщеславной тяги — усиливать свою привлекательность, не стараясь культивировать то, что делает мужчин привлекательными, я никогда и не был привлекательным для женщин. И большинство других мужчин были точно такими же. За вычетом чего остается лишь горстка расслабленных, нередко продвинутых в йоге, не слишком забавных и часто напрочь лишенных тщеславия типов, к которым красивые женщины так и льнут. Даррелл бы как раз из таких, да еще с одним немалым плюсом — чувством юмора. Единственное, чего ему недоставало, — настолько, что чуть ли не опровергало всю мою теорию, — была подружка.
С ним было легко. Мне нравилось проводить с ним время. Он был отличной компанией. Я прекрасно видел, что для женщины все это могло само собой перерасти в желание. И Лалин это тоже видела. Так что у меня был шанс воочию убедиться в доказательности собственной теории.
Если Даррелл был из тех мужчин, что всегда вызывали у меня интерес, то Лалин была из тех женщин, в которых я часто влюблялся. Она умела быть смешной. У нее были длинные темные волосы. Она носила простую одежду, в которой не было ничего особенного, но в то же время выглядевшую так, словно ее пошил дизайнер, к которому через пару лет потянутся модные персонажи Нью-Йорка и Лондона. В ней была легкость духа. С кем бы ей ни приходилось иметь дело — с рикшами, официантами или другими гостями, — она всегда была терпелива и тактична. В ее отношении к миру не было никакой иерархичности. Она помнила по именам всех работавших в отеле мальчишек, болтала с ними на хинди (бывшим, по ее заверениям, вовсе не таким беглым, как казалось). Она была прекрасна, но во мне недоставало чего-то такого, что могло бы ее привлечь, — возможно, все дело было как раз в моем нежелании пытаться ее как-то привлечь. Частично это было связано с тем, что их с Дарреллом явно друг к другу влекло.
Странно наблюдать, как у двоих, которые просто нравятся друг другу, приязнь перерастает во взаимное желание, которое становится почти что осязаемым. Ты видишь и чувствуешь его как физическую силу, как некую гравитацию. Даже когда они сидят по разные стороны стола, вне всякого контакта, их руки тянутся друг к другу. Когда они говорят, их губы почти соприкасаются — просто потому, что они выбирают такие слова. Я наблюдал. Я ничего не имел против.
В «Виде на Ганг» имелась неплохая коллекция дисков индийской классической музыки, которые можно было проигрывать на маленьком бумбоксе[157] в столовой. Даррелл постепенно перекачал их все на свой лаптоп, и без того неплохо укомплектованный индийской музыкой, и некоторые из них перекочевали в свою очередь на мой айпод. Это ознаменовало собой настоящий прорыв, причем не только в плане моря музыки, в которое я теперь был беспрестанно погружен.
Каждое утро я видел на гхатах людей, которые медитировали или занимались йогой, обратившись лицом к восходящему солнцу, — индийцев, равно как и приезжих. Неудивительно, что йога и медитация здесь процветают. И то, и другое есть эволюционная необходимость — как еще обеспечить себе немного мира и покоя? Единственное, куда тут можно было уйти, так это внутрь себя: чтобы оставить внешнее снаружи, отдалиться от него, другого пути нет. Отключка от мира означала, что минут на двадцать или около того тебя оставят в покое. А познав блаженство этих двадцати минут, ты неизбежно захочешь пойти дальше, и следующий логичный шаг тут — отключиться навсегда и начать видеть внешний мир лишь как досадную помеху и отвлекающее обстоятельство.
Я не увлекался ни медитацией, ни йогой, но попробовал использовать в тех же целях айпод: прослушивание индийской музыки как средство контролировать индийский шум и гам. Работало это не всегда. Когда идешь куда-то, отгороженный от мира наушниками, ты не реагируешь на крики: «Лодку?», «Лодку, мистер?» — а это значит, что твое внимание будут привлекать иными способами: тычками, толчками и потягиванием за рукав. Чтобы избежать бесконечных предложений лодки, я взял лодку. Часовое путешествие по реке — прекрасная возможность раствориться в раге[158]. Однако уже через пару минут я заметил, что лодочник все время шевелит губами. Не обращать на него никакого внимания было бы как-то невежливо. Я вытащил из ушей наушники. Каждый индийский лодочник, сколь бы ни были ограниченны его познания в английском, непременно желает выступить еще и в роли гида. Поэтому, указывая пальцем на знак «Джайн-гхат», он любезно сообщил мне, что мы проплываем мимо Джайн-гхата. Я улыбнулся и вновь надел наушники. Методика ведения тура была хорошо отработана. На каждом гхате алгоритм повторялся: «гид» указывал на табличку и зачитывал ее текст. Я понял, что проиграл, и сидел в лодке, взятой исключительно ради того, чтобы послушать музыку, не мешая лодочнику декламировать названия многочисленных гхатов.
Когда же все получалось, то было просто божественно. Как будто я участвовал в кампании по расширению влияния бренда «Apple» на доселе неизведанные области всемирного бессознательного (то есть рынка). Лодка скользила мимо погружающихся во тьму гхатов, а на меня накатывали тихие жалобы саранги[159]. Султан-хан играл рагу «Йемен». Течение было достаточно сильным, чтобы лодочнику оставалось лишь слегка шевелить рулем. Спускались сумерки. Мимо лодки плыли плошки с огнем. Дальний берег растворился; скоро появятся первые звезды. Вдоль западного берега реки дугой выгнулся город. Точно так же мог выглядеть берег любого популярного среди туристов места — например, Амалфи — во время перебоев с электричеством: всего несколько огоньков в домах, оборудованных электрогенераторами, и только вдали — негасимые костры Маникарники. Под тягучие звуки саранги и трансовый ритм таблы[160], мы миновали дохлую кошку, дрейфующую по течению, словно маленькое темное полено.
Собаки в Варанаси всегда приводили туристов в состояние священного ужаса. Но даже в этом городе шелудивых псов один был форменным призером этой выставки, ее наишелудивейшим кошмаром. Он обитал в районе Маникарники и был покрыт такими язвами, что просто не мог сидеть спокойно. В изобретении самых изощренных способов почесывания различных частей тела он не знал себе равных. Под различными частями я на самом деле подразумеваю тело целиком. Даже хвост у него был в нарывах. Явно практикуя некую форму кундалини-йоги, он хватал хвост в пасть и тягал туда-сюда между зубами, словно пытаясь освежевать. Голову и уши он чесал, как все, задней ногой. Спину он чесал об ступеньку лестницы. Его бытие целиком состояло из прискорбной самсары бесконечного зуда и чеса. Местами шерсть с него полностью слезла, обнажив большие проплешины розовой, выглядевшей ужасающе по-человечески кожи. Похоже, механизм реинкарнации дал серьезный сбой, и собака, которой этому перерожденцу надлежало воплотиться, все еще оставалась наполовину человеком — или наоборот. И потому его физические мучения выглядели манифестацией куда худших психологических мук подвешенности между двух видов, двух жизней.
Обезьяны же, напротив, чувствовали себя в своей шкуре как нельзя лучше, в полной гармонии с собственной обезъянностью. Мы как раз прогуливались с Дарреллом и Лалин возле Мунчи-гхата, когда мимо, словно стая призраков из ночных кошмаров, пронеслась целая банда макак.
— Дикая свора, — проворчал Даррелл.
— Вот после такого и выпустили Закон об антисоциальном поведении, — заметил я.
— Униженные и оскорбленные наносят ответный удар, — подытожила Лалин.
Да, они были всем этим. Они были полной противоположностью богов, и тем не менее один из них был богом. Я видел оранжевый ком бога в синем храме на Мунчи-гхате, оранжевый ком, граничащий с абстракцией. Мы все трое отступили назад, пропуская скачущую мимо орду обезьян, срывавшую по пути какое-то вывешенное для просушки белье, а после взметнувшуюся волной на каменную стену дома. Как будто Кубок Лиги в этот раз проводился среди другого подвида приматов и принял совсем уже дикие формы. Некоторые до верха не долетели, но со второй попытки благополучно присоединились к остальным, и эта бушующая лавина покатилась дальше.
— Прямо-таки «Пески Калахари»[161], — пробормотал Даррелл.
Но вряд ли это было так. Все соглашались в том, что обезьяны опасны, но никому и в голову не приходило что-то с ними сделать, не говоря уже о том, чтобы изгнать их из города или вовсе уничтожить. Дойди дело до открытой войны, в ней был бы лишь один победитель. Зато в партизанских стычках они беспрепятственно преследовали и донимали людей и без конца одерживали мелкие, обычно как-то связанные с бананами, победы. Но хотя в целом у обезьян была дурная репутация, я ни разу не видел, чтобы они причинили кому-то прямой вред — напали, поцарапали или укусили. Усиливая общую нездоровую атмосферу, они в то же время как-то оживляли обстановку, хотя уж если Варанаси в чем и не нуждался, так это в оживлении обстановки.
С тех пор как я стал свидетелем попытки кражи святого дорожного атласа, обезьяны стойко ассоциировались у меня с его владельцем — проповедником у съемочной площадки. И вот сейчас, едва обезьяны скрылись из виду, как мы опять с ним столкнулись — на этот раз у Тулси-гхата. У него были какие-то ужасные проблемы с голосом — он едва мог говорить. Лалин тихонько сообщила нам, что эти проблемы, скорее всего, явились итогом некой бурной сцены или, проще говоря, склоки — разумеется, из-за денег, — в пылу которой она его накануне наблюдала. Как бы там ни было, сегодня он только сипел и хрипел, и иногда кашлял, призывая, по всей видимости, целительные силы бога Стрепсилса. Вряд ли его слушатели могли понять хоть слово, но это было и неважно, ибо словами он не пользовался, перейдя на до- или поствербальный план хрипов, скрежета и хрюков. Было непохоже, чтобы он рассказывал о чем-то благостном. То просветление, во власти которого он пребывал и которое стремился передать ученикам, скорее носило жесткий и мрачный характер. Все, наверное, как обычно: делай то, не делай этого. Или, может, я несправедлив: возможно, он был сказителем и говорил о том, как важно хорошо обращаться с животными и женами и не таить зла, чтобы не переродиться в ближайшем термитнике. Или же он рассказывал им историю своей жизни — о том, что привело его на этот хриплый путь. Даже будучи тенью былого оратора, он все равно оставался почтенным мужем, способным управлять толпой и удерживать внимание в условиях конкуренции, которая, впрочем, не всегда была жесткой.
Взять, к примеру, тех же хиппи на Асси, которые разыгрывали для каждого, кто проявлял к ним интерес, — и даже тех, кто его вовсе не имел, — один из стандартных спектаклей своего репертуара. Девушка, на которую я в каком-то смысле запал — вернее, на которую мог бы запасть в совершенно иных обстоятельствах, — тоже каким-то боком принимала в них участие, хотя и ничего, по большому счету, не делала. Волосы у нее были стянуты назад отрезом темной ленты. У нее были полные губы, темно-карие глаза и золотой пирсинг в носу. Один из ее приятелей наигрывал на трехструнном музыкальном инструменте, который был мне незнаком, но при этом имел столь узкие технические и выразительные возможности, что им можно было овладеть минут за десять, а виртуозом стать — за час. В какой-то момент он попросил ее передать ему котомку. При этом он назвал ее по имени: Изобель. По мне, так это была кульминация спектакля, за такое было не жаль и раскошелиться. Сумка оказалась вышита черно-желтым орнаментом и украшена зеркальцами величиной с монетку, которые вспыхнули при передачи сумки из рук в руки и запестрели крошечными отражениями — волос, неба, лица. Пальцы у нее были длинные, без колец.
Еще один парень дудел в длинную дудку; двое других стучали в разные барабанчики, хотя таблы среди них не было — табла слишком сложна. Вокруг собралась приличная толпа, что в Индии, впрочем, не свидетельствует даже о мало-мальском таланте, а указывает лишь на то, что дело происходит в Индии, ибо Индия — это толпа. Кругом было полно людей, и постольку поскольку их взоры были обращены на музыкантов, их можно было принять за слушателей.
Итак, Изобель…
Случались тут, впрочем, и настоящие концерты. Один из них состоялся в громадном шатре у Тулси-гхата, украшенном зелеными и белыми флюоресцентными трубками. Лал, Даррелл и я имели неосторожность усесться у одной из этих трубок, о чем мы тут же пожалели. На свет слетелась орда насекомых. В предвкушении концерта мы специально покурили, что лишь усугубило ужас этого летучего нашествия. Мы пересели подальше и уже оттуда наблюдали за следующей партией несчастных, оказавшихся в зоне воздушной атаки.
Аудитория была донельзя смешанной: индийцы и европейцы, сикхи, мусульмане и индусы, мужчины и женщины, молодые, старые и невероятно старые, возможно, даже бессмертные. Я заметил Ашвина, и мы помахали друг другу, словно на дворе стоял девятнадцатый век и мы пришли в «Ла Скала» на оперу. Изобель нигде не было. Возможно, трава тоже сыграла тут свою роль, но я каким-то образом чувствовал, что для Лалин и Даррелла, для их отношений, сегодняшний вечер много значит. В некотором смысле — да, пожалуй, во всех, которые, правда, тактично не выставлялись напоказ, не считая того очевидного факта, что оба хорошо разбирались в индийской классической музыке, — эти двое были сейчас куда больше друг с другом, чем по отдельности — со мной. Еще утром, возвращаясь на лодке из Маникарники, я случайно взглянул на террасу «Лотос-лаунжа» и увидал их там в объятиях друг друга. Пока лодка пробиралась вверх по течению, я время от времени бросал туда взгляд, как какой-нибудь жалкий дрочила из романа Генри Джеймса, радуясь, что они не видят, как я за ними наблюдаю.
Посреди сцены лежал ковер цвета палой листвы в осеннем лесу и такой же густой по оттенку. Гирлянды цветов на сцене, утопающей в теплом свете свечей, и нарисованный на заднике Шива усиливали общий цветовой рисунок. Концерту предшествовала длинная серия речей и восхвалений различных пандитов[162] и гуру, которых последовательно представляли аудитории. Однако никто в зале не выказывал ни малейших признаков нетерпения и желания поскорее перейти к номинальной цели вечера: слушанию музыки.
Когда на сцене наконец-то появились музыканты, Лалин, сидевшая между Дарреллом и мной, предупредила, что принимать это за знак начала концерта не стоит. Некоторое — довольно продолжительное — время они усаживались, устраивались и раскладывали инструменты. Дородной певице было около шестидесяти. На ней было сари тускло-зеленого цвета, и вид у нее был строгий и величественный. Она надзирала за настройкой тампуры[163], потягивала воду, не касаясь губами горлышка бутылки, и явно никуда не торопилась. Далее был настроен саранги (тоже небыстрое дело: обучение настройке саранги длится не меньше, чем обучение игре на многих музыкальных инструментах), за ним — табла. По крайней мере, так это выглядело, но Лалин шепотом объяснила нам, что это настраиваются не инструменты, а сами музыканты — для раги нужен особый настрой. Затем певица объявила первый номер программы.
Начав петь, она полностью преобразилась. Я слушал девушку, темноволосую и прекрасную, как гопи, за которыми шпионил из своего убежища на вершине дерева Кришна. Я понятия не имел, о чем она поет, не знал, когда, в какой момент слова песни перестали быть словами и превратились в один струящийся звук, в поток гласных. Ее руки вспархивали в воздух, словно у нее над головой росли ноты, которые, если срывать их одну за другой, никогда не иссякнут. Музыканты говорят об идеально взятой ноте, но ее голос скорее заставлял меня думать об идеальной танцевальной позе: волосы длинные и прямые, как гибкий девичий стан; босые ноги движутся легко, чуть касаясь земли. Ее голос возвещал абсолютную преданность, но затем нота уходила еще дальше, еще выше, пока ты не начинал задаваться вопросом, что же нужно сделать, каким стать, чтобы быть достойным такой преданности, такой любви. А стать нужно было этой нотой — не объектом веры, но верующим. Ее голос то скользил, то падал в бездну. Это было сродни лучшим мгновениям жизни, когда все, чего ты так ждал, сбывается и, сбывшись, в тот же миг меняется и на глазах превращается в звук; когда где-то в толпе ты вдруг случайно видишь ту, которую хотел бы видеть больше всех на свете, и в том нет ничего удивительного; когда в хаосе прозреваешь систему, а случай оборачивается судьбой. Нота длилась долго, до предела человеческих возможностей — и выше; где-то там она звучала еще долго после того, как ее перестал воспринимать слух. Она и сейчас там звучит. Неслышно.
Мы с Лалин шли в сумерках мимо Маханирвани-гхата. Вниз по течению плыли первые свечи. Крикетный матч был в самом разгаре. Мы немного постояли, посмотрели и уже готовы были уйти, когда отбивающий послал мяч в воздух. Он летел на меня, футах в трех над головой, в сторону Ганга. Я подпрыгнул и поймал его одной рукой; мячик влажно шлепнулся мне в ладонь и остался там. По всем мифическим канонам я не иначе как поймал сверкающую комету среди ночных небес. Но и тут, на земле, во вторник вечером, при весьма плохом освещении, это был живописно взятый мяч. Последовали аплодисменты и приветственные крики — от Лалин, игроков и немногочисленных зрителей. Отбивающий тоже хлопал в ладоши. Я воздел руки к небу, все еще сжимая грязный мяч, купаясь в лучах заслуженной славы. Потом я швырнул его обратно боулеру, и мы отправились обратно в гостиницу.
Мне было приятно, что Лалин присутствовала при моем триумфе. Мало просто совершить богоподобное деяние; надо еще, чтобы его увидели — желательно сами боги. Был ли даршан обоюдным явлением и в какой степени? Я точно не знал. Конечно, богам нужно, чтобы на них смотрели, — но любят ли они и сами наблюдать? Нравится ли им быть зрителями? Смотрят ли они на нас с тем же ужасом и любовью, с которыми мы — или хотя бы кто-то из нас — смотрим на них? Если это так, то мое недавнее сравнение с Бекхэмом и прочими знаменитостями было ошибочным. Ибо чего знаменитости не вольны делать, так это смотреть. Темные очки, за которыми им приходится прятаться, есть символическое выражение слепоты, на которую они обречены самим фактом того, что на них все время смотрят. В свой первый день на гхатах я почувствовал себя королевской особой и все последующие недели жил словно знаменитость — постоянный объект любопытства и пристальных взглядов. Я мог сколько угодно презирать этих людей, мог ничем не заслужить такое внимание, но то был момент, роднивший меня с хиппи. Тут было на что посмотреть. Здесь, в богоугодном Варанаси, можно было за десять минут увидеть больше, чем в небогоугодном Лондоне за неделю. Правда, здесь нужно было хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать или куда-то отправиться, — главным образом из-за того, что это неизменно вызывало целую бурю волнений. Я говорю это не просто так и не обманываюсь на сей счет. Иногда даже такое простое дело, как взять рикшу, сопровождалось всплеском ожесточенной конкурентной борьбы. А визит в храм Дурги превратил рутинный осмотр достопримечательностей в такую нервотрепку, что впору было вообще туда не ездить.
Храм находился в десяти минутах пешком от отеля. Он был выкрашен в нахально-красный цвет и настолько бросался в глаза, что было непонятно, почему его нужно было так долго искать. На территории храма висело объявление, что джентльменам неиндуистского вероисповедания вход внутрь воспрещен. Я расстроился, но меня тут же уверили, что нет, все нормально, и я могу войти, только для этого нужно разуться. Все это мне сообщил человек, представившийся одним из жрецов храма, брахманом, хотя выглядел он и действовал скорее как привратник. Такой, которого давным-давно уволили, но он все равно продолжает ходить каждый день на работу просто потому, что ему больше некуда пойти и нечем заняться. Прежде чем я бы допущен во внутренний храм, мне пришлось зайти с ним в маленькую, вонючую часовню, где мой лоб помазали священной пастой. Тут же появился кто-то еще, другой жрец-вахтер, и, несмотря на мои протесты, нацепил мне на шею гирлянду из ноготков, которая и была, как оказалось, источником вони. Казалось, что ее замариновали в моче, а после оставили гнить на пару дней. За привилегию носить на шее этот кошмар я, естественно, должен был заплатить. У меня была при себе только банкнота в сто рупий, но мне удалось настоять на полтиннике сдачи — не такое уж и маленькое достижение в ситуации, когда сдачи не просто нет, но когда о ней даже трудно помыслить. Далее двое жрецов-вымогателей в ранге привратников жестами призвали меня возложить гирлянду на лингам, что я исполнил с большим удовольствием, радуясь возможности избавиться от зловонного украшения. Меня начали подталкивать в сторону главного помещения, но во избежание дальнейших домогательств и кошмаров я влез обратно в сандалии и поспешил скрыться.
Все в этом приключении было омерзительно. Меня преследовал запах гниющих ноготков — запах религии, думал я, шагая обратно к Асси-гхату, примитивной, темной и сырой. Нелепо стремиться к такому состоянию ума, которое позволило бы воспринимать ее ритуалы как нечто священное. Нет, это просто фаза грязных задворков человеческой психики, через которую мы, как вид, рано или поздно пройдем. Но если все это казалось мне таким сейчас, то каким же оно предстало миссионерам, несущим христианскую весть — чистую и кровавую, тоскливую, как воскресенье в Уэльсе, когда они явились сюда в каком-то там веке? Эти бормочущие невесть что идолопоклонники со своими пуджами[164] вряд ли казались им менее ужасными, чем апачи в боевой раскраске со свисающими с седла скальпами бледнолицых.
На Ватс-Иарадж-гхате было начертано крупными буквами «Я ЛЮБЛЮ МОЮ ИНДИЮ!». Меня нередко подмывало крикнуть «Я тоже», но сейчас, после визита в храм Дурги, меня при виде его чуть не стошнило. Я не шучу. Я подцепил какую-то местную заразу и был вынужден без конца бегать в отель, чтобы воспользоваться туалетом. В целом ничего серьезного, особенно в сравнении с муками некоторых других туристов. Люди в отеле заболевали пачками и ползали по коридорам как вялые осенние мухи. Не самое подходящее сравнение, поскольку мухи здесь чувствовали себя отлично круглый год. Да и как могло быть иначе? Во времена моей юности в моде были футболки и постеры с вызывающими надписями вроде: «Ешь дерьмо — десять миллионов мух не могут ошибаться!» Возможно, эту надпись придумали здесь, ибо дерьмо в Городе Света (как когда-то называли Варанаси) было повсюду, причем самое разное. Это было дерьмо животных (обезьян, коз, коров, буйволов, собак, птиц, ослов, кошек, гусей), растений (валявшиеся повсюду гирлянды из ноготков быстро превращались в вонючую жижу) и, наконец (но далеко не в последнюю очередь), людей. В некоторых особо святых местах наверняка имелось и божественное дерьмо. Прабху-гхат, где дхоби безжалостно вбивали покорность в простыни и белье, был по умолчанию еще и туалетным гхатом. Ходить по нему было невыносимо. Зрелище поражало глаза, а запах — обоняние. В такие минуты рядом с «Я ЛЮБЛЮ МОЮ ИНДИЮ» хотелось приписать: «Если ты так ее любишь — значит, тебе на нее насрать». Было бы нелишне принять ради общего блага закон, воспрещающий гадить на гхатах. Как бы ни были люди бедны и невежественны, их можно приучить не использовать то, что фактически является прогулочной зоной, в качестве сортира. Правда, прежде чем это сделать, придется обеспечить их альтернативой, то есть туалетами, где они могли бы без помех справлять свою нужду. Наверняка в этом есть здравый смысл — трудно представить себе что-то более основополагающее, более важное. (Как часто, однако, в Варанаси, в месте, которое так трудно понять и постичь с какой бы то ни было долей уверенности, любые мысли — негодующие, раздраженные, гневные — начинаются с уверенного «наверняка»!) Что бы вы ни делали, как бы тщательно ни мыли руки, зажимали нос или держали рот закрытым, дерьмо неизбежно проникало внутрь. И как это никто до сих пор не выявил взаимосвязь между дерьмом и болезнями? Как культура, так страшащаяся осквернения любого рода, может оставаться безразличной к самой оскорбительной форме осквернения? Сколько ни старайся здесь остаться здоровым, все равно заболеешь. Это попросту неизбежно. Какую-нибудь гадость обязательно подцепишь. Да и как может быть иначе, если этот город — настоящий слоеный пирог из животных, людей и дерьма? Газеты и журналы изобиловали статьями о современном лике Индии — о барах и клубах Бомбея, о процветании Ченная, о том, что Бангалор — это Силиконовая долина Востока, — но, не считая интернет-кафе, ничего этого в Варанаси не было и в помине.
Бывали дни, когда я чувствовал себя героем реалити-шоу, про которое говорила Лалин; когда я был уверен, что Варанаси нужно стереть с лица земли, чтобы потом отстроить заново, руководствуясь идеями здоровья, гигиены и прогресса. В один такой день я решил взять быка за рога. Я пошел на берег реки, расстегнул ширинку и пописал в Ганг. Да-да, вы не ослышались: я пописал в Ганг. Мне ужасно хотелось в туалет, а пойти было некуда, но в то же время это был некий протест — нелепо поклоняться реке и одновременно ее загрязнять. Писать прямо в реку было, в целом, гигиеничнее, чем писать — и гадить! — на гхатах, откуда все это так или иначе попадало в воду. Был ранний вечер, поблизости никого не было, но все то время, что я писал — а это было одно из тех эпических излияний, когда процессу нет конца, — я ждал, что меня кто-нибудь заметит и что-то произойдет: сперва крики, а потом мордобитие, или сразу мордобитие, без всяких криков. Но ничего не случилось. Если меня кто-то и заметил — а это было совершенно неизбежно: в Индии ничего нельзя сделать незаметно, — и оскорбился, как оно наверняка и было, это сошло мне с рук.
Тот поход в туалет показался мне бесконечным, но в сравнении с беспрестанным, неуемным и безостановочным вымогательством денег он был очень краток. Каждое социальное взаимодействие было прелюдией к коммерческой сделке. Некоторые социальные взаимодействия только из нее и состояли. На самом элементарном уровне ребенок мог сказать: «Одна рупия!» — в коем случае требование денег было и формой приветствия. На следующем вам говорили «Намасте!», после чего требовали денег или предлагали услугу. В некоторых случаях предложению услуги предшествовала пара фраз, что уже могло сойти за разговор. В целом же чем пространнее было вступление, тем искуснее затягивалась петля сделки — а в том, что она непременно затянется, можно было не сомневаться. Вы могли болтать о чем угодно, но потом тебе наверняка предлагали лодку и говорили: «Пошли!» — хотя о цене еще не было сказано ни слова. Порой могло показаться, что наконец-то вы просто беседуете — о том, что следует посмотреть или кого остерегаться, включая негодяев, что орудуют в округе, — пока неизбежно не всплывала тема денег. Подлинные мастера этого искусства, подобно классическим музыкантам, могли до бесконечности развивать ту или иную тему, все больше усложняя и расцвечивая рагу, но не проясняя ее до конца, пока ее характер не оказывался предельно ясен — хотя в данном случае рага вечно звучала на один и тот же лад: рага-Лодка, рага-Рикша, несколько вариантов рага-Рупий — одной из немногих раг, а может, и единственной, которая не была привязана ни ко времени суток, ни ко времени года. Нет, эту великую материнскую рагу можно было играть без конца, в любое время, с любым настроением. И нигде отношения с людьми не сводились так обидно и явно к вопросу вымогательства денег, как в храме. В итоге в каждом разговоре, даже когда у человека не было на уме никаких скрытых мотивов — а иногда случалось и такое, — тебе все равно мерещился какой-то подвох. Я всегда старался побыстрее прекратить общение, пока речь не зашла о лодках, посещениях магазинов, мастерских или чего-то еще. Я старался вообще не разговаривать. Я избегал смотреть людям в глаза, чтобы не угодить в ловушку какой-нибудь денежной сделки.
Все это живо напомнило мне то время, когда в возрасте тридцати с чем-то лет я совершил глупость, переехав на пару лет в Оксфорд. По идее, там должна была кипеть интеллектуальная жизнь, предположительно за стенами почтенных древних колледжей, — и вероятно, так оно и было, но только в этот мир я, увы, не попал и вынужден был околачиваться на кислотных и веганских обочинах местного общества. В Варанаси тоже, наверное, был свой мир поэтов, интеллектуалов и мыслителей, но, не имея доступа к этой социальной страте, я вынужден был нехотя играть одну и ту же роль в извечной музыкальной пьесе на два голоса. «Лодка, мистер?» — «Нет, спасибо». — «Рикша, мистер?» — «Нет, спасибо». — «Очень дешево» — «Нет, спасибо». Западно-восточный фьюжн: первая часть — Рага-Рупия, вторая — Рага-Нет-Спасибо.
Эта фаза досады и раздражения достигла своего апогея, когда я стоял в очереди в банкомат в холле какого-то банка в центре города, неподалеку от Дашашвамедха. От бесконечного шума мои нервы были на взводе. Но еще больше меня нервировало то, что, строго говоря, тут не было никакой очереди; однако назвать это неочередью тоже было нельзя. С полной анархией или же просто толчеей я бы еще как-то разобрался, но здесь было сразу и то и другое в самом худшем своем варианте: нечто вроде очереди, в которой принцип очереди не то чтобы игнорировался, но и не слишком соблюдался. Стоявший передо мной высокий немец несколько раз позволил каким-то людям влезть вперед. Но если слово «очередь» здесь было в общем-то неприменимо, то и слово «давка» с происходящим как-то не вязалось. Никто не толкался и никого не отпихивал — просто они каким-то образом оказались перед ним. У дверей стоял охранник, но он ровным счетом ничего не делал и скорее напоминал колонну в синей униформе.
— Если вы будете всех пропускать, мы отсюда никогда не уйдем, — сказал я немцу.
Он пожал плечами. Похоже, в Индии он был недавно. Мы прождали еще пару минут, после чего пришел какой-то индиец с женой и встал перед нами. Немец поглядел на меня, и я похлопал новоприбывшего по плечу.
— Тут очередь, — сообщил я ему. — Встаньте в нее.
Разумеется, он меня проигнорировал. Я поменялся с немцем местами — собственно, я тоже влез вперед.
— Тут очередь, — повторил я. — Вы пришли позже нас, так что встаньте в очередь. За мной и вот за этим человеком, и за теми людьми, которые стоят сзади нас.
Он улыбнулся и покачал головой. Охранник стоял с отсутствующим видом. Его работа заключалась в том, чтобы быть охранником и стоять тут в синей униформе. Дальше этого его служебный долг не простирался.
— Вы сейчас пойдете в конец очереди, — сказал я этому индийскому джентльмену, который не только встал вперед, но и уже держал наготове банковскую карточку. — Карточку можете убрать. Ваша очередь еще не подошла.
— Но я спешу, сэр.
— Мы все спешим.
— Я спешу, сэр. Я буду быстро.
— Тут все спешат. И все будут быстро. Никто не будет быстро, если мы не будем соблюдать очередь.
Он все еще стоял передо мной. Я протолкнулся вперед и встал рядом с ним. Я уже закипал, он же был совершенно спокоен и улыбался. С некоторым усилием я соорудил у себя на лице подобие улыбки.
— Но я спешу, сэр.
— Тут все спешат, сэр. Вы не пройдете к банкомату раньше меня.
— Я прошу вас, сэр.
— Сэр, ваша просьба не будет удовлетворена. Поэтому вам придется вернуться назад, в очередь.
— Но я прошу вас, сэр.
— И в удовлетворении просьбы вам категорически отказано.
В других обстоятельствах это могло бы показаться пустой тратой времени, но я пробыл в Индии уже достаточно долго, чтобы убедиться: повторять одно и то же здесь нужно до бесконечности. Тот факт, что вы сделали некое утверждение, вовсе не означает, что его не придется сделать еще десять раз. Впрочем, его формулировку можно было расширять и варьировать.
— Более того, ваша просьба не может быть удовлетворена, — сказал я. — Никогда. Вы меня понимаете?
Нет, в каком-то смысле он не понимал. Идея абсолютного отказа без возможности сделать исключение ввиду особых обстоятельств не укладывалась у него в голове. Он продолжал стоять, где стоял. Мы были с ним на одной линии. Физически он не был в очереди передо мной, а я — перед ним, но психологически я добился серьезного преимущества. Ни этикет, ни принципы организации очереди моего соперника явно не интересовали. Он просто хотел поскорее воспользоваться банкоматом. Только и всего. Что до меня, то на кону стояло мое место в очереди — а также продолжение существования самой ее идеи. Ничто в жизни не было для меня сейчас так важно, как не пропустить этого субъекта вперед. Я обрел дело, ради которого мог умереть. Или убить.
— Сэр, — сказал я. — Посмотрите мне в глаза.
Я снял очки.
— Посмотрите мне в глаза и послушайте.
Я понятия не имел, как выглядят мои глаза. Я надеялся, что через их голубые зрачки на него взирает разгневанная личность, наделенная несгибаемой волей и безжалостной целеустремленностью. Особого значения это, впрочем, не имело, так как любитель влезть без очереди в них не смотрел. Он смотрел на дверь банкомата и по-прежнему улыбался. Моя собственная улыбка превратилась к тому времени в оскал посмертной маски, в гримасу подавленной британской ярости, взращенной десятилетиями дождливых июлей, испорченных пикников, отмененных поездов и промазанных пенальти.
— Вы не войдете в этот банк передо мной. Единственный способ войти в него вперед меня — это переступить через мое безжизненное тело. Вам это ясно?
Час «икс» пробил. Упитанная, закутанная в сари дама, стоявшая перед нами, как раз появилась в дверях банкомата. Не успела она переступить порог, как мой соперник сделал попытку просочиться внутрь. Однако я оттер его плечом и вошел первым. Когда он попробовал войти вслед за мной, я захлопнул дверь у него перед носом. Я победил. Ликуя и все еще на взводе, я вскинул к небу кулак, как человек, который отстоял свою позицию и добился своего.
Я набрал пин-код. Руки у меня дрожали, и, возможно, поэтому машина его отвергла. Скорее всего я просто ошибся. Я снова ввел цифры, медленно, тщательно, вдумчиво. Банк второй раз отказался обслуживать мою карту. И третий.
Все, что происходит в Индии, — это парабола, даже если смысл этой параболы неясен. В это мгновение я понял, что такой вещи, как пиррова победа не существует — есть только пирровы поражения.
Итак, я вышел наружу с пустыми руками, без денег. Индиец, пытавшийся проскочить передо мной, прошел следующим, все такой же безмятежный, ни в чем не раскаивающийся и не держащий ни на кого зла. Его жена осталась снаружи. Как и немец, который снова был не первым в очереди. Между ним и дверью успел втереться кто-то еще.
— Жалкая арийская тряпка! — прошипел я ему, прежде чем зашагать прочь.
Я поехал обратно в отель на велорикше. Пока мы, дюйм за дюймом, продирались через пробки, я с удивлением обнаружил, что вся эта история каким-то образом вернула мне хорошее расположение духа. Припомнив шокированное выражение лица и так уже порядком натерпевшегося немца, когда он услыхал мои последние слова, я рассмеялся в голос. Но то, как этот индиец, стремившийся пройти вне очереди, с улыбкой гнул свою линию, даже не пытаясь делать вид, что им движет что-то кроме собственного желания поскорее добраться до денег (к чести его, следует отметить, что он и не думал выдавать его за право), поистине восхищало. Стоило взглянуть на ситуацию под другим углом, и все, что тебя в Индии злило и нервировало, могло в мгновение ока стать источником удовольствия и уроком на будущее. Я вдруг понял, почему в раздражении, преследовавшем меня последние недели, было что-то странно знакомое и даже приятное: именно так я обычно чувствовал себя в Лондоне; то был заданный тон жизни, в которой тлеющая искорка раздражения, досады и поездок на метро в час пик была даже не подлежащей обсуждению нормой.
Все вокруг гудело и сигналило. Зной, шум и пыль сводили с ума, но разве это не здорово, что есть на свете место, где зною, пыли и шуму есть где развернуться? Какой стерильной и скучной стала бы Земля, если бы повсюду были пригороды Стокгольма, где граждане покорно стоят в очередях, а банкоматы выдают хрустящие, новенькие, защищенные от подделок крупные купюры, где нет слоноголовых богов, разъезжающих на мышах, где нет ни нищих, сующих тебе в лицо свои забинтованные, запятнанные гноем обрубки, ни привратников, прикидывающихся жрецами, ни величаво унавоживающих улицы коров, ни носящихся стаями обезьян, ни вымогающих деньги детей! Под любым раздражением и недовольством все равно скрывалось понимание того, что вымогательство денег было лишь прямым свидетельством неравенства экономических структур. Мы, туристы, были бесконечно богаты, а они, лодочники и попрошайки, массажисты и деляги, были неизмеримо бедны. Попрошайничество было докучливым, но все же добровольным налогом на роскошь. Ты можешь не платить. Ты можешь сказать «нет». Это «нет», разумеется, будет проигнорировано, но если ты снова и снова будешь повторять свое «нет»… его все равно будут игнорировать. Однако где-то с двадцатого раза тебя все же услышат. Либо так, либо оно уже превратится в «да». Принимая во внимание, что есть у нас и чего нет у них, удивительно, что тебя не грабят до нитки каждый раз, когда ты выходишь из отеля, что тебе не отрезают ноги, просто чтобы завладеть твоими сандалиями, что тебя не убивают и не съедают по кусочкам голодные дети — и что печень твоя не идет собакам на прокорм.
На запруженной машинами Шивала-роуд я увидал Изобель в линялой желтой футболке и джинсах, которая как раз собиралась перейти дорогу. Мы едва на нее не наехали. Она в испуге подняла глаза.
— Осторожно! — крикнул я ей, улыбаясь и махая рукой.
Она тоже улыбнулась и отступила на тротуар. В первый раз я увидал ее одну, и в первый раз мы осознали существование друг друга. В индуизме карма формируется и разворачивается на протяжении нескольких жизней, но мой скоростной западный ум был готов трактовать эту случайную встречу разве что как знак мгновенного кармического воздаяния. Пару дней назад — или буквально за час до того — я был в таком разладе с миром, что подобная встреча была бы просто невозможна. И даже если бы она случилась, я бы просто что-то буркнул; заметь она меня, она бы увидела лишь смутно знакомое лицо, хмуро взирающее на нее с высокого насеста своей колесницы. Но теперь, когда я снова обрел равновесие, она увидела перед собой мило улыбающегося человека, искренне озабоченного ее безопасностью.
Мы прибыли обратно на Асси-гхат. Когда я слезал с рикши, возница потянул меня за штанину и вывернул свою ногу так, что с нее свалилась сандалия, оголив подошву. В подъеме ноги была дыра, как если бы его только что распяли, хотя кровь из нее не текла. Напротив, цвет у раны был какой-то белесый, похоже, это было что-то вроде язвы. Я дал ему сто рупий, за которые он не выказал ни малейшей благодарности — да и кто бы стал его за это винить? Для человека, которому изо дня в день приходится крутить педали, это было ужасное увечье. Хотя и не намного ужаснее — а в чем-то даже более легкое, — чем некоторые другие раны, болезни и недомогания, поражающие здесь людей на каждом шагу. Боль, неудобства и даже агония, которые местные жители безропотно сносили, не ожидая ни малейших улучшений (не говоря уже об исцелении), без всякой надежды на то, что их боль может хоть как-то уменьшиться, были просто колоссальными. Значило ли это, что им не так уж и больно, что они не так уж и мучаются? У нас, на Западе, способность терпеть боль оказалась несколько завышенной в силу того, что ее стало возможным как-то облегчать. Мучительно терпеть боль, зная, что ее можно уменьшить, а болезнь — излечить. Мучительно испытывать бессильную ярость, оттого что ожидаемое облегчение наступает не сразу. Мучительны различные задержки, мешающие начать эффективное лечение, и ожидание того, когда лекарство наконец подействует. Мучительно само ожидание.
Здесь же, в Индии, западным людям редко приходится чего-то ждать. Мы ноем, что к нам пристают, что нам без конца предлагают лодки и рикши, но, когда нам действительно оказываются нужны лодка или рикша, мы ожидаем, что кто-то нам все это даст, немедленно и по самым низким ценам. Мы привыкли дома к бесконечным ожиданиям автобуса, а здесь ворчим, если приходится подождать чего-то хотя бы минуту. Тут даже самый бедный «бюджетный» турист пользуется привилегиями и льготами раджи.
Я отправился прогуляться вдоль гхатов. Ко мне подбежал и пошел рядом какой-то мальчишка.
— Школьная ручка! — воскликнул он.
Я улыбнулся, но продолжал идти.
— Школьная ручка! — снова повторил он. — Школьная ручка!
Ручка у меня при себе была — хорошая, шариковая, привезенная из Лондона. Я отдал ее мальчишке, и он тут же куда-то умчался. У воды, в тени пляжного зонтика, сидел святой человек и приветливо глядел на меня.
Когда я дошел до надписи «Я ЛЮБЛЮ МОЮ ИНДИЮ», то был счастлив ее увидеть.
— Что ты там читаешь? — спросила Лалин.
Я сидел на террасе и не слышал, как она подошла. Она была босиком, в чрезвычайно линялых джинсах и белой футболке, от которой веяло свежей стиркой. Я показал ей обложку: «Влюбленные женщины»[165], старое пингвиновское издание.
— Странный выбор.
— Кто-то оставил ее в отеле, поэтому я в нее и влез. Но тут, в Варанаси, и правда полно Лоуренса — все растворяющая река, корабль смерти[166]…
На этом я выдохся. Лал пододвинула стул и уселась рядом, выжидательно глядя на меня. Ногти у нее на ногах были выкрашены в розовый цвет, и там же, на одном из мизинцев, красовалось серебряное колечко.
— Это всего два.
— Знаю, но иногда и двух бывает много. В каких-то обстоятельствах и одного может быть много.
— А ноль, сэр, может быть всем, — изрекла она в чем-то очень индийскую мудрость. — Вообще-то «много» предполагает не меньше трех вещей.
— Ты, как всегда, права.
— Так что, Лоуренс был в Индии?
— На Шри-Ланке, которая Цейлон. Ему там страшно не понравилось. И об Индии он, в общем, судил по Шри-Ланке. Как жаль, однако, что он сюда не доехал. Его бы тут, естественно, все раздражало. В плане кастовости, он бы видел себя неприкосновенным брахманом. И утверждал бы, что Ганди проповедует ненасилие, так как втайне мечтает поразбивать всем головы кувалдой.
— Особенно Неру?
— Вот именно. Он вообще везде болел, но тут мог заболеть еще больше, чем сразу во всех остальных местах. И возможно, он написал бы индийский роман — недель за восемь. Полный неточностей и самых диких измышлений, но странно пророческий. Он бы провидел, что цыпленок тандури когда-то станет английским национальным блюдом, а в его родном Иствуде откроют несколько ресторанов, в названии которых будет слово «Махал»[167].
Лалин заказала чаю. Камаль принес чайник на сверкающем подносе и поставил его на стол. Я отложил книгу и пошел внутрь, чтобы взять себе банан. После расстройства желудка я привык питаться в основном бананами.
— Ты совсем тут превратился в обезьяну, — заметила Лалин, когда я снова уселся за столик. — Скоро ты начнешь красть бананы с чужих тарелок. Просто чтобы будоражить всех своими выходками.
— Если я когда-нибудь стану оранжевым комом, ты узнаешь меня? — спросил я.
— Если ты будешь просто каким-то оранжевым комом? Нет, конечно нет. Но думаю, тебе это не грозит. Ты из тех мужчин, которые с возрастом становятся все костлявее и костлявее. И ты совсем не оранжевый. Скорее розовато-беловатый. Попробуй воспользоваться лосьоном для загара.
— Ты отрицаешь во мне бога! — вскричал я. — Бинго! Это как раз лоуренсовская идея: отрицать бога в себе или в ком-то еще. Вот тебе и три, что уже можно расценивать как «много»!
— Довольно общее рассуждение, ну да ладно.
На террасе появился Даррелл, и Лал призывно взмахнула рукой.
— Как раз вовремя! А то мне тут читают зануднейшую лекцию про «Семь подушек мудрости»[168]. Ты не поверишь, что он только что сказал. Он назвал Ганг рекой растворения.
— Он говорил тебе, что пописал в него?
— Нет! — воскликнула Лалин. — Злокозненный еретик!
Даррелл взял стул и сел с нами. Теперь нас было трое — не то чтобы «много», но вполне достаточно. Как и на Лал, на нем была белая футболка. Он не поцеловал ее, но теперь, когда он был рядом, она вся светилась изнутри, как любая влюбленная женщина. Сам Даррелл не светился — мужчинам это вообще не свойственно, особенно таким, как он. Но что-то в нем стало более явственным (в каких-то едва уловимых нюансах) — уверенность, что на него можно положиться, что она не ошиблась в своем выборе. Возможно, именно по этой причине — в числе прочих — возникшая между ним и Лалин связь никак не повлияла на их отношения со мной.
— Как твой животик? — поинтересовался Даррелл.
— Ничего, — ответил я. — Знаешь, как говорят: что нас не убьет, то сделает нас слабее.
На несколько дней к нам присоединилась Сайоко, молодая японка. Она ужинала в одиночестве, и Даррелл спросил, не желает ли она присоединиться к нам. Английского она почти не знала, и, когда она пересела к нам, он заговорил с ней по-японски, что, даже в его случае, было весьма впечатляюще. Сайоко и я мало что могли друг другу сказать, но с ней было легко. То, как она пребывала в этом мире, было присуще лишь ей — по крайней мере, я раньше ни с чем таким не сталкивался. Работая журналистом в Лондоне и часто интервьюируя всяких художников, я привык к тому, что смысл существования — особенно для художников, но также и для журналистов — сводился к тому, чтобы как-то выделиться, прозвучать, привлечь к себе внимание. Сайоко была совсем другой. Она скользила по миру так, словно стремилась ни в чем на него не давить. Она рулила по его трассам как искусный водитель, избегая столкновений и опасных ситуаций. В контексте Варанаси это сравнение было бессмысленным, но в ее обществе почему-то сразу вспоминалось, как спокойно себя чувствуешь, когда не нужно все время давить на клаксон, ждать аварии, напрягаться и держать внимание и нервы на пределе. Интересно, это было свойственно лишь ей или это была характерная японская черта?
В Варанаси вообще было много японцев — как туристических групп, смотревшихся слегка по-идиотски, маниакально фотографировавших все вокруг и беспрекословно подчинявшихся тур-лидерам, так и трансовой молодежи, иногда с дредлоками и почти всегда в футболках с интересными надписями. Особенно их привлекал Сарнатх, где Будда произнес свою первую проповедь. Он располагался всего в шести-семи милях к северу от города, и даже не знаю, почему я туда так и не добрался. Надо было съездить вместе с Сайоко — она была буддисткой и отправилась туда одна в первый же свободный день. Собственно, она меня не приглашала, но ничто не мешало мне поехать. И не то чтобы я был против самой идеи или мне было это неинтересно. Тем не менее я не поехал.
Сайоко пробыла с нами совсем недолго. Пару раз мы гуляли вдоль гхатов и пили кофе с блинами в «Лотос-лаунже». По дороге туда мы увидели двух дохлых крыс, лежавших рядышком на самом видном месте — из чего следовало, что даже для них Ганг оказался слишком грязным. В «Лотос-лаунже» мы не промолвили ни слова. Мы и по пути туда почти не разговаривали, но когда идешь, рассматривая дохлых крыс и прочие достопримечательности, это как-то не смущает. Но сидеть вот так, молча, не имея возможности разговаривать, а общаясь лишь на уровне вибраций — это было странно и ново.
Я едва успел ее узнать, как она уже уехала в Бодхгайю. Я рассказал ей, как там можно менять купюры с десятипроцентной комиссией, но не факт, что она поняла. Когда она уехала, я немного расстроился — и это странно, потому что стоило ей нас покинуть, как мне стало казаться, будто ее здесь никогда и не было.
В галерее «Крити» открылась выставка фотографий Дайяниты Сингха. Мы втроем, а также Шашанк и еще кое-кто из гостей «Вида на Ганг» пошли на открытие. Выставочное помещение с его белыми стенами — как во многих мировых галереях — с тем же успехом могло находиться в Лондоне или Нью-Йорке. (Должно же и в Варанаси быть что-то сугубо современное, как во всей остальной Индии, вступившей в двадцать первый век.) Но хотя на открытие пришло довольно много народу, все было совершенно не так, как на схожем мероприятии в любом из этих городов. Тут не было никакой бесплатной выпивки — ни даже платного бара, — так что, съев несколько самос и тщетно поискав глазами Изобель, я был вынужден целиком погрузиться в искусство.
Снимки были невелики — размером с конверт виниловой пластинки — и развешаны в один ряд по периметру галереи с расчетом на индийских зрителей (чтобы разглядеть их, мне приходилось чуть нагибаться). Они тоже были черно-белыми, но, в отличие от творений Акермана, не грузили, не шокировали и не вызывали психологического дискомфорта. Кое-где были люди, на остальных же — лишь пустые комнаты. Отражения. Полки с разными вещами. Дворик какого-то здания в сумерках. Треснутые плитки тротуара, у которого не осталось ничего общего с темой движения. Свет, отражавшийся в бассейне, так что он походил на подводный теннисный корт. Висящие на вешалке перчатки. Посмертная маска под стеклянным колпаком. Два белых жакета вроде тех, что носил Неру, в чем-то вроде музейной витрины.
Отсутствие людей не было определяющим принципом. Люди могли присутствовать, а могли и отсутствовать — отсутствовать на одних фотографиях и присутствовать на других. В буклете говорилось, что все снимки были сделаны в Индии, однако все они были без подписей. И было не понять, что на них происходит, где это происходит или когда. Это были просто фотографии мест, о которых можно было сказать лишь, что они запечатлены на этих фотографиях. Ничто здесь не помогало тебе сориентироваться, и через какое-то время, уже смирившись с этим, ты вдруг понимал, что тебе совсем не нужно все то, на что ты привык полагаться, — что никаких ориентиров просто нет. Ни один снимок не имел образной или сюжетной связи с тем, что висел рядом, но само их соседство предполагало некий порядок, который усиливал эффект обоих.
Изогнутый ряд чуть отсвечивающих сидений, как в кинотеатре или в концертном зале. С «их» точки зрения кинотеатр всегда полон, даже когда он пуст; совершенно неважно, что показывают, да и показывают ли вообще. Окна в башне. Струящийся через них свет. Без этих снимков, до того, как они были сделаны, можно было подумать, что все эти места не заслуживают никакого внимания. Фотографии навеки оставили их такими, какими они были, застывшими, изменившимися. Не была ли тут как-то замешана идея даршана? Возможно, существует такая форма даршана, когда нечему видеть?
В книге отзывов кто-то сделал запись из трех строк. Я решил, что это хинди, и попросил Лалин прочесть их для меня. Это была цитата из стихотворения Фаиза, сказала она, одного пакистанского поэта. Фаиз писал на урду, но процитировавший перевел ее на хинди. Скользя пальцем вдоль вязи строк, она не без запинки перевела их еще раз, теперь уже на английский.
Все, что останется, — это имя Аллаха, Он тот, кого нет, но кто также и есть, Он и видящий, он же и видимое.Я уставился на этот непостижимый набор слов, ожидая пока их обнажившийся смысл не осядет обратно.
— Без первой строчки, наверное, было бы лучше, — сказала Лал.
— Да, в этом контексте можно было обойтись и без контекста, — резюмировал я. — Но мне нравится ритм.
Публика довольно быстро разошлась — как и на ужинах в «Виде на Ганг» отсутствие спиртного лишало людей мотивации к тому, чтобы задержаться подольше. Когда галерея почти опустела, я смог увидеть все фотографии сразу, вытянутые в одну линию по белым стенам комнаты, а теперь еще и с подписью Фаиза. Уходящий в перспективу коридор, влажный пол, отражающий двери и окна. Башня в окружении неба. Огни под водой — как будто что-то отражается само в себе.
У нас в отеле остановились двое музыкантов, таблист и французский гитарист. Гитарист изучал в Калькутте музыку хиндустани; на его инструменте стояли добавочные резонансные струны, придававшие ему индийское звучание. Таблист был индийцем из Бомбея, но жил преимущественно в Европе, в Германии. Они были не знакомы, но после ужина устроили совместный джем-сейшн на маленькой террасе на крыше отеля. Это не было концертом для публики, но все, кто жил в отеле, могли прийти послушать.
Даже если ты слушал очень внимательно, нельзя было не почувствовать себя здесь немного чужим: музыканты словно свили для себя кокон, в котором не было места посторонним. Глядя на их игру, ты словно бы видел двух любовников, внимательных и восприимчивых к каждому жесту партнера, но далеких от всех остальных. Когда они играли, то слушали и видели лишь друг друга, а когда не играли, их ничто не интересовало — кроме разговоров о музыке. Трудно было не позавидовать такой всепоглощенности. Годами я зарабатывал на жизнь журналистикой, хотя на самом деле терпеть не мог писать. Когда мне нужно было что-то написать, я готов был делать что угодно — что угодно! — только не это: играть в теннис, смотреть телевизор, пить, мыть пол, принимать ванну, читать газету, да просто плевать в потолок! Годилась любая замена. Возможно, все было бы иначе, если бы я писал «своё» — что бы это ни значило, — но вряд ли. Ведь и в этом случае пришлось бы писать, а значит, снова откладывать и избегать до последнего. Тогда как эти двое хотели только одного — играть музыку. Они все время упражнялись, каждый в своей комнате, оттачивая то, что вместе открыли для себя накануне, или нащупывая какие-то темы, которые они намеревались опробовать этим вечером. Хотел бы я, чтобы в моей жизни было что-то подобное. Уверенный, что когда-то оно так и было, я напряг всю свою память. На это ушло довольно много времени, но в итоге мне пришлось смириться с тем, что я не мог ничего вспомнить — по той простой причине, что вспоминать-то было нечего. Разве что теннис. Правда, к тому времени, как я стал относиться к нему серьезно, я уже физически не тянул на большие нагрузки: максимум три раза в неделю — и все. Если я превышал этот лимит, случались травмы. Что еще? Вечеринки, алкоголь, наркотики. Наркотики всегда меня привлекали, но и тут, как с теннисом, было совершенно ясно, что, перегнув палку, можно себе навредить — как по части здоровья, так и в плане психики. Тем более что прием наркотиков вряд ли можно было счесть призванием — в любом случае это был не мой путь. Это было хобби, форма отдыха, а не то, чем можно было бы зарабатывать на жизнь. Пожалуй, самое непреходящее и всепоглощающее удовольствие всегда приносил мне как раз тот образ жизни, который я вел сейчас — счастливое ничегонеделание. И он вполне мог стать непреходящим, это можно было устроить. Сдавая свою лондонскую квартиру, я мог жить так до бесконечности.
В первые недели в Варанаси я постоянно проверял электронную почту и старался быть в курсе дел по работе. (К тому времени, как мой материал о Варанаси появился на сайте «Телеграф», я уже почти свыкся со всем тем, что поначалу заставляло меня чувствовать себя здесь туристом с Марса). С тех пор я пустил все на самотек и не ответил на несколько предложений работы. Не было таких уж срочных дел, которые не могли бы подождать, а если подождать достаточно долго, то, просто в силу своей срочности, они наверняка потеряют свою актуальность. Поток ответной корреспонденции тоже начал постепенно чахнуть, иссякать и в конце концов сошел на нет. Единственное, за чем я еще продолжал следить, был футбол — возможно, потому что это было совершенно бессмысленно. Матчи, которых нельзя было увидеть — хотя бы как серию самых острых моментов в спортивных новостях, — уже не вызывали интереса; не будь их вовсе, мне было бы все равно. При таком раскладе счет мог быть каким угодно («Челси» проиграл «Уотфорду» со счетом восемь-ноль — и что с того?). И все же от футбола было трудно отказаться, особенно теперь, когда возобновился — якобы — Кубок Европы. Я не болел ни за какую команду, но недоступность футбола была для меня больной темой. И дело было не только в самой игре — футбол придает жизни определенную направленность; это общая вера и те мифы, победы и поражения, которые ее питают.
Я уехал в Варанаси, потому что меня ничто не держало в Лондоне, и оставался тут по той же причине — возвращаться домой было незачем.
Даррелл шел на занятия по йоге. Я решил пройтись с ним до Ниранджани-гхата, где сидел дружелюбный святой, которого я приметил в день конфликта в банке. Он сидел на том же самом месте, прячась в тени грибовидного зонтика, и глядел на реку.
— Я пойду поговорю с тем философом, — сказал я Дарреллу, который поспешил дальше.
«Поговорю» — это сильно сказано. Святой не знал ни слова по-английски, и я дал ему пятьдесят рупий, просто чтобы посидеть рядом и посмотреть ему в глаза. Он с готовностью согласился. Мы сидели в тени скрестив ноги и глядели друг на друга. Его лицо обрамляла кирпично-красная рамка стены за его спиной — почти такого же оттенка, что и тилак[169] у него на лбу, как будто у него в голове была сквозная дырка. Сперва я чувствовал себя немного не в своей тарелке, но вскоре это прошло, и я стал просто спокойно смотреть в его добрые карие глаза. Он тоже сидел и смотрел на меня. Это было не похоже на детскую игру в гляделки — хотя его способность не моргать была почти сверхъестественной. В этом не было ни малейшей агрессии. Мы просто смотрели. Он смотрел так, словно ничего перед собой не видел. Я тоже старался ни о чем не думать, а просто смотреть. Не знаю, чего я хотел, что ожидал увидеть — потому-то я и смотрел, чтобы понять, чего я ищу. Чего я не увидел, так это какого бы то ни было родства. Он пребывал в своем мире, а я — в своем. Моя картина мира никогда не станет его, и наоборот. И это было единственное, что нас объединяло. Разнило же нас его полное отсутствие интереса к моей картине мира — она для него ровным счетом ничего не значила, тогда как я к его питал живейший интерес. Как бы я ощущал себя будучи им? Хотел бы я поменяться с ним местами, хотя бы ненадолго. Приглядевшись, я мог видеть собственное отражение в его расширенных зрачках, словно я жил там в виде крошечного гомункулуса. Я сосредоточился на этом маленьком личике, и через некоторое время оно заполонило собой все, так что вместо лица святого мужа я уже созерцал свое собственное, уставившееся на меня, словно из зеркала. Можно было воспринимать это так. Или предположить, что я сейчас видел то же, что и он, и что, вопреки моей первоначальной мысли между тем, как я видел его и как он видел меня, не было особой разницы. Он видел то же, что и я: мужчину сорока с лишним лет с седыми волосами, худым лицом и угрюмо сжатыми губами. Лицо это не было злым, но в нем присутствовала некая жесткость, которую я замечал и у других путешественников этого возраста. Не было оно и глупым — это тоже было ясно, но уж если речь зашла о ясности, то, когда выходишь за пределы узкого понимания интеллектуальности, ее избыток или недостаток быстро перестает иметь какой-то смысл. Лицо перед моими глазами — мое лицо — было чем-то наполнено и трепетало изнутри, как налитый до краев стакан, как вечно дрожащие уиппеты[170]. Не из страха, нет, а просто потому, что оно было живым. Дрожащие уиппеты и мое дрожащее как полный стакан лицо — мы были похожи. Чем же оно было наполнено, это лицо, которое каким-то чудом было моим? Я стал всматриваться еще пристальнее, тщась увидеть, понять, и, копируя мои усилия, лицо в зеркале стало напряженно-внимательным. Теперь я видел, что оно было полно стремления и желания, в данном случае — желания знать, но с таким же успехом это могло быть желание шоколада или секса. В этом состояла фундаментальная разница между мной и моим новым другом, святым человеком. Его лицо было свободно от желаний. Как он к этому пришел? Что для этого сделал? Может, он с самого начала был таким? Едва ли. Скорее он достиг этого состояния немалым трудом: посредством медитации, йоги, усердного курения травы или чего-то подобного. И это было отличное состояние, достойная цель. Но чтобы сама мысль об отсутствии желаний пустила корни, чтобы пойти по этой дороге и попробовать освободиться от желания, нужно сперва ощутить в себе это желание, тягу, стремление. И как же потом это желание превосходит само себя? Пока я обо всем этом думал, фокус моего внимания, нацеленный на зрачок моего друга, сам собой расширился. Камера отъехала, и мое лицо, только что занимавшее весь экран, крупным планом, отдалилось, снова стало отдельной деталью в общем пейзаже его лица. Я увидел его глаза и волосы, тилак у него на лбу — того же оттенка, что и кирпичная стена позади него. Я увидел его нос, зубы и темные впадины там, где их не было. Он улыбался. Я улыбнулся ему в ответ.
Тем вечером на террасе «Вида на Ганг» давали концерт. Ночь была ясной и теплой, полной внимательно слушавших звезд. Террасу освещали свечи, мигавшие на ветру, которого почти не было. Аудитория человек в тридцать собралась послушать немолодую скрипачку, которой аккомпанировал таблист — худой мужчина с совершенно белыми волосами и в очках с толстыми линзами. На тампуре играла женщина, чья застенчивость очень соответствовала ее инструменту. Скрипачка объявила, что они исполнят рагу Малкаунс. Я уже слышал ее раньше на своем айподе в разных версиях, но до сих пор не понимал, что отличало рагу Малкаунс от всех прочих раг со схожим звучанием. Фрагменты, которые, казалось бы, являлись ее структурными единицами в одном исполнении, начисто отсутствовали в другом.
Ночь спустилась несколько часов назад, но скрипка все равно звучала вечерне, сумеречно. Я знал, что скрипачка исследует рагу, постепенно пробуждая ее к жизни, чувствовал, как постепенно погружаюсь в геометрию звуков, но все равно не мог ее расслышать. Хотя на этот раз я, кажется, догадался, в чем тут дело. Мелодия зависит от времени. Если играть немного быстрее или медленнее — она все равно останется узнаваемой. В то время как здесь сердце раги, мелодия, из которой она возникла, была лишена всякого временного контекста. Исчезло целое измерение слушания. И я почувствовал, что растворяюсь в бесконечности чего-то такого, чего не мог ни распознать, ни понять.
Возможно, то была музыка духа, однако никто не пытался замаскировать тот факт, что она рождалась физическим способом. Не было страха, что тонкая лирическая ткань вдруг разорвется трением смычка о струны. Его можно было прервать в любой момент, но этого никто не делал. И даже свободно воспаряя ввысь резким скрежещущим звуком, оно с каждой нотой все глубже зарывалось в землю. Скрипка обволакивала, густая, как лежащая на реке ночь; их было невозможно различить. За каждым приливом следовал отлив, и все же музыка неумолимо текла вперед и ускорялась. В ней начал ощущаться пульс — возвращение времени. Нельзя было сказать, когда он появился. Я уловил его, только когда он уже вовсю жил в мелодии — как если бы он неощутимо, неслышно присутствовал в ней еще до того, как стал различим. На реке покачивались звезды. То, что некоторое время обретало форму, начало наполняться жизнью. То, что исподволь накапливалось, обретало реализацию в духе: мелодия становилась тем красивее, чем меньше она оставалась собой. Вынужденная уйти от себя, она стала больше себя и через это — еще чище самой собой. Пульс стал сильнее всего остального, таким сильным, что порождал желание, которое был не в силах удовлетворить, — желание ритма.
В этот момент зазвучала табла. Ночь вздохнула с облегчением. Птицы промелькнули в темноте тенями самих себя. Скрипка взмывала, охваченная желанием приблизиться к несравненной скорби саранги, и сама невозможность его исполнения еще больше усиливала чувство томления. Табла отвечала на ее страстный призыв, и скрипка вновь становилась узнаваемой. Временами в музыке проявлялось какое-то топочущее, разухабистое, грубоватое начало, ничуть, впрочем, не противоречившее ее медитативности и трансцендентности. Словно бы музыканты открыли некое универсальное измерение, простиравшееся от Аппалачей до Индо-Гангской равнины. Скрипы и взвизги стали явственнее, как, впрочем, и скользящие извивы мелодии, покинутой, но не совсем позабытой. Табла заплетала ритм все более затейливыми узлами и так же стремительно их расплетала, все быстрее и быстрее, но каким-то чудом даже успевая иногда помедлить. В самом сердце этого галопа жил звенящий гонг. Я уже не мог отслеживать ритмические циклы — по крайней мере, сознательно, — но как бы далеко ни удалялись друг от друга скрипка и табла, им всегда было куда вернуться, и на каком-то уровне я уже знал, где находится их место встречи, знал, как оно звучит, и предвидел его — пусть даже только после того, как оно снова пустело. Тьма текла над рекой, смешиваясь с водой. Река была тьмой. Небо над рекой было цвета реки, но, в отличие от нее, не двигалось, тогда как река двигалась непрерывно. Тьма скрывала тьму.
Я смотрел на другой берег Ганга каждый день, но даже не пытался до него добраться. А потом в один прекрасный день взял и поехал. Лодка ткнулась в мягкую грязь ровно напротив Джайн-гхата, и я вышел на берег. Он был пустынным, но не совсем: еще несколько туристов решили предпринять такое же путешествие и теперь бродили вокруг. То, что выглядело издалека таким притягательным, вблизи оказалось довольно мерзким. Ничего даже отдаленно святого тут не было. Берег был большей частью сухим и песчаным. Местами он напоминал заболоченный лунный ландшафт с лужами тухлой воды, пятнами мхов и бурого ила. У кромки воды, между большими клочьями грязной пены, шныряли очаровательные ржанки. По всем нормальным меркам это была просто помойка: здесь валялись раздавленные сигаретные пачки, мокрые полиэтиленовые пакеты, кости каких-то животных, битые черепки, старая сандалия и пара сломанных грязных авторучек. В рытвине, заполненной жижей с каким-то ядовито-зеленым отливом, застыло несколько воздушных змеев. Мимо проковыляла собака, куда больше похожая на гиену. Казалось, ты стоишь среди последствий чего-то ужасного, но вот только чего? Наверное, последствий глобальной свалки мусора, из которой уже повыбрали всё хоть сколько-нибудь достойное внимания, оставив только полные отбросы, которые даже по самым низким меркам мусорной свалки, даже ввиду извечной индийской привычки выжимать из каждой вещи все, что можно, уже нельзя было ни повторно использовать, ни переработать. Делать тут было нечего, и оставаться тоже незачем.
Я пожалел, что поехал. До того можно было еще хоть как-то верить, что там, на другом берегу, души находят покой. Если же это было так, то вечность теперь представлялась на редкость грязным и загаженным местом. Лучше уж родиться заново, еще разок сыграть в рулетку на колесе самсары и надеяться на инкарнационный апгрейд в следующем воплощении, поскольку вряд ли может быть что-то хуже, чем кончить тут, в этом отстойнике.
В особенности если ты тут и умер и — как мне не уставали объяснять уже в который раз — переродился в виде осла. А если такое случится, вспомнишь ли ты, хотя бы в ту долю секунды, когда вершится переход, что был в прошлой жизни собой? Уцелеет ли от тебя хоть что-то в новой инкарнации, или ты так и будешь жить беспамятным ослом? Если второе, то можно вообще не нервничать насчет перерождения. Когда ничего не знаешь о предыдущих или будущих жизнях, то и неважно, рождался ли ты до того. Если осел понятия не имеет, что прежде мог быть чем-то или кем-то еще, он и не ведает, что он осел. Таким образом, благодаря невежеству осел благополучно избегает самсары — хотя, весьма вероятно, он так не думает, когда таскает грузы или когда его бьют палкой, чтобы заставить делать то, что он делать не хочет, тогда как все, что он хочет, это валяться в мягкой грязи и, глядя через реку на Варанаси, думать: «Постойте-ка, кажется, это что-то знакомое».
Меня стало клонить в сон. Я думал о своих идеальных подачах на теннисных кортах и, наоборот, об играх, когда я делал ошибки в самые ключевые моменты и в результате проигрывал матч. Я думал о сыгранных играх, о десятках тысяч выпитых пинт пива, о сотнях вынюханных дорожек кокаина — и тут я понял, что у меня перед глазами проносится вся моя жизнь, как, по идее, это происходит в момент смерти. Считается, что она разворачивается перед тобой вся целиком — возможно, когда-то так оно и было, однако сейчас, в век высоких технологий, имеет место некая избирательность. Нет нужды переживать заново каждый момент жизни, каждый нюанс желаний, соблазнов и уступок тем и другим, уйму времени, проведенного перед телевизором, в очереди на автобус, за ковырянием в носу. Все это просто вата. Нет, если лишь горстка мгновений, которые действительно что-то значат, которые формируют и определяют жизнь. И одним из таких моментов, понял я, был этот, когда я осознал, что моя жизнь… и тут я вздрогнул и очнулся, вдруг испугавшись, что и вправду чуть не умер, что такова была моя судьба — умереть здесь и переродиться ослом, причем ослом с мозгами, ослом, мучимым совершенно неуместным, но навязчивым проблеском памяти — даже не воспоминанием, а каким-то ноющим сомнением, — для чего же я все-таки был человеком?
Я неуверенно поднялся на ноги, как новорожденный птенец. Остальные туристы исчезли. Я был один на дальнем берегу Ганга.
Я проверил, на месте ли лодочник — он был на месте, — и немножко прогулялся, глядя через реку на Варанаси. И тогда ощущение, что я совершил ошибку, приехав сюда, постепенно уступило место обратному. Теперь я был рад, что приехал: это напомнило мне о том, что раз уж жизнь — там, на другой стороне, в Варанаси, в миру — это все, что у тебя есть, то единственное настоящее преступление, единственная ошибка — не жить ее в полную силу. Посмертие или вечность только что открылись мне в своем реальном виде — в виде мусора. Никому не нужного и не имеющего никакой ценности. То были последствия самой жизни — то, что остается, когда истекает твой срок.
На Харишчандра-гхате происходило какое-то действо. Пятеро барабанщиков выбивали лихорадочный ритм. Какие-то деды отрывались в свое удовольствие. Это были не то танцы, не то драка — что-то среднее между «битвами бомжей»[171] и фестивалем ветеранов трансдвижения, давно и напрочь изувечивших свой мозг. Успокаивала их музыка или, наоборот, заводила? Было не понять. Они то скакали кругом, периодически кидаясь на землю, то вдруг без всякой видимой причины бросались друг на друга, и все это превращалось в потасовку. Каких-то явных группировок или альянсов здесь не было — если же они и возникали, то менялись слишком быстро, чтобы сторонний наблюдатель мог за ними уследить, но в какой-то момент один из участников неизменно старался инициировать перемирие, и тогда вольная борьба легко превращалась в объятия. Человек, который еще пару минут назад был в пылу драки, теперь вовсю вращался, словно исполняя танец живота, и ласкал невидимый фаллос, якобы в состоянии невероятной эрекции. Потом опять начиналась музыка, и все шло по новой. Или же музыка прекращалась, и все шло по новой. Те, кто только что пытался сбить накал страстей, сами начинали новый раунд буйства. Чем дольше я на это смотрел, тем труднее становилось выявить хоть какой-то порядок или схему или понять, кто здесь за кого. Это было что-то вроде побоища, все время грозившего выйти из-под контроля, но однако не перетекающего в хаос. Всем его участникам явно было очень весело.
Я засобирался домой, но, чтобы вернуться в «Вид на Ганг», мне нужно было обойти толпу. В этот момент на меня налетел один из них, и я импульсивно отшвырнул его обратно, в мешанину тел, но инцидент этот, похоже, никого не взволновал. Вблизи барабанный бой стал мощным, гипнотическим. Я немного покивал в такт и незаметно начал танцевать. Через пару минут в меня врезался кто-то еще, и сам я тоже в кого-то влетел. Я не то чтобы совсем дал себе волю и старался избегать особо буйных, но на самом деле изнутри все эти наскоки и закрутки были куда менее опасными, чем это выглядело со стороны для окружающих. Это был просто танцпол под открытым небом, правда, расположенный, всего в десяти ярдах — немыслимо близко по нашим западным меркам — от того места, где своим чередом шли похороны.
Вскоре после путешествия на другой берег Ганга я сделал и еще кое-что из того, что давно хотел сделать: отправился в храм на Кедар-гхате. За время моего пребывания в Варанаси светло-голубые полосы выцвели до белых, какими они мне сперва и показались. Помню, как в первый день это напомнило мне порядком обветшалый морской курорт. Кедар, со своими бело-розовыми ступеньками и вертикальными полосами, был эпицентром этого впечатления, словно его архитекторы вдохновлялись образами полосатых маркиз и шезлонгов. Впрочем, в этом предположении не было ничего сверхъестественного. Индуизм мог бы легко подписаться под той мыслью, что Шива однажды провел небольшой уик-энд в Брайтоне — длиной примерно в десять тысяч лет — задолго до появления там модзов[172] и рокеров, когда даже самые скромные отельчики типа «бед-энд-брекфест» были размером с Павильон[173].
Крышу храма обрамляли изваяния богов, яркие и веселые, как садовые гномы. Солнце безжалостно обрушивалось на бело-розовые ступеньки. Это был, пожалуй, самый жаркий день в году — настоящее пекло. В сравнении с тем, как жарко тут будет через два месяца, когда станет невыносимо жарко, сейчас было вообще не жарко, но прохлады это не прибавляло. Я поднялся по бело-розовым ступенькам к бело-розовым полоскам храма, где горизонтальное становилось вертикальным, разулся и вошел внутрь. Тьма мерцала свечами. Уже просто оказаться тут, подальше от солнца, было приятно. Звонили колокола. Мои глаза постепенно привыкли к темноте. Стены были расписаны тем же лилово-синим, что и ступени снаружи — до того, как они выцвели. Тот же синий был разбрызган по мощенному плиткой полу в духе полотен Поллока[174]. Рядом имелось несколько желтых колонн. Бело-зеленый кафель на стенах был бы весьма уместен на какой-нибудь старой молочной ферме.
Храм был посвящен Шиве — и сам он был тут, в золотом уборе, всесиний и всемогущий, — но это не означало, что в нем не найдется места прочим богам и их супругам. Все они тоже были здесь; все разные, все одинаковые, все — одно. Один за всех, и все за одного. Я обошел храм по часовой стрелке. В задней его части, в чем-то вроде тюремной камеры, сидел святой муж со спутанной гривой белых волос и бороды и что-то невнятно бормотал, приглядывая за маленьким огоньком, словно это была хрупкая птичка, которую нужно вернуть к жизни. Он был полностью сосредоточен на пламени и на произносимых им словах. Они звучали не как заклинание, а скорее как его останки, словно он едва мог припомнить слова, заведшие его разум туда, где он сейчас благополучно пребывал, и бессильные вернуть его обратно. Впрочем, у него и не было желания никуда возвращаться. Он бормотал, словно во сне, словно бодрствующее состояние было одной из форм сна, и только те, кто спал глубоко, могли пробудиться к сновидению жизни. Не ведающий о моем присутствии — как, подозреваю, и о своем собственном, — он чувствовал бы себя вполне комфортно и в психушке, и в храме. Он коротал свой век у себя в камере, которая, разумеется, не была никакой камерой — не более, чем вся остальная Вселенная. Запертый в ореховой скорлупке властелин бесконечного пространства. Жалко, что «Гамлета» не перевели на санскрит, хотя, скорее всего, тогдашние читатели в лице брахманов шестнадцатого века отвергли бы его «Быть иль не быть?» как полный нонсенс, на том основании, что бытие и небытие суть одно и то же, что небытие есть высшая форма бытия, а само бытие есть иллюзия.
Со мной поздоровался мальчишка и спросил, откуда я.
— С Марса, — ответил я, улыбаясь, и пошел дальше.
Я хотел побыть один, но и эта идея не имела никакого смысла. Зачем быть одному, если можно дать ему денег, чтобы он рассказал мне то, что я и так давно знаю? Откуда-то сверху в храм проникал сноп пыльного солнечного света и ложился на стену, высвечивая санскритское изречение. Мальчишка указал на луч, который указывал на священный текст, словно палец читающего по слогам человека, медленно ползущий по странице трудной книги. Я тоже не стоял на месте; мальчишка тащился рядом и чуть впереди, как бы намекая, что это он меня водит по храму. Он называл имена всевозможных богов, втиснутых в маленькие ниши вдоль стен; многие статуи были покрыты свежим слоем киновари или обвиты гирляндами цветов. Белый Вишну из мрамора и серый Вишну из камня обитали по соседству, в усыпанных лепестками святилищах. Трехглазый Ганеша мандаринового цвета жил на улице, в залитой солнцем внешней нише.
Цветы тут были повсюду, в том числе и у меня на шее. В отличие от храма Дурги, пахли они так, как им и полагалось — это был аромат настоящих цветов. Вернувшись внутрь, я дал двадцать рупий старику, который их сюда принес и к которому меня подвел мальчишка — тот, что в один прекрасный день займет его место или уже занял с полвека назад. Все в Индии становилось куда проще, если у тебя была при себе мелочь. Воздух был насыщен запахом цветов и еще более густым запахом благовоний. В храм заходило все больше людей, а вокруг звонило все больше колоколов. Было нереально шумно, как в ночном клубе — изначальный побег от самсары[175]. Мальчишка все еще торчал рядом. Губы его шевелились, но я не слышал ни слова. (Может, так оно и было для глухих? Все равно что попасть в звуковой ураган?) Я дал ему пять рупий, и он оставил меня в покое. Было невозможно разобрать, когда перестает трезвонить один колокол и вступает другой. Если попытаться описать производимый ими шум одним-единственным словом, то это будет слово «гвалт». Да, перезвон колоколов сливался в один сплошной гвалт. И в сердце этого гвалта бил барабан, делая его глубже и сильнее, акцентируя его ритм. В глубине храма, в святая святых, жилистый жрец в белых дхоти[176] размахивал канделябром, вычерчивая в воздухе узоры из огня. По стенам метались и кружились тени. Колокола гремели еще громче, чем раньше, словно источник звука находился у меня в голове. Но, видимо, и это было еще недостаточно громко. Чем громче они звучали, тем больше народу стремилось в них позвонить. Верующие выстроились в два ряда, словно кто-то готов был сорваться с цепи — буйвол? бог? богобуйвол? — и, вырвавшись из мешанины тьмы и пламени, умчаться в немыслимый солнечный свет. Но нет, никто ниоткуда не выскочил; вместо этого нас самих запустили в святилище. Колокола оглушали. А основной грохот, как теперь стало ясно, исходил от механического барабана, который все бил, и бил, и бил. Бум! Бум! Бум! Колокола вконец обезумели, свихнулись, посходили с ума. В святилище, расположенном в самой глубине храма, люди лезли друг на друга, чтобы дотянуться до лингама — глыбы бурого камня, обвитой гирляндами желтых и оранжевых цветов. Рядом снова возник мой самозванный гид и знаками показал, что я должен принести свою гирлянду в дар лингаму. Больше на меня никто не обращал внимания. Все жаждали только одного — дотянуться до лингама, потрогать его. Я бесцеремонно швырнул гирлянду на кучу цветов. От этого жеста, этой лишенной веры пуджи ничего не изменилось, но ощущение, что я нахожусь в самом эпицентре чего-то, было поистине неодолимым, да я и не пытался его стряхнуть. Барабан продолжал греметь. Бум! Бум! Бум! Колокола были расплавленным хаосом гвалта. И среди этого многоголосого рева, среди трезвона и гудения бессчетного числа колоколов обретал форму еще один звук: круглый, сверкающий, растущий, золотой. Аум.
Если и был за все время моего пребывания в Варанаси один эпизод, который мне хотелось бы запечатлеть на пленку, так это случай с обезьяной и солнечными очками. Хотел бы я над ним поразмышлять и проанализировать его получше. Я сидел на террасе, совсем один, и читал даррелловский экземпляр «Индийских дневников» Гинзберга («Влюбленных женщин» я все-таки бросил). Мои солнечные очки лежали на столе вместе с остатками супа и чая, которые я заказал себе на ланч. Я оправился после расстройства желудка и снова перешел с банановой диеты на нормальное питание. Вдруг о железную кровлю крыши за моей спиной что-то грохнулось, и на мой столик приземлилась обезьяна. Я испуганно отпрянул. Чашка с чаем упала на пол и разбилась. Не зная, что бы ей схватить, обезьяна в итоге выбрала очки и, перемахнув через стену, упрыгала с ними в сторону храма.
Радуясь, что меня не пришибли, не покусали и не поцарапали, я подошел к стене, через которую перескочила воровка. Она сидела чуть поодаль, держа в обеих руках очки. На мгновение мне показалось, что она хочет их примерить, но нет, она просто сидела там, сжимая совершенно бесполезные для нее — но не для меня: у них были линзы с диоптриями! — стеклышки. Мы смотрели друг на друга. Обезьяна взяла их одной лапой и помахала ими в мою сторону. Я подумал, что, возможно, в ее голове сейчас родится мысль более сложная, чем все, что когда-либо приходили ей в голову. Она утащила очки инстинктивно, потому что они блестели и лежали на виду. Но она их не украла, как сейчас стало ясно нам обоим: она взяла их в заложники. Бесполезные как вещь, они, однако же, обладали определенной меновой ценностью. Я сделал жест, характерный для статуи Будды: пальцы вверх, ладонь наружу — жест рассеяния страха.
— Подожди, — сказал я ей. — Один момент.
Обезьяна никак не отреагировала. Я попятился назад, в крытую часть террасы, где на подносе с фруктами лежали три банана. Я сунул два из них в задний карман и вернулся к стене, держа в руках третий. Одной рукой я протянул обезьяне банан, готовый тут же его бросить, если она вдруг кинется ко мне. Вторую же я по-прежнему держал возле груди, в мудре, изгоняющей страх. Обезьяна смотрела на мои очки. Медленно и не спуская с нее глаз, я положил банан на разделявший нас участок стены. После чего поднял обе руки, чтобы она могла их видеть — открытые, ладонями к ней. Она не двигалась. Она просто сидела там с каменной физиономией, или правда ничего не замечая — так, с виду было не понять. Я полез в карман, вытащил второй банан и положил его рядом с первым. И снова отступил назад с поднятыми вверх руками. Обезьяна глянула куда-то в сторону и отмахнулась моими очками от назойливой мухи. Потом покачала головой, хотя этот жест мог и не иметь никакого отношения к моему второму подношению.
— Ты все-таки хочешь пойти до конца? — пробормотал я. — Что ж, я больше не бегаю по сортирам, так что ради бога.
Я вытащил последний банан и присовокупил его к остальным, так что получилась целая гроздь. Глядя на обезьяну, я повернулся так, чтобы она увидела, что никаких других бананов у меня в кармане больше нет.
— Это мое последнее предложение, — сказал я ей. — Хочешь соглашайся, хочешь нет.
Все еще не опуская рук — правда, теперь я скрестил их на груди, надеясь, что этот универсальный, межвидовый жест конца и финала должен быть понятен всем, — я сделал шаг назад. Если предложение не будет принято и переговоры провалились, я не буду забирать бананы. Теперь это было делом чести. Мяч был у команды противника. Я хотел получить назад свои очки — разумеется, я хотел получить их назад, — но, с другой стороны, я сознавал все историческое значение этой встречи. В плане эволюции целого вида шаг, который намеревалась предпринять обезьяна — по крайней мере, я на это надеялся, — был сравним с прыжком Нила Армстронга из лунного модуля на пыльную поверхность ночного светила.
— Теперь все зависит от тебя, — сказал я обезьяне. — Все очень просто. Ты можешь оставить очки и взять бананы — и таким образом вступить на путь развития. Или схватить бананы и дать деру, прихватив с собой очки. Но если ты так поступишь, то до конца своих дней пребудешь жалкой шимпанзе. И еще. Если ты это сделаешь, клянусь, я тебя выслежу. Как собака. Так что давай выбирай.
Пока я все это высказывал, мои руки постепенно опускались. И теперь они спокойно висели по швам, как у опытного бандита… или человекообразной обезьяны. Тем временем моя визави чуть шевельнулась. После чего перегнулась через стену и схватила бананы, быстро, но аккуратно. Уронив при этом — намеренно или случайно, я так и не понял, — мои очки обратно на стол.
События в Варанаси нередко обладали какой-то симметрией. Эпизод с обезьяной и очками все еще крутился у меня в голове на следующее утро, когда я вышел позавтракать на террасе. Даррелл был уже там с тарелкой овсянки.
— Как дела, Даррелл-джи?
— Малость не в своей тарелке. Ночью мне приснилось, что на меня напал кенгуру.
— Какой ужас.
— Да уж. Причем это единственный сон, который мне здесь приснился, или единственный, который я помню. И запомнил я его лишь потому, что он такой нелепый и ни с чем не связанный. Тут за день встречаешь больше животных, чем в Нью-Йорке за год. Тут тебе и зоопарк, и городская ферма. Когда идешь вдоль гхатов — это настоящее сафари.
— Тем не менее кенгуру ты тут точно не встретишь.
— Вот и я про то же. Если бы их совсем не извели, я бы не удивился, встретив здесь тигра. Но с чего это на меня во сне напал кенгуру?
Я покачал головой. Не знаю, как насчет кенгуру, но про отсутствие снов он это точно подметил. Варанаси к ним вообще не располагал. Что удивительно. Казалось бы, все, что встречаешь здесь за день — а это едва ли вписывается в нормальный порядок вещей, — должно легко проникать в дикую круговерть подсознания с минимумом редакторской правки или вообще без нее. Но нет же. Ты закрываешь глаза и спишь без всяких снов, а поскольку тебе ничего не снится, то ты вроде как и не спишь.
— Я тут как-то вздремнул днем, и проспал довольно долго, — сказал я. — А когда открыл глаза, это было не похоже на пробуждение. Это было как начало новой жизни. Пока мои глаза были закрыты, я не жил. Я мог быть тем же стулом, на котором сидел, или плиткой на полу, или фундаментом отеля, или даже грязью, землей, на которой он стоит.
— По крайней мере, на тебя не напал кенгуру.
— Да, конечно. Но, возможно, индуизму пора открыться миру и задружиться с той же Австралией. Бог-кенгуру мог быть стать по-настоящему популярным. А в сумке у него сидел бы Гануна и поглядывал наружу.
— А кто такой Гагуна?
— Гануна — это все, что не есть что-то еще. Но также и то, что есть все остальное.
— Гануна?!
— Ну да. Ницше провозгласил приход сверхчеловека, а я — приход Гануны. В кенгурячьей сумке.
Понятия не имею, откуда взялась эта идея Гануны. В контексте разговора о нападении кенгуру было бы уместней и логичней поведать историю о моих вчерашних переговорах с обезьяной по поводу захвата собственности, но вместо этого я выдал бредовую придумку про Гануну. Я никогда раньше не слышал это имя и ни о чем таком не думал, пока вдруг не озвучил его, а точнее, пока оно само не прозвучало. Но теперь, когда я это сделал, Гануна стал фактом. Он стал реальностью. Он стал Гануной.
В непальском храме неподалеку от Мир-гхата под самым обрезом деревянной крыши был деревянный фриз, украшенный эротической резьбой. Фигуры были округлые, двусмысленные, сплошь в изгибах. Иногда было вообще не понять, что там происходит, а иногда все было предельно ясно: женщина гладит член мужчины, пока он ласкает ее груди. Или мужчина трахает ее сзади, но так, что одна из ее ног задрана почти вертикально, как у балерины, которую мучает растяжкой строгий педагог. Или его член погружен ей в рот. Я знал про знаменитые эротические барельефы Каджурахо, но как-то не ожидал встретить такое тут. Это было сродни видениям утраченного мира, о котором у меня сохранились лишь смутные воспоминания: мира желания, разделенной страсти. Глядя на них, я ощущал печальное удовлетворение, своеобразную ностальгию по месту, куда я уже больше не вернусь.
После обеда я лежал на кровати и думал о сексе. Ну или пытался думать. У меня никогда не было фантазий, одни воспоминания, которые при необходимости слегка подправлялись и приукрашивались. Но мои воспоминания о сексе стали какими-то странно бесплотными. Не без некоторого чувства вины я думал о Лал, о том, какой могла бы быть на ощупь ее кожа под моими ладонями, но не мог сделать этот образ достаточно осязаемым, чтобы почувствовать возбуждение. Мой член оставался мягким. У меня уже много недель не случалось эрекции. Возможно, я постепенно утрачивал эту способность. Я попробовал помастурбировать, но никак не мог сосредоточиться. Виды Варанаси и гхаты теснились в моей голове, заслоняя все остальное. В каком-то смысле это было облегчение — освободиться от мук сексуального желания, однако само его отсутствие уже было в чем-то мукой. А что, если желание ушло и уже никогда не появится?
Довольно скоро эти тревоги и вовсе показались мне ненужной роскошью. У меня уже не первую неделю были легкая простуда и кашель. Ничего удивительного. Постоянно вдыхая смесь пыли, выхлопных газов и дыма от погребальных костров, каждый, кто оставался тут дольше нескольких дней, неизбежно начинал кашлять. И как только ты с этим смирялся, прогулки вдоль гхатов с отхаркиванием на каждом шагу зеленых сгустков флегмы превращались в одно из повседневных удовольствий жизни в Варанаси. Пару раз у меня были приступы диареи, но в сравнении со всем тем, что здесь могло случиться, это были сущие пустяки. А потом в один прекрасный день, когда я гулял по лабиринту переулочков за ближайшим к реке рядом зданий, со мной произошла престранная история. Переулки были узкими и достаточно темными, чтобы в их полумраке желтые ромбовидные знаки, указывающие на наличие в заведении телефона, призывно мерцали, словно в перечне предлагаемых им услуг были, помимо еды, еще и заболевания, передающиеся половым путем, которые там можно было не то подцепить, не то исцелить. На огне кипели котлы молока, из которого готовились сладости, настолько сладкие, что стоматологи не советуют даже слишком пристально на них смотреть. Я зашел в тихий храм с кремово-зелеными стенами, колоннами цвета охры и лиловыми нишами. Внутри никого не было — кроме какого-то человека, смирно сидевшего в углу и даже не порывавшегося спросить меня, откуда я. От его присутствия храм выглядел еще более пустым, чем если бы там вообще никого не было.
Через несколько ярдов после храма обнаружился перекресток. Однако путь вперед был временно заблокирован коровой, неторопливо следовавшей по переулку, пересекавшему тот, где стоял я. Наши глаза — один ее и два моих — встретились. В ее глазу не промелькнуло ни тени ответной реакции или хотя бы намека на то, что она меня заметила. Ну да ладно. Корова пребывала в обычном для скотины трансе, тогда как я находился в состоянии обостренной восприимчивости ко всему, что творилось вокруг. Однако даже в этом узком переулке всем детям божьим было вдоволь места, будь то животные иль люди. Тяжело ступая, корова двинулась дальше. Ее хвост был перемазан навозом, как кисть художника — краской. Но только лишь потому, что я был человеком с чистой попкой, а она — коровой с грязным задом, не означало, что я не был ею — или она мною — в прошлой жизни. Мы могли в мгновение ока поменяться с ней местами. Стоимость твоих акций в могущественном «САМСАРА-БАНКЕ» может взлететь или упасть в любой момент. И все-таки корова — довольно странный объект для почитания. Я не видел никаких причин проявлять по отношению к ним жестокость, уже много лет не ел говядины, но помимо того, что корова безвредна, глупа и не кусается, у нее не было никаких других принципиальных достоинств в сравнении с той же самой козой. Ну да живи и давай жить другим.
Я попытался протиснуться через перекресток вслед за коровой, и тут она небрежно махнула хвостом, хлестнув им меня по лицу. Это был все тот же перемазанный навозом хвост… Я невольно сделал резкий вдох. Шок был такой, что я разинул рот, издав какой-то сиплый хрип. Корова меня, видимо, услышала, так как оглянулась все с тем же отсутствующим видом, а затем проследовала дальше. Я стал неистово отплевываться, но не так, как это обычно делается, когда языком выталкиваешь изо рта слюну (от этого он пришел бы в соприкосновение с навозом), а закатав язык назад и выдувая слюни изо рта, как кит, выдыхающий из себя струю воды. Кругом было довольно много народа, многим было смешно. Один старик даже похлопал корову по крупу, словно поздравляя с удачной выходкой. Я вытащил из кармана пачку бумажных платков и принялся оттирать подбородок и нос, продолжая плеваться и отхаркиваться. Какая-то добрая женщина показала мне, где находится ближайший кран с водой, и я склонился над ним, чтобы как следует умыть лицо, одновременно плотно сжав рот, чтобы не усугублять инфекцию, и так уже наверняка подцепленную с коровьим дерьмом, инфекцией, которую можно было подцепить еще и от сырой воды. Я ушел, не сказав спасибо. Не потому что был грубым и неблагодарным, а просто меня сейчас куда больше заботили чисто гигиенические последствия произнесения слов.
На Западе наступить в собачье дерьмо считается хорошей приметой; наверное, в индуизме получить пощечину унавоженным коровьим хвостом тоже есть проявление высшей милости. Можно было взглянуть на это так. Но у меня в голове мелькнула другая, более зловещая догадка. Знала ли корова, что она делает? Был ли это несчастный случай или же преднамеренная попытка убийства, небесное отмщение за то, что я пописал в воды Ганга? Кто знает. И кто знает, была ли какая-то связь между этим инцидентом и тем, что случилось позднее, однако факт остается фактом — ближе к вечеру меня прорвало.
Я пошел спать с тугим, как барабан, животом. Я ужасно пукал, почти без остановки, и пахло это так же отвратительно, как когда это не ваш запах, а чей-то еще. Я также почувствовал прилив тошноты, но так как всего за пару часов до этого я принял еженедельную и ежедневную дозу таблеток от малярии, я постарался сдержать рвотный рефлекс. Однако через полчаса сопротивляться было уже бесполезно. Рвота подступила к горлу и стала извергаться наружу. Раз, второй, третий. Я стоял на четвереньках и блевал в унитаз, а от запаха рвоты меня тошнило еще больше. Не успел я прополоскать рот, как тут же началось извержение желтой жижи с другого конца. Едва успев спустить воду, я уже снова стоял на четвереньках и блевал. Мой организм так отчаянно пытался избавиться от того, что в него попало, что от усилий был готов буквально разорваться пополам. За ночь меня раз десять рвало и непрерывно несло. Даже простыни у меня на кровати были грязные. Не потому что я обкакался, а потому что содержимое моего кишечника было настолько жидким, что сфинктер не мог удержать его внутри. Я лежал в своей запачканной постели. Каждый волосок на моей голове был воткнутой в череп иголкой. В желудке извивался клубок змей. Во рту был ужасающий вкус рвоты и малярийных таблеток, которые я тоже, естественно, вытошнил. Всякий, кто когда-нибудь пробовал МДМА[177], знает, какая это гадость. Так вот, во рту у меня было так, словно я несколько часов сосал таблетку МДМА, чтобы максимально продлить ее действие. У меня в холодильнике была кола, и я жадно ее нахлебался, заодно прополоскав рот. Никакого воздействия на вкус во рту она не оказала, а через несколько минут я уже извергал ее обратно в унитаз.
Наутро пришел врач и дал мне противорвотных таблеток и антибиотиков. Я весь день провалялся в постели, то засыпая, то пробуждаясь в страшных муках, то вновь проваливаясь в сон. Мне было больно даже просто смотреть. Голова гудела, как колокол. Через несколько дней я смог встать и проковылять пару метров по комнате, как если бы я был весь обвешан капельницами. Есть я ничего не мог, только пил воду, принимал диоралит[178] и периодически какал. Я был между молотом и наковальней. Антимоскитным спреем я не пользовался уже пару недель, так как у меня от него пошла по коже сыпь. Последнюю дозу малярийных таблеток я вытошнил, а снова начать их принимать мог, лишь когда пройдет понос.
Постепенно я поправился, но окончательно так уже никогда и не выздоровел. Я всегда был тощим, но теперь вид у меня был такой, словно кости мои располагались поверх мышц и были ломкими, как стекло. Глаза все еще болели от резких движений. От приступов головокружения я переставал ориентироваться в пространстве и впадал в какое-то измененное состояние. Встретив как-то уже знакомую мне козу, ту, что с белой шерстью и в черных носочках, я подумал было, что она сейчас со мной заговорит. От вида чечевицы меня мутило. От запаха карри в животе случался спазм. Одна лишь мысль об индийской кухне вызывала приступ дурноты.
Эволюционный принцип подобных реакций был очевиден. Давным-давно, когда наша пища росла на деревьях и мы учились отличать съедобные ягоды от несъедобных, тело нуждалось в безошибочной, инстинктивной памяти, чтобы, как бы ты ни был голоден, не тащить в рот красивую красную ягодку, от которой несколько месяцев или лет назад ты чуть не вытошнил богу душу. Более современная версия того же механизма сработала в моем отрочестве, так что вот уже тридцать с лишним лет я не прикасался к сидру и чинзано бьянко. Но как можно было выжить в Индии, не питаясь индийской пищей? Как можно было снова набрать вес, сидя на воде, диоралите и бананах?
Возле нашего отеля жил симпатичный маленький щенок, который какал черной кровью. На все есть божья милость, да и только…
После того, что случилось, я чувствовал себя таким слабым, что передвигался в основном на лодке, особенно если мне нужно было попасть в район Маникарники. Как-то, плывя оттуда обратно в отель, я увидел в воде размокшую книгу, которую влекло к водовороту у водоочистительной станции. Может, это был для книги самый счастливый конец? Возможно, он гарантировал ее автору бессмертие такого ранга, рядом с которым признание критиков и месяцы или даже годы в списке бестселлеров были пустым местом? Или же это, наоборот, означало, что несчастная, которую все быстрее несло к водовороту, уже никогда не будет переиздаваться в новых модерновых обложках? Может, ее больше никто никогда не прочтет? Я попытался разглядеть ее название, но смог понять лишь, что оно было на английском.
Мы уже подплывали к Асси-гхату в сгущавшихся сумерках, когда у меня ужасно зачесалось в носу. Я ткнул пальцем в правую ноздрю, и зуд превратился в покалывание. Кажется, я даже слышал у себя в носу жужжание. Вынув оттуда свой палец, я увидел среди слизи еще подергивающееся тельце москита. Через секунду в ноздре снова зачесалось. Я сунул палец обратно и нащупал небольшую припухлость. Москит укусил меня в ноздрю.
На одном из лотков в переулке за Кедар-гхатом мне приглянулся маленький, расписанный вручную Хануман. Он был оранжевый, в синем ящичке, похожем не то на собачью конуру, не то на караульную будку на параде конной гвардии. В нем не было ничего особенного, ничего, что отличало бы его от прочего сувенирного барахла в ближайших магазинчиках, но я все равно его купил и поставил на комод у себя в комнате. Я не молился ему — потому что не знал как, — но каждый день каким-то образом его осознавал. Я складывал ладони и… даже не знаю, что я делал. Я пытался медитировать, но так как и этого не умел, то думал о сексе. Или, по крайней мере, пытался. Я пробовал представлять себе Изобель, голую, на коленях, с тщательно отмытыми волосами и в постиранном в дорогой прачечной белье, но образы не выстраивались, путались и в конце концов пропадали. Концентрироваться приходилось таким усилием воли, что я перестал это делать. Все равно во мне не было ни тени желания. Поскольку думать о сексе я не мог, а молиться или медитировать не умел, мне оставалось только повторять, как мантру, то единственное слово, которое пришло мне в голову, — Гануна. Я нараспев повторял это имя, еще и еще, и этим его повторением я словно о чем-то просил — хоть и не знал о чем.
У Лалит-гхата, всего в метре над водой, стояло лилово-белое святилище. Наполненное бликами отражавшегося в реке солнца, оно было видно только с Ганга. Я знал, что в сезон дождей, когда Ганг вздувался, прибрежные храмы иногда затопляло. Я видел знаменитую фотографию Рагхубира Сингха, на которой мальчишка нырял со шпиля одного такого храма — он там весь устремлен вперед и как будто летит — во время особенно сильного наводнения. Это же святилище располагалось так близко к воде, что его, наверное, затопляло каждый год. Впрочем, это отнюдь не мешало людям почитать его. Мальчишки посмелее ныряли туда с подношениями, держа фонарики в полиэтиленовых пакетах. Они заплывали внутрь и светили фонарями на стены, едва различимые сквозь грязную илистую воду. Все боги были на месте, целые и невредимые, довольные этим визитом, умевшие, как рыбы, дышать под водой или хотя бы задерживать дыхание на несколько месяцев. Когда вода спадала, их обитель вновь оказывалась на суше, грязная, забитая илом, готовая к уборке.
Я снова съездил на ту сторону, на этот раз из Маникарники. Я поднялся еще раньше обычного. Стояла ночь, но звезды в небе уже побледнели — новый день был на подходе. Когда я шел мимо Кедар-гхата, встало солнце. Пробыв на Маникарнике примерно час, я согласился на предложение лодки, собираясь вернуться в «Вид на Ганг» к завтраку. Река была совершенно спокойной, плоской, как подернутое рябью стекло. Повинуясь импульсу, я вдруг велел лодочнику грести через реку на тот берег. Дно лодки было выкрашено тускло-красной краской и слегка протекало. На середине реки я указал ему на пару дюймов воды, плескавшейся у нас под ногами, и спросил, все ли у нас в порядке.
— Нет проблем, — ухмыльнулся лодочник. Положив весла, он схватил жестяную кружку (размером в полпинты) и стал делать ею шутливые вычерпывающие движения.
Берег на той стороне был довольно крутым. Я карабкался по нему как по склону небольшой песчаной дюны. Оказавшись наверху, я огляделся. Черная птица взлетела в воздух, шумно хлопая крыльями. Справа от меня, в небольшом заливчике, две собаки что-то грызли у кромки воды.
Это был мертвец.
Собаки его ели. Одна жевала левое предплечье, а вторая — правое запястье. Остальное пока было целым. Труп лежал лицом вниз, я видел его волосы и одно ухо. На нем были грязная светло-голубая футболка, разорванная в нескольких местах, и шорты. Собаки подняли головы и посмотрели на меня, а затем вернулись к трапезе. Странно, что они начали с рук. Возможно, они просто выбрали ту часть тела, вокруг которой можно было легко сомкнуть челюсти.
Мне не удалось как следует разглядеть труп, но одну из собак я узнал.
Я рассказал о мертвеце Дарреллу, и он на следующий же день поплыл на лодке на тот берег, чтобы взглянуть на него. (Лалин поехать не захотела, но не осуждала его за желание посмотреть.) Собаки все еще ели мертвеца, у которого руки-ноги по-прежнему были на месте. Пожираемое собаками тело превратилось в туристическую достопримечательность. Даррелл был шокирован увиденным, но сказал, что был бы еще более шокирован, если бы труп поедали дельфины. Вот это, сказал он, была бы по-настоящему гнилая заморочка, даже по меркам Варанаси.
На третий день я снова поехал на тот берег, чтобы посмотреть, как продвигается дело. Мертвеца там уже не было. Были только собаки, поедавшие какие-то куски и ошметки, однако ничто не указывало на то, что эти ошметки — странное непонятное месиво — когда-то были человеком.
Меня предупреждали, что бханг-ласси[179] могут быть довольно крепкими, куда сильнее самой сильной травы, но так как Лал и Даррелл взяли себе такой, я решил к ним присоединиться. Все было странно с самого начала, так как готовили его нам не в кафе, как можно было бы ожидать, а в ателье у портного, который рассчитывал продать нам под это дело пару костюмов.
Первые полчаса ощущения были такие, словно я просто что-то покурил: как в начале травяного прихода. Мы шли втроем, обняв друг друга за плечи и хохотали над чем ни попадя — в том числе над рекой, сплошной и серой, как запруженное плавучими амфибиями шоссе. Потом началось полное безумие. Мы не совсем понимали, где находимся, но нам, по крайней мере, хватило ума держаться подальше от Маникарники и Харишчандры, где, по словам Даррелла, «от всей этой смерти нам сразу будет крышка». На одном из гхатов мы увидели худого человека с бледной змеей, обмотанной вокруг шеи, словно боа из перьев, которое зачем-то общипали — боа из ручного змея. Воздух был такой неподвижный, что казалось, еще немного — и он застынет как желе. Над городом клубились тучи, словно там, высоко в небе, бушевала гроза — но они растаяли, не проронив ни капли.
Потом мы превратились в призраков. Даррелл куда-то убрел, и мы с Лал остались одни, гадая, куда это он подевался, а вскоре я уже тоже брел куда-то сам по себе, не понимая, куда это запропала Лал. Я не то чтобы сильно тревожился, но жалел, что их нет рядом. И тут я набрел на бабý[180], с дорожным атласом и кустистой бородой. Сперва я решил, что у меня что-то не то со слухом, но вскоре понял, что я не слышу только его. Не слышал же я его потому, что у него было совсем плохо с голосом, который совершенно пропал, так что он теперь говорил молча. За неимением слов он дико жестикулировал. Выражаясь исключительно жестами, он фактически исполнял некий сидячий безмолвный танец. Внимательно приглядевшись, я стал улавливать по этим жестам обрывки фраз и даже отдельные предложения. По мере наблюдения я начал связывать фрагменты его «речи» в единое целое. Через какое-то время я уже без труда понимал его. Он пришел сюда, чтобы отыскать то, что потерял. Что же он потерял? Как оказалось, зонтик. И несколько шариковых ручек. Мы подумали, что это абсурд? Да, конечно, но я понял это так, что важные для нас вещи — айпод или любимые футболки — едва ли были важнее тех, что мы часто теряем, вроде ручек и зонтиков, которые не кажутся нам какими-то ценными, хоть и помогают укрываться от дождя или записывать мысли и номера телефонов. Я был совершенно уверен, что понимаю ход его мыслей, но потом меня осенило, что эта метафорическая интерпретация была слишком буквальной, так как, хотя он и думал, что прибыл сюда под предлогом поиска утраченной собственности, он вдруг понял, что эта потеря на самом деле и была той причиной, которая заставила его сюда прийти, что он пришел сюда, чтобы выяснить, зачем здесь оказался. Оратор сделал паузу, посидел немного неподвижно, позволяя слушателям усвоить сказанное во всей его комплексной простоте, а затем — крайне театральным жестом — извлек откуда-то зонтик и раскрыл его. Это был не просто какой-то старый зонтик. Нет, это был ужасно старый, совершенно бесполезный и вконец раздолбанный каркас зонтика. На нем не было даже полоски ткани. Это был просто металлический скелет, не способный укрыть ни от дождя, ни от солнца.
Чуть позже, уже в сумерках, я снова увидел козу с белой шерстью и в чудных черных носочках. Ту самую, которая вроде как хотела со мной поговорить. Увидав меня, она бросила свои дела и пошла рядом. От нее немного пахло сыром, козьим сыром. Я почувствовал, как что-то коснулось моей ноги. Это коза легонько толкала меня лбом. Я посмотрел в ее приветливое козлиное лицо.
— Лодку, сэр? — сказала она.
— Нет, спасибо, — сказал я.
— Очень дешево, сэр! — сказала она.
— Нет, спасибо, — сказал я.
— Сэр хотеть лодку? — продолжала настаивать коза.
— Сэр идет ножками, — возразил я. — Лодка нет, не хотеть.
— Очень дешево, — сказала коза.
— Нет, спасибо, — сказал я.
Я замедлил шаг, и коза, чувствуя мои колебания и расценив их как желание, чтобы меня поуговаривали, попробовала другой подход:
— Сэр думает, это хорошо — быть козой в этом городе? Жить тут тяжело. У меня есть дети, сэр. Я предлагаю вам лодку, но на самом деле хочу всего лишь поговорить. Небольшой философский дискурс, сэр.
Я остановился, чтобы обеспечить козе то внимание, которого она желала и явно заслуживала.
— Хорошо. О чем ты хочешь поговорить?
Коза немного подумала.
— Может, все же лодка, сэр? — наконец сказал она.
— Я думал, ты хочешь философский разговор.
— Шучу, сэр. Я хочу спросить: каково это — иметь человеческие мысли в голове? Насколько человеческое сознание отличается от сознания козы?
— Это очень сложный вопрос. Чтобы ответить на него, мне нужно лучше понять, что значит быть козой. По правде говоря, мне кажется, ты просто немного потерялась в своем козлином мире.
— В этом вся проблема, сэр. Поскольку я коза, у меня нет способов объяснить, что такое быть козой.
— Что ж, в том-то и заключается разница. В способности облекать все в слова. Включая язык, речь, самоанализ.
Я не знал, что еще сказать. Похоже, мне самому не хватало именно тех качеств, которые по идее должны были отличать меня от моей собеседницы. Чем больше я старался выразить разницу между собой и козой, тем больше между нами находилось общего.
— Знаешь, мне надо хорошенько все обдумать. Ты застала меня врасплох. К тому же, честно говоря, я сейчас не в лучшей философской форме. Может, поговорим об этом в другой раз?
— Завтра, сэр?
— Да, может быть.
— И еще одно, сэр. Скоро придет Гануна.
— Гануна? Откуда ты знаешь про Гануну?
— Я только знаю, что Гануна скоро явится. В кенгуриной сумке. Но только те, кто и сами Гануна, смогут его увидеть.
С этими словами коза развернулась и потрусила прочь, а я услышал, как кого-то зовут по имени. Оно звучало вроде бы знакомо, но мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что оно, кажется, принадлежит мне, а зовут меня друзья, чьих имен я сейчас, правда, не помнил.
— Да, думаю, этот опыт лучше пока не повторять, — сказал один из них (Даррелл, вот как его звали!) на следующий день. Он сказал это так, словно все уже кончилось и прошло, но я подозревал, что ко мне это не относится. Какая-то часть меня все еще была там.
В чем-то Лалин оказалась права: я никого не будоражил, но жил совсем как обезьяна. Было так славно есть бананы под куполом небес и смотреть на реку. Река текла на восток, справа налево, к океану, но не впадала в него, как любая разумная река. Здесь, в Варанаси, она передумывала и возвращалась обратно, к источнику (еще одна мысль, впервые посетившая меня в одном транс-клубе в Лондоне). Она поворачивала обратно к Гималаям, где, собственно, и стартовала, где жили боги, откуда они явились и куда вернулись, и где пребудут вечно. Туда-то и несла свои воды священная Ганга. Значило ли это, что в нее стоит кидать как подношение набитые оранжевыми ноготками пластиковые сумки? Какой был в этом смысл? Каждый день я видел, как люди это делают. Что было явно глупо. Если все станут кидать в реку пластиковые пакеты, то получится река из пластиковых пакетов, и тогда она уже будет не такой святой. Я доел банан. Выглядел он не очень, но на вкус это был один из лучших бананов, которые я когда-либо ел, так что я тут же очистил еще один — он оказался таким же бесподобным (ну почти что), как и первый.
Вкуснотень.
Над Панчакот-гхатом, обратившись лицом к восходящему солнцу, сидел какой-то гуру, а может, и лжегуру, и наставлял горстку слушателей. У его ног лежали, взирая на Ганг, два пожелтевших человеческих черепа. Были они там лишь для антуража или он и вправду хотел этим что-то сказать? Бог его знает, но в любом случае они не особенно следили за ходом его мыслей. Вид у них был довольно отсутствующий. Что бы он там ни говорил, они уже явно это слышали. Он подозвал меня, и я подошел и сел рядом с его приятелями, или последователями, или кем там они были. На одном из них была футболка клуба «Челси» с именем Джона Терри на спине. Эта яркая футболка почему-то удручала. Подобно тому, как удручали местные мальчишки, когда, стремясь блеснуть хорошим знанием английского, выкрикивали «Вот так сиськи!»[181]. Глаза святого человека были налиты кровью — что неудивительно, учитывая, каких размеров косяк он курил. Выдохнув могучее облако дыма — с его дредлоками и прочим из этого мог бы выйти отличный снимок в стиле регги, — он протянул мне один из черепов, чтобы я получше его рассмотрел. Я еще никогда не держал в руках человеческий череп, так что это было довольно интересно. У меня в голове не возникло ни единой мысли о бренности жизни, или о душе, или о тщетности любых человеческих усилий перед лицом неизбежной смерти, но зато я начал волноваться, что, пристально разглядывая череп, я невольно выказал подспудное намерение его приобрести. Впрочем, по здешним меркам это была не самая бездарная покупка. У меня мелькнуло желание зафутболить череп в Ганг — думаю, у меня бы это получилось. Но вместо этого я осторожно положил его обратно на землю. Чувствуя, что нужно что-то такое сказать — как когда кто-то показывает тебе свои стихи или фотографии, — я пробормотал:
— Et in Arcadia ego[182].
Святой муж важно кивнул, и я встал, чтобы уйти. И тут уже увидал Изобель, идущую в одиночестве вдоль реки. Я быстро попрощался со своими новыми друзьями и помчался на перехват. На ней были темные шорты до середины икры со множеством карманов и молний и все та же бледно-желтая футболка, в которой я видел ее на Шивала-роуд, когда мы чуть на нее не наехали.
— Привет, как у тебя сегодня дела? — спросил я.
— Отлично, а у тебя?
Она говорила с акцентом, но я никак не мог понять с каким. Шорты у нее оказались не просто черные, а с легким камуфляжным рисунком: закамуфлированный камуфляж! Я старался не смотреть на ее плоский, загорелый живот. Она была высокой, а ее толстые дреды ниспадали ниже плеч. Вблизи она выглядела даже моложе, чем я думал. Как следствие, я должен был выглядеть еще старше. Нет ничего более странного и более деликатного, чем отношения между людьми, которые знают друг друга только с виду, — и трудно вообразить более неловкий момент, чем момент перехода от визуального контакта к вербальному, когда в игру наконец-то вступают слова. Не зная, что сказать, я чуть было не спросил еще раз, как у нее дела. Но с иным фразовым ударением: Как у тебя сегодня дела? или Как у тебя сегодня дела? В этом круговороте любезностей можно было заблудиться навек. Но вместо этого я в последний момент спросил:
— Ты туда идешь?
Я махнул рукой в сторону Маникарники и, будто слово «идешь» обязывало меня убедиться в том, что она может ходить, посмотрел на ее ноги. На них были сандалии, а на одной лодыжке — браслет. Ногти выкрашены серебряным лаком.
— Да.
— Я тоже. Прогуляемся?
Мы пошли вдоль запруженных людьми гхатов, болтая на общие темы — кто где живет и сколько уже пробыл в Варанаси. Она жила в отеле, о котором я даже не слышал. Когда я сказал, что живу в «Виде на Ганг», она ответила, что слыхала, будто там очень мило, но дорого.
— Да, пожалуй, — сказал я, гордый, что живу в таком топовом месте.
— А ты откуда?
— Англия. Лондон. А ты?
— Швейцария.
— Швейцария?
Я чуть было не сказал: «Я думал, ты из Израиля», но побоялся, что это прозвучит антисемитски. Еще я чуть было не сказал: «Я думал, швейцарцы такие опрятные и ухоженные», но побоялся, что это прозвучит антишвейцарски или как выпад против неряшливости. Пока я все это думал, но ничего не говорил, она объяснила, что ее друзья и вправду из Израиля. Она сказала «друзья», а не «друг» или «бойфренд». Она познакомилась с ними в Гоа. Я внимательно слушал, но в то же время строил планы, чем бы более интересным мы могли заняться — вот только непонятно чем — по окончании прогулки. Река справа от нас поблескивала на солнце. По ней сновали лодки. Мы пришли к ступенькам, ведущим в «Лотос-лаунж».
— Ты когда-нибудь был в Венеции? — спросила вдруг Изобель.
— Конечно. Много раз.
— Тебе не кажется, что Варанаси похож на Венецию?
Я мог бы сказать что-то умное, но вместо этого брякнул:
— Потому что оба начинаются на «В»?
Она ткнула меня в плечо.
— Маленькие переулочки, осыпающиеся старые дворцы, вода…
— Ты права. — Мы остановились, и я повернулся к ней. — Они невероятно похожи, чуть ли не копии друг друга. Города-близнецы.
Воздух был абсолютно неподвижен, но момент — что бы ни делало момент моментом — уже прошел. Несмотря на это, я сказал:
— Хочешь выпить здесь кофе? Или сока, или чего-то еще?
— Мне нужно кое с кем встретиться.
Можно было сказать что-нибудь вроде «Ну, ладно, пошли дальше», но на тот случай, если ее отказ от кофе или сока подразумевал более общий отказ, я сказал:
— Ну ладно, был очень рад наконец-то с тобой познакомиться.
И добавил, на случай если ее отказ не означал отказа ни от чего другого, кроме кофе:
— Может, мы могли бы снова встретиться?
— Хорошая идея, — сказала она, — но завтра мой последний день в Варанаси.
— Нет!
— Да. Послезавтра я уезжаю в Хампи.
Какое жестокое совпадение! Быть все это время в одном городе и встретиться только сейчас, когда это уже было бессмысленно.
Я стоял, переваривая трагический смысл этой новости — точнее, всю ее бессмысленность, — когда кто-то окликнул ее по имени:
— Изобель!
Мы обернулись к реке, откуда донесся голос. Мимо плыла лодка. Из нее нам кто-то махал.
Это был Ашвин.
Она помахала ему в ответ. Я стоял, бессильно свесив руки, как в тот день, когда я уговаривал обезьяну вернуть мне очки. Но потом, чтобы скрыть свою растерянность, я тоже ему помахал. Ашвин махнул мне рукой. Теперь уже махали все. Это было просто какое-то сплошное махание. Ашвин хотел знать, не хочет ли Изобель прокатиться на лодке.
— Не сейчас, — крикнула она. — Там увидимся. Мне нужно еще забежать к себе в отель.
Все снова помахали друг другу, и Ашвин отплыл вниз по течению — «туда», где они должны были встретиться.
— Так ты знакома с Ашвином, — сказал я.
Она кивнула и улыбнулась — такой улыбки я у нее раньше не видел.
— Славный парень, — добавил я.
Мы еще немного помялись, а потом она сказала, что ей пора идти.
— Конечно-конечно, — спохватился я. — Ну что ж, рад, что мы смогли хотя бы поболтать.
Я с трудом подавил желание спросить, не едет ли и Ашвин в Хампи. Мы пожали друг другу руки, и она ушла. Я еще смотрел какое-то время, как она идет вдоль гхатов, а потом поднялся по ступенькам в «Лотос-лаунж». Облокотившись на парапет террасы, я успел в последний раз увидеть ее пышные дреды и желтую футболку, после чего она растворилась в толпе.
Я заказал себе капучино и блин. Сидя там и глядя на Ганг, я смутно ощущал, что мой последний шанс — на что? я в точности не знал — только что ушел с концами. «Ушел с концами» — эта фраза мелькнула у меня в голове, как объявление на двери магазина: «Ушел порыбачить».
Капучино я, однако, выпил зря. Через пару минут после того, как я покинул «Лотос-лаунж», мне страшно захотелось какать. Я пустился бежать, чтобы успеть добраться куда-нибудь, где есть туалет, но это оказалось невозможно. Присев у какой-то стены, я изверг зловонную жижу прямо на пару старых, иссушенных солнцем какашек.
В Варанаси существовали бок о бок два времени. Мои собственные дни текли бесцельно и в никуда. Зато городской календарь событий был расписан буквально по дням между бессчетным числом фестивалей, следовавших один за другим. Их было так много, что я даже не пытался следить за тем, что уже происходит или вот-вот начнется. Из-за изобилия свадеб даже те дни, которые официально не являлись праздниками, выглядели более чем празднично. Детское желание «чтоб каждый день было Рождество» (засевшее у меня в памяти стараниями «Слейд»[183]) сбывалось здесь почти буквально благодаря коктейлю из индуизма, сикхизма и ислама. Неудивительно, что я постепенно стал освобождаться от привычных требований времени и дат. Не помня точно, даже сколько я уже здесь пробыл, я решил взглянуть на визу в паспорте — и взглянул бы, если б смог его найти. Я перерыл все шкафы, и всю одежду в шкафах, и все карманы, куда я мог его спрятать. Я попытался вспомнить, когда он попадался мне на глаза последний раз, когда я его доставал. Он был при мне в тот день, когда я препирался в банке с умником, пытавшимся пройти без очереди, и вроде бы я после этого его куда-то убирал, однако чем дольше я об этом думал, тем меньше был уверен в том, было ли это воспоминанием или только надеждой на воспоминание, и тем больше мне казалось, что после этого я точно брал его с собой в другие дни, вот только неясно зачем. Надеюсь, у меня хватило ума оставить его в номере в тот день, когда мы слетели с тормозов, напившись бханг-ласси? И чем дольше я об этом думал, тем меньше был в этом уверен. Я сидел на кровати и не знал, что мне делать, а потом решил, что незнание того, что нужно делать, — это одна из форм знания того, что нужно делать, а значит, мне не нужно делать ничего — что я и сделал.
В один прекрасный день — возможно, крайне благоприятный, но необязательно — Лалин протянула мне сверток, завернутый в тонкую розовую бумагу и перетянутый красной бечевкой.
— Это тебе подарок, — сказала она.
Я развязал бечевку и аккуратно развернул бумагу. Внутри оказался экземпляр «Разрисованной вуали» Сомерсета Моэма. В слове «вуаль» Лал аккуратно закрасила «i» и втиснула на ее место худенькое «а»[184].
— Спасибо! — сказал я и поцеловал ее в щеку.
Это был чудесный подарок, но книгу я так и не прочел, потому что книг я больше не читал.
Погода стала жарче. Периодически в раскаленном небе появлялась тонкая полоска облаков.
Гуляя в переулках за гхатами, я как-то встретил мужчину, толкавшего перед собой тачку с чем-то вроде тыквы. Протискиваясь мимо, я увидал, что то, что я принял за тыкву, на самом деле было его яичками. Чудовищно раздутые от какой-то болезни, они из разряда того, что можно носить на себе, перешли в разряд того, что уже можно только возить с собой повсюду в тачке на колесах. В Варанаси все обретало форму каких-то диких крайностей. У нас в Европе был миф о Сизифе с его камнем. В Варанаси же был реальный факт — этот вот несчастный с его яйцами.
Я взял рикшу и поехал в музей при Индийском университете. Это было просторное, пыльное помещение с безмятежными статуями Будды и трансовыми бронзовыми Шивами в образе космического танцора Натараджи. Здесь также имелась впечатляющая коллекция индийских миниатюр, некоторые из которых были довольно крупными. Я не мог оценить сравнительные достоинства отдельных работ, но одна показалась мне особенно очаровательной. Она была датирована 1893 годом и принадлежала кисти некоего Шивалала — это имя мне ни о чем не говорило, — но выглядела, на мой неискушенный взгляд, так, словно была написана на две-три сотни лет раньше. Богато украшенная процессия лошадей и всадников пересекала затопленный мост в разгар муссонов. Дождь пускал стрелы в мокрую реку, поднявшуюся уже до верхушек деревьев и до крыш домов, построенных — с фатальными последствиями — на заливной равнине. На заднем плане зеленели конической формы холмы, на одном из которых — на самой вершине — притулился замок. Облака истекали дождем. Сверкала молния — золотая змея, извивавшаяся в промокшем темно-синем небе.
Тем временем на настоящей, ненарисованной реке шли похороны какого-то саньясина[185]. Его не кремировали. К его телу просто привязали камень и опустили его в Ганг.
До сих пор я не встречал тут никого из прошлой жизни — которую теперь и вправду воспринимал как предыдущую инкарнацию — в Лондоне. А потом я столкнулся на Кедар-гхате с Анандом Сети, который в свое время посоветовал мне не останавливаться в «Тадж Ганге».
— У тебя борода, как у настоящего первооткрывателя — сказал он.
Это была правда. Я не отращивал ее специально, а просто перестал бриться и в итоге стал человеком с бородой. Молодые сикхи с их черными бородами и бюджетные туристы с эспаньолками выглядели красивыми и мужественными; я же казался порядком исхудавшей версией Дугала Хастона или Криса Бонингтона[186]. На Ананде были полосатая рубашка от Пола Смита и широкие брюки от «Прада». Он выглядел банкиром на отдыхе, каковым и являлся. Это заставило меня осознать, как низко я пал — не столько местный житель, сколько какой-нибудь стареющий турист. На мне были какая-то старая футболка и потрепанные шорты. Волосы мои были такими же длинными, седыми и нечесаными, как и борода.
— Когда ты приехал? — спросил я его.
— Вчера. А ты?
— Я тут уже целую вечность. С тех пор, как мы виделись последний раз на открытии выставки Фионы Рэй. В Лондоне я так с тех пор и не был, и вроде бы пустил тут корни. Ты остановился в «Виде на Ганг»? Странно, что я тебя там не видел.
— Нет, в «Тадже». В «Виде» не было мест.
— Извини, — сказал я, пытаясь не ухмыляться. — Я все это время там живу. Возможно, даже в твоей комнате.
Я предложил ему встретиться как-нибудь, чтобы выпить или поужинать, но он в тот же вечер уезжал в Агру, а оттуда — в Бомбей, чтобы купить там картину Атула Додьи.
Когда мы прощались, он сказал:
— Знаешь, все-таки насчет бороды я не уверен. Ты выглядишь как бомж. Ну, или как Терри Уэйт[187] во время голодовки.
— Ты прав, — ответил я. — Я что-нибудь с этим сделаю.
Я отправился прямиком в местечко, которое нравилось мне из-за названия — «Приличный цирюльник» на Шивала-роуд, — чтобы обрить голову, бороду и брови. Я велел парикмахеру оставить маленький хвостик на затылке, какие видел у плакальщиков в траурных процессиях. Я ждал, что он будет возражать, что такое подражание похоронной атрибутике может показаться ему оскорбительным, но он просто сделал то, что я просил, без единого вопроса или жалобы. Эту сцену наблюдали пара человек. Скорее всего, у меня на голове осталось множество мелких порезов — она потом горела в нескольких местах. И была белой, как яйцо, как череп. Идя обратно, к Асси-гхату, я чувствовал, как ее печет солнце.
По дороге я встретил Ашвина. Неизвестно, кто из нас больше удивился этой встрече.
— Я думал, ты уехал в Хампи, — сказал я.
— Нет, я… слушай, а что с тобой случилось?
— Я оплакиваю себя, — ответил я, вспомнив старую шутку Чехова. — Мое старое «я» отказывается умирать. А новое пытается возродиться. В период междуцарствия проявляются всякие нездоровые симптомы.
В отеле я перешел практически в разряд мебели. Мне все еще доставляли удовольствие шутки и смех, но я больше не искал друзей или тех, с кем можно было поужинать и повеселиться. Все, кого я встречал, были здесь лишь проездом. Это были просто гости, люди, которые приходят и уходят. Мое отношение к ним стало таким же, как у персонала отеля, с той лишь разницей, что мне не приходилось делать последний и окончательный вывод о степени приятности или любезности гостя, перечеркивающий все мои прежние эмоции на его счет, в день его отъезда — в зависимости от размеров оставленных им чаевых. (Сам я был тут так долго, что моих суммарных чаевых ждали уже, наверное, как завещания.) Какое это было облегчение — избавиться от тирании своих приязней и неприязней! Каким образом мое мнение о том или ином человеке прежде могло так много значить? Значить для меня самого?
Я не хочу показаться каким-нибудь псевдо-саньясином. Мы привыкли думать об отречении как о каком-то разовом событии, формальном и определенном, причиной которого может стать расстройство, гнев или разочарование («Я отрекаюсь навеки от этого мира…»), но это может происходить постепенно — настолько постепенно, что даже не кажется отречением. А не кажется оно отречением, потому что им и не является. Я не отрекался от мира, а просто постепенно стал меньше интересоваться некоторыми его аспектами, стал меньше ему причастен — и это уменьшение интереса понемногу становилось взаимным. Так оно и работает. Мир перестает тебя замечать, а ты перестаешь чувствовать, что мир тебя замечает.
Некоторые люди перестают верить, что к ним может прийти счастье. Я был уже почти готов к ним присоединиться, когда стал наконец свыкаться с тем, что быть несчастным — мой удел. В обычных обстоятельствах я бы, наверное, с этим как-то смирился и присоединился к лагерю перманентно несчастных людей. Но в Варанаси произошло нечто странное — из уравнения пропала некая часть, за которую привыкло цепляться то, что делало меня несчастным. Этой частью был я. Я обманул судьбу. Хотя пассивный залог здесь, пожалуй, будет более уместен: судьба оказалась обманутой.
Я помнил, как еще недавно принимал все на свой счет. Два года назад мне перепали билеты на открытие Уимблдона на Центральном корте. И что вы думаете: весь день лило как из ведра. Мы все ждали, смотрели на небо, надеялись. Наконец в три часа защитное покрытие сняли и игра вроде как должна была начаться. Трибуны мокро приветствовали это событие, но через двадцать минут опять зарядил моросящий дождь, и корт снова накрыли. Но и тогда мы не потеряли надежды, и все продолжали посматривать на обвисшие облака. В какой-то момент мне стало казаться, что небо одновременно и темнеет, и проясняется. К концу дня игра так и не началась. Словно на мне лежало какое-то проклятие. Ни игроки, ни зрители на стадионе — никто не страдал в тот день так, как я. Это был мой день, мой Уимблдон, мой парад, которые заливало дождем. Между мной и тем, что я хотел — смотреть теннис, — встала погода. И боль, и дождь были невыносимы, поскольку иллюстрировали более глобальный погодный феномен: между мной и тем, чего я хотел, всегда что-то вклинивалось. Тогда в Уимблдоне это был дождь, в другой день — что-то еще. Но что-то обязательно находилось. Теперь я понимал, что этим что-то был я. Я всегда стоял у себя на пути. Я стоял впереди себя в очереди. Я заставлял себя ждать. Все было сплошным ожиданием. Когда я пил пиво, я ждал, пока стакан опустеет, чтобы его можно было наполнить и опять начать пить. Вместо того чтобы просто наслаждаться кокаиновым приходом, я все время следил за собой, стараясь не пропустить момент, когда эффект начнет ослабевать, чтобы его можно было усилить новой дорожкой и вновь начать ждать… Я вовсе не хочу, чтобы это звучало как исповедь того, кто прошел через реабилитационную клинику, или испытал пробуждение, или обратился в какую-то веру. Я просто хочу сказать, что в Варанаси я перестал чувствовать, что чего-то жду. Ожидание закончилось. Я закончился. Я убрал себя из уравнения.
Когда я только приехал в Варанаси, то, как и все туристы, относился к Гангу с отвращением. Может, это и была священная река, но она была еще и страшно грязная. В ней плескались нечистоты, пластиковые пакеты и пепел от сжигания тел. Не река, а просто какая-то священная угроза для здоровья. Теперь же меня вдруг потянуло в нее окунуться. Я сказал «потянуло», но это совсем не то слово. Желание в ней искупаться было не похоже на желание выпить, к примеру, холодного пива — а холодного пива мне все еще хотелось, так же как порой хотелось пошутить и посмеяться, — особенно сейчас, когда стало так жарко. Скорее я просто знал, что в один прекрасный день я искупаюсь в ней, а потому особо к этой цели не стремился. Но колебания лишь оттягивали неизбежное. Поскольку момент, когда я искупаюсь в Ганге, все равно наступит, не делать этого было бессмысленно: все равно что пытаться не делать того, что я уже сделал.
Сразу после восхода солнца я пришел на Кедар-гхат, снял шорты и футболку и остался в трусах. Всю жизнь я казался себе ужасно тощим, но в окружении индийцев самых разных комплекций — толстых, как Ганеша, или тощих, как борзые, — я ощущал себя вполне комфортно. Я спустился по ступенькам и вошел в воду. В сравнении с воздухом она была на удивление холодной. Солнце разрисовало ее поверхность золотыми змейками. Я стоял по колено в воде и уже привык к холоду. Теперь она казалась мне довольно теплой, но помимо этого вообще никак не ощущалась — ни грязной, ни священной, вода как вода. Я зашел еще чуть дальше, на цыпочках, оттягивая момент, когда мокрый холод коснется моих яиц и живота. И вот я уже стоял по грудь в воде. Я чувствовал силу течения, но в этом волеизъявлении реки не было ничего опасного или угрожающего. Теперь, зайдя в воду, я не знал, что делать дальше. Солнце уже палило вовсю, но сейчас это не причиняло мне никаких неудобств. Было довольно приятно сидеть в воде — как всегда в жаркий солнечный день. По обе стороны от меня люди мылись, или молились, или просто стояли. Рядом резвились дети, плеская друг в друга водой, но на меня они не плескали. Никто не обращал на меня никакого внимания. Никто не сказал: «Ну надо же, какой молодец!» или «Видишь, не такая уж она и грязная, как твердят эти брезгливые туристы». Я был единственным неиндийским купальщиком, единственным здесь европейцем, хотя знал, что сзади, на ступеньках, стоят несколько наблюдателей из их числа и смотрят на меня. Я глядел на противоположный берег, на его пустой мир. Легко верилось, что если поплыть туда, то можно оставить прежнюю жизнь позади.
Я почувствовал, как что-то коснулось моей ноги, и посмотрел в воду, боясь, что это может оказаться что-то ужасное, нечистоты или еще чего похуже, но это был просто размокший коракл[188] с несколькими увядшими цветами на дне. Вода, может, и не была особо чистой, но не выглядела и не чувствовалась грязной. Я слышал голоса людей слева и справа от себя. Солнце светило мне в лицо. Постояв какое-то время в реке, я вышел обратно на ступени и обсох на солнце. На лицо мне не попало ни капли воды. Я надел обратно шорты и футболку. Они были чистые и теплые, и было ужасно приятно снова сунуть ноги в сандалии. Непонятно было, помылся я или, наоборот, теперь нуждаюсь в мытье, зато я был уверен, что индийцы смотрели на меня совсем по-другому, что я сделал огромный шаг к тому, чтобы стать одним из них. Что же до моих белых собратьев, то они, наверное, считали, что я играю на публику, что я веду себя глупо и опрометчиво, но все это, как я теперь понимал, было формой зависти и страха. Во мне они видели вызов своей собственной робости.
Мой кашель не прошел, но я так к нему привык, что практически перестал замечать. Кашель стал просто иной формой дыхания, чуть более шумной функцией жизнедеятельности организма. Еще я привык жидко какать после каждой еды. Мой зад, наверное, был красный, как у обезьяны. Я снова питался почти одними бананами и опять похудел. Процесс мышления все больше походил на головную боль. Что это было — разные симптомы одной и той же болезни или коалиция сразу нескольких заболеваний, объединившихся с тем, чтобы мне навредить? Сказать было сложно. В любом случае мой организм явно был осажден — изнутри. Но, как это бывает, я адаптировался к новым условиям и свыкся с ними. Поначалу мне все еще хотелось чувствовать себя лучше. Но потом мои представления о том, что значит «чувствовать себя лучше», стали довольно расплывчатыми. Я просто забыл, что такое «хорошее самочувствие». Хорошее и плохое самочувствие уже ничем не отличались друг от друга. Если мне было лишь чуть-чуть нехорошо, я считал, что все просто отлично.
День ото дня становилось все жарче. Я это, наверное, уже говорил, но оно так и было. Жара означала, что всевозможные бактерии и паразиты могли процветать и размножаться в максимально благоприятных для себя условиях. Помимо всего прочего, появился реальный шанс получить солнечный или тепловой удар. Для борьбы с жарой я купил себе дхоти. Сначала я носил их только у себя в комнате, практикуясь наматывать тряпку так, чтобы ляжки оставались голыми. Но как-то раз я рискнул выйти в них на террасу на крыше отеля и сидел там, радуясь, что вокруг никого нет. Когда же зрители все-таки явились — французская пара, приехавшая в то утро, — я, к своему удивлению, обнаружил, что чувствую себя совершенно легко и комфортно.
Я сказал «Bonjour»[189] и улыбнулся им той медленной полупросветленной улыбкой, какой все прожившие здесь некоторое время одаривают вновь прибывших. Они провели на террасе всего пару минут — ровно столько, чтобы показать, что этот тощий святой муж их не шокировал, — после чего удалились в свою комнату и занялись весьма шумным сексом. Я даже слышал, как она восклицает: «Je viens»[190].
«Засади ей поглубже и раскачай там как следует», — подумал я про себя. А потом, поскольку думать эту фразу было так приятно, пару раз повторил ее вслух: «Засади поглубже и раскачай как следует!» Если бы я знал, как сказать это по-французски, я бы сказал.
Несколько дней спустя я рискнул отправиться на гхаты, одетый в одни только дхоти. Подростком я так стеснялся своих костлявых ног, что даже в сквош играл в джинсах. Теперь же, будучи еще более тощим, я вышел на улицу в куске тряпки, как Ганди. Мои ноги были совершенно белыми выше колен, а ниже — черными от загара. Я выглядел совершенно нелепо и смехотворно, но не более смехотворно, чем некоторые из окружающих. Какая разница, насколько абсурдно ты выглядишь в городе, где некоторые возят свои яйца в тачке? В Варанаси было невозможно выглядеть нелепо. Сама эта идея была просто нелепа. Я зашел куда дальше, чем любой из диких туристов. У них были дредлоки и тюрбаны из саронгов, но никто из них не выглядел так же нелепо. Я не старался избегать их взглядов. Один из смотревших, Мики, с которым я пару раз разговаривал в «Лотос-лаунже», настолько явно разрывался между желанием спросить, что происходит, и боязнью оскорбить меня, что я поспешил избавить его от мучений.
— Ну, что ты обо всем этом думаешь? — спросил я.
— О чем?
— Об этом, — сказал я, поднимая руки и чуть поворачиваясь туда-сюда, словно демонстрируя новый прикид из «Топшопа»[191].
— Смотрится неплохо, — сказал он. — Но что это все означает?
— Ты ведь слышал про садху?
— Конечно.
— Ну, так это мой вариант на ту же тему. Этакий «придурок»[192], — заявил я, сияя от собственной придурковатой шутки. И пошел дальше.
По дороге я старался переделать свое привычное выражение лица. Обычно я хожу с хмурым видом, но теперь я старался все время улыбаться в надежде, что это сделает мое лицо чуть более радужным.
В том, чтобы выглядеть так — как настоящий фрик, — был и еще один плюс: ко мне теперь реже приставали лодочники и прочие дельцы. Я больше не выглядел как потенциальный покупатель. На Харишчандра-гхате какой-то турист с немецким, судя по всему, акцентом спросил, нельзя ли меня сфотографировать. Я сказал, что да, конечно, и постоял, сияя, на фоне черно-желтой спасательной вышки, которая таковой не была. Потом мы немного поговорили. Он хотел, чтобы я поведал ему свою историю. Но я сказал, что никакой истории у меня нет, и тогда он спросил, откуда я.
— А вы откуда? — спросил я.
— Из Швейцарии.
— Из Швейцарии? Тогда вы должны знать мою приятельницу Изобель.
Он покачал головой: нет, он такой не знает.
— Хотел бы я запустить ложку в пудинг этой курочки, дружище, — сказал я. — Засадить и хорошенько раскачать. Швейцария, говорите? Нейтральная Швейцария. Я как-то стоял в Женеве у фонтана. У меня есть такая фотография — я с друзьями, все улыбаются, и сзади этот фонтан. Видовая такая фотка. Я, видите ли, был чемпионом.
Он покивал, но было ясно, что он ничего не видит. Он смотрел на меня, но ничего не видел. Даршан для него ничего не значил.
— Моя история — это ваша история, — сказал я. — Если бы вы были из Свиндона, то и я бы был оттуда. Откуда я, собственно, и есть. Но неважно. Свиндон ли, Женева — все едино. С таким же успехом это мог быть Буртон-он-зе-Уотер. Вы там были?
— В Буртоне-он-зе-Уотер? Эээ… не думаю.
— Если бы были, ты знали бы. Прелестная деревенька в Котсуолде. Я ездил туда с родителями, когда был мальчишкой. Там была чайная, где мы покупали печенье. Я помню подбородок отца, как он блестел от масла. Теперь это небось какой-нибудь капучино-бар. По сути, это та же Женева.
Швейцарец кивнул.
— В другой раз мы поехали в Лонглит, посмотреть тамошних львов. Был ужасно жаркий день, и, несмотря на кучу табличек, запрещающих это делать, приспустили окна в машине — в нашем небесно-голубом «воксхолл-викторе». Всего на пару дюймов, но я расплакался, потому что боялся львов. А про Майка Саммерби, футболиста, вы слышали? Он играл за «Манчестер-Сити» и ходил в ту же школу, что и я. Даже тогда, в те годы, мой отец говорил, что футболисты зарабатывают слишком много денег. Больше всего на свете мой отец ненавидел тратить деньги, поэтому отпуск и праздники были для него сущей пыткой — чаще всего он проводил их дома, асфальтируя подъездную дорожку или что-то вроде того. Когда же мы все-таки куда-то выбирались, то ехали в Вестон-супер-Мер или в Борнмут, но там всегда лил дождь, так что приходилось идти в кино. Мы только тогда и ходили в кино — на отдыхе и в дождь. Дождь шел всегда, и мы всегда смотрели киноверсии своих любимых телевизионных шоу — «Стиптоу и сын», Мокам и Уайз в «Ривьере»[193]. Мы никогда не смотрели работы великих мастеров того времени — Антониони, Сатьяджита Рея, Годара. Мы даже не видели «Шаровой молнии»[194], хотя я смотрел «Орлиное гнездо»[195] и «Ограбление по-итальянски»[196] — оба этих фильма оказали глубочайшее воздействие на мою неокрепшую психику. Не хочу, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Понимаю, что сейчас, глядя на меня, в это трудно поверить, но в свое время я был чем-то вроде повесы. Засадить и раскачать, да. Кстати о потоке сознания… вы когда-нибудь видели «В белом городе» вашего соотечественника Алена Таннера[197]? Это один из первых фильмов, снятых на восьмимиллиметровую пленку — а восьмимиллиметровая пленка, она словно бы пропитана самой памятью. Там снимался Бруно Ганц[198]. В общих словах: он играет моряка в Лисабоне, который просто прыгает с корабля и остается в городе, ошивается там, ничего особо не делая. Но для меня это аллегория прелести Буртона-он-зе-Уотер, вечной деревушки в священных землях Котсуолда. Там есть мост, некий переход, тирта. Говорят, что если перейти реку по мосту, то на другой стороне можно повстречать таинственный фургон с мороженым, который приносит удачу, — «Мистер Уиппи», торгующий шоколадными и земляничными рожками. Предел мечтаний.
Швейцарец, понятное дело, уже начинал проявлять признаки нетерпения.
— Подождите, — сказал я ему. — У меня к вам есть еще вопрос. Касательно другого вашего соотечественника, Роже Федерера, великого теннисиста. Он в каком-то смысле бог. Но зачем он без конца носил на Уимблдоне этот дурацкий блейзер кремового цвета? Никогда не носите кремовый блейзер с шортами или дхоти. Это же одно из самых элементарных правил одежды. Так почему же он так делал? Ответьте. И тогда мы получим ответ на все остальные вопросы. Понять этого было нельзя — вот почему это был вопрос, который мог бы стать ответом на все остальные.
С тех пор я всегда ходил гулять в дхоти. Мои белые ляжки вскоре стали такими же коричневыми, как и голени. Я даже перестал сознавать, что одет таким образом. Я чувствовал себя отлично, очень естественно и настолько прохладно, насколько это вообще возможно в той местности, где можно ощущать лишь страшную жару. Проходя мимо парочки бхангующих хиппи, я услышал, как один из них сказал:
— Боже, это же Шуман-зе-Хьюман[199].
Чуть дальше я встретил своего друга, того, в чьи глаза я недавно смотрел. Я помахал ему, но он, кажется, меня не узнал — возможно, потому, что я изменился до неузнаваемости, хотя, на мой взгляд, я все еще был узнаваемо собой. Но вероятнее всего, он просто ничего не помнил, потому что не имел памяти. Обладание воспоминаниями тоже было одной из форм привязанности, одной из форм желания. Лично я в них больше не нуждался.
Кстати о воспоминаниях. Я забыл упомянуть, что Лалин и Даррелл уехали из Варанаси. Они отправились в Раджастан, а после в Джайпур и Джайсалмер — город в пустыне. Они не то полетели на самолете, не то поехали на поезде до Джайпура или Джодхпура. Лалин спросила, не хочу ли я поехать с ними, но у меня не было ни малейшего желания покидать Варанаси.
— Быть в Варанаси — значит быть везде, — сказал я. — Этот город — космограмма и мандала. Когда ты уже все испытал и пережил, это, наверное, самое нескучное место на земле. И что особенно важно, блины в «Лотос-лаунже» со временем не становятся хуже.
— Нам за тебя как-то неспокойно, — сказала Лалин.
— За меня? Как мило с вашей стороны. Вот только не знаю почему. Кажется, я начинаю тут приживаться.
— Просто… ты кажешься…
— Что? Ты же не собираешься опять обвинить меня в том, что я живу, как обезьяна? Это уже в прошлом, обещаю. Я даже подумываю выучить санскрит. Обезьяну ты за этим занятием уж точно не застанешь.
— По крайней мере, чувство юмора у тебя пока на месте.
— На самом деле это мне нужно за тебя беспокоиться.
— Это еще почему?
— Даррелл.
— А что с ним такое?
— Он из ЦРУ.
— Из ЦРУ?!
— Я подозревал это с того момента, как его увидел. Теперь я в этом уверен.
— Ну, тогда он рекламирует их с самой лучшей стороны, — сказала она, ничуть не обеспокоенная.
— Я знаю. Я и сам подумываю к ним завербоваться.
— Тебя не возьмут. Ты ненадежен с точки зрения госбезопасности.
— А если Даррелл замолвит за меня словечко?
Лал с улыбкой погладила меня по голове:
— У тебя отрастают волосы. Такие пушистые — настоящий гусенок.
Хорошо она это сказала, подумал я.
— Пушистый, как гусенок, и гладкий, как выдра. Это будет отныне моим девизом.
Мы обнялись на прощание.
— Ой! — Это я наступил на ее обутую в сандалету ногу.
— Извини. Я такой неуклюжий.
— Ничего страшного.
С Дарреллом мы тоже обнялись. Я не наступал ему на ногу, а он не стал гладить меня по голове и говорить, что я пушистый, как гусенок. Зато я сказал ему, что теперь, когда они стали парой, Лалин пора начинать носить телятину. Поскольку мы расставались, я сфотографировал их на память на террасе «Вида на Ганг». Они сняли солнечные очки и стояли, обняв друг друга за талию и улыбаясь. Над головой пролетели какие-то птицы. Фотография получилась хорошая и вместе с тем совершенно обычная. На заднем плане текла великая река, широкая, неподвижная. Мне было грустно, что мои друзья уезжают, и вместе с тем совершенно все равно. Как и все остальные, они были здесь только проездом, только в гостях. То же самое относилось и ко мне. Хоть я и был здесь и не собирался никуда уезжать, я тоже был лишь гостем, и просто проездом, пушистый, как гусенок, гладкий, как выдра.
Каждое утро я окунался в Ганг, который все так же тек и оставался, тек прочь и оставался тут. Иногда я даже плавал в нем, недалеко, всего пара гребков. Я старался не хлебнуть речной воды, но несколько капель всякий раз неизбежно попадали мне в рот. Как-то утром я увидел дельфинов, обитавших, по слухам, в реке. Их было два, черные и гладкие, в своих аквалангистских костюмах, они то всплывали на поверхность, то ныряли, демонстрируя свои продолговатые улыбки. Трудно было поверить, что такое может быть на самом деле, но сам этот факт многое говорил и о дельфинах, и о Ганге, и о бытии как таковом. Он говорит, что в Ганге точно есть дельфины, а если тут есть дельфины, то могут быть и всякие другие существа, к примеру выдры, и не только тут, а и в других реках, да и не только в реках.
«Проходя, остаешься, — пел я самому себе. — Оставаясь, проходишь».
В день своего первого купания я заходил в воду с опаской; теперь же я спокойно нырял с гхатов. «Нырял» — это, конечно, сильно сказано. На самом деле это было не так зрелищно. Это было больше похоже на вытягивание вперед — когда вытягиваешься вперед всем телом, ни на что не опираясь и отпуская себя, а после плюхаешься брюхом об воду. Солнце припекало так сильно, что, выбравшись из воды, я обсыхал всего за пару минут. После этого я шел в «Лотос-лаунж», чтобы съесть свой блин с лимоном и сахаром, или просто шел обратно в отель и там спокойно занимался ничегонеделанием. Я шел медленно, но был открыт ко всему. Все было возможно. Я не удивился бы, узнав, что давно уехал из Варанаси и что теперь я военный преступник в Буэнос-Айресе в 1950-е годы. Если бы я вдруг оказался у себя дома на диване за просмотром документального фильма о Варанаси или за игрой в «Varanasi Death Trip», это не сильно изменило бы мое восприятие ситуации, потому что в моей ситуации мало бы что поменялось. Когда кто-то сказал мне, что в семидесятые я учился с ним в Чартерхаусе, я и глазом не моргнул, хотя я знал о Чартерхаусе лишь то, что это школа и что там в свое время учился не то Пит Хэммил[200], не то Питер Гэбриэл[201]. Если бы ко мне сейчас вдруг кто-то подошел и заявил, что понятия не имеет, кто я такой и о чем говорю, я бы согласился с ним и сказал лишь:
— Я тоже.
На самом деле все так и случилось, кто-то это и вправду сказал — ну или что-то в этом роде, — только это был не кто-то, а Ашвин. Он как раз вернулся из Хампи, где Изобель, по всей видимости, дала ему от ворот поворот и где он наконец-таки поимел тот нервный срыв (хоть и намного позже, чем можно было ожидать), к которому подвел его весь этот переизбыток любви. Бедный мальчик. Все, что я мог сделать, это дать ему пару рупий и благословить.
Время шло, а может, и не шло. Все время, какое ни есть, присутствует здесь, в Варанаси, так что, скорее всего, ни ходить, ни проходить оно не может. Это люди приходят и уходят, а время остается. Время — как раз не гость. Дни, однако, шли и проходили, и пришел наконец день, величайший из дней, день дней. На Кедар-гхат откуда-то прискакал кенгуру. Это, естественно, всех порядком взбудоражило, но так как индуизм — религия крайне гостеприимная, его приняли как родного и немедленно включили в местный пантеон интересных событий. Вместо того чтобы изумляться, все отнеслись к этому так — ну, а почему бы и не кенгуру? Приветствуя его, люди забрасывали его яркими цветами, прикасались к его священным нижним лапам, надевали гирлянды ноготков на его покатые викторианские плечи. На лоб ему тут же нанесли тилак из сандаловой пасты. Сложив передние лапы вместе, кенгуру слегка кланялся, что было очень похоже на анджали[202]. Говорят, это был славный, тихий кенгуру, явно довольный всеобщим вниманием и приятной компанией. Совершенно неагрессивный — совсем не как тот, что напал во сне на Даррелла. Я сказал «говорят», потому что сам я его не видел. Я, видите ли, сидел у него в сумке и поглядывал оттуда, пушистый, как гусенок, гладкий, как выдра, проездом тут, но никуда не уезжая. Я видел то, что видел он, а не то, что видели смотревшие на него люди. Когда кенгуру подошел к кромке воды, я увидел медленно катящиеся мимо тяжелые воды Ганга. Люди думали, что кенгуру может прыгнуть в Ганг, но он, похоже, был на это не настроен. Возможно, он уже прочитал в каком-нибудь путеводителе, какая тут грязная вода. Он просто стоял у самой ее кромки, опираясь для равновесия на хвост. Толпа распевала божественное имя — Гануна. Она нараспев повторяла множество имен Гануны, и все же это было одно только имя — Гануна. Я слышал его повсюду — его пели люди, и река, и я сам. Слышать имя Гануны и петь имя Гануны — в том не было никакой разницы. Услышать имя — значило сказать его, а сказать его — значило откликнуться на его имя — Гануна. Гануна, может быть, и выглядел как кенгуру, но в каком-то смысле Гануна был больше выдрой, чем кенгуру. И в отличие от кенгуру, Гануна не испытывал никаких сомнений по поводу Ганга. Это говорила в нем выдра. Перебраться через теплый бортик сумки было несложно — все равно что влезть на невысокий заборчик, слушая пение божественного имени Гануны, потянуться вперед и — ни на что не опираясь — отпустить.
Что есть здесь, есть и там, а что есть там, то есть и здесь.
Катха-упанишадаПримечания и благодарности
Для сведения, мы с моей женой, Ребеккой, бывали на биеннале трижды — в 2003, 2005 и 2007 годах. В плане погоды 2003-й оказался настоящим пеклом. География и Венеции, и Варанаси, представленная на этих страницах, хочется надеяться, вполне надежна, но в плане искусства я позволил себе определенные вольности. Вот только один из примеров, связанный как раз с биеннале 2003-го: африканцы, продававшие поддельные сумки возле касс Арсенала, были на самом деле частью инсталляции Фреда Уилсона в американском павильоне 2003-го. Кое-что из упомянутого в венецианской части книги материала — Джилберт и Джордж, Эд Раска, красный замок и синий свет — взято из 2005 года, остальное — из 2007-го.
В Джардини стена из дартсовых мишеней («Я, Мир, Вещи, Жизнь») была творением Якоба Дальгрена, видеодуш в русском павильоне — Александра Пономарева и Арсения Мещерякова, а глючные швейцарские картины написала Кристина Стреули (все это — 2007 год).
В Арсенале видео с черепом сделал Паоло Каневари; фотографии ученых — Райнер Ганаль, а видео «бокс с тенью» — София Уэттнал (тоже сплошь 2007 год). Как и Тарреловский «Красный сдвиг», видео с женщиной у реки (Кимсуджа «Прачка у реки Ямуны, Индия») было частью потрясающей экспозиции «Артемпо: Где время становится искусством» в палаццо Фортуни, которая хотя и совпадала по времени с Биеннале-2007, не имела к ней никакого отношения.
Нет нужды еще раз подчеркивать, что Джеффовы мнения об искусстве и мнения автора, несмотря на схожесть их имен, — это не то же самое или, по крайней мере, не всегда. Относительно великолепия «Вида на Ганг», впрочем, двух разных мнений быть не может. Я бесконечно благодарен Шашанку и всему персоналу отеля за гостеприимство и доброту во время нашего с Ребеккой там пребывания в 2006–2007 годах. (Да, в этой связи нужно сказать: отели Джеффа и Лоры в Венеции — вымышленные.)
Миниатюра Шивалала в Варанаси — творческое заимствование из Сити-Пэлас-Мьюзиэм в Удайпуре, штат Раджастан. Фотографии Дайяниты Сингх в галерее «Крита» — все из серии «Отойди поближе». Строки Фаиза были переведены для меня с хинди (будучи уже переведены на этот язык анонимно с урду) самим фотографом.
В тексте присутствуют кое-какие неавторизованные цитаты, большинство которых настолько очевидны, что в дополнительных примечаниях не нуждаются. Как бы там ни было, идея Джеффа, что не надо загонять нас в рай угрозами и страхом, почерпнута из «Райского стиха» Дина Янга (где он использует слово «запугивать») из сборника «Эмбрийойо». «Говорят, значение имеет не то, что происходит» — Джон Ланчестер произносит это в «Семейном романе». Философом, спросившим, откуда берется логика, был Ницше в «Веселой науке». Предложение, начинающееся со «Стояла ночь» взято из «Лезвия бритвы» Сомерсета Моэма. «Тьма скрывала тьму» — это «Ригведа». За вариацией на тему чеховской шутки следуют несколько строк из «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши. «Набухшее облаками небо», «блуждание по лабиринту переулков, узеньких каналов и крошечных площадей, выглядевших на одно лицо», «сеть переулков», «приступы головокружения», «нет ничего более странного и деликатного, чем отношения между людьми, знающими друг друга только с виду» — все это из «Смерти в Венеции» Томаса Манна.
Две книги о Варанаси оказались мне особенно полезны: «Банарас, город света» Дианы Эк и «Банарес изнутри» Ричарда Ланноя.
Эта книга — художественное произведение. Тот факт, что определенные личности из мира искусства (Фиона Баннер, Ричард Вэнтворт, Брюс Нойман и др.) упоминаются в ней поименно или фигурируют в толпе на вечеринках, совершенно не означает, что они и вправду были в Венеции в 2003 году или в какое-то другое время. За исключением обаятельного Шашанка, в Варанаси любые черты сходства между персонажами книги и реальными людьми носят характер чистого совпадения.
Хочу поблагодарить Этана Носовски, Эрика Симонова, Дэна Франка, Билла Гамильтона, Викторию Хоббс, Лорейн Маккэн, Стефани Гортон, Фрэнсиса Бикмора и Джейми Бинга за советы и помощь.
Об авторе
«Я пишу только для себя и только о том, о чем я сам хочу узнать, что увеличивает мой человеческий и культурный капитал».
Джефф Дайер
Джефф Дайер — известный британский журналист, арт-критик современного искусства, автор четырех романов и семи книг в разных жанрах. Эрудит, интеллектуал и эстет, один из самых остроумных и оригинальных современных писателей, не вписывающийся ни в одну из категорий: то он романист и критик, то философ, мемуарист и автор травелогов. Лауреат премии Сомерсета Моэма, премии Американской академии искусств и литературы, литературной премии Ланнан, премии Infinity Международного центра фотографии и литературной премии Вудхауса (за роман «Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси» — лучшее юмористическое произведение 2009 г.).
«Его книги — одни из самых свежих и эклектичных в современной мировой литературе… Джефф Дайер — это настоящий праздник».
Журнал «Таймс»
«Непревзойденный эрудит и остроумный рассказчик, Дайер блестяще владеет самыми разными жанрами, от романа и эссе до репортажа, но по-настоящему он счастлив, лишь когда ему удается связать все это в уникальную эклектику, глядя на которую сразу понимаешь — это Дайер».
Журнал «Нью-Йоркер»
«Джефф Дайер — истинный оригинал, тот редкий в современной прозе феномен, который не перестает будоражить, удивлять и восхищать. Рискованный, захватывающе откровенный, интеллектуальный, стильный, возмутительный, лаконичный и порой шокирующий».
Уильям Бойд
«„Родиться в Венеции, умереть в Варанаси“ — это большая литература; блестящий травелог, смешной, лукавый и печальный роман; восхождение циника к высотам искупительной любви и падение грешника в водоворот чужих реалий.»
Дэвид Митчелл
«Новая книга Дайера — поистине удивительный сюрприз: донельзя остроумный, восхитительный и дерзкий».
Майкл Ондатже
«Незабываемая и местами уморительная медитация о любви и об искусстве, о музыке и жизни, о смерти и бананах, отраженная и преломленная в сдвоенной зеркальной глади Варанаси и Венеции. Я просто влюбился в эту книгу».
Джошуа Феррис
«Дайер в своем лучшем виде… Он превратил эту чувственную иносказательную смесь в искусство, простроченное одним струящимся сюжетом, глубоким чувством вовлеченности и изысканной структурой, в которой рассказы Сомерсета Моэма и Генри Джеймса обретают второе дыхание в странствиях современных глобальных кочевников».
Книжное обозрение газеты «Нью-Йорк Таймс»
Примечания
1
Атман — индивидуальная частица божественности, согласно индуистским поверьям скрытая в каждом человеке. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Серпентайн — художественная галерея в Кенсингтонском парке в Лондоне.
(обратно)3
В оригинале название журнала пишется как «Kulchur», вместо привычного «Culture», что, вероятно, восходит к неологизму американского поэта-символиста Эзры Паунда (1885–1972), вложившего в него изменение семантики самого понятия «культура» в эпоху модернизма.
(обратно)4
Сэр Александр Фергюсон (Ferguson) (р. 1941) — шотландский футбольный менеджер и бывший игрок. В текущий период занимается командой «Манчестер Юнайтед».
(обратно)5
«Кондитерская Валери» (франц.).
(обратно)6
Лицея (франц.).
(обратно)7
Сильвия Плат (Plath) (1932–1963) — американская поэтесса и писательница.
(обратно)8
Мастер своего дела (франц.).
(обратно)9
Ежевечерний выпуск новостей канала Би-би-си.
(обратно)10
Лондонский аэропорт.
(обратно)11
Ларри Гагосян (Gagosyan) (р. 1945) — известный американский торговец произведениями искусства. Ему принадлежит серия художественных галерей по всему миру — в Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе и Риме.
(обратно)12
Грейсон Перри (Perry) (р. 1960) — британский художник, известный в основном керамическими вазами.
(обратно)13
Галерея Виктории Миро (Miro) — одна из ведущих галерей современного искусства в Лондоне.
(обратно)14
«Kraftwerk» — немецкая группа, играющая электронную музыку.
(обратно)15
Итальянское игристое вино.
(обратно)16
Обычная надпись на именных приглашениях: «Такой-то плюс один человек». Спутник.
(обратно)17
Сверхзвуковой самолет, разработанный совместно Англией и Францией и введенный в эксплуатацию в середине 70-х гг. С 2003 г. его коммерческая эксплуатация полностью прекращена.
(обратно)18
Джон Ле Карре (Le Carré) — псевдоним Дэйвида Джона Мура Корнуэлла (Cornwell) (р. 1931), автора шпионских романов.
(обратно)19
Одна из самых влиятельных галерей современного искусства в мире; находится в лондонском Ист-Энде.
(обратно)20
«Moёt et Chandon» — компания — производитель шампанского, одна из известнейших в мире марок.
(обратно)21
Музей современного искусства в Лондоне, часть галерейной сети Тейт.
(обратно)22
Banksy — известный британский уличный художник-граффитист.
(обратно)23
«Vogue» — дамский журнал о моде, издается с 1892 г.
(обратно)24
Джеймс Маршалл Хендрикс (Hendrix) (1942–1970) — американский гитарист и певец.
(обратно)25
Джордж Бест (Best) (1946–2005) — футболист из Северной Ирландии, долгое время играл в «Манчестер Юнайтед».
(обратно)26
«Loaded» — известный британский мужской журнал, издается с 1994 г.
(обратно)27
Еще одна лондонская художественная галерея.
(обратно)28
BlackBerry (ежевика) — марка мобильных телефонов и смартфонов.
(обратно)29
Маршрутный теплоходик, вид общественного транспорта в Венеции.
(обратно)30
В английских словах с начальной «h» — «heat» и др. — итальянцы зачастую не произносят первый звук. Англичанам это режет слух.
(обратно)31
Björk — исландская альтернативная певица.
(обратно)32
Коктейль из шампанского со свежевыжатым персиковым соком.
(обратно)33
Бриджет Райли (Riley) (р. 1931) — одна из известнейших в Великобритании художниц в стиле оп-арт (оптическое искусство).
(обратно)34
«Esquire» — ежемесячный мужской журнал, основанный в 1932 г.
(обратно)35
«Frieze» — журнал и ежегодная ярмарка искусств, где представлены современная живопись, скульптура, литература, архитектура.
(обратно)36
Примерно 178 см.
(обратно)37
Брюс Нойман (Nauman) (р. 1941) — современный американский художник, скульптор, фотограф, автор перформансов.
(обратно)38
«Christo wrap» — арт-проект творческого и супружеского дуэта Христо Явашева и Жанны-Клод Депá де Гийебон, специализирующегося на художественных инсталляциях в городской среде. На настоящий момент они уже «упаковали» Рейхстаг в Берлине, новый мост в Париже, ворота в нью-йоркском Центральном парке и другие архитектурные объекты.
(обратно)39
Пьеса Шекспира (1610–1611), считающаяся одной из последних в его творчестве.
(обратно)40
Сирил Конноли (Connolly) (1903–1974) — английский литературный критик и писатель.
(обратно)41
Трейси Эмин (Emin) (р. 1963) — британская художница турецкого происхождения и ее проект «Everyone I Have Ever Slept With, 1963–1995», представлявший собой голубую палатку, облепленную именами всех, с кем автор делила постель в указанные годы.
(обратно)42
Марки «Tartan», «Double Diamond», «Trophy» и «Long Life» соответственно.
(обратно)43
Здесь — к приступам внезапного засыпания, каковыми клиническая картина нарколепсии отнюдь не исчерпывается.
(обратно)44
«The Truman Show» — фильм-антиутопия режиссера Питера Уира, в котором все события жизни героя неведомо для него являются элементами срежиссированного реалити-шоу.
(обратно)45
«Буря» (ит.).
(обратно)46
Вотфганг Тиллманс (Tillmans) (р. 1968) — известный немецкий фотохудожник.
(обратно)47
Марк Квинн (Quinn) (р. 1964) — британский скульптор, известный, в частности, автопортретом, сделанным с использованием его собственной замороженной крови.
(обратно)48
Пегги Гуггенхайм (Guggenheim) (1898–1979) — известная американская собирательница предметов искусства и основательница Фонда Соломона Гуггенхайма.
(обратно)49
Ричард Вентворт (Wentworth) (р. 1947) — британский художник и преподаватель Школы графики и изящных искусств Раскина в Оксфорде.
(обратно)50
Нашумевшее дело четырех кембриджских профессоров (Энтони Бланта, Гая Берджеса, Дональда Маклина и Кима Филби), в течение двадцати лет, с 1933 по 1963 г., шпионивших на СССР.
(обратно)51
Вполголоса (ит.).
(обратно)52
Табачная лавка (ит.).
(обратно)53
Giardini — одно из основных экспозиционных пространств Венецианского биеннале.
(обратно)54
Gilbert & George — творческий дуэт британских художников-авангардистов Джилберта Проша (р. 1943) и Джорджа Пассмора (р. 1942).
(обратно)55
YBA — аббревиатура Young British Artists (Молодые британские художники), названия группы концептуальных художников, скульпторов и авторов инсталляций.
(обратно)56
Джексон Поллок (Pollock) (1912–1956) — американский художник, абстрактный экспрессионист; Джоки Уилсон (Wilson) (р. 1950) — чемпион Великобритании по дартсу.
(обратно)57
Кеннет Тайнан (Tynan) (1927–1980) — влиятельный британский театральный критик и писатель.
(обратно)58
И наоборот (лат.).
(обратно)59
Эдвард Раска (Ruscha) (р. 1937) — американский художник, работающий в стиле поп-арта.
(обратно)60
Наброски для памяти, конспект (франц.).
(обратно)61
Сэр Николас Эндрю Серота (Serota) (р. 1946) — известный британский куратор арт-проектов.
(обратно)62
Сэм Тэйлор-Вуд (Taylor-Wood) (р. 1967) — современный британский фото- и видеохудожник, член YBA.
(обратно)63
Сэр Питер Томас Блейк (Blake) (р. 1932) — известный британский художник в стиле поп-арта.
(обратно)64
Наташа Макелоун (McElhone) (р. 1971) — британская актриса театра, кино и телевидения.
(обратно)65
«Razzle» — британский журнал мягкого порно, основанный в 1983 г.; «Cheeks» — британский порнографический журнал.
(обратно)66
Боб Дилан (Dylan) (настоящее имя Роберт Аллен Циммерман) (р. 1941) — американский певец и автор песен.
(обратно)67
«The Doors» — американская рок-группа, солист Джим Моррисон (1943–1971).
(обратно)68
«Tangerine Dream» — немецкая группа, образовавшаяся в 1967 г. (лидер — Эдгар Фрезе), пионеры электроники; «Van der Graaf Generator» — английская прогрессив-рок-группа 70-х гг.
(обратно)69
Альбомы группы «Van der Graaf Generator» 1970 и 1971 гг. выпуска соответственно.
(обратно)70
Альбомы группы «Van der Graaf Generator» 1970 и 1969 гг. выпуска соответственно.
(обратно)71
Гибридный сорт конопли с быстрым и сильным наркотическим эффектом и повышенной галлюциногенной составляющей.
(обратно)72
«Hawkwind» — британская группа, основанная в 1969 г., одни из первых представителей стиля спейс-рок.
(обратно)73
Сэр Гордон Говард Элиот Ходжкин (Hodgkin) (р. 1932) — британский художник.
(обратно)74
Jeremy Paxman (p. 1950) — английский журналист и ведущий телепрограмм.
(обратно)75
Отметка на борту судна, ниже которой оно не должно погружаться в воду.
(обратно)76
Тернер (Turner) Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) — английский художник-романтик, мастер пейзажа.
(обратно)77
Дюшан (Duchamp) Марсель (1887–1968) — французский и американский художник, кубист, футурист, затем концептуалист.
(обратно)78
Эрнст (Ernst) Макс (1891–1976) — немецкий и французский художник, крупнейший представитель мирового авангардизма.
(обратно)79
Бранкузи (Brancusi) Константин (1876–1957) — румынский скульптор-абстракционист.
(обратно)80
Самоса — маленькие индийские пирожки с острой овощной начинкой.
(обратно)81
Стоп-слово — в практике BDSM условное слово, означающее немедленное прекращение текущей деятельности; слова «нет», «стоп» или «прекрати» могут быть частью сексуальной игры.
(обратно)82
Кейт Мосс (Moss) (р. 1974) — феноменально успешная британская супермодель; «подружка английского футболиста» — вероятно, имеется в виду Виктория Бекхэм (урожденная Адамс) (Beckham) (р. 1974), супруга Дэвида Бекхэма, певица, модель, дизайнер и т. д., но главным образом модный персонаж.
(обратно)83
«Vegemite» — коричневая паста из овощей и дрожжей, популярная австралийская еда. На рынке с 1923 г. Считается чрезвычайно питательной и полезной.
(обратно)84
Джон Констебл (Constable) (1776–1837) — выдающийся британский художник, мастер романтического пейзажа.
(обратно)85
Система железнодорожных проездных InterRail позволяет сравнительно недорого путешествовать по железным дорогам Европы или отдельно взятой страны без ограничений в течение определенного количества дней. Действует с 1972 г.
(обратно)86
Имеется в виду знаменитый эпизод из фильма Пола Верховена «Основной инстинкт».
(обратно)87
Фиона Баннер (Banner) (р. 1966) — английская художница, использующая в качестве выразительного средства текст.
(обратно)88
Вор! (ит.)
(обратно)89
Имеется в виду картина французского живописца-романтика Теодора Жерико (1791–1824), на которой изображены последствия крушения фрегата «Медуза». Размер картины — 491 на 716 см.
(обратно)90
«Asahi» — марка японского пива.
(обратно)91
Джейсон Роудс (Rhoades) (1965–2006) — американский художник, автор инсталляций.
(обратно)92
Мужик (исп.).
(обратно)93
Tijuanatanjierchandelier — что-то вроде «тихуано-танжерская люстра».
(обратно)94
Линда Нохлин (Nochlin) (р. 1931) — американский историк искусства.
(обратно)95
Эрик Хобсбаум (Hobsbawm) (р. 1917) — британский марксистский историк и писатель.
(обратно)96
Эдвард Вади Саид (1935–2003) — американский литературный теоретик и критик палестинского происхождения, борец за палестинские права.
(обратно)97
Ричард Тиффани Гир (Gere) (р. 1949) — американский киноактер.
(обратно)98
Байопик — фильм биографического содержания.
(обратно)99
Соглашения в Осло — двусторонние закрытые переговоры в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 г.
(обратно)100
«Тесс» (1979) — фильм режиссера Романа Полански, за который он номинировался на «Оскар».
(обратно)101
Excelsior — «Все выше» (лат.).
(обратно)102
Имеется в виду одноименный двенадцатитомный цикл романов Энтони Пауэлла (Powell), опубликованный между 1951 и 1975 гг. и вдохновленный, в свою очередь, одноименной картиной Никола Пуссена.
(обратно)103
«Cristal» — дорогая марка шампанского.
(обратно)104
Выставка современного искусства, проходящая раз в пять лет в городе Касселе, Германия.
(обратно)105
Том Хэнкс (Hanks) (р. 1956) — американский актер. «Forrest Gump» (1994), «Saving Private Ryan» (1998) и «Cast Away» (2000) — фильмы с его участием.
(обратно)106
Джеймс Таррел (Turrell) (р. 1943) — американский художник, работающий со светом и пространством.
(обратно)107
Арнольд Бёклин (Arnold Beklin) (1827–1901) — талантливый швейцарский живописец, автор картин на мифологические, исторические и аллегорические сюжеты.
(обратно)108
Эзра Лумис Паунд (Ezra Loomis Pound) (1885–1972) — американский поэт, переводчик, критик; основоположник и главный теоретик американского модернизма.
(обратно)109
Эбенезер Скрудж — персонаж романа Чарлза Диккенса «Рождественская песнь»; или же антропоморфная утка, дядя Скрудж Макдак из комиксов Карла Барка.
(обратно)110
Вид пасты.
(обратно)111
Школы (ит.).
(обратно)112
Джей Джоплинг (Jopling) (р. 1963) — современный британский торговец предметами искусства и галерист; Дэмиен Херст (Hirst) (р. 1965) — британский художник и один из самых выдающихся членов YBA.
(обратно)113
Пол Оукенфолд (Oakenfold) (р. 1963) — британский саунд-продюсер и известнейший трансдиджей.
(обратно)114
Найджел Кеннеди (Kennedy) (р. 1956) — британский скрипач и альтист.
(обратно)115
«Ice-cold in Alex» (в русском видеопрокате «Трудный путь в Александрию») — английский фильм 1958 г. Режиссер Дж. Ли Томпсон.
(обратно)116
Ничего (ит.).
(обратно)117
Кончилось (ит.).
(обратно)118
Марка минеральной воды.
(обратно)119
Фиона Рэй (Rae) (р. 1963) — британская художница, член Ассоциации молодых британских художников (YBA).
(обратно)120
Дал — лущеный горох или чечевица.
(обратно)121
Фрэнк Ллойд Райт (Wright) (1867–1959) — выдающийся американский архитектор и дизайнер, а также писатель.
(обратно)122
Гхат — спуск к реке, со ступенями или без.
(обратно)123
Себаштьяу Сальгадо (Salgado) (р. 1944) — бразильский фотограф-документалист.
(обратно)124
Флоренс Найтингейл (Nightingale) (1820–1910) — знаменитая английская медсестра и писательница.
(обратно)125
«Мышеловка» — пьеса Агаты Кристи, написанная в детективном жанре и идущая в лондонском Вест-Энде непрерывно с 1952 г.
(обратно)126
Ситар — струнный музыкальный инструмент.
(обратно)127
Саранги — смычковый музыкальный инструмент.
(обратно)128
Аллен Гинзберг (Ginsberg) (1926–1997) — американский поэт-битник.
(обратно)129
Палимпсест — в древности рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста, представляет собой двойной исторический источник.
(обратно)130
Хоув — фешенебельный курортный городок на южном побережье Англии, примыкающий к Брайтону и по сути являющийся с ним единым целым.
(обратно)131
«Смертельное путешествие в Варанаси» (англ.).
(обратно)132
Аллюзия на культовый фильм режиссера Мартина Скорсезе с участием актера Роберта Де Ниро «Водитель такси».
(обратно)133
Вишванатх, он же Золотой храм, — шрам Шивы, построен в 1785 г. на месте более древнего; на позолоту куполов ушло до 800 кг золота.
(обратно)134
«Мать Риташа» — индийская религиозная секта, чья основательница носит это имя; ведет широкую благотворительную и образовательную деятельность.
(обратно)135
Андре Кирк Агасси (Agassi) (р. 1970) — теннисист, бывшая первая ракетка мира.
(обратно)136
Удар слева в теннисе.
(обратно)137
Ашвины — боги-близнецы Древней Индии, занимались целительством.
(обратно)138
Популярные антидепрессанты, относятся к категории опасных лекарственных средств.
(обратно)139
Аватара — земное воплощение божества.
(обратно)140
Скандинавский бог грома, вооруженный молотом. Здесь имеется в виду персонаж комиксов, опубликованных компанией «Марвел», супергерой.
(обратно)141
Студент-медик, в теле и воспоминаниях которого заключен Тор по воле своего отца, Одина, дабы научиться смирению.
(обратно)142
Еще один персонаж комиксов компании «Марвел», супергерой, андроид, обладающий способностью управлять огнем.
(обратно)143
Также персонаж комиксов компании «Марвел», суперзлодей.
(обратно)144
Имя целой группы персонажей комиксов компании «Ди-Си Комикс», владельцев магических колец.
(обратно)145
Имя возлюбленной Супермена в серии комиксов о Супермене компании «Ди-Си Комикс».
(обратно)146
Шакти — в философии индуизма универсальная энергия, женское начало, супруга бога.
(обратно)147
Раса — эмоция, состояние, чувство.
(обратно)148
Самсара, также Сансара — череда перерождений, к выходу из которой стремится душа.
(обратно)149
Сурья — индуистский бог солнца.
(обратно)150
Мокша — просветление, блаженство, освобождение от самсары.
(обратно)151
Бхакти — поклонение богу через личную любовь к нему.
(обратно)152
Генри Мур (Henry Moore) (1898–1986) — выдающийся британский художник и скульптор, один из пионеров фигуративной пластики.
(обратно)153
Роман-автобиография английского автора Говарда Майка о торговце наркотиками. В оригинале назывался «Mr Nice».
(обратно)154
Лурд — городок во Франции, место явления Девы Марии, где бьет целительный источник.
(обратно)155
В оригинале игра слов: veil — вуаль, здесь: паранджа; и veal — телятина. Первое слово произносится как [veil], а второе как [vi: l]. Франческа же, будучи итальянкой, произносит оба слова одинаково.
(обратно)156
Садху — мудрец, святой человек, подвижник.
(обратно)157
Бумбокс — небольшой переносной аудиоцентр.
(обратно)158
Рага — индийская музыкальна форма, развивающая одну мелодическую идею, одну эмоцию.
(обратно)159
Саранги — индийский смычковый инструмент.
(обратно)160
Табла — ударный инструмент, ритм-секция.
(обратно)161
Одноименный роман Уильяма Малвихилла (Mulvihill) и поставленный по нему фильм 1965 г.
(обратно)162
Пандит — ученый брахман или просто человек, высокообразованный в области классической музыки.
(обратно)163
Тампура — струнный щипковый инструмент.
(обратно)164
Пуджа — религиозный обряд поклонения богам, бытует в разных формах.
(обратно)165
Роман Дэвига Герберта Лоуренса (Lawrence) (1885–1930), изданный в 1920 г. и ставший причиной громкого цензурного процесса над автором.
(обратно)166
Названия других работ Лоуренса — «River of dissolution» и «Ship of Death».
(обратно)167
Дворец (хинди).
(обратно)168
Книга другого Лоуренса (так называемого Лоуренса (Томаса Эдварда) Аравийского (1888–1935), знаменитого английского разведчика, которого автор намеренно путает с Дэвидом Гербертом Лоуренсом, называется «Семь столпов мудрости». В основе шутки лежит игра слов: pillar — столп и pillow — подушка.
(обратно)169
Тилак — знак касты или принадлежности к религиозной школе, наносимый краской на лоб или другую часть тела.
(обратно)170
Уиппет — порода собак, малая английская борзая.
(обратно)171
«Битвы бомжей» — серия скандальных фильмов, снятых в конце 90-х и запрещенных во многих странах, где показаны реальные сцены насилия, жестокости и драк между бомжами и бродягами на улицах Лас-Вегаса и других американских городов.
(обратно)172
Модзы — группы агрессивной молодежи в конце 50-х — начале 60-х гг. прошлого века, увлекавшиеся в числе прочего ездой на мотоциклах и устраивавшие драки с рокерами.
(обратно)173
Павильон — резиденция британских монархов в Брайтоне, одно из самых экзотических зданий английской архитектуры.
(обратно)174
Поллок Джексон (Pollock Jackson) (1912–1956) — знаменитый американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма 1950-х гг., прославившийся своей радикальной техникой живописи.
(обратно)175
Аллюзия на популярные компьютерные игры серии «Escape» (побег).
(обратно)176
Дхоти — традиционный вид мужской одежды в странах Юго-Восточной Азии, включая Индию; длинная полоса ткани, обертываемая вокруг ног и бедер.
(обратно)177
Метилендиоксиметамфетамин, он же экстези, клубный наркотик.
(обратно)178
Диоралит — специальный изотонический водный раствор для борьбы с обезвоживанием.
(обратно)179
Ласси — прохладительный напиток из йогурта. В данном случае — с гашишем.
(обратно)180
Бабá — в Индии уважительное обращение к мужчине.
(обратно)181
Фразу «lovely jubbly» можно перевести как «Вот и славно!» или как «Вот так сиськи!». Индийские мальчишки явно употребляют ее во втором значении.
(обратно)182
Популярная латинская фраза, часто использовавшаяся в эпоху Ренессанса и Нового времени в качестве названия картин, аллегорически изображающих смерть. Обычно переводится как «И в Аркадии есть я» (от лица Смерти), где Аркадия, в свою очередь, аллегорически обозначает юдоль земных наслаждений.
(обратно)183
«Слейд» (Slade) — популярная в 1960–1970-е гг. английская рок-группа, чья композиция «Вот и пришло Рождество» уже много лет звучит по всему миру каждый Новый год.
(обратно)184
Та же игра слов, veil — вуаль и veal — телятина.
(обратно)185
Саньясин — монах-странник, давший обет самоотречения.
(обратно)186
Дугал Хастон (Haston) (1940–1977) — шотландский альпинист; Крис Бонингтон (Bonington) (р. 1934) — британский альпинист.
(обратно)187
Терри Уэйт (Waite) (р. 1939) — британский писатель и общественный деятель.
(обратно)188
Коракл — небольшая плоская лодка из ивняка, чаще всего округлой формы.
(обратно)189
«Добрый день» (франц.).
(обратно)190
«Я кончаю» (франц.).
(обратно)191
«Topshop» — английская марка одежды среднего ценового уровня и сеть фирменных магазинов.
(обратно)192
В оригинале игра слов: хинди «saddhu» (садху) и английского «saddo» (придурок).
(обратно)193
«Steptoe and Son» — сериал, выходивший двумя блоками, с 1962 по 1965 г. и с 1970 по 1974 г., но кинофильм по нему снят не был; «That Riviera Touch» (1966) — второй фильм, в котором снялся комедийный дуэт Эрик Мокам (Morecambe) и Эрни Уайз (Wise).
(обратно)194
«Thunderball» (1965) — четвертый фильм бондианы; реж. Теренс Янг (Young).
(обратно)195
«Where Eagles Dare» (1968) — шпионский фильм о событиях Второй мировой войны; реж. Брайан Хаттон (Hutton).
(обратно)196
«The Italian Job» (1969) — криминальная комедия; реж. Питер Коллинсон (Collinson).
(обратно)197
«Dans la Ville Blanche» (1983), реж. Alain Tanner.
(обратно)198
Бруно Ганц (Ganz) (p. 1941) — швейцарский киноактер.
(обратно)199
Персонаж контркультурных комиксов художника Роберта Крамба (Crumb) о мистере Естественном (Mr. Natural), выпускавшихся в 1960-е гг.
(обратно)200
Питер Хэммил (Hammill) (р. 1948) — см. Van der Graaf Generator на с. 107.
(обратно)201
Питер Гэбриэл (Gabriel) (р. 1950) — британский рок-музыкант.
(обратно)202
Анджали — хаста (знаковое положение рук) со сложенными ладонями.
(обратно)

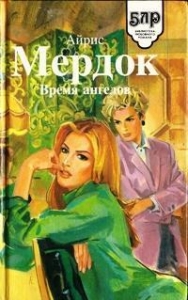




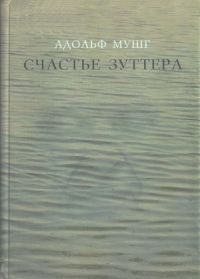
Комментарии к книге «Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси», Джефф Дайер
Всего 0 комментариев