Исроэл Рабон Улица Роман
Главы 0–7 (перевод Н. Гольден и В. Дымшица), главы 8-19 (перевод В. Дымшица), главы 20–31 (перевод В. Шубинского и В. Дымшица)
Восемь недель тому назад меня демобилизовали.
Дождливым летним днем в конце июля я в последний раз съел порцию солдатского супа в 27-м пехотном полку в Ченстохове.
Я, уже переодетый в цивильное, являюсь теперь обладателем двух тысяч польских марок, тридцати двух папирос (три новые, а остальные — желтые и мятые), квитанций с четырех- и пятизначными номерами и письма с отпечатанным на конверте именем «Якуб Визнер, швейная мастерская».
В этом самом письме, начинающемся без приветствия, без церемоний, без обращения, запросто: «Могу написать тебе из дома, что…» — меня уведомляют, что мой отец умер, а двухкомнатную квартирку на третьем этаже домовладелец сдал другим людям.
В заключение неизвестный мне Янкев Визнер пишет: «Так как, согласно закону о правах квартиросъемщика, сын покойного, служащий в армии, считается не посторонним лицом, а квартиросъемщиком, ты можешь смело требовать у Ленчицкого (домовладельца) вернуть тебе помещение».
Внутри письма находится вырезка из еврейской газеты:
«Юридическая консультация
Господину Янкеву Визнеру, Нова-Бяла: если умирает отец, чей единственный сын служит в армии, домовладелец обязан…»
И далее приводится то же самое, о чем Янкев Визнер пишет мне в письме.
Этого Янкева Визнера, портного, я никогда не видел в нашем доме. Абсолютно неизвестный мне человек.
Как я ни пытался его вспомнить, он оставался для меня чужим, незнакомым.
Я догадался, что этот человек — наш новый сосед, а письмо он мне написал по доброте и из жалости.
В местечке у меня не осталось никого, кто бы мог мне хоть чем-то помочь: никаких родственников у меня там не было. Ехать домой, чтобы судиться с домовладельцем из-за квартиры, я не хотел, находя это крайне глупым, а главное, будучи уверенным в том, что из этого ничего не выйдет.
И, кроме того, мне не нужна была квартира сама по себе — там, в местечке, я не мог рассчитывать ни на какой заработок.
Я прослужил в польской армии четыре года. Шесть месяцев я находился на большевистском фронте[1] и пять — на украинском, в Восточной Галиции[2].
Покидая 27-й пехотный полк в Ченстохове, я все еще не знал, куда податься.
Перед окошком канцелярии 27-го полка стояло трое таких же, как я, демобилизованных солдат.
Первый — немец из Померании, второй — поляк из Нового Радома, а третий — из Лодзи.
Первым бесплатный железнодорожный билет получил немец из Померании, вторым — поляк из Нового Радома, а третьим — солдат из Лодзи.
Тот, который ехал в Лодзь, высокий, костлявый, с бледным, тощим и строгим лицом, был похож на тех, которые носят фонарь на христианских похоронах.
От радости, что едет домой, он тихо блаженствовал: ни с кем не разговаривал, не проронил ни слова, только в уголках рта иногда появлялась улыбка, как пузырь на реке, когда в нее нырнет лягушка.
— Куда? — спросила его голова фельдфебеля в окошке.
— В Лодзь! — выкрикнул худой высокий парень.
В его возгласе было столько радости, что меня охватило тепло; в этом голосе дрожала тоска по кому-то очень близкому… Название города, куда ехал тощий парень, засело у меня в голове, точно якорь, приобрело какое-то особое очарование.
— Куда? — обратилась ко мне голова в окошке.
— В… в… Лодзь, — ответил я, запинаясь.
Так я уехал в Лодзь.
1
Был один из тех дней, когда солнце дурачит людей. С темного неба, полного рваных облаков, то падал медленный дождик, пахнущий тяжелым, осенним мокрым снегом, то сквозь дождевые капли пробивалось несколько ярких лучей, чтобы напомнить о том, что лето еще не прошло.
Городской парк был окутан темно-серым туманом, ожидавшим стремительного дождя, чтобы скрутиться вокруг бледных берез и исчезнуть.
На пересекающихся парковых дорожках, там, где стояли пустые зеленые скамейки, засыпанные увядшими желтыми листьями, не было ни души.
Я ходил взад-вперед по центральной аллее.
— Раз! Два! Правой! Левой! — чеканил я строевой шаг и смотрел на башенные часы. — Восемь шагов в минуту! Далее: правой, левой, правой, левой! Должно быть десять шагов в минуту!
Сторож в маленькой будке с покатой крышей бросил на меня долгий, изумленный, испытующий взгляд. Дождь усилился.
— Не дело это — промокнуть до костей! — сказал я сам себе, прерывая свои «строевые упражнения», поднял воротник солдатской шинели и быстрым шагом направился к железным воротам, которые блестели, словно украшенные каплями дождя…
Рядом с воротами находилась будка, в которой сидел сторож. Сквозь щелку его странных, узких, как у свиньи или вороны, миндалевидных глаз поблескивал злой и недовольный взгляд.
Я был одним из тех «завсегдатаев» парка, насчет которых у него имелось «мнение». Тогда я был уверен, что он думает обо мне так: «Какой-то мужчина… вроде солдат, а вроде нет… черт его знает… слоняется целыми днями по парку, думает, верно, о том, как бы спереть лопаты, что стоят за будкой… О чем еще такому раздумывать?»
Я быстро вышел из парка на улицу, не глядя на сторожа. И тем же быстрым шагом двинулся по мокрому, блестящему асфальту.
Время близилось к шести вечера. Прохожих было мало: вот прошел мужчина в очках, женщина под голубым зонтом, еще кто-то.
Отшагав так полчаса, я заметил, что продолжаю считать шаги, теперь уже только глазами, только про себя. Это меня рассмешило: «Ничего не скажешь, солдатская натура!..»
Почувствовав усталость от ходьбы, я остановился на перекрестке и спросил сам себя:
— А куда спешить?
И не знал, что ответить.
За те несколько недель, что я прослонялся в большом городе, я слишком часто использовал все места, где можно было укрыться от дождя или поискать знакомых. На обоих вокзалах и на крытых трамвайных остановках меня уже знали как облупленного.
Буфетчицы и киоскеры глядели на меня с подозрением и недоверием. Но я не уходил не потому, что чего-то боялся, а потому, что чувствовал, как меня охватывает жалость, жалость к самому себе: «Мужчина с двумя здоровыми руками — и такой пропащий!..»
За несколько недель шатаний по Лодзи я свыкся с тишиной своей несчастной жизни.
Моя душа была поглощена ритмом ничегонеделания и праздношатания. Я, блуждая по незнакомым улицам большого промышленного города и грея спину на солнце, на прохладном унылом осеннем солнце, становился под влиянием голода и отчуждения все более отделенным, все более отрезанным от мира.
Я даже полюбил свое одиночество, свое горькое, черное одиночество и непрекращающуюся тоску по хлебу и чистой рубашке, я избегал любого недоброго взгляда и шел своей дорогой.
Несколько часов назад я встретил одного из тех, кто служил вместе со мной. Я остановил его. Это был хитрый молодой еврей с двумя стремительно бегающими, желтыми, как у лисы, глазами-горошинами.
Я и сам не знал, зачем я его остановил.
На нем был отутюженный синий костюм и шляпа; он располнел и изменился, и я удивился, что сумел его узнать.
— Борнштейн! — окликнул я его.
Он обернулся и посмотрел на меня как на незнакомого.
— Ты меня узнаешь? — спросил я.
— Нет! — он покачал головой и гордо посмотрел на мое убогое платье.
— Я…
— Ты тот, который служил вместе со мной?
— Да, он самый.
— Чего надо?
Я задумался, что ему ответить. Он был дельцом, полковым торговцем. Я вспомнил, что в армии он торговал всем: хлебом, башмаками, новыми конфедератками, жестяными козырьками, которые не каждый солдат получал за счет полка. У него в ящике всегда имелся целый склад фуражек, солдатских пуговиц, белья, белого хлеба, сыра, колбасы и всякой всячины.
На фронте, на самой линии, под вражеским огнем, он торговал.
Если ему запрещали брать на фронт свой узел, свой ящик, он торговал папиросами.
Я не знаю, где он на линии фронта, в окопах, на марше доставал папиросы. Как я ни пытался понять, это осталось для меня загадкой.
Солдаты и даже офицеры, а также сестры Красного Креста часто приходили к нему в окоп попросить папиросу.
Пади он от большевистской пули, о нем можно было бы уверенно сказать: он торговал до последнего вздоха!
Глядя на Борнштейна, к таким видам спорта, как футбол, скачки, плавание, парусные гонки, можно было добавить еще один: торговлю!
Борнштейн любил продавать папиросы в опасные моменты на поле боя, как опытный мореход, который порой рискует пуститься в плаванье во время бури.
— Ну, Борнштейн, как дела? — спросил я его.
— Да никак, — ответил он, помедлив, и отвернулся, порываясь уйти.
— Купишь у меня что-нибудь? — спросил я, сам не зная, что могу ему продать.
Он, быстро и хитро глянув, повернул ко мне свое круглое, упитанное лицо.
— Что у тебя есть?
— Погоди минуту, сейчас достану…
Я зашел в подворотню, снял ремень и подвязал брюки веревкой. Это был широкий офицерский ремень светлой кожи с тяжелой, толстой медной пряжкой.
Этот ремень я получил когда-то у пленного украинского офицера в Лемберге[3], а теперь намеревался продать его Борнштейну.
Он оглядел мой товар и скривился:
— Это совсем… Теперь я такое уже не покупаю…
И собрался уходить.
Я был в отчаянии.
— Борнштейн, дай за ремень пятьсот марок! Этот ремень стоит все три тысячи!
Сегодня я еще не ел и был вне себя от того, что ремень никак не продается.
Он не обернулся и пошел дальше, а ведь он был моим единственным знакомым в городе.
Я понял, что не могу вот так взять и отпустить его. Я вдруг почувствовал то, что чувствует заблудившийся при неожиданной встрече со знакомым — этот человек мне не чужой.
— Борнштейн, помнишь, как я тебе отдал полкурицы и не взял с тебя ни гроша?.. Помнишь, под Скалмержем?.. У поваленного креста? — крикнул я дрожащим голосом ему вслед.
Под Минском мы в одном окопе пролежали с ним несколько дней без еды.
Борнштейн стонал, плакал от голода и проклинал своего отца, который не изувечил его, чтобы освободить от польской военной службы.
Я отважился и пошел к крестьянину, за тридцать шагов от окопа. У крестьянина я раздобыл буханку хлеба, жареную курицу, половину которой принес Борнштейну, а тот лежал в яме ни жив ни мертв, направив ружейный ствол не в сторону врага, а, наоборот, в сторону своих.
— Борнштейн, помнишь… помнишь, как ты едва не помер с голоду, а я принес тебе полкурицы… у поваленного креста…
Он продолжал идти и делать вид, что не слышит. Внезапно он остановился, вынул из кармана брюк несколько купюр, протянул их мне и пошел дальше.
Я взял деньги, подбежал к нему и, набросив ему на голову, словно бублик, ремень светлой кожи, поспешно развернулся и пошел прочь.
Ощутив на шее ремень, Борнштейн легонько вскрикнул, будто его собирались повесить на этом ремне, быстро и ловко снял его и сунул в сумку.
В булочной я купил полбуханки хлеба. Половину съел в подворотне. Походив полчаса, я вновь проголодался и съел оставшийся хлеб.
Солнце обмануло, дождь шел все сильнее и гуще. Моя одежда насквозь промокла, а башмаки были в грязи. Я раздумывал, где бы укрыться от дождя. Стоять в воротах мне надоело.
Я вышел на улицу и пустился прежним путем.
Возле маленькой русской церкви на Видзевской я остановился, будто разбуженный легким шепчущим пением, доносившимся оттуда в вечерней тишине.
Я вошел в церковь. Десять-двенадцать мужчин стояли на коленях перед алтарем и шептали вечернюю молитву. Я снял фуражку и тоже встал на колени.
Звуки святого песнопения раскачивались в глубоком сводчатом пространстве, и эхо несколько мгновений дрожало в спертом воздухе храма, замирая в темных углах.
Стоя на коленях, я начал дремать. Песнопение, казалось, доносилось издалека.
Разбуженный глубоким, хриплым грудным голосом, я осмотрелся. Все уже стояли и с почтением смотрели на мой двейкес[4]. Я быстро поднялся.
Поп, напоминавший мне своей рыжей бородой и густыми рыжими волосами императора Барбароссу, читал проповедь; он рассказывал, что Всевышний более всех остальных своих чад любит православных.
Желая увидеть, останутся ли они Ему верны, Он послал им большевистского Антихриста — Троцкого. И, примкнув к Антихристу, православные чада изменили Всевышнему.
— Посему, — закончил поп со вздохом и слезами на глазах, — Святой Дух отвернулся от своих православных чад и от их матушки России, и на небесах был вынесен приговор, что быть чадам православным семьдесят пять лет в изгнании или под властью Антихриста — большевиков.
Проповедь сопровождали вздохи и плаксивое бормотание.
Две старушки рыдали в носовые платки и время от времени восклицали:
— Горе тебе, матушка Россия!
Старый русский генерал с уймой медных, золотых и серебряных медалей бил себя кулаком в грудь и беспрестанно молил:
— Смилуйся, Христос, над нашей Россией!
После проповеди все начали молча и неторопливо выходить из церкви, целуя попу мясистую, пухлую руку.
Дождь продолжал идти. Я побродил по улице еще минут десять-пятнадцать, а потом отправился туда, где обычно ночевал.
2
Я жил в длинном, узком и вечно погруженном в густую тьму подвале. Каморки в нем были сделаны по образцу соединявшего их коридора: длинными и узкими.
В подвале находилось семь каморок. Пять служили кладовыми для товаров, а в двух других проживали две семьи. Главой одной семьи был возчик, работавший в городском ассенизационном обозе, второй — старый полубезумный сапожник.
Я проживал у последнего.
Войдя в коридор подвала, я услышал свежий, радостный и бодрый детский смех и крики из дальнего правого угла коридора, который был изогнут дугой, из-за чего оттуда было невозможно увидеть входящего.
Дверь в жилище сапожника была распахнута настежь, в комнате никого не было.
Я вошел, закрыл дверь, огляделся и, не увидев старого сапожника, забеспокоился. Но тут же услышал его хриплый голос, доносившийся из коридора:
— Дай ему, дай ему, Стах!
Старик играл с детьми.
Горела тусклая лампа, подвешенная на стене. Два набитых соломой тюфяка лежали на полу, придвинутые друг к другу.
На маленькой кирпичной плите что-то варилось в кастрюле; пар поднимался клубами, и казалось, будто в комнате осело облако дыма.
Рядом с маленьким окошком стоял низкий столик с сапожным инструментом, приготовленным для работы; под столиком валялись старые башмаки; тут же стоял трехногий сапожный табурет. Кроме еще одного стола, деревянной скамейки и плетеной корзины, в комнате ничего больше не было.
На грязных стенах, покрытых от сырости темно-зеленой плесенью, висели портрет святой пары, Христа и Марии, и цветные картинки с изображениями польских национальных героев, таких как Костюшко, Понятовский, Пилсудский[5] и других, вырезанные из какого-то журнала.
Я устал, измучился и насквозь промок. Я быстро скинул с себя пальто, снял башмаки и упал на тюфяк, укрывшись растрепанным ватным одеялом, которое лежало на нем.
Я не мог заснуть; запах вареной картошки пробудил во мне голод, желание съесть суп, что-нибудь горячее, чего я не ел уже тринадцать дней.
— Король, король, даруй ему жизнь! — доносились из коридора детские голоса, сопровождаемые топотом множества детских ног.
Старый сапожник постоянно играл с детьми в солдаты. Он слегка тронулся умом, этот старик. Это было особенно явно, когда он говорил о войнах. Всякий раз, когда у него находилось время, он играл с детьми, которых всего — из обеих семей — было восемь человек.
Когда он командовал детьми, его истинно польские усы гордо топорщились, глаза горели, грудь топырилась, изо рта вырывались пламенные приказы, и он все время пел:
— Марш, марш, Домбровский![6]
Едва я лег, как строевым солдатским шагом вошел старик с горящими глазами. За ним строем шли дети с бумажными шапками на головах и деревянными ружьями на плечах, ведя окруженного со всех сторон маленького семилетнего Фабианека, у которого не было ни ружья на плече, ни бумажной шапки на голове.
Не замечая меня, старик неторопливо, «церемонно», уселся на трехногий сапожный табурет.
Дети, вытянувшись в струнку, встали около него и, приставив пальцы ко лбу, стали отдавать честь, салютовать.
Один светловолосый мальчик с испитым, бледным, как картофельный побег, лицом сделал два шага вперед.
— Король, что нам делать с побежденной Германией? — промямлил он заученные слова, пальцем указывая на маленького «пленного» Фабианека, которого двое детей крепко держали за плечи.
Фабианек, слабый ребенок с тонкими, длинными, рахитичными ножками и бледным, ко всему безразличным лицом идиота, наивно глядел на всех своими вытаращенными большими водянистыми глазами.
«Король» поднялся с сапожного табурета и произнес пламенным тоном:
— Что нам делать с побежденной Германией, мои верные солдаты? Нужно раз и навсегда вырвать ее тигриные клыки, нужно раз и навсегда ее уничтожить!
Он торжественно и серьезно опустил голову на грудь и задумался, затем поднял руку и с воодушевлением воскликнул:
— Во имя меня, короля великого Царства Польского, во имя шляхты и всего польского народа, во имя единого Бога и посланного Им Спасителя Иисуса Христа я выношу смертный приговор кайзеру побежденного Немецкого царства! Ныне сгинет извечный враг Польши, который тысячи лет пожирал лучших ее детей — сильнейших сынов святого польского народа!..
Манера речи, пламенный гнев и дикое воодушевление, скрытые в его голосе, нагнали на детей страху. Лица их сделались серьезными, испуганными и бледными.
Маленький «пленный» Фабианек, который начал понимать, что он и есть тот самый немецкий кайзер, задрожал; на его лице появилось выражение беспомощности и страха.
Фабианек действительно был немцем.
Во время оккупации Польши[7] его мать Стефа жила с немецким унтер-офицером и от него родила Фабианека.
Фабианека все ненавидели и презирали. Особенно глубоко его ненавидел старый сапожник.
Каждый бил, клял и мучил Фабианека. Иначе как Швабом его не называли. Если что-то пропадало, говорили: не иначе Шваб стащил; что-то ломалось: это Шваб натворил.
С трех лет несчастный ребенок перестал плакать, будто осознав, что плач ему не поможет. Своей детской душой и разумом он понял, что всякий может его бить, клясть и поносить, потому что он — шваб, немец.
Страшно и стыдно было глядеть на то, как дети или взрослые его бьют.
Ребенка били кулаком, ремнем, палкой и всем, что попадалось под руку.
Фабианек сносил побои молча, тихо и безропотно. Его глаза умоляли прекратить, но в них ни разу, насколько я помню, не появилось ни слезинки, ни следа, ни проблеска слез.
Он был слабым мальчиком с узкой грудью и большой круглой головой на тонкой и длинной шее.
Поскольку дети стыдились с ним играть, он привык быть один, сам с собой, держась в стороне ото всех.
У него были свои потайные, темные уголки, где он играл один, делал кукол из теста, лепил из глины человечков и зверей.
Когда дети ловили его в этих укрытиях и ломали или отбирали его кукол, человечков и зверушек, он делал вид, будто его это не касается, и молча, не моргнув глазом, не спеша, вставал и уходил на поиски другого укрытия, чтобы заново натащить туда теста и глины и заново налепить человечков, лошадок, львов и котят.
На его тупом, почти неподвижном, застывшем лице не видно было ни малейших признаков боли, досады или огорчения.
Из его души было вырвано всякое желание, всякая воля к сопротивлению, к тому, чтобы не давать себя донимать и мучить.
Я заметил, что этот ребенок убегает от солнца, избегает дневного света, словно боясь, что в ясном свете солнца его увидят; увидят его, Фабианека, которого никто не должен видеть, который обязан ото всех держаться подальше, потому что он — Шваб.
Его тянуло в темноту, в тень, ко всему, что напоминало о ночи и укрытии.
На его лице не было ни капли солнца, ни следа дня и света.
Он был своего рода человеком-червем, который вечно должен находиться в темных уголках, скрытых местах, потаенных щелях.
Мне, лежащему на тюфяке, было любопытно посмотреть на то, что произойдет с несчастным ребенком.
Глаза старика становились все более дикими, блестели все ярче; они источали ядовитую ненависть.
Его непреходящая вражда к немцам, которых старик проклинал при всякой возможности, распалила его сердце так, что не осталось ни капли рассудка.
— Они разрушили нашу страну! — продолжал он кричать хриплым, возбужденным голосом. — Нашу святую страну, которую Христос благословил всяким благом и изобилием; нашу королеву Ванду[8] они загнали в волны Вислы; сотни лет держали они нас в порабощении и вечно замышляли нас истребить, стереть с лица земли; они послали христианскому миру сатану Мартина Лютера, дабы отравить чистую христианскую веру!
Его воодушевление росло с каждой минутой.
— Боже! — старик внезапно упал на колени перед иконой. — Я прославлю имя Твое до края земли, ибо теперь предал Ты в руки мои врага моего. Восхвалю Твое величие везде, где являет свое сияние солнце, и во всяком месте, где встречу свет дневной, вознесу Тебе молитву! — провозгласил он богатым, сочным, поэтическим языком душевнобольного и, сложив молитвенно руки, склонился перед иконой.
От изумления и ужаса «солдаты» оцепенели и, разинув рот, с замершим от страха сердцем, не отводили взгляда от старика.
Двое детей, державших «кайзера» за плечи, еще сильнее и глубже вдавили пальцы в его тело, прикрытое только грязной рваной рубашонкой и драными штанишками, подвязанными веревкой.
Фабианек наконец понял, к чему идет дело.
Лицо его побелело, как у покойника. Оно оцепенело от ужаса, рот искривился, глаза еще сильнее вылезли из орбит, а зубы застучали.
Быстрым движением старик поднялся с колен, прыгнул, как кот, к плетеной корзине и достал из нее белую простыню и толстую веревку для развешивания белья.
Он взял простыню и прибил ее гвоздями к стене, потом привязал веревку к водопроводной трубе, оставив на конце две петли.
— Ведь это ужасно! Он действительно собирается повесить мальчика! — вскрикнул я на своей лежанке.
Но никто меня не услышал.
— Давайте его сюда! — вопил старик, распаляясь и скрежеща зубами.
Плохо пришлось бы тому ребенку, который сейчас бы ему не подчинился!
Я застыл, не зная, что делать.
Дети подвели «кайзера» к старику.
Фабианек трясся, как в лихорадке, и дрожащим, обмирающим взглядом смотрел на веревку, на простыню и на перекошенное, пылающее лицо старого сапожника.
Нижняя губа мальчика дрожала, а на гладком, круглом лице в уголках рта застыли две маленькие морщинки, изображавшие несказанное отчаяние.
Он понял, что эта веревка приготовлена для того, чтобы его повесить.
Однако он не мог понять, чем же это он так сильно провинился на этот раз, что ему полагается такое наказание, такое суровое, ужасное наказание.
В тусклом свете маленькой висячей лампы лицо старика было окружено красноватым ореолом, и в давящей тишине, в которой отчетливо и громко был слышен стук детских сердец, крылось потаенное ожидание чего-то ужасного.
Ощущение мучительной тяжести, которое есть в каждом подвале, на который налегли три этажа камней, бетона, дерева, извести, стали и людей, стало еще тяжелей и темней.
Не отрываясь, помертвев, восемь детей смотрели взглядами, нацеленными будто копья, вслед движениям старческой руки, вслед движениям его пальцев, его налитого кровью и ненавистью лица, следили за каждым словом, которое вырывалось из его груди, и за каждой мыслью, которую можно было распознать по выражению лица и обрывкам слов.
Тик! Так! — в глубокой мучительной тишине послышался звук часов на этаже, расположенном над подвалом.
Внезапно Фабианек вырвался из рук охранников, упал на землю, принялся биться своей большой головой с редкими белобрысыми волосами о каменный пол и дико, душераздирающе реветь, как теленок, который убежал из-под ножа с наполовину перерезанным горлом.
В этом крике отчетливо слышались странное, животное отчаяние, неистовый, надрывный, идущий из глубины души страх смерти, невыразимая, трепещущая детская мольба о милосердии и жизни.
Этот крик еще сильнее разъярил старика с отравленной ненавистью кровью, еще сильнее взбудоражил его и опьянил. Тусклые, серые, как мох, редкие волосы на голове встали дыбом; усы сделались угловатыми и заострились, как два мышиных хвоста; крылья красного носа раздулись, словно извергая языки пламени. Старик раскрыл свой широкий перекошенный рот и, глядя на Фабианека, который ревел и бился головой о каменный пол, разразился диким, судорожным, прерывистым, астматическим смехом:
— Хи-хи-ха! Хи-хи-ха! Так… так умирает кайзер Вильгельм Второй[9]!.. Кхе, кхе, кхе!.. — тут он закашлялся, сотрясаясь всем телом. — Ха-ха-ха!.. Мне стыдно за тебя перед твоими предками, которые смогли одолеть царство Юлия Цезаря, могучий Рим.
Он согнулся над маленьким Фабианеком, который лежал, прижав голову к полу, и выл, как собака.
— Ну, ваше величество, Вильгельм Второй, император Германии и король Пруссии, зинген зи маль[10]…
Дойчланд, Дойчланд Ибер аллес, Ибер аллес ин дер вельт!..[11]Старик запел на ломаном немецком языке, пренебрежительно и насмешливо.
Между словами он делал паузы, во время которых кашлял, отхаркивался, хихикал и хрипел.
Внезапно он утомился, расправил грудь и строго выкликнул:
— Маршал Фош![12]
Никто не отозвался. Все дети стояли, не двигаясь, словно окаменев, словно неподвижные мертвые куклы, с которыми играл живой сумасшедший старик. Они не понимали, на каком они свете.
Я, ошеломленный и застывший от страха, продолжал лежать на своем тюфяке.
Он что, действительно повесит мальчика?
Сам дьявол предстал перед моими глазами, облаченный в доспехи из пламени и ненависти.
— Маршал Фош! — снова воззвал старик строгим, угрожающим тоном самого главного начальника, бросая при этом на детей гневные, предупреждающие взгляды.
После второго вызова маленький мальчик с узким личиком, острым подбородком и узким лбом, похожий на голодную церковную мышь, предстал перед стариком и в страхе заученно поклонился:
— Слушаюсь, ваше величество!
Старик ответил на приветствие искривленной ухмылкой, обнажив свои желтые, гнилые «королевские» зубы, а затем снова воззвал:
— Генерал Юзеф Пилсудский, главнокомандующий польской армии!
Другой мальчик с круглым позеленевшим лицом цвета неспелого осеннего яблока точно так же, как первый, поклонился и сказал:
— Слушаюсь, ваше величество!
Старик снова расправил плечи, слегка откинул голову, откашлялся и громко сказал:
— Фельдмаршалу Фошу и генералу Юзефу Пилсудскому я предоставляю великую честь вести к виселице Вильгельма Гогенцоллерна, императора Германии и короля Пруссии!..
Оба «генерала» чуть не упали со страху.
Усмешка застыла на распаленном морщинистом лице старика, сделав его похожим на маску черта.
— Я понимаю, господин генерал, что в вашем отечестве для подобных вещей предпочитают гильотину, которую вы считаете своим национальным достоянием. Я, однако, полагаю, что было бы преступлением против Бога и против Франции, если бы под лезвием гильотины, которое обезглавило благородного короля Людовика Шестнадцатого, упала голова Вильгельма Второго, которого можно сравнить с обычным пиратом и лесным разбойником. Такому и веревка сойдет!
«Маршал Фош» засунул палец в рот, не поняв ни слова из сказанного стариком. Его колени непрерывно дрожали. «Пилсудский» вытянулся в струнку и от страха даже не слышал, что ему говорят. Остальные мальчики застыли, точно окаменели от колдовского заклятия.
Старик пылал в огне своего безумия, душа в его теле горела, как фитиль в керосиновой лампе.
— Приведите кайзера! — приказал он кратко и резко.
«Пилсудский» и «Фош» подошли к Фабианеку, нагнулись к нему, осторожно и мягко коснулись его плеч и тихо позвали:
— Вставай! Вставай!
Фабианек повернулся и посмотрел на мальчиков мутным, тупым взглядом. В его глазах не было ни следа слез, только рот его был вывернут и перекошен, словно от какой-то глубокой странной боли.
Тонкая, белесая пленка грязной слюны засохла на его узких, плотно сжатых губах.
Он приподнял голову и оглядел всех взглядом, выражавшим смятение теленка, получившего первый оглушающий удар мясника. В глазах «маршала Фоша» и «Юзефа Пилсудского» показались слезы.
— Дедушка, дедушка, подари ему жизнь! — бросились они с мольбой к старику.
Старик в страшном гневе сорвался с места. Слово «дедушка» низвергло его из вымышленного, светлого, прекрасного королевского мира в настоящее, в отвратительную бездну нищеты и горькой нужды. Слово «дедушка» пробудило его от удивительного сна о власти и богатстве, сломало и уничтожило воображаемый королевский трон.
— Какой я вам дедушка, а?! — закричал старик, топая ногами, и стал рвать на себе волосы. — Ваш дедушка — старый сапожник, калека, ничтожество, пьяница!.. От бед и горестей, мук и огорчений он давно уже помер, потому что солдаты Гинденбурга сделали из его дочери уличную девку, курву!.. Ваш дедушка похоронен за оградой, потому что всю свою жизнь он латал сапоги и никогда не жил праведной христианской жизнью. Он свел свою жену в могилу, оставив ее без капли молока, чахоточную, выхаркивать легкие в сыром подвале… Нет, нет! Я не ваш дедушка!.. Я польский король… Почет мне и уважение!.. Отдавайте честь, трепещите, падайте на колени!.. Я прикажу вас разорвать на куски, ублюдки, черти, цареубийцы, заговорщики, негодяи!..
Старик кипел от гнева и ярости. Он топал ногами и скрежетал зубами; от великой ярости сжатые в кулаки руки чуть не выскакивали из суставов.
Его багровое лицо искривилось, сморщилось и выглядело как искореженная маска, на которой нос, рот и глаза не остались на своих местах, а перемешались друг с другом, чтобы выразить нечеловеческий, безумный, неимоверный, ужасающий гнев.
Внезапно одним прыжком, как волк, он бросился к веревке, висящей на водопроводной трубе, схватил ее трясущимися руками, а другой сжал пальцы мальчика Фабианека.
Я больше не мог терпеть.
Я вскочил со своей лежанки и изо всех сил ударил старика кулаком в грудь. Он, взмахнув руками, повалился на пол, как подрубленный. Его тощая, костлявая грудная клетка отозвалась хриплым вздохом.
Дети громко заплакали. Этот плач становился все громче.
Минуты две старик лежал без признаков жизни. Пенистая жидкость вытекала сквозь его сведенные губы. Все его тощее тело не шевелилось, лишь мизинец правой руки сгибался, подергиваясь.
Я стоял, будто вовсе лишившись рассудка. Глядел то на плачущих, до смерти напуганных детей, то на старика.
Внезапно он поднял на меня глаза; не припомню, чтобы мне приходилось видеть такие.
В дырах подо лбом застыли вытаращенные белки закатившихся глаз, очерченные узкими полосками темной, грязной, гнилой крови; нижние ресницы на левом глазу прилипли к белку и поблескивали на закатившемся глазу, как тонкие, узкие, едва заметные брызги.
— Антихрист, убийца, сатана! — принялся орать старик диким голосом, быстро и из последних сил, чтобы успеть выкрикнуть все те проклятия, которые еще таились у него под сердцем и на языке.
Я надел свою солдатскую шинель и вышел из комнаты, сопровождаемый стариковским криком и детским плачем.
Поднявшись из подвала наверх во двор, я услышал топот детских ног. Я понял, что дети разбежались.
3
Худшим в истории с «польским королем» было, однако, то, что мне теперь снова негде было ночевать. Вернуться на ночлег к старику было невозможно. Его сумасшедшая гордость не допустила бы, чтобы в его комнате находился человек, поднявший на него руку. Тем более, если бы он узнал, что этот человек — еврей.
Дождь перестал. Из северной части города пришел колючий ветерок, предвестник зимы, и принялся сушить мостовую и асфальт тротуаров.
Сделав пару шагов, я ощутил что-то вроде щекотки в правой руке. Сперва я подумал, что меня кто-то останавливает, обернулся, но увидел нечто совсем простое: от рукава моей изношенной солдатской шинели оторвался лоскут, тем самым предоставив ветру свободный доступ к моей грубой солдатской рубахе из толстой фланели.
«Откуда новая прореха?» — возник вопрос в моей голове.
В последние дни на моей шинели стали, откуда ни возьмись, появляться прорехи, будто язвы на больном теле.
Порой случалось, что мне подолгу приходилось стоять и размышлять, где и обо что я зацепился и порвал шинель. Я мучился в раздумьях, пытаясь припомнить все места, в которых побывал за день, за последние два дня. Но все же я никак не мог сообразить, где порвал шинель.
Удрученный, я пришел к выводу, что прорехи знаменуют собой в моей безотрадной жизни что-то вроде новой напасти, среди прочих, которые преследуют меня на каждом шагу — теперь они даже истязают мою верхнюю одежду.
Похолодало. Единственным средством, помогавшим от холода, было пуститься в долгую беседу с самим собой.
Мысли обо всякой небывальщине, о разных глупостях заставляли меня на долгие часы забывать о том, что холодно, что скоро наступит настоящая зима.
Смех разбирал меня от того, как удивительно умно и хитро человек может одурачить свои холодные руки, свое промерзшее тело, мечтающее согреться в постели.
Я ходил по улицам уже несколько часов. Настал час, когда запирают ворота. Тяжелые хриплые вздохи железных ворот и ржавых ключей доносились отовсюду.
Как странно!
Мне показалось, что это меня запирают на безлюдной, чужой улице, на которой я никогда не обрету теплой постели.
Уже четыре с лишним года, с тех самых пор как меня забрали в солдаты, я не ощущал мягкого прикосновения пухового одеяла.
Бряканье ключей зло и ядовито отдавалось в ушах — меня заперли на улице… Мне только и оставалось, что брести из улицы в улицу…
Куда бы пойти переночевать? Если бы у меня было триста марок, я бы отправился к одному еврею у вокзала, у которого ночевал несколько дней после демобилизации, когда у меня еще оставались какие-то деньги.
Холод пробирал до костей. Кроме того, мною все еще владела легкая лихорадка, возбуждение от истории с «польским королем». Я дрожал, мне казалось, что волосы по-прежнему стоят у меня дыбом.
Где бы раздобыть триста марок?
Спустилась тьма, ветер раскачивал деревья.
— Ты пропал, — сказал я сам себе. — Хоть разорвись — ничего тебе не поможет, ты погибнешь на улице!..
На пустой улице показалась тень человека. Я с безотчетной радостью побежал ему навстречу, будто это мой добрый друг пришел ко мне на свидание.
Это была женщина средних лет. На ней была шляпа с широкими темными полями, которые закрывали лицо. В правой руке она несла плетеную кошелку.
Я поприветствовал ее:
— Добрый вечер, сударыня!
Она не ответила на мое приветствие, лишь раскрыла рот от страха, глядя на меня с большим подозрением.
— Вы несете такую тяжесть? Как может женщина тащить такую тяжесть? — сказал я, сам не понимая, что говорю, и взял в руки плетеную кошелку.
Она испуганно вскрикнула, оставила кошелку в моих руках и пустилась наутек.
От изумления я застыл на минуту у кирпичной стены.
— Меня принимают за грабителя!.. Должно быть, я выгляжу очень «благородно»!.. — буркнул я и прибавил шагу, пытаясь догнать женщину.
— Извините, сударыня! — крикнул я изо всех сил, чтобы напуганная женщина, находившаяся уже на приличном от меня расстоянии, услышала. — Извините, я не грабитель, не разбойник, нате вашу кошелку!
— Ага, захотели забрать те несколько злотых, что у меня есть? Полиция! Полиция! — закричала она испуганным голосом.
Вокруг не было ни души. Куда ни глянь — никого.
— Клянусь вам всем, что для меня свято, — заговорил я с ней, — я не собираюсь вас грабить!
— Знаем мы вас, знаем мы вас, негодяев!.. Хотите меня ограбить, так не надо делать вид, будто бы вы приличный человек… — вышла она из себя.
Несколькими короткими перебежками, как учили в армии, я добрался до нее, силой нацепил ей на руку кошелку и пошел обратно.
Когда я уже отошел от нее на несколько метров, она остановилась, развернулась, поразмыслила и крикнула мне вслед:
— Подойдите, молодой человек, подойдите!
Я подошел к ней. Она внимательно смерила меня взглядом, рассмотрела мое лицо сквозь синие очки, которые были едва видны из-за широких полей глубоко надвинутой шляпы. Затем открыла ридикюль, достала банкноту и сунула ее мне.
— Возьмите, молодой человек!.. Возьмите!.. Вы ведь, кажется, солдат? А, были солдатом?.. Вы должны меня простить за то, что я приняла вас за грабителя… Вы ведь ужасно одеты, да и лицо у вас жуткое… А кроме того, ночь, тишина, плохое освещение… К черту этого нового министра!.. Только и делает, что замышляет новые войны, а бедные солдаты мрут с голоду! — быстро и прерывисто сыпала она словами, хотя страх еще не совсем исчез с ее лица. — Вы действительно не грабитель? Ведь это чудо Господне! Выглядите так, будто у вас уже три дня ни крошки во рту не было… К черту этого нового министра!.. Выглядите, как мертвец, как курица ощипанная, которую зарезали, чтобы она не сдохла от болезни, вот как вы выглядите… Вы обязаны дать отдых вашим молодым костям, ведь так можно подцепить чахотку, неизлечимую болезнь… К черту этого нового министра!..
Она махала руками, раскачивалась всем телом, захлебывалась словами, повторяя «к черту этого нового министра» как проклятие, как ругательство. В конце концов, убедив себя в том, что я не грабитель, она мягко взглянула на меня и дала мне нести свою кошелку.
— Вы не хотите брать денег даром — это очень порядочно с вашей стороны, молодой человек!.. Очень порядочно с вашей стороны, что вы меня не убили… Очень порядочно с вашей стороны, что вы не стали грабителем… С другой стороны, что бы вы получили, убив меня? Всего у меня при себе тысяча марок. Моя обувь стоит пять тысяч марок, белье, блузка, юбка, чулки и шляпа — еще пять тысяч марок. Сыр и масло, которые я несу от своего свекра из деревни — четыре тысячи марок. Всего выходит двадцать четыре тысячи марок… А ведь из-за двадцати четырех тысяч марок вас бы расстреляли по приговору военного трибунала!..
Меня рассмешила ее болтовня. Она удивилась моему смеху, приподняла очки и сморщила короткий нос.
— Смеетесь, молодой человек, не верите? Зайдите ко мне, я покажу вам «Курьер» от восемнадцатого августа. Там на целой странице описывается, как некто Михал Квичик из деревни Шнядев украл у крестьянина Антония Щупарека тринадцать тысяч марок и получил за это смертный приговор от военного трибунала в Плоцке… И расстреляли ведь… Украл-то он всего-навсего тринадцать тысяч марок… — Вдруг на ее лице появилось такое выражение, будто она вот-вот расплачется. — Эх, эх! — вздохнула она. — Молодых людей, детей, сосунков восемнадцатилетних, схватили — и на войну… Там они выучились убивать, стрелять, резать друг друга… Вернулись без Бога в сердце, никчемные, дикие, распущенные… Слоняются по улицам, словно хищные птицы, готовы за тысячу марок шею человеку свернуть, горло перерезать… Каждый день на стенах появляются красные плакаты: декрет… трибунал… смертный приговор… Прокурор Шмидт… К черту этого нового министра!.. Жалко несчастных детей… Молодой человек, — внезапно сменила она тон, — вы даже не знаете, как я вам благодарна за то, что вы не стали грабителем!..
Ее бледное лицо на этот раз по-матерински выражало восхищение и удовлетворение. Она, не отрываясь, смотрела на меня довольным взглядом как на кого-то, кто оказал ей непомерную услугу. Страх полностью исчез, и она выглядела доброй, слегка рассеянной.
Перед высоким зданием женщина меня остановила.
— Вот тут я живу, — сказала она.
Я протянул ей кошелку. Она снова вручила мне бумажку. Я молча ее взял. Мне пришло в голову попросить ее о ночлеге.
— Может быть, сударыня, вы пустили бы меня переночевать? Я улягусь на голом полу, ничего, мои кости привыкли к земле. Война приучила ко всему, — сказал я с деланной удалью.
Она глубоко вздохнула и покачала головой.
— Нет, молодой человек, я живу с мужем и детьми в одной комнатушке, сторож нас ненавидит, уже завтра он раструбит на весь двор, что Войчикова приводит ночью солдат. Нет, я не могу, нет!
Она снова открыла сумочку, достала еще одну купюру и протянула мне.
— Возьмите, молодой человек, возьмите, это вам на ночлег… Если будете сильным, продержитесь до тех пор, пока сами не начнете зарабатывать себе на кусок хлеба. Такой молодой человек, как вы, не пропадет, ведь не среди волков живем!
Она взяла мою руку в свою и почти со слезами произнесла:
— Будьте здоровы, молодой человек, не вставайте на скользкий путь, не всегда будет так, как сейчас. Будьте здоровы! Если вам понадобится помощь, приходите ко мне. Я живу тут, на третьем этаже, вон то окошко с зеленой занавеской, — она указала пальцем. — Ни одному нуждающемуся я еще ни разу не отказала. Адье, милый человек! Не забудьте меня как-нибудь навестить!
Меня тронуло ее благородство. Я ответил ей теплым рукопожатием и ощутил, как мое окаменелое одиночество меня отпускает.
— Благодарю вас, сударыня! Благодарю вас!
— Погодите, я кое-что сброшу вам из окна! — крикнула она мне вдогонку. — Вернете в лучшие времена…
Сторож в белом овчинном тулупе с высоким, полностью прикрывавшим голову воротником, из которого выглядывали сонные зенки, открыл ворота.
— До свидания, молодой человек! — крикнула она в последний раз и исчезла за тяжелыми, скрипучими воротами.
Вскоре на третьем этаже открылось окно, окно с зеленой занавеской, и показалась голова женщины в синих очках.
— Осторожно! — крикнула она и кинула мне сверток, обернутый газетой.
— Адье! — еще раз вздохнул ее голос, и окно закрылось.
В свертке были кусок сыра, масло и хлеб, завернутые в большие зеленые листья, еще пахнущие свежестью осенней деревни.
Со свертком под мышкой я принялся искать себе ночлег.
Внезапно я заметил, что нахожусь возле дома сапожника. Ворота были открыты. Сторож забыл их закрыть.
— Спущусь-ка я посмотреть, как дела у старика! Почем знать, не пришиб ли я его?
Быстрыми шагами я вошел во двор. Тихо и осторожно я встал во дворе около подвала, нагнулся к маленькому подвальному оконцу.
В комнате никого не было, никого, кроме старика, который, застыв, стоял на коленях перед иконой.
Я испугался. Кто его знает, не прощается ли он с жизнью? Вероятно, я слишком сильно ударил его кулаком в грудь! Зачем я влез не в свое дело? Он же сумасшедший, по крайней мере, полусумасшедший! Я ведь мог его обезвредить иначе: просто выгнать детей и забрать веревку.
Прошло пять-шесть минут, старик все еще стоял на коленях перед иконой. Может, он так и умер, застыв? Я слышал, что можно умереть в неподвижной позе. Так долго молиться ночью — я не помню, чтобы такое случалось за все то время, что я у него ночевал.
Внезапно он встал, потер руки и подошел к плите. От горячего пара его короткое дыхание перешло в кашель, и он, вытерев усы, взял тряпку, снял с плиты кастрюлю с картошкой, слил воду и выложил картошку на жестяную тарелку.
— Слава Богу, он жив! — вздохнул я с облегчением.
Где-то между корытами он отыскал кусок селедки, уселся за стол и, обнажая желтые зубы, принялся за еду с таким воодушевлением, что я невольно рассмеялся:
— Нет, я спущусь в подвал!
Я постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, резко распахнул ее, оставшись стоять на пороге.
Увидев меня, старик странно скорчился от страха, но тут же пришел в себя и завопил истошным голосом:
— Вон отсюда, убийца, коммунист, цыган! Вон!..
Я попробовал что-то сказать, но по выражению его лица и крику понял, что мне не удастся переночевать у него, и, недолго думая, вышел из подвала и поднялся на улицу.
Я набросился на еду, как саранча, и вскоре проглотил весь хлеб и масло.
Я был сыт, совершенно сыт! Тут же, однако, я почувствовал сильную усталость, особенно в коленях, ноги будто налились свинцом. Я побродил еще с полчаса по пустым закоулкам, пока не подошел к православной церкви. Я уселся на верхней ступеньке, прислонившись спиной к мраморной колонне, поддерживавшей сводчатую крышу навеса.
Минуту-другую перед моими глазами стояла краснокирпичная стена, которая закрывала половину темно-синего тусклого неба. Потом я уже ничего не видел. Я заснул, ощущая, что сижу на айсберге, а ноги мои вморожены в две горные льдины.
Когда я открыл глаза, уже близился день. Неведомо откуда пробивались яркие волны света и исчезали в ночной синеве, в которую все еще был погружен город.
Все те же уличные птички пели на толстых церковных колоннах и мраморных ступенях, весело и бодро прыгая на своих тонких ножках. Они поднимали головки и рассматривали меня своими маленькими зоркими глазками, как нового гостя.
Рядом резко открылось окно, и показались растрепанная светловолосая женская головка, заспанное лицо и полуголая спелая грудь девятнадцатилетней девушки.
Она недолго купалась в холодном рассветном воздухе и быстро захлопнула окно.
Это она, наверное, проверяла сегодняшнюю погоду…
Немного погодя открылась дверь круглого крытого балкона с никелированной балюстрадой. Человек лет пятидесяти вынес табуретку и уселся на балконе. Его огромные легкие в широкой груди заходились в тяжелом астматическом кашле. Глаза уставились неподвижно, безжизненно и выглядели как пуговицы. Всякий раз, задохнувшись от кашля, он резко тряс головой, будто хотел сбросить ее со своих плеч и тем избавиться от астмы.
Мужчина кашлял так резко и звонко, что, казалось, телефонные провода на улице дрожат и отзываются эхом. У него был толстый, красный и складчатый, как грецкий орех, загривок. Кашляя, он хватался за шею, будто хотел сорвать веревку, которая его душит и не дает вдохнуть.
На другом балконе сидел мужчина с маленькой подстриженной бородкой. На его плечи был накинут красно-серый шлафрок, на ногах — мягкие желтые сафьяновые тапочки. То, что шлафрок был старым, вероятно, сшитым еще до свадьбы, было очевидно: он не прикрывал ни толстый живот, ни обширную грудную клетку, которые могли так разбухнуть только за много лет. Кашлял он тихо, но непрерывно, без передышки.
— Гутен таг, герр Фишер[13], — поздоровался по-немецки тот, который сидел на первом балконе.
— Гутен таг, герр М… — ответил ему второй, вынимая из коробочки пилюли и отправляя их в рот.
— Эта астма, она гонит меня из постели!
— Да, это ужасно!
— Вы принимаете пастилки «Пингвин»?
— Да, только не помогает… Они не те, что были до войны… Это военный эрзац… Я уже двадцать лет их принимаю, герр М, — ответил второй на смеси немецкого и еврейского. — Гадость первый сорт… Я их выкинул, а перед войной они были настоящими…
— Йа, герр Фишер![14]
И оба, сдерживавшие кашель во время разговора, теперь закашляли в один голос еще сильнее, захрипели и завздыхали, отчаянно встряхивая головами:
— Йа, герр М!
— Йа, герр Фишер!
Стало светлее. Разрозненные облака и тучи, слонявшиеся по небу, точно они заблудились или запоздали, таяли под лучами выползавшего с востока солнца. Я, совсем застыв от холода, встал и принялся, чтобы согреться, расхаживать быстрым шагом… Показались ночные сторожа и стали мести улицы. Рабочие с синими термосами под мышкой молчаливыми толпами шли на фабрики, потягиваясь со сна.
4
Широкие скамейки на длинной парковой аллее были заняты бедно одетыми людьми. У одной скамейки собралась кучка рабочих и демобилизованных солдат. Шел разговор, в котором каждый имел слово. Я присмотрелся к говорящим, прислушался, о чем у них идет речь. Один из рабочих, худой, с блестящими глазами, худощавым и смуглым от загара лицом и растрепанными черными вихрами красивых, густых волос, кипя и раздражаясь до зубовного скрежета, говорил:
— Нам не нужно ехать… Иностранные рабочие живут в бараках… А эти расфуфыренные французские капиталисты обходятся с ними как с заключенными…
— Ложь! Я сам получил письмо от брата из Франции. Он под Верденом, работает по девять часов, после работы пьет вино и спит с француженками даром, — вмешался второй, постарше, добродушный блондин с маленькими светлыми усиками.
Все рассмеялись.
— Да, — все еще кипятился чернявый. — Франция поставляет всему миру пудру, вино и проституток. Сходите в здешнее ночное кабаре «Ка-карду», увидите сплошь распутных француженок. С женщинами эти французы — герои, все донжуаны, так это у них называется. А работать ленятся, спят до полудня и едят на завтрак несвежие сардины с кислым бордо… На наших рабочих смотрят как на африканских негров… «Работай, работай, пока силы есть, ты не создан ни для чего, кроме работы, — ты не француз». А если попросишь не селить тебя в грязном бараке, состроят кислую мину и ответят: «Нельзя так говорить».
— Наглость говорить такое о Франции! — вмешался третий, с серьезным, спокойным лицом молчаливого человека. — Неправда, что в здешних публичных домах есть француженки! Нет, это местные распутные девки выучились изъясняться по-французски и говорят, что они из Парижа. Это просто такой способ вскружить голову развратному гуляке, цену себе набить…
— Эх, велика разница: немец, француз, поляк, еврей — все буржуи сосут нашу кровь, а потом, когда уже нет сил работать, говорят, что ты со своей женой и ребенком можешь хоть головой о стенку биться, — вмешался голодным голосом четвертый, каждая интонация которого выражала тоску по сытному обеду. — Я здесь ничего хорошего для себя не жду и иду записываться. Кто ж такой умник, чтобы заранее понять, хорошо там будет или нет? В гробу я видал всех проституток: немецких, французских, особенно наших — главное, заработать на хлеб и спать в хорошей постели! — Он собрался уходить и, делая шаг, спросил: — Ребята, кто идет записываться?
Почти все встали и пошли, переговариваясь и размахивая руками. Из разговора я понял, что прибыла французская миссия, которая вербует рабочих, чтобы отстраивать разрушенные районы северной Франции.
Вместе со всеми пошел и я. Я был воодушевлен и взволнован — появилась надежда избавиться от всех моих бед.
5
Перед входом в красное фабричное здание стояло человек двести; над ними висел большой плакат:
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ.
В окнах этого фабричного здания торчали ржавые железные решетки, прикрывавшие треснувшие и разбитые стекла.
Прошла пара часов, пока очередь дошла до меня. В первой комнате за письменным столом сидел маленький толстяк с круглым лицом торгаша, который на все — на вещи и на людей — смотрел сухо и холодно, как на обычный товар, который он теперь собирается купить. Его круглый подбородок почти касался груди, словно у него вовсе не было шеи. В короткой толстой руке он держал перо и писал на длинном листе бумаги.
Паспорта у меня не было, поэтому я показал ему демобилизационное удостоверение, в соответствии с которым он записал мои имя и возраст на длинном листе; несколько раз он покрутил и полистал удостоверение, будто что-то выискивая. В конце концов он сказал:
— Здесь не значится ваш адрес!
Да, я ведь совсем забыл, что я нигде не живу! Я спохватился и быстро, без раздумий, назвал адрес сапожника.
— Здесь, — добавил я, — я живу.
— У вас есть какая-нибудь профессия? — затем спросил он, осматривая мои плечи своими маленькими бегающими глазками, которые блестели так же, как его лакированные полуботинки. Казалось, что и те и другие были намазаны одним и тем же кремом.
— Нет, — ответил я, не желая рассказывать, что когда-то вел бухгалтерию в одной, теперь уже закрывшейся фирме.
Мне говорили, что французы плюются, слыша о таких профессиях, как бухгалтер, курьер и тому подобное.
Закончив со всеми вопросами, он своей короткой толстой рукой указал мне направо.
Из первой большой комнаты узкий коридор вел в маленькое, высокое, сводчатое помещение.
Идя по узкому коридору, я ощущал себя застрявшим в горле этого здания. Со стен и потолка свисали старая расползшаяся плесень и паутина, а высокие окна с битыми зазубренными стеклами придавали фабрике вид огромного мертвого зверя, поросшего, как шерстью, этой плесенью и паутиной. В последнем зале стояли двадцать голых мужчин. Они дрожали от холода. Ветер дул сквозь не заделанные в окнах дыры и шевелил их волосы, как увядшие осенние листья. Все молчали и нетерпеливо глядели на дверь. Некоторые злобно ворчали:
— Долго нам тут еще голышом стоять?
Пришедший вместе со мной из парка блондин с маленькими усиками закурил папиросу и отпустил шутку, которая вызвала смех только у трех-четырех молодых рабочих.
— Французики думают, что мы парижские дамочки — иначе не заставили бы нас стоять тут голыми!..
Остальные даже не улыбнулись, они дрожали от холода и молчали.
Через десять минут вошел доктор — высокий, грузный человек с огромной приплюснутой головой, на которой не было ни единого волоса. У меня мелькнула мысль, что на эту приплюснутую голову можно смело поставить чернильницу и написать письмо — прямо как на гладком столе… В его тяжелых, неверных шагах, которые походили на поступь человека, еще погруженного в сон, таилась необычайная лень. Мне на ум пришли слова вспыльчивого чернявого рабочего, и я с первого взгляда понял, что этот человек уже лет двадцать не видел восхода солнца, потому что спит до полудня… Все его лицо, состоявшее из глубоких морщин, среди которых затерялись глаза, толстый нос и широкий рот с толстыми чувственными губами, рассказывало об удовольствии от жареного и соленого мяса, съеденного поздно вечером.
Он, зажмурив один глаз, смотрел на нас сквозь пенсне, осматривал каждого, крутя его, со всех сторон, даже ощупывал мышцы так, как бедные женщины щупают мясо у мясников на рынке.
Я все еще ощущал его потные пальцы на своей спине, когда он отошел от меня.
Спустя короткое время с нами закончили. Мы оделись, вышли в первую комнату и стали ждать. Из всех рабочих не взяли только троих. Среди них был и я.
Вся моя надежда вырваться из могилы сошла на нет. Было обидно, и я почувствовал, что мои руки трясутся от огорчения, от злости и от мысли, что я и дальше буду шляться по улицам, которые уже сидели у меня в печенках, что я и дальше буду искать кусок хлеба и место, где можно приклонить голову. Слезы подступили к глазам, слезы беспомощности и бессилия от того, что я не могу стянуть с себя жесткую, кишащую вшами рубаху, в которую мое тело заключено, как в глухой панцирь, и от того, что этим отказом мне дали понять, что я стою еще ниже, чем все эти голодные, безработные трудяги, что я ни на что на свете не годен и что при всем моем желании и готовности делать все, выполнять любую работу я все-таки лишний.
— Почему я не могу поехать во Францию? — спросил я толстяка, который всех записывал.
По его взгляду я понял, что задал свой вопрос угрожающим и предостерегающим тоном, требующим быстрого, правдивого ответа без всяких рассуждений и отговорок.
— Как вас зовут?
Я назвал свое имя.
Он встал, достал длинный лист бумаги, который уже убрал в узкий шкафчик.
— Евреев не принимаем! — сказал он, вполоборота повернувшись ко мне.
Быстрыми шагами я вышел из фабричного здания.
6
На улице я почувствовал себя лучше. Полуденное солнце висело в сером небе и от скуки играло с оконными стеклами, на которые падали его слабые, бледно-золотистые лучи, дробившиеся на остроконечные искры.
У галантерейной лавки низенький старик грел на солнце спину.
Мимо прошла маленькая девочка с красивыми светлыми волосами, зачесанными назад и заплетенными в две косички с красными лентами. Ее лицо было прозрачным и ясным, как родниковая вода. Она напевала песенку, которую ей, наверное, задала учительница. Внезапно она выронила книжку из пакета с тетрадями и учебниками, который несла под мышкой.
Я нагнулся, поднял выпавшую книжку и протянул ей.
— Спасибо! — сказала она своим чудесным, ясным и звонким голосом и пошла дальше.
Целую минуту я стоял потрясенный. Слово «спасибо» не выходило у меня из головы, как нечто реальное. Ее ясный, звонкий голос, которым она произнесла это слово, продолжал звучать у меня в ушах. Девочка была уже далеко, только в конце улицы мелькали красные ленты в развевающихся золотых косичках, а я все еще слышал, как она говорит «спасибо»…
— Боже мой, как давно мне не говорили таких простых слов!
На этот раз от изумления и тихой грусти я быстро, почти сразу, сообразил, что уже несколько лет, начиная с моего поступления на военную службу, мне никто не говорил такого слова, такого привычного человеческого слова, которое слышишь на каждом шагу. Первый раз за несколько недель, а может, и месяцев я почувствовал простую радость, которая пьянила меня, как вино. Мне стало хорошо, легкость разлилась по всему телу.
Я сунул руку в карман, достал последние три тысячи марок, которые еще оставались от денег, что дала мне та женщина, и поспешил за девочкой.
Пусть купит себе шоколадку, хорошая девочка!
Город, дома, улицы, люди — все, что я видел, показалось мне еще более чужим и далеким, а я самому себе — еще более ничтожным, еще более одиноким и несчастным.
Эта история напомнила мне другую, произошедшую со мной в детстве, когда я был двенадцатилетним мальчиком.
7
Играя с детьми на рыночной площади нашего местечка, я попал под крестьянскую телегу и сильно зашиб правую руку.
Поначалу мама прикладывала к руке компрессы и какую-то темную мазь, которую прописал фельдшер. Никакой боли я не чувствовал.
Но потом больная рука стала зеленоватой, бескровной, и фельдшер велел ехать со мной в губернский город к доктору, потому что иначе я потеряю руку.
Мама заложила серебряные субботние подсвечники и шелковую шаль, которую она, по ее рассказам, получила от бабушки на свадьбу, разжилась несколькими рублями, одела меня в старый овчинный тулуп, мы сели в поезд и отправились в город.
Впервые в жизни я оказался в таком большом городе.
Когда поезд приблизился к городу и тысячи электрических фонарей вспыхнули, словно вечно бодрствующие огни, мне пришлось зажмуриться.
Высунув голову из окна вагона, я чувствовал, как лучи газовых и электрических фонарей пляшут на моей голове и шее.
Локомотив сдавленно и хрипло засвистел.
У нас на рынке крутился больной астмой пес, который, кашляя, свистел и шипел так же одышливо и хрипло, как теперь свистел этот локомотив.
Закрыв глаза, я воображал, что все вагоны тянет такой большой-пребольшой пес. Черные, перепачканные кочегары бьют его кнутами, а он должен тянуть, он должен…
Внезапно мама вскрикнула:
— Сынок, отойди от окна! — и оттащила меня в сторону.
Я совсем позабыл, что еду к доктору и, может статься, мне отнимут руку. Поезд, несколько часов тряски на лавке в вагоне, новые незнакомые люди, одетые во всевозможную одежду разных цветов, незнакомые поля и леса, усеянные ветряными мельницами, лесопилками и блестящими, как зеркало, реками, в которые смотрятся солнце, луна, звезды и облака, прихорашиваясь перед выходом в свет; фонари, улицы, магазины, витрины — все это опьяняло меня и утомляло мои глаза, которые с великим любопытством хотели ухватить и оставить в памяти все на свете, не упустить ни малейшей детали, чтобы было о чем рассказать друзьям.
Мама держала меня за руку и каждую минуту упрекала:
— Ты ведь не смотришь, куда идешь… На людей натыкаешься…
У большого четырехэтажного здания, отделанного лепниной и карнизами, мы остановились. Мама что-то спросила у прохожего, который, подтверждая, кивнул, и мы поднялись по ярко освещенной мраморной лестнице, на которой стояли обитые клеенкой кушетки. У стеклянной двери мы остановились, мама нажала кнопку на двери. Послышались шаги, и дверь открылась.
Светловолосая женщина провела нас в просторную комнату с мягкими, обитыми плюшем стульями. Вскоре вошел высокий, толстый, гладко выбритый господин с красным, бугристым носом. Он был очень похож на писаря гмины[15] пана Гиджяла, который каждое воскресенье и каждый церковный праздник напивался, надевал юбку и блузку, вбегал к Айзику Дозору и тараторил на идише:
— Мазел-топ, Айзик!.. М’эт эсн а хипэ… Х’гей хасэле хобн мит а гутн йид!..[16]
Когда он вошел, мама встала и хотела что-то сказать, показывая на меня рукой. Вошедший перебил:
— Прием стоит пять рублей!
Мама ответила умоляющим тоном:
— Нет, господин доктор, у меня есть только три рубля.
В общей сложности у нее было четыре рубля. Рубль она придержала на расходы.
Доктор вышел, захлопнув дверь с криком:
— За три рубля я не стану марать рук!.. Вы можете идти…
Мама снова села. Она была бледна и печальна. Она смотрела на меня мягко и огорченно, но ее взгляд колол меня, как раскаленная игла.
Вошла светловолосая женщина, которая открыла нам дверь.
— Меньше пяти рублей господин доктор не берет. Напрасно вы здесь.
Мама достала из-за пазухи платочек, развязала его и вытащила две бумажки и серебряные монеты.
Она пересчитала деньги дрожащими руками — было не более четырех рублей.
Все деньги она сунула в руки светловолосой женщине:
— Идите, отдайте это доктору… чтобы спас моего бедного ребенка!.. — Она придвинула меня к себе, крепко прижала к груди и со слезами в голосе произнесла: — Видишь, нехорошо быть бедным!..
Светловолосая женщина вышла. Через несколько минут она вернулась и сказала в дверях:
— Пройдите к господину доктору с вашим мальчиком.
Стоял морозный день конца февраля. Город был закован в белые цепи мороза.
Когда мы вышли из квартиры доктора, было еще холоднее, чем прежде. Тонкий, колючий, мерзлый снег летел наискось, по кривой, будто дыхание замерзшей земли не давало ему упасть на нее, отгоняя ввысь.
Мама держала меня за руку и молчала. Мы долго шли по улицам, а мама все молчала.
Я устал рассматривать дома, витрины, пролетки, автомобили и сани.
Мне очень хотелось есть.
— Мама, я голодный!
Она глубоко вздохнула и опять промолчала.
Мы уже пару часов слонялись по морозу.
Я почувствовал, что мамина рука — словно кусок льда, а лицо у нее — бледное и бескровное, как промерзший снег.
— Почему мы не едем домой? Мы ведь уже были у доктора! — спросил я сам себя.
Тут же до меня дошло: все деньги мы отдали доктору.
Я все понял и больше уже не напоминал о том, что голоден. Я замолчал, как мама.
Так мы, молчаливые и тихие, слонялись по городу. Из улицы в улицу.
Почему мама не убирает от меня руку? Ее рука почти заледенела!
— Мама, мама, тебе холодно?
Она мне ничего не ответила.
Мамины глаза — большие и все время открытые, расширившиеся и заплаканные. Она шла тихо и ровно, как ходят слепые, которые на ощупь выбирают свой путь. Мне показалось, что ее губы шевелятся в молитве.
Мне захотелось плакать. Я знал, однако, что мои слезы причинят маме еще большую боль, поэтому сдерживался и молчал, как она.
Из-за слишком резкого освещения у меня болели глаза, а в голове шумело. От холода мне захотелось есть. Я чувствовал, что мама избегает смотреть на меня. Только ее замерзшая рука прижимается к моей все сильней и крепче.
Мамина холодная, замерзшая рука говорила о том, как велика ее печаль и как сильно она меня любит.
Мы пошли медленнее. Мамины губы шевелились. Теперь я уже ясно и отчетливо слышал, как она произносит молитву.
В черном, длинном, старомодном пальто с блеклыми перламутровыми пуговицами, в накинутой на голову длинной, черной, поношенной шали, из-под которой смотрели большие, задумчивые, молящие глаза на бледном, побелевшем лице, она, идя мелкими, размеренными шажками, выглядела как существо не от мира сего.
На оживленной улице мама остановилась. Минуту-две она смотрела на людей, проходивших мимо нас, потом протянула в холодном воздухе свою белую, маленькую руку.
Смело и неторопливо протягивала она руку к людям и молчала. Город казался мне отчаянно чужим и враждебным. Тысячи огоньков, светлых крапинок газа и электричества на улицах, в окнах, на пролетках и на автомобилях пугали меня, словно горящие глаза бесов.
Несколько грошей упало в мамину белую руку, и каждый из этих грошей замораживал слезу в ее больших, печальных глазах. Я зарылся в мягкие полы маминого пальто, прижался к ней, закрыл лицо и тихо, беззвучно, не говоря ни слова, заплакал.
На этой морозной улице я чувствовал себя одиноким и брошенным.
Мне казалось, что каждый поданный проходящими мимо добрыми людьми грош звенит со сдавленным, глухим отзвуком на маминой руке, как на чем-то замороженном.
— Мама, мама, тебе холодно? — спросил я.
Она не ответила. Не посмотрела на меня. Окаменевшая, застывшая, замерзшая, она протягивала руку во мрак и просила…
8
Так же, как тогда, точно так же, я оказался одиноким и для всех чужим, так же, как тогда, все смотрело на меня чуждо и враждебно, как смотрят стены покинутого обитателями жилья на блуждающего в нем пришельца, как сердито, неприветливо и гневно смотрит в чужом жилье на него зеркало, когда он, походя и невольно, глянет в него.
Я неожиданно понял, что во мне начало отмирать человеческое достоинство, и задрожал от мысли, что скоро меня можно будет каждый день найти на углу, лгущим обывателям, что я был парализован, опасно ранен на войне, и клянчащим милостыню — кусок хлеба или пару грошей.
За последние дни я так настрадался и намучился, рисуя в своем воображении одну и ту же картину: «Быть тебе нищим, или вором, или чем похуже».
Я чувствовал, как краснею, как мое лицо горит от стыда.
Если бы кто-нибудь швырнул мне в лицо хотя бы половину тех оскорблений, которые я наносил себе сам, я бы набросился на него с кулаками.
Человек может относиться к себе как к полному ничтожеству, бранить и оскорблять сам себя и при этом быть ужасно самолюбивым.
Я не любил лжецов, я был слишком одинок, слишком настрадался, не хватало мне еще самого себя назвать лжецом — я ненавидел лжецов, тех, кто лжет, рассказывает небылицы, тех, кто хвастается и превозносит себя до небес.
И тем не менее, я лгал — лгал другим и себе, говорил неправду. Случалось, когда я, в пыли и зное, жарясь на солнце, шел по улице, мне начинали прямо средь бела дня мерещиться возмутительные, дикие истории, в которых я был замешан. Это были ужасные, фантастические истории.
Я подумал, откуда на меня среди ясного, солнечного дня, на самых людных улицах сваливаются такие дикие, отвратительные истории, расцвеченные такими страшными красками, а потом улыбнулся, как тот, кто вдруг догадался о том, что и так давно известно: «Эти истории тебе приснились ночью! Ха-ха, а он и не помнит!..»
Несколько минут мне казалось, что это только сны, сны минувшей ночи. Но затем я уже знал, что это очевидная ложь, что ничего такого мне не снилось. Я тратил минуты и даже часы, чтобы доказать и напомнить самому себе, что все это мне и вправду приснилось, и в то же время отлично знал, что все это ложь. Странно доказывать, что ложь — это чистая правда!..
Эти дикие и неправдоподобные истории были вбиты в меня с такой силой, что заставляли забыть обо всем.
Часто они врывались в мое сознание по нескольку сразу, без всякого порядка, без того, чтобы идти одна за другой. Нет, одна влезала в другую, другая — в третью, и так далее, как в сказках «Тысячи и одной ночи».
Это были тошнотворные истории о любви и ненависти. Часто я шел по улице и плевался от отвращения. Но иногда эти дикие истории были очень комичны. Я мог бессознательно смеяться на ходу, весело смеяться. Попробую рассказать одну из этих историй, одну из смешных.
9
Однажды, идя по узкой, очень узкой улице, я чувствую сильный голод. Денег у меня нет. Дойдя до середины улицы, я вижу булочную. В дверях, которые шире, чем улица, стоит необычайно толстая женщина. Я смотрю на эту женщину издали и смеюсь. Смеюсь и думаю, что эта женщина — владелица булочной, и, если я украду у нее несколько булок и убегу, она меня не догонит, потому что она шире этой улицы. Если же она погонится за мной, ей придется опрокинуть несколько домов.
Недолго думая, захожу в булочную и велю дать мне семь булок. Она достает семь булок, но, прежде чем подать их мне, пристально смотрит на меня. Получив булки, я хочу пуститься в бегство, но ничего не выходит: мои башмаки приклеились к полу! Не успеваю оглянуться, как толстая женщина хватает меня за шиворот, швыряет в свой фартук и уносит в другую комнату. Там стоит печь, такой большой печи я не видел никогда в жизни, и рядом с ней — несколько пекарей с длинными носами и маленькими глазками под узкими лобиками. Толстая женщина бросает меня в пустое корыто и трижды произносит надо мной заклинание:
— Замри! Замри! Замри!
Я лежу как убитый и понимаю, что пекарша — колдунья.
— Коротконосый, — так она меня называет, — хотел нас обокрасть, муж мой, — говорит она.
— Сделай с ним, сама знаешь что, жена моя, — отвечает старший из пекарей.
— Нет, это ты должен нынче показать, на что ты способен, муж мой! — возражает она.
— Будь по-твоему, жена моя! — отвечает муж.
Я лежу в корыте, как распятый, и гляжу по сторонам. Пекари делают тейглах[17], формуют их так, что каждый тейглах похож на какого-нибудь человека. Один — на немецкого солдата, другой — на французского, на болгарского, китайского, турецкого и всяких других.
«Странно, — думаю я, — это, что ли, такая новая мода на выпечку?»
Вдруг замечаю что-то новое: пять пекарей похожи на ангелов. А работа тем временем идет как по маслу. Заквашивают, размешивают, раскатывают и в печь сажают. Вот один вынул противень, полный выпечки, и тут до меня доходит, что я нахожусь в превосходной пекарне. Выпечка выглядит очень красиво.
Француз, англичанин с бакенбардами, американец с трубкой получились чудесно, однако немец, турок и австрияк немного подгорели. У австрияка и турка ноги сгорели дочерна, и пекарь сказал: «Они уже никуда не годятся». А потом добавил: «Возьмемся за этого» — и показал на меня. Он одной рукой вынул меня из корыта, другой рукой взял кусок теста, положил меня в тесто и сделал из меня пирожок. Пирожок он посыпал золотистыми зернами укропа — и посадил в печь. Огонь охватил меня и стал меня жарить и печь. А когда я был готов, пекарь вынул меня из печи, стряхнул с меня золу, ткнул в меня пальцем и рассмотрел. Улыбнувшись, он поднес меня к окну и сказал: «Лети».
Летит золотистый пирожок над странами, реками и морями. Летит себе, летит день и ночь под солнцем и под луной, и нет ему покоя. Прилетает он в страну, в которой все люди носят на голове красные фески, руки у них мускулистые, а лица покрыты от забот и трудов морщинами.
А я все летел и летел, все выше и выше, в облака. Так я играл в догонялки с моими преследователями, пока меня вдруг не схватили. А когда схватили, весь народ очень обрадовался. Пирожок нарезали и разделили, и люди съели окровавленные куски золотистого пирожка…
Такие дикие сказочки сотни раз возникали из глубины моих напряженных раздумий. Среди бела дня мне могли померещиться газеты, радиограммы и большие, просто огромные вывески. И во всех них был некий смысл, и именно он, этот смысл, утешал меня тем, что я еще в своем уме. Я с легкостью мог припомнить, что еще несколько минут назад ощущал, как эти дикие сказочки мутят мой измученный рассудок. Руки у меня дрожали, и все, что находилось рядом со мной и вокруг меня, становилось далеким и чуждым. Часто, когда по ходу истории в ней появлялся лес, я ощущал посреди улицы запах леса.
Я помню, что после того, как эти глупые истории долго держали меня в лихорадке и напряжении, я стал плохо видеть, зрение ослабело, и вообще я чувствовал, что нахожусь неизвестно где.
В тот раз я сидел в парке и постоянно ощущал запах свежих апельсинов. Запах был так силен, что я встал и пошел посмотреть, не растут ли где-нибудь апельсины. Потом я вспомнил, что в той диковинной истории был чудесный апельсиновый сад… Пока я грезил о тенистой стране, солнце внезапно исчезло, и на улице, по которой я шел, стало темно, наступила ночь…
10
В кармане у меня опять не было ни гроша. На последние несколько марок я купил хлеба и селедку и съел их в подворотне. Я был сыт. От соленой селедки хотелось пить. Во рту пересохло, и кожу губ стянуло от сухости. Я отправился в парк, чтобы напиться там холодной воды из колодца. Башенные часы обрушили на город три удара. Небо было ясным, и солнце стало похоже на летнее солнце полудня.
В городском парке на скамейках сидело множество людей и умиротворенно смотрело на последние, по-летнему жаркие лучи солнца, которые оно бросало на дорожки, посыпанные желтым песком и мелкими камешками. Я напился воды и, как обычно, уселся на скамейку лицом к солнцу. Я согрелся. По моей загрубевшей коже прошла теплая дрожь.
Грустно и печально смотреть на то, как в солнечном свете лежат увядшие листья. Я не понимаю христиан, которые обряжают своих умерших в лучшее платье. Беспомощно и глупо выглядит мертвец, и еще беспомощней и глупей выглядит мертвец, на которого родня посмертно напялила белые шелковые перчатки.
Напротив меня сидела барышня. Она, углубившись в чтение книги, слегка наклонила голову так, что между книгой и шляпкой можно было разглядеть только пол-лица, узкий, в ниточку, рот и тонкий нос с дрожащими ноздрями, такой же бледный, как и ее щеки. Она, очевидно, была увлечена чтением. Теперь я мог видеть, что у серьезного читателя читают не только глаза. Каждая черточка, каждый мускул и каждый нерв на ее лице читали. Тонкие жилки на красивых, прозрачных, изжелта-бледных руках дрожали и вздувались. Можно было подумать, что стоит ей увидеть слово, как оно впрыгивает ей в кровь и начинает плясать по жилам.
Вдруг она выхватила платочек из сумочки и поднесла его к глазам. Да она плачет!.. Девушка подняла голову. На меня со смущением взглянули два больших черных заплаканных глаза. Девушка резко поднялась и ушла. Она засмущалась того, что я увидел ее слезы.
Как давно я не держал в руках книгу? Уж и не вспомнить! Желание получить книгу пробудилось во мне с такой же силой, как желание хлеба. Я бы теперь стал читать любую книгу вне зависимости от ее содержания, я бы читал, я бы глотал буквы с любого печатного листка.
Вдруг я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я обернулся. Передо мной стоял высокий гладко выбритый мужчина с глазами навыкате, как у большинства людей театра. Увидев, что я его заметил, он махнул мне рукой:
— Пссст!
Я встал и быстро подошел к нему.
— Хотите заработать денег? Тогда пошли со мной! — он повернулся и, не дожидаясь ответа, пошел в сторону улицы.
Я шел за ним. Было радостно думать, что я заработаю денег. Мне было все равно, что мне велят делать. Я был готов делать все! Мы прошли несколько улиц; за все это время он лишь один раз едва взглянул на меня. На улицах царило оживление. Группами прохаживались и оживленно беседовали между собой рабочие. Я не понимал, с чего вдруг наступило такое оживление.
Я все понял, проходя мимо дома, в котором находилась редакция газеты.
В большом окне было написано крупными квадратными буквами: «Всеобщая забастовка текстильщиков!» Шедший со мной мужчина, взглянув на надпись, улыбнулся:
— Обычное дело… Ткачи бастуют…
Он вошел вместе со мной в большое здание цирка, расположенное вдали от парка. В фойе он, не постучав, открыл дверь.
Мы вошли в маленькую комнатку, которая вся была завалена афишами. На четырех стенах висели афиши: чемпионы с могучей напружиненной грудью, силачи, слоны, тигры, львы и другие дикие звери; все звери были изображены с разинутой, готовой проглотить пастью.
Больше в этой комнате ничего не было, только стоял старый ободранный диванчик, на котором, растянувшись, лежал толстяк с кирпично-красным лицом.
— Я тут привел одного, господин директор! — сказал вошедший.
— Хорошо.
— Скажите ему, что он получит!
— Две тысячи за четыре часа, и выметайтесь оба, — директор спрыгнул с диванчика и уставился на нас обоих. — Вы получите две тысячи марок за то, что будете ходить по улицам с этой цацкой. — И он указал мне на тонкую фанеру, прибитую к длинной палке. На фанере была изображена гигантская голова тигра в диком ракурсе, с разинутой пастью, из которой торчали острые белые зубы. Кровожадные глаза сверкали. Под тигром черными буквами было написано: «Цирк Вангалли — двенадцать бенгальских тигров — последняя неделя — билеты за полцены».
Не говоря ни слова, я взял палку с тигром. Эта штука была вовсе не тяжелой.
— Ходите по главным улицам, там, где много народу!
Я отправился на улицу. Во всем городе у меня не было ни одного близкого человека, а потому я не боялся, что меня увидят за таким малопочтенным занятием. Этот город был мне чужим, и у меня в нем не было никого, кроме нескольких случайных знакомых.
Наоборот, мне было совершенно безразлично, что обо мне подумают.
Я держал «дикого» тигра двумя руками и шел, как всегда опасаясь быть задавленным массой автомобилей, телег и пролеток. Меня охватила радость от мысли, что теперь я зарабатываю деньги. Я размышлял о том, что я себе куплю на свою первую получку. Сперва, думал я, пойду на рынок, где торгуют старьем, и куплю себе цветастую рубаху и старую книгу. Там все продают за гроши. Перед моими глазами стояла бледная девушка из городского сада с книгой перед заплаканными глазами. Я прямо-таки видел ее перед собой. Больше всего мне бросились в глаза тонкие, бледные, плачущие руки. Да, плачущие руки! И я снова ощутил тоску по чтению книг. Я начал воспринимать обычные буквы как человечков, освещенных светом особой жизни. Буква алеф была похожа на злого отчима, который вечно сидит во главе стола и с места не сдвинется; гимл — на неблагополучного молодого человека, страдающего сухоткой; заен — на ребенка в шапочке с двумя козырьками; ламед — на барашка с длинной, слишком тонкой шеей…
Какую же огромную любовь я чувствовал к буквам! Со странным наслаждением я начал читать:
— Дамский конфекцион — Зильберфаден. Парфюмерия — Шацкий…
Я все читал и читал и не мог досыта начитаться, глотал слова глазами и не уставал.
Было достаточно жарко. Перед крашеными дверями ресторанов стояли официанты, с напомаженными волосами, в белых рубашках и начищенных туфлях, и дышали свежим воздухом, точно пытаясь выветрить запах мяса, горчицы, селедки и рыбы, который въелся в их одежду и пропитал их самих до костей. От высоких зданий доносился запах расплавленной смолы. Громче, чем шум, гудки и дребезжание трамваев, автомобилей и пролеток, звучали крики мальчишек, продающих газеты, — они во весь голос выкликали имена и новости из вечерних газет. В воздухе резко пахло асфальтом и мазью, которая из-за жары плавилась в колесах грузовых повозок и фур и капала на грязные камни мостовой.
Среди постоянных фланеров — торговцев, агентов, разносчиков — теперь стали особенно видны помятые, печальные лица ткачей, которые, горячо и взволнованно беседуя, неторопливо прохаживались по тротуарам. Перед дверями лавок стояли их владельцы и с непонятным страхом, который они пытались скрыть, смотрели на желтые увядшие лица прогуливающихся ткачей. В некоторых лавках уже проверяли, в порядке ли жалюзи, можно ли будет, когда понадобится, сразу же их опустить. На перекрестках болтались усиленные наряды полиции, глядевшие на ожесточенных рабочих с холодным сочувствием, с каким глядят на того, кто начинает показывать признаки безумия, так что его в любой момент придется отправить в сумасшедший дом. Полицейские, расхаживая туда-сюда, сильней топали по горбатым камням брусчатки своими крепкими сапогами. Вот один из полицейских подошел к группе ткачей, остановившихся под фонарем и начавших что-то обсуждать, и попросил:
— Расходитесь, господа, расходитесь!
Рабочие начали медленно и лениво, не торопясь, расходиться. Я со своим бенгальским тигром продвигался шаг за шагом, выделяясь, как тот, кто несет фонарь на палке в христианской погребальной процессии. Я шагал по мостовой посреди улицы между лошадьми, пролетками и трамваями, и мой тигр так и сыпал искрами из глаз.
Голоса рабочих становился все более страстными, они звучали все громче, все жарче; число рабочих росло с каждой минутой. На тротуарах больше не было видно бывших до того в большинстве пухлых, бескостных лиц торговцев, агентов и биржевых маклеров. Они исчезли, будто испарились. Их место заняли ткачи в крепкой рабочей одежде и рабочих башмаках с деревянными подошвами, подбитыми железными подковками и гвоздями. Стук железа по камню разносился по улице. На желтых изможденных лицах с горящими глазами сведенные горечью губы повторяли ежеминутно:
— Директор Завадский! Живодер, сволочь! Директор Завадский!
Имя Завадского переходило от мужчины к мужчине, от женщины к женщине. Его произносили с ненавистью и горечью, со скрежетом зубовным и с насмешкой, с женскими проклятиями и бранью. Масса мужчин и женщин заняла оба тротуара длинной главной улицы. Поначалу ткачи чувствовали себя скованно на богатой улице, выглядя как чужаки, приехавшие в новый для них город: они разглядывали витрины, лепные колонны на фасадах зданий, оцинкованные крыши и витражные окна, на которых полированные стекла сплетались в гирлянды листьев и крупных осенних цветов. Было ясно, что каждый из них старается, чтобы его деревянные подметки не стучали слишком громко. Но чем больше было рабочих, тем спокойней они становились, тем уверенней шагали по чужой улице. Насколько хватало глаз, тянулись, извиваясь, колонны рабочих, которые теперь чувствовали себя раскованно, как у себя дома, так что даже принялись подшучивать над хозяевами и обитателями этой улицы. Черный автомобиль, в котором сидели два элегантно одетых толстых господина, заскользил по улице.
— Сообщники директора Завадского! — вылетело ядовитое наблюдение из толпы.
— Сучьи дети! — бросил рослый светловолосый молодой ткач.
Автомобиль исчез.
Моего тигра замечали и вместе с тем не замечали. Головы были заняты другим.
Бастующие ткачи не имели ко мне никакого отношения. Я ждал, когда закончатся мои рабочие часы и я верну тигра в цирк.
Внезапно я вздрогнул от астматического крика, который раздался посреди улицы. Старая, одетая в лохмотья ткачиха с темным, неживым, костлявым лицом остановилась в десяти шагах перед едущим трамваем.
— Стоять, буржуи, больше ни шагу не проедете! Бегите и расскажите всему белу свету, что ткачи умирают с голоду!
Вагоновожатый вовремя остановил трамвай, тем самым предотвратив несчастье. Рабочие начали сбегаться с тротуаров и сотнями, тысячами окружать трамвай. Пассажиры выходили из вагона с испуганными лицами, как будто случилась авария.
— Сударыня, — попытался вагоновожатый утихомирить старуху, — в трамвае не ездят буржуи, они, эти богачи, ездят в автомобилях.
Я, держа афишу двумя руками, был стиснут тысячами людей, которые на одном дыхании придвинулись к остановившемуся трамваю.
Только после долгих уговоров умному вагоновожатому удалось добиться, чтобы старуха сошла с рельсов.
Осторожно и медленно он повел трамвай через тысячеголовую толпу.
— Бедные ткачи! — плакала старуха. — Мало чьи сыновья вернулись с войны, так еще и Завадский отнимает у них последний кусок хлеба!
— Тридцать тысяч наших братьев слоняются без работы, так теперь он решил и нас вышвырнуть с фабрик!
— Он обрекает нас на нищенство!
— Не смолчим! Не допустим!
— Долой ублюдка!
— Смерть директору Завадскому!
На тротуарах и на мостовой колыхалось море разгоряченных лиц. Нигде ни просвета, ни малейшего свободного места, везде головы, головы и сияющие, горящие враждой глаза; головы молодых людей, обрамленные светлыми и темными волосами, седые головы стариков, головы молодых и старых женщин. Головы раскачивались, дрожали от волнения и гнева. Слова рвались сквозь стиснутые зубы и сжатые, сомкнутые губы; пламенные слова неслись вверх, сталкивались в пространстве, перемешивались, потом, становясь неразборчивыми, исчезали и раздавались снова, повторялись с тем же угрожающим криком, с тем же шумом и гамом. И над разгоряченными головами бенгальский тигр с враждебно распахнутой пастью гордо глядел на небо, на богато украшенные дома, на балконы и террасы, и жирные черные буквы надписи внизу афиши, блестели на солнце.
«Цирк Вангалли — двенадцать бенгальских тигров — последняя неделя — билеты за полцены».
Жалюзи на окнах лавок резко и торопливо опускались. Скрежет ржавого железа сливался с голосами ткачей и пропадал в шуме людского моря.
Вдруг, без какого-либо знака, без всякого сигнала, все море голов вздрогнуло. Мне сдавили ребра, грудь, руки и плечи. Я не мог пошевелиться. Я поплыл в людском море.
— К нему, к директору Завадскому! — неслось со всех сторон.
Вместе со всей разъяренной толпой я тоже оказался в колонне, идущей к директору Завадскому.
В окнах богатых домов начали появляться испуганные лица обывателей, выглядывающих из-за гардин и портьер. Они глазели на все происходящее, а заметив мою афишу, пожимали плечами, не понимая, при чем тут цирк. Людской поток протащил меня по нескольким улицам, в том числе мимо здания цирка. Я увидел, как из окна на фасаде глядят директор и тот человек, который позвал меня в парке.
Пройдя еще две улицы, процессия остановилась. Я встал на цыпочки и увидел, что передние ряды, которые были уже очень далеко от того места, где стоял я, поравнялись с темным четырехэтажным домом. Перед домом находился садик, огороженный железными прутьями, которые торчали сквозь несколько тощих акаций.
— Пусть к нам выйдет директор Завадский! Директор Завадский!
Примечательно, что рабочие всегда получают удовольствие, созерцая человека, которого они считают своим врагом. Любая кошка, даже на привязи, танцует от радости, увидев перед собой мышку, даже если мышка очень далеко. Ворота были закрыты.
— Директор Завадский! Завадский! — голоса становились громче.
Минуты две толпа кричала: «Завадский!» Наконец открылась дверь на балконе второго этажа. На нем появился мужчина лет пятидесяти с морщинистым, суровым лицом. Он дрожал от страха.
В толпе стало тихо. Все взоры были обращены к человеку на балконе. Он несколько секунд молча разглядывал море голов.
— Господа рабочие, если вы пришли сюда только для того, чтобы увидеть меня, то не хотите ли вы в таком случае вернуться к работе?
— Нет! — выкрикнул кто-то в толпе с гневной угрозой.
— Коль скоро вы пришли, я должен изложить вам факты, а именно: польская текстильная промышленность из-за происков наших врагов почти потеряла зарубежные рынки, а наши собственные граждане обеднели из-за войны и не могут потреблять столько товаров, сколько вырабатывают наши фабрики.
По испуганному голосу этого человека можно было легко догадаться, что он хотел говорить совсем по-другому.
Нередко можно заметить, что человек в состоянии потрясения или испуга может вести себя с деланным спокойствием, подражая самому себе. Он говорит еще ясней и еще более гладко — человек в этот момент становится актером и произносит слово в слово то же самое, те же самые слова, которые он уже однажды произносил. Даже поза, в которой он стоит и говорит, повторяет определенный момент в его жизни.
С господином Завадским как раз это сейчас и приключилось. Он хотел сказать нечто совсем другое, а говорил только то, что уже говорил однажды.
Им управлял страх.
— Не было другого выхода, — продолжал он, — как снизить количество рабочей силы…
Тишина рухнула. Отдельные выкрики смешались, и им на смену пришел рев гигантского быка.
— Вы выкинули на улицу двадцать тысяч рабочих!
— Убийца наших детей!
— Палач!
— Ублюдок!
Господин Завадский побледнел. Он прикинулся ничего не слышащим и, напрягая все силы, попробовал говорить дальше. Это ему удалось. Толпа вновь утихла.
— Господа рабочие! Польская текстильная промышленность, которая была разорена немецкими оккупантами, начала приходить в себя благодаря самоотверженности фабрикантов и рабочих, их преданности своему делу, — Завадский продолжал говорить в манере банкетного выступления.
— Верно! На наши деньги вы построили новые фабрики, — раздался голос в толпе.
— В силу причин, которые я уже перечислил, многие рабочие…
Завадский на мгновение прервался. И тут его злая судьба захотела, чтобы слово, которое следовало прицепить к цепи слов, как раз нашлось:
— …многие рабочие оказались лишними.
Толпа затряслась от злобы и возбуждения. Поднялся шум, крик до небес. Тысячи сжатых кулаков взмыли в воздух, и воздух задрожал от гнева и ярости:
— Лишними… Мерзавец, кто тут лишний?
— Это ты лишний на этом свете, бездельник!
— Кровопийца! По-твоему, мы тоже лишние?
Слепая ненависть к Завадскому не хотела понимать смысл его невинных, ни в коем случае не агрессивных слов.
Ненависть пенилась и вздымалась, как электрический ток, захватывая людское море. Ругательства и крики рвались из горла как будто спьяна, взлетали в воздух, и шум не прекращался.
Вдруг кто-то вырвал булыжник из мостовой и швырнул его. Раздался звон разбитого стекла. Люди отхлынули от того места на тротуаре, куда посыпалось стекло. Директор Завадский с обмершим, бледным лицом быстро убежал в дом. Так же, как только что пролитая кровь возбуждает хищников, разбитое стекло взбунтовало толпу. Булыжники, вырванные из мостовой, полетели градом, еще одно стекло брызнуло. Тротуар около дома Завадского совсем очистился от людей. На темном асфальте валялись осколки стекла. Толпа, насчитывавшая двадцать с чем-то тысяч человек, встретила осколки разбитых окон дикими криками и невероятной бранью. От звона стекла кровь закипела еще сильней, и толпа начала выглядеть как орущий и ревущий зверь. Несколько десятков раз толпа пыталась сорвать железные ворота, однако вынуждена была, ругаясь и стирая пот со лба, отступить.
Вдруг, как будто из-под земли, появились и полетели белые листовки. Тысячи, тысячи прокламаций влетали в протянутые руки. Я бросил взгляд на ту, которая была в руках у моего соседа. На белой листовке было напечатано и подчеркнуто жирной чертой: «Коммунистическая рабочая партия Польши». Когда во втором этаже уже не осталось ни одного целого стекла, народ начал успокаиваться. Вдруг кто-то запел.
Люди подхватили напев, и толпа в двадцать с чем-то тысяч голосов, охрипших от криков и брани, принялась петь. Песня как будто стала каким-то знаком. До этого неподвижная, точно скованная цепями, теперь толпа с криком и пением начала двигаться по главным улицам.
Один из рабочих неожиданно выхватил у меня из рук палку моей афиши, синим карандашом написал над тигриной головой «Директор Завадский» и зачеркнул надпись «Цирк Вангалли». Прежде на мою афишу обращали мало внимания. Теперь ее видели все, смотрели на нее с удовольствием, с дружелюбным ворчанием.
Так бенгальский тигр стал «Директором Завадским». Небо затянуло облаками. Загремел негромкий осенний гром. Вдруг хлынул ливень. Синий карандаш на афише смыло, и тигр снова стал настоящим «бенгальским тигром» из «Цирка Вангалли». Рабочие двигались все вместе еще несколько минут, а потом рассеялись и разбрелись по городу.
11
Голубые сумерки мерцали сквозь тонкие струи дождя, которые, извиваясь, падали с неба. Холодные капли превращались в бледный туман, окутывавший город матовым покрывалом, и сверкали тысячами огней, дробя огни трамваев, автомобилей, пролеток и окон, которые туман отдалял от людских глаз — каждое поблескивание выглядело далеким, очень далеким.
Странно, но тот, кто долго ходит по мостовой, начинает чувствовать себя по-свойски с лошадьми. Большие лошадиные глаза смотрят на него тепло и дружелюбно, будто хотят ему нечто сказать, будто шлют немой привет. Моя постоянная сосредоточенность на том, чтобы меня кто-нибудь не задавил, пробудила во мне чутье полицейской собаки. Я носом чуял, когда за мной топала лошадь, я отличал запах автомобиля от запаха трамвая. Неся двумя руками афишу с бенгальским тигром, я часто ловил брошенный искоса взгляд лошади, шедшей в упряжке, взгляд, полный сочувствия и сострадания ко мне, человеку…
На здании цирка несколько выкрашенных в разные кричащие цвета и высоко подвешенных фонарей зазывали народ.
Я прошел внутрь. Директор, увидев меня, приветливо улыбнулся. Его глаза при этом были прикрыты веками и поблескивали сквозь две узкие щелочки.
— Мне нравится этот человек, — он склонил голову к маленькому, низкорослому человечку, который стоял около него. — Двадцать тысяч ткачей рекламировали мой цирк… Город сразу подумал, что ткачи забастовали ради моего цирка!.. Вот это, что называется, двойной нельсон! Честное слово, настоящая комедия, ха-ха-ха! Невозможно было смотреть без смеха на то, как тигр ползет вместе с рабочими!.. — и оба рассмеялись. — Молодой человек, — он дружески хлопнул меня по плечу, — вы заслуживаете бенефиса! Медали! Вы у меня вырастете! Вы у меня возвыситесь!.. Видите вон того человека, — и он указал рукой на блондина, который как раз выходил из кассы. — Он был ничто, пустое место, праздношатающийся, помирал без куска хлеба! Таскался за акробатами и чистил им туфли! Но он мне понравился и начал расти, так быстро расти, что теперь он у меня стал делопроизводителем! Вы понимаете, что это значит — быть делопроизводителем в цирке Вангалли, в который несколько раз в месяц приходят мэр города, миллиардер Познанский и Оскар Кон, чтобы подивиться на моих обезьян, то есть, я хотел сказать, на моих тигров… Молодой человек, вы вырастете, если благодаря вам двадцать тысяч человек рекламировали мой цирк… Теперь пойдите и отнесите тигра за кулисы!..
Я попросил служителя показать мне ход за кулисы. Я положил афишу и вышел в фойе.
Фойе за два-три часа до представления выглядит по-утреннему сонным, как дом на рассвете, когда его обитатели встают на работу: люди бродят, ищут белье и одежду, умываются, везде еще разлит сон.
Таращась с глупым чванством на шляющийся туда-сюда театральный народ, понапрасну горят большие люстры, хотя они, эти люстры, сейчас никому не нужны, и их сияние, их раздражающий свет зря падает на выкрашенные светлой краской стены. Голые вешалки в гардеробе стоят и ждут… В открытые двери цирка глядит темнота, она похищает несколько лучей у горящих в фойе люстр, и густой столб пыли высвечен, как обелиск, во всю ширь сводчатых «внутренностей». Запах и испарения тысяч людей, которые неделями и годами сидели по несколько часов на скамьях, вырываются наружу и напоминают о гнили и мертвечине… Касса открыта. И если в ней не появятся деньги, директор будет хмуриться и сердиться…
Никакой подмастерье не подражает так своему мастеру, как театральный служитель своему директору. В лице и в характере самого низшего служителя театра, цирка, кинотеатра и тому подобных заведений, который уже десять лет прослужил на своем месте, обязательно есть что-то, делающее его похожим на его директора. В каждом театре можно встретить служителя, который похож на своего директора как родной брат. И если в кассе нет денег, то директор хмурится, и кассир хмурится, и швейцар, и билетер — хмурятся все от самого низшего до самого высшего. Едва взглянув на то, как заполняются театральные скамьи, самый низший служитель поймет, сколько денег в кассе — не хуже, чем сам кассир. Деньги говорят, пусть и на бедном языке, на жаргоне, но все-таки они говорят. Маленький горбатый паяц Долли, с которым я позже познакомился, беседуя с кем-нибудь, мог по его жестам, выражению лица и тембру голоса понять, сколько его собеседник заработал за неделю или какая у него пенсия; стоило Долли взглянуть на кого-нибудь своими маленькими хитрыми глазками, и он мог без колебаний сказать: вы зарабатываете не больше восьмидесяти-девяноста сотен в неделю и наносите вред своему карману, покупая билет в четвертом ряду, — вам место на галерке…
Позднее Долли доверительно шепнул мне: «Вон тот мужчина, у которого роман с акробаткой, делает вид, что богат…»
Я слонялся по залам и закоулкам цирка и рассматривал все, что там стояло.
По длинному коридору, на грязных запотевших стенах которого висели две красные лампочки, я добрел до зверинца. В железных клетках лежало двенадцать тигров, по четыре в каждой. Большинство после тяжелой работы спали как убитые и при этом храпели, как старые астматики. Двое положили головы на передние лапы и смотрели на меня неживым взглядом; у них текло из носа на усы. Мое появление из темноты не произвело на них никакого впечатления. Десять тигров храпели, лежа на спине, а два оставшихся глядели на меня полузакрытыми глазами, как на старого знакомого. От этих «африканских принцесс» отвратительно пахло сортиром — так пахнут старики, лежащие в кроватях на клеенке и дожидающиеся смерти.
Все они были темно-желтого цвета, у некоторых на шее виднелись пятна. Зеленоватые пламенеющие лучи, которые испускали глаза двух тигров, лежащих в полудреме, прорезали тьму.
Вообще тигры выглядели как старые огромные кошки, у которых выпали зубы, и поэтому они уже не могут ловить мышей.
Мне было любопытно, какие трюки показывает знаменитый дрессировщик Джексон со своими ленивыми, замученными, сонными бенгальскими тиграми. Было неприятно и грустно глядеть на этих диких зверей, и я ушел из зверинца.
В буфете стояла густо напудренная пожилая женщина и раскладывала пирожные и бутерброды.
Она пересчитывала их кончиком указательного пальца, обращаясь при этом к молодой девушке, которая стояла рядом с ней:
— Шесть, семь… восемнадцать, девятнадцать «Гала Петер»[18]…
Девушка записывала.
Распростертая вокруг тишина колыхалась на плюшевых банкетках, сонно мерцали заскучавшие оконные стекла.
Бутерброды напомнили мне о том, что надо бы поесть, меня снова начал мучить голод. Но цирковая обстановка захватила меня и не давала уйти на улицу.
Настала ночь. Денег нет и взять негде. Я снова вернулся к двенадцати тиграм. На этот раз при моем появлении один из тигров приоткрыл глаз, посмотрел на меня, широко зевнул и снова положил голову на лапы. Остальные по-прежнему спали. Из зверинца я опять отправился за кулисы, а оттуда — в фойе. Я слонялся взад-вперед, из одного помещения в другое.
За кулисами на ступеньке лестницы сидел рабочий сцены и ужинал. Когда он поел, я подошел к нему и спросил, сколько стоит хлеб.
Это был простодушный длинноусый поляк. Он ответил мне: «Семьсот марок». И чтобы что-нибудь сказать в ответ, я рассказал ему, что, когда из Америки привезут специальные машины и начнут печь хлеб с помощью электричества, он станет гораздо дешевле. Тот в ответ разгладил усы и удивился. Затем я спросил его о других ценах: сколько стоит фунт кофе или чая. Он знал все цены назубок. «Тридцать пять тысяч — фунт кофе, семнадцать тысяч — четверть фунта чая, семьсот — ячменный кофе».
Я слушал перечень цен так, как будто приехал из другой страны. Отходя от него, я спросил сам себя: на что мне знать эти цены? Я ощутил, как у меня заныло под ложечкой от голода.
«Почему у меня нет знакомых, у которых можно было бы одолжить денег?» — высказал я претензию к самому себе.
Я снова прошел за кулисы и нашел рабочего. Под разговор о том, что он мне откуда-то знаком, я попросил его сказать, как его зовут.
— Юзеф Форнал, — ответил поляк, оглядел меня и покачал головой: нет, он меня не знает.
— Где вы живете?
Он сказал:
— Разве вы меня хоть раз прежде видели? Нет, ни разу! — и он опять посмотрел на меня.
— Не припоминаете?
— Нет, не могу припомнить.
— Так вы меня не знаете?
Я еще поспрашивал его — вдруг получится так, что он меня узнает, но в конце концов, отчаявшись, ушел. В фойе я встретил директора, он сжимал в зубах трубку и выпускал клубами дым. Директор направлялся за кулисы. Я пошел за ним и попросил денег.
— Да, вы получите! Я узнал вас! — воскликнул директор.
Его слова, просачиваясь сквозь трубку, звучали грубо и неотчетливо.
Он протянул мне две ассигнации по десять тысяч марок. У меня аж искры посыпались из глаз. Я схватил деньги и выскочил на улицу, забежал в лавку, купил хлеб, колбасу и папиросы. Потом, насытившись, я пошел гулять. Шел мелкий дождь. Но он не мешал гулять по обеим сторонам тротуара празднично одетым мужчинам и женщинам. От сытости мне стало весело, и я пошел уверенным шагом. Но головная боль, которая мучила меня в последнее время, не прекращалась, несмотря на то, что я как следует наелся хлебом и колбасой. Во рту у меня была зажженная папироса. Я сунул руки в карманы и пошел дальше. Передо мной появились две женщины. Одна была полная, с широкими плечами и очень красивыми ногами, которые твердо ступали маленькими шажками по тротуару; голову она беспокойно склоняла то в одну, то в другую сторону, так что, несмотря на то, что я шел за ней, я мог видеть ее лицо. Лицо было широкое, напудренное; под подбородком залегла мягкая складочка. Здоровая, естественная, шириной чуть не до затылка улыбка то и дело появлялась на ее лице.
Кровь бросилась мне в лицо, сердце забилось чаще. Рядом с ней шла другая, пониже ростом и потоньше. Несколько улиц я прошел за двумя женщинами и чувствовал, что хмелею от желания. Одна из женщин заметила, что я иду за ними. Маленькая испуганно взглянула на меня и что-то шепнула другой, тогда та тоже взглянула на меня. На ее лице появилось испуганное выражение, она потянула подругу за руку, и обе ускорили шаг. Я уже не мог от них оторваться. Хотя их испуганные взгляды окатили меня холодной водой, я продолжал идти за ними. Они несколько раз взглядывали на меня. В конце концов одна из них потащила другую, и обе подруги «спаслись», зайдя, а лучше сказать, вбежав в кафе. Я остался стоять как дурак. От душевной боли я стукнул кулаком по стене и быстро пошел прочь.
Я еще минут десять слонялся по улицам, а потом пошел в цирк. Я не забыл купить газету, которую дрожащей рукой сунул за пазуху. Я не хотел читать газету на улице. Я решил отыскать в цирке спокойное место из тех, которых так много за кулисами, и там прочитать газету от начала до конца.
Когда я вернулся в цирк, представление уже начиналось. Через вход, ведущий за кулисы, я проник внутрь. Швейцар уже признал меня как своего. Я забрался на первый ярус и стал смотреть. В большом зале собралась тысячеглавая толпа. В ложах, расположенных внизу, сидели богатые господа и дамы в богатом платье и с нетерпением ждали представления. С бледных, сильно напудренных женских лиц глядели горящие, ждущие глаза. Остальная публика состояла в основном из рабочих с усталыми, слабо поблескивающими глазами, изголодавшимися по хлебу и зрелищам. Легкий треск — там грызли орешки — доносился с галерки вместе с хриплыми голосами. Внизу шуршали шелка и бархат и слышался звук ломающихся шоколадных плиток. Вдруг вспыхнули десять новых электрических ламп, и пять рефлекторов разлили над залом фантастический светло-голубой свет, в котором бледные напудренные лица, обрамленные платками и шелковыми и атласными шляпками, стали выглядеть как лица восковых кукол.
С силой ударил барабан, и появился Долли, маленький паяц-лилипут. Он как будто вырос из-под земли. Перекладины, на которых он сидел, медленно подняли его на десять метров. Долли оглядел публику, скорчил рожу, как жаба, и начал плакать. Он действительно выглядел как урод с жабьей рожей. Он плакал, его лицо позеленело, слезы катились по нему, как горошины, и стекали двумя ручьями на песок арены. Дамы скривили лица от омерзения, но не переставали смотреть на Долли сквозь перламутровые и серебряные лорнеты. На галерке прыскали в кулак, шумели и кричали:
— Эй, чертяка! Долли-колдун! Урод! Обезьяна!
Так он проплакал десять минут. Он плакал то как голодный ребенок, то как старик, то как женщина, то как мужчина; он плакал все громче и громче, и слезы текли двумя ручьями на арену.
Потом он начал смеяться, смеяться резко, дико, истерически, но слезы при этом продолжали течь. Он смеялся сквозь слезы и плакал сквозь смех. Иногда его смех становился нежным, звонким, детским и мягким, как у ребенка, как у юной девушки, а иногда он был грубым, резким, точно кашель больных легких пропойцы. Потом он перестал проливать слезы. Все подхватили смех. Сперва начали смеяться мужчины на галерке, потом засмеялись на ярусах, потом стали смеяться нарядные господа и дамы в ложах и в первых рядах партера.
— Долли-колдун! Урод! Обезьяна! Черт тебя подери!
Весь зал хохотал, хохотало всё: все скамьи и стулья. На голову Долли посыпались апельсины и конфеты: он широко открыл рот и смеялся. Вдруг он показал всем длинный язык и исчез, как сквозь землю провалился. По всему огромному цирку пронеслась буря аплодисментов. А на галерке снова повторяли похвалы клоуну:
— Долли, чертяка! Урод! Обезьяна!
Заиграл оркестр, рефлекторы погасли. Шквал аплодисментов прекратился. Но под куполом все еще витал смех паяца.
На круглой арене появился мужчина во фраке, музыка стихла. Мужчина учтиво поклонился и сказал:
— Французская борьба, международный турнир, всемирный чемпионат Европы, Азии и Африки. Первый приз — десять тысяч швейцарских франков.
И, снова поклонившись, он быстро ушел.
Опять вспыхнули рефлекторы, и вышли шестнадцать полунагих великанов с гороподобными мышцами на груди, руках и ногах, среди которых был один негр. Они под приветственную музыку расхаживали по арене, демонстрировали под звуки марша свои великанские тела. Над залом поплыл запах тяжеловозов, запах пота мускулистых жеребцов. Бледная дама в маленькой бархатной шляпке, как у французского священника, которая до этого швырнула свой носовой платочек Долли, втянула воздух ноздрями, и ее грудь начала вздыматься. Все взгляды были устремлены на нагие тела шестнадцати огромных «мировых чемпионов Европы, Азии и Африки».
«Судья» или ведущий, маленький коренастый еврей на коротких ножках и во фраке, представлял каждого великана публике:
— Герхард Карш, германский Геркулес, чемпион Гарца, вес двести сорок килограммов, рост метр девяносто три сантиметра.
На фоне великанов судья выглядел мухой.
Германский Геркулес, услышав, что называют его имя, выступил из шеренги великанов, широко улыбнулся и тряхнул своими огромными бицепсами.
— Хаджи Вейнура, Манчжурия, чемпион Монголии, вес двести тридцать килограммов, рост метр восемьдесят…
…………………………
Негр вышел, выпятив грудную клетку, твердо ступая своими медными ногами, будто хотел проломить пол. Он несколько минут гордо, без улыбки, почти враждебно смотрел на публику…
…………………………
— Юзеф Гавличек, Чехословакия, вес сто девяносто килограммов… Густав Аф Нестрем, Финляндия… Стефан Пинецкий, Польша… Иван Вашминков, Сибирь…
Дамы в партере втягивали воздух носом, как плотоядные звери, почуявшие запах крови. Шестнадцать нагих тел, сильные гороподобные торсы, будили жажду битвы, борьбы, криков боли и победы. На галерке блестели глаза измученных забастовкой ткачей. В ложах и в партере дамы жались к своим кавалерам. И бледные лица торговцев, бухгалтеров и письмоводителей покрыл влажный, потный румянец полуночной нервозности и страсти, как у измученных бессонницей заключенных.
— Сейчас будут бороться Сальватор Бамбула и Герхард Карш, — выкликнул «судья».
Германский Геркулес Карш выпятил грудь и выступил вперед. А навстречу ему — негр Бамбула. Немец хватил негра кулаком по загривку так, что на теле негра сразу расплылось шоколадно-коричневое пятно крови, которая потекла по его черной коже, и тут началась борьба. Огромное тело рослого немца было невероятно толстым. Он закусил нижнюю губу и, как будто меся тесто, стал длинными мускулистыми руками хватать негра за шею и за живот.
Толстый негр тяжело дышал. Он сопел, и все его тело обливалось потом. Он стоял, как стена, и не двигался с места. Своими здоровенными кулаками он не подпускал к себе немца, силой и ловкостью отражая его наскоки. Немец опять ударил негра.
— Хаджа — ха! — заворчал черный на своем таинственном языке.
Одним махом он обхватил немца снизу, швырнул его на пол и всей тяжестью своей плоти навалился ему на плечи. Немец засопел так, будто ему не хватало воздуха, и начал задыхаться.
— Голову! Голову пусти, черт черный!
— Э-хе! — победно пробормотал негр и вмазал немцу кулаком по красному загривку.
— Кхи-кхи! — засопел немец и, задыхаясь, замахал руками и ногами, как пойманная рыба бьет хвостом. Он собрал все свои силы, оставаясь несколько секунд неподвижным, и разом взметнулся, как вихрь; негр оказался под ним и остался лежать на лопатках.
Немец победил. Шквал аплодисментов. Все улыбались и слали воздушные поцелуи победителю, который раскланивался во все стороны, скрестив руки на груди.
12
Представление закончилось. Люди разошлись. Я остался один в большом здании цирка. Я слышал, как запирают двери. Стало темно, очень темно. Я послонялся по всем трем этажам. Поискал себе удобное место для ночлега. Кости у меня все еще болели после предыдущей ночи, проведенной на улице, мне хотелось броситься на пол и заснуть. Я забрался в ложу первого яруса, составил в ряд несколько мягких, обитых тканью стульев и растянулся на них.
— Слава Богу, нашел ночлег! — подумал я, лежа.
Темнота в большом здании была тяжелая и гнетущая. Я не мог заснуть, голова полнилась странными мыслями, да к тому же было холодно. Я натянул шинель на голову и принялся глубоко и часто дышать, чтобы согреться. Это помогло. Мне стало чуть теплей. На меня напала дремота, тяжелая дремота, но все равно это нельзя было назвать сном. Я закрыл глаза, чтобы не смотреть в темноту, и молил о сне. Так прошел час: я лежал, дремал, думал, но все равно никак не мог заснуть. Мои чувства наполовину уснули, а в голове одна за другой возникали картины пережитого.
— Неужели я так и не засну? — сказал я со злобой и очнулся от дремоты.
Ложи выглядели как черные дыры могил. Они неприветливо, пугающе глядели на меня. Я снова закрыл глаза и снова впал в прежнюю тупую дремоту. Вдруг…
Что я слышу?
Шаги, да, шаги, почти прыжки.
Неужели в этом темном зале есть еще кто-то? Кто это? Может, это мне снится? Я ослаб, я устал, так что шаги могли мне просто присниться.
Шаги повторились. Кто-то дикий, безумный прыгал через стулья. Я окончательно проснулся и огляделся. Быстрая черная тень изогнулась и, отскочив в темноту, убежала.
Боже мой, кто это мог быть? Человек! Человек? Что же он прыгает так, что едва удается увидеть его тень?
Темно. Страшно и темно. Часы на городской башне пробили два: «бим-бом» эхом разнеслось по темному трехъярусному залу. Черная тощая тень исчезла в правом углу. Задремать снова теперь не получалось. Страх совсем разбудил меня. Голова разламывалась, дыхание участилось.
Кто бы это мог быть? Кто? Человек? Что же он прыгает так безумно, так дико? Что он тут делает за полночь?
Стало тихо, ужасно тихо. Ни шороха, ни шуршания. Плотная тьма растеклась во все стороны и окутала меня. Страх объял меня. Я пригнул голову и стал вслушиваться в тишину. Да, я слышал, я отчетливо слышал.
Гук-гак — это стучит человеческое сердце.
Мой страх рос. Чье сердце стучит? Может, это мое собственное сердце? Как я могу слышать стук чужого сердца, если ни вблизи, ни вдали я не чувствую присутствия чужака? Нет, это не мое сердце! Это голос чужого сердца. Я резко вскочил с моей постели на стульях.
Я убегу!
Но тут я вспомнил — двери закрыты, и, сломленный, остался лежать. В висках у меня застучало сильней, и страх проник во все закоулки души. Вдруг — не знаю от чего — меня охватило предчувствие…
Ночью начнется пожар!
Беги! Спасайся! Сам дьявол дурачит тебя в запертом цирке, чтобы ты погиб среди языков пламени, превратился в угли! Спасайся! Цирк загорится!
В голове оглушительно шумело. Я слышал звоны, вопли и крики ужаса. Я слышал, как заламывают руки, как трубят трубы. Перед глазами колыхались красные огненные языки. Пожар! Цирк горит.
Вдруг все исчезло. Снова стало тихо, тихо как прежде.
Ха-ха-ха! — я вдруг расхохотался.
Кошмары исчезли. Я вздохнул с облегчением и снова растянулся во весь рост на моей постели из трех стульев. Сам себя дурачу! Боже мой, как по-детски я себя вел! Суеверно и пугливо! Что за глупость с чужаком я выдумал? Какой пожар? Глупости! Безумие! Воображение! Я был зол на самого себя.
Спи, спи, одинокий человек! Тебе мало того, что у тебя есть постель! Будь доволен тем, что ты не лежишь на улице.
Я постарался заснуть. Но не мог. Я сострадал сам себе из-за того, что сам себя разбранил. Почему же я сам себя так часто браню? У меня на глазах выступили слезы, слезы сочувствия к самому себе. За что я себя браню?
— Эх, брат, — мысленно сказал я себе, — не век же так будет! Стыдно, честное слово, стыдно проливать слезы! Ты не хуже других, ни на волос не хуже! Разве ты не готов взяться за любую работу? За что же тебе себя ругать? Прошу прощения, брат, прошу прощения! Будь благословен за свои страдания!
Мне становится легче. Я начинаю засыпать. Часы на городской башне бьют половину третьего. Я думаю: я сплю или нет? Нет, только дремлю. Глаза закрыты. По всему телу тяжело разливается свинцовая усталость. Мне уже не холодно. Старая верная шинель хорошо греет. Я ею доволен и, думая о ней, начинаю разводить странную философию: представим себе, что у меня есть деньги, много денег. Я в состоянии купить новое пальто с двумя рядами пуговиц из слоновой кости. Очевидно, тогда бы я выкинул драную солдатскую шинель на свалку — кому бы она еще могла пригодиться. Тут нет сомнений. Я бы ее выбросил. Ту самую шинель, которая сейчас нежит меня, согревает мои кости. Так верно она мне еще никогда не служила. Боже, как хорошо и справедливо ты сотворил свой мир! Нет ничего, что было бы сотворено зазря.
Голова у меня разламывалась. Тело горело. У меня был жар. Мысли летали в голове, как тлеющие искры. Быстро проносились краткие воспоминания обо всех опасностях, пережитых мной на поле боя. Кровавые картины колыхались, сплетались и в конце концов всплыли из моей памяти.
Неожиданно перед моими глазами предстало одно из моих самых кровавых военных переживаний, окутанное страшной пеленой подлинных ощущений.
13
Два месяца мы пролежали на польско-большевистском фронте в Белоруссии; закопались с головы до ног в твердый, смерзшийся снег; лежали в окопах, дремали от усталости, неподвижности и безделья; души погибших восходили в небо, в воздух, как всходило и заходило солнце за белые, бледные, выкованные из железа и снега поля и равнины печальной Белоруссии. Среди всепоглощающей скуки и пустоты в глазах рябило от ворон, которые стояли над нами, потому что стояли на земле, и шарили и ковырялись своими тонкими ножками и черными клювами в отбросах, которые каждый выкидывал из своего окопа — и чего-то ждали, ждали, не отходя от нас…
У каждого солдата была своя ворона — свой страж. Странно! Они иногда взмахивали в холодном воздухе черными крыльями, что-то каркали в белизну заснеженных полей и улетали прочь, но вскоре возвращались и снова становились на то же самое место, что и прежде, и ждали, ждали!
Представляете, как страшно, когда рядом с тобой днем и ночью, на рассвете и на закате стоит, как черный страж, ворона с черным тонким и острым клювом, с хитрыми, маленькими, предательскими, лживыми, темными глазками — ворона как страж, как странный, лживый, таинственный страж, приставленный смертью?
Я много лет прожил в деревне, но никогда прежде не видел и не слышал, даже от старых крестьян, чтобы ворона сжилась с человеком и не хотела с ним расставаться.
В детстве я был бледным, боязливым и малокровным. До четырнадцати лет я верил в бесов и злых духов. Мама одевала меня в белое, считая, что белый цвет предохранит от ранней смерти, которая унесла моих братьев и сестер. Мой папа наказывал мне не ходить там, где есть церкви, кресты или вороны. Ребенком, увидев, как один мальчик чертит палкой крест на песке, я потом с ним не разговаривал годами, отдалился от него и не хотел иметь с ним никакого дела.
Постоянное присутствие ворон поселило в наших душах таинственный, непонятный, темный страх. Мы не боялись смерти, но испытывали страх перед воронами.
Морозы стояли необычайно жгучие, жалящие. Воздух колол, как острия ножей. Было тяжело расправить грудь и вдохнуть глубоко. Стоило плеснуть водой на землю, как вода тут же замерзала. Продутое ветрами небо казалось одетым в броню, и наши голоса отзывались острым, металлическим эхом, как будто отражались от стены из стали и бетона.
Все молили о том, чтобы случилась битва, началось движение, схватка, человек против человека, стычка! Кровь в жилах стала тяжелой, как свинец. Винтовочные выстрелы сыпались в наши уши, как дробь.
В конце концов вечером, когда темнота скользнула на бледные поля, по окопам пронесся клич, пьяный от разгоревшейся крови:
— В атаку, братцы!.. Эй-о!.. Вперед, братцы!
Мы вылезли из ям. Побежали, побежали. Побежали, ничего не видя, в ночь. Канонада огненной трескучей шрапнели и снарядов полилась во мраке ночи огненным дождем и сотрясла воздух и землю. Мы бежали, ничего не видя.
Вдруг перед нашими глазами заплясали черные дрожащие маленькие человечки — куклы, которые с каждым мгновением вырастали, становились больше. Скоро перед нами появились дикие, сморщенные, разгоряченные, искривленные лица с безумными глазами и скрежещущими зубами, среди которых во множестве вспыхивали обнаженные, сверкающие штыки. Крики оглушали, лезвия блестели, а пушки гремели и плевались огненной лавой.
Вдруг — тишина, ни звука. Ни души. Ни вспышки. Я не помню, что случилось. Помню только одно: когда я очнулся на холодной промерзшей земле, вокруг было темно и тихо. Голубой снег и черная ночь над полем, над равниной.
Тупая боль разрывала мою левую ногу. Передо мной лежало несколько убитых с остекленевшими глазами. Боль заставила меня позабыть о них. Я ступал, я шагал по замерзшей, заледеневшей земле на подгибающихся ногах, ковылял, как пьяный.
Когда я наконец нагнулся, я увидел, что на моей ноге висит кровавая, красная, твердая сосулька, будто кто-то пронзил мою ногу огромным когтем.
Было темно и тихо. Я шел час, два и чувствовал, что силы оставляют меня и я вот-вот упаду на землю. Мороз, жгучий, жалящий, был еще крепче, чем днем. Я шел, сам не зная куда. Дрожь пробирала до костей. Я кусал губы от холода и дрожал, трясся, зуб на зуб не попадал. Замерзшие, отнявшиеся руки я спрятал в паху, под животом, чтобы отогреть их, и, пуская клубы пара, кричал измученным, изможденным, страдающим голосом в темноту:
— О-ло-у-у-у — кто — идет? О-ло-у-о-а! Кто идет?
Ни человек, ни собаки не отзывались на распростертой равнине. Ни шороха, ни шевеления, ни стража человечьим шагам, ни звука живого дыхания, и докуда хватало глаз — ни огонька, ни света человечьего жилья: ни деревни, ни хаты. Я потащился дальше, в полуобмороке, без сил, с пересохшими губами и нёбом.
Ах, если бы я мог где-нибудь обогреться!.. Хватило бы и кучки горящих углей, которые бы отдали толику тепла промерзшей крови… Ох, ничего не нужно, только бы согреться чуть-чуть!..
Вот еще несколько мертвецов, и тут я, замерзая, опустился на землю. Колени подогнулись, и мое тело рухнуло на них.
Где же какой-нибудь город? Где же, ради Бога, деревня?
Почти твердая на ощупь зимняя тьма застила мне глаза, а мороз обжигал так, что казалось, будто он хочет пробиться сквозь одежду и погладить меня по голому телу холодными, стальными языками.
Чуть-чуть горячей воды… я падаю… холод швырнул меня на землю, как замерзшую птичку с дерева… я падаю!..
Вдруг моя нога споткнулась обо что-то тяжелое, большое, гигантское. Я упал. Как проголодавшийся ребенок чует в ночи запах материнской груди, так я почуял тепло… Я принялся ощупывать руками, пальцами и нащупал что-то шелковистое, мягкое и теплое.
А! — из моего рта вырвался крик радости, и я тяжко, не рассуждая, по-звериному припал к этому чему-то, как к теплому, мягкому лону.
Когда я напряженно вгляделся, я увидел, что лежу на необычайно рослой, огромной тягловой лошади бельгийской породы. Из полуоткрытого рта лошади свисала огромная масса замерзшей исчерна-красной крови, которая начиналась широко, извилисто, кудревато, а заканчивалась по-козлиному остро, как борода ассирийского царя. Лошадь была еще жива, вдыхала и выдыхала из последних, кончающихся сил.
Я прижимался, крутился, переваливался, как сумасшедший, с одного лошадиного бока на другой и поглощал тепло ртом и ноздрями. Лошадь, почувствовав на себе массу моего тела, издала слабый, несчастный, бессильный вздох. Я сунул в лошадиную подмышку свою окровавленную, раненую ногу и прижал к ее теплому брюху свое холодное замерзшее лицо, приник, притулился к ее шкуре. Но мне все еще было холодно. Я дрожал и думал, что погибну от холода.
Вдруг мне пришла в голову дикая мысль, которая заставила меня вздрогнуть. Я издал крик, полный странной, безумной радости, как тот, кто спасся от смерти.
Я на шаг отскочил от лошади, на одном дыхании выхватил свой штык-нож и — трах!
С яростью, сжав зубы, я всадил нож в лошадиный живот. Нож вошел по рукоять.
Ой! — вырвался в воздух тот человечий крик, с каким обрывается человеческая жизнь.
Нет! Я не верю, что умирающая лошадь может кричать как человек! Нет, я в это не верю!
Может быть, это я издал предсмертный крик за лошадь, которую сам же и убил?
Может быть, это я сам издал предсмертный крик за умирающую тварь, у которой уже не было сил кричать?
Поток густой теплой крови плеснул на меня; тепло ластилось ко мне, гладило меня, оно, мягкое и тяжелое, заструилось по моим, сжимающим штык-нож рукам. Тепло струилось по моей груди, по лицу и шее. Со злым упрямством хищного зверя, сжав губы, я из последних сил разорвал ножом, руками и всем телом лошадиный живот и стал выдирать внутренности.
Перед моими глазами стлалась красная тьма. Лошадиная кровь окрасила ночь в красный цвет. Но я тогда еще не знал, что такое кровь. Я резал, рвал и выдирал внутренности из лошадиного живота и швырял их рядом с собой.
Прошло время.
Я был покрыт холодным потом и промок от крови. Лошадиный живот был в конце концов опустошен. Я подпрыгнул от радости, скорчился, потом растянулся на земле и заполз в лошадиный живот.
Мне стало тепло, очень тепло!
Мне было удобно в большом, просторном лошадином животе. Я лег на бок и быстро заснул тяжелым сном…
Я захотел выползти из лошадиного живота, но почувствовал, что не могу, будто я был прибит к внутренней поверхности лошадиного тела. Я рванулся и освободился.
Холодный, острый, зубастый ветер вместе с необычайно жгучим морозом обняли меня как будто железными руками. От холода я остался стоять, потому что невозможно было ступить и шагу. Я развел руки и тут увидел самое страшное из того, что когда-либо видел.
Я примерз к земле. Я с головы до ног был закован в кровавый красный панцирь из бордовой замерзшей крови. Я не мог опустить рук. Они так и остались разведенными в стороны. Мои ноги пристали к земле. Я выглядел как крест.
Боже мой! Я рос из земли как красный, кровавый крест!
Я — кровавый, красный крест, воткнутый в землю.
Я — кровавый крест на белорусской равнине!
Это было ужасно, страшно и призрачно.
В чистом поле, где не было видно ни человека, ни малейшего признака человеческого жилья, стоял я — замерзшее, красное человеческое распятие!
Я был отлит в виде креста из красного стекла!
Я хотел закричать и не смог; хотел заплакать и не смог.
Я чувствовал, что кровавый крест, который заковал меня и прикрепил, как дерево, к земле, медленно убивает меня…
С одной стороны поблизости от меня лежала мертвая лошадь с разорванным животом, из которого торчала моя вмерзшая в кровь фуражка. С другой — валялись вырванные сердце, легкие, кишки и прочие внутренности животного, покрытые, как саваном, серебристым инеем, а посередине, между тушей и внутренностями, стоял живой, кровавый крест.
Как же случилось, что я, который в детстве не мог видеть, как мальчики мучают кошку, собственными руками вспорол живот живой лошади?
Лошадиная кровь вопияла на моем теле: она меня душила, мучила, высасывала из меня жизнь.
Я попробовал пошевелиться — и не смог. Я был окован, я окаменел, остекленел.
Ой! — закричал я, как ребенок, который хочет, но не может идти.
Я стоял в чистом поле, как неподвижное надгробие с крестом, сделанным из меня самого…
Вдруг остекленевшие глаза убитой лошади ожили и принялись смеяться надо мной:
— Человек!.. Человек!..
Моя голова начала раскалываться от боли, глаза слепнуть, свет дня начал превращаться в них в мешанину из тьмы, головокружительной бледности и крови…
Я стал задремывать… Перед глазами простерлась глубокая бархатная ночь… Мои глаза отяжелели, и дрема убаюкала меня.
Из последних предсмертных сил я встряхнул руками, и мое желание исполнилось.
Крест сломался. Мои руки освободились; затем я из последних слабых сил принялся наносить удары по всему телу, бить себя по лицу, по груди, по голове, и кровавый лед стал разбиваться на мне на осколки.
В конце концов я полностью освободился. Я вылез из креста.
Лошадь продолжала смотреть на меня остекленевшими насмешливыми глазами; смотреть, как я бью сам себя, сам себе наношу удары и сам себя мучаю.
Движимый внутренним побуждением, я опустился перед мертвой лошадью, встал перед ней на колени и стал просить у нее прощения, плакать, кричать и рвать, рвать на себе окровавленные волосы…
14
Я не открывал глаз и чувствовал, что начинаю засыпать. Вдруг сквозь закрытые веки меня ослепил поток яркого света. Я сразу проснулся и поднял голову.
Что я вижу?
Не греза ли это, не ошибка ли смятенного, ослабевшего разума?
Нет, я не грежу!
Все лампы были включены в большом, светлом цирковом зале. Я приподнялся и затем опустился на подгибающиеся, дрожащие колени. Двумя руками я держался за переднюю стенку ложи.
Часы на городской башне пробили три.
На арене пустого, ярко освещенного цирка за чем-то вроде штендера[19] стоял человек с прозрачно-бледным лицом, большими горящими глазами и растрепанными черными волосами; в руках у него была бумага. Я слышал, как он читает низким грудным голосом. Нет, он не просто читал, он кричал, что-то бормотал и несколько раз повторил:
— Песня обо мне ни для кого!
Его лицо было необычайно белым, как будто покойник встал посреди цирка и за полночь декламирует стихи. Я даже смог заметить, что его колени дрожат, а руки трясутся; по его длинному лицу с острым подбородком, который делал это лицо похожим на треугольник, были разлиты болезненное вдохновение и слабость. Только теперь я начал понимать, что тогда я слышал именно его шаги.
Кто это? Сумасшедший, лунатик? Как он проник ночью в цирк?
Вдруг он на миг оторвался от длинной бумаги, которую держал в руках, и огляделся по сторонам.
А! — вырвался из его рта короткий крик.
Его большие, горящие, черные глаза наткнулись на мою голову, которая торчала из ложи первого яруса. Он испугался: его застигли врасплох. Минуту он стоял неподвижно, не зная, что делать, как будто задумался: бежать или остаться? В конце концов он повернулся ко мне и строго спросил:
— Кто вы?
Вместо того чтобы представиться, я светски извинился:
— Сожалею, что помешал вам своим появлением. — И добавил, с трудом сдерживая улыбку: — Вы, кажется, поэт?
— Я не поэт, — ответил он зло и недоверчиво.
— Однако же вы читали стихи.
— Да, я читал, но не свои, — сказал он пренебрежительно, при этом его глаза все время блестели. — Чьи? Если я вам скажу, чьи это стихи, что это вам даст? Что вы понимаете в таких вещах? — продолжил с презрением и скривил свое прозрачное, резко очерченное лицо.
— Поверьте, я в этом немного разбираюсь.
— Ха-ха, разбирается… — он засмеялся болезненным, презрительным смехом. — Я в этом разбираюсь… Ну, так я вам скажу, если вы разбираетесь, это стихи знаменитого и гениального поэта Фогельнеста.
Проговорив это, он рассмеялся еще громче.
— Я не знаю никакого знаменитого польского поэта Фогельнеста, — пожал я плечами.
— Вы его не знаете! — вспыхнул он, и его лицо покраснело. — Но это не значит, что такого поэта не существует. Вот он стоит перед вами собственной персоной: Виктор Фогельнест, одна из самых крупных звезд в современной поэзии! Вы понимаете, — добавил он, — я такая крупная звезда в поэтическом мире, что меня пришлось спрятать в футляр, так что моего сияния не видно… — тут он болезненно и горько рассмеялся.
Он говорил по-польски с красивым выговором. Его, если так можно выразиться, гротескная фигура заключала в себе столько же хитрости, сколько глубокого и надломленного одиночества. На лице лежал отпечаток врожденной способности быстро находить общий язык с самыми разными людьми. Глаза, настоящие черные еврейские глаза, были затуманены, и в то же время в них блестело множество огоньков; они скрывались под покровом ресниц. Он хитро, проницательно, почти ласково глядел на меня. Его глаза охватывали меня целиком, сразу давая понять, кто я и что я; они смотрели гордо, открыто, презрительно — восхитительный взгляд! Нос, бледный, длинный еврейский нос, говорил о благородстве. В целом это было странное, выразительное лицо, в котором отражалась причудливая, одинокая душа.
Удачно пошутив о себе, как о великой поэтической звезде, он даже не улыбнулся. Цирк был слишком ярко освещен, и он стоял так близко, что я не мог этого не заметить. Я ясно видел его лицо после того, как он это сказал. Может быть, он смеется надо мной, веря, что я все приму за чистую монету? Все возможно!
— Что вы здесь делаете? — спросил он дальше и стал ждать ответа, уставившись на меня как полицейский, чтобы оценить правдивость моих слов.
— Мне негде ночевать.
— Так вы решили переночевать здесь?
— Да.
— Кто вам позволил?
— Никто.
Я заметил, что его ненависть ко мне вдруг исчезла. На его лице даже появились признаки дружеского расположения.
Он замолчал и задумался. Вдруг он нервно, коротко рассмеялся, и в пустом цирке этот смех прозвучал отчужденно и страшновато; затем он хитро и льстиво спросил:
— Вы полагаете, я сумасшедший?
— Нет! — ответил я.
— Нет, говорите? В таком случае, вы не знаете людей.
Я удивился такой искренности и разглядел его получше. На его лице все еще было выражение, состоявшее из смеси хитрости, смеха и одиночества. Можно было подумать, что он дурачит меня ради какой-то таинственной цели.
— Нет, вы меня не поняли! — его глаза продолжали сверкать прежним огнем. — И поэтому не говорите мне правды. Поверьте, — он насмешливо улыбнулся, — я смеюсь над вашей правдой… Я-то знаю, что человек, который ночью читает свои стихи в пустом цирке, — сумасшедший…
Я молча наклонил голову над краем ложи так, что с меня упала фуражка…
— Подождите, я вам принесу фуражку.
Через несколько мгновений он оказался рядом со мной в ложе. Теперь я его видел совсем отчетливо. Тени, отбрасываемые задней стенкой ложи, придали его лицу еще более резкие очертания. Он, на дрожащих ногах, с болтающейся головой, наполнил мою душу беспокойством. Он выглядел как пьяный.
Он снова оглядел меня, теперь уже долгим взглядом, внимательно и со всех сторон. Несколько минут прошло в тишине. После этого он протянул мне руку. Я подал ему свою. Он крепко ее пожал и отпустил. Потом сказал грустно и серьезно:
— Вы, я вижу, честный человек, иначе бы вы не были так одеты и не ночевали бы здесь. Я бы хотел быть вам добрым другом, потому что у такого человека, как вы, нет никого в целом свете, и у меня никого нет. Вы смотрите на меня с удивлением и не можете меня понять. Вы, очевидно, принимаете меня за сумасшедшего или пьяного. За полночь пробраться крадучись в театр — это поведение безумца… — он улыбнулся. — Знаете ли вы, что у вас горячая рука? — вдруг вспомнил он и переменил тон разговора. — У вас жар… Вы больны… Вы странно на меня смотрите!.. У меня бывают такие минуты, когда я беспокоен, как непогода, и чувствую, как земля дрожит подо мной. Тогда я вижу, какую безумную и глупую роль я играю на свете. В такие минуты, когда моя душа горит, я слышу в себе некий голос, который велит мне: пойди куда-нибудь в чащу леса, набери в легкие побольше воздуха и кричи, кричи, пока не оглохнешь.
Он сделал маленькую паузу, обхватив голову руками, как осужденный, а потом заговорил снова, но уже спокойней и тише, чем прежде:
— В течение нескольких недель меня мучила одна мысль: пойди, прочитай свои стихи, которые никто не хочет печатать, ночью в театре. Я бы хотел выкричаться в пустом зале. Я даже подпрыгнул, когда мне это взбрело в голову. Как это хорошо, как это очаровательно.
Тут он перевел дыхание и несколько секунд глядел перед собой неподвижно.
Вдруг он подал мне руку, потом, не сказав ни слова, отошел. Он был бледен и обессилен. Внезапно на него напала апатия. Затем его лицо опять приобрело прежний смеющийся, хитрый вид, и он спросил:
— Не кажется ли вам, что я говорю глупости?
Я посмотрел на него внимательно и с удивлением:
— Я вас не понимаю!
Он рассмеялся и убежал.
Стало темно. Я заснул.
15
Было девять часов утра. Я понял это по бою башенных часов, который гулко разносился в пустом здании цирка. Я встал со своей постели и принялся расхаживать туда-сюда, чтобы согреться и размять кости. От скуки я начал считать шаги: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать! И размышлять, когда придут открывать цирк. Прошло немного времени, я все считал шаги. Вокруг было темно, потому что в зале не было окон, через которые мог бы проникнуть дневной свет. Можно было подумать, что еще ночь.
— Сколько шагов можно сделать за час? — спросил я сам себя просто так, чтобы думать о чем-нибудь. — Восемьсот два?
Почему восемьсот два? Ровно восемьсот два? Я рассмеялся над тем, что заупрямился на числе восемьсот два. Вдруг я услышал, что кто-то идет.
Цирк уже открыли? Люди уже пришли?
Ага, кто-то идет ко мне в ложу.
Я узнал его в темноте: это был Фогельнест.
— Не можете ли вы мне сказать, кончилась ли ночь? — спросил он меня глухим, невыспавшимся голосом, приглаживая кудрявые черные волосы.
— Давно уже день!
— А откуда вы знаете?
— Я слышал, как часы били на башне.
— Так вы знаете, который час?
— Да. Девять, может быть, полдесятого.
— Они приходят сюда на репетицию в одиннадцать. До тех пор не выйти.
Он уселся. В темноте его глаза горели беспокойным и яростным огнем. Так он просидел около меня минут пятнадцать, не произнеся при этом ни слова.
— Вы уже давно ночуете в цирке? — спросил я его.
Он даже подпрыгнул от гнева:
— Я прошу вас, дайте мне помолчать до одиннадцати.
Он надулся пузырем и продолжал молчать. Я присмотрелся к нему. Фогельнест сидел, ссутулившись, а его глаза смотрели так, будто он кого-то подстерегал. Но до одиннадцати он все-таки не промолчал. Просидев еще пятнадцать минут в тишине, он стукнул кулаком по подлокотнику кресла и заговорил сломленным, грустным и отчаявшимся голосом:
— Черт меня возьми! Я ни к чему не пригоден! Я никуда не гожусь!.. В каком безумии я провел эту ночь! — Он обратился ко мне. — Читать стихи в пустом цирке, где нет никого — что за безумие! Что за идиотизм!.. Ах, я тону в море подобных глупостей!.. И с каждым днем все больше и больше. Я бы хотел сам себя наказать за это. И вот мое наказание: не скажу ни слова до одиннадцати. Вот так пять дней подряд не буду ни с кем разговаривать до одиннадцати часов утра… Если бы вы знали, как я люблю поговорить, вы бы поняли, как тяжело для меня это наказание.
В темноте я все-таки сумел разглядеть, как его лицо скривилось в горькой усмешке.
Что за странный человек! Я никак не мог понять, смеется он или говорит серьезно. Он тут же переменил тон и спросил меня:
— Вы хотели знать, как давно я тут ночую, не правда ли?.. В первый раз, друг мой, в первый и в последний раз… У меня есть дом и жена…
— Вы женаты? — я от удивления перебил его. — Но вы же вчера сказали, что у вас нет никого в целом свете.
— Я так вам сказал… да, я так сказал… и то, что я сказал, — правда.
Он придвинулся ко мне и сжал мою руку. В его глазах блестели слезы.
Я смутился от удивления. Кто этот человек? Чего он хочет? Нет, я его не понимаю! Ни капли не понимаю!
— Вы сегодня пойдете со мной, и вы увидите мою жену! — продолжал он.
Я не сказал «нет».
Он несколько раз провел рукой по волосам.
— Вам кажется странным, что у меня есть жена?.. Вы этого не ожидали?
Он снова улыбнулся и замолчал.
Он говорил очень своеобразно: отрывисто и быстро, бросая слова так, точно не хотел носить их в себе, как будто он задыхался от них. Он смешивал в речи всевозможные предметы, между которыми не было никакой связи, он так и сыпал словами. Вдруг он затих. Он снова был опустошен и измучен. Он рухнул на стул, как груда мертвой плоти, и замолчал.
В половине одиннадцатого открыли цирк. Пришли несколько акробатов, служитель и клоун Долли. Один из акробатов был очень толст. Он едва мог ходить и при этом сопел. Служитель принес на палке тяжелые гири. Долли, одетый в черный костюм и лакированные полуботинки, танцевал на арене, размахивал тросточкой и зло бормотал:
— Чтоб их повесили! Разбудили меня в полдесятого… У меня глаза еще не открываются…
— Хе-хе, — рассмеялся толстый акробат. Его глаза заплыли жиром так, что их едва было видно. — Тебе, Долли, хорошо, когда ты спишь: тогда ты не знаешь, что ты лилипут.
Маленький, невыспавшийся Долли был раздражен:
— А тебе еще лучше: когда ты спишь, ты не знаешь, что ты скотина.
Акробаты расхохотались. Один из них схватил Долли, поднял его и, встряхнув, усадил к себе на плечи. Долли закусил губу и замолчал. Клоун Долли вел себя геройски. Он не испугался. Он боролся изо всех сил. Шутки были его оружием.
— Тебе придется долго меня таскать: вот и видно, что ты осел, раз мне приходится на тебе ездить!
Это помогло. Его тотчас отпустили.
Эти могучие люди не могли справиться с Долли.
Мне понравился маленький Долли. Я бы хотел еще побыть в цирке и поглядеть, что в нем будет происходить. Но Фогельнест потянул меня за рукав.
Мы вышли из цирка.
16
Шел дождь. Улицы были покрыты грязью, и ветер нагло бросался на стены домов, точно хотел повалить их. Он рыдал, выл, вопил так, что закладывало уши. Я поднял воротник и пошел. Фогельнест молчал. Он был задумчив и то и дело сплевывал, не говоря ни слова. Дождь хлестал ему в лицо, которое от напряжения стало еще бледней и костлявей. Вдруг показалась кучка людей. Остановился трамвай. Пассажиры вышли из трамвая и все вместе присоединились к кучке. Мы подошли ближе. Оказывается, задавило собаку. Камни мостовой, рельсы и колеса трамвая были забрызганы кровью, которую быстро смывал дождь. Голова и нога собаки лежали отдельно от тела. Люди говорили, размахивали руками, кричали. Вагоновожатый отвечал и что-то показывал руками во все стороны. Фогельнест взглянул на разрезанное тело собаки и вздрогнул. Я услышал, как клацнули его зубы.
Он зашагал шире, как будто хотел убежать.
— Пошли быстрей! Быстрей! — тащил он меня за рукав.
Теперь мы шли очень быстро. Я слышал, как Фогельнест бормочет про себя:
— Бедная собака!
Фогельнест все еще был мертвенно бледен. Вдруг он заговорил зло, отрывисто, беспрерывно чертыхаясь:
— Собаки, на что нужны собаки! Они годятся только на помойку! — По его тону можно было понять, что теперь он говорит нечто давно обдуманное. — И величайшему мудрецу не понять, для чего в Европе существуют собаки… Я этого тоже не понимаю… Боже мой, как идиотски устроен Твой мир! — закончил он, в отчаянии тряся головой.
Фогельнест выглядел до смешного расстроенным.
Мы свернули в узкую улочку. Высокие грязные дома разглядывали друг друга маленькими окошками. Поставленные в два ряда, друг против друга, они, эти дома для рабочих, пялились с ненавистью на небо, будто поклявшись не впускать на улицу солнце. И на ней действительно было так темно и грязно, как будто бы на оба ряда крыш навалилась скука. Про эту улицу можно было смело сказать: «Здесь нет неба».
Мы поднялись на пятый этаж. Фогельнест открыл дверь, и мы вошли в маленькую комнату. У стола сидела женщина и что-то шила. Она оглядела нас обоих своими умными карими глазами, в которых залегла едва заметная печаль. Она не спросила Фогельнеста, где он был, а встала, отложила шитье, налила две чашки горячего кофе, достала из шкафа буханку хлеба, сахар, масло и все это поставила на стол.
— Будете есть? — спросила женщина печальным и тихим голосом.
— Да, будем, — ответил Фогельнест и дружески хлопнул меня по плечу. — Вы ведь не откажетесь, верно?
Я с удовольствием пил горячий кофе и при этом исподтишка разглядывал женщину. Я удивлялся: почему она не спрашивает, где ее муж был всю ночь? Может, он ей заранее рассказал, куда пойдет? Нет, это невозможно. Она бы не позволила творить такое безумие!
Она была ниже среднего роста, с вытянутым белым лицом, с мягкими толстыми губами, заканчивающимися резкими морщинами. Эти юные, мягкие, красные губы были исполнены детскости и врожденной доброты. Щеки немного пожелтели. На скулах проступал легкий болезненный румянец, говоривший о чахотке. Глаза у нее были большие, карие, добрые, умные и грустные. Длинные каштановые волосы спадали вдоль длинной, белой, тонкой шеи. На ней было чистенькое желтое платье из вискозы, чистая батистовая блузка и тапочки. Весь ее образ говорил об усталости и дышал печалью. Спокойная и тихая, как голубка, она скупилась на слова. Голубые тени, глубоко залегшие вокруг ее умных глаз, выдавали острую нервозность, которая в эту минуту была спрятана, скрыта.
Я, не переставая, смотрел на нее. Вдруг я обратил внимание на то, что в ее каштановых волосах мелькают густые седые пряди, даже не седые, а белые.
Она заметила мой взгляд. Красные болезненные пятна на ее щеках стали видней. Она несколько смутилась, не сумев выдержать своими умными, глубокими глазами мой дерзкий взгляд. Она встала.
— Может быть, выпьете еще кофе? — спросила она приятным, но несколько хриплым голосом.
В нем звучала странная покорность, которая просто поразила меня.
— Не спрашивай, Клара! Налей нам обоим, и мы оба попьем! — сказал Фогельнест, даже не обернувшись к ней.
Она тихим шагом подошла к маленькой печке и налила две кружки кофе. Я принялся за вторую кружку. Фогельнест засыпал. Он уронил голову на стол и начал задремывать. Клара подошла к нему и спросила, как мать спрашивает ребенка:
— Виктор, хочешь спать? Пойди ляг, поспи. Твой друг тебя извинит.
Она повернулась ко мне, и на ее умном, нежном лице появилась легкая улыбка. Я кивнул в знак согласия. Она стянула с Фогельнеста туфли и верхнюю одежду, он улегся на единственную кровать, стоявшую в комнате, и сразу уснул.
Я согрелся. Стало даже жарко. Дождь стучал по жестяному подоконнику, и окно издавало беспокойный звон. Клара снова села шить. Длинные пальцы ее бледной и красивой руки двигались очень ловко. Я почувствовал, что хочу отблагодарить эту добрую женщину каким-нибудь рассказом, рассказом о чем-нибудь интимном, личном, о чем-то, что женщины так любят слушать. Но я не знал, с чего начать. Так я молчал и смотрел на ее бледное, измученное и милое лицо и длинные белые руки. Вдруг она подняла свои большие глаза и робко спросила:
— Вы служили в армии?
— Да.
— А теперь вас отпустили?
— Да, я уже третью неделю хожу в цивильном.
— У вас есть работа?
— Нет, старого места работы, которое я занимал до армии, у меня теперь нет. Фирму ликвидировали.
— Вы ничего не делаете? — спросила она с сочувствием.
— Нет, ничего.
— Вам, конечно, очень плохо?
— Как говорится, не пропадем.
Она замолчала и опустила глаза.
— Вы так плохо выглядите, — продолжала она.
— Да ну, это только так кажется. Я просто давно не стригся и не мылся.
— Вас можно просто испугаться — так скверно вы выглядите. Может быть, умоетесь у нас?
— Большое спасибо, не отказался бы.
Она встала и поставила передо мной тазик с теплой водой и мыло.
Я снял фуражку и, не снимая шинели, умылся. Рукава шинели намокли, и, когда я поднял руки, капли грязной воды упали на чистый пол. Я покраснел от досады и пожалел, что согласился умыться. Кроме того, я стыдился той грязи, которую смыл с лица в тазик. Я взял тазик в руки и, прикрывая его телом, решил вынести во двор, чтобы вылить грязную, черную воду. Я покраснел до ушей. Она, стоя поодаль, вероятно, обратила внимание на мое смущение и из жалости стала смотреть в сторону, делая вид, что не замечает ни тазика с грязной водой, ни больших темных капель, которые упали на пол с моих рукавов. Я вышел во двор, вылил воду, поднялся обратно и, опустив глаза, сел, пристыженный. Я очень досадовал на свою беспомощность. Мне казалось, что я запачкал всю комнату, которая содержалась в такой чистоте и опрятности благодаря тяжелой работе нежных женских рук. Я просто растерялся. Эта история с мытьем могла в тогдашнем моем состоянии довести меня до слез. Я полюбил эту благородную добрую женщину с первой минуты, да к тому же я сам был так сломлен и одинок!
Я сунул в карманы мокрые рукава, чтобы их не было видно, и подумал, что эта женщина, должно быть, зла на меня. Я слышал рассказы о том, что даже самая умная женщина может рассердиться, если, допустим, перевесишь картину на стене, и готова скандалить, лишь бы добиться, чтобы картина висела так, как ей хочется. Вдруг я услышал около моего лица звуки громкого смеха и почувствовал запах женщины.
— Вы забыли вытереть лицо!
Она набросила на мою голову белое полотенце. Я покраснел еще больше и дотронулся до своего лица. Оно было влажным, хотя ветер на дворе немного его обсушил.
— Ха-ха-ха! — засмеялся я. — А я и забыл! Голова садовая!
И я принялся вытирать лицо полотенцем.
Я растерялся еще больше. Быстро вытер лицо. Часы на городской башне пробили полдень.
— Уже полдень, мне пора идти!
Я отложил полотенце, открыл дверь и, крикнув несчастным голосом «Адье!», почти убежал, не попрощавшись и не поблагодарив.
На лестнице я остановился и задумался.
Постояв, я спустился на два марша лестницы и тут вдруг услышал, как за моей спиной распахнулась дверь. Я обернулся. В дверях стояла Клара, напудренная и накрашенная, даже глаза были подведены. Она показалась мне красивой, очень красивой. Она стояла, держа руки на талии, заливисто смеялась звонким женским смехом и смотрела на меня.
Я от удивления так и замер на лестнице.
Неужели это она?
Да.
Дверь захлопнулась.
Всю дорогу до самого цирка я думал об этой женщине. Чего она от меня хотела? Не из тех ли она бабенок, которых тянет согрешить с любым мужчиной?
Я проходил мимо витрины с зеркалами. Меня потянуло взглянуть на себя, я остановился у витрины и стал рассматривать себя в зеркале. Лицо у меня было худое, костлявое и бледное. На подбородке выросла немаленькая борода. Длинные нечесаные волосы, грязные и свалявшиеся, достигали бороды. Когда я хорошенько разглядел себя в зеркале, я заметил, что в моих глазах мелькает дикий огонек бессонных ночей. Я был необычайно бледен, как человек, вставший с одра долгой и тяжелой болезни; можно сказать, что тогда я был страшно бледен. В драной солдатской шинели с поднятым воротником я выглядел как пришелец с того света. Мой растрепанный вид позволял с первого взгляда признать, кто я таков, и сказать обо мне: «Этот не от мира сего…»
Я выглядел не старо и не молодо. Никто бы не сказал, сколько мне лет. Глаза глубоко ввалились, скулы торчали. Я удивился изможденности своего исхудавшего лица. Меня охватила жалость — я выгляжу как привидение! Я вгляделся в зеркало и как будто поперхнулся:
— Эта женщина насмешничала надо мной… не иначе как насмешничала…
Дверь лавки, которой принадлежала витрина, открылась, оттуда вышел толстый господин с сигарой во рту. Он обратился ко мне грубым, сердитым тенором, так, как говорят с низшими:
— Это зеркало не для того здесь стоит, чтобы в него пялились часами!..
Этот злой голос хлестнул меня, как кнут. Я не пошел дальше своей дорогой. Я остался стоять, мысленно готовый к отпору. Мое лицо исказил гнев.
— Имею полное право смотреться в зеркало столько, сколько захочу… Я четыре года провел на войне… Четыре года, понятно? Я дрался на трех фронтах!.. Не думайте, что я нищий… Перед тем, как меня призвали, я был бухгалтером в знаменитой фирме «Борицкий и Ко»… Если не верите, смотрите!
Сам не понимая, что я делаю, я достал из кармана старую рваную бумагу и резко швырнул ее в двери. Это был документ, подтверждавший, что я действительно работал в головном отделении фирмы «Борицкий и Ко». Швырнув в толстяка эту бумагу, я вихрем умчался.
Я пошел медленнее, только оказавшись недалеко от цирка. Я и сам не знал, отчего и почему я чувствовал себя таким опустошенным и сломленным.
Как глупо я разговаривал с тем человеком около зеркала! С каждым днем я становлюсь все глупей… Все у меня теперь не слава Богу…
Все еще шел сильный дождь. Ветер не прекращал раскачивать вывески и фонари. На улице было мало народу, только кое-где попадались одинокие прохожие.
Директор уже пришел в цирк. Он расхаживал взад-вперед по своему кабинету и считал.
— Сегодня пойдете носить афишу сразу после обеда… Старая афиша размокла. Сделали новую. Приходите после обеда, — сказал он мне.
Я постоял еще минуту. Директор оторвался от бумаг и посмотрел на меня.
— Ага… Вы хотите денег? — он вытащил из кармана несколько тысяч марок и швырнул их мне. Я вышел на улицу.
Было темно, как будто наступил вечер. Мои ботинки были полны грязи, а дождь насквозь промочил меня. Я прошел две маленькие улочки. Перед моими глазами все еще стояла жена Фогельнеста — ее глубокие страдающие глаза и юные свежие губы.
Боже мой, как хорошо, когда рядом с тобой есть такой человек! Как мило она вела себя со мной, грязным, оборванным и, главное, незнакомым.
Я думал о ней как о неземном, фантастическом и удивительном существе. Мне казалось, что она давно, давно ждет меня, что она меня откуда-то знает…
Вдруг в моих ушах зазвенел ее смех, которым она смеялась, стоя на лестнице.
Что означал этот смех? Для кого она так вырядилась? Я ничего не понимал.
Я оказался перед парикмахерской. Я вошел в нее и велел меня побрить и постричь. Парикмахер в белом халате посмотрел на меня с недовольным выражением лица. Я ему не понравился. Он велел садиться и позвал маленького ученика, которого обычно использовали для того, чтобы он чистил клиентам платье.
— Побрей господина! — велел парикмахер ученику и повернулся ко мне спиной, чтобы заслонить от других клиентов мою драную шинель, в прорехи которой выглядывала грязная рубашка.
Когда я был пострижен и побрит, мальчик сказал мне, показывая рукой на человека в белом халате:
— Двести марок господину мастеру!
Я вытащил из кармана тысячную купюру и расплатился. Мне дали восемьсот марок сдачи.
— Вот тебе на чай! — я швырнул малому восемьсот марок и быстро вышел.
Когда я уже отошел на некоторое расстояние от парикмахерской, чей-то голос окликнул меня:
— Вы ошиблись… Дали мальчику слишком много денег!
Человек, который ко мне обращался, держал в руке восемьсот марок.
Я пошел дальше, больше не оборачиваясь. Я представлял себе, как удивился малый, пересчитывая такую сумму, и как был удивлен человек в белом халате. Я был удовлетворен.
17
Директор цирка Вангалли последние дни ходил злой и раздраженный. Он расхаживал по своему кабинету, выпуская облака дыма из своих контрабандных, толстых немецких папирос и каждую минуту зло ворчал:
— Пять-шесть тысяч… К черту… Дефицит…
Он не отвечал на мои приветствия, ходил кругами и никого не замечал.
Но однажды он меня все-таки заметил.
— Вам что-нибудь причитается? — спросил он.
— Да. Причитается.
— Сколько?
— Восемь тысяч марок.
Он вытащил из портфеля светлой кожи несколько ассигнаций и протянул их мне.
Я хотел было уйти. Но директор посмотрел на меня глубоким проницательным взглядом и сказал:
— Погодите немного, мне нужно с вами переговорить.
Я остановился на пороге.
— Вы можете хорошо говорить? — спросил он.
— Да, могу, — ответил я, улыбнувшись.
— И по-польски?
— Могу и по-польски.
— Вы сможете у меня заработать на жизнь…
Он помолчал несколько секунд, а потом громко сказал:
— Значит, так, дело вот в чем: я совладелец кинотеатра «Венус», который, как вы знаете, находится в районе, почти сплошь населенном рабочими, большая часть которых не в состоянии читать титры. Во время показа картины вы будете стоять за экраном и в дырку объяснять публике, что происходит в каждой сцене. Понимаете? Вы должны говорить громко и отчетливо, и еще вы должны говорить интересно… Ин-те-рес-но… Вас должно быть слышно, и ваша речь должна доставлять удовольствие… Вы должны привлекать публику. Вы должны говорить смело, бодро, так, чтобы вас хотелось слушать… Например: в картине показана схватка между двумя полицейскими и бандитом Зигомаром[20]. В этом случае вы должны говорить так: для того, чтобы схватить великого предводителя бандитов Зигомара, было послано десять лучших тайных агентов из числа тех, которыми располагает полицейская префектура Парижа. Верный слуга принес Зигомару сведения, которые узнал из документов, выкраденных им из взломанного железного несгораемого шкафа в полицейской префектуре. Зигомар, услышав эти новости, только улыбнулся, вытащил револьвер, воздел ствол к небу и произнес: «Десять — это не один. Но я, Зигомар, предводитель банды „Черный скелет“, посоветую подлым предателям…»
Директор изменил голос:
— Вы меня поняли, вам нужно будет говорить именно так… Публика ненавидит полицию… Публика сочувствует бандитам… Зигомар — бог. Зигомар — предводитель бандитов — это сила, хо-хо, великая сила!.. Пока Зигомар поднимает свой револьвер, чтобы дать отпор полиции, вы должны говорить: пятьдесят разрывных пуль приготовил Зигомар. Сорок девять — для полицейских, для своих преследователей, а последняя пуля, чтобы пронзить алое сердце в своей геройской груди… Когда Зигомар стреляет, вы не должны говорить: «Зигомар стреляет», а только — «Зигомар устроил канонаду» или «Зигомар бомбардирует»! Когда у Зигомара остается еще двадцать пуль, вы должны объяснять публике: «До последнего выстрела осталось девятнадцать. Победа или смерть. Геройская жизнь или одинокая могила…» Вот как вы должны говорить, вы меня понимаете! Возьметесь? Я вижу, вы интеллигентный человек, у вас должно получиться…
— Надеюсь, что получится, — ответил я.
— Итак, с завтрашнего дня приступайте к вашей новой работе. Завтра ровно в шесть приходите в кинотеатр «Венус».
— Хорошо, адье!
Я вышел на улицу. Стачка ткачей все еще продолжалась. Рабочие, одетые по-праздничному, расхаживали по городу с таким выражением свободы на лице, как будто их только что выпустили из тюрьмы. Они смеялись над толстыми богатыми господами, встречая их на улице. Колючие, острые слова жарких и ядовитых уличных насмешек смело свистели в воздухе.
Рабочий с широко и злобно открытым ртом и ввалившимися, беспокойными, жгучими глазами алкоголика кричал, дерзко глядя в глаза какому-то очень толстому типу, который случайно попался на пути ему и еще двум рабочим:
— Гляньте, он ограбил наши животы! Три четверти его брюха принадлежат нам, братцы! Нашими трудами нажил он себе такое брюхо. Если бы не мы, он бы был худ, как веретено. И что бы он тогда делал, бездельник?..
И все трое принялись беззаботно хохотать, в их хохоте звенела колючая ненависть.
Ставший объектом насмешек толстый господин, услышав шутки в свой адрес, не знал, что ему делать. Только его маленькие, толстые, пухлые уши, похожие на пуговицы из мяса, вздрогнули — и он прибавил шагу. Мальчишки бежали по улице, держа газеты в вытянутых руках, и кричали:
— Директор Завадский дает еще пять процентов.
Мальчишки с вечерними газетами бежали так, как будто ими выстрелили из дверей редакции и они не могут остановиться и теперь должны мчаться по городским улицам.
— О… о… он поумнел, этот директор Завадский! — говорили в группе рабочих, которая стояла на углу. — Он уже дал пять процентов… Нет, только тридцать пять, и ни процентом меньше… Мы уже достаточно наголодались, так что теперь им придется нам прибавить!..
— Они могут прибавить и все сто процентов! Стоит им только захотеть, — отозвалась женщина с тощим, изможденным лицом и открытым ртом, которым она быстро, тяжело и хрипло дышала.
На всех улицах шумели. Повсюду расхаживали рабочие, повсюду только и слышно было, что «пять процентов», «директор Завадский», «стачка».
Я зашел в какой-то ресторанчик и поел. Потом опять вышел на улицу. Солнце сияло, но не грело. Теплоту солнечных лучей одолел бледный зимний мороз, который колыхался в городском воздухе. Я думал о Фогельнесте и его жене и никак не мог их понять. Я ничего не знал об их жизни, чем они занимаются и чем зарабатывают. Все мои раздумья и размышления о них не сделали их понятней.
Так я гулял до ночи. Потом ушел в цирк.
Цирк был слабо заполнен. Только верхние ярусы были полны рабочими. Часов в десять, за час до окончания представления, я снова вышел на улицу. Вместе со мной из цирка вышел атлет Язон, которого представляли как «чемпиона Латвии». Язон был любимцем публики. У него была изящная, благородная, умная улыбка, которую он, выходя на поклоны, посылал в зал с детской веселостью. Это был очень красивый мужчина, мускулистый и гибкий, как кошка. Его большие глаза светились открытым, приветливым жизнелюбием. Он стал избранником публики потому, что, победив противника и уложив его на лопатки, дружелюбно протягивал ему руку и потом, поддерживая его, обходил вместе с ним арену; он часто предлагал побежденному шоколад.
— Пройдитесь немного со мной по городу! — обратился он ко мне. Язон знал меня как циркового «рабочего сцены». Он дружески взял меня под руку и сразу же пошел со мной.
— Вы поляк? — спросил он, глядя на меня с улыбкой своими проницательными карими глазами.
— Нет! Я еврей!
— Коли так — шолом-алейхем![21] — и он пожал мне руку.
— Вы тоже еврей? — обратился я к нему.
— Еще какой! — улыбнулся он. — Настоящий еврей из Литвы!
— Кто бы мог подумать, что вы еврей! В вашей внешности нет ничего еврейского. Вы выглядите как настоящий гой[22], — сказал я ему.
— Даже так? — спросил Язон.
По тому, как он держал меня под руку, я ощущал почти стальную мощь его огромного тела.
— Вы правы, — сказал он. — Как может быть, чтобы еврей был силачом и к тому же зарабатывал на жизнь мускулатурой?.. Но не будем об этом. Поверьте, мое занятие мне отвратительно… Пойдемте в какой-нибудь кабак. Мне нравятся дешевые кабаки, в которых валяются мертвецки пьяные, в которых пьют не из стаканов, а прямо из бутылок…
При этих словах его глаза блеснули бесшабашностью уличного мальчишки.
— Мне нравятся дешевые кабаки не из-за того, что я беден… Если вы так подумали, то вы ошиблись…
Теперь он задумчиво смотрел вдаль, на шумную улицу, так, как будто был захвачен какой-то мыслью.
Мне показалось, что я его понимаю. Он молчал в течение пяти минут.
— Христианская публика принимает меня за настоящего христианина. Это смешно, — снова заговорил Язон. — Мой отец был очень набожным и благочестивым евреем… Он бы ни за что не поверил, что у него будет такой сын, как я, парень, который таскается по свету вместе с цирком…
Он горько скривил свои полные, красные губы.
Мы брели по тихой улице. На ней не горело ни одного фонаря. Было темно. Нигде не было видно ни души. В окнах поблескивали маленькие, красные, мутные огоньки. Когда мы прошли дальше по этому закоулку, в котором ночь залегла неподвижно и прочно, как спящая скотина, до наших ушей донеслось что-то вроде звуков расстроенной скрипки и шарманки. Язон чиркнул зажигалкой. При свете зажигалки мы увидели лавку, на дверях которой были прибиты жестяные вывески. Сверху, над двумя дверями, висела еще одна вывеска, на которой было написано «Бар „Карлос“. Владелец: Владислав Шубрак». Мы открыли дверь и вошли внутрь. В баре был полумрак. Там не было электрического освещения. Две керосиновые лампы под длинными абажурами распространяли скупой свет. Пожилой поляк с нездоровым, опухшим, желтым лицом и большими, остекленевшими, выпученными глазами стоял за наполовину сломанной, выкрашенной светлой краской стойкой; он почти не шевелился и выглядел как статуя, изображающая сонного, болезненного старика. Потолок опирался на деревянный столб, стоявший посреди комнаты. В него были вбиты крупные гвозди, чтобы вешать на них одежду. Прислонившись к столбу, стояли молодой человек со скрипкой и другой, постарше, с шарманкой. На скрипаче была серая залатанная куртка, из-под которой торчала светлая трикотажная рубашка в черную полоску; на ногах у него были толстые гольфы, местами рваные и грязные. По его виду можно было понять, что он «артист». Второй, механически, скучая и без всякого желания, крутил ручку шарманки. На шарманке стоял стакан пива, из которого шарманщик, прикрыв глаза и задремывая, поминутно отхлебывал. По его обветренному и обожженному солнцем лицу было понятно, что он — деревенский музыкант, бродяга. Оба музыканта, как будто обреченные играть вечно, привалились к столбу.
Помещение кабака было узким, но очень длинным. Там, где почти заканчивался свет, стояли деревянные столы и лавки. Голоса, пьяные и полупьяные, доходили до двери, как будто бы хотели вырваться на улицу. Перегар и запах спиртного лежали на всем как плотный туман, в котором еще больше терялся скупой свет двух керосиновых ламп. Время от времени из темного конца кабацкого зала доносились безумные пьяные голоса, которые звучали как приказ:
— Эй, музыканты, сыграйте танго!
— Вальс Зигомара! — кричал другой пьяный голос с еще большой наглостью.
— Играй «Последние минуты героя Длужневского»! — слышался третий пропитой, хриплый голос, который пытался перекричать всех.
Музыканты не слушались этих команд. Они, сонные и грустные, задремывали и играли, что бог на душу положит.
Вдруг послышалось, как кто-то идет вразвалку. Из недр кабака на свет вышел толстый извозчик с грудью нараспашку. Его мясистое, морщинистое лицо был покрыто потом, а маленькие мутные глазки туманил алкоголь; он был похож на лошадь, которая пахнет навозом стойла. Он подошел к музыкантам и дважды легонько двинул их кулаком под ребра:
— Чего не играете, что велят, сучьи дети?
Оба музыканта схватились за животы, при этом покорно и хитро заглядывая извозчику в глаза.
— Что мы должны играть?
— Танго! — гневно крикнул извозчик, как командир, чьи приказы не выполняют.
— Мы голодные, а потому никакого танго играть не можем!
— Не можете? Будете играть! Вам за это платят! — заорал извозчик.
— Кто это нам заплатил?! — воскликнули оба музыканта в один голос. — Шубрак? — И они показали на старика, который стоял за стойкой. — Ха-ха-ха! Мы проедим шарманку вместе со скрипкой, прежде чем получим от него хоть грош!..
Извозчик достал несколько монет и швырнул их музыкантам. Они схватили монеты, как нищие, которым кинули милостыню. И оба заиграли мелодию танго. Извозчик пьяно улыбнулся, хлопнул музыкантов по животу и вернулся на свое место.
Язон повеселел.
— Отлично! — пробормотал он. — Это место мне нравится.
Мы сели за стол в передней части кабака.
Худенький парнишка-поляк с копной русых волос и маленькими, бегающими, блестящими глазками подбежал к нам на своих тонких, кривых от рахита ножках.
— Чего угодно господам? — спросил он.
— Водки! — сказал Язон.
— Целую?
— Целую!
Парнишка усмехнулся про себя, таинственно и скрытно, так что на его бледном лице проступили румянец и пот; он зажмурился как человек, который узнал некий секрет.
— Прошен бардзо![23] Прошен бардзо! Прошен бардзо! — повторил он трижды, демонстрируя нам свое величайшее почтение. Он быстро убежал от нас на своих тонких ножках и тут же вернулся с бутылкой водки. Протер стол и поставил на него бутылку, улыбаясь глазами и глядя на Язона с восхищением и необычайным уважением.
В кабаке было шумно. Голоса пьяных мешались со звоном стекла и звуками скрипки и шарманки. Старик за буфетной стойкой продолжал стоять, не шевелясь, неподвижно, как статуя, а его глаза потихоньку флиртовали с картиной на стене напротив. На картине была изображена толстая, румяная крестьянка с полуоткрытым здоровенным бюстом и кувшином пива в руках.
Язон разлил водку по стаканчикам. Мы выпили.
— Поймите меня, — заговорил он, закуривая папиросу, — это здесь, у вас, меня зовут Язоном. Поверьте, это имя я не сам выбирал. Мой работодатель дает мне в каждой стране новое имя. Невозможно и запомнить все имена, которыми меня называли. В Польше я латыш, а в Латвии — поляк; в Германии — бельгиец, а в Бельгии — немец. — Набрав полную грудь воздуха, он рассмеялся раскатистым громким смехом. — Я с тринадцати лет скитаюсь по свету, — продолжал Язон. — Мой папа отдал меня в ученики к ремесленнику, но я не хотел расставаться с моими собаками и с моей вольной жизнью. Через три недели я сбежал от этого ремесленника. Убежал в российскую глубинку, прошел пешком сотни верст, ночуя в крестьянских хатах. В Москве ко мне привязалась одна русская барыня. Я прожил у нее целых три года. Она учила меня русскому и кормила как графа, берегла как зеницу ока, ни на минуту от меня не отходила. Я убежал от нее с тремя сотнями рублей, которые скопил из карманных денег, которые она мне давала каждый день. Пустился, куда глаза глядят, куда ноги несут.
В Бессарабии я перешел румынскую границу. В Румынии в первом же приграничном городе меня заложил какой-то уличный мальчишка, меня арестовали и посадили в тюрьму. Мне тогда было девятнадцать лет, я был силен и здоров, как кит.
Жена начальника тюрьмы, молодая и красивая венгерка, положила на меня глаз и упросила мужа, чтобы он сделал меня ее слугой. И пошли для меня дни, полные любви и вина. Муж моей хозяйки и поклонницы был вечно пьян и все время занят. Он часто уезжал в столицу, в Бухарест, где оставался на пару дней. Прекрасная венгерка все время просто не выпускала меня из своих жарких объятий и лила мне вино в рот. Она мне призналась, что ненавидит мужа, потому что тот питает слабость к красивым мальчикам, тысячу раз клялась мне в любви и умоляла убежать с ней в Россию или в Венгрию. Денег у нее достаточно, и мы сможем прожить всю жизнь в довольстве и в любви — уверяла она меня. В ее прекрасных, черных, огненных глазах появлялись слезы, когда она говорила о своем муже, и ненависть сводила ее красивые, сочные губы. Я верил, что она говорит правду.
У ее мужа был совсем неплохой характер. Днем он с ней хорошо обращался, и она могла от него добиться чего угодно. Однако ночью, когда я лежал в передней, до моих ушей часто доносился тихий, сдавленный плач. Я его отлично слышал и понимал, что это плачет она, венгерка, ее звали Элла. Назавтра я ее спрашивал, что случилось ночью. Она опускала глаза и вместо того, чтобы ответить, говорила:
— Давай убежим от него! Я больше не могу этого выносить! — И она отстранялась от меня. Я понимал, что по ночам муж ее бьет. Я жалел ее, и мы договорились убежать в Венгрию.
Я питал к ней горячую любовь, кроме того, мне надоело торчать в Румынии. Муж опять уехал на два дня в Бухарест. Элла рассказывала мне, что на самом деле ее муж в основном уезжает в Бухарест не по служебным делам, а для того, чтобы проводить время в тамошних омерзительных публичных домах.
Однажды, когда я был в саду, на винограднике, и думал о своем доме, о плане нашего побега и о тысяче других вещей, ко мне пробралась с побелевшим от страха лицом Элла, склонилась ко мне и сказала:
— Пора!
Я понял, что мы должны бежать. Она взяла с собой много денег и драгоценностей.
— Это не кража, и полиция не сможет мне ничего сделать за это, — объяснила она мне. — Мой отец очень богат. Он дал за мной в приданое в десять раз больше того, что я забрала…
Мы решили бежать в Венгрию. Мы быстро добрались до границы и сразу ее пересекли. Несколько дней мы прожили в Будапеште. Я раздобыл паспорт, в котором было написано, что я хорват, а она моя жена. В тот раз я впервые назвался чужим именем: Сива Кирбис — так я стал теперь прозываться. Элла учила меня венгерскому, и мы поселились в этой стране. Я ходил одетый в шелк и атлас, ничего не делал и жил с Эллой в неге. Долго оставаться в Будапеште было опасно. Ее муж, румын, мог приехать в столицу и отыскать нас. Мы уехали в маленькое местечко Токи, в венгерских Карпатах, сняли прекрасный дом и зажили тихо и спокойно, погрузившись в вино и любовь. Вы спросите, любила ли меня Элла на самом деле? Да, она меня любила. Я ни минуты не сомневался в ее любви и до сих пор не сомневаюсь. А я ее? И я ее любил. Она была доброе, милое существо. Может быть, не из тех возлюбленных, чья смерть оставляет сердечную рану на всю жизнь, но, конечно, она была из тех женщин, которые украшают жизнь и придают ей особый, приятный вкус. Моя тогдашняя любовь к ней была самой лучшей из всех, что я испытал до сегодняшнего дня. Местность там была прелестная: горы от тысячи до двух тысяч метров высотой, дремучие леса, вино и она, свежая, прекрасная Элла, рядом со мной.
Но наша с ней такая хорошая жизнь продлилась недолго. Наш рай закончился, и мы сами были в этом виноваты.
Румынские деньги, золото и ценные бумаги мы обменяли на венгерские кроны — ну конечно, на что нам были нужны румынские деньги? Но тут разразилась коммунистическая революция[24]. Бела Кун стал диктатором Венгрии. Венгерские деньги обесценились. Новое правительство на десятках машин напечатало новые деньги и наводнило страну банкнотами. Деньги попросту валялись на улице. Потом новое правительство перестало печатать свои собственные банкноты, подписанные коммунистическим правительством, но стало ставить штамп на старые венгерские кроны, оставшиеся от свергнутой республики. Мы за одну ночь превратились в бедняков, нищих…
Язон прервал свой рассказ. Его глаза заблестели от далеких, приятных воспоминаний. Он еще раз налил нам по стаканчику. Мы выпили, и он стал рассказывать дальше:
— Однажды я поехал в Будапешт менять бриллиантовую брошку на золото или доллары. Шумные улицы были полны народом. Везде люди с красными значками на лацканах. Свобода. Все говорят громко и смело. Толпа поет. На площадях и улицах — собрания и митинги. Какой-то мужчина стоит на крыше трамвая и произносит речь. Когда он заканчивает, толпа начинает петь. Идя по улице, я вижу, — ах, кого же я вижу? — я вижу венгерского солдата в полном вооружении, с красным знаменем, а на знамени написано по-еврейски: «Компания по записи евреев-добровольцев в Интернациональный красный полк». Еврейские буквы и еврейские лица обрадовали и приободрили меня. Я пригляделся к солдатам и узнал двоих, они были из нашего местечка — сын сапожника Герша и сын шамеса[25] Мойше — Зайнвл и Меер. Я закричал:
— Зайнвл и Меер!
Они посмотрели на меня и узнали.
— Так ты тоже здесь?! — закричали они, подбежали ко мне и рассказали, что их перебросили через австрийскую границу и послали в Венгрию.
— Мы завоюем мир! Рабочие должны править всем миром! — заявили они мне. — Больше нам с тобой говорить некогда!.. Некогда! Приходи вечером в кафе «Ленин» на улице Тефи. Мы будем там выступать!
В тот же день началась война между Румынией и Венгерской Красной Армией. Повсюду шла запись добровольцев, раздавали оружие. Вечером я опять увиделся с двумя молодыми людьми из нашего местечка. Они уговорили меня, и я записался в Красную Армию. Мое решение должно было, конечно, огорчить Эллу, но всенародная радость и энтузиазм сделали из меня верного солдата революции. Я вместе с пятьюдесятью долларами, которые получил за брошку, послал Элле короткое письмо: «До свидания, Элла. Может быть, мы еще увидимся».
Две недели я учился обращаться с оружием, потом благодаря моей силе меня назначили командиром части и послали на борьбу с румынами.
Язон снова налил два стаканчика, закурил папиросу и выпил одним глотком. В кабаке было жарко. Оглядевшись, я увидел, что мальчишка стоит в сторонке и смотрит на Язона как на гостя из другого мира. Увидев, что мы его заметили, он медленно, несмело подошел к нам и сказал Язону:
— Я вас знаю!
— Вот как?.. Ты меня знаешь? — сказал Язон с легкой, доброй улыбкой на раскрасневшемся от спиртного и воспоминаний лице. — Ты меня знаешь? Тогда скажи, кто я?
— Вы Язон, великан.
Язон улыбнулся.
— Я видел, как вы боролись в цирке Вангалли. Вы самый большой великан. Вы положили на лопатки всех остальных великанов… Я хожу в цирк каждое воскресенье, — сказал мальчик и сразу же убежал в глубь кабака. Мы услышали, как издали доносится голос этого малого:
— Знаете, кто к нам пришел?
— Кто, Антек? — спросили несколько пьяных голосов.
— Язон, великан Язон!
— А что он тут делает, наш милый Язон? — донесся до нас хриплый, пьяный голос.
Я узнал его — это был голос извозчика.
— Господин Язон пьет шнапс!
— Надо к нему подойти! — закричал извозчик.
— Да, мы должны его поприветствовать, — подхватили еще несколько голосов.
Послышались шаги вразвалку. Трясущиеся, теряющие равновесие тела толкали столики, уставленные стеклянной посудой, отчего эти столики вздыхали как живые твари, которым причинили боль.
К нам подошли несколько типов — все они перемещались с трудом. Лица у них были красные и потные, глаза — затуманенные и мутные, а волосы мокрые. Куртки и пальто расстегнуты, волосы на груди влажные. Руки — тоже влажные, покрытые испариной, которую алкоголь вытянул из их тел.
Все вместе они выглядели так, будто кучей лежали в болоте и спали, но тепло их тел согрело болотную жижу; тут они все разом пробудились от сна и пришли в кабак. Среди них были две женщины — тоже пьяные. Одна блондинка с серыми глазами, тонкими, как у мышки, губами и редкими волосами неопределенного цвета — не то чтобы светлыми, но и не темными. Блузка на ней была порвана, и на голом, бледном теле, покрытом жаркой испариной, были видны следы укусов, нанесенных крепкими мужскими зубами.
— Мы приветствуем нашего великана Язона! — поклонился извозчик, выступив вперед из плотного ряда людей.
Язон встал и отвесил им общий поклон.
Музыканты перестали играть, встали на цыпочки, пытаясь через головы столпившихся за извозчиком людей разглядеть Язона.
— Да здравствует наш герой Язон! — закричала одна из двух женщин.
— Да здравствует! Да здравствует! — повторили все вокруг.
Другая женщина забрала бутылку водки у какого-то оборванца, пробралась через толпу, подошла к Язону, налила ему стаканчик и, выпив сама из бутылки, закричала хриплым, разгоряченным голосом:
— Я пью за твое мужество, Язон!
Язон выпил.
Шум усилился. Старик за буфетной стойкой вдруг пошевелился, вышел из-за стойки и подошел к кружку, столпившемуся рядом с нами.
— Эй, музыканты, сыграйте марш в честь чемпиона мира Язона! — крикнул извозчик и, через головы столпившихся, швырнул несколько монет двум людям, стоящим у столба в середине помещения.
Оба музыканта сразу зашевелились и быстро начали играть.
Две женщины потащили Язона в круг и стали с ним танцевать. Все пустились в пляс, образовав неловкие, дикие, спотыкающиеся круги, топоча нетвердыми, пьяными ногами и крича надрывными, неясными голосами.
Язон плясал вместе со всеми.
Кабатчик опустил жалюзи. Было уже двенадцать ночи, после этого часа запрещалось держать лавки открытыми. Он приказал музыкантам перестать играть, чтобы снаружи не было слышно, что здесь еще есть люди. Народу он велел пройти в глубь помещения, чтобы крики и шум не были слышны на улице.
В час ночи я вместе с Язоном ушел из бара «Карлос». Язон был слегка пьян. Он держал меня под руку, и мы оба не совсем твердо ступали по камням мостовой.
— Извозчик! — крикнул Язон, когда мы вышли на угол оживленной улицы. Подъехала пролетка. Мы уселись в нее.
— Отель «Клукас».
Холодный воздух освежил нас. Мы тяжело дышали, выдыхая зараженный воздух кабака, и ехали молча, не говоря ни слова в течение четверти часа. Первым нарушил молчание Язон.
— Где вы живете?
Я ничего не ответил.
— Почему же вы не отвечаете?
— Я нигде не живу.
— Как это?
— Я только недавно демобилизовался из польской армии. До сих пор мне не удалось снять себе жилье. Несколько ночей я проспал в цирке.
— Сегодня вы ночуете у меня в отеле. Я сниму номер с двумя кроватями… Да, я уже встречал на свете немало умных и благородных людей, которым негде было ночевать…
Слово «армия», которое я произнес, напомнило ему о своей судьбе.
— Да, я же вам не рассказал, что со мной случилось после того, как я отправился на фронт вместе с Венгерской Красной Армией. Слушайте, — и он начал рассказывать дальше: — Нас послали на венгерско-румынскую границу после того, как мы разбили чехов[26]. Румынское командование сосредоточило против нас большую армию, состоявшую из румынских солдат и сбежавших венгерских белогвардейцев, которые действовали заодно с румынами. Белые расстреливали всех взятых ими в плен красных солдат, а перед смертью еще и пытали их всякими ужасными пытками. Мы постоянно одерживали победы над румынами, далеко отгоняя их от венгерских границ. Последнюю большую победу мы отметили вином, пением и пляской. Вино текло по полям, как вода. Румыны же, однако, не дремали. Это такие хитрецы! Главная армия вместе с большей частью венгерских белогвардейцев не стала вступать с нами в сражение. С нами дрались только несколько полков, их-то мы и победили, но не главные силы противника, которые были посланы на решающую битву с нашими частями. К тому же среди нас случился подлый заговор. Словацкий генерал, который поклялся в верности революции, говорил Бела Куну, что он сын кузнеца, и потому внушал ему доверие. Он получил от народного правительства в Будапеште под свое начало целую дивизию, состоявшую в основном из добровольцев, которые были гордостью коммунистического правительства и лучшим украшением Красной Армии. На эту дивизию, которая пошла и очистила венгерские поля от иностранных врагов, как стальная молотилка, были возложены все надежды. Эта дивизия была крепостью и доспехом коммунистической власти.
Красный словацкий генерал, подкупленный румынским генеральным штабом и аристократом Хорти[27], завел дивизию в засаду; ее со всех сторон окружили силы главной румынской армии и белогвардейцев. Две недели подряд дрались солдаты стальной дивизии, голодные, расстрелявшие все боеприпасы, отчаявшиеся в борьбе, — две недели они дрались одним холодным оружием — кинжалами, саблями и ножами. Если вы, мой друг, были на фронте, вы должны знать, что значит две недели драться только холодным оружием!
Конец наступил тогда, когда почти вся стальная дивизия пала в битве, была перерезана или попала в плен. Остатки интернационального полка не отступили и продолжали драться. Солдаты погибали один за другим. На моих руках умер сын шамеса Мойше. Он получил пулю в сердце и пал, не издав ни звука. Нас осталось восемьдесят человек. Не имея другого выхода, мы решили отступить.
В маленьком венгерском местечке мы попали в плен к венгерским белогвардейцам. Мы знали, что нас ждет: лицом к стене и пуля в затылок. Мы спокойно ждали смерти. Но смерть не пришла так быстро. Белые решили посмеяться над нами и помучить нас. Нам давали хлеб, посыпанный кирпичной крошкой, вино, смешанное с золой и мочой. Нас выводили на рыночную площадь местечка и заставляли плясать. К нашим плечам привязывали кошек, и белые стреляли по этим кошкам. Часто они попадали не в кошек, а в нас.
Однажды, когда нас вели через рыночную площадь, я среди собравшихся на площади людей увидел знакомое женское лицо. Эта женщина шла и беседовала с пожилым белогвардейским офицером. Я напрягся и стал вглядываться в это знакомое женское лицо.
— Элла! — закричал я не своим голосом.
Да. Это была Элла, жена румынского тюремного надзирателя, та самая женщина, с которой я бежал из Румынии.
— Элла! — крикнул я еще раз.
Она услышала меня и узнала. Я заметил, как она вздрогнула всем своим худым гибким телом, и ее лицо побелело. Она замолчала и никак не отозвалась. Назавтра нас снова вывели на площадь. Нам связали руки, раздели почти догола и заставили лечь ничком на землю. На спины нам навалили рубленое мясо, перемешанное с испражнениями и навозом. Мы лежали в полуметре друг от друга. Потом на нас выпустили больше сотни голодных свиней. Свиньи начали с ужасным, оглушительным визгом пожирать то, что лежало на наших голых спинах. Рядом с нами стояли несколько тысяч человек, которые с удовольствием смотрели на это страшную забаву.
У многих из нас свиньи выгрызали куски из тела.
Потом, когда от нас отогнали свиней, нам развязали руки и велели встать, я снова увидел знакомое лицо, я снова увидел Эллу. Она была бледна и близка к тому, чтобы потерять сознание, едва держалась на ногах; ее колени дрожали, и я увидел, что в ее больших прекрасных глазах мерцают слезы. Меня провели рядом с ней, и я услышал как она нежным, полуобморочным голосом назвала меня моим словацким[28] именем:
— Сово!
И слезы в ее больших глазах заблестели еще сильней.
Через два дня нам вынесли приговор. Я говорю «приговор», но на самом деле это был никакой не приговор. Два генерала и полковник признали семьдесят человек из нас коммунистами, членами партии и добровольцами. Кроме того, нашему полку приписали убийство десяти взятых в плен белых венгерских офицеров. Мы были приговорены к казни через расстрел. Назавтра приговор должен был быть приведен в исполнение.
Я лежал на нарах и ждал смерти. Я думал обо всем и одновременно ни о чем. У меня не было ни малейшей надежды на спасение.
Все кончено! Я погиб!
Был дождливый день, когда нас вывели в поле навстречу нашей участи. Мы шли сломленные и согбенные. Мы были готовы к смерти. Рядом со мной шел француз, молодой матрос. Он держал руки в карманах и подбадривал меня: «Мы посчитаемся с нашими врагами на том свете». Но эта шутка никого не рассмешила.
В чистом поле, ограниченном с одной стороны холмом, а с другой — лесом, мы остановились. Нам еще раз прочитали приговор военно-полевого суда. Когда офицер закончил читать, был отдан приказ завязать нам глаза. Вдруг появился всадник с бумагой в руке. Всадник скакал галопом. Неподалеку от нас он остановился, спрыгнул с лошади, подошел к офицеру, к коменданту, и протянул ему бумагу.
Офицер читал несколько мгновений. Потом он отдал приказ остановить завязывание глаз. Солдаты послушались.
— Сово Киробит[29]! Вы свободны! Можете идти, куда хотите! — сказал мне офицер.
Волна радости затопила мою душу.
Возможно ли это? Действительно ли я свободен? Я буду жить дальше? Я не верил своим ушам. Вся эта история казалась мне странным, неясным сном.
— Сово Киробит, выйти из строя! — снова обратился ко мне офицер.
Я еще несколько мгновений простоял в оцепенении, не понимая, что со мной происходит. Наконец я понял, что должен покинуть моих несчастных товарищей. Я медленно пошел прочь. Мои товарищи, которым еще не успели завязать глаза — таких было человек двадцать-двадцать пять — смотрели мне вслед большими непонимающими глазами, в которых сверкали зависть и ненависть ко мне как к предателю — но пойди объясни им, что я не виноват в том, что мой жребий оказался не таким, как их.
Я ушел из этого страшного места.
Элла, это Элла спасла меня! Она любила меня, она любила меня со всем жаром своей горячей мадьярской крови. Как я был ей благодарен и как стыдился того, что покинул ее, даже не попрощавшись, не обняв ее на прощание!
Я спросил какого-то крестьянина, и он указал мне дорогу на Будапешт. Пройдя часть пути, я встретил едущую мне навстречу карету. Я издали увидел, что в карете сидит какая-то женщина, которая взмахнула руками от изумления и радости и издала при этом легкий крик.
— Элла! — позвал я и остановился, почувствовав как по моему телу прошла дрожь…
Наша пролетка остановилась около отеля «Клукас». Это был дешевый отель. Мы вышли.
Язон поменял свой одноместный номер на номер с двумя кроватями. Он сел на стул и принялся рассказывать дальше:
— История с Эллой на этом не кончается. Нам с ней пришлось еще немало вынести и пережить.
После того, как я спасся от смерти, я отправился с Эллой в Будапешт.
Элла мне рассказала, что я был освобожден благодаря ее отцу, высокопоставленному венгерскому офицеру. Отец сперва и слышать не хотел о том, чтобы что-нибудь сделать для того, чтобы меня освободили. Элла плакала и рвала на себе волосы четыре дня подряд. Но и это не помогло. На пятый день она попробовала повеситься. Только тогда ее отец испугался и согласился, чтобы меня освободили.
Элла, захватив немного денег, убежала со мной из дома. Мы перебрались в Австрию, где пробыли несколько месяцев. Деньги постепенно кончились. Надо было думать о том, как зарабатывать на жизнь. В Австрии я пробовал найти какое-нибудь занятие, но ничего не нашел. Я не привык ни к какой тяжелой работе, потому что никогда никакой тяжелой работой не занимался. Мы уехали в Чехию. Элла умела красиво танцевать и скакать на лошади, а я — как вы сами можете видеть — тоже ведь не слабак, и мы оба пристали к бродячему цирку чеха Клудки. Нас вовсе не сразу захотели взять в цирк. От нас потребовали бумаг, подтверждающих, что мы цирковые артисты. Элла добивалась от директора согласия посмотреть на то, как она скачет на лошади и как она танцует. Директор согласился. Она ему очень понравилась. И нас приняли в цирк на маленькое жалованье.
Следующие полгода мы провели в бродячем цирке. Дела у нас пошли хорошо. Мы с Эллой жили в необыкновенной любви; полгода мы путешествовали по разным странам, пока не настал тот страшный, проклятый день, когда она покинула меня навеки.
Язон прервал свой рассказ. В его глазах заблестели слезы. Он устремил глаза вдаль, будто хотел увидеть, как по воздуху тянется караван картин, представляющих все, что он пережил. Его рот был закрыт, как будто заперт горем, которое пробудилось в его огромном теле.
— Наш цирк поехал в Польшу. Мы несколько недель гастролировали по Галиции. Мы с Эллой в это время уже считались лучшими артистами цирка. Мы выступали в городе Злочеве, это в окрестностях Лемберга. Был жаркий летний вечер. После своего номера Элла вышла на свежий воздух неподалеку от цирка. Она стояла около циркового фургона и вдыхала всем своим измученным телом свежий вечерний воздух, как вдруг к ней подскочил какой-то тип, который крикнул: «Ты не узнаешь меня?!»
И прежде чем Элла успела произнести хоть слово, он швырнул ее на землю и отрезал ей обе груди большим острым ножом.
Ее последний крик донесся до цирка. По публике пронеслось слово «убийство», и я вместе со всеми выскочил наружу. Боже мой, на улице я увидел лежащую на земле в луже крови бледную, умирающую Эллу, мою Эллу. Она умерла у меня на руках, целуя меня из последних сил и взывая слабеющим голосом: «Отомсти ему!»
Убийцей был румын, ее муж. На процесс в польском суде пришло письмо от румынского консула, в котором сообщалось о том, что убийца служил в Румынии тюремным надзирателем и был схвачен полицией за растрату казенных денег и сексуальные надругательства над арестантками. Он убежал в Польшу, где в бродячем цирке «Клудка» встретил Эллу. Польский суд приговорил его к двенадцати годам заключения. После того, как он отсидит свой срок в Польше, его вышлют в Румынию, где он осужден румынским судом за растрату казенных денег и за надругательства, совершенные им в той тюрьме, в которой он был надзирателем.
Язон закончил. Он сидел на стуле и молчал, закрыв глаза. Я сидел напротив и разглядывал его широкое лицо, на которое легла тень печали. Так мы молча сидели в течение нескольких минут. Вошел гостиничный слуга и нарушил тишину:
— Не хочет ли господин Язон поужинать?
— Нет. Я уже поел! — ответил Язон, как будто разбуженный ото сна. — А вы поедите, не правда ли? — повернул он ко мне голову.
— Нет!.. Нет!.. Я тоже уже поел, — ответил я.
Гостиничный слуга вышел. Через несколько минут мы легли спать.
18
Назавтра в пять вечера я пришел в кинотеатр «Венус». Директора не было. Я спросил у барышни, сидевшей в кассе, когда он должен прийти. Она ответила, что он скоро появится. Я стал слоняться по улице и ждать директора.
Хотя была середина недели, толпа рабочих наполнила маленький зал кинотеатра. Ткачи бастовали, у них было свободное время и еще оставались деньги, не пропитые за последние недели, поэтому они шли в кино. Мужья приходили с женами. Некоторые были одеты празднично, в суконные пиджаки и пестрые платья, другие — буднично, в залатанные одежки, покрытые пятнами машинного масла от ткацких станков.
По дороге в кинотеатр, при входе в него и в фойе все говорили о последних переговорах с фабрикантами. Рабочий, пришедший из города, из профсоюза, рассказывал, что в Лодзь приехал министр труда уговаривать рабочих, чтобы они соглашались на прибавку в пять процентов, которую им предлагают промышленники, и выходили на работу. Вокруг пришедшего из города рабочего, который пересказывал новости раздраженным, разгоряченным голосом, собралась группа рабочих, ругавших и высмеивающих фабрикантов:
— Дальше будем бастовать! Не уступим наших требований!
Тут подошел еще один рабочий с новостями из профсоюза: текстильщики в Жирардове и Белостоке провели митинги и решили бастовать, чтобы поддержать лодзинских забастовщиков. Через несколько минут появился третий рабочий и задыхающимся от радости голосом закричал:
— Товарищи! Всеобщая забастовка!
Люди облепили его, как мухи. Он оказался окружен рабочими, которые дергали его за куртку, чтобы он рассказывал как можно подробней. Принесший новость рабочий перевел дыхание — грудь его так и ходила ходуном — и, размахивая длинными, мускулистыми, потемневшими от машинного масла и фабричных дымов руками, начал рассказывать рублеными словами:
— Министр был… Приехал на автомобиле из Варшавы… В «Гранд-отель»… Вызвал делегатов от социалистического профсоюза текстильщиков и из национальных рабочих союзов… Коммунисты кричали, что не надо ходить ни к какому министру, а только бастовать до тех пор, пока не дадут всю прибавку… Социалисты призывали идти… Разодрались… Старик, семидесятилетний коммунист Рыхлинский, встал, стукнул по столу и говорит: «Тише, дети, надо послушать, что скажет их министр. Мы послушаем, а поступим, как захотим!» Социалисты закричали: «Браво!» — и хотели качать старого коммуниста. Коммунисты поутихли и перестали шуметь.
Выбрали делегацию и послали ее к министру. «Дедушку» Рыхлинского в нее тоже включили. За него голосовали все — и социалисты, и коммунисты. Дедушка, услыхав, что его включили в делегацию, рассмеялся: «Не посылайте меня ни к какому министру… боюсь, я его обижу… пошлю к такой-то матери…»
Пошли к министру без Рыхлинского. Совещание ничего не дало. Министр настаивал, что фабриканты большего дать не могут. Рабочие своими стачками ничего не добьются. Они только теряют время и не работают. Делегация вернулась ни с чем.
После встречи с министром была созвана конференция всех профсоюзов. Было решено: всеобщая забастовка. Завтра трамваи не выйдут в город. Электричество и газ не будут гореть. Все рабочие будут бастовать.
— Ура! Да здравствует всеобщая забастовка! — послышались крики со всех сторон.
— Да здравствует! Да здравствует!
Я стоял и прислушивался к пламенным, зажигательным речам ткачей. Тут я заметил, что подходит директор кинотеатра «Венус». Увидев толпу, собравшуюся в фойе, директор удовлетворенно улыбнулся. Я подошел к нему. Он меня узнал.
— Да, вы сейчас пойдете на сцену, подождите минутку, я только зайду в кассу.
Он вскоре вернулся. Я вместе с ним прошел за кулисы.
— Вот, смотрите: вы будете стоять около экрана так, как сейчас… Вас не должно быть видно. Говорите громко, так, чтобы вас было слышно аж на улице! На первом сеансе вы говорить не будете. Вы должны только посмотреть картину и понять, что там происходит…
Директор, оставив меня, исчез.
Киномеханик в кабине дал знак, что первый сеанс начинается. Кинозал был полон рабочих, мужчин и женщин. Все говорили о всеобщей забастовке.
Показывали как раз «Две сиротки»[30] Моретти, картину о Великой французской революции.
Народ был взбудоражен и воспламенен стачкой. Все головы были полны нетерпения и ожидания. В воздухе пахло митингом, демонстрацией, протестом и от тел рабочих — машинным маслом.
Первый сеанс закончился. Зал опустел и тут же снова наполнился под завязку — такими же измученными ткачами. Прежде чем второй сеанс начался, на эстраду поднялся директор и произнес «коротенькую» речь, раскланиваясь во все стороны с милой, приятной улыбкой.
— Почтеннейшая публика! — начал директор. — Дабы доставить удовольствие уважаемым гостям, я специально пригласил диктора, который будет объяснять фильмы. Я не жалел ни расходов, ни трудов, чтобы доставить в Лодзь, в мой кинотеатр «Венус», лучшего диктора. Партии, которой он прежде служил, я заплатил за него баснословную сумму отступных. Диктор, который сейчас продемонстрирует вам, дорогие гости, свой голос, уже вдохновлял митинги в сотни тысяч человек. Фашисты предлагали ему пойти к ним на службу, обещая платить по пять тысяч долларов в месяц. Коминтерн в Москве предлагал ему десять тысяч долларов. Да, господа, целых десять тысяч!..
— Ну, так он фраер, если отказался! — закричал кто-то.
Директор вошел в ораторский азарт. Слова «Коминтерн», «коммунисты», «фашисты» пробудили в нем желание говорить дальше.
Я смеялся и ждал, что после этой речи директора обо мне меня освищут.
«Слава Богу, — думал я, — что, когда я буду говорить, публике не будет видно мое лицо».
— Я сам видел у него письмо от Троцкого, в котором тот предлагал нашему диктору выступать по радио перед миллионами. Но наш диктор — беспартийный, и ему безразличны и Троцкий, и Муссолини, — продолжал мой хозяин.
Вдруг директор спохватился, что слишком уж разрекламировал меня. Он прекратил вопить и сменил тон:
— Наш диктор происходит, господа рабочие, из вашей среды. Он плоть от вашей плоти. Когда-то он голодал, умирал за кусок хлеба, ходил голый и босой, пока не начал свою блестящую карьеру…
Народ от директорских речей заскучал. Некоторые рабочие начали открыто смеяться.
— Хватит! — бросил кто-то твердое, как кулак, слово прямо в лицо директору.
— Давайте послушаем диктора!
— Хватит! Хорош трепаться!
Тут только директор заметил, что пора заканчивать. Он поклонился несколько раз, улыбнулся и покинул сцену, говоря при этом:
— Господа рабочие, сеанс начинается. Сейчас вы услышите диктора.
Мне хотелось убежать. Какой из меня диктор? Я еще никогда не говорил перед большим скоплением народа. Директор крепко подставил меня.
— Ну-с, посмотрим, что вы можете! — и директор хлопнул меня по плечу, уходя со сцены.
Я ничего не ответил. Я был готов к тому, что меня освищут. Был дан последний звонок, и стало темно. Из кабины киномеханика световым потоком хлынул фильм. На экране появилось изображение.
Я начал говорить, боясь провала:
— …французские массы не могли больше выносить иго деспотизма короля Людовика Шестнадцатого и в один прекрасный день вышли на парижские улицы, разбуженные желанием свободы и справедливости, вдохновленные возвышенными словами пророков революции, Дантона и Сен-Жюста, и мощными руками, полными силы и натиска, и грудью, полной пения и жизни, смели крепость монархии и рабства, разрушили мрачную Бастилию…
…Дантон, дух революции, — обратились массы к своему вождю, — веди нас к великой победе, возьми наши тела и наши души и очисти Францию от деспотов и тиранов. Принеси нам свет в наши мрачные жилища и погреба, очисти нашу страну от мошенников и воров, пусть наши дети перестанут умирать, а наши жены перестанут выхаркивать свои легкие от чахотки. Убери с нашего тела червей, которые сосут нашу кровь, отравленную микробами в грязных мастерских и на фабриках! Дантон, дух свободы! Создай из наших грудей и сердец стальную броню, о которую вдребезги разобьются пули вассалов Людовика, его низких рабов и слуг…
Я говорил громко, пламенно и страстно, я слышал, как притихший народ впитывает мои слова…
— …и пушки и пулеметы Людовика Шестнадцатого распахнули свои железные пасти и начали плевать огнем и лавой в революционный народ. Революционеры обнажили свои сердца и с топорами, косами и ломами вступили в битву со швейцарцами, наемными солдатами деспота, в битву с пушками и пулеметами…
…и дети свободы и справедливости победили. Бастилия разрушена. Людовик схвачен. Швейцарцы изгнаны. Трон разбит. Развевается знамя свободы. Звучит «Марсельеза». Французский народ свободен…
Когда закончилась первая часть и зажегся свет, народ бурно зааплодировал.
— Да здравствует диктор!
Мои слова переполняли рабочих, особенно теперь, в преддверии всеобщей забастовки. Зал шумел. Все громко говорили о фильме, обо мне и о французской революции. Говорили, спорили, качали головами и размахивали руками. Споры захватили весь зал, всех, кто был в кинотеатре, — мужчин, женщин и детей. Когда в фильме было показано, как массы танцуют на улицах карманьолу, некоторые бледные женщины с горящими, мутными глазами на изможденных, малокровных лицах плакали. Люди вскакивали со своих мест, тяжело дышали, открывали рты и все, как один, начинали петь «Марсельезу». Музыкантов заставили сыграть «Марсельезу» четыре раза подряд, а потом еще и «Красное знамя»[31].
Когда публика начала петь, в кинотеатр вбежал с большими от страха глазами директор и закричал с отчаянием и испугом в голосе:
— Прекратите петь коммунистические песни! Кинотеатр закроют! Я потеряю свой кусок хлеба!
Никто его не слушал.
Когда на экране появлялся Дантон, народ устраивал ему овацию. Ему улыбались и приветственно махали шляпами со светящимися от радости лицами.
— Да здравствует Дантон!
— Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует! — три раза повторила публика.
Короля Людовика освистали.
Бегущих аристократов провожали «за границу» насмешками и висельными шутками:
— Мыши!
— Мыши в княжеском платье!
— Эй, постой! Сейчас догоним!
— Дантон, обрати внимание, они удирают!
С Робеспьером случился инцидент. Народ из-за его непривлекательной наружности и полного ненависти сурового взгляда принял его сперва за аристократа. Когда он первый раз появился на экране, народ его освистал.
— Пошел вон, скотина! Убирайся, черт! — шумели в зале, обращаясь к экрану.
Пожилой рабочий вдруг вскочил со своего места, раздраженно взмахнул руками, протолкался к проходу, влез на сцену и встал около экрана.
— Да вы знаете, кто это? — в гневе обратился он к народу, показывая рукой на Робеспьера.
— Скотина! Подручный Людовика!
— Замолчите, невежды! — пожилой рабочий топнул ногой. — Это товарищ Робеспьер, товарищ Робеспьер, поняли? Еще папа Троцкого не родился на свет, а Робеспьер уже был коммунистом! — закричал он с гневом и презрением.
Зал на мгновение притих.
— А ты откуда знаешь? — спросил кто-то рабочего, стоящего на сцене.
— Откуда я знаю? Я хорошо знаю историю французской революции! Я прочитал больше двадцати книг о революции. У меня дома есть книга с портретом товарища Робеспьера. Я его здесь сразу узнал.
— Да здравствует товарищ Робеспьер! — закричали в зале, как бы прося прощения.
Внезапно показ фильма прервался. Зажегся свет. Народ подождал несколько минут, но так как показ картины не начинался, по полу затопали сотни ног. Но фильм дальше не показывали. Народ начал шуметь, кричать, вопить. Несколько рабочих пробились к выходу и выбежали в коридор. Там они увидели киномеханика, который сидел в буфете и пил пиво.
— Почему не крутим картину? — спросили они его строго и с угрозой в голосе.
— Аппарат сломался!
— Не дури нам голову, говори правду, почему не крутим?
Киномеханик замолчал на несколько минут, продолжая пить пиво.
Один из рабочих хлопнул его по плечу и настойчиво сказал:
— Почему не крутим, тебя спрашивают, слышишь?
— Почему? Потому что не велят.
— Мы тебе покажем: не велят. Кто не велит? Директор? Мы велим! Мы платим, а не директор!
Они ухватили киномеханика за руки и за плечи и потащили в будку, в которой находился проекционный аппарат.
— Давай, брат, крути шарманку! — ткнули они ему в аппарат.
Народ не переставал шуметь и топать ногами. Рабочий из будки киномеханика просунул лицо в дырку, через которую показывали кино, и закричал народу в зале:
— Тихо! Тихо! Сейчас будут крутить дальше!
Механик наладил аппарат. Рабочие его заперли и, забрав ключ, ушли в зал.
Картину начали показывать дальше. В зале стало темно.
Директор в отчаянии расхаживал по коридору. Вызывать полицию он не хотел. Он боялся, что, если арестуют нескольких рабочих, на его кинотеатр будет наложен бойкот и он лишится заработков.
Народ продолжал шуметь. Если какая-нибудь сцена в фильме особенно нравилась публике, она начинала кричать киномеханику:
— Эй, верти шарманку обратно! Покажи нам гильотину еще раз!
Киномеханик высовывал голову в отверстие и со слезами на глазах рассказывал, что это очень трудно. Но народ не хотел ему верить, и киномеханику приходилось делать то, что велено.
19
На другой день я встретил на улице Язона. Он спокойно прогуливался по центру города. Язон тепло пожал мне руку и спросил, почему я не пришел ночевать к нему в отель.
Было часов одиннадцать утра. Трамваи не ходили. Город выглядел сонным и усталым. По улицам слонялись усиленные полицейские патрули. Ожидали демонстрацию ткачей. Лавки были пусты; приказчики стояли в дверях и зевали от скуки в мутное небо, которое пахло заупрямившейся осенью, не хотевшей уступать свое место зиме. Легкий ночной иней совсем исчез; от него и следа не осталось. Узенькие ручейки слякоти поблескивали среди горбатых камней мостовой, как разбитые зеркала, и отражали продутое ветром, тоскливое небо и трамвайные провода, которые теперь выглядели как вытянутые, развешанные жилы какого-то гигантского зверя.
— Где вы сегодня ночевали? — спросил меня Язон.
— У одного рабочего, поляка.
Я рассказал ему о моем новом занятии и о том, что вчера произошло в кинотеатре «Венус». Его красивые светло-карие глаза вспыхнули, точно подожженные неведомым лучом. Он внимательно выслушал все, что я ему рассказал.
— Очень странная история, — заметил он с улыбкой, когда я закончил. — Вы преуспели со своим выступлением? — А потом добавил: — Редкое занятие, но вовсе не новое. В Румынии, где много неграмотных, в кино всегда есть кто-нибудь, кто объясняет, что происходит на экране.
— Мне кажется, что я действительно добился успеха. Когда фильм закончился, на сцену влезла толпа народу, чтобы посмотреть на меня. Некоторые пожимали мне руку и говорили: «Вы красиво говорите!» Это очень смешно! Я никогда прежде не говорил перед публикой, а тут мне делают комплимент, что я красиво говорю. Когда я попросил у нескольких рабочих разрешения переночевать, ко мне протянулось множество рук, они просто дрались из-за меня. Я переночевал в настоящей польской семье. Мне выделили отдельную кровать. Они были очень предупредительны и не отпустили меня без завтрака.
— Приходите сегодня ночевать ко мне, слышите!
— Возможно, приду.
— Вы обещаете?
— Да.
Рядом с нами шла дама, одетая очень богато и элегантно. Она пожирала лицо Язона большими, пламенными глазами и слегка улыбнулась ему как давнему знакомому. Язон взглянул на нее и улыбнулся в ответ, но не поприветствовал ее. Через несколько минут эта дама снова оказалась около нас. Она махнула Язону перчаткой, но Язон, не ответив ей, отвернулся. Дама так и впилась в него всем своим разгоряченным, жадным лицом.
— Вы знаете кто эта дама?
— Нет, не знаю.
— Это дочь здешнего известного фабриканта. Послушайте, как я с ней познакомился.
Вскоре после своего первого приезда в Лодзь я получаю письмо с объяснением в любви. В письме меня извещают, что мы можем увидеться в отеле «Гранд», там же указан номер комнаты. После работы в цирке делать нечего, спать не хочется, город чужой, ну мне и захотелось разогнать скуку каким-нибудь приключением — решаю пойти в отель к даме.
Прихожу в отель, захожу в указанный номер, а она уже там сидит, разодетая в шелк и атлас и сильно накрашенная — и волосы, и лицо, и руки. Замечаю, что, увидев меня, она вздрагивает. Я понимаю, что это значит, и улыбаюсь ей.
При моем появлении она сбрасывает с плеч расшитую шелковую шаль и стоит передо мной со слегка дребезжащими кольцами, браслетами и ожерельями на пальцах, на руках и на шее. Издали чувствую запах духов. Она приближается ко мне и смотрит прямо в глаза своими дразнящими, жаждущими, улыбающимися глазами.
— А вот и вы, Язон! — говорит она. — Вы знаете, я в вас влюбилась. Вы молоды и крепки, как дуб, — и, продолжая говорить всякие комплименты, она все приближается ко мне так, что ее тело оказывается у меня в руках. Я всматриваюсь в нее и вижу в ее лице жажду греха с каждым здоровым мужчиной. Узнаю в ней настоящую проститутку, пребывающую в рабстве у мужской плоти. Есть такие распущенные женщины, которых грех настигает, как гроза, и они отдаются мужчине при первой возможности: в поезде, в отеле, в поле и где угодно. Мужчина их интересует ровно настолько, насколько он силен, насколько он ловко движется, насколько у него правильные черты лица. У каждого атлета есть такая «возлюбленная» в каждом городе. А иногда их сразу несколько. Такая возлюбленная не пишет писем, она забывает тебя, как прошлогодний снег, когда ты уезжаешь от нее. Разве что, когда жажда греха терзает ее в бессонные ночи и она мечется всем своим измученным страстью телом на мягкой постели, тогда она вспоминает тебя; вспоминает, как ты выбегал на арену, как ты удерживал своего противника обездвиженным, побежденным — все эти движения дразнят женскую страсть. Или она вспоминает тебя в те непристойные моменты, когда она, обессиленная соитием, лежит в объятиях греха, как сломанная ветром ветка. Их сотни, подобных женщин. В каждом городе, в котором проходит наш турнир, они бегут на него, как суки, которые сбегаются в то место, где гицель[32] убивает кобелей. Атлеты проводят с ними веселые ночи, полные вина и страсти, и возвращаются от них с кошельками, набитыми деньгами. Такие женщины платят за грех золотом. Они крадут деньги у своих богатых родителей и тащат их нам. Ты можешь получить у них все, что хочешь. И многие из нас разбогатели благодаря таким дамочкам. У негра Бамбулы есть твердая такса: двадцать долларов за ночь. Но он умен, этот опытный негр! Он не тратит на них больше двух ночей в неделю — бережет силы!..
Она взяла меня за руку и подвела к столу, налила два стакана вина и попросила с ней выпить. Я выпил. В конце-то концов, скучно в чужом городе! Она покраснела, глядя на меня. Ее взгляды шарили по моему лицу и телу. Она обнажила верхнюю часть моего туловища, а под столом положила свою горячую ногу на мою, пытаясь меня раздразнить.
Мне было жаль эту несчастную женщину — не более того! На ее лице был отпечаток горя и муки, как у тех фанатичек, которых можно увидеть на картинах. Их страсть бывает ужасна, мучительна; она разрывает им сердце и горит раскаленным углем в их жилах. Грех — это их душа, их сердце и смысл их жизни.
Она стала ползать по мне, как паук, чтобы опутать меня своими обнаженными руками. Но я не чувствовал к ней ничего, кроме отвращения и жалости.
Язон передохнул и сменил тон;
— Вы думаете, я праведник, я святой и живу только с такими женщинами, которые заслуживают серьезного чувства. Глупо было бы так говорить. Можно встретить одну или двух женщин, которые могут любить, ну, может быть, можно встретить трех, у которых сердце создано для любви. Но когда мне хочется согрешить, я иду в бордель, выбираю одну из этих гулящих, которые стали распущенными и распутными из-за голода и нужды, но не такую, которой еще в материнской утробе суждено было стать проституткой и отдаваться множеству мужчин.
«Язон, я тебя люблю!» — и она обвилась вокруг меня своим полунагим телом, как змея, и прижалась ко мне с полузакрытыми глазами, кусая свои губы от похоти и страсти. Она видела и чувствовала мою холодность и была просто в отчаянии. Но отчаяние еще сильнее пробуждало в ней желание греха.
Она опустилась передо мной на колени и молила меня, прижимая мои ноги к своим горячим грудям, обнимая мои ноги своими горячими руками.
Я был раздосадован тем, что пошел в этот отель; в конце концов, она тоже человек, который заслуживает сочувствия…
Я начал лучше понимать Язона и только теперь увидел, что, несмотря на его мощные мускулы, на его лице всегда разлито задумчивое, нежное выражение.
— Эта сцена длилась около часа. Она лежала и рыдала у моих коленей, а потом, потеряв всякое чувство стыда, начала срывать с себя одежду и осталась наконец передо мной совершенно голой, в чем мать родила. Она принялась танцевать, вертеться и прыгать. Потом опять припала к моим ногам и начала горько плакать, как глубоко несчастный человек.
Меня охватила жалость к ней, но я не мог преодолеть своего отвращения. Так она десять минут просидела и проплакала у моих ног. Потом сразу встала, подошла к столу, вытащила стодолларовую купюру и стыдливо, с опущенными глазами, бросила ее мне в руки.
Думаете, она оскорбила меня, бросив мне деньги? Нет, вы ошибаетесь, если вы так думаете! Я почувствовал к ней еще большее сострадание.
Я вспомнил о маленьком клоуне Долли, чахоточном, который выхаркивает легкие после каждого представления. Из тех денег, что он зарабатывает, он отсылает три четверти домой в Прагу своей старой матери и глухонемой сестре, а сам голодает и гибнет от нужды и от болезни, которую он, не леча, запустил.
Я вышел в переднюю комнату гостиничного номера (номер был двухкомнатный) и позвонил служителю. Я велел ему принести конверт. Взял конверт, положил в него стодолларовую купюру и велел служителю отнести конверт Долли. Потом вернулся, оделся и…
Язон с улыбкой хлопнул меня по плечу.
— Я вижу ее в цирке каждый день, — закончил он свой рассказ. — Она повсюду следует за мной, и старается попадаться мне на глаза, и шлет мне по несколько писем в неделю.
Снег пошел гуще. Город был укрыт темной вуалью.
— Куда вы едете после гастролей в Лодзи? — спросил я его.
— Мы еще сами не знаем, куда поедем. Но не беспокойтесь, наш работодатель уж наверняка знает, куда нас послать!
— Почему вы выбрали себе такое занятие — быть цирковым атлетом? — спросил я Язона.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Язон, показывая свои крепкие, белые зубы. — Кем же я, по-вашему, должен быть? Сапожником, портным или, может быть, бухгалтером? Атлет, борец на ринге — сколько магии в этих словах! Можешь напиться, можешь обругать любого, смешать его с грязью — но все будут восхищаться тобой, твоими мускулами и твоей грудью. Разве плохо быть атлетом? Сегодня в Лемберге, завтра в Лодзи, послезавтра в Будапеште. Сегодня ты еврей, завтра — чех, послезавтра — голландец, а еще через неделю — латыш. Что ж, сидеть, что ли, всю жизнь на одном месте, жениться и водить детей в хедер? Не представляю, как бы я мог так жить. Я знаю, что смогу таскаться по свету с цирком еще несколько лет, ехать дни и годы в бродяжьем фургоне и демонстрировать мощь и ловкость. А состарюсь, потеряю силы, пропадет моя мощь, мои мускулы — ах, Бог весть, что я тогда стану делать?.. Знаешь, брат, — Язон взял меня под руку и придвинулся ко мне ближе, — кто прожил в цирке хотя бы два года, уже никогда не будет серьезным человеком! Ему все время будет хотеться ехать из страны в страну, он как ветер будет скитаться по миру!..
Часто я сам себя спрашиваю: что со мной будет? Я состарюсь, сил, чтобы уложить на лопатки любого, у меня уже не останется?.. Но я не утруждаю себя размышлениями об этом и гоню такие мысли из головы прочь.
Из-за снега, который пошел сильней и гуще, мы ускорили шаг. Стало темно, казалось, вечер хочет в полдень пробраться в город. Прохожие спешили с раскрытыми над головой зонтами. Язон отвел меня в кафе и предложил чаю. Мы медленно пили чай и молчали. В кафе сидели два человека: еврей с узким, тощим, бледным лицом, который поглощал новости из газеты и прихлебывал чай, и пожилая, седая женщина в длинном черном пальто. Она, пережидая непогоду, смотрела в окно.
Язон не отпускал меня. Я должен был сходить с ним пообедать. После обеда Язон вспомнил, что ему надо зайти навестить больного Долли. Он предложил мне пойти с ним. Я не отказался.
20
Долли снимал комнату в бедной квартире на четвертом, самом верхнем, этаже. Хозяин широко распахнул перед нами двери и провел в заднюю комнату, где под кучей одеял лежал Долли. Проходя через две первые комнатки, мы заметили, что на хозяйской постели одеяла не было — его переложили на кровать Долли.
Долли лежал под одеялами мертвенно-бледный — в лице ни кровинки. Лицо у него было круглое, неподвижное, с большими мутно-синими глазами — он выглядел как новорожденный младенец, которого забыла в кровати нерадивая мать.
Когда мы вошли, Долли дремал. Наши шаги его разбудили. Он открыл большие, глубокие, печальные глаза и посмотрел на нас со слабой улыбкой.
— Спи, Долли, не будем тебе мешать, — сказал Язон, уже готовый уйти.
— Ах нет, что вы, вы мне не мешаете! Я потому дремлю, что сплю слишком много. Разве вы не знаете, что тот, кто слишком много спит, всегда сонный… — Долли приподнялся и подозвал нас к себе.
Мы подошли к его кровати. Хозяин предложил нам стулья.
— Ну, как дела, Долли?
— С этой моей болезнью — страшное дело. Она играет со мной, будто насмешничает. Я, например, целый день выхаркиваю легкие, так что они давно уже как дырявый кожаный мешок, кашляю беспрерывно, а все равно каждый вечер ровно в половине девятого чувствую себя здоровым! Одеваюсь и иду выступать в цирке. И так каждый день. Кажется, болезнь разрешает мне отпускать шутки и доводить публику до смеха и до слез…
— Ты поправишься, Долли! — сказал Язон.
Долли поглядел на него с грустной усмешкой в живых, подвижных зрачках, которые метались в глазах, как две пойманные рыбки в стаканах.
— Я лежу себе вот так вот целый день в кровати — рукой-ногой пошевелить не могу. Все болит. В легких ветер и свист. Выхаркиваю с кровью сердце и легкие. Голова болит так, что можно с ума сойти. Короче говоря, пришел мой бенефис: помираю. Так лежу я до восьми вечера. А все же поднимаюсь, как только в той комнате часы начинают бить восемь, и сразу чувствую себя лучше, легче, свежее. И вот в половине девятого я уже одет и иду в цирк. И так каждый вечер, дорогие мои! Каждый вечер!.. Вы ведь, кажется, работаете в цирке? — повернулся ко мне Долли.
— Да, — ответил я.
— Это мой друг! — представил меня Язон.
Долли посмотрел на меня ясным, грустным, пронзительным и сердечным взглядом.
— Это и в самом деле комедия, — произнес Долли, и горький смех скривил его тонкие, посиневшие, бескровные губы. — Смерть каждый вечер отпускает меня в цирк. Когда лежишь тут в одиночестве, начинаешь понимать: смерть не собирается заткнуть мой наглый и дерзкий рот. Она, смерть то есть, должно быть, из самых горячих моих поклонниц. Как придет вечер, она снимает с моей груди свои лапы и прекращает меня душить. Она бежит в цирк и ждет, когда же я ее рассмешу. Ха-ха-ха — да она подружка моя, смерть, поклонница моя!
Бледное, измученное, усталое, истощенное лицо Долли покрыл влажный, жаркий румянец. Он закашлялся, начал задыхаться и сплевывать красным в платок.
— Каждый день я иду в цирк и думаю, что увижу смерть сидящей на галерке с ощеренными зубами и смеющейся червивым ртом. Клянусь вам, друзья мои, вчера я ее увидел! Меня напугало ее костяное лицо, и я не удержался — заплакал прямо посреди зала. Да, я заплакал!
Рядом с кроватью Долли на подоконнике лежали несколько пустых ампул из-под морфия и две книги.
Долли снова закашлялся, вскрикнул и беспомощно махнул рукой, как пьяный. Когда он говорил, он начинал кашлять, но чем больше он кашлял, тем больше ему хотелось говорить.
Ободранная, давно некрашеная комната, в которой он жил, отсырела по углам. В окно было видно стоящее напротив здание из розового кирпича с бесчисленными окнами. Оно застило небо. Двор был совсем темный и узкий. Солнечный свет в комнату почти не проникал.
— Не тужи, Долли, ты поправишься, — громким, звонким голосом произнес Язон.
— Да я об ином и не помышляю, — ответил Долли, кашляя и мотая лежащей на подушке головой из стороны в сторону. — Я так умираю уже лет десять. Смерть играла со мной в эту игру в разных странах и каждый раз швыряла меня в постель. Теперь я уже начинаю думать, что смерть — моя подруга. Скажите сами: что делать в чужом городе в мерзкий осенний день? По улицам шляться? В ресторан какой-нибудь закатиться? Лучше уж я полежу в постели и понежу кости… Честное слово, смерть бережет мое здоровье, — и Долли рассмеялся, кашляя и содрогаясь всем телом. — В конце концов, — произнес он, — я тоже атлет. У нас со смертью поединок. То она меня схватит за горло, то я ее. Скверно, однако, то, что у нее больше шансов победить… Ха-ха-ха! Я тут домой матери написал: мамочка, все у меня хорошо, лучше быть не может. Целыми днями сплю, как султан, еду мне подают в постель, вечером я играю, а ночью снова сплю. Немножко слишком много сплю, мамочка! Да и кто же не станет лентяем, если не надо думать о заработке! Старики говорят: счастлив человек, который хочет и может спать… — и он снова тяжело закашлялся.
Мы видели, что наше присутствие около постели просто вынуждает Долли разговаривать, поэтому нам пришлось встать, откланяться и уйти.
На улице я попрощался с Язоном. Но, уходя, должен был пообещать, что сегодня приду ночевать к нему в отель.
21
Я снова был один и думал обо всех, кто повстречался мне в последнее время.
Господи, каким одиночеством веяло от здорового, сильного, мускулистого атлета Язона! Какое дыхание одиночества исходило от Фогельнеста и от Долли!
Мне нечего было делать, я слонялся туда-сюда по улицам, потом пошел в парк, в который уже давно не заходил. Парк был пуст из-за дождя. Я продрог и промок. Вдруг мне вспомнилась та женщина в очках, которая приняла меня за грабителя, когда я предложил ей поднести кошелку. Перед моими глазами отчетливо стояла сцена, когда добрая женщина переменила свое мнение обо мне и дала мне донести кошелку.
Я начал понимать, как глубока и таинственна любовь между людьми. Я дрожал от мысли, что никогда не узнаю глубокой тайны любви, причину любви, тайну человеческого сердца, которому вдруг достается любовь незнакомого прохожего, неведомого бродяги, которого оно никогда больше не встретит на той земле, по которой он бродит.
— Просто, проще некуда, — сказал я себе. — Кто поймет человека, который сопротивляется случайной любви кого-то одинокого, кого-то усталого, того, кого ему не увидеть больше никогда в жизни?
Мне пришли в голову строки из стихотворения Бодлера, которое я когда-то читал:
…Охраняющий кости бездомных пьянчуг Если хмель под колеса бросает их вдруг[33].Так шагал я по улицам, пока не пришел к дому, где когда-то жил — к дому старого сапожника. Надо бы взглянуть, как там дела.
Я спустился в подвал и отворил дверь в квартиру. Старик лежал на соломенном тюфяке, и рядом с ним — пузырьки с лекарствами. Он отворил глаза, посмотрел на меня — и не узнал. Он не спросил, чего я хочу, только снова закрыл глаза, которые были полны жара, как будто его не касалось, кто там вошел. Я пробыл в комнате несколько минут и огляделся. Стены позеленели от сырости, и груда кожаных башмаков, сваленных в кучу, покрылась плесенью, будто к ней давным-давно никто не притрагивался. Кроме старика тут никого не было. Я быстро ушел из подвала.
Снова наступил вечер, и я пошел в кинотеатр «Венус».
Опасаясь, что вчерашний скандал повторится, директор снял с показа картину «Две сиротки» и поставил вместо нее какой-то фильм с Эдди Поло[34] в главной роли. На первом сеансе я молчал. Я должен был понять содержание фильма, чтобы знать, о чем говорить. Директора не было. Я был один на эстраде — забился в уголок и смотрел на экран.
Кинотеатр находился в низком деревянном здании — скорее, это было что-то вроде наспех сооруженного барака. Слышно было, как накрапывает дождик, долгий и ленивый. По эстраде бегали мыши. Увидев меня в первый раз, они испугались и попрятались в норки, но потом расхрабрились, привыкли ко мне и, не таясь, стали расхаживать по полу рядом с местом, где я стоял. Мне было грустно и холодно. В маленьком окошке вверху стены, за кулисой, было выбито стекло. В окошко дул ветер, колыхал экран, улетал прочь, но тотчас возвращался в гневе. Перед началом второго сеанса я принялся «говорить».
Я позабыл, где нахожусь, опьяненный прекрасными словами. Я говорил про дальние страны, реки, моря и горы, которые были сняты в этом фильме.
— И горы эти стоят вечно. Их вершины покрыты снегом, как седовласые старцы. На горные вершины любит бросать свои отсветы солнце, даря им золото своих лучей и согревая скалы, как детей. А море, огромное беспокойное море, любит бросать свои серебристые волны к подножиям гор и целовать их, ласкать, как рабыня своего господина…
Я говорил и сам чувствовал теплоту, исходящую от этих слов. Внезапно я вспомнил о главном герое фильма, об Эдди Поло. Я вообще о нем забыл, о главном герое!
— И в этих чудесных горах появляется всемирно знаменитый детектив Эдди Поло, чтобы заполучить в руки правосудия того, кто поджег дворец миллиардера Розена и убил приемную дочь вице-бургомистра.
Дальше я опять говорил про небеса и новые земли. Я вкладывал в эти слова все свое сердце и чувствовал, как слова уводят меня самого куда-то вдаль…
На эстраде было темно. Никакого освещения не было. Мыши дотрагивались до моих ног, а одна из них, изголодавшись, попробовала отгрызть кусочек кожи от моего башмака. Ветер стал пронизывающим. Он пробрал меня до костей, и я начал дрожать.
— И корабль несется в самом сердце сердито поющих волн и просит покоя и тишины, а волны скачут вокруг корабля, как расшалившиеся дети. Отправившиеся в путь за хлебом насущным смотрят молча, но их сердца молят немо: качай нас, о море, огромное море, но только неси нас в новую страну, где вечный свет и свобода, где есть хлеб для наших жен и детей, и радость и веселье — для наших душ.
И затем:
— И вот Эдди Поло едет третьим классом и ищет убийцу среди простых пассажиров. У него есть основания думать, что преступник прикинулся рабочим, эмигрантом.
Я говорил и почти ничего не видел, кроме фильма. Звонкие слова одурманили меня и заставили забыть обо всем на свете. Второй сеанс продолжался больше двух часов.
Я послал мальчишку из кинотеатра за хлебом и поужинал прямо на эстраде, запивая хлеб содовой водой из буфета, который был в коридоре. Перерыв между вторым и третьим сеансом закончился. Я снова стоял на эстраде и говорил.
Мыши танцевали в темноте и свистели от голода. Они еще раз напали на мой башмак, но безуспешно.
Примерно в половине двенадцатого я освободился. Я был измучен тем, что говорил слишком много. Глаза устали от напряжения, и голова раскалывалась. Я быстро ушел из кинотеатра.
Я ничего не видел на улице — так я был утомлен и возбужден.
Несколько раз мне приходилось прислоняться к стене, чтобы поглубже вдохнуть. А потом я, согнувшись и подняв воротник, плелся дальше. Дождь поливал меня, ветер свистел в ушах.
Я не сдержал слово и не пошел в отель к Язону: мне не хотелось беседовать. Я чувствовал себя усталым, больным и был не в силах разговаривать. Я отправился в ту семью, где провел прошлую ночь. Ворота в дом, где жила эта семья, были заперты. Я напомнил сам себе, что, в сущности, я у них не живу и не смею своим ночным появлением нарушать их сон. Я пошел назад в город и около часа бродил по тихим, темным улицам. На центральные улицы я не хотел идти, потому что свет электрических фонарей резал глаза.
У меня еще было немного денег, и я отправился к еврею у вокзала, рассчитывая переночевать у него.
22
На следующий день я пришел на работу в кинотеатр почти больной. Глаза сильно болели, покраснели, воспалились. Но сегодня я мог дать им отдых, держа их закрытыми. Я со вчерашнего дня запомнил содержание картины. Время от времени мне нужно было только бросать взгляд на экран, чтобы убедиться в том, что я не ошибся…
Так я стоял с закрытыми воспаленными глазами и говорил о доблестных делах Эдди Поло. После первого сеанса, выйдя в коридор, я встретил директора.
— А вы замечательный декламатор! Публика вами захвачена! — сказал он мне.
— В таком случае можно ли мне получить у вас немного денег?
— Да, берите! — И он достал из кармана брюк бумажник и протянул мне ассигнацию.
Закончился последний сеанс. Дрожа от холода, я сошел с эстрады и отправился ночевать к еврею у вокзала.
Проходя за кулисами, я увидел, что бледная девушка с лучистыми глазами, улыбаясь, смотрит на меня. Я взглянул на нее, но не понял, какое ей до меня дело. И я пошел дальше. На улице я увидел, как эта девушка идет мне навстречу с той же улыбкой на губах. Я как следует вгляделся. Она была бледной, очень бледной, лицо круглое, кое-где морщинки, глаза странные — большие и лучистые; густые белокурые волосы обрамляли ее голову, а губы были узкими и подвижными. На ней были розовая шляпка и серое пальто. Что значил ее взгляд, я не понял. Улыбка на ее нежных, розовых губах была смешана с горечью и состраданием. Я впился глазами в ее лицо. Чем ближе она подходила ко мне, тем отчетливей была улыбка на ее лице, а ее рот и щеки лучились теплотой. Она прошла мимо, взглянула на меня и шепнула на ухо одно слово:
— Ми-и-лый! — и быстро пошла прочь.
Не успел я оглянуться, как ее уже не было. Она исчезла.
— Ми-и-лый! — звенело у меня в ушах.
Ми-и-лый? Что значит это слово? Может, это просто ветер шуршит? Нет! Это я сам себе внушил, что кто-то так сказал. Кто была эта девушка, которая так на меня посмотрела? О чем говорила ее улыбка? Может быть, я ошибся? Может, я сам себе внушил, что кто-то думает обо мне? Наверное, меня дурачат мое одиночество и моя неприкаянность! Мое одиночество навеяло мне сон — какую-то бледную девушку, которая думает обо мне. Нет, это заблуждение, в него, чтобы заполнить душевную пустоту, впадает человек, о котором никто не думает и которого никто не помнит. А может быть, я болен и перед моими глазами проносятся какие-то образы и видения?
Странные лучистые глаза были у нее! Что за огонь тлел в ней, сколько доброты и мягкости было в ее улыбке! Ее сутью были легкость и свет, что за облачное, светлое существо!
Я шел и видел, как в темноте блуждают два больших, лучистых глаза.
Целый час прошагал я так по улицам. Лавки были закрыты. Я поужинал на вокзале.
Прибыл поезд. Люди стали выходить с шумом и гамом. Потом пассажиры, унося с собой чуждость далеких городов, покинули вокзал.
Я отошел к окну и стал просто так, без всякой цели смотреть на поезд и на приехавших в нем людей. Паровоз засвистел и зашипел, и в тяжкой темной ночи, напомнившей о монотонных шагах обутых в сапоги ног по слякотной проселочной дороге, ветер заныл и швырнул на землю тоску, украденную им у вечно странствующих облаков.
Чуждость неведомых городов разлилась по окнам вокзала и измотанных вагонов и поведала, что из них вынули душу — толпу пассажиров. Паровоз с несколькими грузовыми вагонами тихо и озабоченно заскользил по рельсам в дальнюю, укрытую ночью, даль. Паровоз не свистел, как будто стеснялся разбудить пустоту и тоску, которые висели над землей как туман.
Я провожал взглядом уходящий грузовой поезд, и мои глаза были прикованы к маленьким огонькам, которые в темноте блестели на паровозе.
Во мне пробудилась тоска по странствиям, желание уехать все равно куда.
Мои глаза все смотрели в даль, туда, где в ночной тьме исчезал поезд — огоньки становились все меньше, меньше и наконец вовсе погасли.
На вокзале почти никого не было. Две женщины с чемоданами и узлами дремали у стены. Я тоже уснул.
Назавтра, во время перерыва между вторым и третьим сеансом, мальчик принес мне письмо. Я открыл его. Всего два слова были написаны тонким, нежным почерком на листочке белой бумаги: «Здравствуй, милый».
Два слова, и ничего больше. Я стал искать среди посетителей кино ту бледную девушку. Мои глаза блуждали по залу, но я ее так и не увидел. Когда я, усталый, ушел из кинотеатра и уже медленно шагал по темной улице, мне навстречу вышла девушка с лучистыми глазами. Я вздрогнул и схватил ее за руку. Она рассмеялась мягким и звонким смехом, вырвалась из моих рук и исчезла. Долго, долго простоял я, не сходя с места, оцепеневший, пораженный, изумленный. Потом побежал назад и принялся искать бледную девушку. Я в возбуждении обошел несколько улиц, но нигде ее не нашел.
Кто она, эта таинственная, непонятная женщина, которая играет со мной? Чего она от меня хочет? В чем смысл письма, в чем смысл того, что она вышла мне навстречу, а потом рассмеялась мне в лицо? Я давно думал о ней, она не выходила у меня из головы — бледная девушка с большими, сострадательными глазами. Я начал думать, что она — неземное создание, не из нашего мира.
Я видел ее окутанной, как мантией, легким плащом, вокруг головы — сияние, а под ногами — никакой почвы, никакой земли, только воздух и пустота. Как сон, который никогда не прерывается, как греза, которая длится день и ночь, она заполонила мой мозг.
Мне хотелось спать, но я чувствовал, что встречу ее ночью, блуждающей по городу с лучистыми глазами, и я бродил по улицам до самого рассвета. Я вглядывался в каждого встреченного мной человека. До утренних сумерек я все думал о ней и видел ее в своих фантазиях. Один раз я увидел ее стоящей с раскинутыми руками, готовой обнять меня, в другой раз она стояла, задумавшись, суровая и гордая, глядя прямо на меня своими большими глазами.
И странно! По ее взгляду я видел, что ей ведомы все потаенные уголки одиночества, навалившегося тяжким грузом на мою душу.
Каждый вечер я искал ее среди посетителей кинотеатра и каждую ночь бродил по улицам, чтобы встретить ее. Но за несколько дней не получил от нее ни одного знака. Она исчезла.
Она измучила, измотала меня. Я искал ее каждый час, каждую минуту, но она не появлялась.
На шестой день работы в кино мальчик опять принес мне письмо.
— От нее! — я вскрикнул от радости, узнав почерк.
Дрожащей рукой я вскрыл конверт. Из него выпал листок.
Я стоял ошеломленный. Прошло несколько минут, прежде чем я смог прийти в себя.
«Дорогой мой!
Я видела тебя спящим на улице под дождем. Полночи простояла я у окна и смотрела, как ты, одинокий и милый, лежишь на улице, на каменной ступеньке, и спишь. Я видела твое усталое лицо, исхлестанное дождем и ветром. Я видела тебя бредущим, как призрак, как привидение, по улицам с афишей цирка Вангалли. В твоих глазах, в твоем лице и в твоих руках я увидела твою душу, твою честную душу! Я видела, как ты, словно бездомный пес, слоняешься по парку, закутавшись в поношенную солдатскую шинель; я видела, как ты хотел отдать свои последние деньги маленькой девочке, потому что ее детская наивность тронула твое сердце. Я шла за тобой по пятам. Я не спала две долгие ночи, не спала из-за тебя, бродяги! Я покинула свой богатый дом и скиталась по улицам — искала тебя. Я пошла к директору цирка узнать, где ты, и через него добралась до тебя. Твои слова, которые ты говорил в кино во время сеанса, ясно открыли мне твое исстрадавшееся, усталое сердце. Когда я слышу, как ты говоришь, мне кажется, что твоим голосом жалуются все бездомные; все, кто скитается по городам и плачет вместе с дождем, который идет над их головой. Разве ты не знаешь, что ты их голос? Разве ты не знаешь, что ты, только ты, их душа? Разве ты не знаешь, что твоя кровь — это ветер осени, когда мир больше не находит покоя?
Ты удивляешься, бродяга, тому, что я так странно пишу тебе. Я хочу, чтобы ты понял мои слова.
Я многое, многое должна понять в тебе. Быть может, столько же, сколько ты во мне! Я бы хотела увидеться с тобой, говорить с тобой, идти рядом с тобой. Сердце мое говорило мне: да, иди к нему, а рассудок говорил: нет, не ходи! И я послушалась рассудка.
Я несчастна, милый! Еще несчастнее тебя. У меня есть дом, добрые родители, богатство и все самое лучшее, но нет мне покоя. Мои ночи разорваны бессонницей, мои дни тяжелы мне. Я плачу о каждом одиноком человеке, о каждом голодном ребенке — обо всех, кто одинок.
Я больна, бродяга, моя душа тяжко больна. Перед моими глазами все время тянутся черные процессии, тащатся по темным дорогам толпы страдающих людей, изгнанных из нашего мира, не имеющих ни дома, ни покоя. Я знаю: быть может, когда-нибудь и я пойду в первом ряду такой процессии, пойду по большим дорогам с поникшей головой. Я молю Бога, чтобы смерть настигла меня не среди счастливых и сытых, а среди тех, кто повержен и обделен на этой земле.
Прощай, милый! Быть может, когда-нибудь мы увидимся вновь. Быть может, как-нибудь я еще раз приду к тебе.
Кто знает, что за дух живет в твоих словах!
Люба».У меня на глазах выступили слезы. Письмо задрожало в моей руке.
Зазвенел звонок. Начинался первый сеанс. На экране Эдди Поло!
23
Полночи я ходил по городу и размышлял о незнакомке. Я пытался еще раз увидеть ее в своем измученном мозгу. И я увидел ее. Лицо ее было еще бледнее, чем обычно, глаза еще больше и печальнее. На рассвете, когда уличные птички просыпаются и начинают утреннюю песню, я отправился ночевать к еврею у вокзала и лег спать. Проснулся я поздно, в полдень. Я быстро оделся и отправился в город.
Дождь, который зарядил в последние дни, прекратился. Пошел снег. Тихо, как бы стесняясь своего раннего прихода, падали белые нити снега, убирая белым дома и улицы. Я полчаса просидел в маленьком ресторанчике и снова пошел гулять.
Я встретил Фогельнеста. Он узнал меня издалека, протянул мне навстречу руки и тепло поздоровался со мной.
— Почему вы больше со мной не видитесь? — упрекнул он меня.
— У меня наконец появилось служба. Я занят! — ответил я, а в глубине души думал: отчего я все это время к нему не заходил?
Фогельнест нетерпеливо дернул головой, как человек, измученный нервами и бессонницей, и заговорил, без умолку, отрывисто, о себе и своем потаенном:
— Я думаю отсюда уехать… Этот город испоганил меня… Грязный, скверный город… А люди — холодные и недружелюбные… Я в ужасе от того, что заехал сюда… Сами скажите, как можно выбрать для жизни такой город?! — горько восклицал он и еще чаще дергал головой. — У меня есть здесь дядя, очень богатый, просто денежный мешок. Пришел я к нему и попросил у него беспроцентную ссуду, чтобы снять жилье, так он мне заявил: скоро тебя будут называть ничтожеством, если не будешь вести себя по-людски. Я ему в сердцах: как же так, человек приходит к состоятельному дяде, к богатею, к крупному текстильному фабриканту, чтобы попросить у него на квартиру — хочу наконец выбраться со своего сырого чердака, так мне в ответ старые попреки: ничтожество, не умеешь вести себя по-людски? Ха-ха-ха!.. Сорвался, как пес с цепи… Тут я напомнил ему, что не надо мне рассказывать, какое я ничтожество, это не его забота, хочешь дать — дай, что у тебя просят, не хочешь — не давай, а ругаться не надо. Он еще больше разозлился и пошел меня честить на чем свет стоит. И чем все кончилось: я убежал и хлопнул дверью, так что стены задрожали… Вот свинья… Может быть, вы думаете, что он давно выбился в люди? Он до тридцати лет сам был нищим, ходил побираться у родственников и не раз клянчил на обед для себя, для своей жены и детишек у моего отца. Ему повезло… Колесо фортуны повернулось… А разбогатев, он заговорил по-свински. Жалко, что у эдакого свинтуса я пошел просить денег…
Фогельнест заходился от ярости, не переставая подергивать головой, и метал злые слова, как стрелы. Вдруг, в очередной раз дернув головой, он что-то припомнил и сказал мне:
— Да…
Но ничего, кроме этого «да», он так и не произнес. Потом он сразу же убежал. Убегая, несколько раз оглянулся, как будто хотел убедиться в том, что ничего не забыл мне сказать.
24
В тот вечер кинотеатр не работал. Был праздник Божье нарожденье[35], когда все представления запрещены. У меня появилось свободное время, и я снова пошел гулять по улицам.
Я опять попал на улицы, на которых спал в первые ночи после демобилизации. Я смотрел на окна, в которых горел свет, и искал окно той квартиры, в которой живет бледная девушка. Я напрягал глаза и пробовал взглядом проникнуть за занавески. Но как я мог знать? Окон было много, и все они сверкали газовым или электрическим светом. Вечер был холодный; во многих местах тротуары и мостовые покрылись инеем. К тому же колючий ветер крутился, как от голода, и вылизывал землю и стены домов. Начал падать снег, мягко и тихо, с легким шуршанием — будто шелковые нити трутся одна о другую. Редкие прохожие шли мимо. Быстро проехала пролетка. Голова лошади была до глаз поглощена зимней белизной, которая заполнила весь мир. В течение двух-трех часов я ходил по улицам неспешным шагом и разглядывал каждое место, каждого человека, каждую пролетку и каждую собаку, которую встречал по пути. Я так привык пристально, смело и свободно смотреть людям в лицо, что многие из тех, кого я обшаривал взглядом, пугались и ускоряли шаг.
Я снова побрел к вокзалу. Я стоял у окна и смотрел, как отправляется поезд. Мне нравилось ловить слухом свист паровоза, шум котла, бормотание колес и сигналы, которые железнодорожники подают друг другу. Так полчаса простоял я на вокзале у окна и все смотрел в ночную тьму на то, как, скользя по стальным рельсам, уходит один поезд, на то, как прибывает другой. Я приветствовал пассажиров, садящихся в поезд, шумящих, машущих руками, что-то наскоро говорящих людям, остающимся на перроне. И только когда вокзал опустел, никакие поезда больше не уходили и не прибывали, и лишь паровоз с погасшей топкой, похожий на гигантского мертвого зверя, на стального покойника, который больше не шевельнется и не двинется, остался стоять на боковой ветке, я решил уйти. Железнодорожник отошел к скупо освещенному расписанию поездов и закурил трубку. Шаги его подбитых железом сапог прозвенели скучно и будто издалека. Огонек трубки всякий раз, когда железнодорожник затягивался, пробуждался, вспыхивал сильнее, как будто хотел своим красным светом и яркостью переплюнуть тусклую лампочку над часами. Напротив несколько одиноких, разбросанных деревьев, занесенных смерзшимся белым снегом, склонялись и качались над мертвым паровозом, как будто хотели оплакать его вместе с ветром, который, покружив со злобой над расписанием поездов, улетал над длинной дорогой в бесконечную даль, где ночь зубами рыла себе могилу в земле и в небе.
25
Сегодня я проснулся часа в два пополудни. Хозяин, маленький еврей со светлой бородой, бледным, исхудалым, изможденным лицом и хитрыми быстрыми глазами, которые он во время разговора ежеминутно прикрывал, словно пытаясь веками стереть с них блеск так, как протирают очки, спросил меня:
— Дай вам Бог здоровья, но что вы делаете по ночам, что приходите так поздно?
Я сперва ничего ему не ответил. Он переспросил:
— Это, конечно, не мое дело… Я понимаю, что, по правде говоря, не должен спрашивать… Что мне, собственно, за дело, чем вы заняты? Так ведь? С какой стати я в это лезу? Только знаете что…. Раз человек ночует у меня, так хочется знать…
— Ничего не делаю… Просто люблю гулять по ночам, — ответил я.
— Вот как? — еврей удивился и внимательно оглядел меня таким взглядом, словно цеплял на крючок, словно пытался что-то вытащить из меня, изучить во мне. Печально качая головой, он отошел. Я услышал издалека, как он цедит слова:
— Люди теперь… другие стали… головы, головы… головы у них нет…
Я ушел на улицу и пошел туда, где жила женщина, которая однажды позволила мне донести ее кошелку. Я вошел в ее квартиру. Она была дома и занималась ребенком — купала его в большом тазу. Ребенок орал на весь дом, а мать строго утихомиривала его, плещущегося в тазу, как щенок, которого швырнули в реку.
Заметив мое появление, женщина оглядела меня, одной рукой поправляя очки, а другой держа ребенка.
— Добрый день!
— Добрый день! Что вам угодно?
— Я должен вам деньги.
Она испугалась и поглядела на меня сквозь очки.
— Вы мне должны деньги? А кто вы такой?
Я вынул несколько купюр в тысячу марок и положил их на стол.
— Вы как-то дали мне денег.
— Когда? Как это?
— Да, вы, конечно, не помните эту историю. Вы как-то встретили меня на улице и дали мне денег. Вот и все.
Она задумалась и застыла, стоя на полу на коленях, как человек, который пытается припомнить какую-то давнюю историю.
— Нет, не помню! А раз не помню, то и денег взять у вас не могу. Заберите деньги! — сердито сказала она, раздраженная и удивленная этим разговором.
Я рассказал ей историю того вечера, когда она приняла меня за грабителя, а я всего лишь хотел ей помочь донести кошелку, и как она потом поняла, что ошиблась, и дала мне денег.
Только когда я закончил рассказ, она хлопнула себя по лбу в знак того, что наконец-то припомнила:
— Так это были вы?.. Солдат?.. Да, теперь я припоминаю… Садитесь! Садитесь!
Она приподнялась, оставив ребенка прыгать в тазу, как рыбку, которой отрезали плавники и снова пустили в воду, подтащила стул и указала мне на него:
— Садитесь! Прошу вас, садитесь! Видите, ничего не пропадает зря! Бог дает человеку какое-нибудь занятие, и человек живет, как все люди на белом свете! Что вы делаете? Чем заняты? Кем работаете? Как ваши дела? — быстро спрашивала она; вопросы сыпались градом.
Я рассказал о том, чем я занят. Она слушала меня с открытым ртом и под конец сказала:
— Ну, местечко, кажется мне, не такое уж и хорошее.
Она печально покачала головой, как мать, когда сын рассказывает ей о своих делах, потом тепло посмотрела на меня. Мне хотелось поцеловать ей руку и темные, седеющие волосы. Видя, что я мешаю ей мыть ребенка, я стал прощаться, от души пожав ей руку.
— Заходите когда-нибудь ко мне, дорогой мой! Приходите когда угодно! Не беспокойтесь, скоро ваши дела пойдут лучше, чем сейчас! Только, дорогой мой, не ступайте на скользкий путь!
На улице я снова вспомнил про бледную девушку. Темнело. День был чреват заблудившимся вечером. Поглощенный сумерками, я вернулся на улицу, на которой первое время ночевал, и принялся ищущим взглядом глядеть в окна. Это была тихая улица. Окна по большей части были завешены гардинами и занавесками. Нигде не было видно ни души. Только в одном окне на втором этаже дома с белыми оштукатуренными колоннами в римском стиле виднелась большая седая голова мужчины — задумчивая, мрачная, неподвижная. На мужчине был надет серый фрак с шелковыми отворотами. Я подумал, что это, вероятно, манекен портного, на котором висит новый фрак. Я слонялся несколько минут по этой тихой улице, поворачивая то вправо, то влево и заглядывая во все окна. В какой-то момент я заметил, что старик в новом фраке смотрит на меня, преследует взглядом мое лицо и мои шаги. Мне расхотелось возвращаться. Но я не перестал заглядывать в окна. Сердце сильнее застучало в моей груди.
Ах, как я хотел увидеть бледную девушку, хотя, сказать по правде, я и сам не знал, что мне ей сказать и о чем рассказывать!
Стало еще темней. Зажглись электрические фонари. Старик во фраке по-прежнему смотрел на меня. Его тонкие губы что-то испуганно шептали, встревоженный взгляд следовал за мной. Я продолжал слоняться по улице и заглядывать во все окна. Начал падать мелкий, легкий снег. Я был весь в снегу, оконные стекла резче и ярче заблестели от снега. Электрические фонари были одеты в белое. Шурша, падал снег. Темнота наполняла белую улицу и белые дома синевой. А я все ходил по улице, не отрывая глаз, смотрел в окна и при этом задремывал, убаюканный пустотой и пламенеющей тоской. Я втянул голову глубже в воротник, сунул пока еще незамерзшие руки в карманы и все расхаживал упрямыми, медлительными шагами взад-вперед по тротуарам. Снег повалил гуще. Меня укутала тонкая снежная шуба.
Задремывающий, измученный, усталый, я все вышагивал по тихой улочке. Однажды я поймал себя на том, что забываю смотреть в окна. Я открыл свои полуслипшиеся, усталые глаза. Резкий фонарный свет ослепил меня. Снег, лежащий на фонарях, радужно сверкал. Я поспешил снова направить свой сонный взгляд на окна. И тут же вздрогнул. Мне показалось, что в одном из окон я вижу два больших лучистых глаза бледной девушки. Я остановился на тротуаре и стал изо всех сил вглядываться в них.
Глаз больше не было. Я прошел по тротуару налево — и снова увидел эти глаза. Я вернулся направо, но больших лучистых глаз больше не было видно.
— Это что-то вроде видения! Вроде игры света! Обман зрения! Я сам себя дурачу! — уговаривал я себя.
Я прошел по тротуару налево от дома, где увидел эти глаза.
Да, я вижу ее! Карие, лучистые, страдающие, большие прекрасные глаза! Я вижу их! А стоит отойти на несколько шагов — и я опять их не вижу.
Тяжелыми, стучащими, громко отдающимися в тишине шагами прошел какой-то старик. Воротник его пальто закрывал лицо до носа. Я остановил его.
— Прошу вас, сделайте одолжение, — обратился я к нему. — Скажите, не видите ли вы вон в том окне больших глаз?
Он окинул меня взглядом и что-то зло пробормотал, его голос застревал в поднятом воротнике пальто:
— Что? Глаза? Вы рехнулись? Человек ищет с улицы глаза в окне?
Все-таки он остановился и посмотрел в то окно, на которое я указал ему рукой.
— Нет! — он покачал головой. — Никаких глаз я не вижу! Молодой человек, у вас не все дома!
Он быстро пошел прочь.
Я был поглощен взором, который сиял сквозь слегка оснеженное стекло чужого окна. Я почувствовал тепло во всем теле. Легкость и нежность разлились во мне. Уличные фонари и окна засверкали туманным блеском. Я, задремывая, брел по мостовой. Но глаз больше не было видно.
Я понял, что сам себя одурачил, и пошел прочь с улицы.
В кино как раз подошел к середине первый сеанс. Шел все тот же фильм с Эдди Поло в главной роли. Я зашел за кулисы и подождал, пока кончится первый сеанс. Не годится вторгаться посередине фильма и начинать говорить. Поэтому я подождал начала второго сеанса. Я присел на ступеньку стремянки, прислоненной к стене, и прикрыл глаза.
Оркестр играл какой-то вальс. Звуки медленно и лениво плыли над залом, залетали за кулисы и исчезали в маленьком окошке, за которым было видно падение сверкающего жемчугами снега в тишине синего вечера. За кулисами было темно. Из-за занавеса пробивался только тусклый красноватый свет рампы, который скупо освещал углы. Мышь лихорадочно, упрямо и быстро грызла какую-то гнилую щепку, перекатывая и толкая ее из угла в угол. От скуки один из музыкантов начал тихо про себя напевать:
В Берлине, в Бе-е-е-рлине, На Кайзер-аллее…Я закрыл глаза и ни о чем не думал. Пустота поглотила меня, охватила и пролилась на меня потоком усталости.
На следующий день я увидел на стенах афиши «Последнее представление: турнир атлетов». Я понял, что атлеты уезжают. Я еще раз перечитал афишу и заметил, что это представление было вчера.
«Наверное, Язон и Долли тоже уехали, — подумал я. — Жаль, что я не попрощался с ними!»
Пройдя несколько улиц и выйдя на улицу, ведущую в предместье, я заметил три больших крытых фургона на маленьких широких колесах. На фургонах висели таблички: «Международный цирк». Я присмотрелся и увидел в окошке одного из фургонов голову человека с папиросой во рту. Я узнал Язона. Четверть часа шел я вслед за фургонами. Наконец окошко, в котором я увидел Язона, отворилось, и громкий голос Язона позвал меня. Я ответил на его приветствие. Голова Язона исчезла из окошка, и фургон сразу же остановился. Язон выскочил в открывшуюся дверь, подбежал ко мне и схватил меня за руку:
— Проводите меня немного. Мы уезжаем в Померанию. А оттуда в Германию, в Пруссию.
Сейчас в нем не было той претенциозности, из-за которой мне не захотелось зайти к нему попрощаться.
Я залез в фургон.
— Можете ехать дальше! — крикнул Язон возчику, который сел на козлы и хлестнул лошадь. Фургон двинулся.
В фургоне было семь человек: Язон, три атлета, Долли и две наездницы. Атлеты сидели на драном матрасе и играли в карты. Женщины готовили еду на примусе. На стенах висели одежда и афиши, изображающие борющихся на арене атлетов. Было темно. Маленькая керосиновая лампа тускло светила красноватым светом. Долли, укрытый какой-то старой теплой одеждой, спал на соломенном тюфяке. Женщины, одна — высокая, с длинными, ладными ногами, черными волосами и большой, крепкой грудью, вторая — постарше, светловолосая, с сильно напудренным лицом, сидели на полу. У блондинки во рту была папироса. Они разговаривали между собой по-немецки. Никто не обратил на меня внимания, когда я вошел. Только две женщины окинули меня взглядом. Атлеты были поглощены игрой, а Долли спал.
— Садитесь сюда! Тут мягко, — Язон указал на матрас.
Мы уселись вдвоем.
Фургон тряхнуло, и светловолосая женщина поправила примус, чтобы тот не упал со скамейки. Темноволосая что-то ей рассказывала:
— Понимаешь! Он как-то пришел ко мне… Ха-ха-ха, ну и козел… — она засмеялась громким, грудным смехом.
— Ну да, он не так глуп, как ты думаешь! — ответила блондинка, затягиваясь папиросой.
Атлеты поминутно восклицали:
— Двойка… семерка… черт подери!
Головы атлетов были освещены керосиновой лампой, их тени дрожали на стене. Двое из них стояли на коленях, а третий прилег на пол.
В тесном фургоне было жарко от крепких мужских тел, распространявших запах здоровой, мускулистой плоти. Женщины лежали в углу, прижавшись друг к другу животами и грудями, и громко смеялись. Все колыхалось, когда фургон трясло по неровной брусчатке. У игроков звенели монеты, и из широкой груди атлетов, всякий раз, когда фургон встряхивало, вырывалось:
— Черт подери!
— Дальше потащимся, — сказал мне Язон. — Честно говоря, опротивел мне ваш город. Не говоря о том, что и сам-то город не бог весть какой красивый — фабрики да фабрики, я не люблю задерживаться на одном месте.
— А как Долли? — спросил я.
— Кто ж его знает! Вроде лежит помирает, а вплоть до вчерашнего дня веселил публику. Ни одного представления до сих пор не пропустил.
Язон встал, развязал узел и достал бутылку коньяка.
— Не откажетесь?
Я ничего не ответил. Он налил мне стаканчик, который достал из того же узла, и протянул мне.
Мы выпили.
Фургон со стуком трясся по брусчатке.
Атлеты, игравшие в карты, были охвачены азартом. Их большие тела беспокойно двигались и дрожали. Женщины лежали рядышком и хохотали, рассказывая друг другу веселые истории. Старшая, та, что с папиросой, выпускала клубы дыма и, прерывая смех, приглушенно восклицала:
— Вот дурень!
В синем пламени примуса были отчетливо видны разгоряченные раскрасневшиеся лица трех атлетов, игравших в карты. Деньги на столике звенели, не переставая. Долли проснулся, его бледное лицо с большими синими глазами было покрыто потом.
— Спрашивается, куда бы мне поехать? Мне без разницы! Что там, что тут. Какая разница, где быть? Я забываю города, в которых бывал, как прошлогодний снег.
При этих словах Язон засмеялся, схватил меня за рукав и придвинулся ближе:
— Вы помните историю, которую я вам рассказывал… Про дочь текстильного фабриканта… Так вот, увидев афишу, что мы даем последнее представление в Лодзи, она позавчера явилась ко мне в отель, положила на стол хрустящую стодолларовую купюру и бросилась мне на шею, называя дорогим, любимым и другими ласковыми и нежными словами. Я забрал сотню и послал ее клоуну Долли. А сам улегся в постель с этой дамой… я не переставал хохотать как сумасшедший, хохотал ей прямо в лицо… Странная женщина… И сам я в таком странном положении… Атлет-проститутка… Неслыханное дело… Ха-ха-ха! — И Язон расхохотался, сотрясаясь всем своим мускулистым телом, так что задрожал пол и зазвенели, танцуя и подпрыгивая, деньги карточных игроков.
— Долли, клоун Долли, хитрюга, умная голова, а и он свихнулся. Он не знает, кто посылает ему столько денег, ха-ха-ха! — говорил Язон, не переставая смеяться. — Он думает об этом уже несколько недель и ничего не понимает… Он думает, это какой-то дух посылает ему деньги, и боится, как бы эти доллары не довели его до беды. Он, Долли, как-то зазвал меня в темный угол и, дрожа, заикаясь, рассказал мне историю про двести долларов, а потом спросил, что я на это скажу и кто может посылать ему деньги… Под конец он сказал, что боится воспользоваться этими деньгами. Тайна, которая в них сокрыта, заявил он, мешает ему тратить их. Я ему сказал, чтобы он перестал валять дурака, подтвердил, что доллары настоящие, а не фальшивые, и что он может делать с ними все, что ему заблагорассудится. Он едва согласился и одну сотню послал матери в Прагу, а другую потратил на лекарство для своих больных легких… Но, несмотря на это, он ходит как помешанный и все думает про таинственную историю с двумя сотнями долларов. Ха-ха-ха! Долли свихнулся! — воскликнул Язон и громко расхохотался на весь трясущийся фургон.
— Ничего странного в том, что человек, который получил вдруг двести долларов, удивляется, от кого это и откуда… К тому же он в чужом городе, где у него нет знакомых… — сказал я.
— Каждый раз, когда я вижу, как Долли меняет доллары на польские деньги, — продолжал Язон, все еще трясясь от смеха, — и какими удивленными, беспомощными глазами он глядит при этом на купюры, я начинаю смеяться. Долли смотрит на меня и пугается как дурак: «Бабочка с мышцами атлета, что ты смеешься?», а когда я продолжаю смеяться, он говорит: «Подкова на человеческих ногах». Ха-ха-ха! Вы еще не слышали Доллиных словечек?..
Карточный столик подпрыгивал и сопровождал слова Язона звоном.
Одна из акробаток, темноволосая, встала, оправила задравшееся платье и налила несколько тарелок супа.
— Цезарь, Хведо, Кетар и Язон, будете есть? — раздался в фургоне ее голос.
— Нет! Нет! — закричали играющие в карты атлеты. — Мы уже пообедали в городе.
— Я тоже не буду, я тоже обедал в городе, — отозвался Язон.
Ели одни акробатки, полулежа на полу. Они медленно, потихоньку опускали ложки в тарелки и заглатывали суп, продолжая судачить. Поев и отодвинув тарелки, женщины придвинулись к Язону. Белокурая поморгала глазами, таинственно повела курносым напудренным носом и тронула Язона за плечо:
— Язон, дай выпить!
Одна села от Язона слева, другая — справа. Они придвигались к нему все теснее и принялись тереться о его плечи своими полунагими, гибкими телами.
Язон дал им по стакану. Они залпом выпили коньяк и встали на колени с задравшимися платьями, открывавшими тонкие, длинные, красивые ноги. Одна со смехом сказала:
— Язон знает, чем разогнать дорожную скуку!
— Ах, Язон такой милый! Ха-ха-ха! — добавила другая.
Обе еще ближе придвинулись к Язону. Та, что была поменьше ростом, дрожащим, нетерпеливым движением руки провела по волосам Язона, наклонила к нему голову и что-то зашептала ему на ухо, касаясь его лица накрашенными губами. Затем, резко отодвинув свое лицо и спрятав его в ладони, начала хохотать, будто хотела собрать полные пригоршни смеха. Брюнетка, полная любопытства, сморщила свой острый, быстрый, наглый нос и густые брови над глубоко посаженными глазами и спросила:
— Что она тебе сказала, эта бесстыжая?
Вдруг фургон тряхнуло так, что керосиновая лампа задрожала и упала со стены. Стало темнее, почти совсем темно. Обе женщины, забыв веселье, закричали. Все три атлета дико подпрыгнули, раскрасневшиеся, с горящими от азарта глазами, нетерпеливо и нервно тряся головами и бранясь на чем свет стоит. В темноте видны были крепкие, здоровые, мясистые загривки и тяжелые, грубые, бугристые руки, похожие на тела младенцев.
— К дьяволу!
— Черт подери!
— Черте что!
Кучер сунул в проем голову, на его лице было вопросительное выражение. Видны были нос, покрасневший, побуревший и затвердевший от ветра и непогоды, маленькие глазки, мутные и слезящиеся от холода, и светлые усики. Он что-то неразборчиво, вопросительно крикнул и схватился за голову. Лампу снова зажгли, так как стекло не разбилось о железные обручи пола.
Атлеты продолжили игру. Долли проснулся от шума, который поднялся, когда упала лампа. Он открыл большие испуганные глаза и спросил:
— Что случилось?
Долли сплясал какой-то танец и замер в одних подштанниках в такой позе, будто сейчас подпрыгнет в воздух. Когда стало светлей и стал виден Долли в подштанниках, обе женщины засмеялись, прикрывая рты руками, чтобы не расхохотаться слишком бурно.
— Ах, Долли! Ах, Долли!
Долли снова лег, прикрылся одеялом и огляделся. Он узнал меня и, пожимая протянутую мной руку, спросил:
— Как вы сюда попали?
Я рассказал ему, что Язон взял меня в фургон.
Я провел в фургоне еще полчаса. На прощание я расцеловался с Язоном.
— Может, где-нибудь еще и увидимся? — посмотрел мне в глаза Язон.
— Да! Где раз, там и два! — сказал Долли. — Обязательно встретимся.
Я выпрыгнул из фургона. Две женщины окинули мою полувоенную одежду удивленными, неопределенно-любопытствующими взглядами. Атлеты были заняты игрой и даже не посмотрели в мою сторону.
26
Несколько дней спустя директор кинотеатра холодно и сухо сказал мне:
— Так как число посетителей кинотеатра «Венус» от ваших речей не возросло, я не могу позволить себе лишних расходов.
Я понял, что он имеет в виду.
— Мне еще что-то причитается?
— Восемьсот марок.
Он отдал мне деньги, и я ушел.
Было часов шесть вечера. Город покрыл белый иней. Снег не шел.
Куда идти?
Сумерки, скользя, ступали босыми ногами по тротуарам и мостовым. Я вышел на главную улицу. Два длинных ряда гуляющих тянулись по обеим ее сторонам. В воздухе носились смех, шум и обрывки слов. Пролетки и трамваи рассекали вечер, дремлющий на матовых от инея камнях мостовой. Электрические и телефонные провода дрожали, будто эти живые кровеносные сосуды города ощущали холод.
Мне некуда было идти, и я пошел к зданию цирка. Окна его не горели. Цирк был закрыт. Кто-то сорвал афиши, и только две огромные ноги негра Бамбулы, оставшиеся от цветной литографированной афиши, продолжали висеть на стене.
Я двинулся прочь от цирка, мне было все равно куда идти, и я пошел без цели, без пути; я смешался с толпой и затерялся в человеческом потоке. Издали электрические фонари мерцали, как лучистые глаза. Я все шел. Мне стало холодно. Мороз без труда проникал сквозь мою легкую одежду. Я отправился к светловолосому еврею, у которого ночевал в последний раз.
Луна смотрела на землю сквозь серебристый обруч, как в колодец. Мороз стал полегче, поласковей, и ночь мягко и тихо поплыла по воздуху.
Светловолосый еврей стоял у стены и что-то подсчитывал на ней мелом, выводя какие-то длинные ряды цифр и подчеркивая их. Каждой цифре, каждому значку он давал имя.
— Семьдесят — Шломович! Шестьдесят шесть — Фукс! Два двадцать пять — реб Лейзер… — подписывал он каждую цифру.
Руки у него были длинные, очень длинные, ладони широкие, плечи узкие, ноги короткие. Он выглядел так, будто все остальное тело висело у него на руках.
Он увлеченно продолжал писать. Увидев меня, он на мгновение обернулся и продолжал писать. Я купил в буфете в соседней комнате несколько булочек. Девочка с подслеповатыми, мутными глазами и болезненным румянцем на щеках поднесла монету к глазам и дала сдачу Я прошел в ту комнату, в которой была ночлежка, и улегся, положив руку под голову. Тут было темно. Светлая ночь заглядывала в стекла. Я подумал, что поступил глупо, не переговорив с Язоном о том, чтобы меня взяли на работу в цирк. Может быть, меня бы и взяли. Язон с Долли поговорили бы с антрепренером. Может, из этого что-то и вышло бы?
Что будет завтра и послезавтра? Денег у меня, может быть, дня на два. Мне не на что купить чаю. Оставшихся денег хватит только на хлеб. На вокзале можно бесплатно взять кипяток. Буду брать с собой бутылку и есть на вокзале.
Дверь отворилась, и вошел хозяин. Он взял что-то с подоконника и ушел прочь. Дверь осталась открытой; из соседней комнаты проникал свет и освещал стены. Я принялся считать цветочки, нарисованные на потолке. Там было нарисовано двести десять цветочков. Потом я стал считать полоски на стене. Потом закрыл глаза и стал задремывать. Когда я открыл глаза, часы пробили восемь.
Я снова вышел на улицу, купил булочек, вернулся в ночлежку и попросил у девочки из буфета бутылку. Получив бутылку, я пошел на вокзал, набрал из крана кипятка в бутылку и поел хлеба, запивая его кипятком. Потом я опять пошел в город и до одиннадцати слонялся по улицам. Когда я вернулся на квартиру, хозяин сказал мне, что все койки заняты и спать мне негде. Я покинул ночлежку и опять ушел в город. Мороз крепчал, мне становилось холодно. Я опять пошел на вокзал, набрал в бутылку горячей воды и согрел руки. Полчаса просидел на вокзале и ушел. Повалил густой снег — я был весь им покрыт. Так я прослонялся по городу до рассвета. Я посинел от холода и был совершенно измучен. Я сел на ступеньки лесенки у какого-то дома и попробовал заснуть. Но холод не давал мне сомкнуть глаз, а ветер срывал одежду с тела. Я попробовал старое средство: разговаривать с самим собой. С открытыми глазами я стал разговаривать сам с собой, задавать себе вопросы и отвечать на них. Я говорил резко, уязвляя сам себя, не жалея горьких слов там, где речь заходила обо мне самом. В конце концов я почувствовал боль от того, что сам себя браню, вскочил и пошел быстрым шагом, чтобы согреться. Всю ночь шел снег, вся улица была покрыта высокими сугробами сверкающего, нетронутого снега. Рассветные сумерки ползли по сугробам, и окна домов были погружены в сон. Сонные, невыспавшиеся рабочие с термосами кофе под мышкой шли на фабрики. Извозчики спали на козлах, лошади моргали от снега большими, влажными, грустными глазами. На углу мне встретились две уличные женщины, выставляющие напоказ бледные лица и подбитые глаза. Они разговаривали, кричали друг на друга, размахивали руками. Извозчик, проснувшись от их крика, весело заворчал, сделал снежок и метнул его в одну из женщин:
— Эх, пропащие!
Обе женщины повернулись к нему и принялись, не сходя с места, его бранить, размахивая руками, выкрикивая злые и замысловатые проклятия одно за другим, как собаки, которые боятся укусить, но, не сходя с места, не прекращают лаять.
Извозчик рассмеялся их проклятиям, которые текли в холодный, металлический воздух из больших, просторных, широко открытых ртов. Худощавый мужчина средних лет стал гасить газовые фонари; он здоровался с извозчиками как с добрыми знакомыми.
Среди рабочих я узнал нескольких, которые часто бывали в кинотеатре «Венус». Я остановил одного из них, низенького поляка с белым, одутловатым, нездоровым лицом и седыми усами.
— У вас стачка уже закончилась? — спросил я его.
— Да, мы работаем уже четыре дня.
— Ну, и добились чего-нибудь?
— Десять процентов. Могли получить больше. Сил не было дальше бастовать.
Он говорил хрипло и тяжело. Его грудь была полна сна и усталости от долгих лет, проведенных на фабрике.
Я пошел дальше. Среди рабочих я увидел человека, у которого ночевал, когда работал в кинотеатре «Венус». Я остановил его, спросил, как дела. Он радостно отозвался на мое «доброе утро» и тоже рассказал мне, что они получили десять процентов прибавки. Это был высокий, веселый мужчина лет тридцати пяти, с длинными крепкими руками, с широким, грубоватым, мужественным лицом, с пушистыми усами и маленькими живыми глазками. Ко мне у него была большая претензия из-за того, что я перестал «говорить» в кино. Я рассказал ему, что меня уволили. Он удивился и недоверчиво покачал головой.
До девяти я слонялся по улицам, а потом отправился к Фогельнесту.
27
Я постучал в дверь квартиры Фогельнеста. Никто не отозвался. Я понял, что здесь никого нет, и ушел. Я купил хлеба и отправился на вокзал перекусить. Там я уже в третий раз заметил некого бледного человека в очках: он, весь в заплатах, заросший, с давно немытой головой, с мутным, апатичным, сломленным выражением усталого, тонкого лица, брал себе кипяток, как и я. Я попробовал с ним заговорить. Он не ответил, пропустил мои слова мимо ушей и отвернулся, подставляя бутылку для воды под кран. Его тонкая, длинная, благородная рука с красивыми длинными пальцами дрожала, а голову он прикрывал воротником пальто так, словно просил, чтобы его не трогали, оставили в покое.
— Можно ли с вами познакомиться? — спросил я.
Его бледное, благородное лицо притягивало меня.
Он посмотрел на меня сквозь очки, надолго задержал на мне взгляд и снова отвернулся. Потом дернулся куда-то в сторону, отбросив ногой бутылку, которая стояла под краном с горячей водой. Бутылка упала в водосточный желоб и разбилась. Он так и остался стоять в отчаянии, беспомощно, оцепенело глядя на осколки стекла.
— Может быть, возьмете мою бутылку? — обратился я к нему.
Он еще раз на меня посмотрел сквозь очки, серьезно и испытующе, и затем сказал так тихо, что едва можно было расслышать:
— Сперва вы поешьте.
— Нет, я еще не хочу есть. Берите бутылку с водой.
— Я возьму ее позже, после того, как вы поедите.
Я быстро, торопливо съел свой хлеб и выпил воду. После этого я предложил ему бутылку. Он поел, и мы молча вышли в город.
— Вы местный? — спросил я.
— Да! — тихо ответил он.
— И чем занимаетесь?
— Ничем. Разве непонятно?
— А где вы живете?
— В муниципальном приюте для нищих, — с горькой усмешкой ответил он. Увидев мое удивление, он добавил: — Вы не бойтесь, я не нищий, хоть и живу в приюте для нищих. А вы кто?
— Недавно вернулся из армии…
— А вы где живете? — спросил он меня.
По его тону было понятно, что он не спрашивал, где именно я живу; он спрашивал, живу ли я хоть где-нибудь.
— Нигде.
Больше он ничего не спросил. Он понимал, что «жить нигде» — значит, жить на улице.
— А как попасть в приют для нищих?
— Пойдите в магистрат, в социальную службу, комната двенадцать, и ведите себя как человек, которому надо провести в приюте для нищих всего несколько ночей, потому что его выселили из квартиры… Вам даже этого говорить не нужно… Вы ведь только что вернулись из армии. Вы покажете свои бумаги, и вас с величайшим почетом пошлют с запиской в приют для нищих. Приносите записку на пару ночей, а там разрешение продлевается. Да, вы получите место для ночлега… Нищему трудно получить место в приюте для нищих, а добропорядочному человеку не так уж трудно…
Он рассмеялся, при смехе яснее проступили его обтянутые кожей скулы, бледное лицо сморщилось.
— А есть там люди вроде вас?
— Да, целое общество! Коммуна приюта для нищих! Вы там не заскучаете, милостивый государь! Там весело! — рассмеялся он, скривив бледное, прозрачное лицо, которое сейчас посинело от мороза.
Мы шли быстрым шагом. Он молчал. Ветер задирал полы его потрепанной одежды.
— До магистрата недалеко, — сказал он мне, помолчав несколько минут. — Идите. Сегодня ночью мы уже увидим вас в приюте для нищих.
Он пошел от меня прочь.
Я вошел в здание магистрата и спросил швейцара, где находится комната номер двенадцать — социальная служба.
— На втором этаже, — ответил швейцар.
Я поднялся на второй этаж и прошел в комнату номер двенадцать.
Толстый мужчина сидел над стопкой бумаг и что-то помечал в них карандашом. Он не посмотрел на меня, как будто не услышал, как я открываю дверь. Четверть часа я простоял в комнате, прежде чем он поднял голову и увидел меня.
— Что вам надо?
— Я демобилизованный солдат.
— Мы ничего не можем для вас сделать! — коротко и резко сказал этот человек, снова засунув голову в бумаги.
— Я ночую на улице.
Он молчал.
— Я бы хотел, чтобы мне разрешили переночевать в приюте для нищих.
Он посмотрел на меня.
— Документы!
Я подал ему бумагу о моей демобилизации.
— Вы где-нибудь работаете?
— Нет!
— Тогда на что вы живете?
На последний вопрос я не ответил.
Больше он ничего не спросил. Он написал записку и дал ее мне.
— Право на ночлег в течение пяти суток, — сказал он и снова погрузился в бумаги.
Я покинул здание магистрата с документом в руках.
Я устал и был измотан после ночного странствия по улицам, я хотел спать, глаза слипались. Сквозь полузакрытые веки я видел, как падает ослепительный снег. Я пошел в кинотеатр «Венус». Кинозал был открыт. Киномеханик пробовал новый фильм. Он как раз входил в фойе и собирался запереть дверь. Киномеханик впустил меня, не глядя, а потом запер дверь. Я оказался за кулисами и лег там на голый пол, укрывшись шинелью. Я ужасно устал, я был измучен — и сразу уснул. Проснулся я далеко за полдень. Дело уже шло к вечеру. Я выбрался в фойе и попытался открыть дверь. Она была заперта. В кино никого не было.
«Придется ждать два часа, до тех пор, пока не откроют зал», — подумал я и начал расхаживать туда-сюда, чтобы согреться. Холод, шедший от голого пола, проник в меня, я дрожал.
Из фойе я снова прошел за кулисы. Увидев отверстие наверху, я подумал, что через него можно выбраться наружу, и придвинул к нему стоявшую рядом лестницу, потом вскарабкался к маленькому окошку и вылез. Я оказался во дворе. Со двора я вышел на улицу. Еще часа полтора я слонялся по городу. Вечером я подошел к полицейскому и спросил у него адрес приюта для нищих.
— Рокочинская улица, шестьдесят один! — ответил он мне.
Я не знал, где находится Рокочинская улица, и спросил его. Он объяснил мне, куда надо идти.
Рокочинская улица находилась на окраине. Мне пришлось идти полчаса, прежде чем я подошел к приюту. Это было старое двухэтажное здание, окруженное деревянным забором. Я позвонил, вышел сторож, поляк в белом овчинном тулупе. Я протянул ему записку. Он прочитал ее и провел меня внутрь.
— Согласно правилам, сначала вы должны помыться, потом получите спальное место.
И он повел меня в маленький кирпичный домик во дворе. Когда я помылся, он отвел меня на первый этаж, в первую большую комнату, где на дверях было написано: «Первое отделение». Там были два ряда кроватей, по пять в каждом, и деревянный, покрашенный в темно-желтый цвет длинный стол. На кроватях лежали два старика. Оба были наголо выбриты. На продолговатом, полубезумном лице одного из них при нашем появлении — моем и сторожа — появилось жалкое, убогое выражение, он уставился на нас серыми, острыми, косыми глазками и придурковато закричал душераздирающим голосом:
— Дайте пару грошиков!
Затем он залез под одеяло, рассыпаясь в озорном смехе:
— Хи-хи-хи!
Другой старик, побритый и помытый, с пухлым белым лицом, был похож на женщину. Он полулежал на кровати с закрытыми глазами, над которыми не было ни следа бровей, и говорил в пустоту, в окно, как будто охваченный оцепенением. Сквозь тонкое одеяло были видны его кривые ноги, в которые он вцепился руками — изо всех сил, чтобы не упасть на подушку бритой головой. Его тонкие губы, похожие на две грязные белые ленточки, двигались, поднимаясь медленно, потихоньку, и обнажали при этом два ряда коротких гнилых зубов, которые торчали из его синих десен, как ржавые черные когти.
Близ двери на скамье сидел маленький горбун с широким лбом на огромной круглой голове, по краям которой росли жидкие белые волосики. Его просторный лоб был изборожден морщинами. В углах лба залегла грязь, как сор лежит по канавам. Ниже лба лицо было узким, щеки впалыми, нос — длинным, острым и шишковатым; сквозь длинные обветренные губы был виден рот, из которого торчал плоский, как у собаки, ряд зубов. Шея была длинной и узкой, как у волка; кадык толстый, грязный и неподвижный, как будто застывший. Он был гол до живота и изогнут так, что было видно, как на нем чужеродным грузом лежит горб. В худой дрожащей руке он держал рубашку и быстрыми, стремительными взглядами искал вшей.
— Свинья ты! — заорал сторож. — В карцер пойдешь за такую гадость!
Горбун поднял руку, заслоняясь от удара, а другой рукой поднес рубаху к своему сухому, желтому, сморщенному, впалому, складчатому животу, который выглядел как гнилая желтая кожа, пригнул голову и закричал по-еврейски:
— Ой, господин хороший. Не убивайте…
Тот старик, что лежал на кровати, посмотрел на него, и его остроконечная голова запрыгала на одеяле, заливаясь смехом:
— Хи-хи-хи!
Я содрогнулся при мысли о том, что я здесь останусь.
Сторож прошел со мной во вторую комнату
По полу ползал на четвереньках мальчик лет двенадцати с круглым лицом, маленьким расцарапанным носиком, низким лбом, узкой грудью, короткими руками и ногами — идиот от рождения. Он раскинул руки, как звериные лапы, и полз на них, надувая щеки и кивая головой, как коза, когда ее тащат или гонят; глазки у него были белесые и мутные, толстые верхние веки нависали над ними, как у коровы. Он остановился у кровати, на которой сидел в полудреме старый еврей, засунувший себе в рот, на манер акробата, большой палец ноги. Мальчик хлопнул себя кулаками по надутым щекам и свистнул еврею, который дремал на кровати:
— Фью-ю-ю!
Дремлющий еврей приоткрыл один глаз, медленно оглядел мальчика — и снова закрыл глаз.
Около железной печи, которая находилась в глубине комнаты у стены, стояли человек десять-двенадцать, одетых в плотную верхнюю одежду одинакового покроя, как у арестантов. У некоторых одежда волочилась по полу. Они жались к печке, поглощая тепло ртами, руками и ногами, плечами, загривками. Багровый отсвет пламени большой железной печи тускло освещал смотревшие в огонь лица, делая их похожими на привидения. Черты этих лиц были неотчетливы: видны были только впалые рты, глубоко посаженные, болезненно глядящие глаза и хитрые, быстро шмыгающие носы. Люди стояли, согнувшись, держа руки над огнем и не говоря ни слова. Казалось, что они собрались вокруг какого-то мертвого тела, которое во все стороны испускает свет.
Когда мы подошли, они обернулись: повернули к нам только головы, но не тела, их тела оставались неподвижны, оцепеневшие от лени, которую тепло каменного угля разлило по всем членам.
Мальчик, надув щеки, принялся колотить себя по ним кулаками, вскочил на ноги и, взглянув мне в глаза, радостно воскликнул, наполовину говоря, наполовину напевая:
— А-га, а-га, еще один!
На подоконнике стоял безногий. Он носил длинную бороду, доходившую до пупа; лицо у него было бледное, морщинистое. В глубине узких, слепых морщин кожа была изжелта-белая. Изо рта у него торчала трубка без табака. Трубка, в которой нечему было гореть, свисала из его беззубого рта просто так, по привычке, и пряталась в бороде, как кротовая нора во ржи. Вместо того чтобы стоять на ногах, которых у него не было, он стоял на костлявых, жилистых, длинных, смуглых руках, на которых он растопырил пальцы, словно что-то хватая или куда-то карабкаясь, — руки выглядели как вилы. Человек на подоконнике был похож на статую, на надгробный памятник, чьи ноги от древности раскрошились и отломались.
Сторож вынул из кармана ключ и отпер дверь. Мы вошли в третью комнату. Там находились женщины, в основном старухи. Некоторые лежали на кроватях и дремали. Другие сидели за столами или вокруг железной печки, в которой горел огонь.
Тощая женщина лет шестидесяти медленно, неторопливо расхаживала взад и вперед и о чем-то говорила сама с собой. Она была пострижена по-мужски, и ее маленькая головка сидела на узких, сутулых плечах как прибитая. Она заложила руки за спину, будто о чем-то задумалась; ее смуглое дряблое лицо было отрешенным. Если прислушаться, можно было разобрать, что она молится минху[36]. Женщина в парике, с болезненно-бледным, обессиленным лицом, с остекленевшими серыми, глубоко посаженными глазами сидела на лавке у стола, положив руки на стол, а голову — на руки; она быстро и отрывисто говорила сама с собой. До меня долетали отдельные слова;
— Как постелет, так и поспит…. Он так хотел, вот так вот… Сума ему не годится, так он теперь… Чтоб его разорвало…
У печки женщина с парализованной рукой, свисавшей, как перерубленное гусиное крыло, рассказывала какую-то историю кучке женщин, которые толкались, стараясь поближе подобраться к огню. Особняком ото всех у окна сидела на полу одна женщина; трудно было сказать, сколько ей лет. Лицо у нее было желтое и рябое, нос красный от холода, взгляд подавленный и застывший. Издалека казалось, что она очень стара, но, если приглядеться, было видно, что не так уж она и стара, как казалось издали. Увидев, как мы со сторожем входим, она перекрестилась.
Сторож рассмеялся.
— Видите, — сказал он мне, — эта тварь крестится каждый раз, как видит меня. Она считает меня злым духом, который виноват в ее несчастье… Вот беда!
В следующей комнате также находились женщины. Все они толпились у огня, кроме одной, которая лежала на кровати и что-то шила белыми дрожащими пальцами.
В пятой комнате сторож сказал мне:
— Здесь есть свободные койки. Вы можете занять одну из двух.
Он показал мне их и сразу же вышел из комнаты.
В комнате было темно, почти полный мрак. Единственное окно заслоняло красное кирпичное здание. Я очень устал, лег на одну из двух свободных кроватей и сразу же уснул.
Проснулся я на заре. Должно быть, было еще совсем рано. Из-за дома напротив окна солнце не проникало в комнату. Рядом со мной на кроватях лежали пять человек. Я как следует вгляделся и узнал среди них того, по чьему совету я сюда попал. Его рот был открыт, и короткое дыхание, которое говорило о нездоровых легких, вырывалось из его груди. Сквозь волосы на его длинном лице была видна бледная иссохшая кожа, которую сейчас, во сне, покрывал слабый румянец.
Все от души храпели. У двух были благородные изможденные лица и ввалившиеся глаза.
У окна стояли деревянные доски, на которых были нарисованы лица, в основном портреты нищих. На одной картине я узнал лицо нищего, которого видел в первой комнате. Я понял, что среди моих здешних соседей есть художник. Кто именно — я не знал. Меня это заинтересовало, и я стал ждать, пока кто-нибудь проснется, чтобы заговорить с ним и узнать, кто здесь художник.
В соседней комнате раздался шум. Было слышно, как люди проснулись и зашевелились на кроватях. До меня донесся негромкий, глухой, мрачный женский голос. Этот монотонный голос медленно, рыдая, повторял:
— Мойде ани лефонехо…[37]
Какая-то нищенка молилась, и слова молитвы вползали в комнату и поглощались стенами.
Вдруг кто-то рядом со мной зашевелился. Человек, лежавший на соседней кровати, выпростал руку, взмахнул ею, будто что-то отгонял от себя, и открыл глаза. Взгляд его упал на окно, в котором уже занимался новый день. Потом он снова закрыл глаза и заснул. Через несколько минут снова открыл глаза.
— Когда здесь положено вставать? — спросил я.
Он посмотрел на меня и ответил:
— Когда хотите. Можете лежать на кровати весь день и всю ночь, если у вас в кровати есть еда.
— А сторож не гонит?
— Нет, ему до нас нет дела.
— И никаких проверяющих из магистрата?
— Не припомню, чтобы приходили проверяющие. Художник наш, например, любитель дрыхнуть, — он показал мне на человека, лежавшего на третьей от меня кровати; я узнал того, который меня сюда зазвал. — Он может так лежать два дня и две ночи подряд. Вы полагаете, он болен, нездоров?.. Ничего подобного, он и не подумает высунуться в город — лежит себе в кровати и спит. Нет, что я говорю — спит. Он лежит и смотрит, лежит и смотрит… И вот так вот, понимаете ли, два дня подряд!..
Тот, кто говорил мне все это, поднялся и спрыгнул с кровати. Он быстро оделся и ушел в город. Я тоже встал и ушел. Вернулся я поздно вечером. Весь день я слонялся по городу и вернулся, замерзнув. Все спали. Только мой сосед сидел у печки и пек в ней картошку, которую вынимал из кармана.
Я подошел к печке и стал греть кости. Мой сосед был чернявым, высоким, крепким мужчиной с сухощавым, перекошенным лицом, на котором блестели живые, веселые глаза. Он то и дела доставал из кармана куски угля и подбрасывал их в огонь.
— Ну, как ваши дела? — с улыбкой спросил он, раскусывая печеную картошку.
Я ответил ему тоже с улыбкой. Он мне понравился. Он сидел на полу, обхватив печку ногами.
— Хотите — съешьте пару печеных картофелин.
Освещения не было. От красного огня в печи ложились красные тени. Я сел на пол и взял картофелину из его рук.
— Художника все нет, — сказал сосед, оглядевшись. — Он сегодня, конечно, уже не вернется. Вероятно, продал где-то картину, получил деньги и запил в «Домике». Завтра вернется и на два дня заляжет в постель.
Он швырнул в печку несколько кусков угля.
— Работал сегодня на фабрике — уголь грузил. И получил два кармана угля. Чтоб вы знали, в мои карманы помещается немало, — и он рукой указал мне на свои карманы.
Огонь разгорелся и затрещал.
— Как давно вы здесь?
— Три недели.
— А прежде где жили?
— В Варшаве. А там, — сказал он со смехом, — тоже пять недель ночевал в приюте для нищих. Я люблю большие города. Есть где переночевать. В маленьком городишке ты должен просить, чтобы тебя пустили на ночлег. А если уж тебя пустят, то все время следят за твоими руками, чтобы ты чего не украл. А в большом городе идешь себе, понимаете ли, в приют для нищих. Только в Галиции с этим трудно. Там нужно получить мешок бумаг и документов, и сам бургомистр должен их подписать. В гробу я видал всех бургомистров, и ноги моей в Галиции больше не будет! А ты что делаешь? — спросил он меня.
— Ничего.
— Как и я? Ну а все-таки, ты чем-нибудь занят?
— А ты работаешь?
— Иногда, когда что-нибудь подворачивается…
— А если не подворачивается?
— Если не подворачивается — ухожу или уезжаю в другой город… На, съешь еще одну картошку. Они готовы.
Было тепло. Наши лица раскраснелись от света тлеющих углей.
— А как долго можно здесь жить?
— Месяцами. Тут есть один, который здесь живет уже больше года. Но я здесь не собираюсь задерживаться дольше, чем на несколько дней. Думаю уехать в Катовице. Говорят, там, в Катовице, можно получить работу на угольных шахтах и на погрузке вагонов. Но я думаю туда податься не потому, что там, по слухам, можно получить работу, а потому, что хочется куда-то отсюда уехать. С работой всегда получается какая-то ерунда. Пару недель назад мне сказали, что в Данциге можно получить работу в порту. На поезд мне хватило как раз на полдороги. До Торуни я дошел пешком, а оттуда уже поехал в Данциг. Ни о какой работе там и слыхом не слыхали. Там десятки тысяч своих безработных, да к тому же еще приезжают искать работу безработные из Германии. Так что не стоит ехать куда-то, потому что кто-то что-то сказал. А ты чем живешь? — наконец спросил он меня.
Я рассказал ему, что я демобилизованный солдат и сижу без работы.
— Плохо твое дело, и лучше не будет, — сказал он и поворошил железным прутом красные огоньки в печи.
Он начал дремать. Я разделся и лег на кровать. На несколько минут мой взгляд задержался на огне в печке и на человеке, который, задремав, сидел на полу. Огонь мерцал все тусклее и тусклее, пока совсем не погас. Человек у печки спал на полу, положив голову на руки. Вдруг он проснулся, вскочил и лег на кровать.
На следующий день пошел дождь, тяжелый зимний дождь со снегом. Я был в городе и вернулся оттуда мокрый и голодный. У меня больше не было денег на жизнь. Я снова увидел чернявого человека. Он опять сидел у печки и пек картошку. Он и мне предложил картошки. Я не отказался, сел на пол — никаких стульев не было — и стал греться.
— В России часто бывает такая погода, — сказал чернявый, поглядев в окно, — снег с дождем.
— Вы бывали в России? — спросил я.
— И далеко в нее забирался, был даже в Сибири и, поверите ли, аж в Китае.
И не спросив меня, хочу ли я его слушать, он начал рассказывать длинную удивительную историю.
28
Я, видите ли, из Комарно, это такое местечко в Галиции. В четырнадцатом году меня забрали в армию и послали на фронт, а там я попал в плен к русским.
Если бы одной темной ночью я не убежал, кто знает, рассказывал ли бы я вам сейчас обо всем, что со мной случилось. Со времени моего побега прошло уж восемь лет, и я за это время не встретил ни одного из тех двух тысяч немцев, венгров, поляков, чехов, словаков и солдат из прочих народов, вместе с которыми меня содержали в большой грязной дыре в пятнадцати верстах от Владивостока. Потому-то, по правде говоря, я думаю, что большая их часть померла от голода и тифа. История моего побега не так уж интересна. Интересней то, как я дотащился в лагерь военнопленных в дальнем углу России, но и это не настолько интересно, чтобы вспоминать сейчас об этом во всех подробностях.
Мне жутко становится, когда я припоминаю, как весь наш пятый полк королевско-императорской австрийской армии два дня и ночь напролет топтался в раскисшем снегу, до костей промокнув под дождем. Мы все были довольны, когда нас окружила и взяла в плен казачья часть. Только один перепуганный венгр все плакал: «Казаки нас всех расстреляют! Как Бог свят, всех расстреляют!»
Казаки не только никого не расстреляли, но даже угостили нас русскими папиросами и хлебом. За это мы дали им немецкого мармелада и шоколада, а испуганный венгр перестал плакать. Даже весело стало. Все вздохнули с облегчением: наконец избавились от винтовок и теперь наверняка останемся живы. Никто, однако же, не представлял себе печального путешествия в лагерь для военнопленных, который нам предстоял.
Забегая вперед, скажу, что дорога из Лемберга до Владивостока длилась не меньше четырех месяцев, да к тому же почти без еды.
Нас было семьсот шестьдесят пять здоровых мужчин. За весь долгий путь нам всего несколько раз давали суп с хлебом. Нам говорили попросту: «Можете умирать. Вы нам не нужны…»
Но мы не хотели умирать, и за четыре ужасных месяца пути во Владивосток едва не умерли только двое — один чех и один изысканный венский немец. Но и они все-таки не умерли, не дай Бог, ни от голода, ни от странной горячки, про которую сам доктор не знал, откуда она взялась.
До Киева мы ехали вместе с русскими солдатами и под стражей. В Киеве прождали два дня. Там нам выделили специальный поезд с девятью теплушками. Каждый получил по две буханки свежего хлеба и по миске горячей каши, так что застывшая и замершая кровь заструилась по жилам. В Киеве нам сменили конвоиров. Офицер нашего полка не забыл напомнить:
— У кого есть австрийские деньги, должны отдать их мне. Наши деньги надо будет обменять на русские. Наши-то ни один русский крестьянин не возьмет. Сдохнете в пути от голода.
Тут же в фуражку, которую он снял с головы, посыпались австрийские кроны и крейцеры.
Деньги он отдал командиру сопровождавшего нас русского конвоя, молодому фельдфебелю с красной подвижной физиономией и маленькими быстрыми глазками.
Один из нас, чех, немного знал русский и служил переводчиком. Он объяснил фельдфебелю, что от него требуется. «Хорошо», — заявил фельдфебель: он идет в город, обменивает деньги и привозит провиант. Сказано — сделано. Фельдфебель взял караульного и сразу ушел вместе с ним в город.
А спустя короткое время мы, сидя в товарном вагоне, издали увидели телегу, на козлах которой сидели какой-то русский бородатый извозчик и наш фельдфебель. Оба они мотали головами и плевались во все стороны. Поравнявшись с паровозом, фельдфебель спрыгнул с телеги и закричал:
— Четверых в помощь!
Спустились четверо пленных.
Только тут мы увидели, что вместо провианта фельдфебель привез полную телегу самой скверной русской водки.
Мы не посмели возразить ни слова. Мы же были у них в руках. Мы с ужасом представляли себе, что всю дорогу у нас не будет ни куска хлеба, одна водка. Мы сжали зубы и молчали.
Затем фельдфебель очистил один вагон от пленных, которых он рассовал по другим вагонам, а в этот вагон загрузил бутылки водки.
Погрузка водки произошла, когда мы были в полуверсте от станции. Фельдфебель договорился об этом с машинистом. Потом он выставил в вагоне с водкой охрану, и мы поехали. Спустя короткое время вся охрана была мертвецки пьяна. Даже машинист едва держался на ногах.
Какой-то русский солдат, увидев, что машинист пьян, принялся звать фельдфебеля. Фельдфебель подошел и, увидев, что машинист мертвецки пьян, стал таскать его за волосы.
— Ты заведешь этот «самовар» прямо в реку… сукин ты сын! — кричал он на машиниста. — Вот мы сейчас… сейчас же тебя вытрезвим…
Он приказал двум солдатам раздеть машиниста.
— Ты, сволочь, нагрузился водкой, как свинья, доведешь нас до беды… в яму поезд заведешь… не тужи, братишка, сейчас мы тебя протрезвим, я у тебя из нутра водку-то повытрясу… я тебе прочищу голову… да не царапайся ты… тррщ!.. — И фельдфебель двинул машиниста, который вырывался и не давал себя раздеть, кулаком правой руки в нос.
Мороз обжигал и сверкал, как радуга. Пар изо рта замерзал. Было холодно, ужасно холодно. Ветер швырялся колючими иглами.
Через пару минут машинист остался в чем мать родила. Его красное тело покрылось от холода пупырышками, как кожа мертвого гуся, а лицо посинело и оцепенело. Мускулы, сведенные в комки на крепком теле, дрожали.
— Берите его за руки! — скомандовал фельдфебель двум солдатам, которые, не медля, схватили машиниста за длинные, натруженные, покрытые мозолями, черные руки. — А вы, — обратился фельдфебель к двум другим солдатам, — берите его за ноги.
Два других солдата так и сделали. Мычащая, стонущая голова машиниста повисла между солдатских ног, и из его рта потекла черная слюна с кусочками пищи.
— Раз, два, три! — сосчитал фельдфебель. — Бац!
Четыре солдата изо всей силы швырнули голого на десять метров от себя в глубокий промерзший снег.
— Так, так, братцы, в такой баньке живо протрезвеешь! — вдруг заорал машинист.
Он и в самом деле протрезвел. В отчаянии мотнув головой, он крикнул:
— Караул!
Никто не отозвался. Солдаты охраны напились и спали как убитые.
— Караул! — крикнул машинист еще раз, а потом забормотал: — Если бы кто здесь появился и увидел нас пьяными, тут бы такое началось! Напиться на службе! Четыре года каторги, как на духу, четыре года…
Из одного вагона он с криком и руганью перепрыгивал в другой и в конце концов, отчаянно причитая, добрался до паровоза:
— Четыре года… четыре года…
В пять утра поезд остановился в П. Там поменяли машиниста и кочегара. Солдаты протрезвели. Фельдфебель сам поселился в вагоне с водкой и стерег ее. Так он мог быть уверен, что никто не напьется… К половине седьмого он сам лежал на полу мертвецки пьяный, но и пьяный он продолжал исполнять свой долг. Он был на посту: лежал поперек двери, с револьвером в руке, и всех предупреждал:
— Кто подойдет за бутылкой водки — схлопочет пулю в лоб! Я не хочу из-за вас получить четыре года каторги, сучьи дети!
Поезд мчался через поля, реки и долины.
Около полудня поезд опять остановился. Фельдфебель подбежал к нашему офицеру:
— Черт побери, я от этой водки совсем умом тронулся, берите и вы… Согрейте душу, братцы! Это ведь на вражьи деньги!
Оставалось еще больше восьмидесяти бутылок. За очень короткое время мы, шестьсот человек, опустошили все бутылки, две из них отдав новому машинисту. Через два часа фельдфебель снова забегал с отчаянием на лице. Он размахивал руками и кричал:
— Может случиться беда… беда… Машинист мертвецки пьян. Он нас прямо в Черное море завезет, собака! Я ему покажу, как пить на службе! — и он аж подскочил от злости.
Водка возбудила нас, влила беспокойство в нашу кровь и застоявшиеся конечности. Вагон был набит. Все плевались, все ругались на немецком, венгерском, чешском, словацком. Все задвигались, зашевелились. Вагон наполняли запахи и испарения человеческих тел.
Поезд внезапно остановился посреди заснеженного поля, в котором, сколько хватало глаз, не было видно ни следа. Мы вышли из вагона размять кости. Вдруг из паровоза донесся громкий крик.
Я поднялся на паровоз, чтобы посмотреть, что там происходит.
Фельдфебель вместе с еще двумя солдатами сдирали одежду с машиниста, здорового, мясистого русского с жирным загривком.
Фельдфебель без остановки бил машиниста кулаками по щекам, по шее и в живот. Потом его нагишом подняли вверх и, как мячик, вышвырнули в поле.
Слышно было, как всей своей тяжестью голый человек проламывает замерзший снег. Ледяная поверхность тяжело хрустнула в тишине; голый человек мгновение полежал на поверхности, его розово-синеватое тело блеснуло на ярком солнце — и исчезло в снегу, как в могиле.
— Господи Исусе! — раздался испуганный, ошеломленный, зовущий на помощь голос над заснеженной степью и отозвался эхом в замершей дали белых полей.
Потом все стихло. Снег поглотил голого человека, так что его совсем не стало видно.
Солдаты в поезде грубо и мстительно захохотали.
— Ну, милые, разве он теперь не протрезвеет, чертов сын? — фельдфебель тоже присоединился к хохоту, содрогаясь всем своим тяжелым телом. — Такая банька ему брюхо прочистит, как желудок апостола Павла, когда он постится за крещеную душу… В головушке у него, у ублюдка ослиного, просветлеет, будет знать, что снег белый, и в Черное море нас не завезет, сукин сын! Ха-ха-ха!..
Через несколько минут два солдата вытащили машиниста из снега. Он весь покраснел, налился кровью и пялил, жмурясь и моргая, широко раскрытые глаза, как только что проснувшийся жмурится и моргает от солнечных лучей. Он не понимал, что происходит, где он и почему его тащат. На его лице появилось придурковатое, растерянное выражение, как будто в его мозгу стерлись все воспоминания, и он думал, о чем бы подумать… Машинист хрюкал, шмыгал носом, дышал перегаром и наконец просто, по-детски, с мольбой в голосе произнес:
— Дайте мне капельку водки, пожалуйста!
Это были его первые слова.
К длинной голой ноге машиниста, покрытой застарелой грязью, прилип снег. Он не ощущал его. Солдат сбил снег прикладом ружья. Уже в поезде два солдата принялись растирать машиниста, меся его тело, как тесто, а потом поставили у гигантской паровозной топки. Машинист пришел в себя. Он растерянно улыбался:
— Эх… задали вы мне баньку!
Он быстро и смущенно оделся, все так же улыбаясь. Через несколько минут поезд двинулся с места.
Фельдфебель прошел в вагон, где находился наш офицер. Он угостил его папиросами и поговорил с ним с помощью чеха, понимавшего по-русски. Он говорил с офицером на равных, как с человеком одного ранга, не моргнув глазом, называл его:
— Господин прапорщик!
И медленно, задумчиво затягиваясь, держал папиросу больше в руке, чем во рту, как будто он курил не для того, чтобы покурить, а потому, что ему как заправскому офицеру скучно, делать нечего и пусто на сердце… При этом он не переставал усмехаться в свои фельдфебельские усы.
На второй день нашего путешествия ни у кого из нас не осталось хлеба. Люди стали голодать. Фельдфебель узнал от кочегара, что до главного военного сборного пункта, где можно будет что-то получить для пленных, ехать еще два дня…
Фельдфебель рассказал об этом нашему офицеру отчаянным, растерянным, грустным тоном, как будто он был нашим лучшим другом, нашим благодетелем. Он виновато повесил голову и ждал, что скажет чех. Так в задумчивости фельдфебель простоял пару минут, потом вдруг повеселел.
— Не волнуйтесь, братцы, — сказал он чеху, имея в виду также нашего офицера. — Бог не даст умереть с голода! Надо вот что сделать, — и он изложил свой план.
Все пленные разделятся на группы, по двадцать человек в каждой. Каждая группа выберет двух человек. В деревню будет послано по два человека от группы к крестьянам за провизией. Ничего другого и нам в голову не пришло. Так и сделали. Наскоро разделились на группы по двадцать человек. Каждая группа выбрала двух старших. Когда все было готово, фельдфебель высунул голову из первого вагона и закричал:
— Господин прапорщик!
Чех, понимавший по-русски, дернул нашего офицера за рукав, давая понять, что того зовут. Офицер пошел к двери. Окон у нас не было.
— Ну? — спросил фельдфебель.
— Фертиг[38], — глухим басом отозвался офицер.
— Уже, — как эхо, перевел чех на русский слово «фертиг». Фельдфебель повернул голову в другую сторону и крикнул громко, начальственным тоном:
— Эй, машинист!
Машинист высунул голову.
— Что, господин фельдфебель?
— Останавливай «самовар»! — выкрикнул приказ фельдфебель, и его голова снова исчезла в вагоне.
Машинист понял, что это значит. Поезд остановился.
— Старшие, выходи из вагонов! — приказал офицер. Семьдесят человек протиснулись среди других пленных и спрыгнули с поезда.
Офицер, фельдфебель и машинист переговорили между собой; потом машинист указал рукой вправо.
Между невысокими сугробами виднелись четырехугольные темные пятна. Это были крестьянские избы.
— Семьдесят рюкзаков и ранцев! — закричал фельдфебель. Из вагона выбросили семьдесят ранцев и рюкзаков.
Еще несколько минут фельдфебель говорил, а потом наш офицер скомандовал семидесяти человекам:
— Стройся! Налево — марш!
И семьдесят человек, среди которых был и я, свернули на занесенную снегом тропку. Мы удалились от остановившегося поезда и приблизились к деревне. В голове колонны шли фельдфебель, офицер и чех, который понимал по-русски.
Мы молча, с трудом пробираясь по колено в нетронутом снегу, с любопытством глядели на белые притулившиеся к земле крестьянские избы, которые становились все ближе. Старая русская крестьянка, увидев нас за двадцать шагов, испугалась до смерти. Чужие лица и чужие австрийские мундиры наполнили ее страхом. Она застыла, глядя на нас с открытым ртом. Вдруг она бросилась наутек, с плачем заламывая руки. Тут ей встретился крестьянин в папахе, надвинутой на глаза. Он, кажется, спросил ее, что случилось. Крестьянка заломила руки и завопила, как свинья, которую режут:
— Не спрашивай, Матвей… Не спрашивай. Беда нам, русским людям… Пропали мы, батюшка… Немцы уже Москву взяли… Они уже у нас в деревне…
Указывая на нас пальцем, она вздохнула и в отчаянии побежала по деревне, криком сообщая новость: немцы взяли Москву. Крестьянин посмотрел на нас, перекрестился, скорчил рожу и вдруг повернулся и пустился бежать, как черт, на своих длинных ногах.
Чех и фельдфебель рассмеялись и объяснили офицеру, что подумали крестьяне. Офицер рассмеялся и сказал по-немецки:
— Йа, ди руссен зинд айн оксенфольк[39]!
Чех перевел эти слова фельдфебелю так:
— Господин офицер говорит, что русские женщины глупы, но мужчины умны!
Фельдфебель ответил:
— Так и есть: русские женщины — самые глупые в мире.
Вдруг фельдфебелю что-то пришло в голову. Он наморщил свой низкий лоб и с усмешкой в маленьких хитрых глазках сказал чеху:
— Скажи своему старшому: пусть все остаются на месте, — и, не дожидаясь ответа, он повернулся к нам лицом и подал знак рукой: «Стой!»
Мы остановились.
— Если крестьяне считают, что вы взяли Москву — тем легче вам будет получить у них хлеб, — заявил он чеху, который быстро перевел это офицеру на немецкий.
— Коли так, братцы, пусть два человека пойдут к старосте и потребуют выдать двести буханок хлеба!
Наш офицер удивился, что в голову такому «тупому» русскому могла прийти такая умная мысль.
Так все и произошло. Чех и еще один наш человек пошли к старосте и потребовали двести буханок хлеба. Деревня была большой, почти что маленькое местечко, и собрать двести буханок для крестьян было нетрудно.
По деревенским дорожкам нам понесли хлеб. Фельдфебель крикнул возчику:
— К железной дороге! Айда!
Через двадцать минут мы погрузили хлеб на поезд и поехали. Во второй деревне произошло то же самое. Эта деревня была меньше первой. Тут мы получили сто буханок. В третьей деревне получили еще восемьдесят. К вечеру в нашем поезде был вагон с целой тысячью буханок хлеба.
Тысяча восьмифунтовых или, по меньшей мере, пятифунтовых, буханок крестьянского, хорошо вымешанного, хорошо пропеченного черного хлеба в таком холодном, снежном, ветреном, одиноком пути — да это сон какой-то, сказка тысяча и одной ночи!
Мы пели и плясали от радости. Тысяча буханок! Мы подняли фельдфебеля на руки и стали его качать. Наш лейтенант со слезами жал ему руку и подарил ему свои золотые часы. Фельдфебель отворачивался и сперва не хотел принимать подарок. В конце концов он сдался и взял часы, когда чех перевел ему слова нашего офицера:
— Все семьсот человек, которые здесь находятся, уверены, что он спас им жизнь. Мы до самой смерти не забудем русского офицера и просим, чтобы он на память и в знак благодарности принял этот скромный подарок.
Фельдфебель покраснел от этих слов, а главным образом от титула «офицер», которым чех, наш переводчик, наградил его. Он взял подарок, задорно поднял палец и сказал:
— Завтра будет еще больше!
Он сдержал свое слово, этот фельдфебель.
Назавтра, когда день еще не наступил и русские поля лежали, погруженные в морозную мглу, сквозь хмурый рассвет раздался хриплый крик фельдфебеля:
— Эй, машинист, останавливай «самовар»!
И мы, семьдесят человек, снова пошли за хлебом.
В тот же день к вечеру мы владели уже двумя тысячами пятьюстами буханками. Представьте себе, две тысячи пятьсот хлебов!
До каждого из нас постепенно дошло это грандиозное число. В середине дня уже среди пленных по вагонам пошел слух: пятнадцать сотен. Через два часа — девятнадцать сотен. И так до двух с половиной тысяч.
Но и этого, видать, фельдфебелю было мало. Он вошел в азарт. Он все время высовывал из вагона свою красную физиономию. Резкий ветер, пахнущий степью и морозом, хлестал по его загорелому лицу, а он своими маленькими хитрыми глазками высматривал деревни, как картежник — монеты. Через несколько километров он заметил-таки деревню, хотя вся земля, сколько хватало глаз, была укрыта снежным морем. Красная физиономия фельдфебеля аж затрепетала от радости; он засунул в рот два пальца и свистнул в морозное небо:
— Эй, машинист, останавливай «самовар»!
Мы проделали здесь ту же штуку: пошли в деревню с оружием, говорили между собой по-немецки и пустили слух, что немцы в Москве. Наверняка русский унтер и конвоиры совсем потеряли голову от этих дел. Но всё проходило гладко.
Так мы проблуждали три месяца, пока не достигли Сибири. Там находился огромный лагерь военнопленных, где содержались сотни и тысячи солдат австрийской и немецкой армии. Жизнь в нем была — просто ужас. Я увидел, что люди там не выдерживают, и бежал.
Я выбрался в русский портовый город и остался в нем, ничего не делая, а жил тем, что зарабатывал, время от времени относя чей-нибудь узел в порт или на вокзал. Один раз, слоняясь так по городу без всякого дела, руки в брюки, я повстречал маленького хитрого японца Гамату — так его звали. Он посмотрел на меня и пошел прочь. Я подумал, что он шпион какой-нибудь, что он выдаст меня русским властям, и тут же спрятался, хотя сурового наказания за побег из лагеря не полагалось. Самое большее — десять суток карцера. Но не в том суть. Суть в том, что пришлось бы дальше сидеть в лагере. Помню, тогда меня от одной этой мысли бросало в дрожь. Через несколько дней мне снова повстречался этот хитрый и вездесущий японский пройдоха. На сей раз он подошел ко мне и спросил:
— Что вы здесь делаете?
— Ничего.
— Вы еврей? — затем спросил меня японец и пристально взглянул мне в лицо.
Я не понял, зачем ему надо было это знать. Но все же испуганно ответил ему:
— Да, я еврей.
Японец заметил мое волнение и страх и с хитрой улыбкой на своем противном лягушачьем лице произнес:
— Вам не нужно меня бояться. Я не жандарм! Однако, — прибавил он, — я буду как жандарм, если вы не будете меня слушаться!
Я был взволнован, но более всего меня удивило то, что этот японец говорит со мной по-немецки.
— Говорите, чего вам надо!
— От вас мне не нужно никаких услуг. Я хочу вместе с вами провернуть одно дело, на котором мы разбогатеем.
— Дело… со мной? — пожал я плечами. — Знаете ли вы, что у меня нет ни гроша за душой?
— Вашим вкладом будут ваши мозги. В этом деле деньги роли не играют. Те небольшие деньги, которые надо вложить, дам я.
— Так чего же вы хотите от меня? — спросил я.
— Не бойтесь. Я не людоед. Такой человек, как вы, раз уж вас забросило сюда, должен понимать, что японцы не носят кос и не едят человечину. На этом деле мы сможем разбогатеть. Но вы, сударь мой, должны понять, в чем состоит бизнес! От этого все зависит.
— Ну, хорошо, говорите уже, что вам нужно.
— Прежде чем я скажу вам, в чем состоит это дело, вы должны ответить мне на один вопрос, и вас не должно удивлять, что я задаю его вам. Сейчас я объясню вам, что я имею в виду и для чего мне нужно это знать.
Японец подошел ко мне поближе и спросил меня:
— Вы обрезанный?
Я продолжал стоять красный от злобы и раздражения. Мне страшно хотелось дать волю кулакам и врезать японцу по физиономии. Я решил, что имею дело с одним из тех типов, которые шляются в больших городах и ищут жертв для своих нечистых страстей. Судя по лицу японца, он понял мои мысли и сказал:
— Прежде всего, вы не должны раздражаться из-за того, что я задаю вам такой вопрос. Вы солдат и всякое слыхали. И к тому же, сударь мой, вы беглый! Не думайте, что я не знаю, кто вы такой, но вы очень ошибаетесь, если думаете, что я задаю вам такой вопрос, потому что… потому что хочу что-то сделать…
Он поклялся, что ничего дурного не имел в виду. Я задумался. Тогда он предложил зайти в кофейню, чтобы там рассказать о своем деле. Я пошел за ним.
— Понимаете, дело вот в чем: вы выглядите как чистокровный представитель еврейской расы. В Китае есть большая область, жители которой крещены. Они очень благочестивые христиане и отлично знают Библию. И все они, дурни, считают себя великими грешниками. А самым святым человеком на свете полагают еврея, настоящего еврея. В Пекине действительно есть маленькая группа евреев, но они и не евреи вовсе, они те же самые китайцы с такими же плоскими носами и такие же дурни, как прочие. Мы с вами поедем в эту область, построим вам дом и известим с помощью афиш, что приехал настоящий, обрезанный еврей, истинный «внук»[40] Иисуса Христа, и продает амулеты. Понимаете мой план? Никакого жульничества. Все по закону и по чести. Ну, что скажете, разве вы не еврей? Разве вы не «внук» Иисуса Христа?
Я рассмеялся, услышав этот странный японский план, и согласился.
— На амулетах вы как следует заработаете. Понятно, что чем больше, тем лучше. Как только мы накопим большую сумму денег, поедем в Японию. Там я выправлю вам паспорт, и вы уедете в Америку.
29
Назавтра, после того, как японец Гамата ввел меня в курс дела, он купил мне новую одежду. Мы сели на корабль, с которого вскоре сошли на китайский берег.
Несколько дней мы ехали через залитые водой рисовые поля, пока не прибыли в ту область, где нам предстояло стать миллионерами. Эта область действительно населена благочестивыми и фанатичными китайцами-христианами. Японец разбил для меня палатку и повесил перед палаткой на деревянных шестах две большие афиши с такими бесстыжими надписями на китайском и английском:
«Настоящий еврей, „внук“ Святого Духа и Иисуса Христа, приехал на несколько выступлений. Настоящий еврей, амулеты, исцеляющие средства для расслабленных, калек и душевнобольных. Раз в два дня он произносит псалмы на древнееврейском языке, на языке пророка Моисея, Иисуса Христа, царя Давида и пророка Исайи».
Да, у этого японского спекулянта голова варила! Он рассказал мне, что был когда-то студентом в Берлине, и на Гренадирштрассе[41] у него была возлюбленная-еврейка. Он поездил по миру: побывал даже в Варшаве и в Лемберге.
И что же вы думаете, это мерзкое дельце со мной у него не пошло? Пошло, еще как. Каждый день ко мне приходили тысячи китайцев, которые рассказывали мне о своих бедах и просили помощи.
Сейчас смешно вспомнить, как я стоял за своего рода красным паройхесом[42], который для меня повесил Гамата, и как бедные китайские святоши падали передо мной на колени и просили о помощи! В первое время эти моральное унижение и человеческие страдания воспринимались очень остро! И все-таки жизнь, думал я, сильнее всего на свете. Выхода нет, я должен следовать судьбе, нити которой японец держит в своих руках. Гамата сидел в вестибюле и взимал плату с каждого китайца, выдавая ему что-то вроде билета с нарисованным на нем крестиком.
На афише было написано «Каждые два дня „внук“ Святого Духа произносит псалмы», и каждые два дня несколько тысяч китайцев собирались в большом зале. Я стоял наверху, на высокой эстраде, и произносил — нет, не псалмы — я пел песенки лембергского кабаре «Лехо Дойди»[43] и всякие другие песенки. Я не пел псалмов, потому что, во-первых, не знал наизусть целиком ни одного псалма, а во-вторых, я в своем униженном, печальном и странном положении вообще не хотел иметь дела с Библией. Японцу было без разницы, спою ли я песенку из кабаре или произнесу парочку псалмов, которых он опять-таки знать не знал. Он сидел в кассе и продавал билеты. Так я пробыл в той местности четыре недели. Я уверен, что японец собрал капитал в пару тысяч долларов, не меньше. Оттуда мы переехали в другую область. Но там нас ожидал крах.
В один прекрасный день ко мне пришли китайские полицейские с мандарином во главе и арестовали меня. Я узнал, что японец со всеми деньгами бежал. Меня посадили в китайскую тюрьму без гроша денег.
Больше полугода просидел я в китайской тюрьме. Чего я там натерпелся, и пересказать трудно.
Через шесть месяцев наконец состоялся мой процесс. Китайские судьи не знали, как меня судить, — они не были христианами. Как большая часть китайских бюрократов, они были последователями Лао Цзы[44] и не хотели вмешиваться в дела христиан. Опасаясь англичан и французов, они решили отослать меня в Пекин в тамошний центральный суд. Центральный суд в Пекине, перед которым я предстал по обвинению в мошенничестве, признал меня полностью невиновным. Я еврей и христианин — почему бы мне не быть «внуком» Иисуса Христа, так же как любой набожный китаец может называть себя «внуком» Конфуция или Лао Цзы, или как любой благочестивый индус может называть себя «внуком» Будды, или любой мусульманин — «внуком» Магомета? Да, я брал деньги за амулеты, заявили далее судьи, но ведь принято, чтобы лекарь брал деньги за такие вещи. Короче, китайские судьи были умны, и я оказался на свободе.
Теперь мне нужно было получить свои деньги у японца. Но разыскать его не было ни малейшей надежды.
Я обратился к австрийскому послу в Пекине и рассказал ему, как я здесь оказался и как японец грозился донести на меня русским и заставил ехать с ним в Китай. В австрийском консульстве я получил деньги и документы, чтобы добраться до Вены. Но в Австрию я не поехал. На что она мне сдалась? Чтобы еще раз в военную форму одели? Я поехал в Швейцарию и, только когда война закончилась, вернулся в Галицию. Родителей я уже не застал. Они померли от мора в годы смуты. Никакого постоянного занятия у меня не было, и я, видите ли, стал странствовать из одного города в другой в поисках работы.
30
Он отставил башмаки вправо, устало положил руку под голову и задремал.
— Послушайте, я бы хотел пойти с вами в Катовице искать работу. Как вы на это смотрите?
— С удовольствием, — ответил он, не открывая глаз и крепче прижимая ноги к печке.
Мы с ним договорились идти в Катовице пешком. Когда он крепко уснул, я поднялся и ушел в город.
Я еще раз пришел на квартиру к Фогельнесту. Постучался. Мне открыла госпожа Фогельнест. Ее бледное, прозрачное лицо было все в потеках слез, глаза — красные и опухшие. Я сразу же понял, что случилось какое-то несчастье, но не решился спросить ее. Она сама рассказала мне, что случилось.
— Знаете ли вы, что моего мужа больше нет в живых?
Я застыл на месте. Она ничего больше не сказала, снова заплакала в белый платочек и протянула мне газету. Я стал искать глазами известие о ее муже. Скоро я нашел его. Коротко сообщалось, что Виктор Фогельнест, тридцати двух лет, покончил с собой, бросившись под поезд.
Я молчал. Она совладала с собой и обратилась ко мне:
— Если у вас есть время, могу ли я вас о чем-то попросить?
— Пожалуйста!
— Побудьте здесь. Родня Фогельнеста, конечно, придет сюда. А мне надо уйти.
— Хорошо. Я здесь побуду.
Она быстро ушла из квартиры.
Я остался один в комнате. Постель была разбросана, не застлана. На столе валялись разные бумаги.
Я сел у окна и стал смотреть на пасмурное небо, которое, как темное сукно, нависало над городом. Час шел за часом. Никто не приходил. Было тихо, совсем тихо. Дело шло к ночи. Денег у меня не было, и я, голодный и измученный, прилег. Спал тяжело и беспокойно. Часа в четыре пополудни я проснулся, нашел ключ, прикрыл за собой дверь и вышел на улицу. Было сухо и морозно. Улица была покрыта сверкающей наледью.
Куда идти?
Я шатался часа три; потом вернулся в квартиру и там, раздевшись, улегся уже как следует. Голова болела, и я полуспал-полубодрствовал. Я и сам толком не понимал, сплю я или бодрствую. Мои ресницы сомкнулись, зрачки покрыл мрак.
Часа в четыре утра, на рассвете, я проснулся. Из соседней комнаты раздался шум, как будто жужжал рой мух. Это начала работать какая-то машина. Из коридора доносился шум: какие-то люди проснулись и принялись за свою привычную работу.
Я не мог больше спать, поэтому встал с кровати и оделся. Было еще темно, поэтому я зажег лампу. Я принялся думать о несчастном Фогельнесте, и мне пришло на ум, что у меня уже давно было смутное предчувствие его смерти, что его порывистая манера говорить и ковыляющая походка свидетельствовали о том, что он не жилец. От нечего делать я начал перебирать лежащие на столе бумаги, потом мои глаза остановились на них.
Я заметил несколько листов, исписанных нервным почерком, и начал их читать. Читая, я вздрогнул. Я почувствовал, как моей душой овладевает безграничная тоска, которая входит в нее как острая, сладкая отрава. Это была тоска по вечной смерти, освобождающей нас от страданий этого мира. В то же время я чувствовал музыку, которая струилась в этих словах и делала тоску еще больше и еще нежнее.
Это было написано в форме рассказа, бессвязного, оборванного. Тяга к смерти глядела из этих слов с нежностью прекрасных глаз больного ребенка.
Я читал:
Домой…
Однажды, когда он вернулся с поля и спокойными, медлительными, тихими шагами поднялся на второй этаж своего дома, навстречу ему вышла черноволосая девушка с огненными, карими, дикими глазами, встала на ступеньку, загораживая ему дорогу, и, посмотрев на него, но не говоря ни слова, заплакала.
Он остановился, не дойдя до нее двух ступенек, и, приподняв брови, окинул ее неподвижным, рассеянным взглядом; она тоже, не отводя глаз, не говорила ни слова.
Долго простояли они в неподвижности друг перед другом, пока она не позвала его неясным, тоскующим голосом:
— Луи — ты…
Он вздрогнул, взмахнул рукой — и тотчас дрожащий огонек вспыхнул в его печальных погасших зрачках.
— Входи!
И он вошел в комнату, а она — за ним.
В комнате он присел к столу, она — на стул, стоящий у окна. Оборотясь к нему лицом, она стала смотреть на свои длинные белые пальцы, лежащие на коленях. Он на нее не смотрел; он повернул взгляд к висевшей на стене незаконченной картине, на которой жужжащие полуденные мухи собирались в черные кучки.
Вдруг она взметнула свои черные брови, кинула на него огненный взгляд и быстро, горячо заговорила:
— Ты хочешь, чтобы я была здесь? нет, я пойду…
И она приподнялась. Он быстро встал, загородил ей дорогу и отозвался измученным голосом:
— Мириам!
Она осталась сидеть и тепло поглядела на него, будто хотела обнять его взглядом…
Дни проходили в тишине, как воры, крадущиеся по дорогам, уходящим в бесконечность; и каждый день уносил с собой алмазы молчаливой скорби…
Все молчащие любят бурю, и наша бледная мать умерла, когда буря хлестала мир по лицу волнами дождя — и ослепила ее глаза… Наша белая, бледная мать увидела смерть, странствующую по дорогам, сжалилась над ней и впустила ее к себе в дом. И смерть поцеловала нашу бледную мать в глаза, дыхание смерти проникло в душу нашей матери, и смерть сказала так:
— Приди в мою страну!..
Наша бледная мать уронила серебряную слезу и сказала смерти в ответ:
— Как могу я прийти в твою страну, когда я — мать всех молчащих этого мира, когда я — мать всех немых душ?..
Покачала смерть головой, увенчанной черной короной, и ответила бледной матери:
— Взгляни на мою страну, и ты увидишь, что твой мирок в сравнении с моим миром мал, как слезинка; ты увидишь, сколько чистых, молчащих душ ждут там святую, добрую мать, сколько душ, уже измученных серой жизнью, тоскуют по твоей нежной, чистой руке…
Так она написала и дала смерти прочитать написанное. Пока смерть читала, она уронила немало незамеченных ею самой слез, потом поцеловала исписанный лист и осталась там жить. А когда однажды потерявшийся солнечный луч, ища исправления своему пути, заблудился на исписанном листе, слеза излучила навстречу ему пару радужных сверкающих нитей, заблудившийся луч соединился с тонкими сверкающими радужными нитями, и они вместе с ним отправились в мир, ища…
Дни сочетались с днями, рождали новые дни и умирали.
Они жили вместе. Луи чувствовал, что сросся с Мириам. И чем ближе они ощущали друг друга, тем шире распространялась осень там, где ступали их ноги, тем плотнее и обширней ткалось молчание, которое возносилось из их глаз.
Молчание и печаль были всегда рядом. Печаль тянулась вслед за вечным молчанием.
Много раз, когда Осенний шел со своей сестрой на поляну, бледно-голубые сумерки окутывали грудь земли золотой вуалью заходящего солнца и опускали эту вуаль на их головы, а в синем небе тоскующие, исполненные меланхолии звездные очи изливали грусть — и какой-то свет, как воздушный образ, трепетал в травах, дрожал и гнулся, колыхался из стороны в сторону — и странное чувство сжимало каждый раз их сердца. Мириам сказала Луи:
— Меня тянет — домой…
— Куда это домой? — спросил Луи, и в его сердце отчетливо возникло то же чувство. — Где твой дом?
— Где мой дом?.. Быть может, где-то там, где небо целуется с землей… Быть может, где-то там, где кончаются голубые завесы мира…
Ее брови сдвинулись, грудь вздымалась: она задумалась. Время от времени она задумчиво смотрела по сторонам, окидывала взором мир, и ее молчание становилось еще печальней и мучительней.
Так шла она и прислушивалась к тому, как ветерки, эти расшалившиеся дети, кувыркаются на поляне; гоняются за бедным увядшим листком, из которого уже много лет тому назад отлетела весенняя душа; поднимут его, будто хотят закинуть на небо к оправленным в серебро облакам, но сразу же с улыбкой оставят лежать между травинок и тут же примутся шалить с другим увядшим листком.
Он почувствовал укол в сердце, когда она вспомнила слово «домой». Оно пробудило в нем ощущение такого нежного уюта, какого он не ощущал никогда в жизни, хотя он и не знал наверняка, что, собственно говоря, это слово скрывает в себе. И все же оно, это слово, заиграло на своей маленькой молчаливой скрипочке в его душе, и напев без слов пролился в его душу, а отзвук этого напева разнесся далеко:
— Домой[45]…
И Мириам окинула его своим пламенным взором, и этот взор сказал ему:
— Знай, брат, что велик, очень велик этот мир, и, даже если ты, брат, пройдешь по всем его путям и перепутьям, все равно не найти тебе свой дом, потому что нет его в целом мире…
Однажды, зайдя к себе в комнату, он увидел на столе раскрытую тетрадь Мириам, исписанную ее странным, извилистым почерком:
…Я вошла бледным вечером, и вечерние, оплетенные тенями сумерки колыхались в моих тоскующих глазах. Ветер растрепал мне волосы и вплел ночь в мои длинные черные косы… Я ушла и стала смотреть на звезду, которая звала меня к себе… Вдруг я увидела, что перед моими глазами стоит воздушная тень, которая, когда тоска этого мира затопила наши души, отправилась скитаться вслед за нами, как сестра наших теней… На мгновение я испугалась. Сердце забилось чаще, будто в него ударила волна крови — тень протянула ко мне свои холодные костлявые пальцы. Я почувствовала свою близость к ней, и эта близость мгновенно блеснула в моих глазах…
— Сестра, меня зовут Смерть, — сказала она мне, и ее лицо было полно спокойствием того мира, в котором еще не ступала ничья нога… — Меня зовут Смерть, и всем, кто родился чужим этому миру и влачит в отчуждении свои серые дни, всем им я показываю дорогу домой, и для всех них я заботливая мать… И если ты хочешь пойти со мной в твой давно желанный дом, закрой глаза и тихо ступай за мной… тихо, тихо, вот так, тихо…
Когда Осенний закончил читать, он почувствовал, как что-то навсегда ушло из его сердца… И сразу же его душа опустела еще сильнее, чем прежде, и тяжело было чувствовать, что его сестра Мириам больше к нему никогда не придет…
Я перестал читать. В голове у меня сладко шумело, как от неожиданных звуков, которые вдруг доносятся из окна, когда человек идет поздно ночью по тихому и темному переулку.
Я посмотрел на безумный почерк — тонкий, острый и резкий. Он напоминал когти с засохшей на концах кровью. Я окинул взглядом комнату, в которую сквозь окно проникала темнота, как туман в весенний день, когда кажется, что слякотные часы тащатся по дорогам в суконных ботах, грязно, медленно и холодно зевая, как промокшие под дождем коты, которые ищут угол, чтобы там притулиться и задремать.
Часов в десять утра пришла жена Фогельнеста. Она ничего не говорила, молчала так, как молчит человек, у которого от горя руки и ноги налились свинцом. Она прошла по комнате, но, казалось, ничего не видела и ни на что не смотрела.
Потом, сказав «доброе утро», она села у стола, чего-то ожидая. Мне казалось, что она присела как голодный ребенок, который в ссоре со всеми в доме и ждет, когда его накормят, потому что сам попросить стыдится.
Так без единого слова прошло полчаса.
Вдруг она подняла свои чистые, детские, печальные глаза и с мягкой и милой улыбкой посмотрела на меня — как мама — так, будто ей было лет шестьдесят, а мне — десять.
Я был смущен и обескуражен.
Она грустно улыбнулась, но, открыв рот, произнесла медленно, лениво и ядовито:
— Проиграла! Я проиграла!
И вслед за этим громко, в голос, заплакала, обхватив руками голову.
— Что значит проиграла[45]? — я удивился: что именно она сейчас проиграла?
Она долго просидела, закрыв голову руками и рыдая; наконец разгладила волосы и вытерла слезы с лица.
— Внезапное… несчастье… — произнес я просто так, ни к кому не обращаясь.
— Нет, мой друг, это не внезапно, — сказала она. — С того самого дня, как я с ним познакомилась, я знала, что это с ним случится…
Ее глаза внезапно стали строгими и серьезными и заблестели тем огнем, который только правда зажигает в глазах человека.
— Я не любила его как женщина, — заговорила она. — Я любила в нем себя, потому что я хотела его спасти… Если бы я его и полюбила, то только за то, что он был несчастен… А я люблю несчастных… В первый раз я его увидела, когда он стоял на улице и со слезами на глазах смотрел на лошадь, которая упала на мостовую от слабости. Я вспоминаю, как после того, как лошадь умерла на брусчатке, он подошел к извозчику, утешил его и дал ему денег…
Тогда я полюбила его — и у меня возникло смутное чувство, что с ним происходит что-то очень плохое… Мы познакомились случайно, и с первого дня я уверилась в том, что он не в силах жить, что он устал от всего, что видел в мире… Я ушла из дома, оставила родителей и вышла за него замуж, чтобы удержать его от… Но я проиграла, мой друг.
Она смотрела вдаль, и лучи тусклой лампочки преломлялись в ее глазах и блестели в ее слезах…
Я вспомнил тот миг, когда она рассмеялась, увидев меня на лестнице. Только сейчас я все понял.
31
В тот же день я ушел со Шварцем в Катовице. Полпути мы шли пешком, полпути — ехали. Мы получили работу на угольной шахте.
Назавтра мы спустились под землю.
И нас, и землю укрыл снег.
Хоне Шмерук[46] ИСРОЭЛ РАБОН И ЕГО КНИГА ДИ ГАС («УЛИЦА») Перевод с английского и идиша А. Глебовской и В. Дымшица
Жизнь и творчество (краткий обзор)
Исроэл Рабон, один из самых заметных авторов, писавших на идише в период между двумя мировыми войнами, прожил всю жизнь в Польше и был убит немцами в возрасте сорока двух лет. Современники вспоминают о нем как о талантливом поэте с ярким и самобытным голосом, как о даровитом прозаике-новаторе, как о литературном критике, известном своими необычными оценками и мнениями, как о внимательном редакторе значительного литературного журнала и как о мужественном человеке, хранившем верность своим идеям даже тогда, когда высказывать их вслух было чрезвычайно опасно.
Исроэл Рубин, известный под своим главным псевдонимом Исроэл Рабон, родился в 1900 году в Говаржове, местечке Радомской губернии, в бедной, но прославленной семье — в их роду были знаменитые вожди польских хасидов[47]. В 1902 году семья переехала в Лодзь, а точнее, в предместье Лодзи Балут, где обитала еврейская беднота. В Балуте Рабон и вырос.
Еврейское образование он получил в хедере, а общее — самостоятельно, в том числе выучил несколько языков. У Рабона рано проявились способности к стихосложению и рисованию. Некоторое время он зарабатывал тем, что рисовал афиши, а примерно в 14–15 лет начал публиковать в одной из местных газет «юмористические стихотворения»[48]. В 20 лет был призван в польскую армию, которая тогда сражалась с большевиками в Восточной Польше. После демобилизации вернулся в Лодзь, где и прожил, с небольшими перерывами, до Второй мировой войны. В начале войны бежал из Лодзи в Вильну и погиб в Понарах, под Вильной, летом 1941 года[49].
Исчерпывающей библиографии творческого наследия Исроэла Рабона не существует до сих пор. Большая часть его произведений разбросана по газетам и журналам, но их полные подшивки не сохранились даже в тех библиотеках, которые трепетно хранят периодические издания на идише. Книги его также являются библиографической редкостью. Время от времени появлялись критические заметки об Исроэле Рабоне, как правило, основанные лишь на одной или, в лучшем случае, на нескольких его книгах. В свете ограниченности имеющихся сведений наш обзор можно считать лишь первой попыткой обрисовать творческое наследие Рабона; мы надеемся, что этот обзор послужит толчком для новых, более подробных исследований этого забытого писателя и его творчества.
При жизни Рабон собрал свои поэтические произведения, хотя и не все[50], в три сборника:
1. Унтерн[51] плойт фун дер велт («Под изгородью мироздания»), Издательство Л. Голдфарба, Варшава, 1928; 72 с.
2. Гроер фрилинг («Серая весна»), опубликовано при содействии Литературного фонда общества журналистов и писателей, Варшава, 1933; 48 с.
3. Лидер (Стихи), Библиотека идиш-ПЕН-клуба, Варшава, 1937; 41 с.[52]
В стихотворениях Исроэла Рабона, даже в тех, где сюжет выглядит банальным и незамысловатым, звучит совершенно самобытный, неповторимый поэтический голос. Темы, которые снова и снова возникают в стихах Рабона, — грусть, одиночество и смерть, получают в них особое освещение, так как в его поэтике явственно преобладают элементы гротеска.
Элементы гротеска, которые были присущи творчеству Рабона с самого первого сборника, отмечены чрезвычайным разнообразием и предстают в разных обличиях. В первом сборнике они особенно ярко проявляются в фантастическом построении поэтического нарратива и в неожиданных поворотах сюжета, что чувствуется даже в названиях стихотворений, таких как Баладе фун уметикн кейсер вос гот гетанцт митн винт («Баллада о грустном императоре, который танцевал с ветром») и Дос лид фун фаршолтене кортн («Стихи о проклятых игральных картах»)[53]. Впрочем, странное и необычное, гипербола и гротеск в поэзии Рабона по большей части лишь выявляют скрытую сторону того, что принято считать обыденным и банальным, как в повседневности, так и в избитой идиоме. Стихотворение Йиднфресерс («Жидоеды») из третьего сборника служит ярким примером того, какие поэтические приемы постоянно использует поэт:
Жидоеды
Их пятеро, усищи как у тараканов, Пасти разверстые в пол-лица, Кулачищи будто у великанов, Жирные брюхи как колбасы И бакенбарды как лампасы; Пляшут они вокруг мертвеца. Пляшут и пляшут, пока не поспеет обед, В ладоши бьют и распевают дурацкий куплет: «Ай-вай, цимес, фиш, Мазл-топ![54] Удрать? Шалишь! Доброй водки, боже, дай! Ай-вай, ай-вай». Мертвец — еврейчик, чуть больше селедки, Пейсы — вроде кошачьих усов, На круглой медной лежит сковородке И жарится в сале как мяса кусок. Баба со спутанной гривой, Нос от пьянки блестит, Задрана юбка до самого брюха, В копоти морда от уха до уха, Вилкою шарит на сковороде, То так, то этак его повернет И орет: «Жарься, жарься, жид!» Трещит и скворчит разогретое сало, Хамы покуда пар глотают мясу взамен, А по углам каморки четыре крысы Трут на терках носами мокрыми хрен[55].Эта сцена, шокирующая своей макаберностью, выстроена на гротескном осмыслении буквального значения метафоры «Жидоеды». Гротескная абсурдность ситуации создает эффект черного юмора. Особенно отчетливо он прочитывался в момент публикации. Стихотворение было написано в 1930-е годы, после прихода к власти Гитлера, в период разгула антисемитизма в Польше[56]. В этом контексте нельзя не отметить, что воображение Рабона, при всем его буйстве и красочности, не смогло полностью предвосхитить весь ужас Холокоста.
Знаменитое гротескное стихотворение Рабона А левайе («Похороны») служит еще одним выдающимся примером его макаберного юмора. В конце стихотворения Рабон воскрешает мертвеца — тот благодарит всех явившихся на его похороны и сам принимает участие в погребении[57].
Элементы гротеска в поэзии Рабона тесно связаны с постоянным использованием животных, как для отдельных сравнений, зачастую передающих основную идею стихотворения, так и в качестве основных персонажей. Например, такого рода сравнения можно обнаружить в «Жидоедах». В третьей строфе еврей показан глазами тех, кто его жарит. Они видят в нем селедку, а его пейсы сравнивают с кошачьими усами. В двух последних строках стихотворения четыре крысы готовят хрен как приправу к людоедскому пиру. В сопоставлении с упомянутыми ранее кошками, они выглядят гротескным и «логичным» дополнением.
Во многих стихотворениях первого и второго сборника используется прием антропоморфизации животных. Яркими примерами из первого сборника являются стихотворения А балладе фун а ферд («Баллада о лошади»), А гинтише гешихте («Собачья история»), Х’гоб либ («Я люблю»,), а из второго — А гелер вогн («Желтая кибитка») и Дер сойхер фун кец («Кототорговец»).
В последнем стихотворении лирический герой воображает свою поездку в местечко Лутомерск, цель которой — накупить котов. Изумленные жители тащат ему котов тысячами. Только в предпоследней строфе читатель, опешив, узнает, в чем была цель этой странной торговли:
Когда ж обычным чередом наступит полночь в мире, Поднимут с перепугу коты тоскливый вой. О братья, то моя печаль из плена одиночества Наружу рвется, чтоб потом разделаться со мной[58].Здесь сочетаются несколько характерных элементов поэтики Рабона: одинокая печаль, которая «рвется» из глубин души и находит утоление в согласном громком вое котов — по-иному герою не выразить своего внутреннего состояния. При этом положение персонажа, стоящего в полночь на рыночной площади местечка в окружении тысяч воющих котов, переводит все стихотворение на уровень гротеска. Есть здесь и юмористический план, который порождает неожиданная гипербола и который парадоксальным образом не только не разрушает атмосферы отчаяния и одиночества, но даже усиливает ее.
Надо отметить, что в стихах Рабона есть отчетливые свидетельства того, что он придерживался левых взглядов. Однако в стихах, которые вошли в три вышеупомянутых сборника, прямых указаний на это практически нет[59]. В любом случае, они блекнут рядом с его громкими, бескомпромиссными протестами против любой несправедливости, напрочь лишенными привязки к какой-либо идеологии. Эти протесты сопровождает не имеющее никакой политической подоплеки отвращение к образу жизни и самодовольству мелких буржуа. Как минимум со второй половины 1930-х годов в произведениях Рабона отчетливо проявляется настороженное отношение к левым взглядам во всех их проявлениях.
Судя по всему, в 1930-е годы Рабон почти не публиковал собственных стихов. По всей видимости, в этот период он был занят переводами с разных языков на идиш. Переводы его так и не вышли отдельным сборником и известны по большей части из разрозненных источников. Он перевел с польского стихотворение Яна Каспровича, а также стихотворение Малкиеля Лустерника, поэта из Лодзи, писавшего в основном на иврите, но иногда и по-польски[60]. Нам удалось также обнаружить перевод с русского стихотворения Сергея Городецкого[61]. Кроме того, он переводил с немецкого (Райнера-Марию Рильке, Эльзу Ласкер-Шюлер, Стефана Цвейга, Альфреда Момберта и др.)[62]; с французского (Жана Кокто, Поля Валери и Франсуа Вийона). Цитата из перевода стихотворения Шарля Бодлера включена в текст романа «Улица»[63]. Связь между поэтическим творчеством Рабона и его поэтическими переводами с других языков заслуживает более подробного изучения.
Между прозой и поэзией Рабона много общего. В 1928 году, почти одновременно с первым сборником его стихов, тот же издатель, Л. Голдфарб из Варшавы, опубликовал его роман «Улица». По сути, одиночество рассказчика, от лица которого написан роман, созвучно тем чувствам, которые описаны в стихах. О темах и мотивах, объединяющих первый сборник стихов и роман «Улица», речь пойдет ниже.
По утверждению Залмана Рейзена, которое было повторено и другими авторами, откровенно сенсационный роман Ди клоле фун блут («Проклятие крови»), опубликованный в Варшаве в 1926 году в издательстве Л. Голдфарба и подписанный «Я. Розенталь», также принадлежит перу Рабона. Судя по всему, Рейзен ошибался[64].
Нам пока не удалось точно установить, когда Рабон начал печатать свои романы отдельными выпусками в газетах на идише, выходивших в Польше. В неполной подборке Лодзер тагеблат («Лодзинская ежедневная газета») за 1919–1932 годы не оказалось ни одного романа, подписанного либо именем Рабона, либо одним из его известных псевдонимов. Однако представляется, что он все-таки публиковал романы-фельетоны — без подписи или под неизвестным нам псевдонимом. Более того, возможно, он создавал или редактировал переводы на идиш иноязычных романов — эти переводы тоже публиковались без подписи. Пока вопрос остается открытым, и подобные публикации в Лодзер тагеблат требуют дальнейшего изучения[65]. При этом известно, что некоторое время Исроэл Рабон зарабатывал на жизнь тем, что писал романы-фельетоны для варшавской газеты Гайнт («Сегодня»), В ней было опубликовано три романа, подписанных его основным псевдонимом, Исроэл Рабон, а именно:
Гинтер а форганг («За занавесом», роман о жизни евреев в Польше): Гайнт, 23 октября 1929 — 10 апреля 1930.
Дос цвейте лебн фун Довид Вердигер («Другая жизнь Довида Вердигера»): Гайнт, 3 сентября 1935 — 22 января 1936.
Дер фал Ризенберг («Случай Ризенберга»): Гайнт, 26 марта — 30 сентября 1937.
Эти романы не отличаются изысканностью — на идише такая литература обозначается презрительным словом «шунд»[66]. Они незамысловаты, топорны, скроены по единому лекалу, единственная их задача — привлечь неискушенного читателя напряженным и сенсационным сюжетом, приправленным, как правило, изрядной дозой сентиментальности. Мир, изображенный Рабоном в этих романах, как и во многих подобных произведениях, выходивших тогда в польско-еврейских периодических изданиях, был хорошо знаком простым читателям, а для большей заманчивости им иногда позволяли заглянуть одним глазком в тайны преступного мира или в еврейское «великосветское» общество.
Рабон был далеко не единственным писавшим на идише автором в межвоенной Польше, который зарабатывал на жизнь сочинением подобного рода опусов для ежедневных газет. Ицхок Башевис и Иегошуа Перле тоже писали подобные романы, однако, в отличие от Рабона, не подписывали их своими именами.
Не вызывает сомнения тот факт, что у авторов, писавших как обычные романы, так и романы-фельетоны, элементы первых проникали во вторые и наоборот. В случае Рабона очевидно намеренное использование «фельетонных» приемов в «Улице» (см. ниже) и в сборнике «Балут» (в описаниях преступного мира). Подробное изучение романа «За занавесом» позволяет обнаружить в нем «отступления», лежащие в русле «канонического» романа и просочившиеся в роман-фельетон. Эта особенность творчества Рабона требует более подробного и систематического изучения[67].
В 1934 году Литературный фонд общества писателей и журналистов опубликовал книгу Рабона «Балут» (Варшава, 161 с.). На титульном листе значится: «Том 1». Обещанное продолжение обнаружить не удалось. Первая глава романа была ранее опубликована в одной из газет в 1930 году, из этой публикации следует, что первоначально роман назывался Ди форштот («Предместье»)[68].
Один из коллег Рабона обнаружил в этом романе прямые автобиографические отсылки, а в Йосле, мальчике 7–8 лет, усмотрел портрет автора в детстве. Он полагал, что во второй части романа этот персонаж станет центральным[69]. Исроэл Рабон действительно вырос в Балуте, и нет никакого сомнения в том, что яркие описания этого предместья Лодзи и его обитателей основаны на его собственных впечатлениях.
В «Балуте», также как в романе «Улица», присутствуют элементы, характерные для поэзии Рабона. Перечислим здесь лишь самые основные. Второй поэтический сборник Рабона был опубликован в 1933 году, за год до выхода в свет «Балута». В этом сборнике есть стихотворение, носящее, как и роман, имя этого предместья:
Балут
Канава нежно, как дитя, укачивает доску, Целует вихрь вывески полоску, А небо — нищему под стать, измызганного цвета, И птицей вверх взлететь пытается газета, Как паром лошадиный храп, окутан дымом дом, Дождь хлещет землю струями, будто бы бичом. Соломинки по чердаку швыряет ветер, А окна плачут ни о чем, как маленькие дети[70].И стихотворение, и роман начинаются с описания сточной канавы — неизменной приметы всех трущоб Лодзи. Это лаконичное, емкое стихотворение рисует четкую картину, на фоне которой прошло детство Рабона. Нет никаких сомнений в том, что герой стихотворения «Йосл», который фигурирует и в других стихотворениях сборника «Серая весна», — это тот же персонаж, что и в романе. Итак, Рабон обращается к двум различным литературным жанрам, чтобы запечатлеть один и тот же пейзаж и описать одного и того же ребенка.
В отличие от романа «Улица», действие которого происходит на периферии еврейского общества Лодзи (см. ниже), в «Балуте» Рабон погружает нас в самую гущу скученного еврейского населения. В этой книге множество ярких персонажей и незабываемых ситуаций, описанных талантливым пером Рабона. Остается сожалеть, что продолжение этой многообещающей книги так и не увидело свет[71].
Время от времени Рабон также публиковал в Гайнт рассказы[72].
Судя по всему, во второй половине 1930-х годов, с 1936-го по 1939-й, Рабон посвящал большую часть своего времени журналу Ос («Буква»). Он не только был издателем этого важнейшего литературного журнала, но и регулярно публиковал там свои произведения: именно они определяли стиль и уровень издания.
К сожалению, из тринадцати вышедших номеров Ос в библиотечных собраниях удалось обнаружить только пять, плюс отдельные страницы еще одного. Журнал возник в декабре 1936 года и, с перерывами, выходил в свет как минимум до апреля 1939-го[73].
Даже пять сохранившихся номеров Ос дают нам полное представление о журнале и его издателе. Рабон смог привлечь к работе в журнале лучших авторов, которые писали в Польше на идише во второй половине 1930-х. Наряду с жившими в Лодзи писателями старшего поколения — Мириам Улиновер, Мойше Бродерзоном и И.-И. Трунком — в нем публиковались и писатели из других городов: Авром Суцкевер, Лейб Рашкин, Иерахмиэл Грин. Печатал журнал и произведения молодых, чьи имена теперь забыты: Мотла Козловского, Айзика Русколенкера[74]. Но для нас интереснее всего произведения самого Рабона, публиковавшиеся в Ос. Практически в каждом номере есть его переводы из европейской поэзии. В каждом номере присутствуют критические статьи Рабона, в основном подписанные одним из его псевдонимов. В имеющихся в нашем распоряжении номерах не оказалось собственных стихов или прозаических произведений Рабона. Кроме того, Рабон публиковал в журнале репродукции картин художников-евреев, живших в Польше.
Тематика критических статей, которые Рабон публиковал в Ос, свидетельствует о широте его интеллектуального горизонта. Речь в них идет о прозаиках, писавших на идише (Шоломе Аше, И.-М. Наймане, И.-М. Вайснберге и Я. Фишмане), о театре на идише. Рядом со статьей о Герберте Уэллсе мы находим литературоведческие статьи, где обсуждаются такие темы как «символизм», «roman à clef»[75] и «поэзия и музыка». В одной из статей он пишет об отношении польских писателей к антисемитским подстрекательствам.
Самобытные, подчас необычные взгляды Рабона особенно отчетливо звучат в его статьях о литературе на идише. Заглавие статьи, посвященной Вайснбергу, представляет собой типичный парадокс: «Вайснберг, каким он не должен был быть»[76]. Написана статья после смерти Вайснберга. Этот писатель не смог найти себе места в сложившемся в Польше ядре литературы на идише и постоянно вел бессмысленные и нелепые споры с другими писателями и с представителями окололитературных кругов. Он жил в бедности, но не шел ни на какие компромиссы. Рабон с жестокой прямотой, но и грустью рисует портрет талантливого автора, загубленного собственной примитивной и антиинтеллектуальной позицией. Рабон безжалостно воспроизводит его слова и странные поступки. И сегодня статья Рабона о Вайснберге представляет особый интерес, хотя далеко не со всем в ней можно согласиться.
Статья «Мы и театр на идише»[77] написана в откровенно агрессивном тоне и направлена против владельцев театров, которые ради наживы составляют репертуар из самых дешевых и примитивных пьес. Из чистого расчета они показывают зрителям «шунд» и «китч». Не щадит Рабон и актеров, которые подчиняются диктату хозяев, и авторов, которые стряпают эти примитивные пьески[78].
Поучительна и опубликованная в Ос, серьезном литературном журнале, статья «Дух Желехова», посвященная низким жанрам[79]. Рабон с безжалостным рационализмом анализирует проблему распространения «шунда» на идише в Польше в 1930-е годы. Его коробят истерические нападки на «шунд» со стороны критиков и политических активистов, он показывает, что эта литература является «нормальной» составляющей общего литературного процесса. С характерной резкостью и прямотой Рабон насмехается над теми, кто ждет, что читатели «неканонических» романов обратятся к «серьезной» литературе на идише[80]. Да, он не ставит «неканоническую» литературу на почетное место в литературном процессе, однако берется ее защищать.
Судя по всему, в краткий период пребывания в Вильне (с конца 1939-го по лето 1941 года) Рабон писал очень мало. Помимо переиздания одной главы книги «Балут»[81], он, как нам известно, работал над статьей, посвященной творчеству Р. М. Рильке[82], и над книгой, озаглавленной Ди гешихте фун а вандерунг («История странствия»), из которой были опубликованы лишь «Очерки 1939 года»[83]. Это описание начала войны в 1939 году, рассказ о немецком воздушном налете на Лодзь и его последствиях. На первый взгляд, это чисто фактографическое описание, строго соответствующее канонам жанра, заявленного в заглавии[84]. Но даже и в этом очерке чувствуется рука Рабона — в том, как он рисует ужасные последствия воздушного налета, описывая в подробностях месиво из окровавленных фрагментов человеческих тел в огромной воронке. Даже сегодня, когда столь многое известно о Холокосте, «очерки» Рабона о начале войны производят страшное впечатление[85]. Идея книги заключалась в том, чтобы описать странствие Рабона и многих других беженцев с территорий, оккупированных немцами, в ту часть Польши, которая находилась под советским управлением. По всей видимости, сохранился лишь этот опубликованный отрывок.
Как уже отмечалось выше, и в поэзии Рабона, и в «Улице» прослеживаются его левые симпатии. Тем не менее нет никаких сведений о принадлежности писателя к какой бы то ни было политической партии. В 1930-е годы он довольно резко высказывался в своих статьях о советских писателях и советской литературе, написанной под диктовку партии[86]. После того как Вильна и независимая Литва были аннексированы Советским Союзом, Рабон, в связи со своими публикациями в Польше, которые были прекрасно известны еврейским писателям, собравшимся тогда в Вильне, оказался в неприятной и даже опасной ситуации. Впрочем, Рабон был не из тех, кто идет на попятный, скрывает или меняет свои взгляды. Сохранился отчет о собрании авторов, писавших на идише в Советской Литве, — оно состоялось в Ковно 25 мая 1941 года. Согласно этому отчету, Рабон открыто высказывал те же взгляды на литературу, что и в своих статьях в журнале Ос:
Выступление писателя Рабона, который выдвинул откровенно антимарксистский тезис, отрицающий существование реализма в литературе вообще и в особенности социалистического реализма, было единогласно осуждено собравшимися писателями[87].
Подлинность этого отчета не вызывает сомнения, поскольку заявление Рабона совпадает с его взглядами, и это, безусловно, говорит человек, привыкший спорить с большинством.
Знал ли Рабон, какая судьба ждет в СССР писателя, который решается публично высказывать взгляды, идущие вразрез с официальной идеологией? Этот вопрос и возможные ответы на него теряют свое значение в свете того, что не прошло и месяца, как Вильна была оккупирована немцами. Вскоре немцы доставили писателя в Понары, где уничтожали евреев Вильны. Вот описание последнего пути Рабона по улицам Вильны, оставленное виленским поэтом Шмеркой Качергинским — возможно, он видел это своими глазами:
Измученный своим путешествием под градом пуль до Вильны (это путешествие он описал в сборнике «В пути»), он больше не хотел странствовать. Апатичный, сломленный, он не выходил из дома, не вставал с постели до тех пор, пока… за ним не пришли. Еврейского писателя Исроэла Рабона вели (из его квартиры на Замковой) по главной улице, названной в честь великого польского поэта Адама Мицкевича. Дело было летом. Солнечные пятна лежали клавишами на асфальте, как будто хотели сыграть траурный марш по живому Рабону. Он шел перед полицейским всклокоченный, мрачный, как на собственных похоронах[88]…
Роман Ди Гас («Улица»)
Рассказчик, от лица которого написан роман «Улица», является также и главным героем. Имя его нам неизвестно, в связном виде он свою биографию не излагает. Из его слов мы узнаем о тяготах его жизни в нарративном настоящем (то есть в период, непосредственно описанный в романе). Кроме того, хотя и в меньшем объеме, мы знакомимся с эпизодами и подробностями его прошлого, которые представлены в романе в виде вкраплений в нарративное настоящее.
Ясно изложенный экспозиционный зачин (предшествующий тридцати одной пронумерованной главе романа) сообщает нам, что рассказчик — солдат, демобилизованный из польской армии после четырех лет службы. Незадолго до демобилизации он узнает, что в родном местечке, где он жил до призыва в армию, не осталось ничего, к чему стоило бы возвращаться. Впав в полную апатию, он просит выдать ему железнодорожный билет до того же места, что и стоящему перед ним в очереди солдату. Так, совершенно случайно, он попадает в Лодзь. Временные границы нарративного настоящего в романе простираются от девятой недели его пребывания в Лодзи, когда у него заканчиваются деньги, до отъезда в Катовице. Общая длительность этого периода — приблизительно четыре-пять месяцев, время действия можно определить довольно точно — с сентября по январь. Основываясь на всевозможных указаниях, имеющихся в тексте, можно сказать, что речь идет об осени и зиме 1922/1923 или 1923/1924 годов[89].
На первый взгляд, перед нами дневник или хроника, в которой рассказчик даже слишком часто отмечает «точное» время того или иного события внутри определенных временных рамок. Мы можем «однозначно» выделить блоки глав, связанные прямой временной последовательностью. Например, сюжет 10-16-й глав разворачивается на протяжении одних суток: в этих главах описаны ночь и следующее утро. А, например, временной период с конца 12-й до начала 14-й главы составляет всего полчаса. Этот период определен «с полной точностью», поскольку упомянуто, что часы на городской башне сперва пробили половину третьего, а потом три часа ночи. В трех последующих главах, а именно 17–19, описаны три последовательных дня. Это подчеркнуто в первом предложении 18-й главы, открывающейся словом «Назавтра», и в начале 19-й главы, начинающейся словами «На другой день».
Впрочем, эта точность в указании времени парадоксальным образом теряет свое значение и прямой хронометрический смысл, когда сквозь временную последовательность нарративного настоящего в 13-й главе просачивается совершенно самостоятельная история. Эта история — возврат к воспоминаниям рассказчика о временах войны, воспоминания эти укладываются в полчаса, отмеченные боем часов на городской башне в вымышленном настоящем романа. То же самое справедливо и относительно другой упомянутой выше последовательности глав, где рассказана история жизни атлета Язона, которая также происходит за рамками четко очерченного нарративного настоящего романа. Более того, прошлое Язона не совпадает с прошлым рассказчика.
Кроме того, роман Рабона выходит и за пространственные рамки Лодзи, откуда рассказчик уезжает в последней главе. В главе, посвященной его военному прошлому, мы внезапно оказываемся на равнине, где проходит польско-большевистский фронт[90]. В рассказах Язона место действия меняется с калейдоскопической скоростью — сам он родился в Литве, скитался по России, Румынии и Венгрии, наконец, попал с бродячим цирком в Лодзь, где и встретил рассказчика. Ему довелось пожить в Москве, Бухаресте, Будапеште и других местах. В истории еврея из галицийского местечка Комарно (28-я глава) Рабон забирается еще дальше — в качестве военнопленного персонаж попадает во время Первой мировой войны в Китай, а потом возвращается в Польшу. Снова и снова на страницах «Улицы» читатель вырывается из узких пределов Лодзи и попадает в далекие края, где фактически нет никаких границ.
Более того, судя по всему, точность в указании времени является важной характеристикой рассказчика, который до службы в армии работал бухгалтером и крайне дотошно фиксирует все подробности. Однако эта его «верность факту» теряет всякое значение, когда рассказчик признается (8-я глава):
Случалось, когда я, в пыли и зное, жарясь на солнце, шел по улице, мне начинали прямо среди бела дня мерещиться возмутительные, дикие истории, в которых я был замешан. Это были ужасные, фантастические истории.
Я думал, откуда на меня среди ясного, солнечного дня, на самых людных улицах сваливаются такие дикие, отвратительные истории, расцвеченные такими страшными красками, а потом улыбнулся, как тот, кто вдруг догадался о том, что и так давно известно: «Эти истории тебе приснились ночью! Ха-ха, а он и не помнит!..»
Несколько минут мне казалось, что это только сны, сны минувшей ночи. Но затем я уже знал, что это очевидная ложь, что ничего такого мне не снилось. Я тратил минуты и даже часы, чтобы доказать и напомнить самому себе, что все это мне и вправду приснилось, и в то же время отлично знал, что все это ложь. Странно доказывать, что ложь — это чистая правда!..
Это признание служит непосредственной прелюдией к жутковатой и гротескной истории, изложенной в следующей, 9-й, главе романа. Там речь идет о том, как рассказчик попал в странную пекарню, где его запекли в пирожок. Находясь в этом пирожке, он пролетает над «странами, реками и морями». Пирожок с его живой «начинкой» хватают, разрезают на кровавые куски, и его пожирают люди неведомой национальности — так реализуется страх рассказчика перед распятием и возникает прямая символическая параллель с хлебом причастия.
Хотя подлинный источник галлюцинаций рассказчика кроется в его нарративном настоящем, это отступление вынесено за пределы времени и места. Эта история явно сюрреалистична. Выслушав это признание рассказчика, читатель теряет всяческую уверенность в том, что понимает суть происходящего в книге: ему непонятно, где происходят эти события — в «реальности» или в галлюцинации, в «выдумке» или во сне. Можно ли утверждать, что история летающего пирожка — это единственная обманчивая галлюцинация во всей книге? Возможно, и другие сюжеты, особенно те, что уводят нас за пределы нарративного настоящего, например, происшествие на заснеженной равнине во время войны, истории атлета Язона или история еврея из Комарно, тоже относятся к сновидениям рассказчика или тех, чьи истории он излагает. То же относится и к встрече с доброй женщиной с кошелкой (главы 3 и 25), и к рассказу о юной возлюбленной рассказчика, которая не приходит на свидание (главы 22, 23 и 25). Действительно ли они происходят в «реальности» или являются плодом буйного воображения этого странного человека?
В «Улице» много эпизодов, которые не так-то легко соотнести с реальностью, описанной в книге. Роман Рабона — это сложная паутина галлюцинаций и вероятных галлюцинаций, зачастую гротескного толка, дополненная сенсационными и подчас просто жуткими историями. Все это заключено в «реалистические» временные и пространственные рамки, четко привязанные к Лодзи начала 1920-х годов[91]. Эти внешне противоречивые элементы придают тексту уникальное художественное единство, построенное на сложных параллелях и вариациях на одну и ту же тему.
Лейтмотив «Улицы» — отчужденность рассказчика. Его неспособность вписаться в жизнь большого города — это внешнее выражение его внутренней отчужденности. Рядовой, только что демобилизовавшийся из польской армии в первые годы существования независимой Польши, не в состоянии найти себе постоянную работу и жилье в терзаемой безработицей и забастовкой ткачей Лодзи. Первые месяцы пребывания в Лодзи, пока у него еще есть немного денег, он снимает койку в ночлежке или в темной, вонючей, сырой подвальной квартире. Оставшись без гроша, он вынужден блуждать по стылым городским улицам и так проводить зимние ночи — ведь для него закрыты все двери[92]. Ближе к концу романа ему удается провести несколько ночей в приюте для нищих, который содержит город. Дважды герой находит работу, но оба раза только временную. Сначала он носит по городу афишу бродячего цирка. После этого объясняет неграмотным зрителям немых фильмов, что происходит на экране. Но забастовка не прекращается, зрителей все меньше, он теряет и эту работу[93]. Будучи евреем, рассказчик не может получить работу за пределами Польши, хотя в конторе, где набирают рабочих во Францию, его признают физически годным. Тем самым отчужденность в «Улице» получает особое еврейское измерение — об этом речь пойдет дальше.
Все вышеописанное изложено в «Улице» на уровне «реалистического» повествования в рамках непрерывного нарративного настоящего, которое протянуто фактически прямой линией от начала и до конца книги. Менее очевидные, косвенные указания придают феномену отчужденности ужасающую глубину — как и отступления, которые то и дело отклоняют развитие сюжета от непосредственной реальности, описанной в романе.
Это можно продемонстрировать на примере воспоминаний героя о своем детстве, одновременно подчеркнув, что эти воспоминания создают своего рода параллель между ситуацией из прошлого и настоящим персонажа. Суть воспоминаний рассказчика о детстве (7-я глава) сводится к следующему: в возрасте 12 лет он поранился. Рана воспалилась, и, чтобы отвезти мальчика из местечка к городскому врачу, дабы тот спас ему руку, его мать вынуждена заложить семейные субботние подсвечники. Этот врач, человек жестокий и равнодушный к страданиям ребенка, готов лечить мальчика только в том случае, если мать отдаст ему все свои деньги. Выбора у нее нет, она соглашается. Мать и сын голодны, денег на обратную дорогу у них нет, поэтому мать вынуждена среди зимы побираться на безразличной к ним улице большого города. И для матери, и для ребенка этот эпизод связан со жгучим унижением. Для рассказчика это стало первым и очень болезненным соприкосновением с большим городом, соприкосновением, которое уже тогда, в детстве, сделало его отверженным. Этот детский опыт, в самом начале книги, служит прологом к будущим бедствиям уже взрослого рассказчика, который не может найти в Лодзи никакой поддержки и в конце концов оказывается в приюте для нищих.
Отступление, повествующее о детстве рассказчика, фактически является самостоятельным произведением. Через много лет Рабон опубликовал его без всякой связи с романом. Однако в «Улице» повествование ведется от первого лица, в новелле же действует безымянный всезнающий повествователь, который рассказывает историю ребенка по имени Лейбл. Других изменений в повествование внесено не было[94]. Однако нетрудно понять, что только в виде главы «Улицы» этот мучительный эпизод обретает особое значение — как первый и определяющий опыт отверженности, воздействие которого выходит далеко за рамки этой истории. О том, что параллель между двумя эпизодами, отделенными один от другого многими годами жизни рассказчика, далеко не случайна, мы узнаем из концовки главы, предшествующей этому эпизоду (6-я глава), которая подготавливает нас к восприятию рассказа:
Город, дома, улицы, люди — все, что я видел, показалось мне еще более чужим и далеким, а я самому себе — еще более ничтожным, еще более одиноким и несчастным.
Эта история мне напомнила нечто, произошедшее со мной в детстве, когда я был двенадцатилетним мальчиком.
Ключевые слова в этом абзаце — фремдер (еще более чужой) и элнтер (еще более одинокий), а также небехдикер (еще более несчастный). Все эти чувства навеяны положением рассказчика в большом городе. Эти чувства возвращаются как параллель к ощущению отчужденности и одиночества, испытанного героем в детстве: «Я чувствовал себя на морозной улице одиноким и брошенным» (7-я глава). Используя в обоих отрывках близкие по смыслу слова из одного семантического ряда, рассказчик выражает чувство полной отчужденности, которое он испытывает на улицах большого города[95].
Несмотря на то что отступления в романе «Улица» разнятся по сюжету и стилю, почти все они преследуют одну и ту же цель: снова и снова изображать отчужденность в различных ее формах и вариациях, выстраивая параллели к центральной коллизии, описанной в романе. Таков рассказ атлета Язона, который, несмотря на успехи в цирке и в отношениях с женщинами, остается маргиналом. Его фантастические приключения, смены образа, его скитания — это лишь выражения его неспособности вписаться в социум, соединиться с ним. То же относится и к его цирковым друзьям: они работают вместе, но не способны стать единой монолитной группой. Это проявляется в описании отдельных компаний в цирковом фургоне, покидающем Лодзь: тем самым автор показывает отчужденность, сохраняющуюся между этими людьми, которые странствуют вместе. В рассказе Язона четко прослеживается традиция сенсационных бульварных романов, которые на идише принято называть «шунд». Рабон в «Улице» очень умело использует эту традицию в своих целях[96].
Те же элементы прослеживаются и в истории еврея из Комарно (главы 28 и 29). Перед читателем предстает «фальшивая» еврейская идентичность этого персонажа, и поскольку он не в состоянии найти себе место на земле, то в итоге уезжает вместе с рассказчиком в Катовице. Символически оба героя похоронены дважды: они сами — в подземных шахтах, а шахты — под выпавшим снегом: «И нас, и землю укрыл снег». Этой сентенцией заканчивается роман — выводы самоочевидны.
Нужно ли после этого останавливаться на том, до какой степени поэт Фогельнест воплощает в себе — в рамках еще одной параллели — основной конфликт романа, из которого есть только один выход: смерть? Его история, полностью приведенная в форме отступления в 30-й главе, есть лишь вариация все той же темы[97].
Взглянув пристальнее на персонажей, которые населяют роман «Улица», мы обнаруживаем, что многие из них появляются в тексте исключительно для того, чтобы предоставить автору возможность описать в разных ракурсах различные формы отчужденности. В первой главе рассказчик заходит в православную церковь, где молятся «белые» русские эмигранты. Священник во время проповеди говорит, что Россия приговорена «быть семьдесят пять лет в изгнании или под властью большевиков.». Пусть даже в повторении слов священника звучит некоторая насмешка, нам очевидно, что русские эмигранты, собравшиеся в православной церкви в Лодзи, в католической Польше, — это еще один пример отчужденности, на сей раз целой общины[98].
Другой пример отчужденности описан в конце 3-й главы, где рано утром, после бессонной ночи, встречаются два астматика. Они говорят о своих страданиях, о невозможности жить с этим недугом. Оба они тоже утратили надежду, хотя в их случае причина тому — хроническое заболевание. Дополнительное измерение отстраненности этим персонажам придает то, что говорят они между собой по-немецки.
Другим примером служит повредившийся рассудком сапожник-поляк, который играет с детьми в странную и жестокую игру о мести врагам Польского королевства (2-я глава). Кроме того, перед нами проходит целая вереница странных персонажей, населяющих приют для нищих (27-я глава), и все они, причем каждый по-своему, являются живыми примерами застарелой отчужденности, которая по временам переходит в гротеск и с которой читатель, продвигаясь по тексту, знакомится с нарастающим изумлением.
Образ художника, постоянного обитателя приюта, с которым рассказчик знакомится на железнодорожном вокзале, — еще один пример отверженности. Образы поэта Фогельнеста и художника созданы для того, чтобы подчеркнуть отчужденность творческих людей, не способных найти свой путь и свое место в окружающем их обществе.
И наконец, бастующие рабочие, которые постоянно возникают на страницах «Улицы», служат, согласно марксистской теории, классическим примером отчужденности в капиталистическом обществе. По всей видимости, Рабону были прекрасно знакомы этот термин и его марксистское происхождение. Впрочем, у нас нет оснований сводить проблему отчужденности — в том виде, в каком она описана у Рабона, — к одному только марксистскому пониманию. В «Улице» понятие отчужденности расширено до экзистенциальной ситуации, охватывающей всех основных персонажей романа.
Кроме того, в романе есть три романтические линии: Фогельнест и его жена, Язон и венгерка Элла, рассказчик и Люба, чьим именем подписано письмо в 22-й главе. Все эти три истории либо обречены на неудачу с самого начала, либо терпят крах по мере развития событий. Фогельнест кончает с собой, Элла убита, а с Любой рассказчик даже не встречается. В этой неспособности выстроить близкие отношения, даже простые отношения влюбленной пары, чувствуется выражение той же роковой, всеохватной отчужденности, которым пронизана и вся книга.
Рабон прибегает к целому арсеналу средств, чтобы показать нам отчужденность персонажей, населяющих страницы романа. Он использует «реалистические» описания, однозначно привязанные к реальности описываемого настоящего, гротески, характерные для его поэзии, и даже элементы бульварной литературы, которые в романе тоже обретают налет гротеска.
* * *
Как уже было сказано, с прошлым рассказчика мы знакомы фрагментарно. При этом то немногое, что нам все-таки сообщается, крайне важно для понимания как сюжета романа, так и его главного героя. Из истории времен его детства, о которой говорилось выше, мы узнаем, что рассказчик получил образование в местечке, в традиционной еврейской среде. Кроме того, в другом отрывке Рабон подчеркивает, что рассказчик вырос в семье, где бытовали еврейские народные верования и обычаи; они-то до определенного возраста и формировали характер рассказчика (13-я глава):
В детстве я был бледным, боязливым и малокровным. До четырнадцати лет я верил в бесов и злых духов. Мама одевала меня в белое, считая, что белый цвет предохраняет от ранней смерти, которая унесла моих братьев и сестер. Мой папа наказывал мне не ходить там, где есть церкви, кресты или вороны. Ребенком, увидев, как один мальчик чертит палкой крест на песке, я потом с ним не разговаривал годами, отдалился от него и не хотел иметь с ним никакого дела.
Что именно произошло с рассказчиком в четырнадцать лет, что заставило его разувериться в духах и бесах — как явствует из второго предложения приведенного выше отрывка — мы не знаем. После этого он учился на бухгалтера и отслужил четыре года в польской армии. Он так хорошо выучил польский язык, что без затруднений произносит на нем сопроводительный текст во время демонстрации немых фильмов. Глубокие познания в истории — еще одно свидетельство его образованности: это явствует как из его комментариев во время показа фильмов, так и из знакомства с поэзией Бодлера. Все это служит объяснением природы тех перемен, которые произошли с ним после достижения четырнадцатилетия. Можно предположить, что он порвал с традиционным еврейским обществом. Этими же переменами, наряду с иными причинами, можно объяснить и его нежелание возвращаться в местечко после демобилизации.
Тем не менее полное отсутствие связи рассказчика «Улицы» с еврейством поражает. Он сам говорит, что именно в еврействе лежат его первые и, пожалуй, самые крепкие корни[99]. Более того, речь в книге идет о Лодзи, городе, который по праву можно назвать «еврейским». В 1921 году в Лодзи проживали 156 155 евреев, что составляло 34,5 % ее населения[100]. Более того, книга написана в период между двумя войнами, когда вся литература на идише была проникнута особым интересом к евреям и еврейству, с ярко выраженной тенденцией «реалистического» описания действительности. Художественное произведение не может дать полной и полностью правдивой картины реальности, на которой оно основано. И тем не менее, уровень избирательности в изображении этой реальности в произведении, которое на ней основано и с которой связано, говорит о многом. Если взглянуть с этой точки зрения, «Улица» представляет собой исключение из правил. Здесь ни разу не упомянуты ни синагога, ни еврейские благотворительные организации, ни другие организации, действовавшие в этом «еврейском» городе, от которых демобилизованный солдат-еврей мог при желании получить помощь — более того, среди перечисленных обитателей Лодзи нет ни одной традиционной еврейской семьи[101]. Перед нами — взгляд, полностью противоположный тому, который являлся общепринятым в литературе на идише в те времена, особенно если учесть место и время действия в рамках нарративного настоящего. Единственный традиционный еврей (рассказчик снимает у него койку) представлен в намеренно сниженном, даже язвительно-карикатурном виде (25-я глава):
Хозяин, маленький еврей со светлой бородой, бледным, исхудалым, изможденным лицом и хитрыми быстрыми глазами, которые он во время разговора ежеминутно прикрывал…
Прямая речь этого «еврейчика», пересыпанная идиомами на идише, лишь углубляет пропасть между ним и евреем-рассказчиком, с которым у него нет ничего общего. В книге не только нет никакого упоминания о синагоге и о Днях трепета[102], во время которых рассказчик находится в Лодзи, напротив, он посещает православную церковь, что идет вразрез с традициями и представлениями его детства. Упоминание Рождества еще сильнее увеличивает зазор между тем, что ожидалось тогда от романа, написанного в Польше на идише, и тем, что мы находим — а точнее, не находим — в этой книге Исроэла Рабона.
Нужно помнить, что все это — внешние признаки важнейшего феномена, который крайне значим для правильного прочтения романа Рабона. Рассказчик не общается с «нормальными» евреями, проживающими в Лодзи, если не считать упомянутого выше эпизода с хозяином ночлежки, но при этом практически все персонажи, которых он встречает и о которых подробно повествует, — евреи, как и он. Выясняется, что даже атлет Язон, которого в цирке не считают евреем, — еврей из литовского местечка. Поэт Фогельнест тоже еврей, равно как и житель Комарно, и художник из ночлежки. Всех их, как и рассказчика, объединяет одно: все они вырваны из родной среды, традиционного еврейского общества, унесены прочь, и надежды на возвращение у них нет. Все они откуда-то приехали в Лодзь, при этом рассказчик, атлет Язон и еврей из Комарно — из местечек[103]. Покинув местечко, они покидают еврейское общество как таковое. Причем разрыв с ним настолько необратим, что даже в самые тяжелые времена, которые ждут их в Лодзи, они не способны возвратиться в это общество, воссоединиться с ним. Однако разрыв с еврейством не открыл им дверей в какое-то другое общество, и, будучи дважды отверженными, они способны найти общий язык только друг с другом[104].
От самого рассказчика мы узнаем о том, что произошло с ним дважды — то ли наяву, то ли в бреду. Оба эти события связаны с нарушением запретов, которые были внушены ему еще в детстве; они прямо указывают на разрыв с традиционным еврейством. В пекарне он видит себя «распятым», притом плоть его превращается в символическую гостию. То же самое происходит, и даже с большей отчетливостью, на фронте, когда он выбирается из чрева лошади. Весь покрытый лошадиной кровью, он стоит на морозе, раскинув руки, будто распятый на кресте (13-я глава). Недвусмысленная интерпретация двух этих эпизодов смягчает ужас созданных в них образов, придавая им символическое и мистическое значение. Судя по всему, для человека с традиционным еврейским воспитанием, впитавшего ненависть к кресту и страх перед ним, эти трагические переживания выражают одновременно и тяготящие его, глубоко укорененные и не всегда осознанные страхи, и — парадоксальным образом — избавление от них или стремление к избавлению. В самой этой амбивалентности заключен травмирующий опыт, о котором рассказчик, сообщая читателю о том, что он разбил замерзшую кровь, покрывавшую его тело, говорит так: «В конце концов я полностью освободился. Я вылез из креста».
Смысл этого избавления — в том числе и в окончательном разрыве с традиционным еврейством, в среде которого страхи эти сохранились во всей их полноте[105]. В начале 1920-х годов большинство евреев Лодзи было все еще опутано традициями и табу, от которых пытается освободиться рассказчик «Улицы»[106].
Помимо прочего, разрыв рассказчика с еврейством получает лингвистическое выражение, причем язык нарратора становится как составной частью, так и причиной его отчужденности в романе «Улица». Современный читатель, не имеющий представления о том, в каком сложном языковом контексте разворачивается действие книги, может этого вообще не заметить. Однако проблема языка — неотъемлемая часть общей ситуации, которая так отчетливо описана в романе Рабона.
Роман «Улица» написан на идише. Остается только гадать, на каком языке «происходят» те или иные эпизоды. Речь идет, прежде всего, о различии языков в рамках «подлинной» прямой речи, которая звучит в диалогах, когда рассказчик цитирует их напрямую. Лишь в нескольких эпизодах, таких как разговор рассказчика с матерью в детстве (7-я глава) и его беседа с евреем — владельцем ночлежки (25-я глава), мы можем с уверенностью утверждать, что диалоги приведены на том языке, на котором звучат, то есть на идише. В одном случае, когда по контексту ясно, что диалог ведется по-польски, рассказчик специально оговаривает, что один из собеседников говорит на идише (27-я глава)[107]. Нельзя исключить, что в ряде других случаев, когда нам не сообщают, на каком языке говорят собеседники и это не ясно из контекста, «оригинальным» языком все же является идиш. И напротив, в романе есть множество эпизодов, где прямые или косвенные свидетельства указывают на то, что персонажи, включая самого рассказчика, говорят по-польски. Так, совершенно ясно, что все пояснения в кинематографе даются на польском, поскольку в разговоре с владельцем кинотеатра в начале 17-й главы рассказчика спрашивают, говорит ли он на этом языке. Рассказчик специально указывает, что у поэта Фогельнеста «настоящие черные еврейские глаза» и длинный еврейский нос, но одновременно подчеркивает, что Фогельнест «говорил по-польски с красивым выговором» (14-я глава). То же относится и к рукописи Фогельнеста, которая «цитируется» в 20-й главе, — она «изначально» написана по-польски, хотя впрямую это и не оговаривается.
Еще один четкий указатель разговорного польского присутствует в речи мальчишки-полового в кабаке — там есть слова на польском Проше бардзо! («Пожалуйста!»). Впрочем, то, что персонаж, названный «худеньким польским парнишкой» (17-я глава), говорит по-польски, становится понятным еще до того, как звучат эти слова, хотя впрямую это нигде не сказано. Мы же из этих слов узнаём, что все посетители этого нееврейского кабака говорят по-польски. Во многих случаях, даже если отсутствуют прямые и однозначные указания, можно понять, что перед нами перевод с польского на идиш. Примером является случай из вступительной главы, где приводится диалог с фельдфебелем, демобилизующим рассказчика из польской армии. Понятно, что в этой ситуации разговор должен происходить по-польски. На том же языке говорят сапожник и его дети во 2-й главе. И, естественно, по-польски говорит женщина с кошелкой, так как у нее откровенно польская фамилия Войчикова и она читает польскую газету (3-я глава). По-польски говорят все сотрудники конторы, вербующей работников во Францию (главы 4 и 5), рабочие и полицейские (10-я глава). Разговоры в Лодзинском магистрате и со сторожем в приюте тоже ведутся на польском языке (27-я глава).
По всей видимости, разговор с атлетом Язоном тоже происходит не на идише, а на польском, поскольку в начале этого разговора рассказчик и Язон с удивлением обнаруживают, что они оба евреи. Соответственно, в момент знакомства они общаются на каком-то другом языке. Также понятно, что члены разноязыкой цирковой труппы не говорят между собой на идише, да и по-польски тоже. И, тем не менее, даже если принять за данность, что в других сомнительных случаях «в оригинале» разговор происходит на идише, все равно польский остается главным языком той реальности, которая описана в «Улице»[108].
Языковая ситуация, складывающаяся на страницах книги Рабона, дополнительно высвечивает природу персонажей, в том числе рассказчика, который, при том, что он «пишет» книгу на идише, принадлежит к тонкой прослойке польских евреев, для которых польский стал основным языком. Автор создает у читателя четкое ощущение, что языковая проблема расширяется до экзистенциональной и становится дополнительным и труднопреодолимым компонентом общей отчужденности. Не вдаваясь в подробное описание поэта Фогельнеста и его стихов, которые он пишет по-польски, Рабон внятно и недвусмысленно обозначает его статус польского поэта еврейского происхождения, когда приводит Фогельнеста ночью в пустой цирк и заставляет там читать свои стихи. В этой ситуации деградация «высокой» польской поэзии в устах еврея явственно достигает гротескных пропорций[109].
Языковая ситуация, созданная в «Улице», лишний раз подчеркивает необычность этой книги, написанной на идише и посвященной экзистенциональным исканиям польскоязычных персонажей, как евреев, так и поляков. Как было сказано выше, для межвоенной еврейской прозы эта ситуация была далеко не стандартной и не общепринятой[110]. Более того, именно описанной языковой ситуацией, по причине чего «Улица», по сути, является «переводной» книгой, можно объяснить скупое использование рассказчиком еврейских идиом, равно как и общее впечатление бедности языка, которое эта книга производит на некоторых читателей.
* * *
При анализе романа «Улица» нельзя не упомянуть и еще некоторых второстепенных персонажей. Читатель не может не обратить внимание на то, что Рабон очень часто использует образы, аллюзии, сравнения, связанные со всевозможными животными. Ранее уже говорилось о том, что то же самое характерно и для его поэзии. Зачастую это идиоматические и даже устойчивые выражения из идиша, в определенном смысле они напоминают о мощной притчевой традиции в этом языке. Однако нет никакого сомнения в том, что Рабон использует этот прием с целью удивить читателя, хотя иногда легко отследить непосредственный источник того или иного выражения — например, это польская идиома, переведенная на идиш. Когда нам встречаются выражения вроде «маленький мальчик с узким личиком, острым подбородком и маленьким узким лбом, похожий на голодную церковную мышь» (2-я глава), возникает ощущение, что выделенные курсивом слова, которые достаточно странно звучат на идише, просто являются переводом стандартного польского выражения «Głodny jak mysz kościelna». Выражение встречается в главе, где действие происходит в подвале у сумасшедшего сапожника и разговор идет по-польски. Из этого можно заключить, что Рабон усматривает тесную связь между «оригинальным» языком событий и их передачей на идише[111].
Сравнения, в которых используются образы животных, носят в романе двухсторонний характер. Человек принимает облик животного и действует соответственно, и, напротив, животное обретает человеческие черты. Двухсторонний характер этого приема можно проиллюстрировать коротким отрывком, где прием представлен в обеих разновидностях (26-я глава):
Извозчики спали на козлах, лошади моргали от снега большими, влажными, грустными глазами. На углу мне встретились две уличные женщины, выставляющие напоказ бледные лица и подбитые глаза. Они разговаривали, кричали друг на друга, размахивали руками. Извозчик, проснувшись от их крика, весело заворчал, сделал снежок и метнул его в одну из женщин:
— Эх, пропащие!
Обе женщины повернулись к нему и принялись, не сходя с места, его бранить, размахивая руками, выкрикивая злые и замысловатые проклятия одно за другим, как собаки, которые боятся укусить, но, не сходя с места, не прекращают лаять.
В текстах Рабона, как правило, появляются кошки, собаки и лошади. Так обстоит дело не только в романе «Улица», но и в книге «Балут», и в его поэзии[112]. Эта особенность его творчества заслуживает более пристального и подробного исследования.
Склонность, порой доходящая до навязчивой идеи, сравнивать животных с человеком, порой по линии противопоставления, особенно ярко выражена в «Улице» в изображении лошадей. Взаимоотношения между человеком и лошадью основаны прежде всего на совместном преодолении невзгод. В этой связи следует подчеркнуть, что в мире, который создан в романе Рабона, нет чистокровных, надменных, ухоженных скакунов. В «Улице» описаны простые рабочие клячи, которые тянут тяжелые телеги, которых впрягают в извозчичьи пролетки. Владельцы таких лошадей стремились, разумеется, выжать из них как можно больше и при этом, как могли, экономили на корме. В 1930-е годы такие лошади были неотъемлемой частью любого польского городского пейзажа. Именно они являлись основным средством перемещения грузов и перевозки пассажиров. Однако, помимо них, Рабон упоминает и о тех лошадях, которые вместе с людьми участвовали в Первой мировой войне, которые тоже погибали в этой бойне.
Взаимоотношения человека и лошади, общность их тяжелых судеб явственно прослеживаются в целом ряде эпизодов романа. Несчастный поэт Фогельнест не может сдержать слез при виде загнанной клячи, которая умирает прямо посреди улицы. Глубина его чувств объясняется тем, что он проецирует эту ситуацию на себя, ибо Фогельнеста ждет схожая смерть (в конце 30-й главы).
Как уже было упомянуто, некоторое время рассказчик работает в цирке. Он носит афиши по шумным городским улицам, причем должен ходить в небезопасном месте — посреди мостовой. Но он приспосабливается к этой работе, и у него возникает взаимопонимание и даже «дружба» с лошадьми, с которыми он постоянно соприкасается (11-я глава):
Странно, но каждый, кто долго ходит по мостовой, начинает чувствовать себя по-свойски с лошадьми. Большие лошадиные глаза на любого смотрят тепло и дружелюбно, будто хотят сказать нечто, будто шлют немой привет. Моя постоянная сосредоточенность на том, чтобы меня кто-нибудь не задавил, пробудило во мне чутье полицейской собаки. Я носом чуял, когда за мной топала лошадь, я отличал запах автомобиля от запаха трамвая. Часто, неся двумя руками афишу с бенгальским тигром, я ловил косой взгляд лошади, шедшей в упряжке, взгляд, полный сочувствия и сострадания, ко мне, человеку…
Человек убежден, что лошадь, его товарищ по несчастью, не нанесет ему вреда. А вот в отношении более современных транспортных средств, которыми управляют люди, он не испытывает подобной уверенности. Очеловечивание лошади с грустными глазами в приведенном выше отрывке совершенно естественно для этой книги. Понятно, почему в городе лошадь ставят выше человека, самой заметной чертой которого является его апатия. Жалость, которую испытывает лошадь к несчастному человеку, падающему спьяну на мостовую, подчеркнута в этом контексте цитатой из стихотворения Бодлера (21-я глава)[113].
Страницей раньше рассказчик размышляет об одиночестве человека, о странном явлении: оказывается, можно проникнуться внезапной мимолетной любовью к неведомому прохожему на городской улице. Ассоциативная связь с описанной в цитате из Бодлера лошадиной сострадательностью совершенно очевидна, причем сравнение с лошадью сделано далеко не в пользу человека.
Парадоксальным образом в тексте Рабона можно найти и обратное. Если человек наделен свойствами или чертами лошади, они, как правило, его не красят. Женщина с лошадиными зубами уродлива (17-я глава), а извозчик, как и лошадь, «пахнет навозом стойла» (17-я глава), то есть отталкивающе воняет. Более того, цирковые борцы с их звериной мощью и звероподобным обликом тоже сравниваются с лошадьми (11-я глава):
Опять вспыхнули рефлекторы, и вышло шестнадцать полунагих великанов с гороподобными мышцами на груди, руках и ногах, среди которых был один негр. Они под приветственную музыку расхаживали по арене, демонстрировали под звуки марша свои великанские тела. Над залом поплыл запах тяжеловозов, запах пота мускулистых жеребцов. Бледная дама в маленькой бархатной шляпке как у французского священника, которая до этого швырнула свой носовой платочек Долли, втянула воздух ноздрями, и ее грудь начала вздыматься.
Этот образ вызывает у женщин эротические ассоциации, рассказчик же не скрывает отвращения, которое вызывает в нем животная похоть (11-я глава)[114]:
Дамы в партере втягивали воздух носом, как плотоядные звери, почуявшие запах крови. Шестнадцать нагих тел, сильные гороподобные торсы, будили жажду битвы, борьбы, криков боли и победы.
Запах крови пробуждает зловещие инстинкты.
Собственно, вызывающий потрясение образ нарезанного кусками кровавого мяса — как животного, так и человеческого, — возникает в «Улице» неоднократно и является одним из специфических маркеров прозы Рабона, причем не только в этой книге[115]. В «Улице» этот образ впервые появляется в видении страшной пекарни, где рассказчик видит себя запеченным в пирожок, который потом режут на ломти вместе с его собственным телом. В рассказе атлета Язона тот же образ появляется при описании нападения изголодавшихся свиней на связанных пленных (17-я глава) и в описании убийства любовницы Язона ее мужем. Убийство описано очень кратко, однако эта страшная сцена надолго запечатлевается в памяти из-за одной подробности: у женщины отрезаны груди.
Однако, без всякого сомнения, сильнее всего читателя «Улицы» шокирует не то, что происходит с человеческими существами в этих трех эпизодах, но описание гибели лошади в 13-й главе. Поскольку главный герой «Улицы» — демобилизованный солдат, и особенно в связи с этой главой, книгу можно причислить к литературному направлению, возникшему после Первой мировой, в котором война описывалась во всем ее неприкрытом ужасе[116]. В этой главе не только проявляется вся сила литературного таланта Исроэла Рабона, благодаря ей книга становится самобытным и важным вкладом в развитие военной темы, хотя в конце 1920-х годов эта тема и выглядела несколько избитой.
И здесь возникает параллель: и человек, и лошадь ранены, оба — жертвы войны, оба затеряны среди темных полей, холодных, равнодушных к их страданиям. Раненая лошадь еще дышит, по-человечески постанывает от боли. Поступок человека — он убивает лошадь, чтобы выпотрошить ее и согреться в ее чреве, — сам рассказчик, совершающий это действие, воспринимает как убийство. «Убийца» даже слышит, как лошадь перед смертью по-человечески ойкает. Это «убийство» сохраняет человеку жизнь, но примириться с собственным поступком он не в состоянии. Освободившись от крестных цепей застывшей лошадиной крови, он продолжает мучиться угрызениями совести — глава заканчивается отчаянной мольбой о прощении, обращенной к мертвой лошади (13-я глава):
Движимый внутренним побуждением, я опустился перед мертвой лошадью, встал перед ней на колени и стал просить у нее прощения, плакать, кричать и рвать, рвать на себе окровавленные волосы…[117]
Рассказчик продолжает жить в тени этой незабываемой жуткой сцены и всю жизнь тщетно взыскует прощения, которого так и не получает.
Изображение перепачканного кровью человека, преклонившего колени рядом с изуродованным трупом лошади, вызывает у читателя ассоциации с картинами Хаима Сутина, на которых часто изображена кровь, стекающая с разрубленного на куски мяса. Образ возопившей крови привлек представителей одного поколения, художника и писателя, каждого по-своему, в их поисках художественного воплощения ужаса жизни и смерти, присущего всякой твари.
Посвящается памяти тех, кто во времена великой трагедии перенес великие страдания, но проявил твердость и страстную волю, чтобы, вопреки всем испытаниям, выжить и дать жизнь новому поколению высокообразованных, гордых и деятельных членов еврейской общины.
ИГОРЬ РЕМПЕЛЬDedicated to the memory of those who suffered the most tragic times yet survived with great resilience and passion for their heritage, giving birth, despite all odds, to a new generation of an educated, proud and active Jewish community.
IGOR REMPELПримечания
1
Война между Польшей и советской Россией шла (с некоторыми перерывами) с декабря 1918 до марта 1921 г. — Здесь и далее примеч. В. Дымшица.
Примечания 1-46 — примечания В. Дымшица, далее — примечания Х. Шмерука и В. Дымшица — прим. вестальщика.
(обратно)2
В ноябре 1918 г. на территории австрийской Восточной Галиции была провозглашена Западно-Украинская народная республика (ЗУНР), с которой Польша сразу начала войну. К июлю 1919 г. армия ЗУНР была разгромлена польскими войсками, а территория Восточной Галиции включена в состав Польши.
(обратно)3
Австрийское название Львова.
(обратно)4
Прилепление <к Всевышнему> (древнеевр.). Этим термином в хасидизме описывается состояние молитвенного экстаза. В данном случае использовано иронически. — Здесь и далее слова, выделенные курсивом, в оригинале приведены на русском, польском, немецком и древнееврейском языках.
(обратно)5
Костюшко, Тадеуш (1746–1816) — лидер польского восстания 1792 г. Понятовский, Юзеф (1763–1813) — командир польских повстанцев в 1792 и 1794 гг. Командир польских частей в армии Наполеона, маршал Франции. Пилсудский, Юзеф (1867–1935) — политический деятель, «начальник государства» с диктаторскими полномочиями с момента создания Польского государства в 1918 г. Главнокомандующий польской армией в советско-польской войне.
(обратно)6
Строчка из «Марша Домбровского», гимна польских повстанцев, а впоследствии — гимна Польши.
(обратно)7
В ходе Первой мировой войны территория Царства Польского была в конце 1915 г. оккупирована Германией и Австро-Венгрией. Оккупация продолжалась до ноября 1918 г.
(обратно)8
Легендарная королева поляков, дочь основателя Кракова князя Крака. Ее земли подверглись нападению германского князя, который хотел взять ее в жены. Не желая выходить замуж, Ванда утопилась в Висле.
(обратно)9
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — император, возглавлявший Германию во время Первой мировой войны.
(обратно)10
Ну-ка, спойте (нем.).
(обратно)11
Германия, Германия, / Превыше всего, / Превыше всего на свете (искаж. нем.). Слова патриотической «Песни немцев». Эта песня 1922 г. стала германским государственным гимном.
(обратно)12
Фош, Фердинанд (1851–1929) — маршал Франции, главнокомандующий войсками Антанты на заключительном этапе Первой мировой войны.
(обратно)13
Добрый день, господин Фишер (нем.).
(обратно)14
Да, господин Фишер (нем.).
(обратно)15
Городская или сельская административная единица в Польше. Аналог русской волости.
(обратно)16
Поздравляю, Айзик… Будут есть хупу… Я собираюсь замуж за хорошего еврея!.. (искаж. польский диалект идиша).
(обратно)17
Кусочки теста с медом — род традиционного лакомства.
(обратно)18
Швейцарский молочный шоколад.
(обратно)19
Традиционная синагогальная мебель, род невысокой конторки.
(обратно)20
Фильм «Зигомар» был снят режиссером Виктореном Жассе в 1911 г. Впоследствии он снял еще два фильма об этом персонаже.
(обратно)21
Мир вам (древнеевр.). Традиционное еврейское приветствие.
(обратно)22
Нееврей, иноверец.
(обратно)23
Пожалуйста (польск.).
(обратно)24
В Венгрии 6 марта 1919 г. была провозглашена советская республика, и коммунисты пришли к власти. Республика просуществовала до 21 августа 1921 г. Она была разгромлена, прежде всего, войсками Румынии, поддержанными венгерским белым движением и странами Антанты. Руководителем Венгерской советской республики был коммунист Бела Кун (1886–1938), участник Гражданской войны в России, впоследствии видный деятель Коминтерна.
(обратно)25
Служка в синагоге.
(обратно)26
Первоначально Венгерская Красная Армия успешно отбила наступление чехословацкой армии и заняла Словакию.
(обратно)27
Хорти, Миклош (1868–1957) — адмирал австро-венгерского флота, возглавил сопротивление коммунистам в 1919 г. После падения советской республики и до 1944 г. правил Венгрией с диктаторскими полномочиями.
(обратно)28
Так у автора. Первоначально Язон говорит о том, что он назвался хорватом по имени Сиво.
(обратно)29
Так у автора. Первоначально Язон говорит о том, что назвал себя Сиво Кирбис.
(обратно)30
Скорее всего, имеется в виду фильм американского режиссера Д. В. Гриффита «Сиротки в бурю» (1921), ремейк более раннего фильма «Две сиротки» (1915). Фильм посвящен Великой французской революции. Кто такой Моретти, которому Рабон приписывает авторство фильма, не ясно.
(обратно)31
Популярная польская песня, музыка К. Богуславского, слова Б. Червенского. Широко известна в русском переводе Г. Крижижановского как революционная песня «Слезами залит мир безбрежный».
(обратно)32
Собаколов.
(обратно)33
Шарль Бодлер. Литании Сатане. Перевод с французского В. Левика. В романе цитата дана в переводе на идиш, выполненном самим Исроэлом Рабоном.
(обратно)34
Эдди Поло (1875–1961) — американский киноактер, снимался в боевиках. Был особенно популярен в начале 1920-х гг.
(обратно)35
Рождество (польск.).
(обратно)36
Послеполуденная молитва.
(обратно)37
Благодарю Тебя (древнеевр). Начальные слова молитвы, произносимой после пробуждения.
(обратно)38
Готово (нем.).
(обратно)39
Да, эти русские — тупые скоты (нем.).
(обратно)40
«Внуками» (эйниклах) называли отдаленных потомков знаменитых хасидских цадиков. Эти «внуки» разъезжали из города в город, читая проповеди и продавая амулеты. Рассказчик, еврей из галицийского местечка, пользуется привычным ему понятием «внук», чтобы обозначить ту роль, которую ему пришлось играть в Китае.
(обратно)41
Улица в еврейском районе Берлина.
(обратно)42
Синагогальный занавес, за которым находится орн-койдеш, шкаф со свитками Торы.
(обратно)43
Пойдем, друг мой (древнеевр.). Название и начало знаменитого субботнего гимна.
(обратно)44
Легендарный основатель даосизма — одной из традиционных религий Китая.
(обратно)45
В книге — разрядка (прим. верстальщика).
(обратно)46
Статья написана выдающимся израильским историком и литературоведом Хоне Шмеруком (1921–1997) как предисловие для подготовленной им публикации романа Исроэла Рабона «Улица» в серии «Литература на идише», издававшейся Иерусалимским университетом (Исроэл Рабон. Ди гас (The Street). The Magnes Press, The Hebrew University. Jerusalem, 1986). Перевод романа выполнен по этому изданию. Все фрагменты, выделенные курсивом, в оригинале статьи даны на идише. — Здесь и далее примеч. В. Дымшица. Примечания Хоне Шмерука, обозначенные цифрами, даны в конце статьи.
Далее следуют примечания Х. Шмерука (исправлена нумерация в перекрестных ссылках) и В Дымшица (последние отмечены особо) — прим. вестальщика.
(обратно)47
Все сведения о биографии Исроэла Рабона, за исключением особо отмеченных, взяты из статей о нем в книге 3. Рейзена Лексикон фун дер йидишер литератур, прессе ун филологие («Лексикон литературы, прессы и филологии на идише»), 4 (Вильно, 1929), кол. 272, а также в Лексикон фун дер наер йидишер литератур («Лексикон новой литературы на идише»), 8 (Нью-Йорк, 1981), кол. 282–283. Важные биографические подробности имеются также в статьях об Исроэле Рабоне, написанных его коллегами-литераторами из Лодзи: Ицхок Голдкорн. Исроэл Рабон. Ди голдене кейт («Золотая цепь»), 42 (1962), 125–129 (расширенный вариант этой статьи включен в книгу Голдкорна Лоджер портретн («Лодзинские портреты» [Тель-Авив, 1963], 33–52); Йойсеф Окрутный. Цум портрет «Исроэл Рабон» («К портрету Исроэла Рабона»), Ди цукунф («Будущее»), ноябрь 1973, 409–413, а также в книге Окрутного Эссен фун гарбстикен гемит («Эссе осеннего настроения» [Тель-Авив, 1980], 72–83). См. также книгу Х.-Л. Фукса Лодж шел майле («Горняя Лодзь» [Тель-Авив, 1972], 102–106) и послесловие переводчика к: Israel Rabon. The Street. Translated from the Yiddish and with an afterword by Leonard Wolf (New York, 1985, p. 185–192). Некоторые сведения из этих источников не до конца достоверны и подлежат проверке (см. дальше). До 1926 года Рабон подписывал некоторые публикации своим настоящим именем Исроэл Рубин. Псевдоним «Рабон» он начал использовать, чтобы его не путали с писателем и просветителем доктором Исроэлом Рубиным (Рейзен, 268–272). В словарной статье Рейзена писатель еще значится как Исроэл Рубин, но с 1928 года все его книги выходили под псевдонимом Рабон. Кроме того, он использовал и другие псевдонимы: Исролик дер Клейнер («Исролик Малый»), Шабсе Цитер, Исроэл Рин, Рус Винцигстер, А. Рингел, М. Бочковский, И. Виндман (согласно Голдкорну, последние псевдонимы использовались в журнале Ос), Р. Израэль (?). Были у него и другие псевдонимы, которые пока не удалось идентифицировать (см. примеч. 65).
(обратно)48
Согласно Лексикон фун дер наер йидишер литератур, 8, Нью-Йорк, 1981, 282. Найти эти стихотворения в номерах газет, хранящихся в Иерусалиме, мне не удалось.
(обратно)49
Существует несколько версий его гибели. В своей книге (с. 52) Голдкорн пишет, что, по всей видимости, Рабон погиб в концентрационном лагере Клоога в Эстонии. По мнению 3. Жепса в Antologia poezji zydowskiej («Антология еврейской поэзии», Лондон, 1980), 199, Рабон умер в 1943 году во время депортации из гетто Лодзи. Однако самая достоверная версия исходит от жителей Вильны, которые стали свидетелями его смерти: «Он был расстрелян в Понарах летом 1941 года, еще до того, как евреев согнали в гетто» (Ди голдене кейт, 108 [1982], 197, примечание, написанное редактировавшим журнал А. Суцкевером). См. ниже свидетельство Ш. Качергинского.
(обратно)50
Судя по всему, существует множество стихотворений, созданных до выхода в свет первого из этих сборников в 1928 году и не включенных ни в одно собрание. Это не только публикации в ежедневных газетах, которых нам не удалось разыскать, но и стихи, опубликованные в литературных журналах. Так, например, Рабон не включил в сборники стихи, публиковавшиеся в С’фелд («Поле», Лодзь, № 1, декабрь 1919), за исключением Дер алтер бохер митн фиделе («Старый холостяк со скрипочкой»), которое вошло в первый сборник под названием Портрет фун бухгалтер Б.Г. вос шпилт ойф а фидл («Портрет бухгалтера Б. Г., который играет на скрипке»). Не включил он и стихи, опубликованные в четвертом номере С’фелд (июнь 1921), и зарифмованную комическую историю о хасидах Бус де ребе р. Маерл от йфгетин мит шисйен клискелех мит милйех, майсе шегойо бекак Корев бкройнпойлн («Что ребе р. Маерл сделал с миской молочных клецок, история, приключившаяся в святой общине града Корева в Царстве Польском»), написанную на северо-западном диалекте польского идиша и опубликованную в сборнике Швелн («Пороги», Лодзь, № 1, январь 1924). Что касается более позднего периода, ни в один из сборников Рабона не вошло стихотворение А мес («Мертвец»), опубликованное в Литерарише блетер («Литературные листки»), 37 (540), 14 сентября 1934, 602. Это лишь некоторые примеры его стихотворений, разбросанных по периодическим изданиям, которые до сих пор не собраны и не проанализированы.
(обратно)51
На обложке — Гинтерн («За»). Книга издана крайне небрежно, со сбитой пагинацией. Все книги Рабона, за исключением Лидер, опубликованы с большим количеством опечаток.
(обратно)52
Все книги Рабона являются раритетами, достать их почти невозможно. Сборник Лидер вышел тиражом 250 экземпляров, она встречается реже других. Похоже, что по выходе он вообще не поступил в продажу. См.: И. Рапопорт, Тропнс глойбн («Капли веры», Мельбурн, 1948), 241. Хочу поблагодарить своего друга, профессора А. Айзенбаха, предоставившего мне микрофильм с сохранившегося экземпляра из Национальной библиотеки в Варшаве. Еще один экземпляр хранится в библиотеке X. Гросбарда в Тель-Авиве. Хочу поблагодарить его за позволение скопировать оттуда портрет И. Рабона. Портрет нарисован X. Барчинским и расположен в книге на контртитуле. В собрании 15 стихотворений, пять из них Рабон перепечатал из второго сборника.
(обратно)53
Во втором сборнике есть лишь один образец этого литературного жанра, стихотворение Ди мойд («Девка»), 14–15. Судя по всему, в 1930-е годы Рабон отошел от сочинения стихов в такой поэтике.
(обратно)54
Грубое передразнивание идиша. Цимес — тушеная морковь, традиционное еврейское блюдо; фиш — рыба; мазл-топ — искаженное «мазл-тов» — традиционное благопожелание.
Прим. В. Дымшица.
(обратно)55
Перевод с идиша Александры Глебовской.
Прим. В. Дымшица.
(обратно)56
Йойсеф Окрутный указывает на польские корни этого стихотворения в своей книге (см. примеч. 47) на с. 82–83, где стихотворение воспроизведено полностью.
(обратно)57
«Похороны» также включены во второй и третий сборники. Кроме того, это стихотворение опубликовано в Ди цукунфт (январь, 1938, 72–73). Оно входит и в подборку стихотворений Рабона, иллюстрирующих статью Голдкорна в Ди голдене кейт (примеч. 47).
(обратно)58
Пользуясь случаем, приводим целиком это замечательное стихотворение, из которого Хоне Шмерук цитирует только одно четверостишие. Перевод с идиша Александры Глебовской.
Кототорговец
Да, еду в Лутомерск… вот трогается поезд… (А что меня туда несет — и сам не разберу…) Дремучее местечко, в нем грязи по колено, Но я же чокнутый, и мне такие тоже по нутру. А по приезде окажусь на площади базарной, И там, небось, какой еврей окликнет с простоты: «Эй, что торгуешь, а? Там, рожь иль, может, просо?» «Рожь скупишь ты, и просо — ты, а мне нужны коты!» Вся площадь загудит: «Гляди, купец из самой Лодзи Котов торгует — всех, пожалуй, скупит тут!» Глядишь, и глазом-то моргнуть я толком не успею — Всех местечковых кошек мне на площадь принесут. Из закрома и из сеней, из подпола, из бани Несут, ведут на поводке: кот серый, рыжий кот, Из синагоги, из корчмы, из всех лачуг окрестных Идут ко мне: вот черный кот, вот белый, вот зеленый кот. Достойные, дородные, добротные коты. У них на шее бантики и в волосах — проборы, Усы — точь-в-точь как у панов, как дамский шлейф хвосты, А есть коты — как пух легки, заправские танцоры. Потом, глядишь, и сумерки на площадь упадут, И стану я совсем один в своем кошачьем стане. И вылупится на меня местечко Лутомерск, И спросит: «Ну, и что теперь он с ними делать станет?» Когда ж обычным чередом наступит полночь в мире, Поднимут с перепугу коты тоскливый вой. О братья, то моя печаль из плена одиночества Наружу рвется, чтоб потом разделаться со мной. Да, еду в Лутомерск… А завтра пополудни В глухой глуши остановлюсь, и отдых дам ногам, И с мужиками толковать затею в лунном свете, Пока пылает торф, и мне тепло у очага.Прим. В. Дымшица.
(обратно)59
См. следующую строфу из стихотворения Майн лид («Моя песня»), вошедшего в первый сборник (с. 10): Галеви вырос в шелке и золоте, / Уехал умирать под солнцем Палестины, / А я отправлюсь пешком в Вильну, / Чтобы поцеловать красное знамя на могиле Гирша Лекерта [Йегуда Галеви (1075–1141) — поэт, философ, богослов, врач. Жил в Испании. В конце жизни отправился в Святую Землю, где, по преданию, и погиб. Гирш Лекерт (1879–1902) — революционер, член Бунда. В 1902 году совершил неудачное покушение на виленского генерал-губернатора. Казнен. Лекерт был «иконой» еврейского рабочего движения. — В.Д.]. См. также стихотворение Пролетариш лид («Пролетарская песня») на с. 47–48 второго сборника, а в третьем сборнике (с. 38–41) стихотворение про «Спартак-комунар» ин Берлин ин 1919 («„Спартаковцы“ в Берлине в 1919 году» [ «Спартак» — германская коммунистическая организация. — В.Д.]. В романе «Улица» с симпатией описаны бастующие рабочие, а также упомянута листовка Коммунистической партии (10-я глава).
(обратно)60
Перевод стихотворения Каспровича появился в Лодзер тагеблат 13 августа 1926 года (этот номер отсутствует в собрании Национальной университетской библиотеки в Иерусалиме. О существовании этого перевода см.: Библиографише йорбихер фун ИВО («Библиографические ежегодники ИВО»), 1 (1926), Варшава, 1928, 199). Перевод стихотворения Лустерника появился в Литерарише блетер, 9 (564), 28 февраля 1935, 134.
(обратно)61
Ос, 6 (1937), подписано — Шабсе Цитер.
(обратно)62
Ос, 6 (1937), подписано — Рус Винцигстер; также номер 3 за 1938 год, подписано — И. Р.
(обратно)63
Перевод стихотворения Ж. Кокто был опубликован в Ос, 1 (1936), который, скорее всего, утрачен, перевод стихотворений П. Валери — в Ос, 6 (1937), все за подписью Рус Винцигстер. Кроме того, редколлегия Ос планировала опубликовать стихотворения Франсуа Вийона в переводе Рус Винцигстер на 50-й странице 1-го тома (1936). Этот том не сохранился. О переводах из Бодлера см. ниже.
(обратно)64
Подробнее об этом см.: Я. Розенталь, Ди клоле фун блут. Ромн фун йидишн лебн фун дер лецтер цайт («Проклятие крови. Роман о еврейской жизни в нынешние времена»). Варшава: Л. Голдфарб, 1926, 270 с. Судя по всему, сам Рейзен книгу не видел, поскольку, описывая ее, допускает ошибки. До выхода в виде книги роман печатался отдельными выпусками в Лодзер тагеблат с 11 июня 1926 года под псевдонимом Яаков Зоненталь. Мне не удалось обнаружить ни в одном источнике упоминаний о том, чтобы Рабон пользовался псевдонимом Зоненталь. Кроме того, Рабон ни разу не включил эту книгу в список своих произведений. Более того, в экземпляре Ди клоле фун блут, сохранившемся в библиотеке ИВО в Нью-Йорке, я обнаружил написанное от руки по-русски посвящение двоюродному брату от лица Я. Розенталя. Это посвящение подтверждает недостоверность сведений Рейзена. Соответственно, необходимо изъять из нью-йоркского лексикона (т. 8, с. 342) упоминание о Я. Розентале как псевдониме Рабона, равно как и отредактировать статью об Исроэле Рубине на с. 413–414, где речь идет о Рабоне и ему приписано авторство книги Розенталя.
(обратно)65
Когда 22 и 26 марта 1929 года в Лодзер тагеблат была опубликована глава романа «Улица», озаглавленная А гешихте мит а ферд («История с лошадью»), редколлегия журнала сопроводила ее следующим примечательным комментарием: «Исроэл Рабон для наших читателей лицо не новое, хотя его имя (псевдоним) весьма малоизвестно. Под различными литературными именами он напечатал на страницах Лодзер тагеблат целый ряд картин еврейской бедности в Балуте, а также несколько более объемных романов» (выделено мною. — Х.Ш.); далее в том же комментарии упоминается успех романа «Улица». Эта самое прямое, весомое и надежное свидетельство того, что в этой газете публиковались романы Рабона. См. также книгу Фукса (примеч. 1, с. 95), где написано, что Рабон вынужден был писать бульварные романы для газет: «десятки романов под именем Я. Розенталя и другими вымышленными именами в Лодзер тагеблат и в Гайнт <…> а также перевел множество романов с немецкого и польского». Это свидетельство нельзя назвать надежным, поскольку Фукс тоже убежден, что Розенталь — это псевдоним Рабона. Более того, судя по всему, вопреки мнению Фукса, Рабон публиковал в Гайнт романы под своим собственным именем (см. выше). Практически нет сомнений в том, что роман Дос буфет мейдл. А сенсационел-эротишер роман фун дер лоджер вирклихкейт («Буфетчица. Сенсационно-эротический роман о повседневной жизни Лодзи»), публиковавшийся в местной газете Найер фолксблат («Новая народная газета») с 20 апреля по 21 октября 1932 года под псевдонимом Р. Израэль, написан Рабоном. Этот роман упомянут Н. Майзлом в статье Ундзер цайтунгсроман («Наш газетный роман») // Литерарише блетер, 38 (437), 16 марта 1932, с. 660. В 1931–1937 году Р. Израэль опубликовал в Найер фолксблат как минимум еще десять романов-фельетонов.
(обратно)66
Бульварная литература, букв. макулатура.
Прим. В. Дымшица.
(обратно)67
См. мою статью о «шунде» в литературе на идише: Тарбиц, 52 (1983), с. 326–354. Рассуждения о проникновении элементов «канонического» романа в роман-фельетон основаны на великолепном докладе Коринны Вейл, где проанализирован этот аспект романа «За занавесом».
(обратно)68
Шабес нох митог («В субботу после полудня»), отрывок из романа «Предместье» Исроэла Рабона // Лодзер тагеблат, 6 октября 1930. В газете были опубликованы первые две главы романа (с. 7-13 книги), практически без изменений.
(обратно)69
См. книгу И. Голдкорна (примеч. 1), с. 49–50. Й. Окрутный в статье в Ди цукунфт (примеч. 1), с. 410, напротив, утверждает, что роман никак не связан с биографией Рабона. Следует отметить, что в главах, опубликованных в газете, персонаж представлен как «мальчик девяти-десяти лет».
(обратно)70
Перевод с идиша Александры Глебовской.
Прим. В. Дымшица.
(обратно)71
М. Гросман очень тепло отозвался об этой книге (Литерарише блетер, 48 (551), 30 ноября 1934, с. 804). Судя по всему, Балут многие годы занимал воображение Рабона. В 1920-е годы он опубликовал «серию картин», посвященных Балуту, в Лодзер тагеблат (см. примеч. 65).
(обратно)72
К настоящему моменту обнаружены следующие рассказы Рабона, опубликованные в Гайнт: Ма-йофес (7 июня 1930), А кале («Невеста», 6 августа 1930), Ди фиш («Рыба», 7 августа 1931), Дер ринг («Кольцо», 20 марта 1931), А хосн («Жених», 15 января 1932), Ди перл («Жемчужина», 29 апреля 1932).
(обратно)73
На данный момент обнаружены следующие номера журнала Ос: за первый год — № 1 (декабрь 1936; сохранились только обложка, содержание и с. 49–50); № 6 (1937); за второй год, 1938-й, — № 1–3; за третий год — № 1 (апрель 1939). О журнале Ос и количестве выпущенных номеров см. Голдкорн (примеч. 47), с. 34.
(обратно)74
Русколенкер, Айзек. Ирмийогу-ганови: прув фун а драматишн эпопей ин драй тейлн («Пророк Иеремия: попытка драматической эпопеи в трех частях», Варшава, 1936). Окрутный опубликовал на эту книгу сочувственную рецензию в журнале Ос, январь, 1938, с. 46–47. Русколенкер опубликовал в журнале Ос, № 6 (1937), с. 33–36 статью Ди инфлацие фун гасн-литератур («Инфляция уличной литературы»), посвященную бульварной литературе. Я не нашел это имя в «Лексиконе писателей, писавших на идише». Его книга о Иеремии заслуживает внимания.
(обратно)75
Роман с «ключом» (франц.).
Прим. В. Дымшица.
(обратно)76
Ос, апрель 1939, с. 6–11.
(обратно)77
Ос, январь 1938, с. 29–33.
(обратно)78
За много лет до этого Рабон проявлял сильный интерес к театру, актерам, их положению. См. статью Исроэла Рубина (!) Дер йидишер актёр («Еврейский актёр») в Лодзер тагеблат от 26 марта 1926 года.
(обратно)79
Ос, № 6, 1937. Подписана именем А. Рингел. Желехов, местечко, в котором родился писатель И.-М. Вайснберг, стал символом примитивности.
(обратно)80
См. мою статью о «шунде» (примеч. 17), с. 347–349. Еще в 1920-е годы Рабон высказывал возражения, когда «каноническая» критика клеймила очередного автора, очень популярного среди тех, кто читал на идише. См. его статью Цванцик йор: цу 3. Сегаловичес 20-йерикер шрайберишер тетикайт («Двадцать лет: к 20-летию писательского творчества 3. Сегаловича», С’фелд, 6 (1923), с. 29–30). Статья подписана И. Р.-Н. Хочу поблагодарить писателя Я. Шпигла, который предоставил мне экземпляр этого журнала и привлек мое внимание к статье Рабона. В том же номере появилась статья Рабона о Морисе Розенфельде под заголовком Дер дихтер фун хамойн («Поэт простонародья», с. 23–25, за подписью Шабсе Цитер).
(обратно)81
Дер бал, а капитл фун а роман («Бал, глава из романа») // Блетер («Листы»), Ковно, 1940, с. 86–99. Полностью совпадает с первой главой Балута (с. 17–39).
(обратно)82
См. комментарии редактора Ди голдене кейт, 108 (1982), с. 197.
(обратно)83
Фарцейхенунген фун йор 1939 («Очерки 1939 года») // Унтервегнс, алманах фар дер йидишер литератур, редагирт: Н. Прилуцкий, И.-И. Трунк, Исроэл Рабон («В пути, альманах еврейской литературы под редакцией Н. Прилуцкого, И.-И. Трунка, Исроэла Рабона»). Вильно, 1940, с. 190–234. Сборник был подготовлен еще в период независимости Литвы, однако вышел уже после начала советской оккупации. Подборка очерков Рабона была полностью воспроизведена в Ди голдене кейт, 108 (1982), с. 164–197. В посвященной Рабону статье в нью-йоркском «Лексиконе» читаем: «В 1940 году совместно с Н. Прилуцким и И. Трунком редактировал альманах Унтервегнс (Вильно), где был опубликован его роман Дер вег цу ди штерн („Путь к звездам“)». В самом альманахе этот роман Рабона даже не упомянут. Возможно, это было рабочее название книги Ди гешихте фун а вандерунг («История странствия»).
(обратно)84
Фарцейхенунг — буквальный перевод русского слова «очерк»; жанр подразумевает сугубо фактографический репортаж с минимальными элементами литературности.
(обратно)85
Ср. в особенности с. 220–226 в Унтервегнс и с. 186–191 в Ди голдене кейт. См. также анализ романа «Улица» в этой статье.
(обратно)86
См., например, вышеупомянутые статьи Рабона о Вайснберге и о «шунде», а также статью Я. Рапапорта (1938), где он полемизирует со статьей Рабона, которую пока обнаружить не удалось: А темпераментфулер обер умгелунгенер онгриф («Темпераментное или неудачное наступление», Тропнс глойбн, Мельбурн, 1948, с. 234–241).
(обратно)87
Цу найе шеферише уфтуен фарн уфбой фун социализм. Ди эрште баратунг фун йидише шрайбер ин ЛССР («К новым творческим свершениям в строительстве социализма. Первое совещание еврейских писателей в Литовской ССР») // Дер эмес («Правда», Ковно), № 114, 27 мая 1941. Вот что следует в газетной статье за вышеприведенной цитатой:
Товарищи Шойхет, Жирман, Белис, Билевич, Дреер, полемизируя с выступающим, заявили, что подобный метод в литературе представляет собой реакционную контрабанду в молодой советской литературе. Всем писателям было ясно, что только социалистический реализм дает писателям широкие возможности для свободного развития и творческого подъема.
Хочу поблагодарить д-ра Дова Левине за любезно предоставленную фотокопию этого крайне редкого издания. Об этом периоде литовской истории см. замечательную статью д-ра Левине «Краткий вздох надежды — авторы, писавшие на идише в Советской Литве 1940–1941 годов» // Кирьят Сефер, 53 (1978), с. 565–576; об упомянутом выше собрании см. с. 574–575.
(обратно)88
Ш. Качергинский. Дер гакнекрейц ибер Иерушолаим д’Лите («Свастика над литовским Иерусалимом»), // Йидише шрифтн («Еврейские записки»), Лодзь, 1946, с. 102, перепечатано в Хурбн Вилне («Разрушение Вильны»). Нью-Йорк, 1947, с. 213.
(обратно)89
Датировка основывается на том, что о мальчике Фабианеке сказано, что ему семь лет. Он — сын немецкого солдата, родившийся во время немецкой оккупации Лодзи (2-я глава). Немцы вошли в Лодзь в декабре 1915 года. Подтверждением также служат слова еврея из Комарно, который говорит, что между его бегством в начале Первой мировой войны и моментом рассказа прошло восемь лет.
(обратно)90
Й. Окрутный был, безусловно, прав, когда в своей статье в Ди цукунфт (примеч. 47), с. 409–413, отверг существование прямых биографических параллелей между рассказчиком и автором «Улицы» как недопустимое упрощение. Параллель проводится в статье В. Гликсмана «Исроэл Рабон», Ди цукунфт, апрель 1971, с. 147–150: «Следует принять за данность, что рассказчик в романе и есть сам Рабон» (с. 147). Гликсман основывается на том, что в посвященной Рабону статье в «Лексиконе» Рейзена сказано, что Рабон служил в польской армии и участвовал в войне против большевиков. Однако то, что сюжет романа является вымыслом, не подлежит сомнению. Впрочем, хотя провести прямую параллель между автором и рассказчиком нельзя, следует предположить, что военные воспоминания Рабона в той или иной форме вошли в роман и отразились в том, что рассказчик сообщает нам о войне. См. также рецензии на «Улицу» Ш. Заромба (Литерарише блетер, № 49, 7 декабря 1928, с. 971); Ш. Нигера (Ди цукунфт, март 1929, с. 210–212); статью Н. Вайнинга Исроэл Рабон — дер дихтер фун сенсациес («Исроэл Рабон — поэт сенсаций», Ойфкум («Возникновение», январь 1930, с. 14–16) и главу, посвященную Рабону, в книге И.-И. Трунка Ди йидише прозе ин Пойлн ин дер ткуфе цвишн бейде велт-милхомес («Еврейская проза в Польше в период между мировыми войнами», Буэнос-Айрес, 1949), с. 68–76 (эта глава совпадает со статьей Трунка о Рабоне в Унзер цайт («Наше время») от июня 1958), а также послесловие Л. Вольфа к английскому переводу романа «Улица».
(обратно)91
В этом контексте нельзя не отметить, что в 1924 году в Берлине был опубликован роман Йозефа Рота «Отель „Савой“». Хотя название места действия в нем не сообщается, почти нет сомнений, что это Лодзь, как и в книге Рабона. О месте действия см.: David Bronson. Joseph Roth — Eine Biographie. Cologne, 1970, p. 25; Jan Kopowski. Józef Roth. Warsaw, 1980, p. 45–46. Роман Рота также описывает временное пребывание героя в Лодзи, повествование тоже идет от первого лица. Герой романа — солдат, который возвращается через Польшу на запад после восточного плена. В романе Рота также есть элементы гротеска. Сомнительно, чтобы Рабон знал о существовании романа Рота, когда писал «Улицу». Тем не менее имеет смысл сравнить два этих произведения, где описан один и тот же период времени, действие происходит в одном и том же городе, а также прослеживается большое сходство между героями и авторским подходом.
(обратно)92
См. 3-ю главу.
(обратно)93
В своей книге (с. 89) Рот сходным образом описывает забастовку рабочих и в этом контексте упоминает некоего персонажа, который во время забастовки рабочих решает открыть свой кинематограф: «Делать-то в этом городе нечего, кроме как сходить в кинематограф. Город серый, вечно дожди, небо хмурое, да и рабочие бастуют. Время у людей есть. Полгорода будет днями напролёт, да еще и по полночи, сидеть в кино» (с. 117). См. также стихотворение Рабона «Кинотеатр „Венус“» (Гройер фрилинг, с. 8–9), где описаны посетители кинематографа, в том числе безработные.
(обратно)94
Исроэл Рабон. А маме. Дерцейлунг. («Мама. Рассказ») // Гайнт, 5 октября 1934. Рабон перенес предложение «Мне показалось, что ее губы шевелятся в молитве» и концовку главы, начиная со слов «Я чувствовал себя на морозной улице одиноким и брошенным». Еще до этого Рабон публиковал отдельные главы из «Улицы» в Лодзер тагеблат. О публикации 13-й главы см. примеч. 65; рассказ Дос гешеениш ин кинематограф («Происшествие в кинематографе») был опубликован в той же газете 13 апреля и 3 мая 1929 года. Эта публикация составлена из отрывков из глав 17 и 18.
(обратно)95
Сходное выражение одиночества и отверженности в большом городе присутствует и в поэзии Рабона. См., например, стихотворения Ойф дер гас («На улице») и Гройсштотишер овнт («Вечер в большом городе») (Гройер фрилинг, с. 19–29, 40).
(обратно)96
См. об этом выше, мою статью, упомянутую в примеч. 67. Ш. Нигер и Н. Вайниг также отмечают эти элементы в творчестве Рабона.
(обратно)97
До того эта история была опубликована под заголовком Ахейм («Домой») в журнале С’фелд (№ 4, июнь 1921, с. 7–12). Публикация сопровождалась следующим примечанием: «Отрывок из Дер тумтум („Андрогин“), С’фелд, № 3». Ни одного экземпляра третьего номера журнала пока не обнаружено. Персонаж, поименованный как Осенний, упоминается в этой истории так же, как и в романе «Улица». Однако в одном случае в С’фелд персонаж назван Осенний, а в романе употреблено слово «он». Мы заменили в книге название этой истории Агин («Туда») на Агейм*, в соответствии с текстом из С’фелд. Кроме прочего, это название больше соответствует сюжету и контексту, в котором история предстает в романе.
* Так в книге.
(обратно)98
В тот же период Ицхок Башевис, еще живший в Польше, тоже неоднократно описывал отверженных, маргинальных персонажей. В сходном контексте он создает образы русских белоэмигрантов в Варшаве. См. рассказ Ин алтн гойз («В старом доме», Литерарише блетер, 27 (270), 5 июля 1929, с. 523–527).
(обратно)99
Характерно, что, когда рассказчик хочет читать, он вспоминает именно еврейские буквы (см. 10-ю главу). Значимость этого эпизода станет более понятна в контексте дальнейшего обсуждения.
(обратно)100
Сведения приведены по: Пинкас хакегилот, Энциклопедия еврейских общин, Польша, том 1, общины Лодзи и ее окрестностей (на иврите), Иерусалим, 1976, с. 17.
(обратно)101
В книге Рота, напротив, обозначено присутствие ортодоксальных евреев в «кафтанах» (в оригинале — Kaftanjuden).
(обратно)102
Десять дней от Рошашоне (Новолетия) до Йом Кипура (Судного дня).
Прим. В. Дымшица.
(обратно)103
Фогельнест тоже не уроженец Лодзи, однако нам неизвестно, родился ли он в местечке (см. 23-ю главу). Судя по всему, и художник не всегда жил в Лодзи.
(обратно)104
Отверженных из «Улицы» Рабона можно сравнить с многочисленными другими неприкаянными персонажами, населяющими нашу литературу на идише и на иврите с самого начала XX века.
(обратно)105
Образ креста и всего, что с ним ассоциируется, возникает у Рабона и в стихотворениях этого периода. Ср. стихотворения О, фотер, Гот! («О, отец наш, Бог!») и Ди тойте шиф («Мертвый корабль») из первого сборника (с. 64–72). Примечательно, что во втором стихотворении вместе с крестом появляется еще и ворона. Сарказм приведенной ниже цитаты из стихотворения Цум тойт («К смерти», с. 63) так же свидетельствует о смешанных чувствах, испытываемых автором по поводу креста:
О, сколько раз я скрипел зубами, и холод / Пронизывал мое тело, когда хамы называли меня «жид»! / Благо мне, что перед крестом мой дед никогда не преклонял коленей, / И благо мне, что я самый гордый еврей на всем белом свете.
В этой связи возникает ассоциация со знаком креста на лбу героя знаменитого рассказа Л. Шапиро Дер цейлем («Крест»), Реакция, которую рассказ вызвал в момент опубликования, свидетельствует, что даже в среде тех евреев, которые, вроде бы, отмежевались от традиционного мышления, вопрос о христианстве и его символах оставался достаточно болезненным. См., например: X. Шмерук. Четыре письма Дер Нистера // Б’хинот, 8–9 (1977–1978), с. 231–232 и примеч. 23. Этот литературный контекст помогает лучше понять, сколь важен эмоциональный аспект восприятия креста в произведениях Рабона.
(обратно)106
Некоторое представление о еврейском населении Лодзи дает тот факт, что в 1931 году в городе проживало 202 497 евреев, при этом лишь 5,4 % из них признавали польский своим родным языком. Сведения взяты из источника, указанного в примеч. 100.
(обратно)107
Во вводной главе упомянута газета на идише. Однако указано, что читает ее житель местечка, где родился рассказчик.
(обратно)108
Дабы завершить картину, заметим, что в 1-й главе «говорят» по-русски, а в 3-й и 25-й — по-немецки.
(обратно)109
О значимости этой деградации — правда, в иных обстоятельствах, — рассказывается в рассказе Дер Нистера Унтер а плойт («Под забором»). См. мой анализ этого рассказа в Ди голдене кейт, 43 (1962), с. 47–68.
(обратно)110
Персонажи, говорящие по-польски в окружении, где не говорят на идише, появляются в произведениях И.-И. Зингера, Э. Кагановского, Й. Перле и других. В их текстах иногда возникают персонажи-неевреи. И все же в литературе на идише это явление остается маргинальным даже в межвоенной Польше. Я коснулся этого вопроса в докладе на Международной конференции по еврейско-польским связям (Оксфорд, сентябрь 1984).
(обратно)111
Другой вариант этого идиоматического сравнения: элнт ви майз ин кирхес («одинокий как мыши в церквях») встречается в книге Рабона «Балут» на с. 55. То же выражение существует и в других языках, не только в польском, однако для Рабона непосредственным источником служит все-таки польский. В «еврейском» контексте выражение однозначно выглядит странно.
(обратно)112
См. описание схватки человека с собаками в «Балуте», с. 32–39. Об образах животных в поэзии Рабона см. выше.
(обратно)113
Это переосмысленные строки из стихотворения Бодлера Les Litanies de Satan («Литании Сатане») из раздела Revolte («Мятеж») в «Цветах зла». Перевод Рабона неточен и имеет много принципиальных отличий от оригинала. В оригинале «ты» относится к Сатане, что совершенно не очевидно у Рабона. Впрочем, в контексте «Улицы» отличия эти не столь существенны. Возможно, при переводе на идиш Рабон пользовался польскими переводами — этим можно объяснить некоторые расхождения с французским оригиналом. Благодарю моего друга М. Литвина, прекрасного переводчика французской поэзии на идиш, который опознал цитату из Бодлера и сравнил ее с французским оригиналом.
(обратно)114
«Зверь в человеке» — это наблюдение, которое постоянно встречается в отзывах на произведения Рабона; зачастую его называют центральным элементом его творчества. См., например, работу И.-И. Трунка (примеч. 90).
(обратно)115
См. «Балут», с. 32–39, и «Очерки 1939 года».
(обратно)116
Действие романа-фельетона Рабона «За занавесом» тоже развивается на фоне событий Первой мировой войны. Рабон обращался к тому же предмету в рассказах Ма-йофес и Дер ринг, см. примеч. 72. См. также рецензию Рабона в Лодзер тагеблат от 24 мая 1929 года на знаменитый роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Огромное уважение к этой книге, посвященной Первой мировой войне, не мешает рецензенту высказать сомнения в ее художественной ценности. Нужно отметить, что перевод книги на идиш был выполнен Ицхоком Башевисом: Эрих Мария Ремарк, Ойфн майрев-фронт кейн найес («На Западном фронте ничего нового», Варшава, 1929). На титульном листе надпись; «Авторизованный перевод с немецкого выполнен И. Башевисом под редакцией Михаила Вайхерта».
(обратно)117
Процитированный здесь заключительный абзац 13-й главы был по каким-то соображениям изъят при перепечатке в Лодзер тагеблат. Эта глава из книги Рабона стала очень знаменита, поскольку она была включена в Антологие фун дер йидише прозе ин Пойлн цвишн бейде велт-милхомес 1914–1939, цунойфгештелт: А. Цейтлин, И.-И. Трунк («Антология прозы на идише в Польше между мировыми войнами 1914–1939, составлена А. Цейтлиным, И.-И. Трунком», Нью-Йорк, 1946, с. 611–618). Это глава была отмечена во всех статьях, посвященных «Улице», и недавно перепечатана в варшавском еженедельнике Фолксштиме («Голос народа», март, 1985).
(обратно)







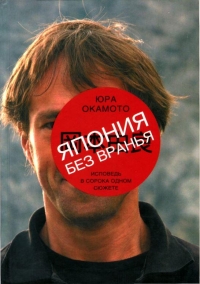


Комментарии к книге «Улица», Исроэл Рабон
Всего 0 комментариев