«Мышление и свободная воля присущи каждому предмету и даже атому»
К.Э. Циолковский
Присказка
Поскольку главу «от автора», как правило, никто не читает, я могу написать здесь всё, что заблагорассудится. Могу даже, не глядя настучать пальцем по клавиатуре, чтобы образовались буквы. Орпавмиплонпкгнамсог… стоп! А ну, как прочитают? А ну, как спросят: «Что за абракадабра?» Полбеды ещё, коли спросят. Куда хуже, если, мельком взглянув, не будут ни спрашивать, ни читать. Из-за какой-то присказки, из-за ерунды пойдёт насмарку вся история. И никто не узнает, что за зверь такой – Милюль, и почему сказка, а не повесть, или роман. Останется книжка нечитанной и даже негляданной…
Даже и не знаю, чего бы добавить для пущего завлекалова. Так и видится мне неприятная картина: берётся человек ознакомиться со сказкой, да откладывает и не знакомится. Чего-то его не устраивает. Пугает и другая ситуация: набегут шустрые верхогляды и, не вникая в содержание, давай рассуждать о позициях камасутры, да о рассказчике, который не мог написать по-человечески, а перекорячился и поставил сюжет с ног на голову. Глядишь, за пересудами польза и пропадёт. Али такого не бывало?
Всех вариантов будущего не мог предвидеть даже Улугбек. Поэтому я распечатал дюжину экземпляров и раздал разным людям. Может, чего и подскажут? Ждал-пождал, и дождался дельных советов. Первыми, как и полагается, откликнулись зубоскалы и шутники. Ну и молодцы. Поскольку я сам поржать горазд, то знаю: ничего путного от смехачей, не услышишь. Одно: «бу-га-га». Потом проявились въедливые читатели, и очень помогли полезными идеями на счёт пожилого рака. Вот за это большое спасибо! Единственный минус – в диаметральной противоположности советов. Одни говорят: «Молодец твой рак! Отличный философ и настоящий мудрец. Не то, что некоторые». Другим рак не понравился, и они сказали: «Убери напрочь старого пердуна, чтобы не портил сказку ересями!»
Один мой товарищ (настоящий писатель) поведал секрет успеха: «Ты должен – говорит – схватить читателя за яйца!» Уж, не знаю, как и быть. Допустим, путём литературных манипуляций, мне удалось придать повествованию таковое волшебное свойство. И что в результате? Открывает некто книжку, а я – хвать его средствами текста: «Ага! Попался, читатель? Читай!» – но тут некто книжку закрывает, и со словами: «Фиг ты угадал, я – читательница» – опять же – не знакомится. Всё! Фиаско! Нет мне пользы даже от полезных советов.
Вру! Польза есть. В многочисленных суждениях, и даже порицаниях, я углядел одну общую особенность: никого не удивляют говорящие раки. К словам относятся по-разному, а к самому факту – спокойно. Некоторые, правда, поставили знак равенства промеж точками зрения старика-рассказчика и моими. Так должен заранее предупредить: ничего общего лично я с тем раком не имею! Если он страдает «гуризмом», то я никак не педагог, если он большой и мохнатый, то я – совсем нет, если он одно, то я – другое. В общем, рак это не я, а я – не рак. Куда мне до него! Мне ли открывать новые доктрины бытия? Мне ли быть бунтарём и сотрясателем умов? Увольте. Никогда мне не достичь той глубины и категоричности, с которой членистоногий герой, то есть автор, берётся за сложнейшие философские вопросы.
Я мог бы порой тихо поддакнуть раку-сказочнику, но лишь потому, что мне посчастливилось быть частью гигантского сообщества, увлечённого одним делом. Когда дело не заладилось, решили на него наплевать. Заодно пришлось наплевать и на философскую базу, и на первопричины, и на всё, на чём зиждилась вселенная. Закружилась философская база, завертелась большая доктрина, и злато обратилось в черепки.
Однажды я подобрал замшелый черепок, недавно бывший сокровищем мудрости, и прочёл заглавие: «Краткий очерк истории философии» под редакцией М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана и И.Я. Щипанова. Издательство «Мысль» Москва 1971». Мне стало любопытно вспомнить, о чём повествовал на 772-х страницах «коллектив авторов, созданный министерством высшего и среднего специального образования СССР»? Оказалось, о самом главном: «Основной вопрос всякой философии имеет две стороны. Первая его сторона – это вопрос о том, что первично – материя или дух, бытие или мышление. … Другая сторона основного вопроса философии – вопрос о том, познаваем ли мир, могут ли представления и понятия людей быть объективной истиной или мир непознаваем и объективной истины во взглядах людей быть не может».
Вот же она, непоколебимая ось мироздания, некогда действующая и отшлифованная до блеска, а теперь заброшенная за ненадобностью. Появился бы в те годы какой-нибудь правдолюб и сказал бы тем авторам: «Всё вы врёте! Никакой это не основной вопрос, а самая настоящая разводка! Вы мне лучше ответьте, кто я такой есть? Откуда я взялся и зачем живу?»
Неужто вы думаете, коллектив авторов, состоящий из десяти профессоров и академиков, кинулся бы отвечать любопытствующему? Да ни в жизнь! Они бы его загнобили, закидали бы позорами и выгнали из всех заведений высшего и среднего специального образования СССР. Вот и вся философия.
Но вселенная дала крен, появились иные смыслы. Глядишь, уважаемые люди в пиджаках кричат, как ни в чём не бывало: «Христос воскресе!» Будто не учились они в высших и средних специальных учебных заведениях, будто не сдавали экзамены по основам философии марксизма-ленинизма и не читали произведение «коллектива авторов», за одно сомнение в истинности которого, они давно бы сидели где-нибудь у одинокого костерка посреди бескрайних пространств молчания и безвестности.
Мне повезло увидать, как стремительно изменились направления праведной мысли. Но и не только мне. Кругом, куда ни посмотри, в повседневных разговорах людей пальму первенства делят инопланетяне, Ленин и Христос. Как иначе? Людям свойственно осмысливать, откуда они взялись, зачем живут и куда направляются, а от официальной мировоззренческой чехарды мозги каждого второго гражданина давно встали раком.
Потому и нет для моих советчиков ничего удивительного в пожилом, многое повидавшем раке-отшельнике, который балует слушателей байками и небылицами. На старости лет он уподобился человеческим сказочникам и, так же, как они говорят про зайчат, лисят и петушков, рассказывает о шестилетней девочке-царевне, ну, и о лягушке, конечно. Нормальное дело.
И всё-таки в присказке следует остановиться на образе жизни той части фауны, где рождался и ковался сей небывалый сюжет. Вопреки своему названию, раки-отшельники очень даже общительные существа. Бывают и среди них одиночки, которым всё вокруг до того осточертело, что глаза бы не глядели, но их единицы. В большинстве своём раки то и дело объединяются в группы с целью обсудить новости, или найти ответы на животрепещущие вопросы современности. Как и у нас, у людей, их взгляды не всегда совпадают. Не берусь утверждать, что основной вопрос философии видится им в том же ракурсе, в каком ставили его Иовчук, Ойзерман и Щипанов, но я неоднократно наблюдал, как эти создания устраивают друг другу нешуточные мордобития. Я имею в виду раков. Как дрались академики с профессорами – я не видал, потому что в 1971-м году был ещё маленьким. Почему бы не предположить, что раки дерутся именно из-за споров об основном вопросе философии? Других-то поводов нет. Природа щедра, угодья обширны, еды достаточно и совсем не нужно перераспределять богатства. Коммунизм, одним словом!
Есть в рачьем социальном обустройстве и ещё один неоспоримый плюс: они крайне редко обижают стариков. Если учесть, что рак-отшельник растёт всю жизнь, и чем он старше, тем больше и сильнее, то кому придёт в голову лезть на рожон? Конечно, можно собраться озверелой толпой и совместно отвалтузить какого-нибудь богатыря, как это случается у нас, у людей, но чего ради?
В свою очередь большой старый рак никогда не будет отнимать домик у меньшего. Зачем ему маленький домик, хоть и чужой? Так что в их, рачьем сообществе удалось изжить две беды: жлобство и бомжей. О дураках и дорогах я не говорю. Хотя, зря. Любой дурак может в этом месте прервать мои благостные рассуждения и заорать: «Что за ерунда? Какое такое социальное обустройство у раков-отшельников? Это гонево, чувак!»
– Извините – отвечу я – ну-ка, перечислите мне, кто наблюдал за раками? Биологи? А где были в это время социологи, психологи и политологи? Кто пробовал внедриться в рачью среду и пожить с отшельниками как Миклухо-Маклай с афроафриканцами, или как Марко Поло среди монголокитайцев? Давайте так же косно, с чисто биологической точки зрения, взглянем на жизнь населения японских островов шестнадцатого века? Что мы увидим? Мы увидим особей, которые хаотично слоняются и немотивированно останавливаются. Они совершенно ни с того, ни с сего дерутся друг с другом, а зачастую и вовсе садятся, где стояли и сутками напролёт неподвижно сидят, что само по себе должно поставить под сомнение наличие не только социального общества, но и самого интеллекта. А вот появились учёные люди, копнули поглубже и, поди ж ты, обнаружили не только разум, но и кромешную мудрость в переведённых на человеческий язык трудах буддийского наставника Банкэя, который утверждал: «Медитация не приближает нас к святости, но ни в коем случае нельзя ею пренебрегать» – Что скажете? Ничего? Ну, вот и медитируйте себе молча, и не поганьте моих святынь, то есть раков.
Впрочем, к чему беседовать с дураком? Неужто мои аргументы и факты на него повлияют? Не повлияют. На этот случай даже есть народная мудрость в виде анекдота: Оторвало мужику голову. Лежит голова на обочине и кричит телу, которое мечется по дороге: «Сюда! Сюда беги! Я здесь!» А туловище бегало, бегало вокруг, да как развернётся в сторону головы, как помчится на неё. Пробежало мимо, чуть ногой не пнуло, да и шлёп в кювет. Голова тогда и говорит: «Зачем я ору? Уши-то на мне!»
Вернёмся к нашим ракам. Так же, как и японцы шестнадцатого века, раки-отшельники довольно много времени проводят в медитации, созерцании и размышлении, что совсем не одно и то же, хоть со стороны и выглядит одинаково. Благодаря этим трём полезным занятиям, они, несомненно, мудрей и ближе к Будде, чем современные люди, пренебрегающие тем, чем не велел пренебрегать знаменитый японский учитель. А он был парень – не промах! Одно лишь его мудрое высказывание куда драгоценнее 772-х страниц устарелого учебника и не только приоткрывает завесу тайны над главным вопросом философии, но и имеет прямое отношение к историям, рассказанным раком-отшельником. И к тем, что уместились в этой книге и к тем, что остались за её пределами.
«Один ученик спросил у Банкэя: «Учитель, а когда я стану Буддой, куда я пойду?» Банкэй ответил: «Когда ты станешь Буддой, тебе некуда будет идти, потому что ты займёшь всю вселенную. Впрочем, не исключено, что ты станешь какой-либо иной сущностью…»
Глава первая Суббота
Однажды в субботу пожилой и уважаемый рак прервал медитацию и, внимательно оглядевшись, увидел, что уже отлив, раковина его наполовину ушла в мокрый песок, а рядом собралось общество молодых, не таких здоровенных раков, каким был он. Некоторые из них копошились в лужицах, некоторые дремали, грея под солнцем домики. Он деликатно кашлянул и множество открытых миру глаз обратились к нему.
– Сегодня, уважаемые друзья – сказал он, оценив готовность аудитории внимать словам мудрости – я расскажу вам одну из бесконечного множества историй о людях.
В группе наименее мудрых раков кто-то хихикнул, но старый рак направил в ту сторону грозный левый глаз и смешки робко затихли.
– Я понимаю – продолжил старый рак – кому-то сей предмет покажется ничтожным, поскольку манера человечьего существования непредсказуема до бессмысленности. Иные сочтут мою сказку чересчур заумной, ибо попытка постичь мысли, чувства и переживания любого отдельно взятого существа столь же неприподъёмное занятие, как постижение вселенной. И те и другие могут не слушать. На море отлив, вокруг много еды и вы вольны отправляться гулять по пляжу. Я никого не задерживаю.
Несколько раков моментально воспользовались предложением и, волоча ракушки, разбежались в разные стороны. Старик даже не глянул им вслед. Он вяло разбросал натруженные клешни по мокрому песку, задумчиво изогнул стебельки глаз и стал рассказывать: «Такое было благолепие кругом! Весь причал, залитый солнечным светом, явился сказочной страной перед Милюль. Только сошли с извозчика, как огромные античные колонны, белоснежные и глянцевые, как вытянутые шахматные туры из слоновой кости, окружили её. Сразу за колоннадой открылась пристань. Широкую мраморную лестницу – не спеша пересекали дамы в воздушных платьях и безукоризненные кавалеры. Причал упирался в огромный, загораживающий полмира, сияющий борт океанского лайнера. Милюль посмотрела вверх. Из-под небес на неё взирало огромное лицо мраморной статуи. Другие античные статуи высились над лестницей по правую руку. Их склоненные лики были совершенны и безмятежны. По левую руку, над людьми виднелись такие же статуи, но они были столь далеко, что казались маленькими, не больше мизинца.
– Нянечка, как тут весело! – прощебетала Милюль – а где же море?
Нянечка улыбнулась снисходительно. В левой руке она держала огромный розовый зонт, а в правой дорожный саквояж. Сзади пыхтел под тяжестью чемоданов мужик. Так же, как мужика давил груз несомого им скарба, нянечку прижимал к земле груз ответственности, забот и серьёзных дел, а море, загороженное теперь гигантским телом парохода, никуда не денется, и нечего говорить о пустяках.
– Надо поторапливаться, Милюль – сказала она, не отвечая на вопрос – а то опоздаем на пароход. Вот будет незадача!
Они стали спускаться к причалу. Огромный мраморный лев у основания лестницы привлёк внимание девочки.
– Нянечка, можно, я на него залезу? – спросила Милюль, указывая на льва пальчиком.
– Вот, ещё, блажь! – возмутилась нянечка – будто, вы маленькие! Да и что бы стало, если все господа на него лазили?
– Но, почему бы и не залезть? – раздался благородный бас откуда-то сверху и сзади. Милюль обернулась. Огромный господин в белом костюме, белой шляпе, при усах и бороде, стоял у ней за спиной и пускал облака белого дыма из огромной сигары. На всякий случай Милюль прижалась к нянечке и обхватила руками её ногу.
– Не мните мне юбку, этакая вы егоза! – взвизгнула нянечка, и, обращаясь к белому великану, пустилась в разъяснения – Барышня наша такая-с попрыгунья-с! Ей только волю дайте, так она на что хотите залезет-с. Только вот мужчин они боятся-с.
– Вот те, на! – удивился гигант – Это от чего же нас-то бояться?
– От воспитания-с – пояснила нянечка.
Господин улыбнулся ей и, склонив голову, как давешняя статуя, опять воззрился на Милюль – Ну, что, козявка, полезешь на льва?
– Я не козявка – поправила его Милюль.
– А кто же? – поднял брови великан.
– Я Милюль.
Гигантский бородач рассмеялся раскатистым толстым смехом, от которого Милюль сделалось на самом деле страшно. Она ощутила себя именно козявкой рядом с огроменным господином. Но Милюль постаралась не выдавать испуга. «Если бы этот великан был злым, так непременно бы уже раздавил меня» – мысленно успокоила она сама себя.
– И то верно! – согласился белый господин – Удивительно, как это я сам не понял? Как ещё могут величать такую Милюль?
– Эй, барыня! – раздался придавленный голос мужика – Я бы того… чемоданы-то как?..
Няня открыла, было, рот, чтобы ответить, но добрый великан перебил её, протягивая мужику монету:
– Вот тебе, милейший, за труды. Отнеси-ка чемоданы во-он к тому офицеру в чёрной фуражке – он, будто мимоходом, глянул на нянечку и деловито спросил у ней – Какая у вас каюта?
Нянечка, очевидно, тоже немного робела рядом с этим исполином, и потому не стала препираться, а быстро ответила – Семнадцатая в высшем классе – тут её настигла мысль, что неудобно пользоваться услугами незнакомца и она залепетала – я бы и сама разобралась. Зря это вы так всё на себя взваливаете-с. Сколько мы вам должны-с?
Однако, господин в белом, проигнорировав нянечкин лепет, вновь обратился к мужику:
– Запомнил, дружок?
– Дак, чего ж не запомнить, чай невелика сказка – ответствовал носильщик, глянув снизу вверх и, кряхтя, отправился к борту лайнера. Великан же вновь взглянул на Милюль:
– Ну, так как у нас с воплощением замыслов?
Милюль не поняла вопроса и потому возразила: – Я ничего не замышляла, дяденька.
– Да? – господин опять удивлённо поднял бровищи – а кто только что собирался воссесть на каменного льва?
Милюль обернулась ко льву, и ей снова захотелось посидеть на нём, хоть чуточку. Она перевела взгляд на нянечку, но та, судя по всему, раздумала возражать, и даже подтолкнула Милюль в спину.
– Полезайте уж. Что теперь с вами делать?
Милюль подбежала к гладкому, блестящему боку зверя и, опершись башмачком о когтистую лапу, ловко вскочила льву на спину, обхватила руками искусно вырезанные локоны гривы.
– Э, да я вижу, барыня – наездница! – воскликнул господин великан и изобильно пыхнул сигарой – В добрый путь! – Тут он похлопал рукой по блестящему львиному крупу, будто тот и вправду мог что-то почувствовать, и поскакать вместе с Милюль мимо дам, господ, мужиков и матросов, что ходили по причалу, к невидимому из-за лайнера морю, а потом, прорвавшись сквозь все препоны, лев полетел бы над бескрайними просторами морских пучин, прыгая с волны на волну. Милюль размахивала бы руками и пела бы песни.
Но лев оставался лежать неподвижно. Его каменная спина холодила ноги, и ничего более не происходило. Милюль уже хотела разочароваться, когда вдруг, совершенно внезапно заиграл оркестр. Она обернулась и увидела нарядных трубачей в золотых касках, красных кителях и белых брюках с золотыми же лампасами. Их щёки раздувались и краснотою своей приближались к цвету кителей, а блеском – к сверкающим начищенным каскам. Трубачи пучили глаза и двигали трубами в такт мелодии. Толстый дирижёр ритмично взмахивал штандартом, а барабанщик озверело бил по барабану, и хлопал тарелкой.
– Пора уже – забеспокоилась нянечка – видите, оркестр заиграл-с. Не ровён час, отдадут концы-с.
– Это точно – ухмыльнулся белый гигант – так стараются! Того и гляди, отдадут Богу душу.
Нянечка строго посмотрела не него, и, собравшись с духом, сделала замечание:
– Негоже-с, господин великан, дитя баловать. Да и поторапливаться надо-с.
Господин великан вдруг, смутился:
– Прошу простить меня покорно – сказал он – я не хотел вам мешать, или, упаси Бог, приставать к вам. Просто мне подумалось…
– Вот и спасибо, что не хотели-с – ответила нянечка, и оборотясь к Милюль, добавила так же строго – Слезайте, Милюль, мы торопимся.
Милюль спрыгнула на пол, взяла нянечку за руку, и они двинулись вдоль борта, к трапу высшего класса.
Оркестр надрывался на верхних ступенях портовой лестницы. Мимо шастали различные люди с чемоданами и без. Группа дам и господ, проходила на трап. Их встречал офицер в чёрной фуражке с золотым околышем. Он поклонился Милюль, кивнул нянечке и жестом пригласил их на подъём.
Из-за медлительности поднимающихся, на причале, у железного борта лайнера скопилась небольшая очередь и предстояло постоять немного, чтобы впередиидущие поднялись повыше и дали следующим простору. Милюль переминалась с ноги на ногу, когда нянечка, распушив юбки, присела рядом и значительным голосом сказала:
– Сегодня, Милюль, не простая суббота. Ровно в этот день Вы родились, и теперь Вам исполняется шесть лет. Перед тем, как мы взойдём на корабль, я хочу подарить Вам вот эту брошку. Носите её почаще, и берегите до тех пор, пока вас не найдёт Иван – Царевич.
– Как Царевну-Лягушку? – спросила Милюль.
– Да, как Царевну-Лягушку – ответила нянечка и прикрепила к Милюлиному платьицу прекрасную брошь.
В серебряном кругу, украшенном зелёными стёклышками изумрудов, растопырив лапки и выгнув блестящую спинку, висела малахитовая лягушка в золотой короне. Золотая же стрелка удерживалась во рту каменной Царевны, а её рубиновые глазки так и помаргивали многочисленными гранями на солнышке.
Поднимаясь по железной лестнице, Милюль то и дело подносила брошь ко глазам и рассматривала перепончатые лапки, блестящие стёклышки-изумруды, золотую стрелку и корону. Лягушка же всё моргала ей недобрыми красными глазёнками.
Подъём был долгим. Мимо толстой красной полосы, идущей вдоль борта, первого ряда круглых иллюминаторов, второго, третьего. Нянечка и Милюль запыхались. Дойдя, наконец, до промежуточной площадки, они остановились, чтобы перевести дух. Площадку в это время покидали незнакомая дама в сиреневой шляпе, и неприметный господин, который её, видимо, сопровождал. Тяжело дыша, нянечка выговорила: «Господи, что же они не сделают лифт?»
Незнакомка обернулась, посмотрела на нянечку насмешливо и, с высоты пройденных двух ступенек возразила: «Капитан не ждал столь высоких пассажиров, а то бы непременно применил корабельный лифт. Впрочем, Вы могли бы попросить, и Вас бы подняли на кране с багажом» – тут она хрипло рассмеялась собственному остроумию и продолжила подъём.
Нянечка ничего не ответила, а Милюль сделалось обидно. Она отвернулась от поднимающихся господ и посмотрела вниз. Голова закружилась от высоты. Далеко внизу по причалу перемещались крошечные люди. Похожие на солдатиков оркестранты играли на крошечных трубах. Колонны парадного входа, уменьшенные расстоянием и высотой, приобрели полное сходство с белыми шахматными турами. И даже тот огромный господин в белом, стал казаться этаким маленьким гномиком, который прячется под своей шапкой.
«Пойдёмте, пойдёмте, Милюль! – подталкивала её нянечка – нам уж немного осталось». Милюль кинула взгляд вверх по лестнице. Серый господин и ехидная дама стремительно приближались к верхним ступеням трапа.
– Нянечка, почему эта дама так обидно пошутила? – спросила девочка.
– Не обращай внимания, солнышко – ответила няня – мадам кривляется.
На палубе их встретил такой же офицер, как у входа на трап.
– Милости прошу на палубу лайнера «Святой Виталий» – сказал он – стюард проведёт вас в каюту.
– Господин офицер, почему вы не поставили лифт? – укоризненно спросила Милюль – Нянечка умаялась.
Офицер открыл, было, рот, чтобы что-то ответить, как рядом раздался голос всё той же дамы в сиреневой шляпе:
– Юная леди взялась за порядки на корабле. Думаю, вам следует доложить капитану, что на лайнере новый инженер.
Офицер осклабился, покраснел, ничего не ответил, а так и застыл.
– Что вы на меня пялитесь? – осведомилась дама – где мой стюард?
Офицер покраснел ещё гуще, и стал искать взглядом стюардов.
– Не обращайте внимания – успокоила его Милюль – мадам кривляется.
Жёсткие, холодные пальцы властно уцепили девочку за подбородок. Внимательный взор незнакомой дамы проник в самое сердце Милюль, и сердце её съёжилось. Это были не простые глаза! Никогда раньше Милюль не видала таких. Обрамлённые бахромой густых чёрных ресниц, тонкие пергаментные веки, с чуть раскосой поволокой возлежали на глазных яблоках, столь огромных, что казалось, если бы дама, приложив немалые усилия, приподняла бы веки повыше, глаза её вывалились бы на палубу, и ими можно было бы играть в пинг-понг. Радужка вокруг зрачка была неопределённого, то ли зелёного, то ли карего цвета, но столь тёмного, что перехода от неё ко зрачку не замечалось. Малые доли секунды, будто соскальзывая с краёв бездны, Милюль неосознанно фиксировала странное строение этих глаз. Чёрный вакуум зрачков, всасывающий в себя этот Мир, зацепил Милюлину душу и Милюль полетела туда, как летят в чёрную дыру захваченные ею материя и свет. Она летела и слушала голос той дамы, который звучал как бы со стороны, но вместе с тем голос и составлял само то пространство, по которому двигалась Милюль:
– Ты не дерзи мне, девочка. Мне никто не дерзит.
Тут Милюль догнал другой голос. Совсем не холодный, но напротив, живой и взволнованный. Голос нянечки:
– Отпустите ребёнка, барыня! Не стыдно вам? Милюль! Милюль! Да не стойте столбом! Очнись, Милюль!
И следом незнакомый мужской голос произнёс:
– Дорогие дамы, прошу следовать за мной для получения ключа от каюты.
Милюль нашла себя стоящей на палубе. Увидела стену стеклянных окон, разделённых тонкими деревянными рамами. Дама в сиреневой шляпе, сопровождаемая неприметным господином и стюардом в бело-малиновой матроске, с малиновым помпоном на белом берете, удалялась к дубовым дверям. Такой же бело-малиновый стюард, как тот, торчал возле них.
– Что она с тобою сделала, Милюль? – обеспокоено спрашивала нянечка и всё дёргала и дёргала девочку за рукав – Что сделала эта дама?
– Ничего – пожала плечами Милюль – я тоже иногда так делаю – и Милюль, сведя глаза к носу, высунула язык. Вся её мордашка при этом стала до такой степени глупой, что нянечка рассмеялась.
– Неужто эта дама вам язык показывала? – шёпотом спросила она.
– Да – ответила Милюль, осознавая, что она врёт и ей не стыдно от этого.
Сопровождаемые стюардом, они двинулись к открытым дубовым дверям кают высшего класса.
– Никогда, дитя моё, не делайте таких пакостей! Это низко и недостойно благородных дам. Если некоторые дамы одеты, как барыни, это ещё не значит, что они из приличного общества! Они хотят походить на русскую аристократию, потому что это теперь модно, но у них ничего не выходит и никогда не выйдет, сколько бы они не обезьянничали.
Последние предложения няня произнесла нарочито громко. Милюль даже удивилась неожиданной зычности нянечкиного голоса. Уже вступавшая в двери дама встала как вкопанная. Она медленно повернулась и взглянула на нянечку с таким страшным и болезненным гневом, будто у ней отняли все игрушки. Дама сделала к нянечке пару шагов и замерла, прямая и напряжённая. Было видно, что она борется с чувствами, мешающими ей подыскивать слова. Взгляд её метнулся к Милюль и опять устремился на нянечку. Та подобрала губки и приняла вид строгий и заранее готовый к оскорблениям. Дама спросила:
– Вы, милая, на меня науськиваете ребёнка?
– И не думала вовсе. С чего вы взяли? – ответила нянечка самым невинным тоном.
– Я найду средства сообщить родителям этой крошки, что вы её развращаете! – заявила дама – Надеюсь, они образованные люди и отреагируют на ваш классовый шовинизм.
– Что-с? – спросила нянечка.
– А то-с!.. – начала, было, дама, но Милюль перебила её:
– Не курите папирос! – продекламировала она и, вопреки нянечкиным наставлениям, показала даме язык. Дама вновь перевела взгляд на Милюль, но, глядя на неё своими страшными глазами, обратилась всё же к нянечке:
– Я также сообщу, что вы научили свою воспитанницу показывать язык. Вряд ли её родители одобрят такие манеры.
– Едва ли вам это удастся – смело заявила Милюль, глядя снизу вверх – вас дворник на порог не пустит.
Дама упёрла руки в колени, и её лицо снова оказалось на одном уровне с лицом Милюль. Опять её глаза впились в девочку, но на этот раз что-то изменилось. Милюль не чувствовала ни страха, ни того гипнотического морока, который случился с ней несколько минут назад. Очевидно, в её организме успел выработаться иммунитет к чужому космосу. С ней успели произойти какие-то незаметные, но очень ощутимые изменения. Милюль чувствовала защиту проснувшегося в ней и стремительно растущего гневного существа. Незримый демон, неаккуратно вызванный из неведомых глубин, расправлял крылья в пространстве её души, придавая сил и устойчивости. Казалось, дама поняла это. Заинтересованное удивление дёрнуло вверх её соболиные брови, приподняло ленивые веки на выпученных глазищах. Дама усмехнулась краешком рта и сказала Милюль:
– В ближайшие пятнадцать лет, милочка, вам положено держать ваше мнение при себе – тут её голос понизился до полушёпота – а времена вскоре изменятся, и мы обязательно перестреляем таких как ты, вместе со всей вашей аристократией.
Милюль не ведала, о чём толкует злая дама. Она не знала, что за мотив движет этой женщиной и заставляет сообщать непонятные, но ужасные угрозы. Да и не было ей дела до угроз. Взирая на супостатку, Милюль явственно ощутила, как в её груди, там, где находится солнечное сплетение, появился чёрный злой комочек. Он дёрнулся один раз вместе с сердцем, после чего – взорвался, разлетевшись по всему телу: в ноги, в руки, до кончиков пальцев, в голову. Всю её затрясло и Милюль поняла, что удержать себя не в силах, что она сейчас вцепится этой даме в шляпу, в густые чёрные волосы, выткнет ей подведённые глазищи, разорвёт хитро искривлённые губы… тем не менее, Милюль не шевельнулась. Она переживала внутренние перемены и одновременно удивлялась им.
Милюль скорее чувствовала, нежели понимала умом, как всё её существо нарушено чем-то посторонним и непостижимым. Мир неожиданно изменился, будто треснул. Вся окружающая среда на миг потеряла чёткость. Затем мир раздвоился и потёк в разные стороны. Ошарашенная неожиданными переменами, Милюль решила зажмуриться на некоторое время, чтобы не видеть двоящегося мира, чтобы прекратить сумбур, творящийся в её душе. Это помогло.
Когда она открыла глаза, душевное равновесие и вся картина вокруг – восстановились. «Теперь всё будет в порядке» – решила она, хотя не покидало её саднящее чувство потери некоторой части самой себя. Невдомёк было Милюль, как близки к истине её ощущения. Да и откуда знать ей, шестилетней девочке, где и как суждено теперь жить тому, отторгнутому от неё нечто, тому, что ещё недавно являлось частью её самой, а теперь стало самостоятельным существом, до последнего момента имеющим с нею одно на двоих общее прошлое.
Весь гнев, который метался внутри и призывал к битве, замер, выстроился в самостоятельную личность, и не Милюлиным голосом, а низким, глубоким басом начал произносить непонятную длиннющую скороговорку. Что за глубинный дух рокотал теперь неизвестный ни ей, ни кому другому, колдовской наговор, неизвестно какими пращурами заправленный в её мозг? Что за родовая ухватка, хранимая под спудом веков от сознания, проснулась куролесить да кобениться? Никто не скажет, что это было такое, потому как никто, наверное, и не вслушивался в слова, стремительно слетавшие с губ красивенькой девочки, стоявшей перед элегантной дамой в фиолетовой шляпе:
«От краёв и до пупа земного славлю род мой, богов моих и чуров моих! Встань передо мной, как лист перед травой. В мелкоте и убогости умойся, а меня увидав, убойся. Ради живота своего и потомков своих, не замай меня и детей моих и внуков моих. Расколись как булат о разрыв-траву о корни мои, о веды мои. Оборотись в пыль во дне этом и дне ином, в мире своём, в яви своей и нави моей. Чтоб мне тебя не видать, не слыхать, одной земли с тобой не топтать!»Как табун лошадей, разогнавшись, проносится сквозь редкий березняк, как локомотив с пассажирскими вагонами проносится сквозь полустанок, как рыбий косяк пролетает сквозь рваную сеть, промчались и ушли неведомые слова из неведомого мира волхвов, оберегавших некогда святую землю от вторжения чуждого божества. Слетели неизвестные слова с Милюлиных губ, а вместе с ними улетучилось и то чувство ярости, что было только что столь безмерно велико. И стало ей спокойно. И вот уж сама она не знает, что за дремучая древность шевелилась в ней. Только крошечное удивление осталось слезинкой – росинкой от бушевавшей миг назад бури. «Чего это такое я сказала?» и «Кто это во мне говорил?» – стайкой птиц растаяли эти и другие, похожие вопросы на чистом небосклоне её сознания.
Эффект от неизвестных слов, произнесённых Милюль чужим голосом, и с таким нежданным гневом, словно не она произносила их, оказался довольно неожиданным. Лицо обидчицы побледнело. Дама в сиреневой шляпе отдёрнула руку от Милюлиной щеки и выпрямилась. Долгим взглядом посмотрела она на Милюль и, шагнув назад, отвернулась, чтобы стремительно пойти прочь по коридору.
– Что вы ей сказали такое? – беспокойно спросила нянечка, заглядывая в глаза. Милюль улыбнулась. Нянечкино лицо, такое живое и милое показалось ей в этот миг самой её родиной. Теплота накрыла сердце Милюль. Она обняла нянечку и закопалась лицом в оборке на её кофте:
– Нянечка! Я так тебя люблю! Я тебя никому не отдам!
– Дорогие дамы, я попросил бы вас поторопиться с размещением-с – взмолился стюард – а то мне опять на палубу-с, новых пассажиров встречать-с!
– Мы подождём – возразила нянечка стюарду, гладя Милюль по головке – ступайте, встречайте. Мы с вами пока на палубу выйдем.
– Ну, как же-с – заупрямился, было, стюард.
– Да, да – подбодрила его нянечка – барышне сейчас на свежем воздухе полезно.
Она взяла Милюль на руки и стала вместе с ней прогуливаться недалеко от дверей. Стюард умчался встречать вновь прибывших господ-путешественников. Вскоре со стороны вновь прозвучал его оперный тенор: «Прошу следовать за мной для вручения ключей от кают!»
Милюль оторвалась от нянечкиного плеча, взглянула и замерла от восторга: Ведя за собой давешнего огромного господина, к ним приближался юноша в военной форме. Светлые локоны выбились из-под фуражки. Золотые погоны светились на его плечах и золотыми звёздочками мерцали пуговицы на мундире. Большой, светлый лоб, ясный взгляд, устремлённый вдаль, правильный нос, добрая улыбка рыцаря и победителя, волевой подбородок героя, всё в лице его было гармонично, воинственно и прекрасно. Милюль захотелось взвизгнуть, но она сдержалась и, лишь, попросила нянечку поставить её на землю. Юноша поравнялся с ними и снисходительно взглянул. Милюль смутилась и опустила очи долу.
– А вот и мой младшенький. Без пяти минут – юнга! – пророкотал в небе толстый голос огромного господина – Серёжа Пантелеймонович. Прошу любить и жаловать.
Милюль вскинула взгляд. Господин обращался к нянечке. И сын его, этот сказочный принц Серёжа, тоже смотрел на нянечку. Так же снисходительно, как давеча на неё, но лишь снизу вверх оттого, что ростом он едва доходил нянечке до пояса.
– Сергей, представься дамам – приказал господин.
– Кадет N-ского кадетского корпуса Сергей Громов – отрапортовал прекрасный воин высоким мальчишеским голосом, показавшимся Милюль небесной музыкой. Она сделала книксен и сказала скромно: «Милюль». Нянечка положила руку на её голову и объяснила:
– Барышне недавно шесть лет от роду. А – я её нянечка, Прасковья Ивановна.
– Вот я чурбан! – стукнул себя по лбу господин в белом: – уже битый час, как знаком с вами, а до сих пор не отрекомендовался. Купец первой гильдии Пантелеймон Ильич Громов. Родной отец этого недоросля. Да что ж мы стоим? Пойдёмте скорее за нашим тенором! – Пантелеймон Ильич ткнул пальцем в сторону знакомого стюарда, который переминался рядом.
Стюард отворил двери, и Милюль оказалась в застланном мягким ковром коридоре. В высоком потолке висели хрустальные светильники. Полотна морских баталий украшали стены. Двери, ведущие в каюты, располагались по левую и правую стороны.
– Вы, как я помню, в семнадцатом нумере? – басил Пантелеймон Ильич – а мы с Серёжей как раз в восемнадцатом! Стало быть, наверное, напротив вас, или, быть может, через стенку. Всё едино, соседи. – Они быстро дошли до находящихся напротив друг друга кают. Стюард картинно остановился между дверьми, и, обернувшись к господам, продекламировал:
– Добро пожаловать в каюты высшего класса трансконтинентального лайнера «Святой Виталий»! Вы, дамы, располагаетесь в семнадцатом нумере. Вот ваши ключи – тут он как фокусник взмахнул рукой и в ней оказался блестящий ключ, соединённый цепочкою с золотым колокольчиком – Стюарды постоянно дежурят в коридоре, и вы можете доверить ключи мне и моим коллегам, или же держать их при себе, как вам будет угодно-с! – Тут он достал второй ключ и, отдавая его Пантелеймону Ильичу, предупредил – Если понадобится моя помощь, или пожелаете кушать в каюте, звоните в колокольчик-с и вызывайте-с меня. Мы в полном вашем распоряжении-с! Желаю всем приятного путешествия. Располагайтесь. Ваш багаж ждёт вас в каютах-с.
– Ну, что ж, до встречи, матушка, Прасковья Ивановна – пробасил Пантелеймон Ильич и вместе с кадетом исчез за дверью своего купе.
Милюль вступила в огромную светлую залу и спросила:
– Нянечка, почему здесь окна?
– Как же без окон, дитятко? – удивилась нянечка.
– Мы на корабле. Тут должны быть иллюминаторы.
– Иллюминаторы, Милюль, в каютах другого класса. Мы же едем на самом верху. Тут во всех нумерах окна, как в гостинице.
– Это не интересно – надула губки Милюль.
– От чего же? – возразила нянечка – Наоборот, так светлее и видно лучше.
Милюль подбежала к окну и, откинув кисею лёгкой шторы, посмотрела наружу. За окном, за перилами палубы был виден поднимающийся в гору город. Порт с причалом, колоннадой и оркестром прятался внизу. До каюты едва долетали звуки марша. Белые домики города торчали один над другим, окружённые зеленью кустов и деревьев. Дороги, тротуары и люди были вовсе не видны, от чего пейзаж напоминал искусно сделанный макет. Нянечка тоже подошла к окну.
– Красиво, правда? – спросила она.
– Да, красиво – согласилась Милюль – а скажи, нянечка, из окна Пантелеймона Ильича видно море?
– Конечно. Его окно как раз на другую сторону.
– Ах, как ему повезло! Вот бы поменяться с ним местами.
– Это фантазии – возразила нянечка – вот мы отчалим, и море за окном ещё успеет вам надоесть. Ступайте в спальню, Милюль, переоденьтесь к ужину.
Милюль перешла в спальню, открыла свой чемодан, живо переоделась в домашнее. Снова посмотрела на окна, занавешенные плотными шторами. Вздохнула. Сказала сама себе: «Зачем плыть на корабле, если не видно моря» и вышла в залу.
Ужин уже подали. Нянечка подняла серебряную крышку супницы, и от вкусного запаха рот Милюль заполнился слюнями. Она села на стул с высокой спинкой и схватила ложку. Когда, съев две тарелки супа, Милюль попросила ещё, нянечка посоветовала:
– Оставь место для второго, а то тебя на десерт не хватит.
– Хватит, хватит – успокоила нянечку Милюль – у меня такой аппетит, что я слона могу съесть.
Нянечка положила в тарелки жаркое. Быстро справившись с ним, Милюль потребовала добавки и так упрашивала, так умоляла нянечку, что та сдалась.
– Где в тебе это всё умещается? – удивилась нянечка позже, подавая ей третью тарелку жаркого. И содержимое третьей тарелки, и десерт и кисель моментально исчезли в неизвестном пространстве Милюлиных внутренностей, а есть хотелось ещё.
– Да что за чудовищный голод на вас напал? – удивилась нянечка – я бы уж лопнула.
Милюль не ответила. Она съела подряд пять персиков, сказала спасибо и, встав из-за стола громко рыгнула.
– Фу! – возмутилась нянечка – барышням нельзя так рыгать! Ведь вы – не мужик!
– Я не нарочно – смутилась Милюль и, зевнув, добавила – я, кажется, спать хочу.
– Вот и славно! – обрадовалась нянечка – пора и баиньки. Пойдём, моя радость, я тебя провожу.
Едва войдя в спальню, Милюль, не раздеваясь, взобралась на высокую кровать под зелёным балдахином и заснула. Она не слышала, как вздыхала, раздевая её, нянечка, как укрывала её одеялом. Не слышала и не видела, а значит, этого и не было. Был лишь сон, короткий и бесконечный, творящийся в другом времени и в каких-то иных местах. Не она, Милюль, но иные существа пребывали там, и по-иному протекала их жизнь.
Но об этом, пожалуй, лучше в другой раз, потому что теперь я притомился. Сказка моя длинная, а жизнь ещё длинней. Приходите к большому камню завтра на рассвете. Надеюсь, я буду здесь и обязательно расскажу, что произошло на следующий день».
Старый рак взял в клешню песчинку и наладился внимательно её разглядывать.
– Ну вот! – возмутился рак среднего возраста из числа слушателей – Я слушал и ждал, чем сказка закончится, а она и не началась! Чего ради завтра мне тащиться сюда? У меня, думаете, дел нет? Я припрусь, чтобы слушать продолжение, а окажется, что? Подумаешь, какое событие, села баба на кораблик! Мне это зачем?
– Иди-ка ты под воду – посоветовал старый рак, после чего неспешно скрылся в своей ракушке. Через несколько минут оттуда раздался богатырский рачий храп. Слушавшие его раки поглядели друг на друга, и тоже попрятались в домиках. Приближался прилив.
Глава вторая Воскресенье
Старый рак высунулся наружу, едва отлив освободил пляж от океанских вод. Обведя мокрыми глазами окрестность, он обнаружил, что слушателей, судя по валяющимся тут и там раковинам, не убавилось, но вроде бы и не прибавилось. Однако, вся аудитория спала, попрятавшись по домикам. Он засунул в рот меньшую клешню и молодецки свистнул. Заворочались сонные раковины, показались клешни и членистые ножки. Вот уже смотрят на него вопросительно многочисленные глазки на стебельках: Чего, мол, шумишь, дед?
«Да разве это шум? Вот если бы с горы свиснуть, да во весь дух, да в большую клешню! Тогда бы и гром загремел, и земля разверзлась. Только верно говорят: «Бодучей корове Бог рогов не дал». Куда уж мне, старому чуде-юде морскому на гору взобраться? Сижу тут с вами в луже, посвистываю легонько» – подумал рак про себя и заговорил:
– С добрым утром, дорогие друзья. Рад, что вы отозвались на мой скромный посвист. Всякая история требует продолжения, пока не наступит её конец. Как видите, я ещё жив, здоров и вполне могу рассказывать. Не напомнит ли мне кто-нибудь, на чём я вчера остановился?
– Вы остановились на том – отозвался один из вчерашних слушателей – как маленькая человеческая особь объелась и уснула. После этого вы сами завалились почивать.
– Очень вам благодарен – кивнул старик и продолжил:
* * *
– Вокруг было бесконечное пространство и ничего кроме Милюль в нём. Ощущение блаженной сытости и бесконечных возможностей равномерно наполняли и саму Милюль и всё окружающее. Не было разницы меж субъективным и объективным. Была лишь безграничность, дарящая своею необъятностью крепкое ощущение уместной праздности.
Милюль вяло пошевелилась. «Что я? – спросила она себя, и праздность начала истончаться – Что эта вселенная? – с новым вопросом ощущение лёгкости и вседоступности так же стало тоньше. Решив осмотреть вселенную, или хотя бы её часть, Милюль двинулась вперёд. Ничто не сковывало её движения. Она летела, или плыла, постепенно наращивая скорость, но вселенная не кончалась. Воистину она была бесконечна.
Вскоре Милюль надоело двигаться вперёд. Ей наскучило однообразие полёта по прямой, и она повернула, но это ничего не изменило. Всё та же однообразная вселенная вокруг. «Что я в этой вселенной?» – сформулировался новый вопрос. Сопоставление величин позволяло найти ответ: «Я – мизерная частичка космоса, а огромная бесконечность вокруг меня и есть вселенная». Решение было простым и давало успокоение. Милюль остановилась и расслабилась, разбросав себя в стороны. Она покоилась так некоторое время, блаженствуя. Ещё бы! Ей удалось найти ответы на столь сложные вопросы! Сразу на три. «Вот она, я, а вот – окружающий меня космос, он же – среда обитания. Мне в нём ничто не грозит. Мой дух свободен и может двигаться в любом направлении, питаясь этой средой. Значит это не только среда моего бытия, но и питательная среда. Это – хаос. Прелестный вывод!» – Милюль похвалила себя за сообразительность и тут же захотела большего: «Я в состоянии ощущать окружающее и отделять себя от него. Значит – я мыслю. Но, раз я мыслю, значит, я способна это окружающее объять! Более того, я обязана это сделать, потому что я есть – порядок, а окружающее – есть хаос» – Былая радость бытия стала неудержимо таять, как уходящий сон. Милюль попробовала отмахнуться от нелепого желания. «Нельзя объять необъятное» – сказала она самой себе, но аргумент не подействовал. Необъятное ждало. Оно требовало того, чтобы его объяли. Пусть не сразу, пусть постепенно, но оно само хотело, чтобы Милюль либо сделала его – самой собой, либо сравнялась с ним по величине. «То, что вне меня – хочет, чтобы я сделала его – мной, я хочу того же. Иначе продолжится нескончаемый конфликт и мне всё время будет пакостно, нет, я просто умру!» – И Милюль набросилась на окружающую среду. Она ела её и росла, росла и ела. На пределе сил, на грани возможностей. И это было не блаженство, не скука, не праздность, а самозабвенное движение во все стороны сразу, бой за объединение себя и вселенной, это было движение навстречу бесконечному космосу, который весь должен был, в конце концов, стать самой Милюль!
Тут старый рак заметил сам, что уже не говорит спокойно, а орёт, надрывая связки. Он замолчал, озираясь налитыми кровью глазами. Слушатели вокруг шушукались. Более того, недовольное шушуканье всё явственней грозило заглушить оратора. Дабы прекратить неразборчивый, но громкий ропот, рак по военному рявкнул: «В чём дело?». Наступила тишина. Небольшой, но учёный рачок с актинией на спине неуверенно поднял малую клешню.
– Говорите – разрешил мэтр.
– Мы тут находимся в некотором недоумении – сообщил учёный рачок – вчера вы рассказывали о людях, а, судя по началу сегодняшней лекции, вы говорите о каком-то эмбрионе. У нас возникли разногласия. Одни предполагают, что Вы теперь рассказываете о более юных годах этой особи, другие утверждают, что Вы говорите о другом животном, но недоумевают, почему Вы называете его тем же именем…
– Иными словами – перебил учитель – я, по-вашему, выжил из ума?..
Все загалдели, размахивая клешнями. Некоторые даже пытались подпрыгнуть. Из общего хора выделился зелёный рак с бородой и, ловко крутанув большей клешнёй, изрёк:
– Вот те ноль, батюшка, мы этого и в голове не держали!
– Крабовер? – уточнил старик личность говорящего.
– Так точно! – ответил бородатый, и по военному козырнул.
– Ну, так за всех и не отвечай. Ты – первый должен посчитать меня тронутым.
Зелёный бородач смутился и отполз в сторону.
– Дайте мне звезду! – потребовал старый рак.
Большинство раков огорчённо покачивали головами. Они действительно заподозрили у старца повреждение рассудка. Только один, неприметный ранее доходяга – резво устремился в море и вытащил оттуда маленькую морскую звезду.
– Спасибо – поблагодарил его старый безумец – ты и есть мой избранный ученик, ибо в то время, когда все разуверились во мне, лишь ты увидел смысл в моих словах!
Доходяга благоговейно склонился. Потом высунул глаза из-под домика и спросил с сомнением:
– Какой смысл, учитель? Я никакого смысла не увидел. Ты просил звезду, я и принёс.
– Послушание не есть вера – проворчал старик и громко скомандовал – Эй, зелёный! Подь сюды! – Зелёный бородач подполз и уставился непонимающими гляделками – Звезду видишь? – Зелёный перевёл взгляд на морскую звезду и утвердительно кивнул. – Отвечай мне, не задумываясь: сколько в ней душ?
Зелёный испуганно заморгал, потом вновь крутанул клешнёй и возопил:
– Не говори ереси, старейшина, да простит тебя Омар! В этой скотине нет души! Она есть бездушное чрево с ногами. Только о пропитании забота её! Дух живой Омар вложил только в раков, создав нас по образу и подобию своему! – тут зелёный возвёл очи к небесам и заговорил всё громче и торжественней – отцы наши согрешили перед Омаром, за что он изгнал нас из глубин морских на кромку прибоя! Но прислал Великий Омар к нам Краба, сына своего, чтобы тот отдал свою жизнь за нас, и дал нам возможность искупления, силою веры в него! И умер Краб, сын Омаров лютой смертью и другие крабы ели плоть его, но не причастились! А мы, раки, причастились к телу его! Уверуйте в Краба, сына Омарова, тогда он заберёт души ваши во глубину океана, в царствие его! А не уверовавших – отринет от себя и бросит в раскалённые кастрюльки! Звезде же морской ни глубина, ни кастрюлька не грозит! Нет в ней души и потому безвинна она перед лицом Омара и сына его Краба!
Тут некоторые раки тоже стали крутить большими клешнями и восхвалять Краба. Иные же закричали:
– Нет Омара, кроме Омара, а пророк его – Креветка! – с этими словами они стали наскакивать на Крабоверов и бить их клешнями. Завязалась нешуточная драка, когда сквозь грохот сталкивающихся панцирей, раздался чей-то безумный с обеих точек зрения выкрик:
– Лангуст!
Битва мгновенно прекратилась. Все дерущиеся стали подозрительно оглядываться по сторонам. Наибольшие подозрения драчунов вызывали именно те, кто не участвовал в мордобитии, но смущали два обстоятельства: во-первых – таковых было большинство, а во-вторых – никто не успел заметить: кто именно кричал.
– Кто сказал это слово? – тихо, но отчётливо спросил зелёный крабовер.
– Я – ответил доходяга и придвинулся поближе к старому раку.
– Сейчас мы твою раковину наизнанку вывернем – пообещал один из последователей Креветки, и сплотившиеся в общем возмущении драчуны стали надвигаться на доходягу с разных сторон. Если бы не старый гигант, фантастическая угроза была бы воплощена в жизнь. Никто бы не заступился за доходягу. Хоть мирные раки и состояли в большинстве, но им, на самом деле, не то, что было всё по барабану, а верх брало любопытство: как это можно вывернуть наизнанку абсолютно твёрдую раковину.
Тяжкая участь ожидала доходягу, если бы не стоял рядом с ним гарант позитива и толерантности. Он молча растопырил клешни и все поняли: злых намерений он не имеет, но лучше с ним не обниматься. Драчуны остановились.
– Да будет мир среди всех раков, кто бы как ни думал! – объявил старик, давая официальное толкование своему жесту – Я никого не обижу сам, но и других обид не допущу. Признаюсь, в произошедшем есть и моя вина. Более того! Я виноват сильней других, потому что не совсем корректно сформулировал вопрос к коллеге – тут он небрежно махнул правым глазом в сторону зелёного рака. Зелёный смутился и заметно порозовел. Старый же перевёл на него взгляд обоих глаз и обратился напрямую – Так вот, коллега, давайте вернёмся к началу нашего обсуждения? – при повторном употреблении слова «коллега», тот окончательно зарделся, будто его сварили. От спёртости дыхания он ничего не отвечал, а только молча хлопал жвалами. Старый рак придвинул морскую звезду и, обращаясь в зал, скорректировал вопрос:
– Я не совсем верно употребил слово «Душа». Термин многогранный. Каждый имеет собственные, отличные от других представления о том, что под этим словом подразумевается. Давайте подойдём к вопросу с другой стороны. Уважаемый… – тут старый рак взглянул на «коллегу» и, убоясь его красноты, обратился иначе – зелёный друг, будете ли вы считать данную тварь механическим проявлением природы, подобной падающему камню, либо же согласитесь, что ею движет некоторая внутренняя сущность? Пускай сущность сия отлична от бессмертной души, живущей в каждом из нас, но всё же прошу Вас сконцентрироваться на решении вопроса: Это механизм, или в нём присутствует некая живая искра, вдохнутая в неё… тем же самым Великим Омаром?
Наступила тягостная тишина. Раки в ожидании смотрели на посиневшего от задумчивости красного, то есть зелёного рака. Зелёный искал ответ. Он надувал щёки, собираясь что-то сказать, но в последний момент передумывал, вращал глазами, морщил лоб, снова набирал воздух. Отринув череду неправильных формулировок, он изрёк:
– Ничто не живёт без воли Омара!
В зале раздались аплодисменты.
– Отличный ответ! – похвалил его старик – Но я спросил Вас не об этом. Друзья, кто-нибудь может ответить мне: есть в этой хреновине сущность, или нет? – тут он шлёпнул звездой об песок, и та свернула лучи. Выступил тот рак, что с актинией на спине:
– Очевидно, у неё есть рефлексы. Видите, она дёргается.
Старый рак стукнул свободной клешнёй по своему лбу:
– Ну, что за муки на мою пожилую голову? – простонал он.
– А Вы не бейте себя по голове – посоветовал доходяга.
– Кто-нибудь скажет мне то, что он сам думает? – закричал учитель, обращаясь к небу.
– Я думаю, она часть чего-то общего – предположил один из поклонников Креветки. Остальные раки молчали. Старый рак чуть не плакал с досады. Он уже отчаялся дождаться ответа на свой вопрос. Все либо отмалчивались, либо отвечали вскользь, прятались за расхожими формулировками, и всячески старались обогнуть тот единственный ответ, ради которого старик мучил несчастную морскую звезду. Он опустил её на мокрый песок и подтолкнул клешнёй:
– Ползи себе в море. Зря мы тебя потревожили.
Морская звезда распластала лучи, и, перебирая тысячами ножек, поползла к воде.
– Соображает, куда ползти! – раздался радостный голос проходящего мимо рачьего дурачка. Старый рак схватил этого лоботряса за ногу и, притянув к себе, заглянул в его, не обременённые размышлениями, глаза:
– Кто соображает?
– Вон, она – дурачок махнул клешней, вслед уползающей звезде – а чо?
Сэнсэй, не взирая на весомость домика, стремительно прыгнул, настиг звезду, ловким движением клешни отрезал один из лучей и выпустил на песок. Теперь к морю бежали почти рядом, но всё больше удаляясь друг от друга, неполная звезда и отдельный луч. Оба торопились, но каждый своим путём.
Привычная жизнь и мироощущение звезды были нарушены чем-то посторонним, находящимся далеко за пределами её понимания. Если бы морская звезда умела говорить, она сообщила бы ракам, как окружающий её мир неожиданно изменился, треснул напополам, но и такое выражение было бы не совсем точным. Окружающий пейзаж на миг потерял чёткость, а затем раздвоился и потёк в разные стороны. Звезда, ошарашенная нежданными переменами, на некоторое время решила отключить все рецепторы, чтобы не видеть двоящегося мира. Это помогло. Когда она открыла глаза, мир восстановился. «Теперь опять всё будет в порядке» – сказала сама себе звезда, хотя внутри продолжало оставаться саднящее чувство того, что за мгновения, проведённые в странном смятении, она потеряла некоторую часть самой себя. Невдомёк было морской звезде, как близки к истине её ощущения. Не могла она знать и того, где и как будет теперь жить отторгнутое от неё нечто, где и при каких обстоятельствах придётся ей встретиться с тем, что до сего момента являлось частью её, а теперь стало самостоятельным, маленьким, но стремительно растущим существом, снабжённым её же памятью, но уходящим в мир другими путями.
Старый рак обратился к дурачку:
– Теперь что скажешь?
– Бегут – ответил легкомысленный оболтус – чего ещё сказать?
– Оба?
– Ну.
– И оба соображают?
– А-то! Их же стало двое!
– А если я тебе ногу оторву?
– Не надо, дяденька! Я ничего плохого не делал! – завизжал дурачок, пытаясь высвободиться.
– А чего? – не унимался старый рак – побежите себе! Ты в одну сторону, нога – в другую!
– Отпусти отрока! – вступился зелёный – Останется без ноги до следующей линьки!
– И не беда – упорствуя в садистическом легкомыслии, заявил старый – был один рак, станет – два! Из него – нога отрастёт, а из ноги – новый отрок всем нам на радость!
– Из ноги ничего не вырастет! – попытался вразумить сумасброда зелёный.
– От чего же?
– Да от того, старый пень, что станет она – мёртвой! – вклинился в спор последователь Креветки.
– Да? – деланно удивился старый рак – а разве она не часть чего-то целого?
– Часть! Часть! – закричали некоторые раки.
– Ну и славно! – обрадовался садист и, оттяпав от ноги невинного юноши аж два членика, сообщил – Готово!
Невинный дурачок пустился бежать со всех оставшихся ног. Он не столь сожалел о приобретённом уродстве, сколь радовался утерянному пленению.
– Живодё-о-о-ор! – пронеслось над всей честной компанией.
– Что не так? – оборотился живодёр к окружающим – Вот, вполне живая нога. Во-первых, это – несомненно, часть того целого, которое убегает вон туда, – он махнул в ту сторону, где скрылся юный калека – во-вторых, она по идее может продолжить свою жизнь, если на то будет воля Омара, и в-третьих, посмотрите: у неё явно есть рефлексы! – он прищемил торчащий из ноги нерв и нога дёрнулась, растопырив маленькую клешню. Учёный рак, тот, что с актинией на спине, поморщился и заявил:
– Действительно, с возрастом некоторые выживают из ума. Пойдёмте, господа, пока он всем ноги не оторвал.
– Погоди, учёный! – старый рак – обратился к носителю актинии – тебе я точно сейчас поотрываю ноги, чтобы они не мешали тебе ответить на вопрос: почему эта нога менее живая, чем отдельный луч морской звезды?
Учёный смекнул, что бегать от сумасшедшего садиста гораздо опаснее, чем продолжать дискуссию и выдвинул сразу все имевшиеся аргументы:
– Это мёртвая нога! Из неё ничего не вырастет! В ней души нет!
– В морской звезде тоже нет души, но она не мёртвая, тем не менее – возразил старый издеватель.
– Значит, там есть нечто другое!
– Какое?
– Такое, которое я не в силах ни ощутить, ни осознать!
– Ф-фух – облегчённо вздохнул старый рак, и устало осел на песок. Потом обратился к окружающим – вы согласны с этим учёным? – раки радостно закивали. Старый отбросил ненужную конечность и возликовал – слава Омару! Вы согласились! Значит, есть нечто, которое невозможно ни ощутить, ни осознать, но оно есть как в морской звезде, так и в каждом из нас. Пока это нечто присутствует, мы движемся, говорим, размышляем, но стоит ему уйти, мы становимся подобными вон той мёртвой ноге. Оно же продолжает свой путь, так и оставшись непостигнутым, неувиденным, неощутимым. Дабы не оскорбить убеждения некоторых товарищей, я буду называть это упомянутое нечто сущностью… можно?
Поскольку почтенный лектор перестал гневаться и угрожать отрыванием ног, раки облегчённо выразили одобрение. Лектор продолжил:
– Сталкиваясь с каждым существом, мы видим: оно движимо некоей сущностью, живущей в нём. Отдели эту непостижимую сущность, и нет существа. В любом из нас живёт эта сущность. Но, кроме того, каждый из нас является личностью! – все опять закивали – Допустим, морская звезда не является личностью, но всё равно – некая сущность в ней есть. Нам непонятно, как может наша, собственная личность разделиться и начать одновременно жить в двух разных существах. Оторванная нога останется не только без личности, но и без сущности! Она – умрёт. Тем не менее, вы не будете возражать, если я скажу, что личность является сущностью сама по себе? – никто не возражал – Так вот знайте: в морской звезде живёт не одна, а одновременно множество сущностей. Впрочем, как и в каждом из нас.
Тут снова поднялся гвалт в публике. Раки активно протестовали. Наконец выступил учёный:
– Учитель, во-первых, я не чувствую в себе иных сущностей, кроме одной, во-вторых, если бы во мне их было несколько, то я легко бы мог разбрасывать ноги и размножаться почкованием!
– Это объясняется просто – отмахнулся учитель – сущности, живущие в нас, выстраиваются в иерархию, в то время как в морской звезде царит полнейшая демократия. Мы более высоко организованы!
Казалось бы, похвала должна была показаться сомнительной в обществе раков-отшельников, демократичнее которого трудно вообразить, но – нет. Услыхав слово о своём структурном превосходстве над ничтожной морской звездой, слушатели возгордились и наполнились приятными ощущениями собственных достоинств. Как бы ни похвалили, а всё приятно! Так уж устроен среднестатистический рак: с очевидным не смирится, а похвалишь его, так он и рад любой глупости. Особенно, если его предварительно напугать. Вот уже и не возражает никто утверждениям о своей же, отдельно взятой персоне. Вот уж и готовы согласиться с тем, что каждый из них – не отдельно взятый персонаж, но целая компания. Пусть будет компания, лишь бы не убогая, не какая-нибудь убогая и невзрачная, но хорошая, «высоко организованная». Очень утешительно. При таком раскладе можно согласиться и с тем, что в одном человеке вполне может жить несколько сущностей одновременно, как в той морской звезде. Кто их разберёт? Может быть, они и размножаются почкованием?
– Ну вот – подвёл итог дискуссии учитель – я и рассказываю вам, как в одном человеке, в данном случае в особи по имени Милюль – зародилась и стала развиваться несколько иная сущность, чем была до того. Только и всего.
* * *
Милюль двигалась, поглощая окружающий мир. Порою она сомневалась, есть ли в её движении какой-то смысл? Вселенная продолжала оставаться бесконечной и непостижимой, но азарт действия был сильнее склонности к размышлению. Милюль ощущала постоянный рост и радовалась. Так могло продолжаться вечно, и продолжалось бы, но наступил неожиданный момент и, казавшийся бездонным космос, неожиданно закончился. Милюль упёрлась в оболочку.
От неожиданности в сознании Милюль перевернулись все смыслы. Все её сомнения и радости, желания и воля к движению, мгновенно сплющились, потеряли живость и отлетели мёртвой шелухой. Что было перед тем? Какие-то неясные тени, более ничего. Путаница бессмыслиц. Точно, был хаос и напряжённое движение не то – сквозь, не то через… толком не вспомнить. Да это и не важно. Гораздо важнее сосредоточиться на том, новом, появившемся здесь, сейчас, явственно и чётко. Это – препона. Прозрачная плёнка, сквозь которую виднелось движение множества размытых объектов. Милюль припала глазами к препоне и стала разглядывать движение за пределами её дома. Да, именно! Здесь был дом, а там, куда предстояло выйти, ползало непонятно чего.
«Может, и не выходить вовсе?.. Точно! Можно не выходить! – Милюль устроилась поудобнее, так и сяк повертела спиной – Тут спокойно и вполне терпимо. Надо только почаще менять позу, а то – тесновато и без движения затекают мышцы. Но это – пустяки. Главное, можно вечно сидеть и смотреть наружу. Вечно – это хорошо».
Она опять пошевелилась и тут же спросила себя: «Чего это я дёргаюсь? – И сама же ответила – Хочу и дёргаюсь. Почему бы мне не дёргаться? Разве я не вольна в своих поступках? Кто мне запретит? Я всегда была и останусь абсолютно свободной! Я – независима. Чего захочу, то и будет. А я хочу шевелиться. Да, я очень хочу шевелиться и есть, а тут тесно и голодно. Шаром покати! Всё из-за этой проклятой препоны!»
Она гневно стукнула лбом по препоне. Препона дёрнулась, затряслась как пузырь, и вибрация отдалась по всему телу Милюль: «А! Трястись!?» – гневно возопила девочка и вцепилась в мягкую, полупрозрачную плёнку препоны ртом. Плёнка поддавалась, но не прокусывалась. Милюль отчаянно дёргалась всем телом, боролась с ней, грызла её, но всё тщетно.
Наконец она устала и собралась в компактный комок: «Надо отдохнуть. Я – неумеха. Я – ничтожество. Я не могу справиться с такой мелочью, с прозрачным пузырём!» Она сидела неподвижно внутри своей тюрьмы, когда кругом что-то происходило, что-то менялось. Она томилась от осознания бездарной потери драгоценного времени, и не на что было уповать.
«Это – тюрьма. Тюрьма!» – твердила Милюль, а мимо проплывали тени, в которых смутно угадывались такие же существа, как и она. Во всяком случае, внешне они были похожи.
«Они подобны мне, но они не я – подумалось ей – они не могут быть мной, потому что чувствую-то я только себя. Вот она, самая главная несправедливость: я сижу тут, а они там свободно перемещаются куда захотят, и, ведь, едят же, едят, когда я голодаю!»
Милюль открыла пасть и закричала: «Сволочи! Паскуды! Помогите, гады!», но никто не помогал ей. Неожиданно снаружи раздалась очень тревожная вибрация. Милюль стало страшно, и она замерла, забыв о случившемся душевном порыве. Большое и тёмное надвигалось из глубин неизвестности. Все те мелкие, что суетились и двигались – пропали, а Это – всё надвигалось и надвигалось, загораживая собой полмира.
«Докричалась – констатировала пленница своей препоны – это конец» – а дальше с ней произошло нечто неожиданное. Будто бомба взорвалась в животе, уничтожив и былое отчаяние, и мысли, и саму память. Не помня себя, Милюль мгновенно развернулась в своём пузыре и резко выпрямилась, превратившись на миг в гвоздь, в вектор, в дрожащую прямую, пронзающую вселенную насквозь. Препона лопнула и Милюль – стрелой полетела сквозь зеленоватый, холодный мир.
«А-а-а-а-а-а!» – орала она, несясь по прямой и, удивительным образом видя со стороны, как огромные зубы чудовища сомкнулись сзади, поглотив пустую оболочку её былого заточения.
* * *
Рассветное солнце ударило в глаза, стирая ужасное наваждение, которое оказалось всего лишь сном. Сном долгим и муторным. Сном, вобравшим в себя и ужас и радость и разочарования и чёрт знает чего ещё. Что бы там ни снилось Милюль, всё оказалось в прошлом. Более того, в несуществующем прошлом, в том, которого и не было вовсе и не о чем вспоминать. Милюль прикрыла глаза рукой и отвернувшись к стене, упёрлась в неё коленками.
– Стоп. Какая ещё стена? – подумала она – кровать под зелёным балдахином стояла посреди спальни, а не у стены. Милюль потянулась не открывая век, перекатилась на другой бок и упала с койки на пол.
– Ничего себе! – вырвалось у неё. Милюль села. Сверху свесилось озабоченное и очень родное женское лицо в обрамлении распущенных волос.
– Ой, упала! – без всяких волнений констатировала женщина.
Милюль вглядывалась в это лицо, пока оно не скрылось там, наверху. Но и потом она продолжала размышлять: кто это там был? С одной стороны, там могла быть только нянечка. И все черты той незнакомки были как у нянечки. Тот же луноликий контур лица, тот же маленький, мягко вылепленный носик, те же серые, чуточку раскосые глаза. С другой стороны, было в том лице нечто иное, новое, не вчерашнее. Наконец Милюль решила прекратить думать глупости. Нянечка – она и есть нянечка и некому там кроме неё быть. Милюль позвала:
– Нянечка, зачем ты забралась на балдахин?
– Что? Как ты меня назвала? – лицо женщины вновь показалось наверху. Вглядясь в него сызнова, Милюль с неожиданным испугом сообразила: это не нянечка! Это чужая, хоть и неведомым образом родная тётя!
– Вы кто? – спросила Милюль, больше всего желая, чтобы тётя всё же назвала себя нянечкой, а никак иначе. Но тётя вообще никак себя называть не стала, а, состроив озабоченную физиономию, поинтересовалась:
– Ты чего это, Веруся, сильно головушкой тюкнулась?
– Не сильно – ответила Милюль – только я не Веруся.
– Кто же ты, если не секрет? Вождь краснокожих?
– Я Милюль – сообщила Милюль, удивляясь тому, как можно этого не знать. Женщина сверху неожиданно рассмеялась и возразила:
– Нет, Веруся, Милюль это я. А вот ты, видимо, всё-таки основательно ушиблась, когда с полки сверзилась. Ну, ничего. До свадьбы заживёт… кстати, с днём рождения.
Последние слова показались Милюль совсем нелепыми. День рождения-то был вчера, а не нынче! Она оглядела спальню, торопливо скользя взглядом по предметам. Не было в каюте ничего такого, за что можно было бы зацепиться как за напоминание про бесследно ускользнувший день. Другая каюта. Совсем не та спальная комната. Пытаясь вернуть хоть кусочек прежнего порядка, Милюль поправила женщину:
– День рождения у меня был вчера, в субботу.
– Да нет же – возразила та, слезая по приставленной к двухэтажным кроватям лестнице – не бывает у людей двух дней рождения подряд. Уж поверь мне. Если сегодня двадцать третье июня седьмого года, воскресенье, то вчера, в субботу, никаких дней рождений я не замечала. Вставай, фантазёрка. Хватит сидеть на полу.
Но Милюль заупрямилась и предприняла ещё одну попытку прояснить ситуацию:
– Мы вчера сели на лайнер «Святой Виталий». Верно?
– Ничего себе, лайнер! – воскликнула женщина – Да на этом корыте по морю страшно плавать! Полторы палубы! И никакой не святой, а просто «Виталий Ширшов». Самый обычный пароходик.
– Мы в семнадцатом нумере. Верно? – не унималась Милюль.
– Верно – согласилась женщина, ведя её под руку к двери.
– Напротив нас восемнадцатый. Там живут Пантелеймон Ильич и его младший сын Сергей. Кадет. Без пяти минут юнга…
Женщина приостановилась, задумчиво хмыкнула, и, подумав немного, понесла такую несусветную чушь, разобраться в которой Милюль не смогла бы никогда:
– Удивительно! Просто удивительно, какие невероятные совпадения! Ты гениальный ребёнок, Веруся! Я бы сама никогда не подумала, что история может до такой смешной степени повторяться! Но с чего ты могла это взять? Тебе это положительно не может быть известно! Тебя же не было на земле в девяносто втором году! Совсем не было… – она почесала нос, и неожиданно заключила – Впрочем, зная Сергея Пантелеймоновича, ты вполне могла догадаться, что его отца звали Пантелеймоном.
Пока женщина говорила всё это, они перешли из одного отделения каюты в другое, являющееся сильно уменьшенным, жалким подобием вчерашней залы. Обтянутый кожей диван стоял у стены. Перед диваном был маленький столик, никак не пригодный ни для ужина, ни даже для завтрака. На ковре в углу громоздились чемоданы и коробки. Штора едва доставала до узенького подоконника и никак не напоминала вчерашние гардины до полу.
Женщина подошла к единственному в каюте высокому зеркалу и завертелась перед ним, продолжая городить один вздор за другим:
– Да, я теперь припоминаю – говорила она, расчёсывая длинные каштановые волосы – Пантелеймон Ильич был такой огромный! Словно межконтинентальный лайнер! Но и Сергей, как видно, весь пошёл в отца. Кажется, он и теперь, как пятнадцать лет назад, не обращает на меня внимания. Или это он так смущён? А вдруг он тоже помнит, как мы встречались в прошлом веке? Надо будет обязательно спросить. Очень статный кавалер и весьма обходительный. Это так романтично, Веруся. Спасибо, что напомнила – тут женщина сделала задумчивое лицо, и заговорила ещё непонятнее, чем прежде – Интересно, у него есть жена? Впрочем, у такого мужчины как Сергей Пантелеймонович, наверняка много женщин, даже если он и женат. У меня, конечно, нет никаких шансов. Хотя, с другой стороны, я достаточно привлекательна. Если бы ноги были чуть подлиннее, да вот здесь, на талии чуть-чуть… но, зато у меня большие ресницы, и глаза есть. Да, я не лишена женского обаяния…
– Нянечка вы мне, или чужая тётя – оборвала Милюль поток нелепых откровений – но я ребёнок, а вы несёте при мне такую чушь… я даже не знаю, что теперь делать.
Женщина легкомысленно улыбнулась, и возразила:
– В общем-то, конечно, ребёнок. Но, во-первых, я тебе никакая не чужая, а самая родная тётка. Во-вторых, ты уже взрослый ребёнок. Пора понимать, что жизнь полосата и волосата.
– Что? – опять не поняла Милюль.
– А, ладно! – протянула, потягиваясь, родная тётка, и ни с того, ни с сего спросила – Чего это ты, Милюль, на пол сверзилась?
Неожиданные повороты движения тёткиной мысли, как и сам факт превращения нянечки в эту самую родную тётку, встали бы непреодолимым препятствием для здравомыслия взрослого человека, но детская психика гибче. Пока человек маленький, он задаёт вопросы и продолжает приноравливаться к условиям игры, как бы они ни менялись. Детёныш не успел отгородиться от изменчивой реальности заклинанием: «Так не бывает». Вот и Милюль не прекратила попыток найти возможные причины произошедших метаморфоз. Она спросила:
– Я что, выросла?
– Да нет, конечно, тебе ещё расти, и расти – ответила тётка и добавила – у тебя вся жизнь впереди. Ещё меня обгонишь.
Тётка явно не понимала суть вопроса и Милюль уточнила:
– Если вы не моя нянечка, хотя и очень на неё походите, то подскажите мне, как я теперь должна к вам обращаться?
Тётка легкомысленно рассмеялась и заявила:
– Обращайся как всегда. Из-за того, что тебе нынче исполнилось шесть лет, ровным счётом ничего не меняется.
– Как же не меняется? – возмутилась Милюль – вчера мы сели на корабль, мне исполнилось шесть лет. Была суббота. Сегодня воскресенье, мы плывём на каком-то другом корабле. Вы уже не нянечка мне, а тётя. У меня день рождения второй раз подряд, чего, как вы говорите, не бывает. И даже как вас называть вы не говорите. Вы только смеётесь!
Тётка посерьёзнела. Села на край кожаного дивана и ответила:
– Ты, мать моя, видно, упамши, сильно башку себе повредила, коли спозаранку несёшь околесицу. Или у тебя память отшибло? Я это! Я! Как ты можешь меня не признавать? И на корабль мы сели не вчера, а уже два дня тому назад.
– Бог с ним, с кораблём! – воскликнула Милюль – Если у меня стёрлись из памяти последние дни, то, значит, так тому и быть. Вы мне напомните, как именно я вас раньше называла?
– Просто и называла – пожала плечами тётка.
– Как просто? – продолжила настаивать Милюль.
– Тётей. Иногда тётей Юлией. Иногда просто Юлей.
– Хорошо – подытожила Милюль – теперь я знаю, как к вам обращаться. Но и вы, в честь моего дня рождения, пожалуйста, называйте меня Милюль.
– Ну и слава богу – обрадовалась тётя Юлия, истолковав слова Милюль на свой лад – какая разница, кого как зовут? Главное, чтобы мы жили в мире и дружбе. А то, как ты об пол грянулась, так, будто, в фантазию какую понеслась. И кровать у тебя с балдахином и я – неизвестно кто. А теперь, Милюль, живо иди умываться. Умоешься, и пойдём завтракать.
– Разве нам не подают завтрак в нумер?..
– Опять двадцать пять! Ты прекратишь фантазировать, или нет? Завтрак в нумер! Может, тебе ещё лакея у двери поставить?
– Вчера был…
Тётка всплеснула руками: – А у меня вчера корона была золотая!
– Короны не было.
– Ну вот! Ей, стало быть, всё, а мне – ничего!
– Говорю тебе, тётя Юля, нам вчера ужин в нумер подавали. Ты ещё удивлялась тому, как я много ем.
Тётка прикоснулась ко лбу девочки, хмыкнула, после чего, взяв её аккуратно под руку, повела в уборную:
– Идём, я тебе умыться помогу. Вдруг, тебе в уборной архангелы привидятся? Такая ты вся неожиданная! – они вошли в маленькое помещение с раковиной, ватерклозетом и душевой кабинкой, где тётка добавила – Отправляйся-ка, лучше, в душ. Ты сегодня сама не своя. Сейчас позавтракаем и пойдём к доктору. Должен же быть на корабле доктор! Давай-ка я тебе помогу, а то, боюсь, ты и мочалку держать разучилась.
– Я и не умела – ответила Милюль.
– Конечно, конечно – согласилась тётка Юлия – но не беда, снова научишься. И она взялась учить Милюль пользоваться мочалкой, приговаривая, мол, эти элементарные вещи все шестилетние девочки должны уметь делать сами.* * *
Выйдя из каюты, Милюль с Юлией оказались в тесном коридоре, освещённом круглыми зарешеченными лампами. Узкая ковровая дорожка лежала на железном полу. Милюль огляделась. Никаких стюардов нигде не было, да они бы и мешались в столь узком пространстве. Тётка подошла к дверце с номером 18 и, постучав, громко сказала:
– Сергей Пантелеймонович, мы на завтрак отправляемся.
Восемнадцатая дверь осталась неподвижной, но открылась дверь с цифрой 16. Из неё как чёрт из табакерки выскочила вчерашняя злая дама и громко обратилась к Юлии:
– Чего вы орёте ни свет, ни заря? Неужели не понимаете, что многие господа ещё спать изволят?
– Пардон, мадам – извинилась тётя.
– Какой ещё пардон? – возмутилась злобная дама – ведите себя прилично! – и, резко повернувшись, направилась к выходу.
Тётка Юлия неожиданно надула щёки, высунула язык и таким манером издала неприличный звук. Злая дама остановилась и обернулась, явно собираясь что-то сказать, когда тётя Юля повела себя ещё более неожиданно. Она обернулась к Милюль и заявила:
– Милюль! Я же говорила, что тебе надо ко врачу. У тебя метеоризмы.
Милюль покраснела, а злая дама по лошадиному фыркнула, повернулась и вышла.
– Так нечестно, тётя Юлия – упрекнула тётку Милюль.
– Зато эффективно – парировала нечестная женщина.
* * *
Когда они оказались на палубе, Милюль даже пискнула от восторга. Во все стороны, доколь хватало взгляда, простиралось бескрайнее море. Стоял штиль и пароход двигался сквозь утреннюю дымку. На горизонте море сливалось с небом так, что и не было никакого горизонта. Казалось, кораблик находится внутри гигантского голубого яйца. На палубе под большим белым тентом стояли столики, накрытые белыми скатертями. За некоторыми сидели господа и дамы. Стюарды с серебряными подносами обслуживали завтрак.
«Ага, стало быть, стюарды никуда не пропали – подумала Милюль – и то славно».
Дамы присели. Тут же рядом оказался один из стюардов и, выложив перед ними две одинаковые книжечки, исчез. Тётка Юлия пододвинула Милюль одну, сама открыла другую и углубилась в чтение. Милюль, не притрагиваясь к пододвинутой книжечке, уставилась на тётку. Та заметила её взгляд и спросила:
– Ты чего?
– Что? – не поняла вопроса Милюль.
– Я тебя спрашиваю, почему ты меню не читаешь? – пояснила Юлия.
– Разве я умею читать? – удивилась Милюль.
– В таком возрасте читать не умеют только цыгане – раздался сбоку резкий голос.
Милюль обернулась. Дама в сиреневой шляпе сидела за соседним столиком.
– Она шутит – сказала Юлия, будто оправдываясь перед стервозной дамой.
– Плоская шутка – отозвалась дама и углубилась в изучение меню.
– Ваш кавалер ещё не проснулся? – спросила Милюль, вспомнив вчерашнего незаметного господина.
– Какой ещё кавалер? – дёрнула дама плечом – я самостоятельная прогрессивная женщина. Эмансипация дала нам возможность путешествовать вовсе без кавалеров, так что не городите ерунду, барышня.
Милюль перегнулась через стол и зашептала тётке:
– Вчера она была с этаким незаметным господином, а сегодня говорит, будто его нет. Наверное, она его зарезала.
Тётка Юлия рассеянно ответила:
– Если он вчера был незаметным, то теперь, наверное, стал ещё незаметнее. Не вижу никакой интриги. Лучше соберись и сообрази, что ты будешь заказывать.
Милюль открыла меню, прочла вслух заглавие страницы: «Холодные закуски» – и скроила удивлённую физиономию. Оказывается, она умела читать!
* * *
– Доброе утро, прекрасные дамы. Разрешите присесть за ваш столик – раздался голос свыше. Милюль подняла глаза и увидела Пантелеймона Ильича. Точнее, не совсем его, но необычайно похожего на Пантелеймона Ильича господина. Скорей всего, он и был тем самым Сергеем Пантелеймоновичем, о котором тётка щебетала утром. Сейчас он стоял, положив руку на плечо рыжего мальчугана, одетого в подобие военной формы.
– Доброе утро – ответила тётка Юлия и улыбнулась – а я будила вас.
– Я слыхал – согласился Сергей Пантелеймонович и, вынув изо рта сигару, обратился к полувоенному мальчишке – Алексей, поздоровайся с дамами.
– С добрым утром! – пискнул тот и, зачем-то приложил руку к козырьку игрушечной фуражки. Сей нелепый жест заставил Милюль хихикнуть.
– Присаживайтесь, Сергей Пантелеймонович – пригласила тётка – и вы, Алёша, садитесь вот сюда. Не сердитесь на Верочку. Она сегодня с утра, будто не в себе. Такую затеяла комедию… настроение знаете ли… – и, обратясь к Милюль, добавила строго – Милюль! Ты почему не здороваешься, а хихикаешь, как деревенщина? Что за дикость такая?
– С добрым утром – поздоровалась Милюль. Извините меня, Пантелеймон Ильич… то есть, Сергей Пантелеймонович. Мне сегодня с утра кажется, будто всё вокруг переменилось. Да и не только вокруг.
– Не мудрено – согласился Сергей Пантелеймонович, присаживаясь к столу бочком, так, чтобы дым от сигары не шёл в сторону дам – мы путешествуем. Каждый день мы оказываемся в новом месте. Страны и континенты проплывают за бортом. Всё изменяется вокруг. Изменяемся и мы.
– Какая пошлость! – раздалось из-за соседнего столика.
Сергей Пантелеймонович обернулся на злобную даму в сиреневой шляпе, не отрывавшую взгляда от меню и открыл, было, рот, чтобы что-то ответить, но его перебил вновь появившийся у столика стюард:
– Чего изволите? – спросил он, выложив на стол две новые книжечки.
– Мы ещё не определились – ответила тётка Юлия.
– Мне, пожалуйста, кофе со сливками и гренки с повидлом из крыжовника – заказала дама из-за соседнего столика.
– Один момент! – отозвался стюард, подскочил к ней, подхватил меню и удалился. Сергей Пантелеймонович пожевал ртом и снова заговорил с той, соседней дамой:
– Вот вы сказали давеча: «Пошлость», а то была не пошлость, но прописная истина.
– Я и говорю: пошло сорить прописными истинами – огрызнулась дама – это от безделья. Ещё пошло курить дорогие сигары и заговаривать с дамами от нечего делать. Пошло, когда господа плавают на корабле в белых костюмах, наряженные как бы в капитанов. Ещё пошло козырять всем подряд. Пошлости громоздятся одна на другую. Вы не находите?
– Может быть, правда ваша – сокрушённо вздохнул Сергей Пантелеймонович и открыл свою книжицу. Алексей сграбастал вторую книжку меню и также углубился в её изучение. Зловредная дама не унималась:
– Пошло сидеть, упулившись в меню, когда и так ясно, что человек всегда ест на завтрак. Зачем делать вид, будто ты чего-то выбираешь, когда выбор был сделан много лет назад, а теперь надо лишь сказать самому себе: «Как всегда»! И море это пошлого голубого цвета и небо…
– Помилуйте! – воскликнул Сергей Пантелеймонович – какого же цвета они должны быть? Может, сиреневого?
– Да хоть бы и так! – воскликнула дама надрывно – не пошло лишь то, что оригинально.
– Вот оно как. Любопытно, любопытно… – пробормотал Сергей Пантелеймонович – но я, знаете ли, не привык размышлять о столь высоких категориях. Думается, Алексею недурно было бы начать день с овсянки и компота, мне не повредит яичница с ветчиной, большая кружка чёрного кофе и пятьдесят грамм коньяку для пищеварения. Вот и вся моя философия. Вы выбрали что-нибудь? – обратился он уже к Юлии. Тётка не успела ответить, потому, как та назойливая дама взвизгнула:
– Коньяк поутру – тоже пошло!
– Да я вас уже и не спрашиваю – улыбнулся Сергей Пантелеймонович – что вы всё мучаетесь?
Дама фыркнула, как фырчала в коридоре, и отвернулась.
– Я не хочу овсянку – закапризничал Алексей – я манную кашу люблю.
– Уж и не знаю – призналась Юлия, глядя на Сергея Пантелеймоновича – вы вольны заказывать всё, что вам будет угодно. Я же кофей вовсе не пью. От него цвет лица портится. Я чай предпочитаю кушать.
– У вас прекрасный цвет лица – отозвался Сергей Пантелеймонович, а соседняя дама издала зубовный скрежет. Он тут же обернулся к ней и добавил: – А у вас – нет.
– Извольте ваш заказ – раздался тенор стюарда, и перед мучающейся дамой возникла миска с гренками и дымящаяся кружка с кофеем.
– Милейший, будь добрым – обратился Сергей Пантелеймонович к стюарду – сделай-ка мне яичницу с ветчиной, двойной чёрный кофе по-турецки и пятьдесят… нет, сто граммов армянского коньяку, а также моему племяннику манной каши, блинов с яблочным вареньем и компоту.
– Будет сделано – кивнул стюард и повернулся к тётке Юлии – а вам как?
– Куриный бульон, пирог с мясом и чай с лимоном. Милюль, ты определилась?
Милюль определилась. Водя пальчиком по строчкам меню, она заказала:
– Три салата греческих… нет, лучше пять. Миноги в оливковом масле… пять. Пять же пирогов с капустой. Десять перепелиных яиц с рокфором и ещё компот, как вон, ему – она ткнула пальцем в сторону Алёши – только побольше. Стаканов шесть.
Тётка, Сергей Пантелеймонович и Алёша – устремили на не взгляды.
– Не много ли ты ешь, милая? – спросила тётка.
– Боюсь, мне и этого не хватит – ответила Милюль – я же всегда много ем.
– Очевидно, девочка растёт – заметил Сергей Пантелеймонович.
– Да вовсе она и никогда много и не ела! – возмутилась тётка – Сегодня у ней одна блажь за другой!
– Ещё вчера вечером ты удивлялась, как я не лопаюсь – возразила девочка – ещё ругалась, что нельзя рыгать.
– Одна беда с тобой! – всплеснула руками Юлия – упаси Бог, опять начнётся! – и, будто оправдываясь перед Сергеем Пантелеймоновичем, добавила – сегодня у Веры не только аппетит, но и фантазия разыгралась. Она даже возомнила, будто вчера нам ужин в нумер подали, а у неё была кровать с балдахином. Я уж хотела доктора искать. Более того, она потребовала, чтобы я называла её так же, как меня называли в детстве. И, знаете, что я при этом вспомнила?
– Что же? – поинтересовался Сергей Пантелеймонович.
– Ну, это сейчас скучно будет. Это я потом расскажу – потупила тётка Юлия взор – Вы теперь на Веру поглядите. Она даже забыла, как меня зовут.
Сергей Пантелеймонович вновь с интересом взглянул на девочку и сказал по-доброму, но неожиданно панибратски:
– Фантазируешь, дитя? Ну что ж, в твоём возрасте это не грех. Даже весёлая игра. Только вот не знаю, как ты с таким количеством пищи справишься.
– Я справлюсь, не сомневайтесь – успокоила его Милюль – а изменений действительно много. Например, вчера мне казалось… да нет же, не казалось, а действительно, я помню, как нас поселили в огромном номере, а сегодня я проснулась в тесной каюте. Вчера вас звали Пантелеймоном Ильичём, а сегодня Сергеем Пантелеймоновичем. Вчера мы плыли на океанском лайнере, а теперь это довольно маленький пароходик. Даже нет нижней палубы для простых людей. Вообще, мир словно подменили. И меня подменили.
Милюль замолчала и над столом повисла пауза.
– Очень любопытная фантазия – заключил Сергей Пантелеймонович.
– Это не фантазия! – Милюль надула губы.
– Ну, хорошо, хорошо – сдался Сергей Пантелеймонович – не плачь, милый ребёнок! Я даже могу согласиться с тобой, что это не фантазия. Такое действительно может быть на самом деле…
– Это как? – спросили хором Алексей, Юлия и Милюль.
– Ну… – Сергей Пантелеймонович неопределённо взмахнул рукой с сигарою – сам то я, конечно, не заметил этих всех перемен. На мой взгляд, что было вчера, то и сегодня. Однако, можно допустить косное происхождение моей точки зрения. Я успел пожить на земле, и укорениться в своей реальности, в своём постоянном мире. Не мир такой, а сам я стал устоявшимся, старым даже, в некотором роде. Я не развиваюсь.
– Не так уж вы и стары. Как раз в самом расцвете сил. Как раз! – возразила Юлия.
– Спасибо – поблагодарил Сергей Пантелеймонович – вы тоже кажетесь мне «как раз».
Юлия зарделась, а Сергей Пантелеймонович продолжил:
– Тем не менее, дети растут, в то время как мы – уже нет. Их внутренний мир обязан динамично меняться…
– Просто барышня оригинальничает – вякнула из-за своего столика навязчивая дама – и это тоже довольно пошло!
Сергей Пантелеймонович повернулся и, будто случайно, выпустил в её сторону мощную струю сигарного дыма, говоря при том:
– Вы давеча декларировали не пошлым только оригинальное. Теперь же противоречите сами себе.
– Не дымите в меня! – возмутилась дама.
– Я в вас не дымлю. Я дымлю на вас. Существенная разница, но, всё равно, прошу покорно извинить – тут он снова оборотился к Милюль – Я бы махнул рукой на твои слова, если бы не одно обстоятельство…
– Вы тоже заметили перемены? – с надеждой спросила Милюль.
– Пока ещё нет…
– Ваши заказы, господа и дамы – сообщил стюард и стал выставлять на стол содержимое огромного подноса.
– Спасибо, милейший – поблагодарил Сергей Пантелеймонович и увлечённо занялся яичницей, из-за чего разговор на время прервался. Милюль набросилась на салаты и миноги, стремительно их поглотила, и уже взялась за пироги, когда Сергей Пантелеймонович оторвался от еды и продолжил разъяснения:
– Так вот, никаких перемен до сего момента я не заметил. Теперь же вижу: вы, душа моя, жрёте словно крокодил, и это нельзя считать нормой.
– Я всегда много ем – Милюль даже не обиделась на слово «жрёте», так была увлечена едой.
– Отнюдь нет! Вчера за ужином ты ела как и все мы – сообщил Сергей Пантелеймонович.
– Да ну? – Милюль приостановила уничтожение пирогов – мы не вместе ужинали. Откуда вам знать?
– Снова здорово! – воскликнула тётка Юлия – Господи, что за мука на мою башку?
– Ну, хорошо, пусть будет по-твоему – Сергей Пантелеймонович кивнул – пусть то, что помним мы все, не совпадает с тем, что помнишь ты. Это можно было бы принять за фантазию, но я, кажется, могу согласиться и с противоположной точкой зрения. Однажды, давным-давно, за такую же фантазию были приняты мои собственные наблюдения. Да-с, дорогие мои, в моей жизни тоже был такой случай, о котором даже я сам, до сего дня привык думать, как о недоразумении или игре ума. Но сейчас, глядя на эту юную особу, я всё более склоняюсь переменить давно сложившееся мнение.
– С вами такое случалось? Значит, вы знаете, как всё объяснить – заключила Милюль и вновь занялась пирогом.
– Никаких объяснений я не предложу. Может быть, я выражу гипотезу, хоть я и не учёный вовсе, а простой коммерсант. Но, поскольку всё равно никто ничего путного не скажет, извольте выслушать – тут Сергей Пантелеймонович затушил сигару, подцепил вилкой оставшийся кусок яичницы и, засунув его в бородатую пасть, стал сосредоточенно жевать. Прожевав же и проглотив, Сергей Пантелеймонович откинулся на спинку стула, смачно хлебнул кофе, пригубил коньяку и продолжил прерванный актом чревоугодия монолог:
– В детстве я жил у батюшки с матушкой. Батюшка владел небольшим механическим заводом. Вокруг завода он выстроил рабочий городок, а на самом заводе установил паровой гудок. Каждое утро в восемь часов гудок будил весь наш квартал, и множество людей отправлялись на работу. Н-да-с.
Так вот, сразу за заводским забором стояла огромная, как мне тогда казалось, водонапорная башня красного кирпича. Мы с матушкой иногда провожали батюшку до завода, поскольку он имел обыкновение ходить туда пешком, вместе с рабочими. Каждый раз по дороге я с любопытством разглядывал эту самую водонапорную башню. В детстве она казалась мне очень, знаете ли, романтичной, словно в её форме, в древних кирпичах, в потёках воды на круглых стенах и на выступавшем тут и там мху, хранилось нечто средневековое. В общем, нравилось мне смотреть. Так всё время и хотелось проникнуть за забор, но папенька меня не брал с собой на завод. Слишком я был тогда мал годами.
Ага! Вот ещё одно обстоятельство тех лет: у нас, во дворе я играл с моим молочным братом из простых людей. Так я и дружил с ним и точно помню, что был он круглолиц и курнос как и все мы, славяне. Продолжалась такая жизнь, пока меня, как вот теперь Алёшеньку, не отправили в кадетский корпус. Я в детстве, как и многие романтически настроенные дети, мечтал стать капитаном корабля. Вон таким, как наш – тут Сергей Пантелеймонович ткнул пальцем куда-то вверх.
Милюль обернулась на этот жест и увидела, как палубой выше проходит вдоль решётчатых перил мостика самый настоящий капитан в белом кителе, белых брюках и белой же фуражке. В руке у него была подзорная труба. Вот он остановился и поднёс трубу к глазу. Капитан некоторое время вглядывался вдаль. Наконец он оторвал трубу от глаза и скрылся, отойдя от перил. Нечто летящее и романтичное привиделось Милюль в явлении этого белого ангела над миром их палубы. Девочка залюбовалась капитаном так же, как вчера любовалась кадетом. Она даже возмечтала о чём-то, но только на долю секунды, а потом снова переключилась на пироги. Сергей Пантелеймонович тем временем продолжал:
– Ну, и когда я вернулся после первого курса на побывку в отчий дом, я встретил моего молочного брата, а мы были почти ровесниками, и не узнал его! Он стал волосами чёрен и носат. Совсем другим парнем стал! Перемену сию, случившуюся с молочным братом, я сам себе объяснил сменой возраста, а курносый и белобрысый облик, который был в моей памяти, стёрся из ней сам собой, оставив лишь тень мимолётного недоумения.
Самое же главное произошло чуть позже, когда я увидел ту водонапорную башню. Ещё в казарме кадетского корпуса я вспоминал о ней, как вспоминают часть пейзажа, думая и тоскуя о Родине. Её образ хранился в моей голове как нечто неизменимое. То, что я увидел, потрясло меня, удивило и даже, можно сказать, расстроило. Сразу же я обратился с вопросом к своему папеньке:
– Что, папенька, – спросил я – башню реконструировали, или заменили на новую?
– Да никто её не трогал – ответил он – как стояла, так и стоит. И ещё простоит так лет сто или двести.
Поначалу я решил, будто он меня обманывает, и стал приставать с подобными вопросами ко всем подряд. Однако, ответ всегда был одинаков и он обескураживал меня…
– Так что с башней то случилось? – нетерпеливо спросила тётка.
– Она абсолютно изменилась! – ответил Сергей Пантелеймонович – в том, докадетском детстве, когда я видел башню чуть ли не каждый день, она была красная и простая, как все водонапорные башни по нашей Руси-матушке, теперь же она стала совсем другой: белая, оштукатуренная, с тонким ровным стволом в сердцевине. Ствол шёл от восьмигранного резервуара к земле. Сам же резервуар будто висел на четырёх ажурных опорах, которые расходились в стороны, как расходятся четыре угла Эйфелевой башни. В общем, оказалось, что это не просто кирпичная бадья на кирпичной трубе, а целое произведение архитектурного зодчества!
– Это прекрасно – заявила тётка.
– Может и прекрасно. Но как вы объясните мне такую метаморфозу? Башню явно подменили, а никто того не заметил. Лишь я один! Все, от родного моего батюшки и до молочного брата, который тоже переменился, уверяли меня в том, что никто башню не трогал и она, как стояла на месте, так и продолжает стоять! При этом я прекрасно помнил другое и был уверен в обратном!
– Сговорились? – предположила Милюль.
– Сговориться могут люди в замкнутом кругу, но посторонние прохожие и мужики, к которым я приставал с расспросами, не могли сговориться. Я же долго носился со своей башней как дурак с писаной торбой. Что вы думаете про такой феномен?
– Я теряюсь – призналась тётка Юлия.
– Вот и я никак не мог объяснить этого. Вплоть до сегодняшнего дня.
– Теперь можете? – спросила Милюль, прожёвывая пятое перепелиное яйцо с сыром.
– Не совсем, милое дитя – ответил Сергей Пантелеймонович – благодаря тебе у меня сложилась в голове этакая гипотеза. Во всяком случае, ты мне напомнила про моё собственное детство, и, кажется, я снова попробовал ответить на свой же собственный детский вопрос, но уже с позиций взрослого человека. Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла! – Сергей Пантелеймонович допил коньяк и поднял рюмку вверх, призывая стюарда.
Стюард принёс графинчик коньяку и новую рюмку, убрал использованную посуду и предложил ещё чего-нибудь. Никто ничего более не заказал, и стюард отбыл. Сергей Пантелеймонович отхлебнул коньяку, отставил рюмку и, положив локти на край стола, свёл ладони вместе:
– Вот видите, две ладони – сказал он и тут же развёл их, демонстрируя здоровенные ручищи – они похожи почти как зеркальные отражения друг друга, но всё же между ними есть некоторая разница. Например, на левой – у меня размытая и невнятная линия любви. На правой же она прямая, чёткая и глубокая. Если верить в гадания по руке, то мы видим два разных варианта развития событий. Получается, это две разные пьесы, между которыми общего много, но они всё-таки разные. Здесь – он протянул левую руку – масса действующих лиц, но все они эпизодические. Главных практически нет. Каждое новое лицо оставляет небольшой и незаметный след. Их сплетение даёт подобие общей линии. Ничего серьёзного. Здесь же – он показал правою ладонь – напротив, все подчинены одному, главному, одной, определяющей линии. Лишь одна личность царствует в этой пьесе. Выходит, что мы видим две разные реальности, в которых может оказаться один и тот же человек. Две судьбы. Но откуда они берутся?
– Как человек себя поведёт, так судьба и сложится – предположила тётка Юлия.
– Сложится – эхом отозвался Сергей Пантелеймонович – но я веду к другому. Я хочу вам сказать: вы видели эти две руки, как два разных сценария. Сценарий всегда вещь уже существующая, написанная, как смета, или проект. Выходит, уже есть оба эти проекта, и мы с течением времени лишь пробегаем по одному из них как паровоз по железной дороге. То есть моя душа – это паровоз. Вчера он выехал из Санкт-Петербурга, а сегодня уже миновал Бологое и всё ближе к Москве. Пусть движение паровоза зависит от мастерства машиниста, но путь прочерчен. Именно в детстве, когда пути ещё не разошлись окончательно, я мог переместиться от одного проекта, на другой. И поехал мой паровоз не в Москву, а в Гатчину, по параллельной реальности.
– А обратно? – спросила Милюль.
– Что обратно?
– Можно снова на прежнюю дорогу перепрыгнуть?
– Откуда мне знать? – вздохнул Сергей Пантелеймонович. Я такого не встречал. Давай представим себе, что в моей и в твоей жизни случился сбой. В моей – это выразилось только лишь изменённой башней, да молочным братом. А у тебя всё переиначилось. Словно тебя на одной земле схватили, да на другую забросили. Я в своей жизни больше по реалиям не перескакивал, потому как с каждым шагом, с каждым вздохом костенел и закреплялся.
– Стало быть, вы в детстве прыгнули с одной руки на другую? – уточнила тётка Юлия.
– Да что я вам, блоха какая? – усмехнулся Сергей Пантелеймонович – С руки на руку прыгать? Просто один проект пошёл развиваться тем чередом, а моя, именно моя, собственная душа оказалась в проекте нумер два. Там и действующие лица, и пейзажи – похожи на проект нумер один, а всё же немножко другие.
– Получается, я прыгнула из одной жизни, в другую – подытожила Милюль.
– Если вчера со мной беседовал один ребёнок, а сегодня его словно подменили, значит, произносимое тобою – вполне может быть – ответил Сергей Пантелеймонович.
– Почему же у меня перемены такие глобальные? – спросила Милюль – Куда девались некоторые люди из числа тех, которые были вчера?
– А чёрт его знает. Я, вообще-то ничего такого не заметил, но, если ты утверждаешь, и с твоей точки зрения всё именно так, то я лишь могу предположить: наверное, это такой вот хитрый переход.
– А по мне, так вы рисуетесь друг перед дружкой и говорите приятные глупости – сказала противная соседка, вставая из-за столика. Милюль посмотрела на неё и неожиданно подумала: «Наверное, придётся эту тётеньку съесть в конце концов».
Мысль была столь нелепа. Она так не вязалась с реальностью, пусть и новой, неожиданной, но всё равно существующей, что Милюль сделалось смешно. Она улыбнулась. Рот её при этом был набит остатками завтрака (она только что запивала оказавшиеся слишком сухими яйца компотом) и поэтому улыбка вышла страшной и плотоядной. Дама заметила это и не могла не сказать:
– Вы бы прожевали, девушка, еду, а то у вас щёки как у хомяка. Удивляюсь, как вы с такими щеками из реальности в реальность перескакиваете.
– Зря вы, мадам над девушкой язвите – вступилась за Милюль тётка Юлия – шли бы себе, а то такое ощущение, будто вам поговорить не с кем.
Мадам, было, открыла рот, чтобы её слово осталось последним, но тут кадет Алексей, до сей поры молча сражавшийся с завтраком, громко объявил:
– Дядюшка, я поел! Давай по палубе гулять.
– Отличная идея! – возопил Сергей Пантелеймонович – Я благодарю вас, милые дамы, за компанию. Не составите ли вы и теперь её нам с племянником?
– С удовольствием составим – засуетилась тётка Юлия.
Милюль хотела поддержать её, но неожиданно, так же как вчера, громко рыгнула.
– Фу! – Возмутилась тётка точно так же как вчера возмущалась нянечка – то, что ты, мать моя, прыгаешь из реальности в реальность – ещё не повод рыгать на весь корабль! – она встала из-за стола – Пойдем, прогуляемся, а то у тебя вся еда в жир пойдёт.
Милюль попыталась встать и не смогла. Живот, огромный и круглый как глобус, придавил её. Сергей Пантелеймонович с племянником невозмутимо удалялись по палубе, будто не слыхали громоподобных Милюлиных извержений. Тётка начала проявлять то ли замешательство, то ли беспокойство по поводу уходящих собеседников и Милюль, чувствуя это, виновато улыбнулась:
– Тётушка, ты погуляй, а я ещё немного посижу.
– Вставай, вставай, барыня – тётка потянула её за локоть – долго сидеть – только задницу плющить. Пойдём, растрясём твоё пузо. На корму сходим, на носу постоим. А то эта заноза в шляпе, поди, уже где-нибудь нашего Сергея Пантелеймоновича подкарауливает! Я сразу заметила, что она на него глаз положила.
– И всё-таки, куда она дела своего кавалера? – задумчиво спросила Милюль, вставая и облокачиваясь на стол двумя руками, чтобы помочь себе – Наверное, она его съела.
– Нет пределов твоим фантазиям, обжора! – тётка взяла Милюль под руку – Давай, перебирай ногами то!..
Отойдя к борту палубы, Милюль упёрла мутный взгляд вдаль. Море переменилось за время завтрака. Утренняя дымка спала, и линия горизонта чётко делила вселенную на верх и низ. Верх был всё также безоблачно ясен. Солнце пронзало синеву яркими лучами и, отражаясь от воды, прыгало зайчиками по стенам корабля. Крохотные дети солнца и волн – мерцали на воде, появляясь и мгновенно исчезая, во множестве перескакивали, увеличивались, уменьшались, складывались в кучки и разбегались осколками.
Бесконечная пляска отражений гипнотизировала, растопляла сознание и Милюль незаметно для себя погрузилась в полудрёму. Она показалась самой себе таким же отражением чего-то большого и вечного. Как и жизнь всякого отражения, её жизнь получалась недолгой и мимолётной. Вот она скользит по волне солнечным зайчиком, приближается к другому такому же солнечному зайчику, открывает свою солнечную пасть и проглатывает его, увеличиваясь и сияя всё сильней. Вот она разрывается надвое и уже две разных, самостоятельных Милюль начинают жить своей жизнью. Первая теряется в гребешке морской пены, и пропадает в небытии. Вторая Милюль ускользает от гибели и бежит дальше, поглощая других, делясь на новые части. Так будет бесконечно, пока светит солнце.
– Дельфины! Дельфины! – раздавшийся рядом истошный крик вывел Милюль из оцепенения. Тётка стояла рядом и показывала пальцем в море. Милюль вгляделась. Выпрыгивая из волн и вновь падая в них, параллельно кораблю неслись серые обтекаемые свиньи с гребнями на спинах.
– Они нас обгоняют! Вперёд! – завопила тётка и, схватив Милюль за руку – помчалась по палубе. Вместе они пробежали мимо маленьких окон кают, выскочили на нос парохода. Здесь, на смотровой площадке, пассажиры смотрели на обгонявших корабль дельфинов. Милюль увидала Алексея. Он был один, без Сергея Пантелеймоновича, и стоял, вцепившись в перила обеими руками. Его рыжие вихры трепал ветер, а смешное, со вздёрнутым носиком лицо, было нарочито серьёзным. Милюль подошла и встала рядом.
– Отчего, мальчик, ты не радуешься дельфинам? – спросила она.
– С чего бы им радоваться? – ответил он – дельфины, они и есть дельфины. Эка невидаль.
– Они красивые.
– Самые обыкновенные. Просто большие рыбы.
– Дельфины не рыбы – поправила Милюль.
– А кто же?
– Животные.
– Скажи ещё – птицы – предложил Алексей – неужели не видишь? Рыбы рыбами.
– Они воздухом дышат, значит, животные.
– Лягушки тоже воздухом дышат, но они тоже почти рыбы, потому что живут в воде.
Алексей оказался упрямым мальчиком. Милюль стало неинтересно продолжать разговор. Дельфины обогнали корабль, затем приблизились к нему и скрылись из виду под выступающим вперёд носом.
– Вот видишь! – обрадовался Алексей – мы их раздавили!
– Никто их не давил. Просто они сейчас под самым носом корабля. Вот их и не видно.
– Ага. Значит, они могут нырнуть под корабль?
– Конечно, могут – не заметила подвоха Милюль.
– Вот я и говорю: рыбы!..
Разговор стал окончательно исчерпан, но тут тётка Юлия и спросила у Алексея:
– Алексей, а где твой дядя?
– Его тётя Элеонора потащила на заднюю палубу – чаек кормить.
– Давно? – поинтересовалась тётка, и её нарочито безразличный голос звякнул металлом ревности.
– Вот только что, перед тем, как вы прибежали.
– Да? Ну что ж, Милюль, пошли и мы чаек покормим.
– Можно, я с вами? – неожиданно спросил Алексей – а то мне здесь надоело.
– Конечно, Алёшенька – преувеличенно нежно ответила тётка Юлия – пойдём, пойдём! – и все трое отправились на корму.
Почётным конвоем летели за кораблём белые как костюм Сергея Пантелеймоновича чайки. Они то и дело пикировали в светлые буруны, кружили над палубой и даже приближались к ней. Давешняя дама в сиреневой шляпе протягивала к ним руку с кусками белого хлеба. Чайки выхватывали хлеб на лету, а она – смеялась. Сергей Пантелеймонович стоял рядом и попыхивал сигарой. Тётка Юлия приблизилась к нему и нарочито громко заговорила:
– А вот и мы! Привели вашего мальчика. Что же вы его оставили без присмотра?
– Премного вам благодарен – ответил Сергей Пантелеймонович, оборотясь спиной к перилам, к чайкам, к расходящимся от корабля бурунам.
– Алексей – юноша взрослый – возразила дама, прекращая кормление морских птиц – он вполне может сам передвигаться по палубе. Ваша помощь нужна ему как собаке зонтик.
– Пятая нога – поправил её Сергей Пантелеймонович.
– Что? – дама взглянула на него удивлённо.
– Собаке нужна пятая нога. Зонтик рыбке нужен – пояснил Сергей Пантелеймонович.
– Какая разница? Просто они сами увязались за Алексеем, чтобы попасть в нашу компанию.
– Спасибо – тётка Юлия сдержанно кивнула – ваша компания, мадам… э…
– Элеонора. Меня называют Элеонора – представилась женщина.
– Да. Ваша компания, мадам Элеонора, вряд ли может быть моей целью.
Мадам Элеонора даже не обиделась. Она убрала остатки белой булки в карман и обратилась к Сергею Пантелеймоновичу:
– Сергей Пантелеймонович, вы не находите, что эта девушка ведёт себя довольно дерзко для своего положения – тут она обратилась к тётке Юлии – Ведь вы прислуга, верно?
Милюль заметила, как тётка стремительно краснеет и, от клокочущих в груди чувств, не находится что ответить. Надо было прийти на выручку, и Милюль со всей страстью ринулась в бой:
– С чего вы взяли, мадам Элеонора? Тётушка Юлия никакая мне не прислуга. Она моя ближайшая родственница и вам следовало бы называть её «Мадам Юлия».
Тётка благодарно взглянула на Милюль и вскользь улыбнулась Сергею Пантелеймоновичу. Мадам же Элеонора возвела очи к небесам и, чуть повысив голос, сказала, не обращаясь ни к кому:
– Я должна почитать прислугу за знатную даму и терпеть её невоспитанную воспитанницу, которая суёт нос во взрослые разговоры! – тут она перевела взгляд на Сергея Пантелеймоновича – Сергей Пантелеймонович, вам не кажется, что они вас преследуют?
– Меня? – переспросил Сергей Пантелеймонович – Да нет! Помилуйте! Я сам представился этим милым дамам и, можно сказать, навязал им своё общество. Так что, если кто кого и преследует, то это не они меня, а я их…
– Вы сами им представились? – выпучила глаза мадам Элеонора – и их не смутило, что вас никто не представил? Не кажется ли вам, что так не принято в свете? Эти дамы не вам чета!
– Мадам Элеонора – самым невинным тоном обратилась к даме Милюль – я слышала, в свете не принято говорить о присутствующих в третьем лице. Ещё мне говорили, что так принято у приказчиков, торговок и дам лёгкого поведения. Вы сами к какой категории склоняетесь?
Элеонора вспыхнула и, резко обернувшись к Сергею Пантелеймоновичу, возопила:
– Сергей Пантелеймонович, да защитите же вы меня, наконец, от этой малолетней моралистки!
Сергей Пантелеймонович пробасил примирительно, обращаясь почему-то сразу ко всем присутствующим:
– Ну, дамы, ну, так нельзя. Прекратите вашу баталию!
Тут Милюль возразила:
– Думается мне, Сергей Пантелеймонович, вам приятно от того, что баталии происходят вокруг вас, а вы таким образом оказываетесь в центре внимания. Причём, одна дама вам нравится, а вторая – сражается за вас.
Сергей Пантелеймонович неожиданно расхохотался и, по простецки хлопнув девочку по плечу, сказал:
– Ну и глазастая ты деваха, Милюль! Люблю таких!
Таковое панибратство покоробило всех дам, но показала это лишь одна мадам Элеонора. Она так искривила лицо, что море стало кислым. Сергей Пантелеймонович заметил её гримасы и, обращаясь ко всем, извинился:
– Вы не обижайтесь на мою разухабистость. Я в самом деле обожаю быть в центре внимания, но эта маленькая девочка-вундеркинд так лихо меня развенчала! Должен признаться: да, мне нравится всё. И вы, милые дамы, и море, и то, что мы идём на белом корабле меж стран и континентов. И дышать нравится полной грудью! Эх, наша матушка-Россия всему свету голова! – тут он неожиданно открыл рот и запел, то есть, завопил что есть мочи:
«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны!..»
Отозвавшись на рёв Сергея Пантелеймоновича, пароход дал длинный басовитый гудок, за которым заслонились все звуки.
Милюль рассмеялась дуэту парохода и человека. Улыбнулась и тётка Юлия. Лишь мадам Элеонора отвернулась и пробормотала:
– Какая дикость!
Хоть и произнесла она это тихо, будто про себя, Милюль умудрилась расслышать её и тут же спросила:
– Мадам Элеонора, скажите, пожалуйста, что вам дикостью показалось? То, что Сергей Пантелеймонович куражится, или то, что пароход задудел?
Долгий взгляд Мадам Элеоноры был ей ответом. Опять, как и вчера, Милюль смотрела в глаза злобной незнакомки. Но всё было иначе на этот раз. Не тонула Милюль в их глубине и душа её оставалась на месте. Чужая сущность не поглощала её. Личность же Элеоноры, её поверхностный облик, читался как страница книги в морщинках век и вычурной гнутости бровей. Отстранённо и спокойно глядела Милюль на чужую мадам и видела: перед нею стоит обозлённая неизвестно на что взрослая женщина, которая давно и бесповоротно устала в битвах то ли за личную эмансипацию, то ли за удовольствия, пойди теперь, разберись. Беспросветное разочарование отложилось в мимических морщинках. Следы ухода за лицом были столь очевидны, что предмет ухода был уже не столь значительным по сравнению с самим процессом. Мадам Элеонора ощутила, как Милюль разглядывает и изучает её. Раздражение судорогой пробежало по её лицу. Не в силах сдержать себя, она грубо спросила:
– Ну, ты чего на меня теперь пялишься, жаба?
– В сравнении с вами я царевна – заметила Милюль.
– Я тебе покажу, как грубить! – закричала мадам Элеонора.
– С удовольствием посмотрю – согласилась Милюль.
Добрая перепалка назрела на корме парохода. Вся натура, вся психика Элеоноры пришпоривала её и не давала удержаться в рамках высокомерных приличий. Милюль предвкушала, как сейчас эта женщина будет топать ногами и ругаться, брызгая слюной. В самой же себе она чувствовала необычайное спокойствие, и даже моральное преимущество, объяснить которое не умела. Да и я, наверное, не объясню двумя словами…
* * *
Тут учитель подпёр голову малой клешнёй, а большой стал чертить на песке непонятные линии. Окружавшие его раки подползли поближе и внимательно разглядывали затейливые знаки, пытаясь проникнуть в их смысл. Поскольку старый рак молчал, смысл не открывался. Никто не мог бы сказать о его абстракциях ничего другого, кроме: «каляки-маляки».
– Вот что! – воскликнул рак так неожиданно и так громко, что все отпрянули – я сейчас вам объясню, какие чувства образовались в маленькой душе шестилетней девочки, поставленной в непростые условия назревающего скандала со взрослой тётей. Случалось ли вам видеть собак?
Если бы у раков были плечи, то многие пожали бы плечами, потому что собака на пляже аравийского полуострова такая же редкость, как слон в таёжной просеке.
– Ну и не беда – решил старый рак – совсем необязательно знать собак, чтобы понять суть моих объяснений. Собаки это такие существа, которые бегают на корячках, виляют хвостами и почём зря гавкают.
Жила-была на огороженном забором участке одна собака. Иногда она выходила через калитку на открытое пространство и там гуляла себе, не причиняя никому ни вреда, ни пользы. Потом она возвращалась через ту же калитку к себе на участок и продолжала спокойно жить.
Идиллия длилась довольно долго, пока на улицу, по которой она гуляла, не стала наведываться свора приблудных сук. Приблудные суки это тоже собаки, но у них нет такой территории, как свой двор. К тому же опыта у них раз в двести больше, чем у собак цивилизованных. Увидели приблудные суки чужую для них собаку и набросились на неё. Покусали сильно так, что она, поджамши хвост убежала в свой двор и долго там скулила, зализывая раны.
Очень переживала та, домашняя собака, а на следующий день, двигаясь к калитке, чтобы погулять снаружи, она снова увидела тех сук, которые ждали её за забором, чтобы опять как следует отделать. Испугалась собака и убежала от калитки подальше. Потом посидела, подумала как следует, да и сообразила, что те зловредные животные за ней не гонятся, не преследуют её и вообще боятся зайти в чужой двор. Стоят за забором, да тявкают. У собак, знаете ли, развито ощущение территории. Ни в жизнь вы не затяните никакую собаку на ту территорию, которую она считает чужой.
Выглянула наша собака из-за угла: стоят. Выглянула ещё раз: никуда не уходят. Тут она и смекнула, что находясь под защитой магической черты, называемой забором, может делать всё, что захочет, причём абсолютно безнаказанно. Знаете, что она затеяла?
Раки не знали и потому молча направили на рассказчика вопросительные взгляды.
– А затеяла она метаться вдоль забора и облаивать тех приблудных сук. Так это занятие ей понравилось, что с тех пор каждый раз, когда она видела дикую стаю, начинала искренне радоваться грядущей потехе. От радости она виляла хвостом и спешила к заветному забору. Собака понимала, что свора сильней и агрессивней чем она, что стоит им до неё добраться, как ей не поздоровится.
Понимали это и суки. Каждый раз, вступая с нею в перебранку, они безумно злились из-за бесполезности собственного превосходства и бессилия перед непреодолимостью преграды. Они негодовали, брехали до хрипоты и полной потери голоса, а наша собака, радостно металась вдоль забора, дразнила их и получала от сего процесса несказанное удовольствие. Постепенно она привязалась к своре как к лучшим друзьям. Она часами сидела под забором, ожидая, когда же они появятся, чтобы потешить свою собачью душу.
* * *
Примерно те же чувства обнаружила в себе Милюль. Если бы она была собакой, то выдала бы их вилянием хвоста, но она была человеком, маленьким и беззащитным перед взрослой здоровенной тёткой Элеонорой. Кабы Элеонора надумала драться, то моментально победила бы, но в том и дело, что драться она не могла. Незримый забор условностей, приличий и обычаев человеческого мира крепко удерживал её от применения физической силы. Даже для того, чтобы отвесить Милюль оплеуху в воспитательных целях, ей необходим был очень веский повод, а повода Милюль решила не подавать. Потупившись, Милюль пролепетала ангельским голоском:
– Надо думать, не всем будет интересно смотреть, как вы показываете…
– Вы это слыхали? – перебила её, обращаясь неизвестно к кому, мадам Элеонора.
– Что? – переспросила тётка Юлия – что слыхали?
– Вы слыхали, как разговаривает ваша… ваша… – мадам не нашла подходящего слова и всплеснула руками.
– Что ты сказала такое? – спросила тётка у Милюль – повтори-ка.
Милюль скроила ещё более невинное лицо и произнесла:
– Я только хотела сказать мадам Элеоноре, что ругаться некрасиво. Так же некрасиво, как выщипывать брови, но оставлять нетронутыми усы.
Если бы вы видели, какой произвёлся эффект! Что стихия? Что молнии и шквалы? Милюль даже съёжилась, до того страшной сделалась мадам Элеонора:
– Ах ты, гадкая мерзавка! – выкрикнула она, задыхаясь – Где ты видела усы? С чего ты взяла, что у меня усы? Ты думай прежде, чем говорить!..
Мадам Элеонора кричала всё громче. Она уже не могла остановиться. Возмущение, гнев и чёрт знает что ещё несли её, унося всё дальше от человеческого облика.
Сергей Пантелеймонович деликатно отвернулся и, ухмыляясь в бороду, пыхтел сигарой. Тётка Юлия и Алексей с удивлением разглядывали беснующуюся мадам Элеонору. В их взглядах не прослеживалось ни капли сочувствия. Лишь любопытство. Наконец, мадам прекратила орать. То ли устала, то ли осознала дикость собственного образа, этого не знает никто. Она плюнула на палубу и нервной, подпрыгивающей походкой удалилась.
– Обиделась – после непродолжительной паузы констатировал Сергей Пантелеймонович.
Тётка Юлия нашла уместным сделать Милюль замечание, хотя Милюль не услышала в его голосе того укора, который заключался в словах:
– Эх, Милюль, весь день сегодня ты меня огорчаешь. Нельзя так выводить из себя взрослых людей.
Милюль хотела, было ответить что-нибудь покаянное, как вдруг взвыла корабельная сирена. Все взгляды устремились наверх, на капитанский мостик. Белый, как мечта, капитан появился наверху и прокричал в железный рупор:
– Дамы и господа! Попрошу вас покинуть палубу и разместиться в каютах. Надвигается небывалый шторм.
Довольно неохотно дамы и господа зашевелились, покидая места у перил. Некоторые бунтари даже тихо ворчали, дескать, капитан их излишне пугает.
– Никогда капитан не станет обманывать пассажиров – солидно сказал молчаливый Алёша.
– Ты прав – согласился Сергей Пантелеймонович – пойдёмте, милые дамы, выполним просьбу нашего прекрасного капитана.
Сергей Пантелеймонович изогнул руку кренделем, предлагая тётке Юлии опереться. Тётка улыбнулась. Её аккуратная ручка скользнула в подставленный живой поручень, и так они двинулись к каютам.
Милюль и Алёша шли за ними следом. На минутку Милюль показалось обидным, что этот мелкий племянник совсем не вчерашний кадет. Никакого кавалерства ждать от него не приходилось, и это было досадно. Алёша, видно почувствовал её настроение. Он смутился и попытался подставить ручку. Но Милюль уже переменила душевный мотив и деликатно поблагодарила мальчика:
– Спасибо, молодой человек. Я сама буду идти.
– Как хочешь – пожал плечами Алёша.
Теперь настал его черёд обижаться. Милюль же стало жаль, и она протянула ему руку. Но обиженный Алёша руки не подал, и Милюль обиделась вновь. Тогда он подал руку. Тогда она отказала ему…. так, обижаясь и жалея попеременно, они и шли.
* * *
Это для нас, морских жителей, шторм – явление привычное. Залез себе в раковину, захлопнулся клешнёй и сиди на глубине, жди, когда болтанка наверху утихнет. Можно и на берегу переждать, если уйти подальше.
Море дышит для нас. Оно поёт нам бесконечные песни, предупреждая о переменах настроения. Солнечные лучи, преломлённые волнами, устраивают иллюминации и мечутся золотыми столбами по песчаному дну. Стаи рыб проносятся мимо, а каракатицы и медузы, как разноцветные дирижабли висят над нашими головами. Наша жизнь полна красоты и гармонии, которой никогда не достичь обитателям суши, какие бы приспособления и устройства они ни создавали.
Для людей море совсем не то. Оно кажется им грозным и таинственным. Оно хранит от них тайны глубин и воспринимается ими, как нечто чужое. Люди даже не догадываются, что море – такое же живое существо, как и каждый его обитатель, как каждый из нас. Что с того, что они плавают по воде? Что с того, что они ныряют в глубь и поражаются там неожиданной для них красоте? Так же, как и мы, они могут часами сидеть на берегу и слушать дыхание прибоя, но никогда они не поймут того смысла, который улавливаем мы. Они отстранены. И океан отстранён от них. Бесконечный океан тоже никогда не сможет понять людей.
Да и как их понять? Их заботы и волнения слишком мелки и незначительны по сравнению с нашими. Сами их жизни подобны мимолётным вспышкам, какими иногда балуется планктон.
Не так живут звёзды в небесной вышине. Не так плывут облака, перебирая свои долгие мысли и воспоминания. Не так живут растения, протягивая ростки в бесконечном прославлении солнца. И мы, раки, живём не так. Но раз я взялся рассказывать о людях, то буду рассказывать, как бы по-дурацки они ни поступали.
* * *
В коридоре пары разделились. Мужчины отправились в восемнадцатый номер, а женщины в семнадцатый. Едва войдя в каюту, тётка Юлия плюхнулась на диван и, блаженно улыбнувшись, сказала:
– Спасибо тебе, Верочка… то есть, Милюль. Лихо ты вывела из себя эту крысу. Я даже не ожидала, такой дипломатии от ребёнка.
Милюль присела напротив и спросила:
– Да вы, тётя Юлия, никак, влюблены в Сергея Пантелеймоновича?
– Верно – согласилась тётка Юлия, и тут же удивилась – Как это ты умудряешься столь много углядеть? Я в твои годы думала только об играх, платьях и о всяких глупостях. Впрочем, нет. Иногда я прозревала и была такой же… – тут она неглубоко задумалась, а потом спросила – Милюль, ты не помнишь, может быть, я тебе рассказывала, как в день моего шестилетия встретила на корабле юного кадета, которого полюбила на всю жизнь?
– Ничего ты не рассказывала – ответила Милюль – я это сама помню. Но мне теперь не до того. Кадет оказался ненастоящим. Мне капитан понравился. Ты видела, какой он красивый?
Тётка Юлия рассмеялась:
– И правда, ты растёшь не по дням, а по часам. Тебе бы в куклы играть, а не мечтать о романтике. Но всё-таки обещай мне больше не скандалить с мадам Элеонорой, и вообще больше не будешь провоцировать скандалы. А то, я не знаю, как передавать тебя родителям: «Вот – скажут – доверили дитя легкомысленной тётке!»
– Хорошо, тётя Юля, обещаю не скандалить. А мадам Элеонору я просто съем.
Тут в каюте неожиданно потемнело. Милюль подбежала к окну и, отдёрнув тюль, взглянула сквозь стекло на стремительно изменившийся мир. Чёрная туча загородила полнеба и скрыла солнце. Волны почернели, выросли, и теперь их мрачные спины с белыми барашками казались зловещими. Они неслись бесконечным тесным стадом огромных злых зверей. Каюту заметно покачивало.
В дверь постучали.
– Войдите – разрешила тётка Юлия и дверь открылась. В проёме, удерживая одной рукой дверь и облокачиваясь другою о косяк, стоял Сергей Пантелеймонович.
– Извините за вторжение – сказал он – мой оболтус не у вас ли?
– Не заходил – ответила тётка.
– Вот, незадача! – Сергей Пантелеймонович поскрёб затылок, от чего отпущенная им дверь размахнулась и стукнула его в плечо.
– Так он же с вами в нумер ушёл! – подсказала тётка.
– Ушёл – согласился Сергей Пантелеймонович – но пока я шляпу снимал, да умывался, он, видимо, в дверь выскользнул. Смотрю туда, смотрю сюда. Нет нигде парня! Я и решил, что он к вам…
– Идёмте, Сергей Пантелеймонович, сейчас же обратимся к стюарду! – тётка стремительно поднялась с дивана.
– Пойду уж – согласился Сергей Пантелеймонович.
Оборотясь к Милюль, тётка велела:
– Сиди тут, Вера. Хочешь, книжку почитай, хочешь, ещё чего. Только не вздумай покидать каюту.
Взрослые вышли. Оставшись одна, Милюль некоторое время смотрела в окно, на бегущие штормовые волны. Их движение было стремительным, мрачным и однообразным. Созерцание вскоре ей наскучило. Она отошла от окна и стала изучать обстановку. Её внимание привлёк красочный сундучок, что стоял в углу среди чемоданов и коробок. Сундук резко отличался от общего антуража. Казалось, его занесли сюда из далёких земель, из сказок про Ивана Царевича, про Деда и Бабу и про тридевятое царство.
Крышка оказалась не заперта. Милюль потянула её вверх, и она откинулась, проиграв простенькую мелодию. Вслед за мелодией, сама сказка открылась перед очарованными глазами девочки. Таких сокровищ она отродясь не видала! В сундучке было всё необходимое для бесконечного счастья. Аккуратные куклы с фарфоровыми головками, наряженные как принцессы, спали в маленьких кроватках крошечного гарнитура. Тут же были составлены один на другой удивительные шкафчики с выдвигающимися ящичками и открывающимися дверцами. Милюль обнаружила целую коллекцию маленьких шляпок, корон, ожерелий и брошек, перебирать которые можно было целую вечность. В углу, воткнутая в гнездо из маленьких платьиц, плащей, юбок и шарфов, торчала огромная матрёшка. Тут же, рядом, оказалась обклеенная блестящею бумагою карета, запряжённая в четвёрку деревянных лошадок.
Усевшись на полу, Милюль доставала одну игрушку за другой. Тщательно разглядев каждую, она укладывала её на пол около себя, чтобы потом обязательно с нею поиграть. За этим занятием застали её вернувшиеся тётка Юлия и Сергей Пантелеймонович. Они вели за руки Алёшу, который громко и позорно ревел.
– Экий ты засранец! – грозно пробасил Сергей Пантелеймонович – вот возьму я ремень, да всыплю тебе так, как твой отец позабыл!
– Полно вам, Сергей Пантелеймонович – урезонила его тётка Юлия – он же мальчик. Это всем мальчикам свойственно. Романтизм…
– В гробу я видал подобный романтизм! – возразил Сергей Пантелеймонович, и тут же пообещал – Стюарду я непременно сверну шею. Раззява! Сидит в конуре и не глядит за дверью. Его для чего на корабль поставили?
– Угомонитесь – посоветовала тётка – он, может и виноват, но как ему ожидать такого фортеля? Он тоже человек.
– Видал я этих человеков! Все как один! Только о чаевых забота.
– Давайте, я со стюардом сама поговорю, а то вы и впрямь на себя не походите…
– Вместе поговорим – заключил Сергей Пантелеймонович.
– Вот и ладненько – обрадовалась тётка Юлия и, уже обращаясь к Милюль и Алексею, предложила – Вера и Алексей, надеюсь, вам не будет скучно вдвоём, пока мы с Сергеем Пантелеймоновичем проведём переговоры со стюардом. Никуда не уходите из каюты.
– Посмотри, нянечка, какие тут игрушки! – воскликнула Милюль, поднимая над головой одну из фарфоровых кукол.
– Опять двадцать пять! – отозвалась тётка Юлия – Что за блажь целый день? Никакая я не нянечка!
– Да, тётя Юля – спохватилась Милюль – это я оговорилась. Извини. Ты знала, что в этом сундучке столько сокровищ?
– Час от часу не легче! – всплеснула руками тётка – Вот, вы, Сергей Пантелеймонович, своего племянника ругаете, а мне с моей не легче. У меня порой такое ощущение, словно ей всю память поотшибало. Вера, ты сама третьего дня эти куклы в сундук складывала и печалилась, мол, они стали неинтересными, играть в них стало скучно, а игрушечные украшения тебя больше не радуют. Неужто совсем позабыла?
– Совсем – развела руками Милюль – тут ей стало грустно и захотелось плакать. Она и заплакала, а Сергей Пантелеймонович засмеялся:
– Только один реветь перестал, как другая начала! Да вы, как я посмотрю, два сапога – пара!
– Милюль, хватит сырость разводить! – подсела к девочке тётка – раз уж такое дело, я подарю тебе сейчас то, что собиралась только вечером подарить.
Сказав так, тётка ушла в спальное отделение каюты. Милюль перестала плакать и стала ожидать неведомого подарка. В это время Алексей равнодушно переложил с места на место бесценные куклы и занялся разбиранием матрёшки.
– Вот! – воскликнула тётка, внося в залу сафьяновую коробочку – это украшение мне подарила моя няня. После завтра исполнилось бы пятнадцать лет, как я берегла эту волшебную брошь. Но вчера я решила: раз ты выросла из игрушечных украшений, значит, пора подарить тебе настоящее. Носи её до тех пор, пока не почувствуешь, что тебя нашёл твой Иван Царевич. Меня, кажется, уже нашёл (тут тётка скосила глаза на Сергея Пантелеймоновича и густо покраснела). В общем, с днём рождения тебя, Вера. А торт будет вечером.
Тётка открыла коробочку. Милюль разочарованно подняла брови. В коробочке оказалась та же лягушка из зелёного малахита, что вчера на пристани вручала ей нянечка. Милюль взяла украшение в руки. Не могло быть никаких сомнений. Она самая. Те же красные глаза, те же золотые корона со стрелой и с обратной стороны пузико из белого кварца.
– Да-а – протянула Милюль – я уже видела эту брошку.
– Конечно, видела – согласилась тётка – я её часто носила и она очень тебе нравилась.
Милюль не стала возражать. Она разглядывала брошь и размышляла о чудесах, происходящих в её жизни, о днях рождения, следующих один за другим, о странных переменах в окружающем мире, о словах Сергея Пантелеймоновича про водонапорную башню.
Каюту раскачивало всё сильнее. Алексей разобрал матрёшку и начал снова её собирать, когда тётка Юлия прервала затянувшуюся паузу:
– Ну, дети, вы тут поиграйте, а мы пойдём со стюардом поговорим. Нет ли у него чего-нибудь от морской болезни. Лимонов, например.
Тётка вышла, увлекая за собой Сергея Пантелеймоновича.
Когда они оказались в коридоре – корабль заметно качнуло и тётка, будто случайно, привалилась к Сергею Пантелеймоновичу. Она смутилась, упёрлась в его широкую грудь руками, и, потупившись, произнесла:
– Ах, извините. Кажется, качка усиливается.
– Да полно извиняться! Я вам очень благодарен, Юлия Ивановна, за то, что вы помогли мне вернуть с палубы моего сорванца – тут Сергей Пантелеймонович сам качнулся в сторону тётки, но избежал тесного соприкосновения, упёршись рукою в стену. Тётка, находясь между Сергеем Пантелеймоновичем и стеной, опять же возразила:
– Да что вы, Сергей Пантелеймонович, не стоит благодарности. Я понимаю, что такое дети, и как человек переживает за них. Вся душа переворачивается, стоит только подумать, вдруг с ними что-нибудь случиться! – она подняла раскрасневшееся лицо и вперила очи в глаза потомственного купца первой гильдии. Корабль вновь качнуло, но Юлия устояла, прижавшись к стене. Сергея же Пантелеймоновича отшатнуло к стене противоположной.
– Всё равно, вы героическая женщина! – заявил он, не отводя взгляда – Я буквально преклонён перед вашей смелостью. Буря всё сильней с каждой секундой, а вы вышли на палубу и, как матрос, держали равновесие!
– Это не я держала равновесие, но вы держали меня. Боюсь, что я даже была вам обузой.
– Отнюдь нет, Юлия Ивановна, отнюдь нет! – воскликнул Сергей Пантелеймонович. В этот самый миг корабельная качка вновь кинула Юлию Ивановну в его объятия. Сергей Пантелеймонович принял её открытой грудью, обнял её стан обеими ручищами и поцеловал в сахарные уста.
Так они и замерли, целуясь посреди коридора, и никакая качка не могла уже разорвать их объятий. Тут, совершенно некстати появился стюард. Он деликатно кашлянул в кулак, не подозревая, что уподобляется в сей миг библейскому богу, низвергнувшему мужчину и женщину из райских кущ на грешную землю. Юлия Ивановна смутясь, отвернулась. Сергей Пантелеймонович, напротив, проявил мужественное рыцарство. Он оградил Юлию Ивановну от наглого взора супостата мощным плечом и спросил наглеца:
– Чего тебе надобно, голубчик?
Стюард изобразил смущение и даже притворно покраснел. Но по его глумливым речам вскоре стало ясно, что ничерта он, подлец, не смущается:
– Господа, шторм усиливается – сказал он довольно развязным тоном – в силу некоторых обстоятельств, мы вынуждены идти бортом к волне. Корабль будет сильно качать. Во избежание травм капитан настоятельно рекомендует всем пассажирам вернуться в каюты и принять горизонтальное положение.
Стюард стоял по центру коридора и умудрялся не кидаться на стены. Сергей Пантелеймонович, которому подобное равновесие давалось с трудом, строго обратился к нему:
– Милейший, мы как раз тебя ищем.
Тут Юлия Ивановна вспомнила, что именно стюарда они только что отправились искать, и спросила его прямо, без обиняков:
– Вы зачем оставили выход без присмотра? У нас мальчик шести лет, будущий офицер, выбежал на палубу и мы его еле вернули!
– Прошу извинения, мадам – ответил мошенник – господа из третьего нумера отказывались покидать палубу. Мне пришлось долго их уговаривать. Наверное, в это самое время я и не уследил…
– Можешь не оправдываться – благородно простил его Сергей Пантелеймонович – юному герою даже полезно ощутить силу стихии морской. Ты мне, лучше вот что скажи: Не будет ли у тебя какого лекарства от морской болезни? У нас тут малые дети, так что…
– Сию минуту по каютам разнесут лимонные леденцы. Не извольте беспокоиться. Я уже послал в ресторан человека. Единственно, я опасаюсь, он там может замешкаться, а через некоторое время выходить на палубу станет опасно. Придётся как-то потерпеть.
– Ну, это – форменное безобразие! Я вот сейчас пойду в каюту и свяжусь по телефону с капитаном – припугнул стюарда Сергей Пантелеймонович.
Стюард изобразил испуганное лицо:
– Ах, да, конечно, я сам сейчас же отправлюсь в ресторан! – он развернулся и стал удаляться, по-морскому борясь с качкой. Когда он открыл дверь и скрылся за нею, Сергей Пантелеймонович сказал задумчиво:
– Судя по упадку дисциплины, сильная буря надвигается.
– Вы полагаете, нависла какая-то опасность? – спросила Юлия Ивановна.
– Судите сами, Юлия Ивановна – если бы никакой опасности, зачем подчинённому спорить с начальством? Тот, посланный человек, давно бы уже вернулся из ресторана. А когда опасность, то своя шкура дороже должностных условностей.
– Но это только у лакеев так заведено – возразила Юлия Ивановна.
– Так, если бы на корабле были одни лишь благородные люди, никто бы надвигающейся опасности и не заметил.
– Неужели мы потонем?
– Вот, тоже, глупости! – Сергей Пантелеймонович прыснул в бороду, но, взглянув в расширенные очи Юлии Ивановны, поправился – Оставьте эти настроения. Только по палубе ходить опасно. Тут же мы как у Христа за пазухой.
Они смотрели друг другу в глаза и, чёрт знает, какое электричество металось по коридору меж ними. Юлия Ивановна видела спокойный, умный, и слегка лукавый взгляд большого сильного мужчины. Его же взор неуловимо скользил по слегка раскосой линии её век, задерживаясь на каждой реснице. Вместе с тем – он всем сердцем ощущал вызов в направленных прямо на него очах. Странное томление, пробуждённое самыми разными ощущениями, возникшими одновременно, сковало его жесты. Даже говорить приходилось сквозь какую-то препону, сквозь лёгкий столбняк.
Сергей Пантелеймонович вздохнул судорожно и сказал голосом, полным боли и мольбы:
– Пойдёмте ко мне в каюту!
Юлия Ивановна не нашлась, чем возразить. Они молча ворвались в восемнадцатый нумер и, не сговариваясь, кинулись друг другу в объятия. Что делать? Эти любящие сердца были созданы друг для друга.
* * *
Рак-рассказчик, он же рак-отшельник пафосно возвёл обе клешни к небесам и торжественно заголосил:
– Есть на земле вещи несоизмеримые, ибо существуют сами по себе и соизмерять их друг с другом невозможно! Но, несмотря на свою несоизмеримость, они подобны, потому что потрясают воображение, живут одними законами вселенной и являются проявлениями божественного промысла! Принято считать, будто природная стихия есть нечто несокрушимое, неуправляемое и даже опасное. Людям свойственно преклоняться перед стихией, иногда вступать с нею в борение, даже пытаться её покорить, но всё равно в результате вновь преклоняться перед её мощью, неистовством и неизмеримостью.
А я вам так скажу: шторм, бушевавший за бортом корабля, был в тот миг ничем по сравнению с той страстью, которая разгорелась промеж Юлией Ивановной и Сергеем Пантелеймоновичем. Пароход кренило то вправо, то влево. Плотные и безжалостные морские валы ударяли в борт, сотрясая металлический корпус.
Стороннему наблюдателю показалось бы, может, что нет ничего опаснее и вреднее для корабля, чем эти безжалостные атаки взбеленившейся воды. Стороннему – да. Но не нам. Мы-то знаем, что в этот самый миг внутри корабля, а точнее в каюте номер восемнадцать разыгрывалась куда более неудержимое и неуправляемое действо! Никакой, даже десятикратно усиленный шторм не мог бы помешать той стихии, которая бушевала в восемнадцатом нумере! И уже не ответить: от шторма ли вздрагивали бокалы и бутыли в баре? От шторма ли тряслись и дребезжали окна в каютах? Шторм ли напрягал многочисленные заклёпки судна, носящего имя известного русского полярника?
Знал ли капитан, мужественно стоявший в этот миг на мостике, тот самый капитан, который одним видом потряс воображение маленькой Милюль, до чего ничтожна его борьба? В то же самое время, когда нос корабля то и дело нырял в пучину, когда волны перекатывались через палубу, и порой мерещился девятый вал, внутри находились люди, которым не было до того никакого дела. Стихия, захватившая их, была в сотни, в тысячи раз сильнее, но они не боролись с нею, а, находясь в её власти, сами её создавали.
Корабль то взмывал вверх и стонал всеми своими железами на гребне великанской волны, то проваливался в саму преисподнюю так, что тёр килем лысую башку сидящего на дне морского царя. Не знаю, пароход ли стонал, и Нептунова ли голова билась об его днище? Нет, мои милые, объяснения происходившему в каюте номер восемнадцать и нет приборов для измерения его продолжительности. Может быть, оно длится до сей поры? Вполне может быть, ибо речь идёт о параллельном существовании двух стихий. Никому неизвестно, чья стихия, морская, либо человеческая взяла бы верх, но тут раздался, как всегда неуместный стук в дверь каюты.
Юлия Ивановна выскользнула из объятий Сергея Пантелеймоновича, подбежала, неслышно касаясь босыми ногами ковра, к двери и, приоткрыв её, выглянула наружу одним глазом.
За порогом стоял мокрый от бури стюард. Взгляд, которым он одарил Юлию Ивановну, был укоризненным, хоть и слегка пьяным. Стюард протянул пакет и сказал:
– Вот, вам, барыня, леденцы. Иногда помогают-с. Но, смею заявить: погода такая наступила! Хороший хозяин собаку за дверь не выставит. Я уж хотел, было не возвращаться вовсе, но всё-таки, это моя служба-с. Выпил немного для храбрости и прошёл-с через палубу-с. Тут шторм такой-с, что дверь в коридор-с настежь распахнуло-с. Я её еле-еле закрыл-с.
– Мерси – ответила Юлия Ивановна и хотела, было затворить дверь, как стюард довольно ловко подставил в щель ботинок. Она не ожидала такого хамства от прислуги и остолбенело уставилась на наглеца.
– Вознаграждения не плохо было бы-с за геройство-с… – заявил хам.
– Обождите минуточку – попросила Юлия Ивановна.
– Буду ждать тут-с – пообещал лакей и на этот раз не воспротивился закрыванию двери.
Юлия обернулась к Сергею. Он уже накинул пиджак и доставал купюру:
– Сейчас я выдам ему за геройство – пообещал он, засовывая кошелёк во внутренний карман – он у меня получит и кнута и пряника в одной упаковке.
– Не стоит его наказывать, Серёжа, погода и впрямь не пляжная. Давай, я ему твой рубль сейчас вручу, а о дисциплине ты побеседуешь с ним в другой раз, а-то теперь ты уж больно в растрепанном виде. Он и бояться станет и зубоскалить. Конфуз.
Сергей смутился:
– Твоя правда, Юленька. Хоть это и не педагогически. Держи вот, отдай мерзавцу. Пускай отвяжется.
Юленька приняла ассигнацию и, приоткрыв дверь, вручила её стюарду.
* * *
Старый рак замолчал, лениво шевеля челюстями. Рак-доходяга воспользовался паузой и спросил:
– Не объясните ли вы, о мудрейший, что такое ассигнация?
– Какая разница! – махнул мудрейший клешнёй – Разве об ассигнациях мой рассказ? О кораблях ли? Неужто я решил поведать о стюардах, леденцах и прочей ерунде? Я почём зря трясу воздух, в то время как главная героиня моего повествования осталась в каюте номер семнадцать, и я о ней как-будто забыл. А она сидит там, в обществе неразговорчивого мальчика, держит в руках брошку в виде малахитовой лягушки и не знает, что ей теперь делать и как дальше жить. Всё, что должно было оставаться неизменным в её жизни, поменялось, а то, что должно было пройти и смениться, осталось нетронутым. Вчера был день рождения, сегодня опять он. Вчера подарили брошку, а нынче сызнова. С другой стороны, вчерашняя няня стала тёткой, и всё остальное вокруг похоже на то, да не то. От такой расстановки того и гляди, с ума сойдёшь. Вот и думает себе Милюль: «Может, я сплю? Может, мне это всё снится? А что, бывают такие смещения во сне. Где ещё им быть? Не в жизни же!»
Пока она так сидела, да размышляла, Алексей собрал матрёшку, залез в сказочный сундук и достал оттуда картонную коробку, на лицевой стороне которой была нарисована крепость с храмами и колокольнями. Старорусской вязью там же было написано: «Сергиевъ посадъ». Он открыл крышку и извлёк аккуратно уложенные детали макета Сергиевой Лавры.
– Совсем другое дело! – оценил мальчик находку – Вижу, никто этот макет ещё не собирал…
– Чего тут собирать? – отозвалась Милюль – Это неинтересно.
– Вовсе даже наоборот – возразил Алёша и, уложив на пол рельеф, с вырезанными в нём аккуратными гнёздами для стен и строений, начал собирать макет Лавры. Милюль следила за точными и аккуратными действиями юного конструктора и по мере того, как маленькие монастырские стены, церковки с золотыми куполами и мизерными крестиками вставали на положенные места, создавая точную копию архитектурного ансамбля, увеличивался её интерес к личности маленького молчуна.
– За что тебя Сергей Пантелеймонович взгрел? – спросила Милюль.
– Дядька то? – уточнил Алёша – А кто его знает. Я стою себе на палубе, никого не трогаю, вдруг они с твоей тёткой подлетают, и давай орать как резанные.
– Так ты на палубу сбежал?
– Не сбежал, а вышел. Чего мне в каюте сидеть?
– Сам капитан велел господам и дамам пройти в каюты!
– Верно. А я по-твоему кто? Господин, или дама?
Милюль рассмеялась от такого вопроса:
– Ну, что не дама, это точно.
– Вот то-то. Я и не господин. Я мальчик Алёша, покоритель морей. Так с чего мне торчать в каюте? Я должен своими глазами видеть бури и шторма, чтобы научиться их покорять.
– Иди вон, к окну и видь своими глазами.
– Сейчас. Сложу макет до конца и пойду – пообещал покоритель морей.
Милюль пододвинулась к нему поближе. Макет был уже почти готов. Алёша вставлял в дырочки маленькие деревца на ножках-гвоздиках.
– Вот тут не хватает самого главного – сказала Милюль, и положил на площади перед главным собором свою брошку-лягушку.
– Её там нет – возразил Алеша.
– Значит, будет – улыбнулась Милюль.
– Ну, ладно – Алёша встал и, покачиваясь вместе с каютой, подошёл к окну. Постоял там некоторое время, всматриваясь в ревущую тьму сквозь потоки стекающей по стеклу воды. Неудовлетворённо хмыкнул и сказал:
– Смотреть на бурю сквозь стекло – это удовольствие для изнеженных девчонок. Мы сидим тут как кроты, а в это время капитан стоит на мостике, не защищённый никакими стеклами.
– Не может быть! – воскликнула Милюль, вспомнив белый китель и белую фуражку капитана – он же может намочиться!
– А, может быть, он хочет быть мокрым? – спросил запальчиво Алёша – Вам, девчонкам, не понять, что такое настоящий капитан! Настоящий капитан всегда мокрый! А когда корабль входит в полярные воды, у капитана на носу вырастает такая сосулька, что мешает ему поворачивать штурвал.
– И как же он поворачивает?
– А вот так! Вместе с головой и поворачивает – и Алёша довольно потешно изобразил, как капитаны головой и руками одновременно поворачивают штурвалы. Милюль рассмеялась, а Алёша с неожиданной серьёзностью в голосе предложил:
– Пойдём на палубу, на бурю посмотрим?
– Вот ещё, глупости! – возмутилась Милюль – Мало тебе досталось? Теперь ты хочешь, чтобы и меня из-за тебя наругали?
– Не наругают! – пообещал Алёша – Они сейчас стюардов воспитывают. А мы мигом, выбежим на палубу и обратно.
– И зачем же нам выбегать? – резонно поинтересовалась Милюль.
– Чтобы на самом деле ощутить, что такое буря в море.
– Нет. Это глупые фантазии, как говорит тётя Юлия.
– Ну, давай, хоть краешком глазика, через дверь глянем? – Алёша просил, но просил не так заунывно и гнусно, как просят занудные дети, а наоборот, азартно и увлечённо. Он демонстративно предвкушал несказанные радости, которых так хочется в жизни. Его глазки горели восторгом, все его интонации выдавали с трудом сдерживаемый азарт грядущего приключения и, конечно же, детский этот азарт стал постепенно просачиваться в Милюль.
«Почему бы и не пойти? – спросила Милюль саму себя – почему бы не ощутить упругий ветер и солёные брызги, не посмотреть на страшные волны, которые грозят кораблю неминуемой погибелью? Почему бы не ощутить себя на минуточку бесстрашным капитаном, или пиратом, грозой морей?»
– Ну, пойдём. Уговорил – решилась она, и дети выскользнули в коридор.
Они стремительно и неслышно прошмыгнули мимо длинного ряда номеров, быстро достигли выхода на палубу и остановились около него.
– Ну, что теперь? – спросила Милюль.
– Теперь пойдём! – ответил Алёша и толкнул дверь. Дверь не поддалась.
– Заперто что ли? – пробурчал мальчик и навалился на дверь всем тельцем. На этот раз дверь сдвинулась, приоткрылась на несколько сантиметров, впустила в коридор порцию холодных брызг, и снова захлопнулась. Алёша повернул к Милюль удивлённое лицо, и, пнув дверь ногой, попросил:
– Помоги. Мне одному не справиться!
– Тоже мне, герой! – Милюль скорчила презрительную гримасу, но тут же и решила помочь. Вдвоём они навалились на упрямую дверь. Дверь упиралась, то поддаваясь, то наоборот, давя на них, будто кто-то пихал её с той стороны. Совместными усилиями Милюль и Алексей толкали её, пока она, наконец, не пошла вперёд.
Едва отворившись, дверь тут же распахнулась настежь, вывернулась наружу. Злой, холодный дождь ударил Милюль сразу со всех сторон. Алексея сбило с ног и поволокло по мокрой, накренившейся палубе. Милюль же повисла на припёртой ветром к стене двери и никакая сила не смогла бы разжать её рук.
– Держись! Я тебе помогу! – крикнула Милюль вслед стремительно уползающему Алёше, но оторваться от дверной ручки было слишком страшно.
– Господи, только бы он не утонул! – взмолилась она, потеряв Алёшу из виду, а ветер с брызгами всё бил и бил её. Милюль поняла, что иного выхода нет, надо срочно идти на помощь. Тогда Милюль ухватилась за перила, шедшие вдоль стены и, держась за них, стала медленно передвигаться сквозь мокрый полумрак бури. Периодически ветер обрывался, но тут же спохватывался и кидался с новой силой. Корабль шатал девочку во все стороны, то отрывая от стены, то ударяя в неё.
Добравшись до угла, Милюль – завернула за него и оказалась в относительно безветренном месте. Дождь и ветер били не прямо в нос кораблю, а немного наискось, поэтому здесь было спокойнее.
– Милю-у-уль! – донеслось от перил ограждения.
Милюль вгляделась в серую дождевую мглу. Перила, идущие вдоль борта виделись смутно, но именно от перил исходил этот зов. Милюль разглядела тёмное пятно. Оно находилось чуть дальше, там, где свирепствовал дождь. «Алёша зацепился за ограждение – мелькнула догадка – Надо пробраться к нему».
Милюль дождалась, когда палуба перестала медленно заваливаться вправо по ходу движения корабля и начала обратный ход. Когда крен стал терпимым, она оторвалась от стены и по мокрым доскам заскользила к перилам. Палуба продолжала штормовое движение и, вскоре крен стал настолько велик, что, Милюль прижало к ограждению. Присев и опираясь о решётку, она двинулась в сторону тёмного пятна, выползла из-под прикрытия стены и колючки дождя снова обрушились на неё.
Дождь пробивал одежду. Руки же и лицо, ничем не прикрытые, совсем онемели. Постепенно палуба прекратила крениться влево, и начала обратное движение. Не прошло и нескольких секунд, как Милюль стало отрывать от левого борта, тащить в скользкую серую непроницаемость. Тогда, чтобы не уползти по скользким доскам в мокрую бездну, Милюль просунула между стоек перил ногу и руку, и повисла на них. Только когда корабль вновь выпрямился и начал заваливаться влево, она отцепилась от ограждения и проползла вперёд, чтобы снова зацепиться и висеть так до следующей возможности. Постепенно, метр за метром, Милюль добиралась до Алексея, пока, наконец, не добралась и не повисла рядом.
Он, так же, как и она, зацепился, просунув сквозь ограждение руку и ногу. Обоих детей то наваливало на перила, то начинало тащить в сторону палубы, но они продолжали висеть, ухватившись за железные прутья.
– Ты можешь двигаться? – прокричала Милюль в грохочущую мглу.
– Что? – не расслышал Алёша. Тогда Милюль приблизила лицо вплотную к его уху и изо всех сил заорала:
– Ползи за мной! Там спокойнее! Можно добраться до стены, и вернуться!
– Я не могу! У меня руки не слушаются!
У Милюль, висевшей таким же образом, как и Алексей, руки, тоже перестали чувствовать что-либо. Тем очевиднее сознавала она: времени терять нельзя!
– Ползём рывками, как палуба сюда наклонится! – крикнула она мальчику в ухо.
Когда палуба вновь стала крениться на их сторону, Милюль отцепилась от прутьев, проползла полметра назад и зацепилась снова. Алексей последовал, было, её примеру, вынул из решётки ногу, но палуба уже начала движение в обратную сторону и его неудержимо потащило от перил. Он закричал. Ноги и тело отъехали от борта. Теперь он висел лишь на одном локте и рука, не слушаясь его, начинала медленно распрямляться. Милюль зажмурилась: «Вот сейчас его оторвёт и утащит к другому борту, а потом – так и будет катать по палубе и бить об решётки. Бить и бить до смерти.
Держась левой рукой за стержень решётки, она рванулась вперёд, проскользила по дуге и схватила правой рукой уже отъезжающего по палубе мальчика за онемевшую кисть. Теперь они вместе – висели на одной Милюлиной руке. Если бы это продлилось чуть дольше, они бы непременно, оторвались, но палуба, совершая равномерное качание, уже выравнивалась. Потом она стала крениться в другую сторону, и детей вновь потянуло к перилам. Милюль дёрнула мальчика, подтянула к себе, а потом неимоверным усилием толкнула в спасительном направлении.
Алёша пополз, прижатый к ограждению, туда, куда толкала его Милюль. Он не заметил, не почувствовал, что крен снова стремительно меняется в опасное для него положение, но заметила Милюль. Она схватила его за ноги обеими руками, ногами же зацепилась за стойки перил. Когда корабль оторвал Алёшу, чтобы утащить к противоположному борту, она повисла, точно мартышка, и не дала мальчику пропасть.
То проталкивая Алексея вперёд, то удерживая от неминучего падения, Милюль продвигала его к относительно безопасной зоне между каютами и перилами. Это продвижение длилось бесконечно долго. Так долго, что Милюль потеряла ощущение времени. Она попеременно толкала и держала, толкала и держала мальчика, а ледяная вода всё сыпалась и сыпалась на неё.
Дотащила ли она его? Наверное, дотащила, но Милюль не узнала об этом. В конце концов, силы покинули её, и тогда корабль поволок Милюль по скользкой палубе, разогнал и ударил со всей дури о противоположный борт.
Пароход, служащий убежищам для всех, оказавшихся посреди бушующего моря, для неё, Милюль, стал беспощадным палачом. Он катал её по палубе, с силой ударяя о железы. Ей было больно, но на то, чтобы кричать, или звать на помощь, уже не осталось никаких сил.
* * *
Старый рак печально оглядел сородичей. Все слушали внимательно, но ни в одном взгляде, ни в одной рачьей морде не отражалось и капли сострадания. Тогда он вздохнул и продолжил:
– Эх, братья мои! Та форма жизни, о которой идёт речь, далека от нас, нелепа и безумна. Она может вызывать научный интерес, но не сочувствие. Тем не менее, именно для того я всё это и рассказываю, чтобы вы могли себе представить, как там, среди непонятной для нас фауны присутствует жизнь божественного духа. То самое необъяснимое, которое заставляет шевелиться и переживать всё живое на земле.
Физическая боль, пусть и в иной форме, чем у нас, но так же касается и людей. Когда эта самая боль становится бесконечной, когда каждая секунда жизни приносит новые страдания, то само бытие становится нестерпимой пыткой. Любая живая тварь спасается от боли и стремится её миновать. Даже в самом безнадёжном случае она ищет средства спастись.
Когда же все возможности исчерпываются, сама природа приходит на помощь и посылает нам то, что есть у неё про запас. Иногда в этом запасе остаётся совсем немного средств. У нас накопилось множество приёмов, чтобы отвлечь себя от физических и духовных страданий.
Есть они и у людей. Люди прибегают к анестезии, они употребляют самые разнообразные зелья от алкоголя до наркотиков, чтобы только не страдать, но страдания догоняют несчастных и продолжают бесконечную пытку, потому что каждому отмеряно претерпеть свою боль, как бы он ни уворачивался. А любая анестезия есть лишь слабое подражание великому изобретению вселенной под названием небытиё. Оно, представьте себе, есть.
Небытиё настигает нас в короткий миг, когда мы проваливаемся в сон, когда, перегревшись на солнцепеке, мы теряем сознание, когда мы впадаем в анабиоз, чтобы переждать то, что перетерпеть немыслимо. Никто не может измерить небытиё, потому что у него нет настоящих размеров. Со стороны мы видим, как наш соплеменник пробыл в небытии несколько секунд, а самому соплеменнику думается, будто прошла неделя. Так же и наоборот. Нет у меня образов и примеров, чтобы отобразить вам то странное место, находящееся за пределами жизни. Потому мы и говорим об умершем: «Его не стало».
Так вышло и с Милюль. Закончилось её мучение. Прекратились её попытки осознать происходящее. Не только боль, но даже возможность памяти о радостях и огорчениях прекратили быть для неё. Всё прекратилось. Иными словами, она ушла в небытиё.
Алёшу удалось спасти. После того, как стюард принёс леденцы в восемнадцатую каюту, Юлия Ивановна решила навестить детей. Она оставила Сергея и, прихватив кулёк, пошла в семнадцатый номер. Там она обнаружила каюту пустой. Ощущение страшной потери скользкой медузой провалилось ей внутрь. Она кинулась в спальное отделение, с тающей надеждой заглянула под нижнюю полку двухъярусной кровати. Конечно же, там никого не было. Рассыпав конфеты по полу, сама не своя от мрачных предчувствий, Юлия Ивановна выбежала в коридор, толкнула дверь в каюту Сергея Пантелеймоновича и закричала:
– Дети пропали!
Потом по шатающемуся коридору она подбежала к выходу на палубу. Дверь оказалась затворена. Стюард, возвращаясь с леденцами, увидал её открытой и посчитал нужным закрыть, да запереть от греха подальше.
Долго билась Юлия Ивановна, пытаясь отворить злосчастную дверь, пока подоспели стюард и одевшийся Сергей Пантелеймонович. Взялись искать в каютах. Стучались во все номера. Только выяснив, что нигде детей нет, они отворили дверь и, преодолевая страшную бурю, продолжили поиски во мраке, на танцующей палубе. Алексей нашёлся там, куда тащила его Милюль, в проходе, огибающем пассажирские каюты. А вот самой Милюль нигде не было.
Я мог бы рассказать о том, как билась в рыданиях Юлия Ивановна. Рассказал бы о том, как безуспешно пытался утешить её Сергей Пантелеймонович. Я мог бы рассказать о горе и страданиях всех людей, причастных к жизни несчастной девочки Веры, которую так нелепо выбросило из нашего мира. Но ни о чём этом я рассказывать не хочу.
Старый рак выпростал из-под раковины длинные волосатые ноги и поднялся, чтобы ползти к морю.
– Жаль, что всё кончилось – вздохнул зелёный бородач – вы так занимательно рассказывали, старейший, что мне порой казалось, будто речь идёт не о каких-то там людях, а о нас, о разумных существах.
Да ничего не кончилось! – возразил старейший – Мы в самом начале, но прилив зовёт меня на морское дно. Надеюсь встретить вас вскоре, чтобы продолжить мою фантастическую историю. У меня есть ещё, чем всех вас удивить. Придёте?
– Обязательно! – пробулькал зелёный рак. Остальные раки уже торопились скрыться под наступающими водами океана.
Глава третья Понедельник
Прилив, как всегда, сменился отливом. Кто бы мог ожидать иного? Вокруг большого камня собралась группа отшельников. Некоторые приковыляли из самых отдалённых краёв пляжа, чтобы послушать байки выжившего из ума старца про то, невесть знает что, и галдели, допытываясь у завсегдатаев про начало. Старец дождался, пока собравшиеся угомонятся, и продолжил сказку со следующих слов:
– Раки! Мы имеем большие… нет, очень большие, даже неограниченные возможности. Половину жизни мы проводим под водой. Мы не заботимся о пропитании, потому что постоянно кто-то дохнет и еды всегда много. Порой нам приходится напрячься, в поисках нового жилища, но это мимолётная забота, и стоит её завершить, как снова на нас сваливается благодать праздного бытия. Там, под водными толщами океана, предоставленные самим себе, мы бесконечно черпаем информацию, разносящуюся с бешеной скоростью благодаря упругости воды. Мы слышим, как переговариваются между собой дельфины, как они посылают друг другу сигналы любви и охоты, как они обсуждают вселенские и философские проблемы или поют по ночам. До нас долетает бормотание осьминогов, смех креветок и шёпот медуз. Порой далёкий кит разевает бездонную пасть, и мы слышим биение его сердца. Долгие часы и дни под рокот прибоя мы размышляем об устройстве мира, чтобы потом, выйдя на берег, делиться друг с другом результатами эмпирических открытий и подслушанных наблюдений. Трудно придумать судьбу завиднее и осмысленнее нашей с вами, о мои дорогие братья!
Имея такой простор для развития интеллекта, для познания тайн и решения увлекательнейших загадок мироздания, мы, к великому стыду, множество времени тратим на заучивание ошибочных, или неточных в своей поэтичности догм, выдуманных крикунами прошлого. Леность собственных мыслей, сон своей души мы прикрываем заученными с детства ритуалами и высказанными кем-то упрощениями. Мы сжигаем своё время, собственную жизнь, саму возможность индивидуального движения к совершенству! – Тут рак возвысил голос и патетически воздел малую клешню к небу – Даже улитки не ведут себя так бездумно! Мне стыдно за вас, раки, как стыдно мне и за самого себя!
Некоторое время на берегу царила тишина. Раки пялились на оратора, который молча тряс задранной клешнёй. Наконец рак прекратил трясти конечностью и продолжил:
– Но есть утешение моей измученной стыдом душе! Не всё своё время провёл я в праздности, слушая всяких пустозвонов. Находясь в уединении отшельничества, я нашёл ответы на те вопросы, которые мучают не одного членистоногого. Смею сообщить, что я придумал вполне простые модели, на примере которых могу рассказать каждому тупице, как устроена вселенная и на что похоже движение живой души в потоке времён.
Ропот пронёсся по аудитории. Все раки помнили о богатырской силе учителя, но не сила же является поводом так уверенно говорить о столь высоких предметах. Он же, будто читая их сомнения, поправился:
– Есть в моей конструкции очень даже уязвимое место. Всё, что я буду вам рассказывать, порождено живой мыслью. Эта самая, бегущая во времени мысль, является для меня опорой. Она есть само движение. Но как только я произнесу слова, и результат моей мысли будет услышан вами, сама она прекратит двигаться и сразу исчезнет. Таким образом, мой аргумент, став достоянием гласности, попросту истратится, сгорит, обратится в прах. Вы спросите: зачем я делаю это? Зачем, изрекая истину, убиваю её? Я отвечу вам, братья мои!
Сегодня, сгорая в моей набережной проповеди, истина оставляет след в ваших нервных центрах. Пройдут годы. Ваши дети будут повторять и мусолить эти следы, пытаясь отыскать в них смысл. Бесполезно! Лишь немногим дано выдержать тишину непонимания, возгласы несогласия и прочие ужасы остракизма. Не всем удастся оттолкнуться от праха моих слов и, возбудив всю живость собственного ума, применив личный подход, умения и способности, прийти к оригинальному выводу. Большинству же предстоит копаться в иных моделях, сравнивать одну с другой и в лучшем случае, не прийти ни к чему, в худшем же – что-нибудь выучить наизусть и на этом угомониться. Но пытливым ракам что-нибудь, да пригодится. Итак, братья мои, взирайте и слушайте, я останавливаю мысль и оставляю вам слова, как её неподвижные останки!
Долгими тёплыми ночами, сидя, как и вы, под водой, я силился охватить утлым воображением то бесконечное и необъятное, что мы называем вселенной. Нет, я не пытался пересчитать все звёзды, которые светят с небес, либо ползают по дну. Я не пытался измерять мир перечислениями. И без того моё воображение, этот мощнейший инструмент, отказывалось повиноваться, стоило только попросить его охватить бесконечность. Как бы я ни исхитрялся, всё равно моя башка ограничивалась доступными ей пределами.
Глядя на круглый камень, я мог воспринять его как модель планеты, на которой мы живём. Представляя группу камней, я мог осмыслить солнечную систему. Спираль улитки помогала мне относительно чётко объять внутренним взором галактику, но… согласитесь, даже ощущение огромности океана не может сравниться с тем, что мы теоретически знаем, но никогда не можем себе вообразить.
Мудрые раки прошлого советовали развести клешни в разные стороны и силой мысли продлить векторы от нервного центра до бесконечностей в направлениях вытянутых клешней. Дескать, где упрётся, там и есть предел. Я неоднократно пробовал совершать подобные упражнения. Толку никакого. Хоть мысль моя и всесильна, хоть воображение моё буйное, но за подобными советами я углядел лишь бессильные потуги детского шаманизма. Ни пределов вселенной, ни истины бытия мне не открывалось. Пространство действительно беспредельно в той системе координат, в которой мы, раки привыкли моделировать мир. Выражаясь фигурально, на концах векторов, заданных моими клешнями, я видел вопросительные знаки, означающие невозможность поставить точку.
Ещё большее удивление и непонимание породило во мне расхожее мнение о замкнутости вселенной. Тут я впал в полный ступор и неделю переживал от стыда за убогость своего интеллекта. Так бы я и печалился, до сей поры, кабы не подошёл к рассмотрению данной модели под совсем иным ракурсом.
Я решил упростить трёхмерную и непостижимую модель космоса до ограниченной двухмерной площади, через которую проходит равномерно движущаяся плоская модель условного времени. Я представил две эти плоскости как почти равноценные, как границы двух сред, волею случая соприкасающиеся друг с другом. Что представлять? Эту модель очень легко увидеть. Вон она – тут рак указал клешнёй на волны прибоя, нежно гладящие песчаный пляж – видите, как вдоль плоскости, отделяющей земную твердь от всего остального, мчится тонкая грань, отделяющая воду от воздуха? Именно эта самая, движущаяся граница земли, воды и пространства подобна текущему через вселенную времени. Лишь на грани пересечений происходит жизнь, и лишь саму эту грань мы ощущаем как нашу реальность.
Вы возразите мне, мол, каждая волна конечна. Да, отвечу я вам, но попробуйте сообщить мне хоть приблизительно, сколько этих волн прокатилось по нашему пляжу за те сотни миллионов лет, которые существует океан?
Да, братья мои, пляж имеет границы, жизнь отдельно взятого рака тоже имеет предел. Предел есть даже у океана. Даже у воображения есть предел, но нет предела числу волн на бескрайних берегах океанов и морей. Тем паче, нет числа перевёрнутым прибоем песчинкам, нет числа для измерения всего многообразия их жизни от момента, когда они откололись от цельного куска кварца, до того, когда они, успокоенные в спрессованном песчанике, вновь расплавятся в огненном коллапсе. Вот и нарисовалась простенькая, доступная любому модель бесконечности.
Рак торжественно обвёл выпученными глазами окружающих. Некоторые раки энергичным молчанием демонстрировали восторг перед маленькой моделью большой бесконечности. Другие же, хоть и сидели со скептическими рожами, но уже не роптали. Рак продолжил:
– Любая модель – не точная копия оригинала, а лишь грубое его подобие. Тем не менее, если приглядеться внимательно, то можно увидеть, как окружающий нас мир строится из подобий, в той или иной мере отражающих нечто большее. А как иначе? Вот, например: может ли тело улитки не быть подобным собственной раковине? Если бы могло, то она никогда бы не построила эту раковину. Улитка вываливалась бы из раковины.
Существующее вне подобий, не только невозможно, его даже нет. Перед каждым из нас насыщенный подобиями мир. Каждый видит его, постоянно познаёт и некоторым образом меняет. Невидимая линия прибоя, называемая временем, катится сквозь пространство только благодаря осмысленному взгляду каждого из нас. Не было бы этого взгляда, не было бы и самого времени и перемен и даже вселенной.
Космос существует лишь тогда, когда сознание живёт в нём. Стоит вам умереть, или бякнуться в обморок, как наступает безвременье. Вы оказываетесь выключенными из движения жизни и замираете, как замирает брошенная волной песчинка. Так и лежать вам, пока новая волна времени не оторвёт вас от неподвижного пространства и не пойдёт крутить да вертеть, чтобы бросить на новом, никому неведомом месте. Это, если хотите, тоже не точная, приблизительная, но действующая и наблюдаемая модель.
Я говорю так, потому что с высот своей старости смотрю на рачью жизнь и вспоминаю, как я был совсем маленьким рачком, как искал себе первый домик. Взглянув на себя со стороны, я легко могу сравнить свои перемещения с движениями песчинки. Однажды оторвало меня от вселенской неподвижности и понесло в круговоротах и бурунах!
Делая подобные сравнения, я не могу забыть и того, что сам себя воспринимаю отнюдь не со стороны, но и не изнутри. Я воспринимаю себя именно ежесекундно. Неразрывная связь с потоком времени даёт мне возможность ощущать себя так, как я не смогу ощутить никого из вас.
Тут-то возникает второй нюанс этого дела: я есть лишь в этот момент. Тот я, который был когда-то, это уже совсем не я. Я сегодняшний не смогу быть собой вчерашним, я не властен над его поступками так же, как он не властен над мыслями, пришедшими только теперь. Лишь память связывает меня с ним, а разделяют и время и пространство. В этом смысле, я гораздо ближе к каждому из вас, чем к самому себе, потому что нас разделяют лишь небольшие расстояния. У нас нет общей памяти, общих воспоминаний, ну и что с того? Зато мы можем беседовать. Мы можем сопереживать, хоть в каждом сидит, казалось бы, своя собственная душа.
А скажите мне, раки, собственная ли она? Подходит ли к душе понятие о собственности? Я уважаю чужую собственность и готов постоять за свою, но причём здесь душа? Мою душу никто не может присвоить себе, и я, даже если убью кого-нибудь из вас, ничего с этого не поимею. Более того, я неправ, когда говорю: «моя душа». Так я пытаюсь присвоить то, что не очень то присвоится. Нет! Именно, что тут совершенно нелепо говорить и рассуждать с позиции владения, имения и принадлежности. Я и есть я, летящий в волне времени и созерцающий маленький отрезок бесконечной вселенной. Наступит безвременье, и я прекращу это делать. Когда же безвременье закончится, то кем я буду? С какого места стартует та песчинка, которая понесёт новую, свою, но уже не мою самость? Никто не знает.
Можно только предположить, глядя на оставленные волной песчинки, что безвременье не вынесет нас на другое место. Безвременье потому так и называется, что в нём нет движения ни вперёд, ни назад. По прошествии безвременья, проснувшаяся душа может оказаться как впереди, так и сзади, а то и сбоку от того места, с которого начинала прежний путь. Кто сможет отрицать предположение о том, что, умерев завтра, я могу родиться три, или четыре года назад? В таком случае та же самая душа вполне может встретиться сегодня со мной, неся совсем другой груз памяти о жизни иного существа. Так это же может быть каждый из вас! Кто теперь будет отрицать возможность того, что душа, живущая во мне и душа, живущая в каждом из вас, по сути одно и тоже?
Слушатели молчали, и старый рассказчик, явно довольный собой, заключил:
– Если возражений нет, значит одно из двух: либо возразить нечего, либо я сморозил такую ересь, которая за пределами всех возражений. В том и другом случае, тема дискуссии исчерпалась, и пора нам вернуться к нашей Милюль.
Как вы помните, мой вчерашний рассказ закончился очень даже печально. Милюль провалилась в небытиё. Её не стало. Та самая волна времени, что несётся сквозь мир, оставила песчинку её души валяться в неподвижном и незаметном для всех состоянии. Это, я вам скажу, бывает с каждым. Я тоже иногда так сильно засну, что ничего не помню. Ни себя, ни сновидений. Я не помню даже того, сколько времени я так вот ничего не помню.
Никто не знает, в какой миг мы вываливаемся из безвременья в так называемую фазу быстрого сна. Это всегда происходит столь незаметно, что и не скажешь, с чего всё началось. Так же, собственно, мы и рождаемся. Вот, живёт индивид и живёт себе, а спроси его: «Ты помнишь, с чего всё началось?» Что он ответит?
Конечно, есть такие, которые подробно будут рассказывать услышанное некогда от родителей, но, ведь это совсем не то, что они помнят сами. И выходит, что всякий помнит свою жизнь не с начала, а как бы с полдороги. Возьмёт вдруг, да вспомнит, как он едет верхом на собаке. А собака огромная, волосатая, больше него. И удивительно ему до сих пор, что та собака была пудель. «Да! Был же пудель в наше время!.. Теперь пуделя не те. Мелковаты стали, мелковаты!» – То же и во сне: Никогда неясно, с чего он начался. Сон идёт, значит идёт и, как раз в эту секунду всё понятнее понятного.
К чему это я говорю? Да к тому, что нельзя сказать с точностью с какого момента начался выход Милюль из её безвременья. Важно, что она из него вышла. Она вновь оказалась втянута в бесконечный круговорот волны, называемой временем.
* * *
И опять началась жизнь. Странная, тусклая. В зеленоватом мутном пространстве Милюль двигалась мимо развешенных гроздьями шаров. Внутри шаров угадывались контуры таких же, как Милюль существ, но только запертых, ещё не вылупившихся. Милюль поднималась вверх, туда, где скользили, перемежающиеся тёмными полосами теней, отблески дневного света. Солнечные пятна шевелились и вздрагивали на зыбком потолке. Длинные лучи шли от этих пятен вниз, постепенно растворяясь в мутной глубине. Лучи двигались, выхватывая из сумрака многочисленных личинок, которые дрыгали хвостами, тоже стремясь куда-то плыть.
«Это еда» – подумала Милюль. Простота мысли порадовала её. Замечательная идея ловить этих личинок и съедать – захватила все её существо. «Как я раньше не догадалась»? – восхитилась Милюль и, разинув рот, устремилась за одной из личинок. Личинка дернула хвостиком и ускользнула. «Ах, ты!» – возмутилась Милюль, и кинулась за другой.
На этот раз охота оказалась удачной. И во второй, и в третий раз… Милюль стремительно перемещалась в воде, проглатывая личинки. Азарт охоты и радость от череды удач приносили ей несказанное удовольствие. Казалось, насыщение не наступит никогда. Как это было увлекательно! Цель, атака, победа! Цель, атака, победа. Цель, атака…
Гонясь за очередной целью, Милюль неожиданно вынырнула на поверхность и плюхнулась обратно, ослеплённая и ошарашенная. Там не было воды. На верху, за тонким светлым потолком оказалось сухое горячее пространство, не имеющее ни границ, ни смысла.
Милюль погрузилась в глубину. «Надо быть аккуратнее» – сказала она себе. Это была правильная мысль. Очень правильная и очень своевременная.
Сверху, чётко различимая на фоне светлой поверхности, двигалась огромная хищная тень. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить: это сама смерть движется, отыскивая таких вот глупых Милюлей, увлечённых охотой, и забывших о том, что жизнь полна опасностей.
Милюль припомнила, как нечто страшное надвигалось на неё ещё совсем недавно, когда она сидела в своей давешней оболочке. Она вспомнила вселенский ужас, и воспоминание сковало мышцы. Неподвижно вися в темной глубине, она смотрела на проплывавшую наверху огромную и совершенную машину уничтожения.
Похожий на веретено корпус обрамляли механически точные плавники. Силуэт хищной морды шевелил ужасными жабрами, выпуская завихрения воды, а сзади слегка покачивался мощный костистый хвост. «Это рыба» – сказала сама себе Милюль и тут же удивилась: «Откуда я знаю про рыбу?»
Рыба как будто услышала Милюль. Она совершила плавный красивый кульбит, нырнула и, развернувшись, устремилась прямо на неё, на Милюль. Бешено дрыгаясь всем телом, Милюль помчалась вниз, в глубину к спасительному дну. Но её скорость была куда медленнее, чем надо. Вот рыба уже разинула пасть, вот уже острые зубья начали смыкаться впереди, но Милюль всё продолжала отчаянный бег от неотвратимого.
* * *
Так она и проснулась, вопя и дрыгая ногами. Некоторое время ей даже казалось, будто пятки стукаются в твердое нёбо того чудища, которое только что гналось за нею. То обстоятельство, что с трёх сторон от неё были крашенные в белый цвет стенки, ничуть не успокоило, и ещё некоторое время она продолжала вопить с открытыми глазами. Наконец, в поле зрения сфокусировался озадаченный мальчик, и Милюль закрыла рот. Мальчик стоял рядом и с любопытством разглядывал её.
– Чего орёшь? – спросил отрок, которого, судя по всему, следовало идентифицировать, как в очередной раз изменившегося кадета Алёшу. Во всяком случае, его внешность была почти той же. Почти, но не совсем. Если бы Милюль не начала привыкать к ежеутренним изменениям, она приняла бы этого парня за двоюродного брата вчерашнего Алёши, которого она спасала. Милюль точно помнила, как пыталась его спасти, но не помнила, чем дело закончилось.
Сегодняшний мальчик оказался очень странно одет. Белая майка с огромным декольте заправлена в чёрные ситцевые трусы почти до колен. Надо быть или клоуном, или больным, чтобы в таком виде предстать перед дамой. Определённо дикий наряд на этом, сегодняшнем мальчике. И всё же, тот это мальчик, или не тот?
– Алёша? – спросила Милюль.
– Эк тебя перемкнуло – неопределённо ответил он, или, быть может, так он уклонился от ответа? Милюль не успела разобраться, как мальчик добавил:
– Очнитесь, вы дрыщите! – тут он премерзко заржал и упрыгал из поля зрения.
Милюль огляделась. Как и следовало ожидать, сегодняшняя каюта была значительно теснее и проще вчерашней. Да что там проще! Это был прямо сказать, железный гроб. Никакого пространства. Вместо квадратного окна – под потолком круглый маленький иллюминатор. Под иллюминатором откидной столик, за которым двоим тесно. Милюлино спальное место…. именно, спальное место, а не кровать, было зажато между столиком и железной стенкой. Сверху, судя по всему, было ещё одно место, потому что высоты над койкой хватало лишь на то, чтобы сесть.
У головы хлопнула дверь, и в поле зрения снова появился этот полуалексей. На сей раз его шею украшало переброшенное полотенце. В одной руке он держал обтекаемую коробочку, а в другой – зубную щётку.
– Долго будешь валяться? – поинтересовался он. Милюль подумала, что ему, как спасённому, неблагодарно так себя вести, и спросила:
– Значит, ты выжил?
Вопрос озадачил мальчика, потому как он сначала уставился бараном, а потом заключил:
– Ну, тебе и кошмарик приснился!
– Какой такой «кошмарик»?
– Что же ещё? Сначала ты орёшь как резанная и ногами дрыгаешь, потом говоришь, что я выжил, а я и не думал помирать. Вот я и понял: тебе приснился кошмарик.
Милюль попыталась восстановить в памяти последние события. Был рыжий и упрямый мальчик. Потом его снесло по скользкой палубе к перилам, прижало там, и он висел беспомощный и мокрый. Потом она пихала его к безопасному месту, удерживала, когда корабль был готов оторвать его от перил и унести в штормовую пучину. Потом ей было больно. Потом… воспоминания заканчивались, и сколь Милюль ни напрягалась, ничего вспомнить не могла.
– Ты долго намерена глазами хлопать? – поинтересовался спасённый, и посоветовал пойти, умыться.
– Идти далеко? – уточнила Милюль.
– Как всегда – расплывчато ответил он и, запрыгнул на верхнюю полку.
Милюль подумала, что сегодняшнее «как всегда», судя по началу дня, будет совсем не таким, каким было «как всегда» вчерашнее. Вчера тётка Юлия, хоть и выражалась порой дико, всё же была куда конкретнее этого недоросля в майке.
Тут в сердце Милюль мелькнула надежда, на то, что тётка может находиться где-то поблизости и надо найти её, чтобы она навела порядок. Встав с койки, Милюль обнаружила себя одетой в полосатую пижаму, нелепую с виду, но вполне удобную. Ещё большее удивление вызвали у Милюль свои же собственные руки. А потом и ноги. Посмотрев на ладони, Милюль обнаружила, что пальцы сильно вытянулись. Вообще кисти рук изменились до неузнаваемости. Они стали по-птичьи угловатыми. Ноги тоже стали длинными, как у цапли.
– Долго будешь себя разглядывать? – прозвучало совсем рядом. Милюль обернулась. Около её уха, на полке, находящейся на уровне её плеч, лежал этот самый мальчик.
– Ты чего тут делаешь? – Милюль захотела выяснить, почему отрок находится в женской опочивальне.
– Корову продаю – невозмутимо ответил тот и усмехнулся.
Милюль невольно оглянулась. Никакой коровы рядом не было, да и вряд ли она уместилась бы в столь тесной каморке. Тем не менее, отвечал мальчик уверенно, не задумываясь. Значит, корова где-то должна быть.
– И где твоя корова? – спросила Милюль.
– Где-где! У тебя на бороде! – ребёнок явно глумился над ней.
Милюль это показалось неприятным. Какое он имел право так нагло и продолжительно издеваться? Почему он решил вместо того, чтобы отвечать на её вопросы, врать, дразниться и проявлять свою дикость?
Милюль постояла, подумала и вдруг, как треснет ему по пузе. Мальчик скорчился от боли. Он пытался вдохнуть, но его организм отказывался заглатывать воздух. Милюль попыталась ухватить его за волосы. Пальцы скользнули по коротко стриженой голове. «Надо же, как его постригли!» – подумала она и, сцапав задыхающегося мальчика за уши, притянула его лицо вплотную к своему.
– Послушай, мальчик – сказала она, глядя в его испуганные глаза – или ты будешь отвечать на мои вопросы, или я тебя убью. Ты меня понял?
Мальчик моргнул, и из его глаз выкатились две большие слезинки. Милюль стало на мгновение жаль шалопая, но она только нахмурила брови и на всякий случай ещё раз уточнила:
– Ты точно понял, что я тебе говорю?
Мальчик, наконец, обрёл дыхание и прохрипел:
– Понял. Ухи отпусти!
Милюль отпустила его уши, и собралась уже продолжить беседу, как вдруг этот стриженый обманщик со всей силы саданул ей коленом в ухо. Сначала вспыхнуло слева внутри черепа. Потом голова ударилась о стенку каюты, и вспыхнуло справа. А коварный ребёнок ещё и прыгнул с верхней полки ей на шею, от чего Милюль упала на пол, ударяясь последовательно коленями, локтями, подбородком. Из носа хлынула кровь. Боль разлилась по всему телу и стала всеобъемлющей.
Вместе с болью, всё её существо охватил воинственный гнев. Не думая о том, как она сейчас выглядит, Милюль брыкнула ногами, перевернулась под мальчишкой и высвободившейся рукой ухватила его за нос. Мальчик дико взвыл и временно прекратил охаживать её кулаками. Не отпуская его носа, второй рукой Милюль стукнула по ненавистной голове. Мальчик свалился, и она моментально оказалась на нём. Сцепила руки на его тощей шее и стала душить. Он вертелся ужом, дёргался, вырывался и хрипел, но Милюль была явно сильнее. Постепенно противный мальчик стал задыхаться. Ярость всё ещё бушевала в сердце девочки, но по мере того, как угасал в её руках враг, отступал и гнев.
– Не буду тебя убивать – вынесла приговор Милюль, и отпустила мальчика. Он закашлялся, схватился за шею и усиленно задышал.
Милюль поднялась, одёрнула пижаму. Спросила:
– Ну, так что, мы договорились?
– Совсем ты, сеструха, сбрендила – ответил недобитый упрямец, за что моментально получил удар ногой в пах и скорчился.
Милюль собиралась, было ещё раз пнуть его, да так и замерла с занесённой ногой.
– Как ты меня назвал? – спросила девочка.
– Как, как – передразнил её поверженный, но не побеждённый издеватель – сядь, да покак!
– Давай договоримся – предложила Милюль – ты отвечаешь на мои вопросы, а я тебя за это не бью. Хорошо?
– Плохо – возразил упрямец, и, получив новую оплеуху, возмутился:
– Ты чего, я же ответил!
– Неправильно ответил – объяснила Милюль – отвечать надо правильно. Ну, ты готов?
Мальчик кивнул.
– Вот и славно – поощрила его сговорчивость Милюль – вижу, что мы поладим. Ещё раз спрашиваю: повтори, как ты только что меня назвал?
– Тебя? – переспросил мальчик и, увидев, как Милюль заносит над ним кулак, тут же вспомнил – сеструха.
– Хочешь сказать, что я тебе сестра?
– А кто же ещё?
– Н-да-а-а – Милюль задумалась. Любой человек меняется со временем. Меняется и окружающий его мир, но чтобы изменения происходили так катастрофично, это уже перебор. Позавчера этот мальчик был блистательным кадетом, героем и девичьей мечтой. Вчера он же был мелким и противным Алёшей, но опять никаким не родственником. Теперь же он назвал её сеструхой, а это всё-таки признание родства, хоть и в грубой форме.
– Сеструха – пробормотала Милюль – какое грубое слово. Почти старуха. Хотя… слушай, Алёша.… Ведь тебя зовут Алёша, или нет?
– Нет, я Кеша! – злобно сказал мальчик, но потом всё-таки поправился – Вообще-то я Павлик. Не ожидал, что ты забудешь о таком пустяке. Ещё вчера у тебя моё имя не вызывало никаких вопросов.
– Ага… ну, ладно. Павлик, так Павлик… – Милюль села на своё спальное место, взяла со столика лежавший там носовой платок и вытерла кровь из-под носа.
Перемены, произошедшие на этот раз, были настолько поразительны, что вчерашний рассказ Сергея Пантелеймоновича про водонапорную башню поблёк и померк. Происходящее не укладывалось в голове. Бесполезно было даже что-либо предполагать. Никакие объяснения не годились. Павлик прервал её размышления:
– Прости, сестра. Я забыл тебя поздравить с днём рождения. Не ожидал, что ты так сильно расстроишься. Давай помиримся. Я поздравляю тебя с днём рождения и желаю успехов в учёбе и счастья в личной жизни – сказав так, Павлик сел рядом и протянул ей невесть откуда взявшуюся у него морскую раковину. Милюль взяла раковину и, внимательно разглядывая её, спросила:
– Значит, у меня опять день рождения?
– Да. Раз в году он повторяется. Тебе всегда нравилась эта ракушка, вот я и решил её подарить…
– И что? – спросила Милюль – мне опять шесть лет?
Павлик хихикнул и явно вознамерился съехидничать, но передумал:
– Прости, сестра, я не знаю, как правильно тебе ответить. Боюсь, ты опять начнёшь драться – и добавил, вздохнув – ещё вчера ты была нормальной.
Ситуация продолжала оставаться нелепой, но уже наметились положительные сдвиги. Павлик не кривлялся и не дерзил. Милюль улыбнулась ему:
– Ага. Значит, сегодня со мной что-то не так?
– Конечно не так! – воскликнул Павлик – Ты как проснулась, так и несёшь нелепицу. Потом вот драться начала. На мой взгляд, по тебе психушка плачет.
Милюль удивилась непонятному слову:
– Не знаю, кто она такая, эта твоя психушка. Может плакать, сколько ей вздумается. Мне теперь надо подробно узнать, что было вчера.
– У тебя что, амнезия?
– Может быть. Я не знаю, что это такое. Вообще ты говоришь много незнакомых слов. Давай так: Ты расскажи мне, что мы вчера делали.
– Сняли штаны и бегали – брякнул Павлик и тут же демонстративно прикрыл рот ладонью – не дерись, я пошутил.
– Хватит шутить. Рассказывай.
– Рассказываю. Мы сели на катер и отправились вверх по Неве. Прошли мимо крепости Орешек. Пытались играть в пинг-понг, но дул сильный ветер и волан улетел. Потом ты играла с папой в шахматы. Потом мама позвала нас ужинать. Мы ужинали. Потом пошли на нос, и папа сказал, что завтра в честь твоего дня рождения, устроит артиллерийскую стрельбу, но нам во время стрельбы надо будет находиться в каюте, иначе оглохнем.
– Какой то бред – перебила Милюль Павлика – А шторм был?
– Вот, именно шторм, это и есть бред.
– Ну, хорошо. Значит, шторма не было?
– Абсолютно.
– А где Сергей Пантелеймонович?
– Спокойствие, сестра, только спокойствие! Не дерись, но я, честное пионерское, не знаю, о ком ты говоришь.
– Ладно, поверю на слово. Следующий вопрос: где тётка Юлия?
– Какая Юлия?
– Моя тётка, которая перед тем, как стать тёткой, была нянечкой – попыталась разъяснить Милюль.
В каюте повисла долгая пауза. Дети молча смотрели друг другу в глаза. Постепенно к Милюль приходило осознание того, что её вчера абсолютно не совпадает с тем вчерашним днём, о котором говорил сейчас Павлик. Для того чтобы быть уместной в этой жизни, ей придётся проститься и с тёткой и с Сергеем Пантелеймоновичем и даже с самими воспоминаниями о них. Судьба в очередной раз совершила над Милюль непонятную каверзу и опять переиначила окружающий мир. Да и сама она при этом изменилась так, что неизвестно, сколько ей стукнуло лет. Всё вокруг меняется так резко и непредсказуемо… только успеешь чуть-чуть приноровиться, как вдруг – хрясть, и всё исчезло, всё не так, всё по-другому. Неужели теперь так будет всегда?
Наконец, Павлик прервал молчание:
– Слушай, сеструха, или ты талантливо кривляешься, или действительно пора вызывать санитаров. Только где их взять в Ладожском озере?
– Где, где? – переспросила Милюль – разве мы не в море?
– Нет, сеструха, Ладога, конечно, большое озеро, но не море.
– Не называй меня, пожалуйста, сеструхой – поморщилась Милюль – мне это не нравится.
– Ну вот – огорчился Павлик – новый фокус. Как же тебя теперь величать?
– Вообще-то я Милюль.
Мальчик прыснул:
– Милюль! Вот умора! Точно, ты вчера перегрелась!
– Я не перегрелась. Но мои воспоминания о прошлом существенно отличаются от твоих. Согласись, что это не причина надо мной смеяться?
– Вот это да! – удивился Павлик – мало того, что ты говоришь как профессор, но ты, выходит, даже не помнишь, кто я такой. Не, ты основательно сбрендила! Во всяком случае, так выглядит со стороны.
– Думай, как знаешь. Но лучше постарайся войти в моё положение. Судя по всему, я ещё о многом могу тебя неожиданно спросить. Так что не удивляйся. У меня такое ощущение, что моя жизнь до сегодняшнего дня была совсем не такой, какой она виделась тебе.
– Какая дурь! – возмутился Павлик – Пришла охота придуряться, то, пожалуйста. Сколько угодно. Но сама. Я в эти игры не играю.
– Я тоже не играю с тобой, Павлик, и не шучу. Если уж так сложилось, что ты знаешь больше меня, то мне потребуется твоя помощь. Я не сильно тебя побеспокою. Покажи мне для начала, как пройти в уборную и ванную комнату.
– Куда? – Павлик выразил крайнюю степень удивления, как будто в этом новом мире люди никогда не умываются, и не ходят по нужде. Сие нелепое предположение Милюль отбросила и сформулировала вопрос иначе:
– Мне надо туда, куда все люди ходят по утрам, чтобы привести себя в порядок. Как это место, по-твоему, называется?
– Эти места всегда назывались гальюн и душевая, а вместе – санузел – язвительно и вместе с тем патетично заявил Павлик – Они на палубе. Мне что, провожать тебя туда?
– Гальюн – повторила Милюль, не замечая сарказма – ну что ж, гальюн, так гальюн. Пойдём, Павлик, покажешь, где тут у вас гальюн и этот… санузел.
Они вышли из тесной каюты в такой же тесный коридорчик, железная лесенка в конце которого вывела их на палубу. В лицо Милюль пахнуло ветром. И вчера дул ветер над палубой, но теперь в чём-то было необъяснимое отличие. Оно так и бросилось в душу, а вот сформулировать его никак не удавалось. Всё оно выскальзывало, не укладывалось в словесное определение. Чего-то явно не хватало Милюль в этом воздухе. Она внюхивалась до тех пор, пока, наконец, не нашла: Плотности! Точно! Она даже обрадовалась от того, как точно удалось сформулировать суть разницы. Не было в сегодняшнем воздухе солёной упругости, йодистой полноты вчерашнего ветра. Он был именно пресным и потому казался жидким. Милюль вздохнула и, глядя на несущиеся мимо серые волны, произнесла:
– Это не море. Это большое озеро.
– Очень большое – отозвался Павлик – вон там, видишь, на горизонте горы в дымке?
– Еле-еле.
– Это так называемая зона шхер. А дальше, за шхерами – находится Финляндия. Папа говорит, скоро у нас с финнами будет война. Ох, скорее бы…
* * *
Навстречу детям шёл матрос. Самый обыкновенный матрос в чёрных клешах и тельняшке. Он глянул на Милюль, как на старую знакомую, улыбнулся ей, пожал руку Павлику, спросил участливо:
– Чего это у тебя, моряк, с носом? Прищемил?
Павлик злобно зыркнул на Милюль и потупился. После утренней битвы нос его был частично сизым. Моряк похлопал мальчика по плечу и обнадёжил:
– Ничего, моряк! Ранение не смертельное.
Милюль усмехнулась. Действительно, она не слыхала, чтобы кто-нибудь погиб от сливы на носу. Матрос пошёл своим путём, а дети приблизились к железной двери с закруглёнными углами.
– Вот гальюн. Сама там справишься? – проявил заботу Павлик.
– Справлюсь – ответила Милюль.
– Дорогу обратно не забыла? А то я тебя подожду.
– Спасибо. Я уже начала ориентироваться. Хотя, нет, лучше подожди, а то вдруг, встретится кто-нибудь знакомый, а я его не узнаю. Подождёшь, правда?
– Конечно, подожду – согласился Павлик – у тебя точно всё с головой в порядке?
– Немного потрескивает после того, как ты мне заехал коленкой в ухо.
– Я про другое.
– Если про другое, то всё в порядке. Не волнуйся.
Милюль оставила Павлика стоять на палубе, а сама открыла тяжёлую дверь санузла и оказалась в маленьком и тесном пространстве.
Справиться с гальюном и овладеть нехитрой тайной управления кранами холодной и горячей воды ей удалось довольно быстро. Напасть случилась в тот момент, когда она чистила зубы перед маленьким зеркалом над умывальником. Из дырочек под потолком ни с того ни с сего заорал искажённый механическими пощёлкиваниями грубый мужской голос:
«Старпом Круглов вызывается на мостик! Приказано перестать давить на массу!»
Милюль от неожиданности выронила зубную щётку и отшатнулась от говорящего потолка. В дырочках щёлкнуло, пискнуло и замолчало.
– Это не страшно – сказала Милюль сама себе – это абсолютно не страшно. Это только неожиданно.
Она забрала свою зубную щётку, мыло, коробочку с зубным порошком и спешно, стараясь не оглядываться на чудной потолок, покинула санузел. На палубе, ожидая её, торчал Павлик.
По дороге в каюту Милюль прикидывала, как бы правильнее спросить про голос, который говорит из потолка в гальюне. Очень не хотелось давать ехидному мальчику лишний повод для насмешек. Наконец любопытство пересилило и Милюль, стараясь придать голосу самое безразличное выражение, произнесла:
– В гальюне какой-то грубый мужчина кричит с потолка про старпома Круглова. Ты не слыхал?
– Слыхал – флегматично ответил Павлик – это матрос Барсуков так шутит. Морской юмор.
– Он что, живёт там? – спросила Милюль.
– Где? – не понял Павлик.
– Над гальюном.
– С чего ты взяла?
– Ну, голос прямо с потолка раздался.
– Да ну тебя, Надька! – неожиданно рассердился мальчик – сама понимаешь, это громкая связь. Причём тут гальюн?
Он ещё что-то обиженно бурчал, но Милюль не вслушивалась. Ей захотелось уговорить Павлика пойти и осмотреть корабль. Мало ли какие диковины на нём спрятаны? Решив идти к цели напрямую, Милюль предложила:
– Здесь, на корабле, наверное, много интересных предметов. Может быть, мы походим, поглядим на то, на сё?
– На что глядеть то? – возразил Павлик – Уже по двадцать пять раз всё облазили.
– Ну и что? – не унималась Милюль – всё равно лучше ходить по палубе, чем киснуть в каюте.
Пожалуй, ты права – согласился Павлик – идём на корму. Поглядим ещё раз на торпедные установки. Они мне нравятся.
Они вновь поднялись на палубу и, миновав надстройку с маленькими иллюминаторами и закрытыми железными дверьми, вышли на корму. Милюль увидела там много нового для себя. Палуба оказалась заставлена металлическими конструкциями самой разной конфигурации. Две сваренные треноги, привинченные к палубе, венчались зачехлёнными штуками, чьи хищные контуры угадывались сквозь брезент, как угадывается фигура танцовщицы сквозь любые драпировки и платья. Явно под чехлами находились какие-то воинственные орудия. Рядом с треногами стояли пирамиды ящиков, окрашенных в тёмно-зелёную краску. Дальше лежали канатные бухты и много чего ещё. Совсем сзади вился на ветру флажок, крепящийся к железному флагштоку. Около бортов были укреплены косо посаженые длинные металлические бочки. Они тоже были выкрашены в тёмно-зелёный цвет.
Ничто не показалось Милюль особо интересным. На всякий случай она подошла к одной из бочек и постучала по ней. Бочка зазвенела пустотой.
– Это торпедные аппараты – драконьим шёпотом поведал брат – сюда ложут торпеды и запускают. Торпеда мчится под водой, подплывает к вражескому кораблю… ба-бах! И такая вот пробоина! Можно утопить корабль, какой хочешь величины. Самое грозное оружие!
Милюль ещё раз осмотрела бочки, ещё раз постукала их круглые бока, и не впечатлилась:
– Подумаешь, какие-то бочки. Вот, если бы ты мне настоящую пушку показал, это бы – да!
Павлик даже потерял дар речи от такого вопиющего невежества. Он набрал воздуху в лёгкие и несколько раз возмущённо и резко вздохнул:
– Пушки? Да что ты понимаешь? Пушки это прошлый век! Ни одна пушка не нанесёт такого удара, как торпеда! Пушки это фигня! Пушка на носу стоит.
– Тогда пошли на нос – решила Милюль.
И они пошли было, но на пути возник другой матрос… или тот же, или его брат. Во всяком случае, он и в одежде и во всём внешнем облике имел с тем, что встретился им раньше абсолютное сходство.
– А, оружие портить! – закричал он грозно – Вот я вас поймаю и съем!
Он, действительно, изобразил на лице гримасу кровожадного злодея, растопырил во все стороны руки, присел и стал медленно двигаться к детям. Милюль решила, что пора визжать, и пронзительно завизжала. Брат же повёл себя как дурак. Он направил на матроса указательный палец и воскликнул:
– Я застрелю тебя, проклятый Бармалей! – после чего издал ртом звуки выстрелов. Матрос при этом задёргался так, будто и правда в него попадали смертоносные пули. Дёрнувшись три раза, он повалился на палубу, приподнял голову и сказал умирающим голосом:
– Ты победил меня, Ваня Васильчиков! Твоя взяла! – тут он громко уронил голову на железный пол. Раздалось дружное ржание двух других незнакомых моряков, которые подошли незаметно и наблюдали всю нелепую сцену. Один из них, что постарше, заявил:
– Ну, Барсуков, ну, артист!
Барсуков встал. Павлик, он же, как выяснилось, Ваня Васильчиков, начал здороваться с ним и с остальными матросами, а Милюль смотрела на этот абсурд широко открытыми от удивления глазами, пока Барсуков не обратился непосредственно к ней:
– Ну, ты и визжать здорова! Как аварийная сирена! Как думаешь, тебя на берегу было слышно?
«Быстро соображать! – скомандовала себе Милюль – как себя правильно повести? Если это такие игры, то мне должно быть не впервой. Что ж, раз так тут заведено, то я в этой ипостаси, скорее всего, должна реагировать благосклонно». Она сделала книксен, как учила её нянечка, и сказала:
– Признаюсь, вы меня напугали, господин Барсуков.
Незамысловатая сия фраза вызвала у матросов новую волну хохота. Милюль задумалась: надо ли обижаться, решила, что раз в этом мире всё шиворот-навыворот, стало быть, обижаться не нужно, и оказалась права. Матросы были, может быть и фамильярны, но благожелательны.
Вдруг появился капитан. Тот самый капитан, которого Милюль видела давеча на мостике лайнера. Да! Тот самый! В таком же белом кителе, в белой фуражке. Он, будто выпрыгнул из вчерашнего дня, но теперь оказался не где-то далеко, на возвышении, а около. Он подошёл к Милюль и сказал, обращаясь и к ней и к Павлику:
– Дети, пора обедать.
Это было произнесено так буднично, как будто капитан корабля каждый день только тем и занимался, что приглашал детей на обед. Ответ Павлика ещё пуще удивил Милюль:
– С добрым утром, папа! – ответил Павлик – Мы идём.
Капитан развернулся, что-то сказал мимоходом матросам и зашагал к носу катера. Милюль пихнула мальчика локтем:
– Это наш папа? – спросила она, чтобы уточнить, но Павлик, видно забыл, как бьют за нелепые ответы, и потому ответил самым ехидным голосом:
– Нет, дядя Кузя с автобазы!
Милюль хотела двинуть ему кулаком, но не стала, подумав, что если капитан – их с мальчиком отец, то она и впрямь задала идиотский вопрос. Дети поспешили в свою каюту, где Павлик, наплевав на присутствие дамы, переоделся в белую рубашку и чёрные шорты. Увидев, что Милюль не переодевается, а растерянно стоит в углу, он вынул из стенного шкафчика и выдал ей белую блузку и юбку, такую же чёрную, как его собственные шорты. Немного смущаясь, Милюль всё же переоделась. Павлик при этом проявлял явное нетерпение. Он сопел, переминался с ноги на ногу и, наконец, не выдержав, попросил её поторапливаться.
Когда Милюль оказалась готовой, оба вышли в коридорчик и, миновав пару дверей, вошли в довольно тесный зал, посреди которого стоял накрытый к завтраку столик, а откидные скамьи вокруг были привинчены к стенам. Милюль не уделила особого внимания сидящим за столом, потому что её заинтересовала еда. Сев рядом с братом, она внимательно изучила выставленный завтрак. На столе стояли железные миски. В мисках находилась очень странная и неприглядная на вид смесь из серых, толстых макарон и мясного фарша. В такой же миске посреди стола лежала горка яблок. В стеклянных стаканах был налит, скорее всего, компот и…
– И всё? – вырвалось у девочки невольное восклицание.
– Это вместо приветствия? – раздался женский голос. Милюль подняла взор на говорившую, и встретилась взглядом… с мадам Элеонорой! Она самая сидела тут, по левую руку от капитана! Конечно, на ней не было сиреневой шляпы, вместо вчерашнего платья теперь на ней была такая же белая блузка, как и на Милюль, но без сомнения перед Милюль сидела именно Элеонора!
– Не удивляйся, мамочка, Надя сегодня не в себе – сообщил Павлик, обращаясь к мадам.
Милюль хаотично переводила взгляд с Павлика на капитана, на мадам, снова на капитана, снова на мадам. Мысли не поспевали за чувством растерянности, а растерянность мешала выстроить их в порядок. Если Павлик, который, судя по его обращению «сеструха», приходится ей братом, называет капитана папой, значит их общий отец – капитан. С этим ещё можно смириться, но то, что Мадам Элеонора – её, Милюлина мать? От подобного оборота событий не мудрено было грохнуться без чувств, но Милюль решила в обморок не падать:
– С добрым утром – поприветствовала она мадам Элеонору.
– Здравствуй, дорогая – отозвалась мадам – что это Павка говорит, будто ты не в себе?
– Не знаю. Наверное, ему виднее – пожала плечами Милюль и, не выдержав мук внутренних противоречий, решила уточнить, верно ли она понимает соотношения внутрисемейного родства – стало быть, вы теперь моя мама?
Мадам Элеонора неожиданно рассмеялась:
– Мы давно это обсуждали, Надя. Ты знаешь, что если хочешь, то можешь меня так не называть. Что за фарс ты устраиваешь?
– Да, Надюша, что за вопрос? – спросил капитан.
Милюль перевела взгляд на него. Замечательный капитан сидел перед нею. Именно такой, о котором она мечтала. Можно было бы радоваться тому, что капитан спустился с недосягаемых высот капитанского мостика и теперь находится рядом, но не такой же страшной ценой! Зачем ей нужен капитан, если за это противная мадам Элеонора назначается в матери? С таким положением Милюль не намерена была мириться, а потому вызывающе спросила:
– А почему это вы все уверены, что я теперь Надюша, или Надя?
Капитан и мадам Элеонора отложили приборы и посмотрели вопросительно. Капитан уточнил:
– Почему теперь? По-моему, ты всегда и была Надеждой.
– Сегодня она мне сказала, что её зовут Милюль! – заявил брат Павлик и захихикал.
– Не смейся над сестрой! – одёрнул его капитан.
– А чего она придуряется, будто королева с луны? – возмутился брат и тут же наябедничал – Обозвала меня Алёшей и сливу на нос поставила!
Капитан внимательно изучил сизый нос Павлика и расхохотался. Мадам скроила недовольное лицо и сообщила, что не видит ничего смешного. Капитан не стал спорить. Он поднялся, и этим решительным жестом отодвинул все возможные недоразумения. Стало ясно, что он не собирается далее выслушивать Милюлины бредни, Элеонорины возмущения и Павликовы ябеды. Вот как поступают настоящие капитаны!
Держа в руке стакан с компотом, он заговорил так убедительно и торжественно, что Милюль на мгновение стало всё равно, мать ей мадам Элеонора, или не мать:
– Дорогая Надя. Конечно, плохо, что этот праздничный день омрачён сливой, которую ты поставила Павлику и тем, что ты решила забыть своё настоящее имя. Но сегодня, в понедельник двадцать пятого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года, тебе исполняется одиннадцать лет. Я бы хотел, чтобы этот день запомнился навсегда. Поэтому вся наша семья находится на самом современном военном броневом катере балтийского флота. Я хочу выпить этот стакан за то, чтобы ты выросла настоящим борцом за победу коммунизма во всём мире. Хочу, чтобы ты, как достойный гражданин Страны Советов, была бы отличной пионеркой, со временем вступила в комсомол и продолжила то великое дело, которое начал Владимир Ильич Ленин. А теперь я, как и обещал вчера, преподнесу тебе сюрприз.
– Давайте сначала стаканы опорожним! – предложила Элеонора, и все стали чокаться стаканами с компотом. Милюль тоже чокалась, а про себя думала: «Что за сюрприз? Не помню я, чтобы вчера капитан мне что-то обещал. Тем более сюрпризы. Но, раз уж так он говорит, значит нет смысла спорить. Буду пытаться соответствовать тому, что происходит вокруг».
Капитан поставил пустой стакан на стол, достал из внутреннего кармана кителя потёртую сафьяновую коробочку и произнёс:
– Двадцать один год назад я в первый раз в жизни чуть не утонул. Так получилось, что меня спасла совсем маленькая девочка. Спасла ценой своей жизни. Значительно позднее у меня оказалась эта старинная брошь, как память о ней. Сегодня я хочу подарить её тебе. Знай, Надя, что это самое дорогое украшение, которое я видел на земле. Его цена измеряется не в деньгах. Скоро денег совсем не будет и именно такие вещи окажутся самыми главными. Цена этой брошки – человеческая жизнь. Береги её. И пусть тебе сопутствует настоящее счастье!
Капитан передал коробочку Милюль. Милюль открыла её и, увидав знакомую лягушку, обречённо вздохнула. Всё в её жизни менялось. Исчезла милая сердцу няня, и даже тётка Юлия. Мудрый и великий размерами Сергей Пантелеймонович испарился бесследно. Съёжился межконтинентальный лайнер. Мальчик-кадет преобразовался в брата-ябеду. Изменилось решительно всё, но остались две неизменные константы: день рождения и эта малахитовая лягушка.
– Неужели не нравится? – поинтересовалась мадам Элеонора.
– Нравится – ответила Милюль. Глаза её уже заволакивали слёзы, когда мадам Элеонора отвлекла её от сентиментальных настроений:
– Так, где же слова благодарности? – спросила она.
Милюль подняла взгляд на капитана, улыбнулась ему и сказала:
– Спасибо, капитан.
Капитан в ответ козырнул:
– Объявляю начало праздничного завтрака. Сегодня у нас макароны по-флотски!
Все принялись звякать вилками о тарелки. Про Милюль временно позабыли, и она могла спокойно поразмышлять. Она и размышляла: «Что вчера рассказывал Сергей Пантелеймонович, насчёт движения по?.. Вот! Не помню уже, чего там у него куда двигалось. Кажется, человеческая судьба может перемещаться с одной ладони на другую. Нет, наверное выходит, что он был не прав. Ну ладно, можно прыгнуть один раз. Допустим даже, что потом можно прыгнуть обратно. Всё равно его прыжки для моего случая не годятся. Если бы у человека было много рук, тогда конечно, прыгай с одной на другую, сколько душе угодно. Но рук-то только две! Хоть и говорил он сложно, да выходит, упрощал. Поймать бы его теперь, да попросить, чтобы он вот этот день разъяснил, а потом посмотреть, как он с ума сойдёт, или помрёт от тоски, потому что не сможет ничего ни объяснить, ни осмыслить. Но его уже не поймаешь, а мне теперь не до того. Некогда осмысливать. Надо приноровляться».
Милюль прикончила свою порцию еды и посмотрела в тарелку брата. Она была почти полной! Павлик вяло ковырялся вилкой в макаронах и скучал.
– Ты чего не ешь? – поинтересовалась Милюль.
– Да надоели мне эти макароны – ответил брат.
– Давай, помогу?
Снова он посмотрел удивлённо, но не отказал, пододвинул тарелку. Опорожнив её, Милюль оглядела стол. Кроме яблок, еды почти не было. Можно ещё было, конечно, помочь отцу-капитану, или Мадам Элеоноре, которая теперь то ли мать, то ли не мать. Фиг поймёшь, кто она. Сидит, ковыряется вилкой, а макароны остывают.
– Аппетит приходит во время еды – сказала Милюль и тут же предложила – Мадам Элеонора, давайте я вам помогу с макаронами справиться?
Все повернули головы и вперили в Милюль взгляды. По разразившейся за столом тишине, Милюль поняла, что опять сказала несуразность. Она крякнула и попыталась исправить положение:
– Ну, я подумала: может быть вам не так сильно хочется завтракать. Вдруг, захотите выкинуть, а я бы с удовольствием съела эти ваши макароны.
– Как ты меня назвала? – спросила Мадам Элеонора с такой интонацией, что стало ясно, исправить ляпсус не удалось.
– А как вас прикажете называть, в конце-то концов? – возмутилась Милюль – то мамой, то не мамой. Я и решила, ежели вы все-таки мама, но не совсем, значит, я могу называть вас, как и прежде: мадам Элеонора. Ведь вы Мадам Элеонора?.. Или нет?
– Какая, нахрен, «мадам»? – заорала мадам, да так истошно, что уши заложило – Какая «мадам»?
– Макаронов, стало быть, не дадите – констатировала Милюль.
– Надежда! – обратилась к ней мадам – Я понимаю, у тебя сегодня день рождения. Можно сказать, ты уже взрослая девушка. Но зачем изображать из себя неизвестно что? Зачем ты меня дразнишь? Я понимаю, можно пошалить, но не до такой же степени! Может, я и выгляжу несколько старомодно, но мы всегда прекрасно с тобой ладили. Ведь так?
«Не так» – подумала Милюль, но вслух согласилась с мадам. Та продолжила:
– Прошу тебя, ласточка, не обзывай меня больше. Даже в кругу семьи. Договорились?
Милюль кивнула и сказала:
– Договорились. А как вас не обзывать?
– Никак не обзывай! – крикнула мадам.
– Но как-то я должна к вам обращаться – пробормотала девочка.
– Так и обращайся, как всегда!
От гневных и визгливых интонаций, оттого, что мадам требовала чего-то, чего Милюль никак не могла взять в толк, ей стало безумно обидно. В носу предательски защипало, а глаза стали наливаться слезной тяжестью. Борясь с подступающими рыданиями, Милюль призналась:
– Я не знаю, как правильно к вам обращаться.
– Я же сказала тебе, тупая девочка, обращайся ко мне как всегда! – прорычала мадам с иступлённой злобой в лице и в голосе.
Рыдания проломили грудь Милюль и вырвались наружу. Сквозь них она успела выпихнуть только:
– Вчера вы велели называть себя «Мадам Элеонора» – и, вскочив, выскользнула из тесной залы наружу.
На палубе Милюль устремилась вперёд, на нос катера. Там она обязательно выстрелит из пушки пару раз и успокоится. Пока же ей не хватало воздуха, потому что весь воздух уходил на басовитые, захлёбывающиеся рыдания. Слёзы лились сплошным потоком и мешали видеть. Она вытирала запястьями глаза, но это мало помогало. Рыдая, она обогнула угловатую металлическую башню и выскочила на самый нос.
Тут лежали бухты канатов, ещё были две лебёдки с намотанными на них цепями и всё. Впереди двигались серые волны. Моряк в полосатой тельняшке сидел на канатной бухте, но никаких пушек нигде не было. Обманул, стало быть, брат. Продолжая подвывать, Милюль вгрызлась в невесть откуда взявшееся в руке яблоко. Полосатый моряк поднялся и подошёл к ней. Милюль узнала в нём того, который самым первым встретился ей и Павлику на палубе. Он внимательно разглядывал плачущую девочку и сочувствовал ей, но молчал.
– Дяденька матрос – обратилась к нему Милюль, когда рыдания немного стихли – где тут у вас пушка? Мне срочно надо стрельнуть!
– Ну, стрельни, раз надо – согласился матрос и махнул рукой в направлении башенки, которую Милюль только что обогнула – вон она, пушка твоя.
Милюль обернулась. Действительно, из башни, через вертикальную прорезь торчал замотанный в брезент, довольно узкий, но длинный ствол.
– Это и есть пушка? – недоверчиво спросила Милюль.
– А-то! – усмехнулся моряк.
– Как же из неё стрелять?
– Можно одиночными, а можно автоматически – ответил моряк столь же загадочно, сколь флегматично.
– Автоматически? – переспросила Милюль – Что это значит?
– Да то и значит, что… – тут он глянул куда-то вбок и заметно оживился – вот, к примеру, мать матроса Барсукова – сука, значит, сам матрос Барсуков автоматически сукин сын.
Как и большинство объяснений, услышанных Милюль с самого утра, это ничего не объясняло. Она уже хотела сказать об этом, как сбоку, как раз оттуда, куда только что зыркнул флегматичный моряк, раздался знакомый хриплый голос:
– Товарищ старпом, матрос Барсуков на нос броненосца «Бэ Ка двадцать четыре» прибыл!
– А, ты здесь? – деланно удивился старший помощник – извини, братишка, не заметил. Да разве я тебя вызывал?
– Никак нет, товарищ старпом! – рявкнул матрос Барсуков и вытянулся, руки по швам.
– Значит, не вызывал? – усомнился старпом, но тишина была ему ответом – А вот ты, стервец, меня, кажись, вызывал недавно.
– Не могу знать, товарищ старпом!
– Думаешь, я твой голосище из радиоточки не узнал? Соловушка ты флотская?
– Не могу знать, товарищ старпом! Приказ капитана!
– И про массу, на которую я, якобы, давил, тоже приказ?
– Так точно! Товарищ капитан велел вам в рубку подняться…
– Ну, так я тебе, касатик, вот что скажу – перебил старпом объяснения матроса – здесь не цирковая арена. Здесь, да будет тебе известно, палуба современного бронекатера, а ты не клоун, а матрос балтийского красного революционного флота! Поэтому, когда в следующий раз будешь ко мне обращаться, не забывай, как это прописано в уставе. Если же ты собираешься и дальше быть клоуном, то так и скажи! Вот стоит дочь нашего товарища капитана. Она, как я понял, большая мастерица делать клоунские носы. Наденька, будь доброй, поставь матросу Барсукову такую же сливу, как своему брательнику.
– Вы серьёзно? – не поверила своим ушам Милюль.
– Конечно! – воскликнул старпом – я же ему командир, а разве командир может заниматься рукоприкладством? Не может! За это по уставу знаешь что? Вот и приходится просить пионерку Надежду Громову провести воспитательную работу на катере. Чего смотришь? Приступай.
Милюль замерла в нерешительности. Она уже незаметно для себя доела яблоко из правой руки, причём яблоко было уничтожено целиком, включая огрызок. Теперь же она была в полном недоумении и оттого, что у ней оказалось такое замысловатое полное имя, и оттого, что ей в столь официальной форме велят сделать сущую глупость и безобразие, и главное, откуда взялось второе яблоко – в левой руке. Она задумчиво укусила это второе яблоко и спросила, начав жевать:
– А вы мне за это из пушки стрельнуть дадите?
– Даю честное слово коммуниста! – пообещал старпом Круглов.
– Ну, если честное слово, тогда я согласна – решилась девочка и протянула свободную от яблока руку к носу матроса Барсукова.
По мере того, как её рука приближалась к лицу мятежного моряка, глаза его становились всё круглее. Очевидно, он никак не ожидал от неё реального изуверства. Старпом же, Милюль следила и за его реакцией, проявлял только спокойствие. Никаких чувств не отражалось на его суровом лице. Вот она уже поднесла два пальца вплотную к носу Барсукова, когда, как гром небесный, прозвучал голос капитана:
– Отставить рукоприкладство!
Милюль отдёрнула руку.
– Вы что тут устроили? – спросил капитан, незаметно вышедший из-за орудийной башни – Надежда, я по всему катеру тебя ищу! Ты чего устроила за столом? А вы, товарищи моряки, чему учите малое дитя?
– Проводится воспитательная работа с экипажем, товарищ командир! – рапортовал старпом.
– И почему вы, товарищ старпом, не на мостике? – поинтересовался капитан.
– На мостике – мичман Зверев. Я временно спустился на нос, проверить швартовы.
– Да ну? А почему бы не доверить это дело мичману Звереву?
– Если хочешь, чтобы всё было хорошо сделано, то сделай это сам, товарищ командир.
– Ну, так и ставил бы сам сливу матросу!
– Никак нельзя, товарищ командир!
– А Надежду на такое дело можно подбивать?
– Она человек не морской, а это был морской юмор. Я бы сам вовремя прекратил шутку.
– Благодарю за объяснение. Ну, как, швартовы в порядке?
– Так точно.
– Тогда возвращайтесь на мостик. А вы, матрос Барсуков, что делали на носу катера?
– Выполнял поручение товарища мичмана, товарищ командир.
– Какое такое поручение?
– Проверить швартовы, товарищ командир.
– Понятно. Налицо заговор на корабле. Я даже догадываюсь, кто его организовал и из-за чего.
– Вы, как всегда, очень проницательны, товарищ командир – заявил старпом.
– Не льстите начальству, товарищ старпом. Я объявляю заговор раскрытым, а конфликт исчерпанным. Матрос Барсуков понёс суровое наказание за словесную вольность, произнесённую по громкой связи. Всех прошу продолжить исполнять служебные обязанности. Меня позвать на мостик, когда подойдём к шхерам. Приступайте к выполнению.
– Есть, товарищ командир! – радостно и в унисон заорали оба моряка и, топая ногами, понеслись прочь.
– Постойте! – крикнула им вслед Милюль – Старпом Круглов, а как же пушка?
Старпом даже не обернулся, а напротив, ускорив бег, обогнал Барсукова и скрылся из виду.
– Что ещё с пушкой? – спросил капитан.
– Он мне обещал, что разрешит из пушки стрельнуть.
– Что?
– Одиночным, или автоматично.
– Ну, клоун! А ты?
– А я и собиралась.
Капитан озадаченно хмыкнул:
– Надюшенька, как бы мне тебе объяснить… сегодня ты с самого утра только и делаешь, что, по меньшей мере, удивляешь дикими выходками всех, кто на катере. И даже меня. Зачем ты это затеяла?
– Я ничего не затевала…
– Ну и ситуация – вздохнул капитан – я, ведь, тебя люблю, и потому не хочу с тобой спорить, а тем более ссориться, но вот ответь мне хотя бы, зачем ты разрыдалась и одновременно схватила два яблока из вазы?
– Наверное, это случилось автоматично.
– Как?
– Ну, так выражается старпом Круглов. В общем, я сама не заметила, как яблоки схватились.
– Допустим, ответ принят, тогда попробуй объяснить мне, чем тебя обидела тётя Лена?
– Кто?
– Ну вот. Зачем ты прикидываешься, что не понимаешь, о чём тебе говорят?
– В том-то и дело, я действительно многого понять не могу. Вот, например, почему вы называете друг друга товарищами, словно вы не военные моряки, а купцы одной гильдии?
Глаза капитана выпучились так, будто на катер надвигалась цунами.
– Вообще ничего не могу понять – пробормотал он и почесал нос – если ты шутишь, то… – тут он замолчал растерянно.
– То что? – спросила Милюль, не выдержав затянувшейся паузы.
– То этого не может быть. Нынешняя молодёжь так не шутит, а те, кто так шутил, уже лет пять, как отшутились навсегда.
– Я не могу понять, о чём все говорят! – чуть не плача призналась Милюль – Я пытаюсь приноровиться ко всему, что вокруг, но слишком всё непонятно!
Капитан молчал и смотрел на Милюль. Он явно решал какую-то сложную логическую задачку, потому что задумчивость на его лице сменилась подозрительным напряжением, которое перетекло в новое недоумение, потом лицо капитана на миг озарилось догадкой и, наконец, застыло с выражением ужаса.
– Ты не Надя – сказал он сокрушённо, но потом подумал и добавил – но этого тоже не может быть, потому что я вижу, что это ты! Абсурд.
Из-за орудийной башни появился Павлик.
– Беседуете? – спросил он – а мама места себе не находит. Всё переживает. Вот, послала меня, вас найти. Пойдёмте, вернёмся к столу. Пожалуйста.
– Ну что ж, пойдём – согласился капитан – проблемы не разрешились, но надо продолжать как-то жить дальше. Будем налаживать новые отношения.
В кают-компанию Милюль возвращалась как под конвоем. Ей было обидно оттого, что старпом обманул и не дал выстрелить из пушки. Было жаль того, что надо возвращаться к этой ненавистной тётке, которая как злой гений, третий день преследовала её, всё время говорила гадости и поперечности, да к тому же и начала командовать. От свалившихся печалей Милюль надулась. Она молча вошла в кубрик и села за стол, набычившись.
– Я жду твоих объяснений, Надежда – сказала тётя Лена – долго ты будешь портить всем настроение?
Милюль молчала в ответ, но, слава богу, капитан пришёл ей на выручку:
– С Надеждой действительно непорядок. Ты не представляешь, Лена, что она говорит. Никакой советский ребёнок не может задавать таких нелепых вопросов. У нашей Нади что-то с головой. Боюсь, что по возвращении в Ленинград, надо будет обратиться к врачам. У тебя есть знакомые психиатры?
Лена извлекла из портсигара папиросу и, закурив, ответила капитану:
– Если вопрос повернулся таким углом, то мне пора вспомнить, что я не только родственница твоей сестрице, не только твоя жена и товарищ, но и врач по профессии. Кроме того, у нас в институте были замечательные курсы психиатрии. Профессор был, конечно, старорежимный, ни черта не смыслил в классовой борьбе, но как мог, так и преподавал. Ты не будешь возражать, Лёша, если я задам Надежде несколько вопросов? Может быть, современная наука разрешит наши сомнения ещё до того, как мы вернёмся в Ленинград?
– Эх, Лена! – воскликнул капитан – Я бы возражал, если бы не понимал, что с ней творится что-то неладное. Ты собираешься применить свои тесты? Как же, помню! – тут он обратился к Милюль – Надя, меня Лена этими тестами тестировала. Собственно, с того и началась наша дружба. Думаю, тебе будет забавно. Выяснится, что за бес в тебя вселился, а главное, ты перестанешь кукситься и дуться. Так мы убьём сразу трёх зайцев. Ну, желаю успехов, а мне пора на мостик. Павлик, пойдём.
Капитан с Павликом удалились. Милюль осталась один на один с вредной тёткой, которая, оказывается, ещё и курила папиросы. Пока та собиралась с мыслями и пускала обильный едкий дым, Милюль внимательно разглядывала её.
Постепенно до Милюль стало доходить, что на самом деле перед нею не совсем та женщина, которая донимала её вчера. В принципе сегодняшняя тётя Лена и лицом и манерами очень походила на Мадам Элеонору, но мельчайшие несоответствия и нюансы, которых Милюль не заметила сразу, всё-таки были. Чем больше Милюль находила различий, тем сильнее удивлялась тому, до какой степени бывают похожими разные люди. Поставить бы их рядом, и сразу бы разгляделись несоответствия, а когда они по отдельности, то и не сообразишь, кто перед тобой.
Наконец тётя Лена прервала молчание и, открыв невесть откуда взявшийся у ней блокнот, предложила:
– Давай так, Надя: я спрашиваю, а ты, совсем не задумываясь, отвечаешь. Говорить можно всё, что хочешь, но главное, сразу. Если ты задумаешься хоть на секунду, значит, ты проиграла, а я выиграла. Ага?
– Ага – неохотно ответила Милюль.
– На что будем играть?
– Не знаю. Вы и предлагайте.
– Давай, на щелбан!
Милюль не знала, что такое щелбан, но в данной ситуации уточнять совсем не хотелось. Зачем усугублять и без того бескрайнюю подозрительность?
– Ладно – приняла решение Милюль – на щелбан, так на щелбан… а это прилично?
Лена усмехнулась и, написав что-то в своей записной книжице, ответила:
– Игра ещё не началась, а уже так много интересного. Ну, садись поудобней, а то, как принято здесь говорить, в ногах правды нет. Будем играть в вопросы и ответы.
Милюль видела, что к неизвестной ей игре Лена готова основательно. Гораздо основательнее, чем она сама. Кроме того, ей было всё-таки непонятно, что такое «щелбан». На всякий случай Милюль спросила:
– Мы уже играли в эту игру?
И тут тётя Лена соврала. Милюль почувствовала ложь, как отдельную сущность, вбежавшую в кают-компанию, когда Лена произносила спокойным уверенным голосом:
– Как минимум раз в декаду.
Снова стало непонятно: что такое «декада», но Милюль решила промолчать, и согласно кивнула головой, подумав про себя: «Она врёт, и я буду врать».
– Начинаем? – спросила Лена напряжённо-бодрым голосом.
– Ура! – ответила, как выдохнула Милюль.
– Какого цвета небо? – спросила Лена, подняв палец к небу.
– Голубого! – выкрикнула Милюль, не задумываясь.
– Сколько я показываю пальцев? – спросила Лена, демонстрируя тот самый палец, которым только что тыкала в небо.
– Один! – торжественно заявила Милюль.
– Отлично! Что это? (она показала на пустой стол).
– Пустой стол!
– Кто я?
– Лена! – ответила Милюль не задумываясь, потому что капитан именно так называл эту женщину.
– Продолжаем! Сколько пальцев? – Лена показала два пальца.
– Два!
– Какого цвета волны?
– Серого.
– Где нос катера?
– Там! – Милюль показала в предполагаемом направлении.
– Где корма?
– Там! – Милюль показала в другую сторону. Игра постепенно начинала увлекать. Она оказалась простой и, главное, весёлой, как катание на качелях. Вопрос – ответ, туда – сюда. Лена, словно подбадривая, ускоряла темп задавания вопросов, а Милюль торопилась с ответами, дабы не утерять ритма:
– Какого цвета снег?
– Белого!
– Что пьёт корова?
– Молоко!
– А вот и дудки! Корова молоко даёт! А пьёт она – воду! – Лена рассмеялась просто и бесхитростно и Милюль рассмеялась вместе с ней.
Выходило совсем не так страшно, как можно было предположить. И сама эта женщина оказалась окончательно другой, чем та, вчерашняя. Что же на неё дуться? Мало ли внешне похожих людей? По своей внутренней сути они вполне могут быть разными. Вот Лена подловила её на пустяке, но не строит себе из этого величия, а так же радостно смеётся, как и она, Милюль.
Окончив радоваться, Лена сообщила:
– Всё-таки ты молодец. Ответила быстро и не задумываясь. Я хотела подстроить тебе каверзу, чтобы ты растерялась хоть на долю секунды. Тогда я бы выиграла. А так выигрыш за тобой. Если хочешь, можешь уже отвесить мне щелбан.
Милюль не знала, как отвешивают щелбаны, и великодушно отказалась. Тогда Лена предложила:
– Продолжаем?
– Продолжаем! – на этот раз охотно согласилась Милюль.
– Кто носит полосатые тельняшки?
– Матросы!
– Кто носит юбки?
– Дамы!
Опять чирк в книжечку, и без остановки:
– Кто носит штаны?
– Мужчины!
– Кто носит бескозырки?
– Матросы!
– Кто носит шляпы?
– Все!
– Кто носит красный галстук?
– Пижон.
Опять Лена сделала короткую пометку в книжице и, переведя дух, предложила немного изменить правила:
– Я буду начинать фразу, а ты продолжай её за меня так, как считаешь нужным. Согласна?
Милюль не возражала.
– Тогда начали: раз, два…
– Три, четыре!
– Три, четыре…
– Пять, шесть!
Новый чирк в книжечке.
– Кто шагает дружно в ряд?..
– Солдаты!
– Ну что ты будешь делать! – воскликнула Лена и, снова написав что-то, отложила записную книжку. В третий раз ты меня обыгрываешь! Значит, ты должна мне уже три щелбана.
– Я вам должна? – удивилась Милюль – как же я могу быть должна, если вы говорите, что я выигрываю?
Лена разъяснила:
– Щелбан навешивается вот так – тут она зацепила указательный палец большим и, отпустив его, звонко стукнула ногтем по столешнице.
– Так это же щелчок! – радостно определила Милюль давно знакомый жест.
– Ну, хорошо, будь по-твоему. Это щелчок. Так вот ты должна мне три щелчка.
– Ах, вот оно что! – протянула Милюль – тогда, пожалуйста. Это я могу.
– Давай! – тётя Лена подставила лоб.
– «От первого щелчка подпрыгнул поп до потолка!» – продекламировала девочка и щёлкнула тётю по лбу. Лена поморщилась и, попросив бить не так сильно, терпеливо снесла два следующих. Милюль развеселилась:
– Это очень весёлая игра. Только не совсем понятно, почему вы вдруг проигрываете в самых простых местах.
– Потому что я ожидаю совсем других ответов – объяснила тётя Лена – все мои вопросы находятся в поле стереотипного мышления. Мы все живём в определённых языковых и культурных формулах, причём так в них вживаемся, что начинаем воспринимать слова автоматически, не задумываясь.
– Как автоматическая пушка? – уточнила Милюль.
– Да – кивнула тётя Лена – даже как пулемёт. Заурядная информация поступает в мозг и сразу отстреливается точно патрон с пулемётной ленты. Это происходит на уровне рефлекса. У нас у всех есть определённый набор условных рефлексов, который вырабатывается с самого детства. Поступает команда, тут же следует исполнение. Очень немногие люди составляют себе труд задумываться над тем, как реагировать на привычные раздражители, и эти люди, как правило, оказываются в проигрыше, потому что пока они думают, другие, более организованные, уже ставят их к стенке. Ты понимаешь, о чём я тебе говорю?
Милюль понимала не до конца. Непонятным оставалось, к чему эти игрища нужны? Она так напрямую и спросила. Тётя Лена не стала объяснять. Отделалась довольно туманным рассуждением:
– Обычно на вопрос: «Кто шагает дружно в ряд?» принято отвечать: «Юных ленинцев отряд!» Если ты отвечаешь иначе, то это может означать только… пока не знаю, что это может означать. Над этим надо подумать. А пока что я требую реванша!
Игра в вопросы и ответы началась сызнова. Милюль даже не успела спросить, что это за «юные ленинцы».
– Где живут пингвины?
– В Антарктиде.
– Где живут жирафы?
– В Африке.
– Где живут индейцы?
– В Америке.
– Где живут кенгуру?
– В Австралии.
– Где живёт Бармалей?
– Кто?
– Что такое – Бармалей?
– Не знаю. Зверь, наверное… а, вспомнила! Это матрос Барсуков, которого убил Ваня Васильчиков!
– Ладно, проехали! Будем считать это за ничью – и опять Лена что-то чиркнула в блокнот – где находятся тучи?
– На небе.
– Где находятся волны?
– На море.
– Если солнце скрылось прочь, сразу наступает…
– Ночь!
– Отлично! Под луною песню петь сел на веточку…
– Медведь!
– Неправильно, соловей! – оба, и тётя Лена и Милюль дружно рассмеялись. На этот раз они даже не вспомнили про щелчки, а Лена быстро продолжила игру:
– Возле леса, на опушке вам ку-ку кричит…
– Кукушка!
– Точно! Сколько лет столетнему дубу?
– Сто!
– Сколько лет тебе?
– Пять!.. Ой, шесть… ой… нет, постойте… – Милюль рассмеялась от случайной неловкости – сегодня, кажется, меня поздравили с одиннадцатилетнем. Так?.. Давайте за этот вопрос не будем бить щелбаны?
– Почему же? – грозно спросила тётя Лена, поднимая руку с готовым щелчком.
– Потому что я быстро ответила – нашлась Милюль – это потом я запуталась.
Тётя Лена замерла на секунду, после чего опустила руку и призналась:
– Твоя правда. Щелбан вешать не за что. Хоть ты и сбилась, но, знаешь ли, Надежда, периодически и я оказывалась в тупике – тут она пробежала взглядом по заметкам в записной книжке – во всяком случае, такое нельзя симулировать, или ты гений и вундеркинд. Давай в последний раз попытаемся. Может, я всё-таки отыграюсь?
Милюль гордилась победой, добытой благодаря собственной смекалке, и смотрела на тётю Лену с сочувствием:
– Вы, наверное, замучились со мной. Извините, что я вас утомляю, но вы сами захотели играть в эту игру, вот и нахватали щелчков по лбу.
Тётя Лена потёрла лоб и поблагодарила Милюль:
– Спасибо за сочувствие. Это очень даже благородно с твоей стороны, но, сама понимаешь, любой противник будет сопротивляться до тех пор, пока он не уничтожен до самого основания. Таков закон природы. Поэтому любое благородство, это прямой путь к самоуничтожению. Эх, пропадай моя черепушка! Объявляю последний раунд.
– Последний, так последний – согласилась Милюль, хоть ей почему-то почти совсем расхотелось играть.
– Последний раунд будет сказочным – объявила тётя Лена и тут же заговорила голосом мягким и вкрадчивым – в тридевятом царстве, тридесятом государстве среди белого леса стоит укрытая снегом избушка. И вот, в этой сказочной стране оказываешься ты. Идёшь ты по зимнему лесу, а с неба падает что?
– Снежинки.
– Правильно. А под ногами хрустит что?
– Снежинки.
– А на ветвях висят… что?
– Шишки.
– А сосульки?
– И сосульки.
– А снег?
– А снег на ветвях не висит. Он на ветвях лежит.
– Очень правильно. Подходишь ты к сказочной избушке и видишь, что из трубы валит… что?
– Дымок.
– Поднимаешься ты на крылечко и прямо перед тобой что?
– Дверца.
– Ты берёшься… за что?
– За ручку.
– Тянешь дверцу на себя, а она не открывается. Тогда ты что делаешь?
– Толкаю.
– А она опять не открывается. Тогда ты что делаешь?
– Тогда я стучусь.
– А изнутри сказочный голос спрашивает: «Кто там?»
– Это я.
– Вижу, что это ты. А как тебя зовут?
– Милюль.
– А почему не Надя?
– Потому что мы в сказочной стране.
На какую-то долю секунды Лена задумалась, но тут же собравшись, продолжила задавать вопросы ещё более размеренным и сладким голосом, изображая невидимого обитателя избушки:
– А скажи-ка, Милюль, из какой ты приехала страны?
– Из России – таким же елейным голоском отвечала Милюль.
– А на чём это ты к нам приехала?
– На беленьком кораблике.
– А кто у вас, в России, самый главный?
– Как и у вас, царь-батюшка.
– А кто главнее царя на земле?
– Боженька.
– А кто такой вождь мирового пролетариата?
– Откуда же мне знать?
– А была ли у вас, в России, революция?
– Может быть и была. Я не видала.
– А кто такой Пушкин?
– Это сказочник такой.
– А кто такой Маяковский?
– Не знаю. Дядя какой-то, который маяк охраняет.
– Ну, не знаешь, так и не знай. – Лена резко и неожиданно прервала мягкое течение сказочного диалога. Облокотив щёку на руку, она глядела в свою записную книжку. Некоторое время длилась тишина. Милюль сделалось скучно. Глядя на задумавшуюся тётю Лену, она мечтала о двух вещах: Поесть и выстрелить из пушки. Даже непонятно, чего хотелось больше. Неожиданно Лена оторвалась от книжечки и спросила, глядя на Милюль в упор. Голос её утерял былую мягкость и зазвенел как у командира на параде:
– Кем тебе приходится Алексей Андреевич?
– Это кто такой? – не поняла Милюль.
– Это наш капитан – сообщила тётя Лена, и ехидно сощурилась.
– Ах, капитан-то… то ли он мне отец, то ли дядька – Милюль упёрлась в явную неразрешимость ситуации и занервничала – Вы давеча сказали, что я его сестрица. Так?
– Так. – Эхом отозвалась тётя Лена.
– А если я его сестрица, то почему тогда Павлик называет меня сеструхой, а его папой? Это вы, наверное, затеяли такую путаницу, и хотите, чтобы я в ней разобралась. Вы сами-то кем мне приходитесь? – раздражение и обида на тётю Лену вернулись к Милюль с новой силой, и сразу забылась атмосфера доброжелательной игры не то в слова, не то в сказку. Тихая ненависть закипала в сердце Милюль. Тётка же, будто не замечая стремительно меняющихся отношений, постукивала ручкой по блокноту и не торопилась что-либо разъяснять. Наконец она разомкнула уста, но заговорила, явно не обращаясь к Милюль. Заговорила сама с собой, со своими мыслями, может быть для того, чтобы как-то выстроить их:
– Выходит, профессор, старая контра, не зря читал нам курс лекций. Всё-то он умел структурировать. Умел любого вывести на чистую воду. Единственное, чего он не знал, так это того, что знание это сила и оружие в руках пролетариата. Пойдём-ка на палубу, Милюль? Подышим воздухом, посмотрим на Ладогу.
– Нет уж, вы мне, пожалуйста, теперь объясните, что к чему и кто есть кто! – заупрямилась Милюль – или он мне отец, или брат? А вы? Если вы мать Павлика, то кем вы приходитесь мне?
– Сама то ты как думаешь? – спросила Лена.
– Я вот и не знаю, кого из вас мне слушать.
– Логическими построениями, основанными на информации извне, ты пытаешься заменить собственное мнение, которого попросту нет – сухо сказала Лена, и тем же тоном продолжила вынесение приговора – Напрашивается следующий диагноз: глубокая депрессия с признаками разрушения личности. Налицо признаки замещения… надо подумать и сформулировать…
– Это вы с кем сейчас разговариваете? – поинтересовалась Милюль.
– Пойдём к капитану – решительно объявила тётка, нагло игнорируя вопрос. Она встала из-за стола и двинулась наружу. Преодолевая внутренний протест, Милюль вышла вслед за нею.
Едва оказавшись на палубе, они были вынуждены остановиться. Всякие перемещения оказались невозможны, потому что перед ними проходил парад. Как ещё это назвать? Вдоль левого борта катера стройной шеренгой стояла команда. Матроски сияли белизной, а ленты бескозырок трепыхались на ветру. Перед строем торчал капитан и зычным голосом кричал:
– Матросы революционного балтийского флота! Советская власть и коммунистическая партия доверили нам самое современное судно, созданное по последнему слову техники! За такими катерами будущее мирового пролетариата на морях и океанах Земли! Директива товарища Троцкого о развитии москитного флота позволила рабочим Ленинграда начать неповторимый эксперимент и разработать вот это вот чудо!
По сути дела это первый в мире плавающий танк. Мощная броня и высокая маневренность позволяют нам практически вплотную подходить к большим и неповоротливым судам буржуазных стран. Даже если бы на борту не было никакого вооружения, мы могли бы протаранить любой дредноут! Но партия позаботилась о лучшем! Мы вооружены современными торпедными установками и можем наносить смертельные удары врагу!
Мало того. Оружие пролетарской страны должно постоянно совершенствоваться. Поэтому оно совершенствуется, и будет усовершенствоваться всегда! Сегодня мы проводим учебные стрельбы из принципиально нового автоматического орудия, установленного в носовой части катера.
Ставлю боевую задачу: в условиях средней качки проверить скорострельность и прицельность стрельбы по учебной цели. По окончании стрельб провести торпедирование мишени двумя торпедами.
Наши предварительные учения должны пройти успешно, потому что на следующий раз мы возьмём на борт прославленных полководцев красной армии и революционного флота из Москвы. От результатов наших испытаний зависит будущее! Сотни и тысячи катеров, вооружённых двумя и тремя такими орудиями, сойдут со стапелей города Ленина! Ничто не сможет остановить победу мирового пролетариата и торжество коммунизма во всём мире! На нас лежит ответственность за сегодняшние учения! За новое оружие! За победу революции! Да здравствует красный балтийский флот!
Стоящие в шеренге матросы в состоянии, близком к всеобщему ликованию, дружно ответили громким воплем «Ура!» Можно было и не продолжать. И так всенародный восторг команды, проявленный при изучении учебно-боевой задачи, выходил за рамки обыденного, но капитан не унялся и крикнул громче прежнего:
– Да здравствует товарищ Троцкий!
Снова дружное «Ура!» было ему ответом.
– Да здравствует революция! – закричал капитан на пределе человеческих возможностей, и команда ответила ему так самоотверженно и надрывно, что Милюль подумалось, если капитан не уймётся, то дело дойдёт до массового суицида. Но капитан, резко и неожиданно сменил громкий пафос на сухую деловитость и сказал совершенно спокойно:
– Всем приступить к исполнению учебного задания.
Палуба отозвалась барабанной дробью. Это множество ног простучали по ней. Быстрота, с которой матросы разбежались, кто – куда, удивила Милюль сильней, чем громкая речь капитана, чем радостное и энергичное «ура!» В стремительном опустошении палубы не было никакой спешки. Одна лишь чёткая моментальность слаженного человеческого механизма. Проходя мимо Милюль и тёти Лены, капитан кивнул головой и коротко бросил:
– В каюты.
– Алёша, надо поговорить – взмолилась тётя Лена.
– После. Сейчас по местам – жестко сказал капитан и ушёл, не останавливаясь.
Тётя Лена и Милюль развернулись ко входу в каюты и упёрлись в стоящего за ними Павлика. Видимо, он тоже наблюдал построение, а затем разбегание матросов. Во всяком случае, рот его так и оставался открытым.
– Идёмте, дети – стала поторапливать тётя Лена – на корабле приказ командира – закон.
Запихнув обоих детей в коридорчик, она плотно захлопнула железную дверь. Дети послушно дошли до каюты и там сели на нижнюю полку. Лена уселась рядом. Оказалось тесновато. Павлик смотрел в иллюминатор, хотя там ничего кроме волн не было видно. Из динамика громкой связи раздался голос капитана:
– Лево руля!
Катер резко накренился вправо, и Милюль прижало к тёте Лене. С другой стороны на неё навалился Павлик.
– Ого! – вырвалось у мальчика. Тут из динамика донеслось:
– Право руля!
Всю троицу мотнуло теперь уже на Павлика.
– Выходим на учебную цель. Приступить к плановому маневрированию! – приказал динамик и катер продолжил методично крениться то вправо, то влево.
– Вот бы посмотреть, как они баржу потопят – мечтательно сказал Павлик.
– Отец предупреждал – отозвалась тётя Лена – когда начнутся учения, всем сидеть в каюте и не мешать.
– Ну, хоть бы краешком глазика – гнусил Павлик – я незаметно дверцу приоткрою и в щёлочку погляжу.
– Нельзя, значит нельзя – упорствовала тётя Лена.
– Ну, мамочка, я же никому не помешаю. Меня и не заметит никто. Кому сейчас до нас дело? – умолял мальчик и мать его, наконец, сдалась. И как ей было не сдаться? Он строил такие рожицы, он был так увлечён и к тому же он был мальчиком, будущим бойцом революционной армии. Почему бы не посмотреть ему на учения через дверцу, вместо того, чтобы сидеть тут с двумя бабами, которых вообще на боевом корабле быть не должно? Да и Алексей уверял, что учения будут совершенно безопасными.
Милюль наблюдала сцену Павликовых упрашиваний и душевных колебаний тёти Лены. «Любопытно – думала она – вчера такой же мальчик умолял меня поглядеть краешком глаза на бурю. Кажется, это не очень хорошо закончилось. Что-то будет теперь?»
– Ну, ступай – сдалась тётя Лена – только обещай мне носа на палубу не совать! Двинешь дверную ручку вниз, и будешь смотреть через щёлочку.
– Честное октябрятское – горячо пообещал Павлик и собрался встать, когда Милюль придавила его локтём к полке:
– Лена, давайте вместе пойдём? – предложила она.
– Какие глупости! – округлила глаза тётя Лена – Во-первых, Надя, ты не мальчик. Во-вторых, ты сегодня не в себе и я не могу за тебя ручаться. В-третьих, надо слушаться старших.
Стало ясно, что Лена ни за что не отпустит Милюль с Павликом и, может быть, даже начнёт драться, если Милюль будет упорствовать. «Павлику, значит, можно, а мне нельзя» – подумала Милюль про себя. Вслух же согласилась, усиленно изображая полную покорность:
– Хорошо, Лена. Я и сама думаю, нечего там смотреть. Я терпеть не могу всякие учения. Другое дело настоящий морской бой.
– Вот и замечательно! – обрадовалась тётя Лена – Кстати, хочешь, мы с тобой пока в морской бой сыграем?
– Очень хочу. Даже чешусь вся – соврала Милюль, хотя понятия не имела, что за новые игры придумала эта затейница.
Отпущенный Павлик выскользнул из каюты, а Лена, радуясь проявлению Милюлиного послушания, полезла копаться в тумбочке под столиком, где по её словам должны были лежать карандаши и тетрадки в клеточку. Милюль оценила ситуацию и поняла, что момент «Х» настал. Сейчас и только сейчас можно сбежать из каюты. Причём бежать надо решительно и быстро, так, чтобы Лена не смогла её настигнуть. Если повезёт, то, может быть, ей, наконец, удастся выстрелить из пушки. Хоть один камень свалится с плеч.
Одним прыжком обманщица оказалась у выхода, выскочила в коридор и с силой захлопнула дверцу за собой. Со скоростью снаряда, движущегося в стволе орудия, Милюль пронеслась по узкому коридору, взлетела по узенькому трапу, оттолкнула Павлика от полуотворённой двери, и, оказавшись на палубе, метнулась к орудийной башне на носу бронекатера. Дверца в башню оказалась не заперта. Открыв её, Милюль пролезла внутрь.
* * *
Внутри оказалось ещё теснее и сумрачнее, чем было в каюте. Впрочем, Милюль быстро привыкла к полумраку и с интересом оглядела обстановку. Металлическая лента со снарядами одним концом была заправлена в орудие, а другим спускалась в объёмный деревянный ящик. Ещё несколько таких же ящиков стояли вокруг, прикреплённые скобами к стенам башни. Матрос Барсуков и ещё один, неизвестный, сидели в маленьких железных сёдлах у орудия и вращали какие-то колёсики. Лицо неизвестного было прижато к окуляру прицела, и он не обратил внимания на ворвавшуюся девочку. Барсуков же обернулся, коротко выругался и приказал Милюль:
– Дверь запри, а рот отвори, да пошире!
– Это ты кому? – спросил неизвестный. Оторвав лицо от прицела, он обернулся и, увидев Милюль, обронил – Фу ты – ну ты! – после чего опять приник к прицелу и скомандовал – Влево на семнадцать.
Барсуков взялся усиленно крутить ручку колёсика, от чего башня пришла в плавное движение. Милюль захлопнула дверцу, повернула запирающий рычаг и затаилась с разинутым ртом, как и велел Барсуков.
– Вправо на двадцать – приказал неизвестный, и башня поехала в другую сторону. Катер то и дело менял курс и артиллеристы поворачивали башню то в одну, то в другую сторону.
– К артобстрелу товьсь! – донеслось из динамика.
– Открой пасть, Надюха! – крикнул Барсуков. Милюль отворила рот до ноющего напряжения в челюстях.
– Готов! – крикнул неизвестный матрос, отодвигая лицо от прицела.
– Огонь! – крикнул динамик и начался ад.
Заглатывая ленту, пушка стала со страшным грохотом стрелять, и резко откатываться назад. Пустые гильзы выпрыгивали из неё и, дымясь, падали на пол. Неизвестный матрос уже не смотрел в пляшущий окуляр. Привстав над седлом, он вглядывался в бойницу поверх ствола и подкручивал колёсико то в одну, то в другую сторону. Периодически он орал Барсукову:
– Правее!.. Ещё!.. Ещё на три!.. Левее на восемь!..
Барсуков с открытым ртом, из которого капали слюни, крутил ручку то в одну, то в другую сторону. Грохот выстрелов образовал монотонный ритмичный гул. Милюль прижала руки к ушам и присела на корточки, упираясь спиной в запертую дверцу. Дымящаяся гильза подкатилась к ней. Она отпихнула гильзу ногой, но следом уже подкатывалась вторая, а за нею и третья.
– Отстаньте от меня! – крикнула девочка гильзам и, сев на пол, пихала их обеими ногами. Гильзы же всё падали и падали из орудия и катались по полу. Грохот стрельбы, отрывистые команды неизвестного матроса, катящиеся гильзы.… в горячем, дико пахнущем воздухе замкнутого пространства, всё это слилось в непрерывное месиво.
Милюль уже решила: так теперь будет всегда, когда пушка вдруг замолчала. Пустая лента выпала из орудия, а оба матроса, не сговариваясь, повскакали с сёдел. Неизвестный оттащил вплотную к Милюль опустевший ящик, в то время, как Барсуков отцепил от стенки, бухнул на пол около пушки второй, открыл крышку и в мгновение ока заправил новую ленту. Неизвестный уже приник к окуляру и скомандовал:
– Пятнадцать вправо!
Барсуков уже сидел в седле. Мгновенно он принялся поворачивать башню.
– Ещё три! – крикнул матрос и отпрянул от прицела.
Грохот возобновился. Милюль захотелось забраться в пустой ящик, запереться и сидеть там, как в домике, но тут катер дал резкий крен влево. Стрельба прекратилась, а куча пустых гильз поскакала в левую сторону.
– Нормально! – крикнул неизвестный матрос Барсукову.
– Сейчас Мартын даст! – ответил Барсуков.
Чего «нормально» и что такое «даст Мартын» – осталось загадкой для Милюль. Катер вышел из крена и слегка содрогнулся один, потом второй раз. Неизвестный матрос, не глядя ни в бойницу, ни в прицел, зачем-то взялся считать. Он досчитал до шестнадцати, когда где-то далеко снаружи раздался, приглушённый бронёй башни, взрыв. Потом второй.
– Ай, молодца! – крикнул Барсуков, после чего оба подскочили к Милюль, подняли её на ноги и отворили дверцу. Пахнуло свежим воздухом. Неизвестный выскочил наружу и скрылся из виду. Барсуков проорал Милюль в ухо:
– Ну, как? Ошалела?
Милюль постаралась улыбнуться в ответ, но вышло криво. В ушах стоял звон, а ноги премерзко тряслись. В дверцу вновь запрыгнул неизвестный и радостно сообщил:
– Готово!.. Как топор!
Тут же раздался голос из динамика:
– Товарищи бойцы! Объявляется общее построение.
– Бегом к себе! – приказал Милюль Барсуков.
«К себе» Милюль не хотелось. Очень не хотелось. Поэтому вопреки ожиданиям Барсукова, она остановилась перед дверцей и спросила:
– А кто такой Мартын?
– Мартын заведует концом света – неопределённо ответил Барсуков и подтолкнул Милюль в спину – беги, давай, а то все огребём по полной!
* * *
По палубе в направлении орудийной башни уже неслась, опережая выбегающих к построению матросов, сердитая тётя Лена. Сердитая – не то слово. Вся её рожа была искажена гневом, волосы растрёпаны, а кожаный матросский ремень в правой руке говорил о самых недобрых намерениях. Милюль сообразила, что бежать надо быстро и совсем не туда, куда посылал её Барсуков. Если бы они были на суше, то бежать надо было бы до самого горизонта. Но на катере далеко не убежишь, поэтому следовало бежать в два раза быстрее. Она рванула вбок и помчалась вокруг башни, чувствуя за спиной топот неминуемой расправы.
Обогнув башню, Милюль устремилась мимо наполовину построенной шеренги матросов, в сторону кормы. Лена пронеслась следом.
– Однако!.. – неопределённо заметил старпом Круглов, глядя им вслед.
Экипаж продолжал стремительно строиться в шеренгу. Построился. Появился командир и обратился к морякам:
– Товарищи матросы революционного балтийского флота! От лица командования поздравляю экипаж бронекатера с успешно выполненным учебным заданием и объявляю благодарность!
– Ура! – отозвался экипаж.
– Особая благодарность артиллеристам Чагину и Барсукову за прицельный огонь из нового скорострельного орудия. Семнадцать точных попаданий в цель. Молодцы!
Оба матроса синхронно гаркнули: «Служу трудовому народу!», когда Милюль, а за нею и жена капитана выскочили из-за надстройки, проскакали вдоль противоположного от шеренги борта в направлении носа катера и скрылись за орудийной башней. Капитан стоял к ним спиной и не видел женской погони, но моряки-то видели. Все. По шеренге пробежал тихий ропот.
– В чём дело? – спросил капитан.
– Товарищ командир, разрешите доложить? – выступил вперёд старпом Круглов.
– Докладывайте.
– С восемнадцатого года не видал подобного бардака – доложил старпом и встал в строй.
Хоть доклад старпома и был краток, но капитану неплохо было бы представить очевидные факты упомянутого бардака. Для ясности. Капитан хотел уже высказать эту истину, как стало понятно: потому и встал старпом в строй, что факты появились сами. Да так появились, что не встань старпом в строй, они бы в него врезались.
Поскольку старпом освободил дорогу, Милюль вихрем промчалась мимо шеренги революционных матросов. Капитанова жена неслась за нею. Так бы и она пробежала мимо. Кто знает, сколько кругов по катеру нарезали бы две гражданки, если бы вместо настоящего командира был какой-нибудь там неизвестно кто? Настоящий командир должен уметь моментально ориентироваться в любой ситуации. Капитан сориентировался и громко гаркнул:
– Стоять!
Жена встала как вкопанная между ним и строем. Осознав нелепость своего положения, женщина начала было конфузиться, но капитан и тут повёл себя орлом. Обращаясь лично к ней, он по-военному чётко скомандовал:
– Елена Громова, напра-во! В каюту шагом марш!
Испытывая противоречивую гамму чувств, тётя Лена промаршировала с палубы. Капитан обратился к матросам:
– Ну что ж, товарищи, прошу извинить меня за неуставные безобразия на катере. Обещаю больше такого не повторять, а теперь берём курс на Ленинград. Всем разойтись и приступить к несению службы.
Шеренга распалась. Экипаж разошёлся по местам, а капитан, перекинувшись парой слов со старпомом, отправился на корму. Там, у торпедных установок, он нашёл Милюль. Она сидела на канатной бухте и задумчиво смотрела на расходящиеся за кормой серые буруны. Он хотел, было обратиться к ней строго, сообщить, что беготнёй по палубе и даже самим присутствием на катере, она роняет его авторитет, нарушает все договорённости, достигнутые в переговорах перед плаванием. На самом деле капитан лишь вздохнул и сел на бухту рядом. Так они и сидели некоторое время.
– Очень кушать хочется – прервала молчание Милюль.
Капитан не сильно удивился и отвёл её на камбуз. Матрос, исполнявший обязанности кока, пообещал накормить девочку. Сам же капитан прошёл в каюту, где сидели его жена и сын.
– Ну что, юнга – спросил он Павлика – не хочешь ли ты посмотреть на капитанский мостик?
– Конечно, хочу – ответил мальчик – Надька вон все учения видала!
– Тогда отправляйся наверх и скажи старпому Круглову, мол я тебя прислал к нему на выучку.
Павлик воробьём выпорхнул из каюты. Капитан сел рядом с женой, погладил её по колену:
– Не сильно я тебя оконфузил? – спросил он.
– Наоборот – возразила жена – я сама порядочная дура. Угораздило же меня гоняться за ней! Спасибо тебе.
– Ты собиралась со мной поговорить. Про Надежду?
– Алёша – Елена подняла на мужа взгляд – это клинический случай. У твоей двоюродной сестры серьёзное нарушение психики, душевная болезнь в глубокой форме. Я бы уже сейчас изолировала её и заперла, а по прибытии в Ленинград, тут же госпитализировала. Это серьёзно. Она проявляет немотивированную агрессию, но это ещё полбеды. Основная беда в том, что её собственная личность полностью подавлена какой-то иной, невесть откуда взявшейся сущностью. Все представления о себе, о мире и об окружающих, которые были у Надежды, стёрты напрочь. Это иное, которое поселилось в теле твоей сестры, не знает ни тебя, ни меня. Оно пытается приспособиться. Очень изощрённо вживается в получившуюся роль, но это не Надя. Это какой-то дореволюционный монстр! Это даже не хрестоматийный случай. Это нечто уникальное…
– То есть таких случаев твоя медицинская наука не знает? – уточнил капитан.
– Знает. На лекциях нам читали про женщину, душевная болезнь которой заключалась в том, что её левой рукой руководила не она, а какой-то другой человек. Сама больная была взбалмошной и капризной. Она врала врачам, в то время как личность, управлявшая левой рукой, постоянно подавала какие-то знаки. Когда перед больной положили бумагу и карандаш, то рука, независимо от всего остального, схватила карандаш и ну – писать. Эта левая рука постоянно её разоблачала. Спрашивают женщину: «Не пьёте ли вы водку?» Она отвечает: «В рот не беру!», а рука пишет: «Позавчера она выпила бутылку в одно рыло!» Сама же больная даже не подозревала о действиях левой руки. Ей казалось, будто рука не шевелится.
– Не подозревала?
– Вот именно! Её спрашивают, сколько ей лет. Она говорит, что двадцать пять, а рука пишет: «Врёт. Ей уже тридцать два». И так во всём.
Склонив голову и уперев лоб в кулак, капитан задумался. Потом мотнул головой:
– Я только что беседовал с ней и отвёл её на камбуз. По-моему, она совершенно адекватна.
– Вот именно! Более того, она хитра и изворотлива! Только это не она. Это не та Надежда, которая была вчера, позавчера и всегда. Это не школьница и не пионерка. Она не читала Чуковского, слыхом не слыхивала про Маяковского. Она даже не знает, что совершилась революция, и мы строим коммунизм. Она всерьёз полагает, что самый главный – царь. Это ещё чего! Она утверждает, что есть бог! Ты можешь такое себе представить?
– Не могу – признался капитан.
– Вот и я не могу. А эта… эта… она даже не знает пионерскую речёвку: «Раз-два, три-четыре, три-четыре, раз-два!» – как никогда не слыхала! Она как будто заброшена к нам из белогвардейской армии. Представляешь, она считает, будто живёт в России!
– Разве нет? – спросил капитан.
– Не хватало мне ещё одного сумасшедшего! – всплеснула руками Лена – Алексей, кому как не тебе знать, что мы живём совсем в другой стране. Это Советский Союз, Лёша! Это не та тюрьма, которая кончилась. Мы её до основания, понимаешь?.. Это там был царь, там, откуда взялась на наши головы эта дикая сумасбродка, были господа и дамы. Никаких господ!
– Да, действительно – согласился капитан и усмехнулся – наше детство прошло в одной стране, а остальная жизнь идёт в другой.
– Именно, детство! – воскликнула Лена – Ты мне напомнил. Она не знает, сколько ей сегодня исполнилось лет. Сначала сказала: «Пять», потом исправила на шесть, и лишь после стала задумываться. Она внимательно следит за нами и старается приноровиться, приспособиться, прикинуться своей, хоть сама прекрасно понимает: она – чужая, из другой эпохи, из другого мира, из другого, чуждого нам классового общества. Она буржуйка! Она как иностранный шпион, не обеспеченный легендой.
– Ну вот, договорились! – возмутился капитан – хорошо, что ты не комиссар, а-то поставила бы Надьку к стенке.
– И была бы права! – запальчиво вскрикнула Лена – она являет самую настоящую отрыжку царского прошлого!.. – и тут же прикусила язык, потому что капитан глянул очень серьёзно и обиженно. Тут же Лене припомнилось: до революции-то он тоже был из тех, из чужих, для которых существовала Россия, царь и прочие ненавистные гадости. Именно до революции он успел кончить не то гимназию, не то кадетский корпус. Знания и образование позволили ему стать блестящим военным специалистом, но такие понятия, как пролетарский дух, интернациональное сознание, революционное мировоззрение… изначально должны были быть не его, не в сердце вызревшими. Этим понятиям Алексею пришлось когда-то учиться, привыкать, влезая в чужие шкуры, так же, как теперь приходится приноравливаться той, неизвестной Милюль, которая изо всех сил старается прикинуться Надеждой. Если вдуматься, да сорвать с мужа поверхностную кожуру советского человека и красного командира, под нею окажется изначальный враг революции, неискоренимый буржуазный шовинист из дореволюционного прошлого.
Подтверждая эту страшную догадку, Алексей Андреевич заговорил:
– Лена, есть такие явления, о которых мы замолкаем на годы, иногда навсегда. Но они всё равно продолжают жить в нас. От них невозможно избавиться, сколько бы я не загонял их внутрь. Сколь бы я ни старался, мне не выкинуть из памяти собственного детства. Я помню его также ясно, как вчерашний день. И вот в чём парадокс события: я смотрю на свою сестру, к которой привык даже больше, чем к тебе, Лена. Смотрю я на неё и понимаю: это она, всё та же Наденька, что и вчера, но одновременно мне кажется, что это не она вовсе, а та самая Милюль, с которой я познакомился ещё в дореволюционном детстве. Что за наваждение такое?.. Думал, такого не может быть, пока ты не рассказала про чудеса психологии. Теперь я склонен предполагать, что никакое это не наваждение, а так оно и есть. И, кстати, малахитовая лягушка, которую я ей сегодня подарил, тоже оттуда, из тех времён. Выходит, ничего не проходит бесследно.
Капитан умолк. Лена же громко возмутилась:
– Какая дурацкая сентиментальность на тебя нашла! Я тебе говорю, надо принимать срочные меры, а ты ударился в слюнявые детские воспоминания! Сегодня не вчерашний день, Лёша! Нет больше твоего детства! Всё кончилось! Нет никакой сопливой Милюль в кокошнике! Есть монстр, который по самой своей сути махровый контрреволюционер, а ты со своими мерехлюндиями добьёшься того, что она испортит тебе всю карьеру. Сейчас же запри её в каюте и не выпускай до Ленинграда. А там под конвоем!.. Слышишь меня, под конвоем срочно отправь в клинику. Пусть ей поставят какую следует клизму, чтобы от этой Милюль не осталось и следа!..
Лёгкое движение в поле бокового зрения Елены заставило её повернуть голову, и она увидела, что дверь в каюту не заперта, а полуоткрыта, и через щель за нею наблюдает внимательный глаз. Милюль была здесь! Дверь скрывала ровно половину девочки, в то время как вторая половина подглядывала и подслушивала. Кто теперь скажет, как давно она это делала? Слышала ли она воспоминания мужа? Слышала ли она свой диагноз? Но то, что последние слова, сказанные Леной в запальчивости, она услыхала, было очевидно, ибо торчавшая из-за двери половина лица была очень серьёзной, сосредоточенной и злой.
– Ты чего подслушиваешь? – возмутилась Лена.
– А вы, мадам Элеонора, хотите всё за моей спиной обтяпать? – прохрипело в ответ бледное от злобы существо.
– Сколько раз тебе говорить… – начала, было, Лена, но девочка перебила её:
– Что вы теперь не мадам. Что вы теперь товарищ. Я поняла. Я знаю, что вы собираетесь сделать со мной. Вы хотите, чтобы я умерла. Только ничего у вас не выйдет. Вы меня не убьёте, мадам Элеонора. Это я вас убью. А теперь мне некогда. Теперь я слишком злая.
Девочка исчезла из дверного проёма. Лена обернулась на капитана, вновь посмотрела в опустевшее пространство между дверью и косяком и громко закричала: «Стоять!», но Милюль не послушалась.
* * *
Барсуков с Чагиным уже вынесли ящик с пустыми гильзами, пробанили орудие и собирались зачехлять задранный кверху ствол, когда услышали, как кто-то пробежал по палубе, запрыгнул в башню и громко захлопнул дверцу.
– Барсуков! Иди-ка, проверь, кто там! – скомандовал Чагин.
– Сейчас посмотрю – отозвался Барсуков и пошёл вокруг башни к двери. Изнутри раздавался приглушённый лязг передвигаемого металла. Барсуков дёрнул дверь на себя, но она не поддалась.
– Э! Кто там шалит? – крикнул Барсуков.
– Это я! – пискнула Милюль, с натугой заправляя в орудие конец железной ленты. Она до деталей запомнила, как это делал сам Барсуков, но никак не ожидала, что лента окажется неприподъёмно тяжёлой. Тужась и пыхтя, Милюль всё-таки заправила ленту и захлопнула крышку казённой части. Оставалось прицелиться, для чего следовало сначала повернуть башню вправо, в сторону берега.
Милюль села в железное седло Барсукова и обеими руками двинула ручку поворотного механизма. Как же это оказалось тяжело! Милюль даже подивилась, прикинув какой страшной силой должен был обладать сам Барсуков, чтобы вращать колёсико туда-сюда!
Вначале туго, но потом всё быстрее башня начала поворачиваться вправо. За орудийной амбразурой проплыл нос катера, серые волны Ладоги, появились на горизонте утёсы шхер, и, перекрывая их, испуганная рожа Чагина.
– Ты, давай, заканчивай! Ты чо? – заорала рожа.
– Уберите голову, матрос! Сейчас стрельнёт! – крикнула в ответ Милюль и рожа исчезла.
Барсуков отчаянно дёргал дверь сзади. Бесполезно. Спустя секунду в дверь уже колотили и орали сквозь сталь несколько голосов:
– Не дури, Надежда! Дверь открой!
– Ты, там стрелять не вздумай!
– Открой сейчас же!
– Хуже будет! – И ещё много очень, очень вульгарных и непонятных по сути слов.
Милюль пересела в седло Чагина и приблизила глаз к прицелу. Серые тучи в перекрестье линий увеличились и распухли. Башню качало, как и весь катер, но хитрое орудие сглаживало амплитуду. Милюль завертела ручкой вертикального наведения. Ствол послушно пошёл вниз. В прицеле оказались скалы, затем вечно подвижные волны. Она стала крутить в обратную сторону и орудие, поднявшись, снова устремило взгляд на пустынные утёсы.
На катере взвыла сирена. Снаружи донеслось:
– Ключ тащи! Чего вылупился? Быстрее!
И ответ Барсукова:
– Есть, товарищ!..
– А! – недобро оскалилась Милюль – Достать меня? – подскочив к двери, она схватила фомку и, тихо бурча – Вот вам ключ, грубияны – ловко заклинила затвор. Вернулась к орудию. Снова мельком глянула в прицел. Там были всё те же утёсы.
– Унылый край, страна варягов, прими мой искренний привет! – визгнула она, и так же, как давеча неизвестный матрос Чагин, отпрянула от прицела и дёрнула шнур бойка.
Выплёвывая дымящиеся гильзы, орудие начало выстреливать порции огня. Сквозь бойницу Милюль с восторгом видела, как разрываются утесы, и каменная пыль разлетается в разные стороны, как падают вниз сорванные взрывами бульники. Захотелось глянуть в прицел, но орудие ходило ходуном, прицел опасно дёргался при каждом выстреле, и Милюль благоразумно отказалась от этой идеи. Пытаясь перекрыть грохот стрельбы, она орала что есть мочи всякую восторженную несусветность:
– Сдавайтесь, подлые враги!.. Прямо в яблочко!.. Никто не уйдёт!.. Мы в плен не берём!..
Праздник закончился с последней гильзой, одиноко стукнувшейся об пол.
– Всё. Конец! – сообщила Милюль сама себе, а в дверь за её спиной бухали чем-то большим и железным.
– Хватит бухать! – крикнула Милюль – Сообщите ваши условия!
Ещё раз бухнуло железом об железо, и наступила удивлённая тишина. Через некоторое время снаружи раздался выражающий кромешное недоумение голос Барсукова:
– Ты там это… Чо надо?..
– Могу открыть – заговорщицки пояснила Милюль.
– Ну, так открывай, мать твою! – рявкнул другой голос.
– Не буду.
– Почему?
– Потому что вы грубите.
Снаружи раздался ропот, приглушённо выражающий разнообразные мнения, из которых Милюль заключила, что хоть у башни и собрался весь экипаж, но при этом нет единства в команде катера. Индивидуально выделился голос старпома Круглова:
– А ну открывай! Я тебе все уши оборву!
– Эти условия меня не устраивают! – крикнула Милюль в ответ.
Опять послышалась разноголосица, в которой порой можно было расслышать самые неординарные идеи. Кто-то предлагал взорвать дверь гранатой, кто-то убеждал сверлить замок дрелью. Чей-то голос предложил: «…зачехлить всю башню и так идти до Питера». Ему возразили: «Девка бедовая. Может по Зимнему стрельнуть. Тогда опять говна не оберёшься». Какой-то умник предложил запихнуть в смотровую щель дымовую шашку. Наконец, перекрывая неразборчивый гур-гур споров, раздался голос капитана:
– Надежда, открой, пожалуйста.
– Ну конечно! – злорадно ответила Милюль – Чтобы вы меня изолировали и заперли?
– Какая тебе разница, где взаперти сидеть? – спросил капитан.
Милюль задумалась над такой постановкой вопроса и через минуту размышлений выдала ответ:
– Сейчас я сама заперлась. Я довольна, а все нет. Если же вы меня запрёте, то все будут довольны, а я – нет. Выходит, по-моему лучше.
– Во как мотивирует! – послышался восхищённый возглас Круглова.
Все аргументы были на стороне Милюль. И команда катера должна была капитулировать перед совершенством её логики. Сидеть бы ей в башне вечность, кабы не напало на Милюль нечто непредвиденное с совершенно неожиданной стороны. Изнутри. Милюль вдруг осознала, что четыре тарелки макарон по-флотски, съеденные на камбузе, давно переварились и ей опять хочется есть. Несколько томительных минут прожорливая девочка молча боролась с внутренним врагом. Молчали и снаружи. Наконец, Милюль не выдержала и подала голос:
– Чего вы там молчите?
Тишина была ей ответом. Милюль решила, было, что все разошлись, когда голос Круглова спросил с той стороны двери:
– Ты Рембрандта читала?
– Нет – созналась Милюль.
– Так о чём с тобой разговаривать? – радостно крикнул Круглов. Раздавшееся следом ржание нескольких человек обидело девочку. Она схватила пустую гильзу и бросила ею в дверь.
– Смотри, ничего там не разбей – посоветовал Круглов.
Милюль оглянулась вокруг. Разбить в башне было совершенно нечего.
– Тут ничего бьющегося нет – крикнула она.
– Не может быть! – возразил Круглов – Только вчера трюмо поставили с фарфором гамбургским.
Милюль ещё раз удивлённо огляделась. Никакого трюмо не было, да и где бы оно уместилось тут, в тесноте орудийной башни? Милюль поняла, что Круглов над ней измывается. Буйная ярость навалилась на неё, споря своею силою с растущим голодом.
– Выйду и убью! – пообещала девочка и стала исступлённо дёргать заклинившую запор фомку. Фомка шла туго, но Милюль дёргала и раскачивала её с такой же силой, с какой мучил её нарастающий голод. Выдернув лом, Милюль отворила запор, распахнула дверцу и выскочила наружу.
Оказалось, её ждёт почти вся команда. Краем глаза Милюль заметила и капитана и матроса Барсукова. Даже Павлик с Леной стояли невдалеке. Но ей было не до них. Старпом Круглов был её целью, и, замахнувшись фомкой, она ринулась на него. Ударила изо всех сил по ненавистной роже шутника. Только рожа эта неожиданно увернулась. Тяжелое железо нырнуло в пустоту. Фомка звякнула по палубе и мерзко завибрировала в руке.
Милюль выронила своё оружие, а подлый Круглов воспользовался этим и сгрёб девчонку в охапку. Она вертелась и извивалась, пытаясь укусить издевателя, но старпом крепко держал её. Сколько Милюль не дрыгала ногами, сколько ни корячилась, никак не нанесла наглому шутнику никакого ущерба. Наконец, Милюль умаялась.
Матросы, обступившие их с Кругловым, стояли, разинув рты. Так же растерянно выглядел капитан. На его плечо легла изящная кисть тёти Лены:
– Я же говорила, она не усидит в башне. Расстройство такого рода не даёт больному возможности находиться в бездействии. Ей всё время нестерпимо хочется чего-нибудь предпринять…
– Мне хочется есть! – перебила Лену Милюль.
– Ого! – сказал безымянный кок – только пол часа, как четыре тарелки макаронов умяла, а опять голодная.
– Отставить разговоры! – приказал капитан – Прошу команду разойтись по боевым постам. Барсуков и Чагин, пробанить и зачехлить орудие! Катер продолжает следовать прежним курсом. Старпом, отведите Надежду в каюту и заприте там. Потом возвращайтесь ко мне на мостик. Лена, вам с Павликом приказываю до возвращения находиться в кубрике. Всё.
Расставив, таким образом, всё по местам, капитан быстрым шагом пошёл на мостик и даже не обернулся, когда Милюль крикнула ему вслед:
– А покушать?
Матросы разбежались. Не выпуская Милюль, старпом двинулся внутрь судна. Павлик шёл впереди и отворял дверцы. Тётя Лена замыкала процессию. Когда Павлик открыл дверь, ведущую в каюту, Круглов ослабил хватку, чем Милюль, тут же воспользовалась, извернулась и укусила старпома за правую руку.
– А-а-а-й, ты! – взвыл старпом и, впихнув девочку в каюту, захлопнул за ней дверь. Милюль кинулась обратно, ударилась в дверное железо, забарабанила по нему кулаками и так страшно завыла, что у старпома по спине побежали мурашки.
– Она меня укусила! – пожаловался он тёте Лене – Теперь и я сбесюсь!
– Не сбеситесь, старпом – улыбнулась женщина – душевные болезни не заразны.
– Да она бесноватая – сказал старпом, возясь с дверными запорами.
– Это не диагноз – возразила тётя Лена – Мы строим коммунистическое будущее, а все бесноватости, товарищ старпом, остались в царском прошлом.
– Ну, конечно. Если бы вы знали, сколько в ней силищи, вы бы так не говорили. Я еле справился.
– Так ведь справились. Некоторые психические расстройства высвобождают из человека колоссальную энергию, заставляя сжигать миллиарды калорий в секунды. Кстати, может быть, от этого и зверский аппетит. Но вслед за возбудимостью неизбежно наступает ремиссия, откат организма обратно, потом чувство бессилия, апатия. Если бы у меня были медикаменты, я бы уже сейчас могла сделать ей успокаивающий укол. Но кто бы знал?.. Надеюсь, врачи помогут.
Хмурясь от изобилия учёных слов, старпом пробурчал:
– Ладно, пойду на мостик. Хорошо, что у нас есть врач на катере.
– Она не вырвется? – спросил Павлик.
– Куда там – усмехнулся Круглов – видишь, я через ушко дверь заклинил. Пока ты её снаружи не откроешь, изнутри никто не вырвется.
Голоса за дверью стихли. Силы и впрямь покидали Милюль. Как и предсказывала тётя Лена, на Милюль начали наваливаться апатия и безразличие. Опустившись на полку, Милюль подумала про себя: «Что-то тётя Лена шибко часто всё предвидит. Может, она права и я душевно больная? Может быть действительно, доктора помогут мне вернуть мир на потерянное место?» Милюль прикрыла глаза, представляя, что под волшебными чарами неизвестных врачей, прекратится творящийся вокруг беспорядок, и она вновь окажется на большом белом лайнере вместе с любимой нянечкой, а жёсткий мир непонятных людей и слов сгинет в небытии как ночной кошмар.
– Всё это мне кажется – сказала Милюль вслух и попыталась улыбнуться самой себе, но губы её дрожали и отказывались улыбаться. Несмотря на усталость, не приходил к ней и сон. Милюль ворочалась на полке и ворчала:
– Не я больная, а все вокруг сумасшедшие. Зачем они меня сюда затащили? Чего им от меня надо целый день? Почему не вернут меня обратно, к няне, или хотя бы к тётке Юлии? – Она заплакала тихо и бессильно. Слёзы текли по щекам, щекотали за ушами и скатывались на накрахмаленную наволочку. Тяжкие всхлипы то поднимались изнутри, сотрясая грудь, то проваливались обратно, заставляя девочку задыхаться в клокочущих спазмах.
Так она лежала и плакала, пока не задремала. Неясные образы привиделись Милюль в её недолгой дрёме. Образы эти показались ей родными и близкими, хоть и ничем не были связаны с реальной жизнью. Так может задремать любой человек. Даже собака. Каждый из нас может так задремать, и оказаться не пойми где.
* * *
Судорожными рывками она неслась среди длинных зелёных полос. Полосы упруго колыхались в прозрачных потоках, и не было им конца. Заунывным шевелением эти полосы разогнали всех мало-мальски пригодных к пище тварей, и ничего съедобного не осталось в хрустальной стремнине. Только движение, несущее её. Только холодные плотности со всех сторон. Движение в потоке не имело ни начала, ни конца и теоретически могло длиться вечно.
Оно заключало в себе как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что никто извне не смог бы разглядеть мчащуюся Милюль, чтобы её съесть, а минус был в полном отсутствии еды для неё. При таком положении вещей и ей никто не мог причинить вреда и она…
Старый рак поскрёб клешнёй голову и заключил:
– Вот такое положение. Сколько лет уже я смотрю на окружающий мир и думаю: как это нелепо, как противно жить на земле, если вся жизнь сопровождается нескончаемой цепью страданий. Что цепью? Это не цепь, это иерархия! То есть всякие страдания, взаимные пожирания, страхи, искусы и устремления – некоторым образом выстроены. Мир живой материи и внутренний мир каждого существа в течение жизни наполняются нескончаемыми сгустками ужасов, напряжений и страшными ликами взаимного уничтожения. Сущность боится, что уничтожат её, но и сама в тот же миг стремится поглощать других, тех, которые кажутся ей незначительными по сравнению с ней самой. Неприятно.
Вы возьмите и представьте, как весь этот кошмар прекращается и наступает момент, когда никто не может съесть вас, но и вы не можете никого сожрать. Получается какая-то своеобразная святость.
Находясь в мире дрём, или сновидений, Милюль попала в такое течение, которое вынесло её из стоячей воды, насыщенной разными съедобными и пожирающими других сущностями. Не стало ни вкусных личинок, ни опасных рыб. Мчась в чистом от всякого говна пространстве, она обретала покой. Но покой тот был безжизненным, холодным, навязанным извне.
* * *
Наконец Милюль надоело святое, но бессмысленное движение. Она сбросила дрёму и открыла глаза. Перед ней сидела Тётя Лена.
– Полегчало? – спросила она сочувственно.
– Нет – ответила Милюль.
– Мне показалось, что ты спишь.
– Я вздремнула. Зачем вы пришли?
– Нам надо поговорить.
– Мы уже говорили. Мне не понравилось. Давайте больше не будем?
Помолчав немного, Лена призналась:
– Очень хочется поговорить, потому что мне любопытно. Завтра, когда тебя отправят в клинику, ты можешь очень даже удивить современных врачей. Тебя будут лечить лучшие, оставшиеся в этой стране профессора. Может быть, ты станешь предметом не одной диссертации, а я многого так и не узнаю. Конечно, я медик, но не настолько, чтобы… до учёной степени мне далеко, так что, как феномен, ты станешь для меня недостижимой, а ты феномен… – Лена замолчала. Молчала и Милюль, размышляя над услышанным так и сяк. Наконец она произнесла:
– Феномен. Я – феномен. Значит, вы пришли поглядеть на меня, как глазеют дети на уличного дурачка?
– Вовсе нет – мотнула головой тётя Лена – мой интерес не праздный. Понимаешь, деточка, на медицинских курсах нам рассказывали о самых разных видах сумасшествия. Нам рассказывали о белой горячке, когда человеку мерещатся чёртики и не пускают его домой. Рассказывали, как повар сошёл с ума и, таким образом прозрев, стал видеть, как куриные яйца повылезали из кассет и давай бегать по кухне. При этом они его дразнили и строили очень обидные рожи. Нам рассказывали про самые разные разрушения личности. Это очень увлекательно. Ещё увлекательнее были лекции про эффекты так называемых замещений одной личности другой. Много было интересных историй. Но чтобы так, глазами увидеть и… у меня лишь теория за спиной, а тут такой практический случай!..
– Я не практический случай – перебила тётю Лену Милюль – я живой человек.
– Не сомневаюсь в этом. Ты живее всех живых. Поэтому мне и хочется с тобой поговорить, убедиться, персона передо мной, или персонаж. Вчера ты тоже была живой, но совсем иной, чем теперь.
– Неправда.
– Правда и неправда – понятия относительные. То, что является правдой для тебя, не абсолютно для других. Вот, например, ты помнишь, что ты вчера ела?
– Очень хорошо помню завтрак. Вчера меня не ограничивали в еде. Вчера было хорошо.
– Ну, перечисли.
– Что перечислять?
– Чем тебя вчера кормили.
– Не буду.
– Почему?
– Потому что слюнями захлебнусь. Я вам разве не говорила, что есть хочу как волк?
– Хорошо, я принесу тебе еду. Только позже.
– Вот принесёте, тогда и поговорим – и Милюль отвернулась к стенке, всем видом давая понять: соловья баснями не кормят.
Лена посидела несколько секунд, и ушла за едой, заперев за собой дверь. Вскоре она вернулась с миской и ложкой. Маслянистый запах моментально наполнил маленькую каюту. Этот запах уже был знаком Милюль. Так пахла вся еда на катере. Потому что вся тутошняя еда называлась макароны по-флотски.
– Дежурный сказал, ты уже полведра макарон съела. Боится, у тебя будет заворот кишок – сказала Лена.
– Пусть за свои кишки боится – отозвалась Милюль – давайте сюда ваши макароны.
Она забрала миску и ткнула в макароны ложкой. Получалось не так ловко, как вилкой, но тоже ничего. Макароны выпрыгивали, скатывались обратно в миску. Милюль не сдавалась и продолжала выуживать их, помогая себе пальцем.
– Поразительно – произнесла Лена.
– Что? – Милюль оторвалась от трапезы.
– Такого обжорства я ещё не видела. Судя по всему, у тебя отключились механизмы торможения. Организм не посылает в мозг сигнал о насыщении. Ты ешь как собака Павлова. Но у неё это всё отводилось в сторону через фистулу. Куда же у тебя девается?
– Всё на пользу – уверила Лену Милюль и громко рыгнула.
– Фу! – Лена помахала рукой перед носом.
– Да, меня уже за это ругали вчера – пожала плечами Милюль.
– Ну, так мы продолжим разговор? – спросила Лена.
– Вас интересовало, что я ела вчера на завтрак? – уточнила Милюль – Извольте слушать, я вам расскажу. Сначала мне дали меню, и уверяю вас, там был гораздо больший выбор, чем здесь. Я выбрала пять греческих салатов. Это овощи с брынзой. Очень вкусно и легко. Потом подали миноги в масле. В оливковом. Потом пироги. Очень большие. С капустой и с грибами. В меню были ещё блины с икрой, но я поскромничала. Съела десяток перепелиных яиц с рокфором и выпила шесть стаканов компота. Тётушка ела куриный бульон, пирог и пила чай с лимоном. Рассказать вам, что заказал Сергей Пантелеймонович?
– Догадываюсь.
– Как это вы можете догадываться?
– Могу догадываться и даже скажу, что он ел. Он ел ананасы и рябчиков жевал – сказала Лена желчно.
– Не угадали – улыбнулась Милюль – и, если честно, я не понимаю, почему ананасы и рябчики вызывают у вас отрицательные эмоции.
– А потому что это барство! – выкрикнула Елена и продолжила говорить хриплым голосом, словно сквозь застрявший в горле комок – Не для того мы голодали в Петрограде! Не для того мой брат лез под кулацкие пули! Не для того мы брали Зимний и выгоняли из страны белую сволочь, чтобы теперь ты, пигалица, рассказывала мне о буржуйском образе счастья! Всякое можно себе нафантазировать. Я и ожидала всякого, но не такого. Это что же за подлость? Что за нарыв образовался в твоём мозгу?..
– Позвольте полюбопытствовать – обратилась к Лене Милюль – насколько я только что поняла, вы делали много разных неприятных вещей. Неужели всё это лишь для того, чтобы я не могла по-человечески покушать?
Прищурившись, Елена несколько секунд молча взирала на Милюль, после чего понесла такую чушь, которую и понять-то было невозможно:
– Наш вождь – тут она уточнила – Владимир Ильич Ленин, предупреждал: «Когда умирает человек, его труп выносят из избы, а старый, умерший мир, это не труп. Его нельзя вынести. Он продолжает оставаться среди нас. Он разлагается. Он смердит!»
– Ну и мрачный у вас вождь – ужаснулась Милюль.
– Не сметь, мерзавка! – крикнула Лена – Не тебе, сопля, марать святое имя! Мы строим коммунизм, и таким как ты нет места в наших рядах! Может быть, у тебя, действительно душевная болезнь, но это не значит, что тебе всё дозволено! Это, знаешь ли, удобно прикинуться сумасшедшим, чтобы топтаться по святыням, без которых весь Мир не имеет смысла!
– Извините, я и не думала топтаться – смутилась, было Милюль, но Лена заорала так громко, что уши заложило:
– Молчать! Я поняла, откуда весь этот буржуйский бред! Не знаю, насколько ты больна, но то, что ты рассказала, говорит мне лишь за то, что голос крови в вас сильней всякого воспитания. Сильнее даже пионерской организации! Ты… Ты же ведь буржуйка!
– Кто я?
– Ты знаешь, что твоя мамаша из дворян?
Вопрос был поставлен прямо. Елена явно дожидалась ответа и требовательно сверлила взглядом растерянную девочку. Милюль пожала плечами:
– Вполне может быть. Почему бы и нет?
– Почему бы и нет? – передразнила её разгневанная женщина – Я бы спросила тебя, кто тебе это рассказал?
– Да, вроде бы, никто не рассказывал особенно. Меня это не занимало.
– Вот именно! Никто не мог тебе рассказать, что твоя матушка из графьёв, что она родила тебя в семнадцатом, а потом дала дёру вместе с твоим папенькой, буржуем. С двух лет тебя воспитывает Алёша, а он, в чём я абсолютно уверена, не мог тебе рассказывать о твоём контрреволюционном происхождении.
Тут Елена прервала поток новостей, чтобы перевести дух, чем Милюль воспользовалась и вклинила замечание:
– Это, конечно, очень интересно, но я чувствую, нам опять пора перекусить.
– Кто бы мог подумать – возопила Елена, игнорируя сказанное Милюль – что пионерка, будущая строительница коммунизма, воспитанная в семье красного командира вдруг вспомнит о своём буржуинском происхождении! Как это могло всплыть? Какой психиатр откроет мне тайну этого воспоминания? Не знаешь? Так я сама тебе скажу: Это у тебя в крови сидит! Это всё потому, что ты и есть гниющее тело того старого мира, который мы собираемся вынести отсюдова! Со всей земли!
– Хорошо – согласилась Милюль, и умоляюще протянула вперёд ладони – выносите меня куда хотите, но сначала дайте поесть!
Усилия девочки разобраться в околесице, которую несла взрослая, но несуразная тётя, поглотили всю энергию, которую дала ей миска с макаронами. Для того чтобы участвовать в этом бессмысленном разговоре, для того, чтобы понять, что за нелепый гнев заставляет женщину ругаться и угрожать, для того, чтобы просто продолжать жить, Милюль необходимо было срочно съесть чего-нибудь, хоть кожаный ботинок.
– Хватит! – возразила, не понимая её, витиеватая Лена – Хватит тебе жрать! Ты не мышь-полёвка, чтобы жрать через каждые пять минут! Ты понимаешь о том, что я тебе говорю?
Милюль подивилась дурацки построенной фразе, и чтобы убедить Лену в наличии внимания и прилежности, как могла кратко пересказала содержание последних новостей:
– Вы хотите построить коммунизм. Для этого надо меня куда-то вынести, потому что у меня в крови сидит гниющее тело буржуазного происхождения, и моя мама куда-то убежала. Если я чего-то позабыла, то не серчайте. Вы слишком о многом говорите одновременно. Ах, да! Ещё вы похвастались, что у вас есть вождь. Я, вообще-то думала, только у дикарей бывают вожди, а нормальным людям достаточно царя, или королевы, которые где-то есть. Дальше они сами разбираются, в своей жизни. Ну, да это и не важно. Теперь же я прошу вас ещё разик меня покормить.
Елена несколько раз хлопнула глазами и спросила:
– С чего бы мне снова тебя кормить?
– Иначе я умру – простосердечно ответила Милюль.
– Это тебе мерещится – нагло ответила жадная Лена – ты агонизируешь. Но не от того, что тебе хочется есть, а от того, что агонизирует весь ваш, старый мир. Мир, построенный на эксплуатации одного человека другим. Вы, буржуи и аристократы, загоняли рабочих в шахты. Вы высасывали соки из батраков! Вы обворовывали всё человечество! Вы поработили малые народы и не пускали их в светлое будущее! В конце концов, вы повесили декабристов и спровоцировали погромы! Но вам всё мало! Такая ваша природа! Вы хотите жрать и жрать!
– Извините, я не помню за собой так много проступков, а вот покушать хочется.
– Прекрати паясничать! – возмутилась Елена, и неожиданно резко приказала – Встать!
Милюль поднялась со своей полки, но тут же, как только она повиновалась, непонятная и горькая обида выпрыгнула откуда-то и, заграбастав в когтистые лапы маленькую Милюлину душу, слезами высунулась из её глаз.
– Что? – издевательски спросила Елена – обидно стало? Чует кошка, чьё мясо съела! Значит, я всё-таки права! Есть объяснение твоей столь экзотичной бесноватости! А раз есть объяснение, значит, есть и лекарство! Может, я и не очень сильна как врач, но как коммунист, я уверена: если ты не выкинешь из своей башки всю старорежимную дурь, то наше лечение будет продолжаться очень недолго! Нам, строителям коммунизма, совсем не нужны чокнутые девочки, мечтающие о царях! Я знаю, из какого базиса повылезали твои перепелиные яйца с рокфором! Знаю, и моя партийная совесть не позволит об этом молчать!
Волны нарастающего голода накатывали на Милюль одна за другой. Она буквально видела, что если сейчас же не поест, то в скором времени голодное зверство захлестнёт не только её организм, но и само сознание вместе с окружающим миром. Сжав за спиной одну руку другою, Милюль упёрлась взглядом в пол и взмолилась. Взмолилась неумело, по-детски, как учила её совсем недавно нянечка:
– Господи, боженька! Дай мне силы выдержать эту пытку! Не дай мне потерять разум и впасть в дикость! Пошли мне лучше смерть, боженька… я очень хочу кушать!..
– Что ты бормочешь такое? – требовательным голосом спросила тётя Лена – Ты меня не слушаешь совсем!
– Я молюсь – призналась Милюль. У ней не было сил придумывать что либо. Всё её существо тряслось и трепетало, ощущая приближение очередной волны убийственного голода.
– Что-о? – возопила тётя Лена – Что ты делаешь? Да кто тебя этим мерзостям научил, тварь ты такая?..
Тут Милюль хотела, было переспросить: «Какая?», не для того, чтобы действительно узнать, а лишь для того, чтоб сохранить хоть видимость участия в беседе, но не успела, потому что тётя Лена замахнулась и ударила её по щеке.
Диалог развалился. Даже имитация человеческого разговора перестала быть возможною. Весь окружающий мир резко изменился в глазах девочки. Он стал монохромным, как газетная фотография. С неуместными тонкостями лишних эмоций ушли и оттенки цвета. На светло-сером фоне стены чётко и графично прорисовалась очень конкретная цель. Одновременно мир невероятно сузился, так уменьшился, что сама эта цель в нём едва помещалась. Свет сошёлся на ней клином.
– Я понимаю, лично вы тут ни при чём – прорычала Милюль – но я очень голодна, а вы годитесь в пищу.
Фраза получилась нелепой, бессмысленной, но Милюль уже не умела заботиться о каком либо смысле. Тётя Лена не успела даже сделать удивлённое лицо. Она вообще не успела никак отреагировать. Милюль прыгнула и, как живой таран, ударила её лбом.
Милюль была значительно легче Тёти Лены. Если бы она ринулась таранить женщину в грудь, или в живот, то та успела бы вступить в сражение, и исход битвы мог оказаться каким-то другим, но Милюль ударила в подбородок. Голова тёти Лены откинулась назад и стукнулась затылком о твёрдый бортик верхней полки. Тело её, лишённое сознания, моментально обмякло и кулём повалилось на пол. Милюль почесала ушибленный лоб и пробормотала:
– Пора обедать.
Тут же, присев на полу каюты, Милюль разорвала ворот мачехиной блузки и впилась в ставшую абсолютно беззащитной шею. Горячая кровь наполнила рот Милюль и девочка жадно пила её, не испытывая никакого отвращения. Тётя Лена была ещё живой, хоть и находилась в бессознательном состоянии. Её сердце продолжало гнать кровь, струя которой, пульсируя, вырывалась из перегрызенной артерии. Милюль пила и пила, пока поток не иссяк, что означало… ничего хорошего это не означало.
Милюль облизнулась, оторвавшись от опустевшего тела и, потерявшим всякую мысль взглядом, обвела тесные стены каюты. Не размышляя о том, что она творит и для чего ей это надо, она решила перебраться в другое, более надёжное место, где она сможет спокойно доесть свою добычу. Так она и поступила, согласно логике того лютого существа, которое спало в ней, подавленное спудом наследственности, знаний, воспитания, культуры, бог знает чего ещё, а теперь вот, проснулось. Существо чувствовало неизбывную потребность в еде, чувствовало, что стремительно растёт, а потому нуждается в пище, как строящийся дом нуждается в строительном материале. В логике этого существа отсутствовали и такие мотивы, как соблюдение правил, наведение чистоты и забота о внешнем облике. Даже обращать тень внимания на подобную чепуху Милюль была не в состоянии.
* * *
Матрос Барсуков поднёс дрожащую руку к бескозырке и доложил Громову:
– Товарищ командир, там какая-то чертовщина произошла. Без вас не разобраться.
Оставив управление на старпома Круглова, Алексей покинул капитанскую рубку и пошёл за матросом. По узкому коридору между кают тянулся кровавый след. Один конец этого следа вёл на палубу, а другой в ту каюту, в которой заперли до прибытия в Ленинград Надежду. Внутри было пусто. Лужица крови на полу говорила о чём-то очень плохом, произошедшем совсем недавно. Алексей обернулся к Барсукову:
– Ты это видел?
– Никак нет, товарищ командир – ответил Барсуков – я не посмел заходить.
– Значит, здесь начало – констатировал Алексей – пойдём, поищем концы.
Вместе они вернулись вдоль кровавого следа на палубу. Там след был не так очевиден, но он был и вёл в сторону кормы. Командир и матрос молча направились туда.
Зрелище, представшее их взглядам на корме, было столь же ужасное, сколь омерзительное. На канатной бухте за торпедной установкой сидела командирская сестра, положив окровавленные руки на раздувшееся брюхо. Её щёки, губы и подбородок были вымазаны в спёкшейся крови и оба моряка поначалу решили, будто у ней снесена нижняя часть черепа.
Приблизившись и вглядевшись в девочку, они обнаружили, что, не считая жуткой чумазости, с её лицом всё в порядке. Блаженно смежив веки, окровавленное дитя спало сном праведника. Оба моряка пытались растормошить девочку, но ребёнок так крепко спал, что разбудить Надежду не представлялось возможным.
Глава четвёртая Вторник
Рак пощёлкал большой клешнёй и задумчиво свёл глаза в кучку, от чего один его глаз пристально вгляделся во второй:
– Вот смотрю я сам на себя и думаю: как много у меня оболочек. С самой-то снаружи раковина. У меня отличная раковина – большая, красивая и не очень тяжёлая. Нашёл её на такой глубине, куда вы и не заползали – он гордо обвёл правым глазом собратьев, которые уважительно зашевелили усами, и возразил сам себе – но это оболочка. Только оболочка, да и то, если честно, не моя. Я её даже не создавал. Так, приобрёл по случаю. А вот уже моя оболочка – тут он снова пощёлкал большой клешнёй и снова окружающие выразили уважение.
– Ага, нравится! – констатировал рак – Мне тоже нравится, тем более что это, можно сказать, создавал я сам. В уединённой норе под камнем, отказывая себе в пище и развлечениях, ни с кем не общаясь, подвергаясь опасности быть запросто съеденным любой хищной скотиной, я сидел и старательно растил хитин. Не многие могут похвастаться таким колоссальным терпением и филигранным мастерством. Но и этого не было бы, кабы не другая оболочка, данная мне самой природой. Я имею в виду моё мясо. У меня много мяса… н-да, мяса много, но это тоже лишь оболочка. Чего бы стоило моё мясо, если бы не было в нём такой идеальной нервной системы, с её бешеной реакцией и колоссальными рефлексами, если бы не мой огромный интеллект и вселенских размеров память, хранящая приобретённый за годы жизни опыт.
Даже моя манера расхваливать свои оболочки вызывает у вас уважение. Манера поведения это тоже оболочка, как ни крути. Вот вам и результат: говно это всё! – рак бессильно махнул малой клешнёй в сторону удивлённо вылупившихся слушателей – Вы примеряете данные мне волей случая оболочки на себя и испытываете чувство уважения, страха, почитания, зависти. Разные чувства испытываете, и даже не задумываетесь, что чувства это…. а что это? Очевидно, каждое чувство отличается от других чувств. Так что же оно представляет из себя? Это оболочка сущности, или движение её?.. Как вы считаете?»
– Чувства – это трепет души – сказал зелёный рак.
– Может быть, может быть – пробормотал старый и, отринув собственные размышления, заключил – как бы мы не гадали, а именно о них, о чувствах, которыми мы называем движения сущности, называемой душою, я продолжаю рассказ.
Как много чувств бурлит в каждом из нас на заре нашей жизни! Как много эмоций рождаем мы, неумелые и любопытные, в растящих нас родителях! Помню, как я, совсем маленький, только что вылупившийся из икринки, подбрасывал непослушными клешнями песчинки и с восторгом наблюдал за ними. Они медленно двигались в водных толщах, поворачиваясь ко мне всеми гранями.
Мы, дети, играли в песочек, а наша мама… помню восторг, с которым она наблюдала за нами! Сила её чувств была столь велика, что от наплывов неудержимой родительской любви она то и дело норовила съесть и меня и моих многочисленных братьев и сестёр! Мы радостно уворачивались от её огромных клешней и ускользали из разинутых жвал мамы, чья любовь грозила нам неминуемой смертью. Это было так мило, так трогательно, но, как всё приятное, быстро закончилось.
Юность с её тяготами и неустроенностью навалилась также неожиданно, как само рождение. Никто уже не восторгался мною. Никто не радовался моим достижениям, а я чувствовал себя вполне взрослым и, завидуя старшим, искал свой первый дом. «Какие счастливцы! – думал я про обладателей даже убогих, потёртых прибоем, дырявых как решето раковин – У них есть свой дом. Там, в уюте и комфорте, чувствуя себя защищёнными от напастей, они могут заняться самым главным делом жизни: созерцанием и размышлением».
Я же был вынужден ползти по морскому дну без всякой защиты, без уверенности не то что в завтрашнем дне, а даже в следующей секунде. Любое мгновенье моей бездомной юности я рисковал расстаться с жизнью, быть растерзанным и проглоченным любой мелкой сволочью, такой незначительной, что сегодня с высоты прожитых лет, я не смогу её даже разглядеть.
Тяжела и опасна была моя юность, впрочем, как и юность всех вас. Но мне повезло. В то время как все, или почти все мои братья и сёстры сгинули в безвестности, растворились в голодных желудках морских хищников, я нашёл свой первый дом, маленькую пустую раковинку и стал жить, наращивая мощь и преумножая мудроту.
Конечно, не только в размышлениях и медитациях проводил я годы обучения. Также как многие из вас, я тянулся к живому общению, к учителям, способным передать мне крупицы накопленных за тысячелетия знаний. Я посещал дискуссии, сборища, слушал заядлых спорщиков, которые убеждали меня, совсем юного и зелёного, в правоте то одной, то другой концепции мироустройства. Как и многие, я принимал на веру всякий бред. Достаточно было того, чтобы учитель выглядел убедительно и осанисто.
Так я уверовал в Омара, создателя вселенной, хотя ни разу его не видал. Я проникся глубоким чувством к подвигу Краба, который отринул убогий мир своего кочевого племени и принёс причастие нам, ракам. Даже великая Креветка внушила мне неподдельное уважение, несмотря на то, что догмы этого суетливого пророка зачастую казались мне нелепыми.
Больше всего мою юную душу трогали, конечно же, рассказы о многочисленных чудесах, которые сии патриархи порой вытворяли: громы, молнии, дожди из лягушек, хождения по воде и полёты по воздуху!
Я бегал по собраниям и слушал разные мудрости, пока не наступила пора очередной линьки, когда я, волей-неволей, должен был уединиться и провести какое-то время в компании одних лишь собственных размышлений. Вот тут-то и поджидало меня некоторое открытие или даже логический сюрприз, который надолго отвратил мою жизнь от научных сборищ и религиозных диспутов.
Сидя под огромным валуном в потоках прозрачной воды, которая струилась из щелей и уносила в небытиё старые хитиновые оболочки, я задремал, и в моей голове всплыла древняя интересная сказка или история, которую я не слыхал ни от матери, ни от других раков, старших товарищей. Если вы не прочь послушать, я вам эту историю расскажу.
Никто не возразил, и рак стал рассказывать.
* * *
– В незапамятные времена жил да был один такой царь, который ощущал самого себя в достаточной степени всемогущим. Что значит «в достаточной степени»? А то и значит, что не было ему нужды суетиться и на всех ему было насрать. Это и есть, на мой взгляд, высшее проявление всемогущества в достаточной степени. И вот, однажды царь стал замечать, что трое его сыновей старший, средний и младший подросли и, стало быть, пора им жениться.
В этом месте возникает первый вопрос: как это они вдруг одновременно подросли, если один из них был старший, второй – средний, а третий и вовсе мелюзга? Наверняка, подрастали они в разное время, и никак не могли подрасти синхронно. Но, как я уже предупреждал, царю на это было наплевать, и он, как всякое всемогущее создание, а иными словами самодур, решил, что именно в этот день им пора. Ни вчера, ни завтра, а вот теперь.
Выдал царь каждому из детей лук со стрелой и велел палить в белый свет как в копеечку. Делать нечего. Раз велено стрелять, надо стрелять. Стрельнули. Тут царь и говорит: «Кто куда попал, тот там и жениться будет!»
Не знаю как вы, а я и в этом поступке вижу проявление кромешного и ничем не обузданного всемогущества. Был бы наш царь каким-нибудь обычным, заурядным царьком-корольком, он бы суетился, норовил бы упрочить свое царство монархическими браками, посылал бы послов за подходящими принцессами из царствующих семейств сопредельных государств. Ан, нет! Не было ему до политической возни никакого дела. Клал он на сопредельные государства, на семейства, на правителей и сильных мира сего. Вот какая была личность! Глыба!
Пошли сынишки посмотреть: кто куда попал. Оказалось, старшему достаётся жена из аристократического общества, можно сказать из элиты того государства, где происходила вся история. Среднему – тоже вроде, ничего, жена обыкновенная, но с приданым. А вот младший попал чёрт знает куда, и пришлось ему жениться не то что на барышне иного рода-племени, а вообще, на животном, совсем другого чем он биологического вида.
Вам такое может в голову прийти? Вот и мне бы никогда не пришло! Вообще такое никому в голову прийти не может. Потому я и утверждаю, что история эта – есть ничто иное, как чистая правда.
Что проку в вымысле? Вымысел – это пустышка, нежизнеспособная фикция. Вымысел может родиться и у тебя и у меня. Цена ему – чистый ноль, потому как вымыслов кругом сотни и тысячи. Мы привыкли к вымыслам и считаем их истиной, в то время как, столкнувшись с реальным событием, зачастую громко заявляем: «Этого не может быть!» А почему не может? Реальные события всегда находятся за пределом нашей собственной головы. Они происходят вовне её, в то время как любая голова привыкла ковыряться в самой себе.
Мыслям куда приятнее бежать по уже протоптанным тропинкам. Что за тропинки такие? Да это вымыслы, друзья! Мы их рассказываем, пересказываем, привыкаем ко всякой нелепице, и думаем, будто так всё и есть. И когда мы привыкли, приноровились, стало нам хорошо и комфортно, тогда неожиданно: Бац! Человек женится на лягушке! А-а-а-а-а! Кошмар! Что за чушь? Да где это видано?
А почему шум? Чего особенного случилось? Ответ: ничего особенного. Женится и женится. Он же не вас заставляет жениться! Это его личное дело. Ну, нет! Мы так не хотим! Нам это кажется какой-то ерундой или иносказанием. Где, я вас спрашиваю, иносказание-то?
Приходит сын домой, показывает царю лягушку, и говорит: «Папа, я на ней женюсь!» Что, спрашивается, делают его братья и их жёны? Они тычут в него пальцами и говорят друг другу: «Видали дурака?» Лишь папа, этот самый всемогущий царь, похлопал младшенького по плечу и говорит: «Женись сынок хоть на мышонке, хоть на лягушке, хоть на неведомой зверушке. Мне всё равно».
Обратите внимание: не стал его дураком обзывать, да свою точку зрения навязывать. Почему, думаете? А потому что почувствовал: из всех его детей только один удался! Один во всём в папу пошёл, не то, что те, остальные, которые, видно, в матерей-идиоток. Ни черта они не цари, не всемогущие! Живут с оглядкой, кругом свою выгоду выискивают. Нет у них волюшки вольной в душе, не видать им её и в жизни. А этот, который якобы, дурак, на самом деле и есть настоящий наследник и приемник царственного всемогущества, потому что жизненные установки у него настоящие, наши, народные, русские!..
Тут старый рак прикрыл рот клешнёй и притворно закашлялся. Прокашлявшись, он огляделся, убедился в абсолютном равнодушии раков к тонкостям национального вопроса, и продолжил:
– Отвернулся тогда царь, смахнул скупую мужскую слезу, которая вылезла от нахлынувших родственных чувств к своему младшенькому, и говорит всем: «Ну, раз дело сладилось, то пора и за стол садиться. Будем гулять!». Закатили они пир на весь мир, после чего стали жить-поживать.
В один прекрасный момент тот самый младший сын царя, на лягушке женатый, обратил внимание на необъяснимую новость: в его холостяцкой квартире кто-то неуловимый убирается и наводит порядок. Надо полагать, трудно было юноше заподозрить в этом деле лягушку, хоть она и числилась ему женой. Это я к тому говорю, чтоб вы не путали врождённое всемогущество с чистым идиотизмом. Он не стал морочиться пустыми подозрениями, а вместо того, чтобы храпеть без задних ног ночью, взял, да подглядел.
И правильно! Чего там подозревать, да строить дурацкие гипотезы? Это только сволочи, и трусливые приспособленцы пытаются анализировать необъяснимые события. Начал, к примеру, падать курс доллара. Они тут как тут: «Это от того он падает, что пенсионер Иван Иванович пришёл в сберегательный банк и осуществил там долларовую интервенцию». Всё враньё. Где вы были вчера, когда Иван Иваныч мучался бодуном, и ни о какой интервенции не помышлял?.. Терпеть не могу аналитиков.
Царевич был не из таких. Ничего он не анализировал, а взял да подглядел. Вот и увидел он, что под обманчивой оболочкой примитивного земноводного скрывается самая настоящая девица-красавица, иными словами животное одного с ним вида, отряда и семейства, но противоположного пола, то есть вполне пригодный к спариванию субъект.
Что вы думаете? Он, думаете, кинулся с ней спариваться? А вот и дудки! Только царственный, потенциально всемогущий индивид мог повести себя так, как повёл себя сын действующего царя. Он не стал юлить да кривить, а так напрямую и спросил: «Что за фигня?»
Фигня… то есть, жена-лягушка ему также прямо ответила, не напрягайся, мол, не твоего это ума дело, и что она так теперь и будет еженощно из лягушачьей оболочки вылезать и по избе со швабрами да щётками носиться, потому что Ваня (его звали Ваней) всю свою избу засрал, аж смотреть противно. На том и порешили. Он с тех пор жилище днём засирает, она ночью чистит. Полная гармония и всеобщая занятость.
Жили бы они так счастливо и по сей день, кабы не социум. Социум, я вам скажу, злейший враг любого царя. Потому как не любит социум царей. Цари ему, социуму, поперек горла стоят. От чего? Да оттого, что царь всегда независим, всегда прав, всегда справедлив. Ничего настоящему царю от социума не нужно, а социуму от царя всегда чего-нибудь хочется: то свободы, то справедливости, а то наоборот – чисто поддержки. Социум и царь – это, если хотите знать, антагонисты. Причем царь без социума прожить может, а вот социум без царя сначала деградирует, а потом и вовсе перестаёт существовать. Такая закономерность. Плюс ко всему, социум постоянно царя на прочность проверяет, вроде как сомневается, настоящий царь или нет.
Так и на этот раз. Подступились жёны к братьям, а затем и сами братья к тому Иванушке: «Привези свою жену завтра к папе на всеобщую пьянку, то есть на пир». У папы не то день рождения отмечался, не то ещё какая годовщина. Может, день пограничника или Холовин. Скорее всего, Холовин, потому как праздник всё-таки уходил в ночь.
Вот братья Иванушке и говорят: «Давно мы твою молодую жену не видали, не слыхали. Привези да привези!» Иванушка, конечно, сообразил: хотят на смех поднять, да и послал их куда подальше. Так прямо и говорит: «Идите…»
Но жёны у братьёв были хитрющие. Они уже и самого царя батюшку уговорами одолели. Хотят, дескать, видеть золовку. Царь и дал слабину. Ничего не поделаешь, постарел видать. Приказывает сыну, чтоб на банкет без жены не приходил.
Спросить бы того хрыча: «Какой ты после этого царь, коли позволяешь всяким прошмандовкам над собой командовать?» Но спросить было некому, и ситуация стала критической. Отца родного не ослушаешься, хоть он царь, хоть не царь, а старый пень лесной.
Иван Царевич за советом к лягушке, а та говорит: «Не дрейфь Иван Царевич, мы им покажем козью морду!» Так и вышло. Собрались все на банкете, а как ночь наступила, явилась та лягушка в неузнаваемом образе и показала всем такие чудеса, какие ни Омару, ни Крабу не снились, а Креветка – и вовсе на лягушкином фоне меркнет. Из левого рукава, куда она предварительно сливала остатки вина, у неё вдруг вытекло целое озеро с пресной водой и обсаженное кустами и камышами. Из правого рукава, куда она складывала обгрызенные кости, у неё вылетели гуси-лебеди по тому озеру плавать. Про раков, правда, ничего точно сказать не могу, но можно предположить, что и раки там были!
Конечно, другие две жёны, которые это дело затевали, решили те самые чудеса повторить. Да только хрен с два! Ничего у них не вышло, лишь опозорились. Одна налила в рукав вина, от чего промокла и стала липкой и окончательно противной. Вторая – того хуже, напихала в рукав гусиных костей, да как махнёт! Результаты оказались самые плачевные. Угодила мослом царю в лобешник. Скандал, одним словом. Это означает, нечего пытаться повторить чужой фокус, если ты предварительно не потренировался. Тем более, если это не фокус, а самое настоящее чудо. Совершить чудо может далеко не каждый.
Вообще-то с некоторых пор я категорически против чудес. Никакой пользы от них на самом деле нет. Вред один. Всякое чудо грубо нарушает нормальное течение событий и, главное, оно нарушает равновесное состояние мысли. Поэтому, оценивая то или иное событие, я всегда задаю себе вопрос: чудо это или нет?
Если человек женился на лягушке, и ничего страшного от этого не случилось, то значит это никакое не чудо, а нормальное явление. Пусть хоть на табуретке женится. В конце концов, мы, раки-отшельники вполне спокойно сосуществуем с актиниями, катаем их на раковинах и никому от этого не плохо. Если лягушка наладилась регулярно превращаться в красну девицу, чтобы немного поработать уборщицей, так это тоже вполне обыденный случай. Мало ли кто кем работает? Бывает, сидит какой-нибудь начальник, делает вид, что управляет целой губернией, а в действительности он хуже, чем дуб стоеросовый, ибо даже желудей не даёт. Но вот когда люди заливают нефть в здоровенные железные корабли и тащат их через весь океан, чтобы где-нибудь за тридевять земель сжечь, это уже, на мой взгляд, чудо. Нефть из кораблей расплёскивается, доплывает до линии прибоя и губит нашего брата почём зря.
Так что знайте: от чудес всегда происходит беда и всякая погибель. Поэтому не гоняйтесь за чудесами, а гоняйтесь за истиной. От истины никогда погибели не бывает. Но где случилось чудо, там жди неприятностей.
Так и тут. Пошатнулось сознание молодого царевича. Потерял он здравое отношение к «существующей независимо от него и данной ему в ощущениях» реальности. Пошёл да и сжёг лягушачью шкурку в печи. Ну, на черта ему это было надо? А вот так у людей всегда. Сначала чего-нибудь понатворят, а потом отдуваются. Увидала жена-лягушка свою сгоревшую шкуру и только тут сообщила мужу-дураку о довольно странных договорных отношениях с каким-то злобным, но по-своему божественным существом.
Чего, спрашивается, раньше молчала? Почему не предупредить заранее: «Так, мол, и так, Ваня. У меня подписан контракт на три года. Лишь по истечении того срока мою шкуру можно хоть сжигать, хоть отдавать в музей на чучело»? Откуда было знать царственному отпрыску, что его жена не только лягушка по совместительству, но и верна заветам Ильича?.. Тьфу ты!.. Ильич тут не причём. Он – персонаж почти совсем другой истории. А в этой истории всё случилось из-за существования промежду женщиной-лягушкой и неким Кощеем Бессмертным договора, а иными словами – завета. Всякий завет, да будет вам известно, имеет срок, по истечении которого перестаёт действовать и сдаётся в архив. Потом он и вовсе пропадает где-нибудь на свалке, но до тех пор, пока сие соглашение функционирует, доколь не пришло положенное время, обе стороны обязаны его исполнять.
Как видим, договор с демонической сущностью по имени Кощей Бессмертный обязывал лягушку до поры до времени жить двойственной жизнью и лишь в будущем сулил долгожданное освобождение. Конечно, Иван Царевич отправился за тридевять земель, накостылял там Кощею, несмотря на то, что он бессмертный и привел эту сказку к ожидаемому всеми «хеппи-энду». Но мы-то знаем, что желаемое не есть действительное, а «хеппи-энд» придуман для того, чтобы дети от тяжких наук не плакали.
Я рассказал эту байку лишь для того, чтобы вы не сильно удивлялись тому, что Милюль то вдруг живёт под водой, а то среди людей. Всякая история имеет свой конец, но происходит он не тогда, когда кто-то кому-то ввалит по первое число, а лишь по истечении отмеренного ему предела.
В нашем случае конец должен произойти тогда, когда истечёт срок действия того самого завета, который сковал царственную свободу. Ту самую свободу, которая жила в душе всемогущего царя и его младшего сына, позволяла им зреть в корень и не отворачиваться от лягушки, фукая, да зажимая нос. Ту неуловимую волю, которую не каждый нащупает, да и не каждый из нащупавших удержит. Свободную волю, о которой я теперь сильно печалюсь.
* * *
На Милюль надвигалась огромная, еле различимая сквозь окружающую мглу, машина. Вот уже тёмным угловатым пятном прорисовался её силуэт. Вот уже стали видны торчащие во все стороны трубы и наконечники. Постепенно машина становилась видимой во всей своей механической, ужасной неотступности. Огромные колёса двигали с лязгом поршни и тяги, крутили друг друга. Зубцы шестерней, будто зубы вечно жующего ржавого рта, наползали на Милюль. Ещё немного, и слепая, железная громадина затянет её в себя и начнёт бить своими ржавчинами, перемалывать зубьями и даже не заметит, не услышит, как будет кричать Милюль, как её плоть станет с треском разрываться между неумолимых шестерёнок, обдавая их кровавыми фонтанами.
Милюль хотелось зажмуриться, но почему-то не получалось. Ухая, урча, грохоча и бухая, машина неотвратимо наезжала на неё. Всё громче, всё явственней заслонял белый свет медленный механический рокот. Он нарастал, обретая объём и пущую реальность.
Но чем явственнее становился звук, тем эфемернее выглядели жуткие механизмы. Звук разъедал надвигающийся необратимый ужас изнутри. Вот уже машина начала распадаться на фрагменты. Её шестерни стали постепенно обретать туманную прозрачность, сквозь которую проступало… ничего особенного не проступало сквозь истончающуюся ткань, из которой был соткан скрежещущий кошмар. Ничего, кроме радостного осознания: «Да я же сплю! Да, я сплю, это очевидно, но звук работающей машины не исчезает. Он тут. Вернее, я тут, около какого-то мощного и шумного механизма».
Милюль, хоть и проснулась, а продолжала лежать зажмурившись. Страшный сон оказался всего лишь сном, пустышкой, но ей, так же, как несколько секунд назад, не хотелось ничего видеть. Напротив, казалось, стоит посмотреть, как увидится нечто более жуткое, чем во сне. Милюль собрала всю волю, все душевные силы и открыла один глаз.
* * *
Тусклый свет из иллюминатора освещал крайне неприглядный вид. Это опять была каюта. Милюль привыкла просыпаться в каютах, но эта каюта была самая убогая в цепи её пробуждений, самая мерзкая, какую можно вообразить. Грязные, покрашенные неопределимого цвета краской переборки упирались с обеих сторон в кривые борта с иллюминаторами, по одному с каждой стороны. Несмотря на то, что находящиеся под обоими иллюминаторами, застланные грязно-коричневыми одеялами топчаны, были совсем низкими и едва возвышались над полом трюма, места вокруг всё равно было мало.
– Значит, я в трюме – думала Милюль, разглядывая бегущую вдоль иллюминатора воду – эта муть снаружи, никак не может быть морем. Корабль идёт быстро, или так кажется от близости бегущей воды. И что на этот раз за корабль?
Её размышления были прерваны грохотом шагов. Милюль обернулась и увидела, как открылась дверь, и бородатый дядька в стёганой фуфайке поверх тельняшки, ввалился в её темницу.
– Ну что, Любаня, проснулась? – спросил он с ходу.
Милюль обернулась. Никакой Любани рядом не было. И, стало быть, бородач обращался непосредственно к ней. Раз так, значит надо отвечать. И Милюль ответила:
– Спасибо. Наверное, так оно и есть.
– Ну и славно – обрадовался бородатый – а то мы с Павлушкой уже заждались. Вставай помаленьку, мы сейчас тебя поздравим.
– Что? Долго я спала? – поинтересовалась Милюль.
– Часов, наверное, десять. Как вчера завалилась, так и дрыхла напропалую. Я уж решил тебя будить. С чего это ты так разоспалась? – бородатый дядька так откровенно радовался то ли ей, Милюль, то ли тому, как она долго спала. Непонятно чему он радовался, но исходившие от него искренность и доброта обещали отсутствие всяческих неприятностей. Более того, он все сильнее казался ей родным и близким. На кого-то он был похож. Если бы не борода…
– А вообще – продолжал говорить добрый бородач – кабы ты не дрыхла как пожарная лошадь, то утром мы бы тебя всей командой поздравили. Теперь поздновато. Все уже при делах. Хорошо, Павлушка приехал, порадовал меня, старика. Как он тебе? Бравый капитан образовался! Орёл! Весь в меня!
Слово «капитан» открыло затвор в двери, за которыми толпились Милюлины воспоминания и они хлынули. Промелькнул на недосягаемо высоком мостике капитан лайнера в белом кителе и белой фуражке. Другой, и в тоже время тот же капитан говорил в блестящий раструб рупора. Третий, тоже в белом кителе, протягивал ей старинную брошь в виде лягушки. Образ этот самый свежий и недавний всплыл в памяти с особой чёткостью и оказался, каким-то образом, близким с этим самым дядькой, который всё продолжал о чём-то рассказывать.
Милюль внимательно вглядывалась в бородача и постепенно начинала узнавать его. Перед нею был именно Алексей Андреевич. Да, это был всё тот же капитан бронекатера, но изрядно обросший, из-за чего утративший молодцеватый лоск морского офицера. Всё его поведение явно утеряло былое воинственное командирство. Он упростился, сплющился, уже не излучал вчерашней обстоятельной лихости.
Милюль так и подмывало сообщить о своём открытии, но сообразив о возможных недоразумениях, она не проронила ни слова. Лежала и ждала, пока Алексей Андреевич, а это без сомнений был он, выговорится. Он же, не давая ей возможности ответить, повёл разговор о том, как здорово, что они с Павлушкой наконец увиделись и о том, что теперь все заживут как следует. Потом повелел быстрее подниматься, вслед за чем совершенно нелогично предположил у ней температуру потому что она, якобы, простудилась и теперь, наверное, болеет. Пообещав найти каких-нибудь таблеток, он вышел, захлопнув за собой железную дверцу.
Это оказалось очень кстати. Милюль надо было немного побыть одной, чтобы собраться с мыслями и воскресить в памяти вчерашний день. Пусть это не поможет сегодня, пусть даже вчерашний день не имеет никакого отношения к тому, что теперь, но было же вчера! И оно было ужасным.
Милюль попробовала выстроить свою память, припоминая событие за событием. Она усмехнулась, вспомнив, как мальчик Павлик вывел её из себя изощренным упрямством, вспомнила шутливых матросов на палубе, застолье в кают-компании. Её поздравляли с днём рождения, дарили лягушку…. в который уже раз ей дарили лягушку? В воспоминаниях появилась противная женщина, которая мешала ей. Эта женщина мешала всегда под разными именами, в разных обличиях, но неизменно чему-то мешала.
– Ну её! – решила Милюль – Не буду о ней вспоминать! – Куда приятнее было вспомнить пальбу из пушки. Это было весело, хоть и бессмысленно. И опять та тётка! Чего ей было надо? Она чего-то говорила про какого-то вождя, ругала меня неизвестно за что и всё пыталась толи чего-то втолковать, толи выяснить, пока я её не…
– Я её съела! – завопила девочка, и даже подпрыгнула на тюфяке – какой кошмар!
Такая жестокая нелепость не укладывалась в сознании. Но все-таки Милюль помнила, отчетливо помнила, что съела ту самую тётку. Может, не целиком съела, но убила, это точно. Она вспомнила, как прыгнула и ударила женщину лбом в подбородок, вспомнила, как та треснулась головой и потеряла сознание.
– Я её ударила лбом. Да, лбом. Теперь должна быть шишка на лбу – Милюль потрогала лоб. Никакой шишки, никакого ощутимого следа – А ведь если бы то, что я помню, происходило на самом деле, то лоб должен был бы хотя бы болеть. Но ничего нет. Выходит, я вспоминаю то, чего на самом деле не было. А что же было? Был день моего рождения. Точно, он был вчера, в понедельник. Но он же был и позавчера, в воскресенье, и в субботу тоже был день рождения. Если следовать логике событий, то сегодня опять должен быть день рождения, причём на этот раз вторник. Странная логика событий. Но что делать? Каковы события, такова и логика. Не бывает же наоборот. Хотя, почему не бывает? Если мои воспоминания эфемерны, если им нет никакого материального подтверждения, значит это не воспоминания вовсе, а так, наваждения, сны. С другой стороны, если это сны, то стоит себя ущипнуть, и они прекратятся. Вот тогда-то, когда я проснусь, я и посмотрю, что там есть на самом деле!
Милюль попыталась ущипнуть себя за бедро. Бедро оказалось одетым в довольно плотную материю, под которой нащупывалась ещё одна. Милюль стало любопытно: что это за одежды, и откинув одеяло, она взглянула на ноги.
– Вот тебе и на! – Воскликнула Милюль. Её собственные ноги оказались на этот раз в брезентовых штанах. Под верхними штанами, нащупывались еще одни, а может быть и не одни. Ступни прятались в серых шерстяных носках такой грубой вязки, которой Милюль в жизни не видала.
– Кто это так меня нарядил? – спросила она, хотя вокруг никого не было. Тут ей подумалось, что она и не живёт вовсе, а прыгает из одного сновидения в другое, ещё более невероятное и дикое. По мере этих сонных прыжков наблюдаются вполне логичные и просчитываемые тенденции.
Надо быть слепцом, чтобы этих тенденций не заметить. Первая и самая главная: всё время уменьшается корабль. Некогда огромный морской лайнер скукоживается от одного сновидения к другому и, в конце концов, он, наверное, должен превратиться в ореховую скорлупу.
Вторая тенденция… бог с нею, со второй. Интересно, что бы могла обозначать первая? Можно ли посмотреть на неё с другой стороны? Например, так: мир остаётся как некоторая константа, я же неуклонно увеличиваюсь, отчего возникает иллюзия съёживания. Моё сонное сознание пытается нарядить уменьшающийся мир в понятные формы, и от этого каждый следующий раз мне снится сон про другой, меньший кораблик. На самом деле живу я в другом месте, и к тому же я не человек, а нечто другое: например, лягушка. Господи, какие же глупости лезут мне в голову! – Милюль уставилась на свою ладонь, и продолжила спор сама с собой – Может и глупости, но вот она, моя рука, и я прекрасно помню, что вчера она была иной. Исчезла узловатость запястий. Рука обрела какую-то девичью завершенность, хотя ногти в ужасном состоянии, и кожа стала обветренной, грубоватой что ли…. вчера у меня тоже были какие-то неожиданные перемены. Точно! Всё началось с того, что я выросла. Неужели опять?.. – Милюль прикоснулась к своей шее, повела руки вниз по шерстяному свитеру, в котором она, видимо, спала, и замерла, наполненная удивлением. Там, где раньше всё было плоско и нормально, теперь явно обозначалась грудь.
– Что за недоразумение? У меня за одну ночь вырос бюст? Или опять я повзрослела неизвестно на сколько лет?.. – Милюль вскочила с тюфяка и заметалась по трюму – Должно тут быть хоть какое-то зеркало!.. – но зеркала не было.
Снова застучали шаги на лестнице, дверь открылась, и в помещение впрыгнул сам Алексей Андреевич, но неожиданно помолодевший и без бороды. Словно он для того только и уходил пять минут назад, чтобы сбрить бороду, разгладить морщины и вернуть себе бравую выправку капитана и героя. Он уже не сутулился. Никакой усталой обречённости не осталось в его облике. Даже отсутствие кителя ни капли его не портило.
– Эге-гей! – крикнул помолодевший капитан – а батя говорит, ты приболела! Чего ж ты по кубрику мечешься? – Алексей Андреевич подошёл к Милюль и бесцеремонно приложил руку к её лбу – А! У нас утренняя симуляция! Так не пойдёт! В следующий раз возьмём с собой другого кока. Я ещё на берегу бате говорил, рано тебя брать на путину. Сидела бы дома, да игралась с подружками. А ты-то хороша! Сама напросилась и сама же в кусты? Хочешь, чтобы я, боевой офицер, потакал твоим капризам?
Он говорил так браво и напористо, что оторопевшая Милюль не успевала отвечать на его, явно риторические вопросы. Она судорожно размышляла о том, как это ему удалось так быстро помолодеть? Но тут помолодевший капитан резко рубанул ладонью воздух и заключил:
– Нет, лисичка-сестричка, трюк не пройдёт! Хватай ноги в руки и живо на камбуз! – и, совершенно неожиданно, Алексей Андреевич довольно вульгарно хлопнул Милюль по попе. Не до такой степени опешила Милюль, чтобы лишиться дара речи от этакого свинства, поэтому она спросила обнаглевшего капитана:
– Дядя! Вы для того и побрились, чтобы буйствовать?
А вот он-то, к Милюлиной радости, опешил. Даже рот открыл и глаза выпучил:
– Любань, ты чего? Белены объелась?
– Нет – возразила Милюль – я лишь взываю вас к приличиям.
– Да какой я тебе дядя? – заорал дядя.
– А кто на этот раз? – резонно поинтересовалась Милюль.
Не успел он ответить, как прежний пожилой Алексей Андреевич вошёл в помещение трюма. Теперь перед Милюль стояли два Алексея Андреевича: молодой и старый. Оба в одинаковых ватниках, в одинаковых брезентовых штанах и кирзовых сапогах. Похожие и разные одновременно.
– Вот и здорово, что ты поднялась! – сказал, улыбаясь, старый Алексей Андреевич – Мы с Павликом поздравляем тебя с днём рождения. Желаем долгих лет, пятёрок в школе и побольше женихов. Смотри, что мы с матерью тебе дарим. Ты об ней с детства мечтала – С этими словами он достал из кармана тряпицу, развернул, и вынул от туда, конечно, всё туже брошь.
– Сегодня вторник? – уточнила Милюль, вертя в руке привычную вещицу.
– Совершенно верно – согласился старый Алексей Андреевич, а молодой обратился к нему с неожиданными словами:
– Батя, по-моему, у Любы спросонья в башке мозги сплющились. Она родных не узнаёт.
– С чего это ты взял? – спросил старый.
– С того, что она только что обозвала меня дядей.
– Логично. Ты подрос, возмужал. Что же ей тебя Павлушкой называть? Как до войны? Ты же теперь герой!
Тут их разговор постепенно выплыл за пределы Милюлиного понимания. Речь пошла то о каких-то катерах, то о глубинных бомбах в каком-то северном море. Единственное, что доходило до девушки, так это то обстоятельство, что оба моряка и молодой и бородатый нахваливают друг друга и деликатно принижают какие-то собственные героизмы в недавно прошедшей войне.
– Да это же отец и сын! – озарило её – Как я сразу не догадалась? И лишь только её озарило, как эти двое прервали историко-геройские расшаркивания и вновь обратили внимание на Милюль.
– Во! Видишь? – ткнул в неё пальцем сын – Стоит как створный знак на берегу, и только смотрит!
– А что ей делать? – возразил отец – Ты так дифирамбами разошёлся, как будто не ты герой, а я.
– Не я начал! – возразил сын.
И они ещё раз, более сварливо и лаконично поспорили о героизме друг-друга. Милюль, таким образом, получила фору для того, чтобы обуться в найденные на полу высокие резиновые галоши (иной обуви она не увидела) и подумать о том, как следует повести себя сегодня, что говорить и делать, дабы не показаться нелепой. Хоть она и старалась изо всех сил, хоть и металось ее сознание с одного на другое, ничего подходящего на ум не приходило кроме слова гальюн. Поэтому, когда мужчины умолкли и воззрились на неё, она сказала чётко и ясно, без литературных излишеств:
– Хочу в гальюн.
Очевидно, это был верный ход, потому что оба героических капитана в мужицкой форме не стали удивляться, а довольно просто напутствовали: иди, мол, чего стоишь, если хочешь? И повернувшись к ней спинами, вышли из тесной грязной каюты. Милюль бросила брошку на застланный одеялом матрас и поспешила за капитанами. Она поднялась по узенькой железной лесенке, вышла через серую железную дверцу на палубу и увидела простор огромной мутной реки по которой, грохоча внутренними механизмами, стремительно двигалось утлое судно с нею, Милюль, на борту.
– С каждым разом кораблик всё гаже – брякнула девочка, увидав непрезентабельную палубу и железные борта, выкрашенные в тёмно-серую краску, местами уже облупившуюся.
Младший капитан обернулся и, перекрикивая тарахтящий где-то рядом двигатель, проорал:
– Говори громче! Чего?
– Где мы идём? – заорала ему в ухо Милюль, предчувствуя заранее, что ответ, как всегда будет невразумительным. И капитан не обманул её ожиданий:
– Выходим к устью – прокричал он – скоро начнётся!
Что за устье, к которому они выходят и что должно скоро начаться, он объяснять не стал, а добавил нагло:
– Чего застряла? Как облегчишься, ступай на камбуз!
Толкнув мимоходом такую же маленькую железную дверцу, как та, через которую они только что вышли, он исчез в направлении носа тарахтящей посудины. Старый капитан шёл еще далее впереди и даже не услышал их переговоров.
Милюль заглянула в отворённую молодым капитаном дверцу, и чуть было не расстроилась. За дверцей находилась необычайно тесное, облупленное и убогое помещение, всё место на полу которого занимал безобразный постамент изувеченного временем ватерклозета. Стульчак, грубо высеченный из куска фанеры, был стар, облезл и жуток. В царстве нищеты и разрушающегося минимализма, кое представляла эта комнатка, стульчак, несомненно, был царём. Невозможно было даже представить себе, что на него кто-то не гнушается сесть.
Поборов отвращение, Милюль вошла в гадкую уборную и захлопнула за собой дверь. Тут её ожидало очередное огорчение. Мало было того, что она и так не очень представляла себе – как будет пользоваться этим, так в придачу на ней оказался надет дурацкий и неудобный наряд: брезентовые штаны, которые неизвестно как снимать.
От изобилия технических сложностей, с которыми ей пришлось столкнуться, у Милюль из глаз брызнули слёзы. Вот так она стояла и плакала в тесном гальюне. От сложностей, от неизмеримых сложностей, от непомерных сложностей плакала и плакала шестилетняя девочка слезами вполне созревшей девицы пубертатного возраста.
* * *
Эх, тяжело мне, братья мои, раки пучеглазые, рассказывать вам эту историю! Не оттого тяжело, что вам не понять и половины сложных терминов из жизни иных существ, иных эпох и иного времени. Не оттого тяжело, что часто я вижу в ваших клоунских зенках пробегающие тени недоверия и не оттого, что вы не пользуетесь ватерклозетами. Тяжесть лежит на моей душе оттого что, говоря, я сам переживаю печали, низвергнувшиеся на Милюль. Повод для этих печалей нелеп и ничтожен. Ну и что? В поводе ли дело? Иной раз и вовсе никакого повода нет. Светит себе ясное солнышко, ветерок напевает бодрые песни среди каменных глыб, а волны разбиваются об утёс на миллиарды сияющих самоцветов. Сиди себе и радуйся жизни, но не тут то было!
Вместо радости не то всплывёт из глубин души, не то принесётся из неизведанных далей такая удручающая беспросветность! Эх, выскочил бы я из домика, разорвал бы клешнями хитин на груди, и упал бы голым мясом на влажный кварц песка! Полились бы тогда из глаз слёзы горькие. Такие горькие, что соль океанских вод показалась бы по сравнению с ними патокой. Безудержные рыдания сотрясали бы мой беззащитный красный хвост, а хрипы и стоны пугали бы осьминогов и каракатиц.
Но нет! Никогда не разорвать мне панцирь, не пролить слёз, не зарычать львом, не воспарить орлом, не ударить молнией. И тоска остаётся жить во мне, да накапливаться, как накапливается вода в прохудившейся лодке, как накапливаются скелеты предков на коралловой колонии, как накапливаются сами мои годы.
Вот уж и начинаю я завидовать тем существам, которые, рыдая, сбрасывают балласт переполняющей душу печали. Сидя на камне, я завидую чайкам, когда они выплёскивают тоску свою через крик. Завидую облакам, что сбрасывают грусть каплями дождя, и завидую маленькому существу, живущему в человеческом теле и способному плакать и рыдать по всякому пустяку, в то время как вселенная посылает ненастья на его невзрачную оболочку!
* * *
Старый рак замолчал. Воспользовавшись наступившей паузой, из рядов слушателей выступил мохнатый полосатый рак с маниакальным блеском в глазах и, подняв клешню, задал вопрос:
– Извините уважаемый э-э-э… – тут он замялся, подыскивая правильное обращение – … мэтр. К сожалению, я не был на предыдущих ваших лекциях, в силу чего прослушал начало этого удивительного рассказа. Приношу свои извинения. Меня крайне заинтересовал один, я бы сказал, последний аспект…
Всё время, пока полосатый конструировал такую замысловатую фразу, старый рак внимательно разглядывал его, и всё сильнее проявлял нарастающее нетерпение. Когда полосатый дошел до слова «аспект», рак – рассказчик грубо перебил его, крикнув:
– В чём дело?
Рак-маньяк чуть смутился от грубого окрика и, суетясь, завершил вопрос:
– Да-да, я понимаю, я перебил вас, извините, я сейчас закончу. Я только хотел сказать… спросить, что за технические сложности, с которыми приходится сталкиваться человеческому существу, когда оно пытается снять брезентовые штаны?
– К чему тебе это? – спросил старик.
– С биологической и бытовой точек зрения мне это совершенно ни к чему – ответил маньяк – но признаюсь, меня часто мучает любопытство. Иногда я выползаю на каменную гряду около пляжа и наблюдаю оттуда, как ведут себя человеческие существа. Ничего предосудительного в этом нет. Я много раз видел, как вполне респектабельные арабы в белых одеждах занимаются тем же. Так вот, те существа легко сбрасывают с себя наряды и прыгают в море, оставшись практически без ничего. Я думаю, уважаемый мэтр, что наряды являются некоторым аналогом наших домиков, в силу чего смею даже предполагать в людях зачатки некоего разума, конечно же, далекого от нашего…
Раку-маньяку не удалось закончить рассуждение, потому что один из радикальных последователей Креветки не перенёс моральных мук и заорал, нарушая устоявшиеся среди раков обычаи либерального общения:
– Что за гнездо разврата процветает здесь, на святой земле? Где гнев господа нашего Омара? Да ниспошлёт он на вас человеческих детей – собирателей раковин! Как можете вы рассуждать о том, что находится в руках Омара и в воле его? Предполагать разум в человеческом существе, равносильно одушевлению морской волны, каменного утёса и дуновения ветра! Люди – порождение осьминога – врага всего живого. Они, как стихийное бедствие, могут пройти стороной, а могут причинить несчастья, увечья и даже мучительную смерть! Скоро вы дойдёте до того, что начнёте утверждать наличие души в землетрясении, в извержении вулкана, в зимнем шторме, громе и молнии. Вы – кучка язычников и позор всего рачьего племени!
Креветкопоклонник так и изрыгал бы проклятья, потрясая домиком, кабы старый учитель не протянул к нему могучую клешню, и не утопил бы его морду во влажном песке. Даже в таком положении радикал продолжал некоторое время возмущенно мычать, но потом вывернулся и обиженно захлопнулся в раковине.
– Мы уже говорили, братья мои, на эту тему – проскрипел старик – нет у меня лишних сил и времени на повторы. Если кому-то из вас мешают личные убеждения, то отправляйтесь своим путём, и не терзайте себя внутренними сомнениями, слушая мою сказку. Тем же, кто не в силах заставить себя покинуть наше уважаемое собрание и одновременно переживает из-за того, что мой рассказ ведётся о неодушевлённом явлении, я советую обратиться к замечательным произведениям поэзии, в которых авторы напрямую общаются с абсолютно безответными предметами. Когда поэты задают вопросы деревьям, облакам, и умудряются рассказать нам целые песни от имени неживых собеседников, мы не кричим: «Ересь!», мы не впадаем в экстаз и не норовим покарать ни поэта, ни то явление природы, с которым он беседует.
Доблестные раки, из числа тех, кто считает человеческое существо столь же примитивным, как и неживая природа, отнеситесь к моему повествованию как к невинной песне пожилого поэта, вздумавшего побеседовать с утёсами. Не отягощайте себя соображениями о невозможности того, о чём я говорю. Специально для вас исполню я старую песню, которую слышал в незапамятные времена в неведомых краях. Текст песни я в точности не помню, так что извините, если вдруг перевру.
И рак запел. Голос у него был хриплый, некрасивый, но мотив, довольно простенький, завораживал слушателей и настраивал на благостное миросозерцание. Во всяком случае, драться не хотелось. Никто и не дрался, все слушали диковинную песню старого рака:
«Рак спросил у камушка: «Где сокрыта истина?»
Укатился камушек, движимый волной.
У волны рак спрашивал: «Где сокрыта истина?»
Шумно мимо волны шли. Это был прибой.
Рак с прибоя спрашивал: «Где сокрыта истина?
Прогреми морзянкою! Знак подай какой!
В дебрях настоящего заблудился вымысел,
Собственной изнанкою сделался покой!»
Рак совсем запутался в поисках незримого,
И заснул, не ведая главного того,
Что в руках невидимых, вся неизмеримая,
Нежно мать-вселенная баюкает его…»
Рак резко оборвал пение и обратясь к маньяку спросил:
– Уважаемый наблюдатель, вы пробовали когда-нибудь устроить себе домик не из обычной спиральной раковины, а, например, из двух створок, оставшихся от мидии?
– Нет, не пробовал – сознался рак-маньяк.
– Так попробуйте! Вопросы о технических сложностях отпадут сами. Нам же нет смысла обсуждать механическую сторону жизни, потому как Милюль, в конце концов, с ними справилась и вышла на палубу.
Милюль помнила, что ей следует идти на камбуз. Она помнила также, что камбуз, это то самое место на корабле, где готовят еду. Вчера на камбузе бронекатера добрый молодой моряк кормил её макаронами по-флотски и удивлялся тому, как много она ест. Но то было вчера, а сегодня на этой лодчонке, где ей найти камбуз? В какую сторону идти? Милюль отправилась на нос. Десяток шагов, и тарахтящий корпус сейнера с рубкой и прочими надстройками остались позади. Здесь, на тупом носу, резво разваливающем мутную воду реки, она вдохнула холодный северный ветер и посмотрела на небо, по которому тащились гигантские дирижабли облаков.
Река была широка настолько, что дальний правый берег покрывала дымка. Левый же, более близкий, был мрачно живописен: над пустынными песчаными пляжами, заваленными скрюченными корягами, высились обрывистые берега, над которыми во внимательном молчании торчали здоровенные кедры. Жёлтая вода реки голубела ближе к горизонту. Катер двигался, поглощая её, подминая под себя как блестящий шёлковый ковер.
– Наслаждаешься? – раздался знакомый голос бородатого капитана.
– Разглядываю – призналась Милюль.
– Места наши знатные – похвастался капитан – Ты всё время с берега на Обь глядела, теперь, наоборот, на берег погляди. Впечатляет?
Милюль не знала: впечатляет ли её, и что должно впечатлять, но на всякий случай кивнула.
– Погоди ещё – пообещал капитан – в устье не такая красота будет.
Глядя на уходящую под нос сейнера воду, Милюль вспомнила другой корабль, иные пейзажи. Она вспомнила дельфинов, мчащихся в прозрачной морской воде, обгоняющих судно и весело прыгающих впереди него. Если бы сейчас в этой реке даже и водились бы дельфины, их бы всё равно не было видно сквозь жёлтую муть.
– Ведь в реке не живут дельфины? – уточнила она.
– У нас не живут – ответил капитан – Я читал, в Америке бывают пресноводные дельфины, но тут они бы замёрзли. Или перебили бы их давно. На Чёрном море ещё до войны мне случилось побывать на промысловом заводе, куда привозили дельфинов на переработку. Тяжкое зрелище.
– На что же их там перерабатывали? – удивилась Милюль.
– На рыбий жир, наверное. Помню, один придурок залез на хвост дельфину, а дельфин как махнёт хвостом! Тот мужик, наверное, метров пять летел.
– Рыбий жир? – переспросила Милюль, проигнорировав рассказ о летающем придурке – Разве они рыбы?
– Нет, конечно. Они не рыбы – ответил капитан – Когда мне было лет шесть или семь, я сам думал, что рыбы. До революции ещё. Вот тогда-то одна девица заставила усомниться меня в моей правоте. Правда, я не подал вида, что сомневаюсь. Оказался неправ. Я часто оказывался неправ.
Капитан смотрел вперёд так, словно видел нечто за горизонтом. Глубокие морщины стрелами расходились от его глаз. Густая борода и усы с пробивающимися седыми волосами сильно его старили. Но всё-таки он был далеко ещё не старик. Напротив, это был крепкий, прокоптившийся, поживший, но не пожилой человек. Стоя на носу ветхого суденышка, он смотрел не-то вперёд, не-то внутрь себя. Впрочем, стоял он так недолго. Обернувшись к Милюль, он сказал, что ему пора в рубку, а ей пора на камбуз варить макароны.
Милюль слегка напугалась. Она помнила, что такое макароны. Она даже знала, как их едят. Ей даже хотелось бы поесть макарон, но представить себе как их делают, Милюль никак не могла. К тому же она так и не выяснила где тут камбуз.
– Можно мне помощника? – робко спросила она – Боюсь, я одна не справлюсь.
Капитан удивился. Сообщил, что она, Любаня, всегда прекрасно делала макароны по-флотски, и пообещал прислать ей брата, который в данный момент ведёт сейнер вместо него. Милюль устраивал такой поворот событий, и она пообещала ждать тут, на носу, чем ещё раз удивила капитана. Пожимая плечами, он ушёл.
Через некоторое время появился молодой капитан, капитан-сын, Павлушка, он же, судя по словам капитана-отца, её собственный брат, и уставился на Милюль вопросительно:
– Ты чего, Люба, забыла, как макароны варят?
– Забыла – соврала Милюль, и развела руки, дескать, чего с меня, дуры, возьмешь?
– Понятно – кивнул брат – Это ты в честь дня рождения решила надо мной поиздеваться. Ну ладно. Пойдем – и повел её к надстройке.
Они пролезли в очередную маленькую дверцу, спустились по железному трапу и оказались в помещении, именуемом камбуз. Судя по обстановке, камбуз был в родстве с гальюном. Под иллюминатором находилась уродливая керосиновая плита, на стене висели половники и черпаки. Огромные чёрные кастрюли стояли на видавшем виды кухонном столе около раковины с медным краном. Остальные стены, или переборки (как там правильно у них) были и не стенами вовсе, а шкафами с фанерными дверцами.
Милюль с тоской воззрилась на незнакомое хозяйство. На душе стало муторно от функционального убожества. Она почувствовала себя загнанной в зловещую западню и, впав в апатию, уныло присела на единственный колченогий табурет с вырезанным на сидении сердечком.
– Чего это мы расслабились? – поинтересовался брат – Фронт работы перед тобой. За дело!
Милюль не сдвинулась с места. Ей не хотелось ударить в грязь лицом, или дать повод подумать, что она свалилась с луны и ничего не умеет. Еще раз, окинув помещение камбуза взором, она как можно вежливее и деликатнее попросила:
– Братец Павлуша, не мог бы ты рассказать мне поподробнее… – тут она запнулась, подбирая правильные слова. Братец же, резвый на мысль, не дал ей закончить фразу:
– О чем? О чем рассказывать-то?
– Ну… – Милюль неопределенно повела рукой.
– О том, почему отец с самого моего прибытия меня героем обзывает?
Милюль выжидательно молчала, думая про себя: «О чём бы ни стал теперь рассказывать этот дядька, который брат, в любом случае я выиграю время, получу полезную информацию, и как-нибудь сориентируюсь». Брат же расценил молчание как знак согласия, и, прислонясь к кухонному столу, начал рассказ:
* * *
– Через год-полтора после войны, тебе тогда было двенадцать лет, отец демобилизовался из военного флота. Это ты наверняка помнишь. Поехал он навестить меня, и приехал в Ложный Геленджик, где располагалась наша база торпедных катеров. Пока меня искал, ему штабные напели в уши про мой удачный выход в сорок втором. Вот отец с той поры меня героем и обзывает. Наверняка он сам тебе рассказывал.
Милюль отрицательно покачала головой, отчего Павлушка удивился и даже высказал такое предположение, мол, Милюль врёт.
Действительно, в последние дни Милюль всё больше и чаще врала. А куда ей оставалось деваться? Надо же было приноравливаться к постоянным и непредсказуемым переменам. Ничего не скажешь, весело бы она выглядела сегодня утром, если бы потребовала няню и возмутилась по поводу отсутствия балдахина над кроватью. Впрочем, Милюль некогда было разбираться – врёт она или не врёт. Сама грань между правдой и ложью стёрлась до полного исчезновения. Милюль не лгала, она была искренней в своем желании приноровиться к ускользающей реальности и более того, она старалась милосердно беречь вываливающихся на неё из небытия незнакомых и в то же время каким-то образом близких ей людей.
С полной уверенностью в своей правоте, Милюль заверила брата в том, что у неё и в мыслях не было врать, и ей очень интересно узнать о Ложном Геленджике, о войне и о том, как «поют штабные в уши». Она утверждала это так энергично и непосредственно, что Павел решился:
– Ладно, расскажу тебе вкратце про тот случай, хотя если честно посмотреть на жизнь, тогда сработали два фактора. Всего два. Первый: мы все, вся команда, очень хорошо воевали. Второй: нам, можно сказать, повезло. Чем больше времени проходит с тех пор, тем сильней я убеждаюсь в величине второго фактора. Он выходит гораздо сильней и значительней первого.
Дело было весной сорок второго. В апреле. Как раз тогда, когда шла защита Севастополя, и немцы атаковали во второй раз. Мы вышли из Мезыби, чтобы дойти до Балаклавы, и там получить боевое задание. Плаванье, как плаванье, вполне обычное во время войны. Почти обычное. На самом деле ничего обычного не бывает, конечно же. Выход в море не может быть обычным, даже если он регулярный.
Условия сложились нестандартные. Весь прошлый день тучи ползли с моря понизу и упирались в горы. Одна упёрлась, за ней вторая, третья… так они накапливались и накапливались. Всё небо заволокло. Тяжесть, которая скопилась в тучах, стала сыпаться мелкой изморозью, но тучи держались за свою воду. Они так жадничали, так не хотели с ней расставаться, что постепенно сами опустились на море.
Всю ночь стояла непроницаемая мгла. В этой мгле мы отчалили. Буквально утыкаясь в борта пришвартованных в устье катеров, вылезли из реки и тихим ходом, ориентируясь только по компасу, двинулись в направлении чётко от берега. Да и как при такой невидимости вдоль берега идти? Только в открытое море! Тихо идём. Минуты три малым ходом и стоп моторы. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Мгла. Что там впереди? Надеемся чего-нибудь услыхать. В общем-то, метод старый, известный.
В тот период, в период обороны Севастополя, из Туапсе, из Батуми из Поти туда ходили наши корабли с горючим и продовольствием. Сложилась такая ситуация, что мы туда-сюда на кораблях шастаем, а немец наших с воздуха берёт. Чаще всего, конечно, транспорты шли ночью, поэтому мы привыкли слушать море. Когда ничего не видно, то хоть чего-то может быть слышно.
Боцман Сундуков мне говорит:
– Пойду на нос, руки вперёд вытяну, дорогу прощупаю.
По голосу слышу, ухмыляется. Чего там нащупаешь? Но спорить не стал. Он матрос бывалый, а в нашей морской жизни иногда важна не только возможность, но даже надежда на эту возможность. Вот и пошел он на нос за надеждой.
Так мы шли гусиными шагами часа три. В Чёрном море есть течение. Не такое быстрое, как в реке, но постоянное. Я его измерить не мог, но прикидывал, что нас уже снесло за Геленджик и тянет к Новороссийску. А там дальше Анапа. До противника рукой подать. Стою за штурвалом и думаю: «Ладно, если с нашими встретимся, а если нет?»
Подумал, и как накаркал. Боцман с носа докладывает: «Слышу моторы судна. Левый борт десять градусов!»
Я говорю тихо так: «Стоп моторы!» Тишина наступила. Только волна по борту хлюпает. Стоим. Слушаем. Вот думаю, и ухо у боцмана! Я-то и теперь ни звука не различаю. Постепенно проступает: «Тук, тук, тук…» Кто-то малым ходом идёт. Кто? Наши? Нет? Не знаю. На катере полное молчание. Все слушают и гадают. Если враг, то у нас преимущество, потому что мы про них уже знаем, а они про нас ещё нет.
Мгла начала постепенно рассеиваться. Морось прекратилась, и туман стал постепенно подниматься к небу, чтобы снова стать тучей. Наконец видим силуэт судна как тень. А это уже минус, потому что и они нас разглядеть могут, хоть мы и маленькие. Я изо всех сил вглядываюсь, пытаюсь по силуэту угадать кто это там?
Подходит Сундуков, шепчет уверенно: «Командир, это фашисты!» На всякий случай спрашиваю: «Точно?» «Куда ж точней – отвечает – я их разговоры слыхал».
Не боцман у меня, золото! Чудо природы! Наверное, такой тонкий слух у Паганини был. Я, кстати, позднее про это брякнул, так с тех пор к нему эта кличка приклеилась. Все его Паганини обзывали. Он не обижался.
Тут я почувствовал: пора! И приказываю: «Приготовиться к атаке!»
Боцман птицей летит к запирающим устройствам, заряжает пороховым зарядом оба торпедных аппарата. Одновременно взревели моторы, мы набираем полную скорость и ложимся на курс сближения. Командую: «Залп!»
Шипение, хлопки зарядов и обе торпеды выходят из желобов. Пошли! Разворачиваю катер. «Дело сделано! – сказал слепой». Слышу за кормой взрыв, второй. Оба попадания! «Эге – гей!» – ору. И уходим во мглу.
Потом по результатам воздушной разведки командованию бригады сообщили, что между Новороссийском и Анапой лежит немецкая БДБ. Наших рук дело!
– Что такое БДБ? – спросила Милюль.
– Это, Любаня, быстроходная десантная баржа. Здоровая такая дура и очень вредная. В общем, то была первая удача за плаванье, которое прославило наш, тридцать седьмой катер и вошло в мою жизнь как самый главный и самый большой гвоздь. Случится ли что-нибудь похожее на то, что было тогда? Вряд ли. А если и случится, то не знаю, переживу ли подобную катавасию.
– Так вы… – Милюль запнулась, но тут же поправилась – так ты потопил эту баржу, и на том война закончилась?
– Глупая ты! – усмехнулся Павлик – Надо же такое сказать! Война была долгая, и топил я много чего. И меня подбивали и топили. Выжил чудом. Но главное, что всё остальное оказывается теперь не главным.
До сих пор то плаванье торчит над всеми годами войны, как шест посреди моря, как маяк. Вправо от него рябь, влево колебания. А это самый насыщенный какой-то этап жизни. Если бы на этой удачной атаке всё закончилось, плоскость событий осталась бы ровной. Ну, жил. Ну, воевал. Ну, выжил. Нет, та атака оказалась лишь началом. Никто и не мог подумать, как много мы наворотим за тот день и две ночи. Никому бы и в голову не пришла возможность такого везения.
Все люди воевали. Все рисковали, старались, проявляли качества. Но не всем везло, Люба. Отцу повезло, мне. Вот мы и живы. Хотя не только в везении дело. Чёрт знает, в чём ещё.
В общем, ушли мы из сектора боя. Хмарь рассеялась, забрезжил рассвет. Вижу берег на горизонте. Идём уже полным ходом, будто летим над морем. Позднее я узнал, что наши торпедные катера разрабатывал сам товарищ Туполев. Это неспроста! Умеет человек почувствовать полёт! Опять Паганини ко мне бежит, да я и сам слышу: взлетели.
– Вы взлетели? – переспросила Милюль.
– Не мы! – Павлик и глянул сурово. – Они взлетели, а мы услышали. Понимаешь, Люба, когда взлетают самолёты, их очень хорошо слышно. Разъясню. В портах Варна и Констанца Болгарии и Румынии базировались самолеты морской авиации Германии. Это были не простые самолёты, а торпедоносцы «Савойя». Они вылетали с мест базирования, садились на воду у наших берегов и ждали, когда пойдут наши транспорты, чтобы их торпедировать. Мы на торпедных катерах норовили подойти к ним, и если они не успевали подняться в воздух, могли расстрелять самолёт из пулемета. Поэтому, едва услышав наши моторы, они сразу срывались в воздух и уходили из поля зрения, чтобы, отдалившись на десяток миль снова сесть и продолжить поджидать наш транспорт. Такая стратегия.
Я опять приказал: «Стоп машина!» Катер шлёпнулся днищем на воду. В наступившей тишине, мы с Паганини прикинули, в какую сторону полетел этот «комарик». Радист сообщил на базу направление, в котором направился самолёт.
В ответ поступает: «В секторе наших судов нет. Уничтожить самолёт-торпедоносец». Дурацкий приказ. Я и представить не мог, как его выполнить. Еще бы! У него скорость в пять раз быстрее нашей. Но деваться некуда. Идём в том направлении, куда улетела Савойя. Я самого себя спрашиваю: «Как теперь его искать?» Он-то сто раз мог бы свернуть, отклониться от первоначального курса и сесть на воду не там, куда мы теперь мчимся, но левее или правее. Ну, думаю, варианта два, потому что предположить, что он сел, совсем не меняя курса это значит предположить, что пилот кретин. Но он же не кретин. Он должен был свернуть туда-сюда. Вопрос лишь: влево или вправо. Если бы знать!
Очень мне стало обидно, что узнать ответ на этот простой вопрос негде. Тут я подумал: боцман Сундуков, который Паганини, пошёл на нос не для того, чтобы «прощупать море», а для того, чтобы почувствовать надежду, и дать надежду другим. Где мне искать надежду теперь? Негде было мне её найти. Тогда достал я из кармана пять копеек и загадал: если орёл, то берём влево, а если решка – вправо. Подбросил – решка! Даю тридцать градусов вправо, и летим, как пальцем в небо, а небо всё светлее. Ещё минут десять и улетит фашист, где бы он не сидел! Улетит, хоть угадал я, хоть не угадал. Они всегда на восходе взлетали и уходили в свой порт.
Вдруг, вижу: Опять повезло! Вот он! Сидит на воде, как водомерка на болоте. Паганини уже бежит к пулемёту сам. Сундукову команда не нужна. Приближаемся, и он начинает стрелять. Рановато, конечно, но может и дострельнёт?
Немец тоже не дурак: завёлся и помчался взлетать. Эх, думаю, зря боцман не потерпел, а с другой стороны они и так бы взлетели. Не могли они не заметить, как мы на них несёмся!
Взлетел самолёт. Я за ним по инерции иду. Куда там! Разве догонишь? Эх, думаю, вспугнул боцман удачу! Злюсь на него в душе, хоть сам понимаю, что зря. Вдруг вижу: немец-то рассердился пуще моего. Разворачивается для атаки. Сразу даю команду: «Приготовиться к бою!» – и на полном ходу иду на сближение. Савойя прицеливается и открывает по нам огонь из всех пушек. От самолета отделяются светлячки выстрелов, а на воде вырастают такие вот фонтанчики.
Понимаешь, Люба, ощущение такое, будто расшевелил осиное гнездо. Торпедоносец Савойя – отличная боевая машина. Четыре двигателя, четыре скорострельных мелкокалиберных пушки. Еще у него есть бомбы и две торпеды на борту. По всем параметрам он сильнее меня. У нас против него только один крупнокалиберный пулемёт, где Паганини стоит, я за штурвалом, шесть моих членов экипажа, двести лошадиных сил двигателя и скорость не больше семидесяти пяти километров в час. У него-то скорость до четырехсот! У него возможность маневра в трёхмерном пространстве, а у меня только в плоскости. Он в таком преимуществе, что кроме надежды у нас опять ничего нет.
Есть! Есть, Люба! Пилот Савойи, видимо, оценил свои и мои возможности, он взвесил плюсы ситуации, и подумал, что все козыри на его стороне, да забыл про то, что я прав, а он неправ, про то, что это он пришёл на мою землю, а я её защищаю. Он не заметил того, что у меня на катере каждый человек как личность в сто раз больше, чем каждый член его экипажа. Вот, чего он, Люба, не знал. И я этого не знал и не думал об этом. Но оно было!
И вот идём мы встречным курсом лоб в лоб. Савойя стремительно приближается и лупит со всех стволов по воде. Боцман берёт на прицел самолет. За ним стоит наш радиоэлектрик с запасной лентой. Они вдвоём перед моим взглядом. В полный рост. Стоят, и каждая пуля из Савойи, это их пуля.
Савойя уже явно прицеливается, чтобы убить их: Боцмана-Паганини и молоденького электрика. Я резко бросаю катер вправо. Понимаю, что боцман за это будет на меня в обиде, но пули, которые лились из Савойи, не попали в него! Выходит, очень вовремя я рванул катер в сторону!
Самолет пролетает прямо над нами. Боцман разворачивает турель, пытаясь достать улетающий самолёт. Поздно. Лента закончилась. Пулемёт замолчал. Электрик подаёт Паганини новую ленту, а на катере в это время глохнут моторы.
Мы потеряли ход и катер встал. Оборачиваюсь, и вижу: над машинным отделением куча пробоин. Оказывается, разворачивая катер, чтобы спасти боцмана и электрика, которых я видел, я подставил под пули машинный отсек, который был у меня за спиной. Запрашиваю машинное отделение. Старшина первой степени Евдокимов отвечает: «Щас! Щас поедем!»
Не задумываюсь, что это значит, а верю механику и мотористам как себе. Мы все друг другу верим. Я позже узнал, что Евдокимов намотал на пальцы перебитые тросики управления газом и оборотами. Я позже узнал, что мотористы запустили двигатели, превозмогая полученные ранения. Быстро и не сговариваясь, они сделали то, что от них зависело. Они дали катеру ход, чем и спасли нас всех. Катер пошёл! Да еще как пошёл! Понёсся!
Разворачиваюсь. Если быстро двигаться навстречу самолёту, то время моего нахождения под обстрелом сокращается. Его же не сокращается, потому что боцман может вертеть свой пулемёт вперёд-назад. Тут наше преимущество.
Вот еще, Люба, важный нюанс: пока фашист разворачивался, он заметил, что мы потеряли ход, и решил, что мы теперь неподвижные. Это главная его ошибка! Если бы каждый у нас на катере сидел и ныл, они бы нас утопили. Если бы мы не чувствовали себя все как одно, я бы не рассказывал тебе эту историю, но я стою перед тобой живой и говорящий. Потому и думаю, что в тот миг решалась наша судьба. Решалась без оглядок на прошлое, но прошлым построенная и в сегодняшний день задвинутая.
Пока мы были без движения, пилот Савойи оценил ситуацию по-своему. Он решил атаковать нас, как неподвижную мишень. Меря весь мир по себе, он подумал, что мы уже не сможем…. он решил, что самое время нас бомбить.
От самолета отделились три бомбы. Паганини завел свой инструмент, и началась жесткая пулеметная дробь. Бомбы рвутся на том месте, где мы только что стояли. Ха! Это уже в трехстах метрах от нас! Веду катер и слышу, как на носу громко ржёт электрик, который стоит с запасными лентами. Думаю: «Чего это ему так смешно?»
Самолет опять пролетает над нами, но боцман всаживает крупнокалиберные пули ему в брюхо, прямо между поплавков. Мне видно, как они влипают в днище. Раз, два, три… всё! Машина, обладающая перед нами всеми преимуществами, оказалась поражённой. Мы победили её!
Оставляя за собой шлейф густого дыма, она летела над морем, и разворачивалась в сторону Варны, или там Констанцы… чёрт его знает… наверное, пилот надеялся – не всё потеряно, и он сможет долететь куда-нибудь, где он нужен…. нигде он был не нужен. Он проиграл при всех технических превосходствах. И теперь он дымил все сильнее и сильнее. Он летел к линии горизонта, надеясь дотянуться за той линией до своего спасения. Не дотянулся. Обрушился в море.
Никто его не найдёт на морском дне. Никто не принесёт ни его, ни экипаж на родину. Никогда не увидят его родные и близкие: ни жена, ни мать, ни отец. Так уж заведено: морские люди исчезают безвозвратно, не давая родным повода заниматься всякой ерундой, связанной с закапыванием мяса. Другое дело, его дети, если они есть, будут помнить, что их отец утонул и стал частью Чёрного моря, оттого, что ошибочно думал, будто это море – его часть.
Я не видел того человека, который хотел утопить меня. Сражался с ним, но не видел его лично, и он меня не особо разглядывал. Думал ли он обо мне? Наверное, думал, также как я о нём. Как теперь судить – рядить? Хотел ли я его смерти? Нет. Хотел ли он моей? Тоже нет. Мы бились, потому что нам была предоставлена такая возможность. Если бы нам была предоставлена возможность сидеть за столом и общаться, мы бы общались. Мы бы, может быть, веселились, подшучивали друг над другом, и никто бы не был обижен до такой смертельной степени. Что нас заставило убивать друг друга?
Павлик развёл руки. Его нелепая поза, удивлённое лицо, да весь он выражал гигантский знак вопроса, сплошное непонимание перед лицом неразрешимой задачки. Милюль вспомнила, как вчера такой же бравый капитан, тот же самый по сути человек стоял перед экипажем бронекатера, и никакого непонимания не было в его манерах. Она вспомнила, как он говорил о коммунизме, о каких-то неведомых ей пролетариях, которые должны обязательно кого-то победить. Милюль решила прийти на помощь и напомнить растерянному капитану о вспомнившихся со вчерашнего дня лозунгах:
– Быть может, всё так сложилось оттого, что должен победить коммунизм? – спросила она.
На лице Павлика отразилось некое сомнение, отбросив которое он возразил:
– Наверное, да. Только коммунизм тут ни при чём. Конечно, коммунизм несёт добро, а фашизм – зло. На земле добро всегда побеждает зло, только я, Люба, совсем про другое тебе рассказывал. Мы тогда победили не из-за коммунизма, и даже не из-за фашизма, каким бы зверским он не был. Конечно, у нас самое верное учение. Мы самое прогрессивное общество. Но в тот день всё это было ни при чём. Мы просто победили. Экипаж из семи человек победил экипаж из трёх. Может быть, их пилот оказался менее опытным, может быть, справедливость обернулась так, оттого, что нас было больше. Не знаю, почему. Никто не знает.
Я командую: «Глуши двигатели!» Катер встал, покачиваясь. После рёва моторов и кромешной стрельбы наступила тишина, и в это самое время далеко над берегом взошло солнце. Оно прорвалось сквозь разрывы в облаках, и лучи заплясали по рябой воде.
Даю приказ по катеру: «Всем наверх!» Экипаж вышел на палубу. Смотрю: мотористы ранены, один в плечо, другой в спину. Но не сильно. Царапины по военным меркам. Ну, думаю, второй бой за день, и опять, судя по всему, удачный.
«Боцман – говорю – достаньте из таранного отсека НЗ и выдайте команде по сто граммов спирта. Всем членам экипажа объявляю благодарность за умелые действия во время боя!»
Спрашиваю у радиоэлектрика: «Ты чего это ржал, когда на нас бомбы падали?» Он отвечает: «Когда я увидел, что бомбы прошли мимо, я в восторг пришёл».
Вот, думаю, чудак-человек: того гляди ко дну пойдём, а он, видишь ли, в восторг приходит. «Ладно – говорю – в восторг, так в восторг. А теперь обследовать состояние корпуса и механизмов».
Обследовали. Пробоины только над машинным отделением. Четырнадцать штук. Во всех отсеках сухо. Нос без повреждений. Рулевая система в строю. Старшина докладывает: «Для устранения повреждений по управлению моторами необходимо пятнадцать минут».
Радист сообщил радиограмму от командира дивизиона: «Следуйте в направлении Балаклавы». Катер лёг на заданный курс. Идем в Севастополь. Я стою в рубке и думаю: «Два боя подряд. Не миновать сегодня и третьего». Так всегда жизнь устроена: то ничего – ничего, а потом вдруг сразу и всё. Пока я размышлял, наступил ясный день. Вглядываюсь в бинокль. Когда же думаю, когда? Так мне и кажется, вот-вот самолет появится, или еще чего. Ничего. Море чистое и пустое.
На максимальных оборотах пролетели мы Чёрное море и подошли к Балаклаве. У входа в бухту встретили наших. Подошли к флагманскому катеру и отдали якорь. Я доложил командиру дивизиона обо всём. Он осмотрел наши повреждения, приказал принять на борт раненых красноармейцев и следовать на базу в группе из четырёх торпедных катеров, что мы и начали выполнять. Причалили, погрузили шестерых раненых в пустые торпедные желоба, и вышли из бухты.
Солнце село в море, когда мы в кильватерном строю шли обратным курсом. Крымский берег был в видимости, когда передний катер наскочил на мину. Взрыв! Столб пламени. Через мгновенье сбавляю ход, и вижу, на поверхности воды объятой огнем торчит таранный отсек катера, а на нём те, кто остался от команды. Бензин разлился вокруг и загорелся. Подойти вплотную и снять тех, кто спасся, мы не можем, потому что горит бензин, и если мы в то горящее пятно войдём, тут же сами загоримся.
Фашисты с берега увидали пожар и открыли артиллерийский огонь. То слева, то справа стали подниматься столбы от взрывов. Вот, думаю, ситуация. Идти нельзя: товарищи рядом гибнут, и стоять нельзя: того и гляди попадут по нам, а много ли нам надо? Те, которые на таранном отсеке, всё поняли и стали прыгать в огонь. Их шанс остался в одном: пронырнуть горящее пятно и вынырнуть за его пределами, чтоб мы могли их подобрать. Трое вынырнули. Им бросили конец и стали подтягивать к катеру. Одновременно я приказываю на малых оборотах дать задний ход. Так оттянули их метров на пятьдесят, и давай на борт затаскивать. А немцы-то всё прицельнее стреляют, всё ближе снаряды ложатся.
Я кричу радиоэлектрику, радисту и боцману: «Быстрей тащите! Сейчас все пойдём крабов кормить!» Вижу – двоих уже вытащили, а с третьим никак не справятся. Тут прямо в двух шагах от катера шлёп! Фонтан! Хочу дать команду: «Вперёд», ан слышу: этот хохотун мой опять ржёт, заливается. Отчего, думаю, у него на этот раз восторги? Только они того третьего затащили, я кричу: «Полный вперёд!» Двести лошадок подхватывают нашу скорлупку с места так, что нос задрался, и рвём мы оттуда на полной скорости. Давай, выноси!
Два других катера, как потом выяснилось, подняли ещё двоих матросов. Выходит, два члена экипажа погибли, и шесть раненных солдат тоже.
Уходим. Зову радиоэлектрика. «Шура – говорю – что тебя на этот раз на смех пробрало?» Он отвечает: «Это старшина первой степени Гаевский. Ему уже за сорок. Здоровый как лось! Никак его вытащить не могли. Он всё у нас выскальзывал, да как закричит: «Тащите меня за волосы!» Вот меня смех и разобрал». Тут и меня смех разобрал, потому что вся наша бригада знала старшину Гаевского. Где уж у него волосы водились? Но, что не на голове, так это точно.
Опять ночное плаванье. Теперь уже обратно. И видимость лучше. Мы разогнались, и море давай разгуливаться. Волны поднялись. Катер как блоха. С волны на волну прыгает. Вся команда на ногах пружинит. Все держатся руками, чтоб не биться о железо. Раненым в желобах вообще плохо.
Сбавляем ход, чтоб их не так сильно било. Мотористы на головы надели танкистские шлемы, чтобы башками о палубу не так больно было стучать, к тому же у них там жара и угарные газы, а оба с ранениями. Вот они и открыли люк машинного отделения. Для воздуха. Ну что ж, открыли, так открыли. Из машинного отделения вышел пар.
Слышу, вроде бы стрёкот в небе. Смотрю вверх. Там наш У-2 из эскадрильи ночных бомбардировщиков. Да, я её увидал, а она-то увидала меня тоже. Причём раньше, чем я успел подумать как это опасно. Открытый люк в ночи виден сверху светлым пятном. Вот она и сбросила пятидесятикилограммовую бомбу. В темноте бомба легла на воду впереди, метрах в пяти, наверное, по ходу катера, а взорвалась уже под кормой.
Как молотом по корпусу ударили! Я запоздало приказал задраить машинный люк, пригрозил кулаком в воздух. Что еще сделаешь? Тут смехотун Шурик появляется и спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, разрешите открыть огонь?» «Совсем ты, старшина, одурел! – отвечаю – Отставить!»
Вот, думаю, без царя в голове! Как он мог такое придумать? Ну ладно она там, на верху, баба-дура, сбрасывает бомбы на всё, что внизу светится. Что же я буду её сбивать? Она ж своя!
Ход наш совсем замедлился, при этом нос стал всё больше задираться к небу, а корма погружаться в воду. Командую: «Проверить отсеки катера!» Проверили. Все отсеки целые и сухие. Только кормовой заполнился водой. Переборка, отделяющая кормовой отсек от бензинового – сильно прогнулась. Укрепляем переборку, пытаемся выкачивать воду из кормового отсека. Какое там!
В таком положении, носом к верху, мы и шли. Всех раненых перенесли на нос. Спасённые тоже на носу сидят. Толку – ноль. Нос так торчит, что весь обзор мне перегораживает. Полный ход дать нельзя. Того и гляди, на спину перевернёмся. Еле-еле ползём, болтаемся на волнах как Ваньки-встаньки.
Два часа катер медленно полз, продавливая море кормой и тыча носом в звёзды. Мне было ясно, что если усилится волненье, если подует встречный ветер, если случится любое «если», мы не дойдём. По сути дела жизнь команды, раненых и пассажиров висела на волоске. Все усилия, которые могли приложить я и команда, если и влияли на возможность спасения, то очень незначительно. Вообще не влияли. Я стоял у штурвала и, сверяясь с компасом, пытался выстроить маршрут так, чтобы волны не били в борт. В общем, я занимался простейшей геометрией в приложении к реальной ситуации. Для того чтобы нам хватило горючего, я должен был двигаться по прямой к Геленджику. При этом я был вынужден забирать немного южнее для того, чтобы нас не ударяло под прямым градусом в борт.
Занимаясь этими маневрированиями, я постепенно всё яснее сознавал, что шансы дойти до берега съедаются гораздо быстрее, чем мили до заветной базы. Помимо осознания того, что стёкшиеся атмосферные и технические обстоятельства играют против нас, помимо нарастающего ощущения, что при таком медленном и кривом движении горючего не хватит на дорогу, ко мне стал приходить страх любой неожиданности.
Я представил себе, что нам встретится такой же самолет торпедоносец, как тот, которого мы недавно победили. Я подумал, что наш курс может пересечься с курсом быстроходной десантной баржи немцев, хоть это было бы совсем невероятно. Мой рассудок, бывший до сих пор моим союзником, теперь рисовал одну картину беспросветнее другой, и в финале всех сценариев была гибель.
Я моряк неробкого десятка. И до и после в моей жизни случались сражения с превосходящими силами противника. Никогда я не трусил, ни боялся, ни пасовал. А вот теперь…. теперь я незаметно для себя потерял уверенность. Я не заметил, как надежда куда-то делась, куда-то исчезла. Её место занял страх: самый обыкновенный, противный и обычный. Я начал бояться. С каждой секундой я боялся все сильнее. Каждое движение мысли добавляло сил моему страху, и он рос буквально на глазах. Никто не видел этого, никто не замечал, потому что все были заняты своим делом, или страдали от ран. Но внутри одного члена экипажа, внутри самого главного члена экипажа, внутри командира катера, внутри меня – творилась самая настоящая паника.
Если бы я дал ей выйти наружу, хоть на секунду! Взял бы да сказал: «Ситуация не в нашу пользу», или: «Не доплывем мы до базы», или еще чего брякнул. Тут я понял, что единственное моё правильное действие: молчать. Вот я и молчал. Молчал, и пытался справиться с направлением волны, с маршрутом и с собственным страхом одновременно.
Постепенно я уступил страху, и окончательно начал бояться. Я уже ничего не делал, кроме того, что боялся каждого следующего мгновения. Я боялся лишний раз пошевелиться. Мне стоило невероятных усилий даже держать штурвал. Если бы кто-то видел, как малодушен был я в тот момент! Никто не видел. Но я… я был тем самым человеком, который до трясения в костях боится беззащитности своего корабля, боится надвигающейся и неминуемой смерти всем членам экипажа, всем раненным и спасённым.
Тут радист сообщает: «Из полученных донесений командиров катеров следует: оба катера вернулись на базу. Потерь нет». Запрашивают мои координаты, а я их из себя ели выцеживаю, потому что боюсь. Даже говорить боюсь! Шепчу координаты. Радист три раза переспросил.
Нет, чувствую, нельзя так. Молиться, что ли начать? Вот до какой дикости дошло. Я молиться не умею, и никогда мне такая глупость в голову не приходила. Тогда я как взял, да как запел гимн Советского Союза:
«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь!
Да здравствует созданный волей народа
Великий могучий Советский Союз!
Славься Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот…»
Смотрю: вся верхняя команда гимн подхватила! Спасённые запели! Даже раненые губами шевелят. Может быть, ты не поверишь мне, но иначе как чудом, то, что случилось, я назвать не могу. Море утихло, болтанка прекратилась, и ветер как даст нам в спину! Как даст! Если бы мы под парусами шли, полетели бы как птицы. Но и так хорошо: добавил ветер ходу. Ничего, не переворачиваемся. Повеселело.
Так да сяк, а только к утру прошли мы Геленджик и вскоре уткнулись в берег Мезыби. Наш катер подняли, и начался ремонт. Пробоина в кормовом отсеке оказалась здоровенная. Метр в диаметре. Все, конечно стали нас поздравлять. Потом я отсыпался двое суток подряд, и меня наградили орденом.
Батя как услыхал эту историю, причём изрядно преувеличенную, так и решил, что я герой. На самом-то деле ничего героического. Просто плаванье выдалось насыщенное, ну и повезло. Он-то на севере не меньше моего хлебнул, и воевал не хуже на своей посудине. Так, что я эти разговоры про героизм – за шутку принимаю. Мы все одинаково немца били. Каждый человек изо всех своих сил.
* * *
– Вы что-нибудь поняли из этого рассказа? – спросил старый рак у присутствующих. Аудитория молчала.
– Так я и подумал – кивнул головой рак – вы ничего не поняли. Вот и Милюль тоже поняла лишь куски рассказанного: «молодой капитан» с кем-то бился, топил корабли, и самолеты, а те норовили потопить его. Милюль не знала и не могла вообразить даже половины того, о чем рассказывал ей Павлуша, как не знаете этого и вы. Непонятное ей летоисчисление, упомянутые города, порты и маршруты не рождали в её душе никаких ассоциаций. С таким же успехом Павел мог бы рассказывать ей о Персидском Конфликте, или о войне на Марсе.
Конечно, она сопереживала, она заражалась азартом, когда он рассказывал про первый и второй морской бой. Она волновалась за тонущих матросов и сочувствовала раненным мотористам, но всё-таки рассказ Павлика показался ей нагромождением жестоких дикостей. Особенно финал. Она живо представила себе, как это: «все одинаково» и при этом «каждый человек изо всех сил» бьют одного немца.
Наверняка немцу от такой экзекуции было совсем нехорошо. Вот Милюль и спросила:
– Павлик, зачем вы это делали?
– Что делали? – не понял вопроса Павлик.
– Зачем вы с отцом и другими людьми немца били?
Павлик отреагировал резко и неожиданно. Лицо его перекосилось, губы затряслись, а в глазах заблестели слёзы. В мгновение ока его облик потерял молодцеватую лихость молодого капитана. Дергая плечом и сжимая кулаки, он закричал на Милюль:
– Что ты себе знаешь? Что ты думаешь своей кочерыжкой? Ты тут как у Христа за пазухой жила. Ты бомбежку, наверное, только в киноновостях видела! А ты видела, как транспорт тонет? Ты видела, как тонула «Армения»? Там семьи с жёнами, детьми и все пошли на дно! Сорок тысяч человек, а дети малые, не такие надолбы как ты!
Ты хоть знаешь, как разбомбили Артек со всеми пионерами от восьми до шестнадцати включительно? На таких же, как ты бросали бомбы, и никто не спросил: «Зачем?» Никто не сказал, что это нехорошо. Прилетел немец и всё. И пустое место от Артека со всеми выдающимися детьми Советского Союза!
Не тебе оценивать: что хорошо, а что хреново! Вы все тут, кто сидел в тылу, над кем смерть не висела каждый день, вы все теперь здоровы о войне порассуждать. А с чего это? Вы о ней только и слыхали, что голос Левитана из репродуктора. А Левитан сам, такой же, как вы все! Тыловик. Так что сиди лучше молча и вари макароны!
Так же резко как начал, Павлик оборвал гневный монолог и сразу обмяк, поник, ссутулился, стал совсем похож на своего отца. Потом махнул рукой безнадёжно и сказал:
– Ладно уж, чего это я разошёлся как маленький? Не обращай внимания. Но макароны варить всё равно надо. Давай, что ли я тебе помогу тут?
Примирительный тон Павлика, а главное его предложение помощи показались Милюль не только конструктивными, но даже спасительными. Только что она лицезрела бурю и не знала: обижаться ей, пугаться, или взять да заплакать. Теперь же Милюль радостно согласилась:
– Давай! Тем более, если честно, я не помню что и как надо делать.
Формулировка «не помню» показалась ей уместнее честного «не знаю». Но и так вышло скверно. Павлик не проявил никакого сочувствия, а напротив, достаточно неуместно заржал:
– Может, ты, Люба, башкой ушиблась? Какую такую премудрость ты ухитрилась забыть? Тут ни квадратных корней, ни интегралов нету. Наливай, да насыпай. Или забыла, как керосинку разжечь?
Милюль кивнула, чем неожиданно разгневала Павлика. Настроение молодого капитана оказалось таким же переменчивым, как погода у моря:
– Ах, так! – возмутился он – ну, ладно, керосинку я разожгу, но знай, если ты и дальше будешь надо мной издеваться, я за себя не отвечаю!
Он довольно ловко разжёг обе конфорки, тут же налил в две кастрюли воды из медного крана и, поставив их на огонь, обернулся к Милюль:
– Ну? – не то спросил, не то скомандовал он, но Милюль не знала, что надо делать и продолжала испуганно молчать.
– Понятно – заключил Павлик – мы онемели и одеревенели. Хоть бы макароны потрудилась достать – скроив обиженное лицо, он совершил непонятные Милюль манипуляции: открыл фанерные дверцы, извлёк бумажные пакеты с торчащими из них серыми трубками и несколько стеклянных банок с коричнево-красным содержимым. Небольшим приспособлением с деревянной ручкой посрывал с банок жёлтые замасленные крышки и швырнул их в помятое ведро. Затем достал откуда-то снизу и побросал в раковину множество луковиц. Повернувшись к Милюль, спросил:
– Тебе не стыдно?
– Скорее, любопытно – созналась девочка.
– Вот сволочь! – обозвал он её и, чертыхаясь, покинул камбуз.
Милюль подошла к кухонному столу. Незнакомые предметы, извлечённые Павликом из шкафов, были мало похожи на еду, и всё-таки это была еда. Милюль достала из пакета одну длинную неровную серую трубку, повертела её, разглядывая, и попробовала откусить край. Трубка хрустнула, расщепившись косо вдоль. Милюль разжевала безвкусную мучную твёрдость и, проглотив, заключила: есть это трудно, но можно.
В железных кастрюлях грелась вода и Милюль осенила догадка: если трубки засунуть в воду, то они обязательно разбухнут и помягчают! Она взяла все, лежащие на столе пакеты и высыпала серые трубки в одну из кастрюль. Вода в кастрюле перелилась через край и зашипела на раскалённой плите.
– Ой, как много тут воды! – подумала вслух Милюль – как бы огонь не загасить!
Схватив висящий на стене здоровенный половник, Милюль пустилась спешно вычерпывать лишнюю воду из кастрюли и выливать её в набитую луковицами раковину. Когда вода в кастрюле понизилась до безопасного уровня, Милюль вдруг задумалась: что же теперь надо делать с этими самыми луковицами? Взяла одну, покрутила её так да сяк, содрала промокшую снаружи коричневую шелуху. Без шелухи луковица выглядела довольно аппетитно. Не долго думая, Милюль взяла, да и впилась зубами в блестящую луковую перламутровость.
Лук был не горький. Он вообще не горький. Он ядрёный на самом-то деле, но этот был особенно ядрёным. Ядрёность луковая моментально наполнила рот, кинулась в нос и в мозг! Слёзы так и брызнули из Милюлиных глаз. Проглотив отгрызенное, она широко открыла рот и несколько раз резко выдохнула. Не помогло. Тогда Милюль пальцем залезла в одну из стеклянных банок, зацепила прохладное красно-коричневое месиво и отправила его в пылающую пасть. Полегчало. Милюль ещё несколько раз попробовала содержимое банки. Это было тушёное мясо, точнее фарш, вполне пригодный для еды.
Милюль съела всё, что было в первой банке, и уже перешла на вторую, когда вспомнила про серые трубки, варящиеся в кастрюле. Заглянула в кастрюлю.
Густо помутневшая вода уже закипала, и её уровень опять показался девочке опасно высоким. Она вновь зачерпнула лишнюю воду и обнаружила, что серые трубки не варятся, делаясь мягче, а довольно подло растворяются, превращая воду в белёсый кисель. Милюль схватила большую дырявую черпалку и выловила несколько склизких остатков серых трубок.
Трубки выкатывались через края и плюхались обратно, в кастрюлю. Некоторые позволяли донести себя до пустого кухонного стола и вываливались на столешницу, распространяя вокруг себя премерзкие лужи.
Изгадив почти всю столешницу, Милюль возмутилась:
– Что за гадость! И зачем я это всё делаю?.. Разве такое можно есть?
Она схватила со стола одну из трубок, но та выскользнула между пальцев. С четвёртой попытки девушке удалось донести неизвестную еду до рта и зацепить зубами. Твёрдая начинка легко крошилась, а обволакивающая её скользкая субстанция имела привкус сырого теста. Не могло быть сомнения: получилась несъедобная гадость.
Без всяких надежд на улучшения, Милюль заглянула в кастрюлю и увидела, что в кипящей там серой массе трубки вовсе растворились. Зачерпнув большой ложкой бурлящей серости, она попробовала её на вкус и тут же обожглась. Выплюнула горячую безвкусицу, в отчаянии бросила ложку и, схватившись обеими руками за обожжённый рот, завыла.
Тут и вошёл пожилой капитан. Тот, который «батя», с бородой. Он оглядел кухонное разорение, заглянул в обе кастрюли (с кипящей чистой водой и с бурлящей серой гадостью) оценил заваленный склизкими трубками стол, мокрые луковицы в мойке, а также банки с фаршем и без. Укоризненно взглянул на Милюль и спросил:
– Нарочно бедокуришь?
– Нет! – отчаянно замотала головой Милюль – мне сказали кашеварить, а как – не объяснили!
– Ступай на корму – велел старый капитан – я уж за тебя докашеварю, а ты поглядишь, как рыба идёт. Сама же хотела.
Никак не припоминалось Милюль, чтобы она хоть когда-нибудь хотела смотреть как «идёт рыба». Насколько она знала, рыба в принципе никак не может «идти». Но и спорить со старым капитаном было не к месту. Она задумалась только на миг: надо ли выражать ему свою благодарность? Решила всё-таки выразить и, присев в книксене, сказала:
– Очень вам благодарна!
Капитан, оправдывая её сомнения, выпучился удивлённо и настороженно, потом вздохнул, махнул рукой и буркнул, отворачиваясь:
– Иди уже.
Топая по железным ступенькам, Милюль выбежала на палубу, прошла на корму, где тарахтела и скрежетала лебёдка, вытягивая из реки большую сеть. Сеть переваливала через борт подвижную искрящуюся массу. Пахло водой. Очень сильно пахло водой. Самой эссенцией воды, её духом… рыбой пахло. Два матроса в брезентовых ветровках и огромных сапогах, стоя по краям бункера, виртуозно перехватывали ползущую из воды сеть. Третий, орудуя деревянной лопатой, подгонял вываливающуюся из сети рыбу, а та, серебрясь неисчислимым множеством боков, лилась и лилась бесконечным живым потоком.
У Милюль даже дыхание захватило от такой красоты. Дремавший до поры голод проснулся и зашевелился во всём теле, и слюни потекли из открытого в восторге рта. Один из матросов глянул в её сторону, добродушно улыбнулся в бороду и крикнул второму:
– Игнатий, смотри, как наша Любаня обалдела!
– Хороший улов! – отозвался Игнатий, не расслышавший товарища сквозь грохот лебёдки и плеск бесконечного множества хвостов.
Любаня же, напружинясь подобно охотящейся кошке и растопырив пальцы, приблизилась к бункеру, прошла вдоль края к тому бородатому матросу, который её заметил и, встав рядом с ним, одним ловким движением, выхватила из ртутно-серебряной струи целую живую рыбину.
Рыбина билась в её руках, норовила выскользнуть. Её полупрозрачный хвост совершал мощные движения, а чешуя так и мерцала, то серебрясь тускло, то вспыхивая радужными бликами.
Девушка посмотрела в глупые рыбьи глаза и хищно оскалилась. Она не только хотела есть, она чувствовала, что прямо сейчас и начнёт. Рыба бессмысленно пялилась сразу во все стороны, не соображая, как в двух, направленных на неё глазах буйствует и торжествует неумолимо надвигающаяся смерть.
– Ты это… отойди, не мешай!.. – крикнул через плечо бородатый матрос.
Милюль сделала два шага в сторону, отвернулась к реке, чтобы не привлекать к себе внимания, и впилась зубами в чёрную рыбью спину. Рыба задёргалась с удвоенной силой. Спинной плавник больно уколол Милюль в щёку. Чешуя облепила нёбо и язык, но, не смотря на боль в щеке, не смотря на чешую, на привкус сырой воды и рыбьей слизи, Милюль ощутила и вкус нежнейшего сырого мяса!
Урча, она вновь и вновь кусала и быстро, почти не жуя, проглатывала свежие куски. Это была настоящая еда! Не то, что луковица, безжизненный тушёный фарш и всякая гадость из сырого теста! Периодически Милюль сплёвывала надоедливую чешую и колючие рыбьи кости и всё ела и ела.
Неаккуратно обгрызенный скелет с бессмысленной головой полетел за борт. Милюль вновь повернулась к бункеру. Лебёдка прекратила греметь. Сеть опустела, и матросы укладывали её, выбрасывая в бункер запутавшуюся редкую рыбёшку. Милюль облокотилась грудью о край бункера и выхватила вторую рыбу. Тот, что с лопатой, заметил это и крикнул ей:
– Чего, Люба, нравится? Погоди, привыкнешь!
Конечно, он не ожидал увидеть, как юное создание, девочка-подросток, школьница, впервые вышедшая с папой на рыбный промысел, вопьётся зубами в живую рыбину и примется пожирать её, словно медведь, или ещё какой хищник, но совсем не как человек. От удивления рыбак открыл рот и чуть не свалился в полный рыбы бункер.
Пока он пялился, Милюль быстро и сноровисто ела. Она уже обрела некоторый навык и теперь не кололась о плавник и о кости. Как подсолнечную шелуху, она быстро выплёвывала чешую.
– Э! – наконец смог выкрикнуть ошалелый рыбак с лопатой – ты это чего?
Поднеся к губам указательный палец, Милюль сказала ему: «Т-с-с!» Это подействовало. Некоторое время матрос молча наблюдал за девочкой, но вскоре потоки прибывающего удивления развернули его сознание и прорвались в нарастающем вопле: «Эй! Ребята! Смотрите, чего она творит! Этого не бывает! Она нашу рыбу жрёт!»
«Рыбы ему, видишь ли, жалко» – подумала Милюль, и, выкинув скелет за борт, нагло улыбнулась. Выглянувшие из-за бункера матросы не увидели того, как Милюль кушает. Она стояла, спрятав руки за спиной и, как ни в чём не бывало, улыбалась миру.
– Чего орёшь, баламут? – обратился первый матрос к жадине – не видишь, мы работаем?
– А ты посмотри, Фёдор Николаич, у ней вся рожа исцарапана – не унимался этот.
– Ну и что? – резонно возразил Фёдор Николаевич – Мало ли чего?
И оба матроса снова скрылись за бортиком бункера. Милюль же выхватила третью рыбину и, нагло глядя на ябеду, вгрызлась ей в хребет у основания головы. Лопатоносец потерял дар речи. Он только молча хлопал ртом, как та самая рыба, которую стремительно поглощала Милюль. Рыба съелась в мгновение ока. Милюль схватила четвёртую и, оскалив зубы, громко рыгнула. Матросу, судя по всему, стало совсем не по себе. Он бросил лопату, спрыгнул на палубу и убежал, крича. Теперь никто не мешал девочке и она не спеша, ела вкусных рыб.
Милюль увлеклась трапезой, и не сразу заметила, как сейнер выключил двигатели и лёг в дрейф. Постепенно она почувствовала перемену ситуации, огляделась и увидала, что рыбаки, выбиравшие рыбу из сети, прекратили работу и молча смотрели на неё из-за бункера. С другой стороны приближались оба капитана и тот, жадный матрос. Показывая на Милюль пальцем, жадный кричал:
– Смотрите! Говорю же я вам, она одну рыбу за другой так и лопает, так и лопает! А рычит как лев!
– Опять ты, назола! – обратилась к нему Милюль, и бросила в ненавистного назолу скелет.
Скелет описал идеальную дугу над палубой и угодил головой ему в череп.
– А! Она бешенная! – заорал ушибленный рыболов, хватаясь за лоб.
– Доченька, что с тобой? – спросил бородатый капитан.
– Не мешайте мне – спокойно, как ей казалось, посоветовала Милюль – я обедаю.
– Видали? – не унимался назойливый жмот – она не в себе!
– Любка, кончай беситься! – крикнул Павлик.
– А может, её к доктору надо? – предложил тот матрос, которого звали Игнатием.
– Конечно надо – согласился Фёдор Николаевич – от сырой рыбы и заболеть можно.
– Да она сбрендила! – заявил ушибленный.
– А ну, тихо! – рявкнул старший капитан и, обращаясь к Милюль, вкрадчиво предложил – пойдём, Люба, я тебя спать уложу.
– Я не хочу спать – отказалась Милюль – и никакая я вам не Люба. Я Милюль.
Павлик охнул. «Батя» нахмурился, а ушибленный матрос вновь заверещал:
– Что я вам говорил? Она сбрендила! Её в дурдом надо!
Терпение у Милюль кончилось. Она решила прекратить пустые разговоры, подцепила очередную рыбу и вгрызлась в неё. Матросы же, как по команде, бросились к ней с обеих сторон. Может быть, они и ожидали сопротивления, но они никак не ждали того, что Милюль, держа извивающуюся рыбу во рту, с необычайной ловкостью вскочит на бортик бункера, наискосок прыгнет на другой бортик и окажется у них за спиной. Бегущие с разных сторон матросы врезались друг в друга и попадали, образовав маленькую кучу – малу.
Спрыгнув на палубу, Милюль снова взяла рыбину в руки и прокричала:
– Дадите вы мне пообедать, в конце-то концов?
Они не ответили. Наоборот, повскакав с мокрой палубы, неуклюже и коряво, падая и мешая друг другу, побежали вокруг бункера за ней. Только бородатый капитан не бегал. Он смотрел на неё с такой жалостью, будто она и впрямь была больной.
Но Милюль-то знала, что она не больна, что она куда здоровей и проворнее их всех. Ловко прыгая и уворачиваясь от поскальзывающихся мужиков, она домчалась до рубки и вскарабкалась на крышу. Матросы столпились внизу. Тот самый, ушибленный, полез, было за ней, но она снова ударила его в лоб. На этот раз пяткой.
Матрос грохнулся бы на палубу, кабы его не поймали остальные. Глядя на растерявшихся преследователей, Милюль съела добычу и задумалась о том, как бы ей опять добежать до бункера. На палубе тем временем царила суматоха. Дважды ушибленный выл и катался, держась за голову. Фёдор Николаевич пытался оказать ему помощь, а Павлик с Игнатием подпрыгивали и уговаривали её слезть, при этом Павлик совершенно нелогично обещал надрать ей жопу ремнём.
Наконец, Милюль придумала, как добраться до заветной цели и, встав на ноги, сообщила: «Пойду кораблём рулить, а то, смотрю, никто не рулит» – тут она развернулась и двинулась в сторону носа.
– Беги в рубку, Павлик! – раздался сзади и снизу голос Игнатия – а я её тут догоню!
Молодой капитан побежал вдоль левого борта. Милюль же кошкой спрыгнула на правую сторону и устремилась назад, к бункеру. «Очень мне надо рулить вашим тазом» – пробормотала она на бегу.
Игнатий карабкался на крышу и не успел уследить за Милюлиным манёвром. В три прыжка она вновь оказалась у бункера, схватила сразу две рыбы и оглянулась назад. Старший, бородатый капитан, который не гонялся за ней, не ругался, а лишь печалился, так и стоял, глядя на неё. Погрозив на всякий случай ему рыбой, Милюль спряталась за бункером и продолжила обед.
Она ела самозабвенно. Каждый кусок рыбьего мяса, откушенный и проглоченный, рождал в ней неописуемое чувство восторга. Она ощущала, как он тает во рту, как проваливается в пищевод и движется там, оставляя за собой прохладный и вкусный след. Она чувствовала, как он падает в желудок и только там окончательно исчезает, превращаясь в неуловимую частицу сытости, наполняющую всю Милюль целиком.
Сытость приходила так же медленно, как медленно заполняется нижняя колба песочных часов. Может, и прав был тот, ушибленный, насчёт того, что заполнить пустоту мог только весь сегодняшний улов. А может, и улова было бы мало? Может, во всей этой реке нет того количества рыбы, которое ей, Милюль, надо обязательно съесть?
Симфония гастрономических чувств маленькой обжоры была безобразнейшим образом прервана. С обеих сторон выскочили тихо подкравшиеся рыбаки и попытались её поймать. Наверное, они думали загнать её в тупик. Они не подозревали, что за кормой сейнера, за задним бортом, который они считали краем и границей поля игры, открывается бескрайний простор возможностей! Их сознание было замкнуто пределами судна, но Милюль знала куда больше них! Мир её был тысячекратно шире этой облупленной палубы! Она управляла ситуацией, а не эти ограниченные инвалиды в больших сапогах!
Дико хохоча, Милюль вывернулась из засады, прыгнула к бортику и, обернувшись, крикнула: «Простофили!»
– Куда?..
– Стой!..
– Утонешь, дура! – неслось ей вслед, когда спина девочки коснулась воды.
Вода упругим толчком встретила её и расступилась, впуская в себя. Холодная, она обожгла лицо и кисти рук. Морозным потоком устремилась за шиворот и сомкнулась над ней. «Сейчас я буду тонуть – подумала Милюль – должно быть, это очень неприятно». Будто подтверждая эту догадку, вода хлынула в нос и рот. Она обожгла бронхи, скручивая их в болезненные жгуты. Ужасом вода ворвалась в самый мозг тонущей девочки и мгновенно парализовала волю. Милюль видела свою тень, движущуюся рядом, в желтоватой мути. Она видела пузыри воздуха, покидающие её. Чувствовала, как они, словно прощаясь, мимолётно щекочут щёки и уходят вверх. Безвозвратно. Навсегда. Милюль стало больно и очень обидно за что-то. Крайняя степень одиночества навалилась на неё неизмеримой массой, но очень быстро унеслась вслед за пузырями. Стало всё равно. Вместе с гигантским равнодушием наступил конец и обиде. Обида перестала жить в её душе, и одиночество удалилось, как нечто мелкое и бессмысленное. Следом так же уменьшилось и растворилось равнодушие. Что за равнодушие такое? Нет никакого равнодушия. Всё прекратилось.
Глава пятая Среда
– У Милюль выросли ноги. Довольно длинные. Гораздо длиннее рук. Хвост всё же оставался привычнее и удобнее ног, поэтому ноги, хоть и выросли, но непонятно зачем. Изредка Милюль ими дёргала. Что ещё с ними делать? И думать о них нечего.
Задуматься о себе заставляли растущие руки. Но чтобы задуматься, надо остановиться, замереть неподвижно среди толстых стеблей и изобильной ряски, там, где никто тебя не заметит, не съест. Она задумывалась о руках. Висеть неподвижно и думать значительно удобнее, если при этом зацепиться рукой за стебель, или облокотиться о твёрдое дно. Руки не только требовали, чтобы о них думали, но и оказывались очень даже полезными для того, чтобы думать о них, о руках.
Какой-то замкнутый круг получался. По большому счёту выходила полная бесполезность. Надо было бы так простроить ход мысли, чтобы вырваться из замкнутого круга. То есть мысли о руках не должны заставлять её, Милюль, замирать в убежищах. Эти мысли должны происходить как-то иначе и тогда они позволят додуматься до чего-то ещё. Или начать с рук? Может быть надо проследить, чтобы руки не только позволяли зацепиться за что-либо, но и что-то ещё такое совершить? Но если не зацепиться, то думать об этом катастрофически нельзя. Вынесет на открытое место, а там того и гляди, тебя кто-нибудь съест, пока ты в задумчивости. Всегда надо спешить, чтобы оставаться в живых. Так и вертелась её мысль, не находя никакого проку ни в ногах, ни в руках, ни в думах о них.
Древнегреческий мудрец Сократ однажды заявил: «Человеческое сознание вечно будет направлено на осознание самого себя во вселенной и так же вечно эта цель будет недостижима». Он говорил о человеческом, потому как сам был человеком, а не раком. Ему и невдомёк было, что каждое живое существо на Земле, не взирая на объёмы своей памяти и силу интеллекта, обязательно впадает в такой же замкнутый поток.
Разница между нами, раками и лягушками состоит лишь в количестве приводимых аргументов и отвлечённых образов, кои никакой пользы не приносят, а лишь ещё больше запутывают мыслящего.
Для примера можно сравнить человека и медузу. Осознавая себя, человек может вспомнить трёхколёсный велосипед с красивым сиденьем, окружающие его детство пейзажи и ситуации. Медуза может вспомнить солнечные блики на воде и… и всё. Нет у неё ни ситуаций, ни велосипедов. Но, не смотря на это, результат потуг её мысли оказывается, как правило, таким же, как у «царя природы». Повертев себя так и этак в окружающей вселенной, прикинув соотношение величин, продолжительностей, случайностей и прочего, медуза приходит к такому же выводу, что и среднестатистический человек: «Хватит вспоминать. Надо жить дальше». По сути дела результат этого процесса называется: «Ничто».
Конечно, есть уникальные личности, которым удалось прорваться сквозь замкнутый круг пустых мыслишек и жизненных необходимостей. Этим уникумам удалось систематизировать химические элементы, расщепить атом, построить космические ракеты и даже красиво разукрасить матрёшки. Но даю клешню на отсечение, даже эти люди порой смотрели на вселенную, сравнивали себя с нею и пытались осознать неосознаваемое. Рано, или поздно, каждый из тех, кто смог прорваться сквозь бесконечный шквал условностей, домыслов и баек наподобие тех, которые я рассказываю вам, приходили к той же мысли, которую изначально знает каждая кристаллическая частичка кварца, называемая песчинкой: они говорили себе: «Я – песчинка во вселенной».
Тем не менее, мы с вами знаем: Ломоносов, Менделеев и Циолковский – потому и незаурядны, потому и вышли за пределы общепринятого, что нашли отгадку неразрешимого и помогли другим расширить мир.
Что может быть интереснее, чем найти отгадку какого-нибудь вопроса? Что может быть ценнее, чем разорвать замкнутый круг мысли: «Зачем мне руки, если они помогают лишь думать о руках?» Выход из замкнутого круга находится где-то на самой его грани. В том месте, где мысль сталкивается с необходимостью её реального применения.
Милюль о грани не думала. Она ощущала своё бытиё так же, как ощущает его каждое живое существо, каждая бактерия, зерно, или каждый кристалл камня. Она занималась собой, так же, как большинство существ. Все вокруг занимаются тем же.
От того и выросло на Земле всеобщее непонимание. Мы, раки, не понимаем песчинок. Они – нас. Мы не понимаем людей, люди – всяких живых тварей. Но мало того! Люди не понимают ещё и друг друга. Порою один человек видится другому как некое нелепое и неуместное существо, либо даже предмет. Даже друг в дружке никто не желает увидеть отражение вселенной. Чего уж тут говорить о камнях, о лягушках и о нас, раках-отшельниках? Нечего говорить. Вот я говорить и не буду.
А буду я рассказывать про маленькую девочку, которой пришлось пронестись сквозь целый век жития человечества. Ей довелось промелькнуть яркой звездой на фоне разных эпох. Удастся ли ей осознать себя, понять, в конце концов, где она находится и чего ради её туда, неизвестно куда, занесло?
Даже если удастся, то не зря ли? Думаю, что не зря! Не зря и не задарма проживаем мы свои маленькие жизни. Не зря мы собираемся и беседуем на этом морском берегу. Даже самое утлое судёнышко не зря выходит в море. И Вселенная не зря крутит галактики и планеты.
Вон там, под водой, находится огромная колония, под названием коралл. Это целый город, построенный массой одинаковых на наш взгляд зверьков. Каждый из них рождается, строит себе домик, рожает детей и умирает. На его маленьком домике дети и внуки строят свои домики и тоже умирают. Так продолжается до тех пор, пока не случится чудо. То есть, пока нефть не выльется из большого танкера. Но она обязательно выльется и тогда всё прекратится. Колония кораллов задохнётся под большим нефтяным пятном, и всё. Миллионы существ, годами строящие домики и, если хотите, цивилизацию, вдруг, в считанные дни задыхаются. Коралл становится мёртвым.
Позже на опустевшую ветку заселятся всякие полипы. На ней начнут гнездиться мелкие ракушки. Жизнь не исчезнет совсем. Может быть, через несколько лет поблизости появятся новые колонии кораллов. Только вот та самая колония, о которой я говорил, больше не возродится. И всё из-за какого-то нефтяного пятна, из-за чуда, необъяснимого и непостижимого никем из погибшей цивилизации. Чудо, друзья мои, это чаще всего трагедия, выпавшая из понятных её участникам причинно-следственных связей.
– Как же? – возразил рак интеллигентной наружности – сами же сказали, колония погибла из-за нефтяного пятна!
– Да. Из-за пятна. Но это пятно видели мы. Это мы знаем: танкер – ни с того, ни с сего – сбросил нефть. Кто из жителей коралловой колонии мог это знать? Кто из них мог предвидеть причины и оценить следствия?
– Могли бы, будь они полюбознательнее – пробурчал интеллигент.
– Ерунда, ерунда, и ещё раз ерунда! У всякого мыслящего существа, как и у каждого сообщества, есть пределы возможных знаний. Сколько человеческих цивилизаций разрушилось за время бытия нашей планеты? Сколько колоний, муравейников и других видов жизни бесследно исчезли? Нет им числа. Неужто вы думаете, что гибнущие в наводнении муравьи имели возможность найти объяснения постигшей их неприятности?
– Конечно да! – радостно воскликнул интеллигентный оппонент пожилого рака – для этого и придуманы науки, история, философия. Для этого создана письменность и выработана система передачи знаний от одного поколения другому. В конце концов, для этого создано искусство!
– Вы правы, коллега, всё это есть – согласился старый рак, и тут же добавил – да только зря. Много ли вы прочли литературных произведений, созданных трилобитами? Эти существа обитали на планете миллионы лет. Их раковины могли бы рассказать нам куда больше, чем ракушки рапанов. Однако теперь вы их нигде не найдёте. Трилобиты вымерли, а все прекрасные произведения их, трилобитового искусства, покоятся вдали от современной береговой линии.
Да что нам углубляться в подобные дебри? Вот, например, цивилизация инков существовала многие тысячелетия. Невероятные глубины человеческой мысли хранились на их узелковых письменах. Инквизиция отыскала и уничтожила все узелковые письмена до единого. Вот и всё. Никакой письменности не осталось. На мой взгляд, это такая же история, как и с нефтяным пятном.
– Ну, коллега, вы опять окунаете нас в мир людей – развёл клешнями интеллигент – люди постоянно только и разрушают собственные цивилизации. Они безумны.
– Может быть и безумны – покрутил усом старый рак – может быть. Но я рассказываю не о безумии. Это мне неинтересно. Я-то, как раз, склонен предполагать, что они, как и мы, как и все твари на Земле, пытаются осмыслить личное и даже общественное бытиё. Пытаются и не могут понять: что за необъяснимые пятна заставляют бесследно исчезать одну страну за другой? Что за невидимый, но ощутимый рок раскалывает империи и лишает смысла труды множества рук и голов?
По идее они должны догадываться о божественных сущностях, влияющих на их жизнь извне, но параллельно они пытаются найти объяснения произошедшим бедам в причинно-следственных связях. Занятие это бесперспективное, хоть и увлекательное. Всё равно, как лягушке пытаться осмыслить для чего вдруг у неё отросли руки, когда и понимать тут нечего. На самом то деле, кроме чуда никаких движущих сил вселенной нет и нет кроме него никаких объяснений всему живому и сущему.
Ну, так я вернусь к нашей Милюль. В конце концов, дурацкие мысли о выросших руках оказались лишними, и отошли сами собой. На смену им пришло нечто иное.
* * *
«Всё-таки достали» – подумала Милюль, ощущая холодную влажность на лице. Открывать глаза не хотелось. Милюль помнила, как она только что тонула в мутной, холодной реке. Она помнила, как перед тем гонялись за нею бородатые рыболовы, и ей совсем не хотелось снова видеть тех жадных дядек. С другой стороны тот факт, что она не утонула, не мог не радовать Милюль. И Милюль решила радоваться.
Она совершила попытку раскинуть руки, но руки оказались спеленатыми. «Точно! В сеть поймали и теперь не отпустят! Чего им от меня надо?..» – проворчала она про себя и решила незаметно приоткрыть один глаз, чтобы сориентироваться.
Приоткрыла, но это мало что дало. Обзор закрывала чья-то мохнатая, рыжая голова, к которой Милюль была положена лицом. Тем не менее, ей удалось установить: она лежит на правом боку, никакой сети на ней нет, а находится она в каком-то ватном стёганом коконе. Под головой что-то мягкое, похожее на подушку. Рядом, в таком же коконе лежит спиной к Милюль рыжая… не поймёшь кто. Ещё Милюль зафиксировала лёгкое покачивание пола, звучащую невдалеке странную музыку и близкое, хоть и негромкое тарахтение мотора. Получалось, она опять на судне.
Прохладная влажность на лице не могла быть связана с недавним плаванием, потому что Милюль чувствовала, что мокрое только лицо, а всё остальное в сухости и тепле. Значит, если и достали её со дна речного, то всё равно успели высушить, засунуть в тёплый кокон и положить рядом с неизвестно кем.
Милюль решала: проявлять, или не проявлять признаки жизни. С одной стороны, лучше проявить, иначе никак не удастся оглядеться. С другой стороны, а ну, как опять начнётся «не пойми чего»? Хоть вообще не просыпайся. «Но просыпаться всё-таки придётся, потому что от себя не убежишь» – сказала себе Милюль и перевернулась на спину.
Никакой крыши сверху не было. Там было небо, но очень пасмурное. По серому фону полз клочковатый пар, или туман. Запах реки и влажности буквально окутывал лицо и залезал в нос.
«Какая дикость! Я лежу на палубе» – догадалась Милюль. Над нею медленно проплыло бетонное брюхо высокого моста. Стало ясно, лицо намокло от тумана и росы. Значит, она давно уже здесь валяется, а это в свою очередь, значит, что «не пойми чего» вот-вот должно начаться. И оно началось.
Перед Милюлиным взглядом возникло веснушчатое лицо достаточно взрослого юноши с торчащими во все стороны патлами, улыбнулось и заорало:
– Товарищи, Громова очухалась!
– Да ну?
– А чо так рано? – ответили невидимые товарищи.
Слух резануло это самое «чо». Оно демонстративно торчало, грозясь перепортить жизнь своей агрессивной ущербностью. Милюль стало неприятно, и она закрыла глаза.
– Ой! Опять заснула! – удивился голос того патлатого, который торчал над ней – да она вся мокрая от росы!
Деваться было некуда. Милюль снова открыла глаза и сказала этому, патлатому:
– А ну развяжи меня. А-то хуже будет.
– Чего? – не понял патлатый.
– Вынь меня из этого кокона, говорю.
– Пожалуйста – обиделся патлатый – я думал, ты и сама с руками – он необычайно легко вжикнул вдоль кокона какой-то жужжащей штукой и кокон распахнулся. Это было похоже на чудо.
Милюль села, взяла край разъехавшейся стёганки, состоящий из неисчислимого множества одинаковых маленьких железочек. Таких застёжек ей видеть ещё не приходилось.
– Похоже, она ещё не совсем отошла! – заявил патлатый, обращаясь куда-то в бок.
Милюль оторвалась от созерцания странной застёжки и посмотрела на тех, с кем он делился наблюдениями. Люди на этот раз были абсолютно незнакомые. Даже намёка на похожесть кого-то с кем-то не сохранилось. Не было смысла и гадать: кто есть кто. Двое юношей стояли чуть поодаль, прислонясь к борту и смотрели на берег. Один был прилизанным брюнетом в синих, расклешённых книзу штанах и такого же покроя курточке. Второй, подстриженный ёжиком, был одет в свитер грубой вязки и серые, невыразительные брюки со стрелочками. Сам патлатый, что первым появился в поле её зрения, был одет в клетчатую рубашку, распахнутую брезентовую ветровку и широкие парусиновые штаны. Он сидел рядом на корточках и чего-то ждал.
Милюль оглядела палубу и корму. Никакой это был не корабль, а самый обычный катер, потому что палубы не было, а если и была, то всё равно это была не палуба, а имитирующее паркет днище, окружённое бортами. Корма катера представляла собой возвышение, или кожух, под которым тарахтел мотор. Дымок вился из маленькой выхлопной трубки.
Сразу за кормой, образуя узкий коридор, уходили назад усаженные молодыми тополями берега. Медленно таял в тумане ажурный мост. Справа от Милюль, уткнувшись лицом в стёганый мешок, спала неизвестная тётенька, или девушка… не разобрать.
Милюль поёжилась от утренней свежести, и обнаружила, что в очередной раз стала больше и взрослее. Совсем по-иному ощущался собственный бюст, перетянутый тайной подпругой с лямками на плечах. Она на всякий случай потрогала его, от чего патлатый попутчик хихикнул и спросил:
– Чего, всё маешься?
– Чем маюсь? – уточнила Милюль.
– Да-а-а-а – протянул патлатый, закатывая глаза под лоб – задали вы с Алкой жару на Ленинских горах! Не мудрено что душа не на месте. Видишь, она всё дрыхнет – он мотнул головой в сторону спящей Алки.
– Я этого не помню! – заявила Милюль и подумала про себя: «Сейчас он удивится и начнёт говорить про потерю памяти».
– А никто и не сомневался – патлатый и не думал удивляться – вы с Алкой столько портвейна выжрали, что и у мужика бы память отшибло. Сначала вы плясали как очумелые, потом пели гимн, потом кричали: «Прощай, школа!», потом лезли целоваться, а когда мы сбежали от всего класса и сели на этот катер, вы заснули на полу. Пришлось вас запихивать в мешки как червяков! – тут он радостно заржал, и Милюль постановила себе держать его за дурака.
– Глупости! – сказала она – я никогда бы так себя не повела!
В этот момент в её животе задвигалась, распрямляясь, дремавшая досель пружина. Стало муторно и нечто невероятное двинулось из желудка в пищевод с той же настойчивой силой, с какой вчера двигалась в другом направлении вода мутной реки. Милюль успела вскочить на ноги и свеситься через борт. Кислая жидкость фонтаном низверглась из неё. Из глаз посыпались искры и полились слёзы. Гадкий привкус во рту вызвал ощущение крайней мерзости и новые отчаянные спазмы в животе. Со страшным рёвом, ещё и ещё Милюль блевала потоками желчи, и вывалилась бы за борт вся, если бы патлатый не удерживал её за плечи.
– Сейчас тебе полегчает – убеждал он, но когда потоки, льющиеся из глубин, иссякли, легче не стало. Наоборот, на Милюль напало страшное по своей величине ощущение стыда.
– Лучше бы я утонула – сказала она и всхлипнула.
Патлатый гладил её по голове и говорил, мол, со всеми такое бывает, и не стоит расстраиваться из-за пустяков… какую-то ерунду говорил, но столь успокоительно и нежно, что Милюль уткнулась головой в его плечо и расплакалась от души.
– Не плачь, Сонечка, я люблю тебя – сказал патлатый, и это обращение магическим образом повлияло на Милюль. Она оторвалась от его плеча и, посмотрев ему в глаза, спросила:
– Так я теперь Сонечка?
– Ты всегда была Сонечкой – ответил он, озарив Милюль сиянием глаз – хоть с пятого класса я и звал тебя только Громовой, но больше не буду. Извини. Можно, теперь всегда называть тебя Сонечкой?
Такая искренность, такая любовь и нежность исходила из патлатого, что Милюль не нашла в себе сил возражать:
– Можно – согласилась она.
– Левобережную прошли! – радостно сообщил прилизанный тип в расклешённых синих штанах – Вон, смотрите, мимо цепи проплываем.
Милюль посмотрела на близкий берег. Выкрашенная белым гигантская бетонная подкова, за которой находилась такая же белая квадратная великанская будка без окон и дверей проходили мимо катера. Оба сооружения были какими-то неуместными на фоне узкой реки. Казалось, их выдернули из далёкого, неведомого приморского пейзажа и воткнули сюда, среди растопыренных тополей и других деревьев, явно не имеющих ничего общего с морем.
Печально смотрела Милюль на проходящую мимо постройку: «И это всё? – думала она – Это всё, что осталось от того светлого дня, когда я спускалась по белой лестнице морского порта, когда корабль был белым и колонны и даже люди были одеты в белые костюмы? От величия, красоты и мощи осталась только эта жалкая пародия, бессильное напоминание о бескрайнем морском просторе? Что это? Кусочек надежды, или прощальный привет из былого мира?»
Белые строения проплыли мимо и начали таять в тумане, как таял незадолго до того горбатый ажурный мост. Тот, прилизанный тип, что привлёк её внимание к берегу, не унимался и соловьём пел о том, мимо чего они только что прошли:
– Вы представляете, это простая железная цепь? – говорил он – Там, на дне валяется толстенная цепь, а в будке стоит лебёдка для её подъёма. Это стратегический объект. Он построен на тот случай, если будет война. Замысел заключается в том, что цепь моментально поднимут, чтобы к нам, в Москву не смогли проплыть их подводные лодки и боевые корабли! Вы представляете, какая дурь? Кому, спрашивается, надо куда-то плыть, если весь мир будет уничтожен после первых трёх запусков?.. Вот, кретины!
Тут прилизанный рассмеялся, и на лице его отразилась невероятная гордость за своё знание секрета и понимание его бесполезности. Милюль смотрела на прилизанного и смекала про себя: «Этот юноша – тоже дурак, но он очень любит себя хвалить. Судя по всему, он не может быть человеком, но очень хочет им казаться. Впрочем, что мне до него? Главное, о чём он теперь говорит. Опять о будущей войне. Любопытно: вчера говорили, война прошла, позавчера о том, что она вот-вот начнётся… а что было до того? Не помню. Жаль. Можно было бы отыскать какую-нибудь закономерность. Но, нет, это пустое. Никаких закономерностей отыскать не удастся. Нечего и пытаться. Вообще надо жить сегодняшним днём. Надо разобраться тут и выяснить, что же в сегодняшнем дне самое главное?»
Словно отзываясь на Милюлины мысли, юноша сказал радостно:
– А вот самое главное, самый-то рассвет вы с Прониной и проспали! Кусай, теперь себе локти, Громова! Только мы, настоящие мужчины, видели, как встаёт солнце над Москвой! Правда, Вован? – он обратился к стриженному.
Стриженный отвернулся от берега и, положив прилизанному руку на плечо, ответил:
– Рудик, старик, ты всегда знаешь: и как сказать и как устроить! Я твой кунак, нахер!
Тут они стали обниматься и хлопать друг друга по спинам. Милюль удивилась странному языку, на котором изъясняется стриженный. Зрелище растроганно обнимающихся парней развеселило её, и она рассмеялась. Оба обернулись на её смех и вперили в неё взгляды. Милюль сочла правильным потупить взор.
– Эй, Громова – окликнул её Рудик – ты, поди, думаешь, что мы мужеложцы? Ошибаешься! Предполагаю, в скором времени ты убедишься…
Милюль не поняла, о чём он, но откликнулся её патлатый друг:
– И не думай об этом! – заявил он. При чём Милюль показалось, что его, стоящие дыбом волосья, ещё более вздыбились.
Прилизанный Рудик осклабился:
– Вижу рыцаря! – громко и патетично воскликнул он, и, видимо, меняя тему разговора, добавил – За наш десятый «А»! За наше прошлое и будущее надо выпить!
Как по команде, Вован кинулся к встроенной в борт барной стойке и начал спешно разливать по стаканам жидкости из разноцветных бутылок. Его метания не показались Милюль интересными, и она, отслоняясь от борта, прошла в носовую часть.
Весь катер на котором немногочисленная компания плыла по каналу, являл собой довольно приземистую, плоскую конструкцию. Он так прижимался к реке, как будто вот-вот намеревался нырнуть под воду. Если в задней, открытой его части можно было ходить во весь рост, то передняя, застеклённая и накрытая железной крышей, напоминала салон очень широкого экипажа. Скорее, даже, автомобиля. Три ряда сидений с узким проходом посередине и шофёр за рулём, сидящий впереди, дополняли это сходство.
Пригнувшись, чтобы не биться головой о низкую, обшитую изнутри чем-то вроде кожи крышу, Милюль прошла меж рядов кресел и приблизилась к шофёру. Он действительно был самый настоящий шофёр. Он даже напомнил ей кучера, подвозившего их с нянечкой до морского порта и того мужика, который нёс им чемоданы. И взгляд такой же отстраненно-равнодушный, и борода… только стриженная. Шофёр напомнил ей и вчерашних бородатых рыболовов. Как их там? Игнатий и Фёдор Николаич. В общем, лицо шофёра показалось Милюль довольно простым. Только вот белая капитанская фуражка на его башке была совершенно неуместной, вырезанной из другого мира, из других обстоятельств, или отнятой у кого-то, которому она была бы куда более к лицу. Именно фуражка дала Милюль повод обратиться к водителю катера:
– Вы капитан? – спросила она, смутно ожидая, что он сейчас начнёт отнекиваться и оправдываться, скажет, например, как ему дали фуражку временно поносить. Но шофёр глянул на неё хитро и ответил с достоинством:
– А-то.
И говорить, вроде бы стало не о чем. Милюль посмотрела вперёд. За широким стеклом, выгнутым полукругом охватывающим кабину, за белым носом катера, медленно двигались навстречу ровные, обсаженные деревцами берега. Бетонная кромка окаймляла почти прямой канал, и казалось непонятным: зачем шофёр-капитан держится за руль, если поворачивать некуда?
Милюль вновь посмотрела на нелепого этого бородача, на руль, на приборы, тускло светящиеся из-под полукруглого зелёного стёклышка, перевела взгляд на обширное деревянное торпедо, в центре которого торчала красивая прозрачная полусфера с приборчиком внутри.
– Приборами интересуешься? – неожиданно спросил капитан.
Вот оно что! Оказывается, он подглядывал за ней!
– Ну, да – соврала Милюль – интересно тут у вас всё устроено… а это что? – и она щёлкнула пальцем по стеклянному куполу.
– Это компас – гордо, делая ударение на «А», молвил капитан – ему уже лет двести. Это не гирокомпас, а самый обычный, корабельный. По нему ещё наши деды ходили и прадеды. И внуки ходить будут. Только он вовсе и не нужен. В море, может, и нужен был бы, а тут совсем другие ориентиры.
Взяв правой рукой бинокль, капитан приложил его ко глазам и устремил вперёд. Всё более удивляясь, Милюль спросила:
– Товарищ капитан, скажите, пожалуйста, чего это вы там разглядываете?
– Да вот – солидно ответил капитан и, опустив бинокль, добавил многозначительно – смотрю.
Никогда ещё Милюль не приходилось слышать столь невразумительного и одновременно весомого объяснения. Она снова вгляделась вперёд, но не различила ничего кроме уходящей в утренний туман водной дороги.
С кормы раздался голос не-то Рудика, не-то Вована:
– Эй, Громова! Ты чего там? Идём, выпьем!
Милюль хотела, было встать и покинуть загадочного капитана, когда он спросил:
– Громова? Уж не Павла ли Алексеича дочь?
Милюль не успела придумать ответ, потому что с кормы снова позвали:
– Софья Павловна, мы к вам обращаемся!
– Павловна – тут же констатировал капитан – видал я твоего папашку и деда знаю – помолчав немного, он завершил свои, медленные, как движение катера мысли – ты, девонька, много не пей. Поаккуратнее тебе надо быть с нашим Рудиком. Лучше и не пить вовсе.
– Дядя Стёпа наш добрый ангел – раздался голос Рудика. Он подошёл сзади, держа в руках два стакана, наполненных золотистой жидкостью.
– Не мешай мне рулить, шантрапа – тем же спокойным голосом бросил через плечо капитан, которого, как выяснилось, звали Дядя Стёпа.
– Мы тише воды и ниже травы! – уверил его Рудик, и тут же обратился к Милюль – Софья Павловна, пойдём, опохмелимся?
– Рановато вы, молодые люди, в пьянство ударяетесь – пробубнил Дядя Стёпа.
– Уж это нам видней – ответил Рудик, и стало ясно, что Дядя Стёпа, хоть и старше, но никак не главнее его.
Милюль пожала плечами, послушно взяла стакан и вышла вместе с Рудиком из-под крыши, на открытую часть катера. Увидав их, Вован начал произносить заздравную речь:
– В этот день, друзья, мы шагнули в большую жизнь! Встало солнце, чего не видели наши девочки, потому что ужрались, но им и не нужно. Спасибо тебе, Рудик, за то, что ты так умеешь всё организовать. Мы сегодня с тобой и ты наш гений! Поэтому я предлагаю тост за здоровье. Как говорили наши деды, за наши славные победы! Значит, чтоб хуй стоял и деньги были! Ура!
Вован опрокинул стакан себе в рот. Рудик пригубил из своего. Патлатый друг поморщился, но последовал примеру Вована. Чтобы не отличаться от большинства, Милюль так же влила в себя содержимое стакана, после чего глаза её непроизвольно выпучились, а дыхание прекратилось. По обожжённому утренними излияниями пищеводу промчалась огненная волна. Жар ворвался в измученный желудок, оставляя за собой пахнущее дрожжами послевкусие. Так гадко ей ещё никогда не было.
– На вот, закуси – Рудик протягивал Милюль зелёное яблоко. Она взяла его и жадно съела.
– За что тебя уважаю, Сонька, так это за то, что ты пьёшь как мужик! – заявил Вован.
– Опять блевать будешь – предупредил патлатый.
– Ты, Шурик, пессимист – возразил Рудик – раз на раз не приходится. Из Соньки вонючий портвейн вылился, а здесь чистейший вискарь. В Союзе такого не сыщешь.
Милюль зафиксировала про себя, что патлатого зовут Шуриком, и тут же заметила, до чего устала. Её внимание медленно разворачивалось вовнутрь себя. Она с интересом отслеживала, как мягкое тепло распространяется из желудка по организму и пеленает её, Милюль, во внутренние одеяла. Захотелось спать. Милюль присела на расстёгнутый мешок, из которого её вызволил Шурик, и зевнула.
– Ну, что я говорил? – озаботился глядя на неё Шурик – не надо тебе пить! Мало того, что рассвет проспала, так ещё и весь день проспишь.
– Не просплю – возразила Милюль и повалилась на бок.
Милюль обязательно заснула бы, если бы валясь, не задела, и довольно основательно, спящую тут же рыжую Алку. Но так, как она её всё-таки задела, то Алка проснулась. Она зашевелилась, замычала, а потом резким рывком села и расстегнула свой спальник. Это не помешало бы Милюль провалиться в сон. Ей не помешал бы даже необыкновенно острый Алкин локоть, которым та облокотилась об неё. Помешал ей тембр Алкиного голоса. Никак нельзя было ожидать от девушки с таким пронзительно острым локтем столь низкого и скрипучего звука. Сразу захотелось проснуться и посмотреть на неё, чтобы убедиться, девушка ли это.
– Пьёте, обормоты – проскрипела Алка.
Милюль сбросила навалившуюся дремоту, взглянула на Алку и увидела вполне миловидное, хоть и немного припухшее девичье лицо. Несоответствие видимого со слышимым вызвало в Милюль огромное удивление. Алка же густо прокашлялась и спросила:
– А почему без меня?
– Тебе хватит, алкоголичка – ответил Вован – если бы не Рудик, валялась бы сейчас под кустом.
– Да? – удивилась Алка – А что Рудик?
– Ты, хоть соображаешь, где находишься? – спросил Вован.
– А где я нахожусь? На каком – то корабле. Плывём, вроде бы…
– Не плывём, а идём – поправил Шурик.
– Да ну тебя, зануда! – отмахнулась Алка и, хмыкнув, добавила – Вот парадокс! Одновременно и спим и идём! Давайте, рассказывайте, как я тут оказалась?
– Я очень вас прошу прекратить меня протыкать – вежливо попросила Алку Милюль, потому что Алкин локоть всё продолжал пронзать её насквозь.
– Извини, Сонь. Лежишь тут… – Алка убрала локоть и, встав, обратилась к юношам – Ну?
– Баранки гну – радостно отозвался Вован.
– Рассказывай! – приказала Алка.
– Рассказываю в третий раз – ввязался Шурик – мы со всем классом приехали на Ленинские горы. «Там хорошо рассвет встречать вдвоём». Но тут вы с Сонькой сильно напились и забузили. Неожиданно Рудик сказал, что внизу, у причала его ждёт катер и он может вас взять с собой. Он так незаметно это предложил, никто и внимания не обратил. Я бы тоже не обратил, но тут Соня упёрлась и заявила, что без меня никуда не поедет. Тогда мы впятером незаметно откололись от класса, почти без приключений спустились с горы и вот…
– Шикарно! – пробасила Алка – Стало быть, мы впятерьми оторвались от коллектива.
– Коллектив распался сам собой. На пары и тройки – ответил Рудик – пьющие образовали тройки, а влюблённые, соответственно, пары.
– Ну, если нас пятеро, то мы, значит, не те и не другие – заключила Алка – мы, наверное, хоккеисты.
– Почему хоккеисты? – не понял Вован.
– Потому что: «И всё в порядке, если только на площадке великолепная пятёрка и вратарь» – объяснила Алка – только я вратаря чего-то не вижу.
– Да вон он – Рудик махнул рукой в сторону кабины – капитан Дядя Стёпа ведёт наше судно в Клязьминское море. Там, на лесистом полуострове нас ждёт праздничный банкет на лоне девственной природы.
Слово «Море» прозвучало бытово и незначительно. Рудик сказал его без всякого умысла, для обозначения места, поэтому никто не ожидал того, какой фокус выкинет Софья Громова. А Софья взяла, да выкинула. Она такое выкинула! Пробормотав нечто нечленораздельное, она вскочила и мотнулась к мотору, чтобы опереться о кожух. Там она развернулась, оглядела всех безумным, несконцентрированным взором, опять произнесла набор несуразных слов, из которого можно было вычленить: «Море», «Компас не годится», «Обманул Дядя Стёпа!». Потом оттолкнулась от бортика, отделявшего пассажирское пространство от находящегося под капотом двигателя и ломанулась к носу. Все посмотрели ей вслед.
– Оп-па!.. – сказал Вован.
– Чего это с ней? – спросила Алка, но ей никто не ответил.
Да и кто мог знать, что творилось в голове бедной Милюль? Что за механизмы заскрежетали там при слове «море», при мысли о том, что гнусная туманная речка кончится, и до мечты осталось рукой подать. Мысли самой разной направленности повыскакивали из углов Милюлиной головы и, стремительно раздуваясь, помчались в центр её черепа. С одной стороны бежала этакая здоровенная мыслища: «Море!.. Конечно!.. Как я могла забыть? Все реки всегда впадают в море! Почему вчера я не сообразила сразу? Мне же говорили про устье! Это значит устье реки! Вслед за устьем всегда бывает оно. Мне бы потерпеть чуть-чуть и я увидела бы его ещё вчера!..»
Навстречу той здоровенной и толстой мысли бежала другая, не менее увесистая. Она выглядела примерно так: «Дядя Стёпа сказал, что компас ему не нужен, потому что он никогда в море не выходит. А по словам Рудика выходит, что всё-таки выходит! Врёт Дядя Стёпа, вот что выходит!..»
Так же к центру Милюлиного мозга торопилась группа мыслишек поменьше. Например такие: «Чего это всё вокруг шатается?»; «Где этот чёртов нос?»; «Что они тут торчат на дороге?»; «Я сейчас всё выясню!»
* * *
– Как пишут разные эзотерики, благодаря присутствию во вселенной торсионных полей, мысль распространяется моментально. Для мысли нет таких условностей, как время, пространство и скорость. Физиологи утверждают, что нервный импульс, несущий какую-либо мысль, движется по нейронам мозга со скоростью электрического импульса, бегущего по металлическим проводам, то есть со скоростью, близкой к скорости света. Это значительно медленнее, чем в первом случае. Однако, если учесть размеры черепяной коробки, в которой стремительно сближались Милюлины мысли, то на разницу взглядов в определении скорости вполне можно наплевать. Посудите сами: Диаметр черепяной коробки среднестатистического гуманоида равен четырнадцати, или пятнадцати сантиметрам. Скорость света составляет триста тысяч километров в секунду. Возьмите расстояние, равное половине диаметра черепушки и разделите его на скорость движения мысли, то есть на скорость света. Простейшая задачка для всех, умеющих делить в столбик.
Некоторые доверчивые раки, полные ученического рвения, тут же принялись водить клешнями по песку, дабы получить результаты вычислений. Старый рак покосился на них с хитрым ленинским прищуром и насмешливо обронил:
– Те из вас, кто не приступил к вычислениям, поступили правильно. Советую поверить мне на слово: в результате получится такой мизер, на который и плюнуть жалко, не то, что терять время за подсчётами. Эта цифра столь мала, столь близка к нулю, что становится совершенно не важно, с какой скоростью движется мысль. Важен результат, а он глобален: большие и малые мысли сбежались к центру Милюлиной головы и там со страшной силой врезались друг в друга. От этого столкновения произошёл большой взрыв, и родилась наша вселенная.
– Что за бред вы несёте? – заорал зелёный рак – он прекратил рисование на песке бесконечного числа нулей после запятой и растопырил клешни, выражая крайнюю степень возмущения – Наша вселенная родилась в результате большого взрыва, но этот взрыв произошёл миллионы лет тому назад! И не в глупой голове какой-то пьяной девочки, а далеко – далеко в глубинах космоса!
– И то верно! – поддержал зелёного рак с полосатыми клешнями – Нас водят за нос! Нервные импульсы зарождаются в коре головного мозга и потом, как команды идут к органам и конечностям. С чего это вы, уважаемый, взяли, что мысли могут устремиться в центр головы? Чего им там делать?
– В начале было слово! – пробасил рак из числа фанатично верующих не то в Краба, не то в Креветку – И это слово было: «Омар!», а вовсе не «море». Нелепо утверждать, будто весь мир произошёл от такого незначительного слова.
– Постойте, постойте – возразил ему полосатоклешний – ваш аргумент страдает очевидным изъяном. Согласно историческим источникам, древний алфавит состоял только из согласных букв. Значит слово «Омар» писалось так же, как и «море». Вы не можете точно утверждать, что это было за слово.
– А вот и могу! – заупрямился клерикал – меня поддержат мои единомышленники.
Единомышленники подняли кверху клешни, демонстрируя готовность поддержать товарища.
– Не будем спорить об алфавите – примирительно попятился тот, который с полосами – давайте сосредоточимся на рассказе. Ещё вчера, когда главная героиня утонула, я думал, что это хорошая история. Можно сказать в лучших традициях мировой драматургии. Но сегодня вдруг выясняется, что она оказывается, хоть утонула, но не утонула. Это нарушает законы логики! – тут он обратился к старому раку – Не могли бы вы, мэтр, вместо того, чтобы истязать наше внимание небылицами рассказать нечто более правдоподобное и поучительное.
Старик почесал правый ус и ответил:
– С удовольствием. Я мог бы рассказать вам любую другую историю, если бы она волновала меня так же сильно, как волнует эта. Я мог бы даже умолчать о тех нюансах, которые вызывают в ваших умах столь бурные потоки недоверия. Но есть обстоятельство, которое мне мешает. Оно заключается в построении внутренней космогонии самого меня и каждого мало-мальски мыслящего рака. Много ли будет проку, если я начну тешить вас, пересказывая повторяющиеся как волны прибоя изъезженные сюжеты о любви, о счастье, о богатстве и смерти? Подобные истории уже есть. Многие знают их и я не склонен считать их уместными сегодня, а особенно завтра, когда неотвратимое придвинется вплотную. Впрочем, я буду рад, если кто-нибудь из вас расскажет что-то новенькое или поучительное. Прошу вас, господа.
Вперёд выступил всё тот же, полосаторукий и спросил:
– Можно, я?
– Конечно!
– Давай!
– Рассказывай! – закричали раки.
* * *
– История моя очень старая и великая – начал рак с полосатыми клешнями – однажды к нашим берегам случайно приплыл чёрный рак из южных морей. Он полюбил прекрасную белую рачку… или рачиху… как правильно?
Аудитория разделилась ровно пополам. Одни сочли неблагозвучным слово «рачиха», другие же – насмехались над «рачкой». Сошлись на определении «женская особь».
– Так вот – продолжил рассказчик – белая женская особь ответила взаимностью чёрному раку, но он возревновал её к местным белым, жёлтым, и зелёным ракам. И задушил! А потом съел! А потом съел сам себя. Пожалуй, всё… давайте я лучше расскажу другую историю?
Слушатели напряжённо молчали и рак начал во второй раз:
– В древние времена на нашем берегу жили два уважаемых семейства, но они очень не любили друг друга и постоянно враждовали. Тут однажды две разнополые особи из враждующих семейств полюбили друг друга и решили жить в месте!
– В одном домике? – раздался восторженный возглас. Все обернулись на него и увидели, что среди слушателей затесалась женская особь. Повертев глазами туда-сюда, раки вновь обратились к рассказчику, ибо сезон спаривания ещё не наступил.
– Да! – согласился рассказчик – Они даже возмечтали навечно поселиться в одной раковине, чтобы жить там счастливо до самой смерти. Но злые члены враждующих семейств сильно им гадили и не давали встречаться. В результате влюблённые поубивали сами себя и стали валяться на этом пляже дохлыми и вообще без домиков.
– Фу! Порнография какая-то! – возмутился рак-клерикал, но на него зашикали и он умолк.
– Зато семейства перестали враждовать и наступил мир во всём мире!
– Замечательная история – всхлипнула женская особь – всем бы так!
Однако все «так» не захотели, и над пляжем поднялся гул недовольных голосов. Полосаторукий рак смущённо затоптался на месте и попросил третьей попытки. Слушатели выжидательно умолкли.
– Третья история! – отчаянно выкрикнул он – Однажды одного молодого рака послали на соседний пляж учиться уму-разуму. Однако когда он вернулся, выяснилось, что его папу съел его дядя и теперь почём зря спаривается с женской особью, являющейся нашему герою мамой. Это очень не понравилось молодому раку. Тогда он прикинулся сумасшедшим и долго спрашивал у разных сохранившихся хитиновых останков: «Быть, или не быть?». Когда же его дядя ослабил бдительность, рак-студент убил его. Но сам тоже был ранен в бою и скончался от ран. Все друзья очень огорчились, но всё равно съели и его и дядю, и мать его. А чего добру-то пропадать? Вот так мы и живём.
Раки выразили полное несогласие с рассказчиком. То ли их не устраивали истории, то ли ещё чего, но провал оратора был очевиден. Позабыв о неразрешённом вопросе происхождения вселенной, все потребовали немедленного продолжения рассказа про Милюль.
Старый рак снисходительно согласился продолжить и продолжил. Его речь медленно, точно мёд, потекла по руслу собственных размышлений. Присутствующие внимательно вслушивались и не смели даже пикнуть, дабы очередной нелепостью не прервать повествование.
* * *
– Я не берусь оспаривать формулировку: «В начале было слово». Мне ли судить, какое это было слово и как оно могло звучать в бескрайних глубинах первобытного хаоса? Уместно ли существование звука в той среде, о которой мы не знаем ничего? Ищите более глубокое определение понятию «слово», если у вас есть на это силы и желание. Многие раки потратили всю жизнь в поисках того сокровенного, которое таится за обветшалой вывеской. Многие так ничего и не нашли, но доказали всем нам, что это стоящее дело и наинтереснейший долг каждого, чья судьба выползла на дорогу мысли.
Ищите! Ничто не держит вас в узких рамках. В любой миг вы вольны оказаться внутри того прекрасного пространства, которое называется морем. Вы можете плутать между валунами и мохнатыми от водорослей обломками скал, взбираться на коралловые ветки и сидя в спокойствии, наблюдать проносящиеся мимо стада мерцающих рыб. Огромные медузы будут сопровождать ваше созерцание. Нежданный прыжок ската, неотличимого прежде от песчаного дна, родит в вас яркий всплеск эмоций, похожий на испуг и на озарение одновременно.
Милюль стремилась к морю, как стремится к нему всякое мыслящее существо, как стремимся к нему мы, раки. Она не могла знать, что значит жить в водных глубинах и сквозь жидкую призму океана общаться с подобными себе. У неё не было наших преимуществ.
Живя под водой, мы соотносимся со всей вселенной, ибо морская пучина – и есть наша вселенная. Но мы имеем возможность покинуть свою малую вселенную, вылезти на берег и взглянуть на её поверхность со стороны. Человек же не может покинуть свою вселенную. Ему не дано смотреть снаружи на среду обитания и видеть её величие и красоту. Поэтому человек завидует нам. Поэтому он смотрит на море и ничерта не понимает.
Хрен с ним, с этим нехорошим человеком! Мой рассказ про Милюль. В её сознании, в её маленькой и несуразной жизни море было чем-то большим, чем в жизни любого другого. Море не было для Милюль ни средой обитания, ни моделью вселенной, ни даже красивой картинкой. Для Милюль море являлось квинтэссенцией всех возможных стремлений, чаяний и желаний. Это была сама её суть. Поэтому, когда слово, как символ этой сути, прозвучало, когда её внутреннее стремление обнаружило возможность проявиться, оно проявилось.
Прозвучало слово, и в пространстве Милюлиной головы образовалась причина для «большого взрыва». Не знаю, чего вам надо ещё? Почему вас не устроил такой вариант объяснения образования вселенной, а другие варианты устроили? Впрочем, никто не мешает вам оставаться при своих моделях и убеждениях. Я же имею основания полагать начало вселенной именно таким.
В тот миг, когда вселенная родилась, Милюль исчерпала силы и рухнула на палубу, так и не добежав до Дяди Стёпы. Минули миллиарды лет. Газы первобытного вещества сложились в звёзды и планеты. Образовались галактики и чёрные дырки. На Земле зародилась жизнь.
Ещё позже Милюль вновь пришла в сознание. Она разглядела пять человеческих лиц с калейдоскопической правильностью выстроенных на фоне плывущих облаков. С разной степенью озабоченности и тревоги они взирали ей в глаза. Милюль показалось забавным то, как они расположены.
«Давно пора начать так жить. Летать себе в невесомости и не заботиться о равновесии» – подумала она за мгновение до того, как сообразила, что никто в невесомости не летает, она лежит на полу, кверху лицом, а над ней склонились Дядя Стёпа, Рудик, Вован, Алка и Шурик.
– Приходит в себя – заметил Рудик.
– Ну, вот что – строго нахмурив брови, сказал Дядя Стёпа – у вас, конечно, праздник, но всё равно: чтобы до причала никто больше не выпивал! Понятно?
Рудик попробовал возразить, но Дядя Стёпа отрезал:
– Приказ капитана судна.
Милюль подняли, отвели под крышу и посадили в кресло. Там же, в салоне, расположились все остальные. Сев за свой автомобильный руль, капитан предупредил:
– Скоро выходим в Клязьминское водохранилище. Туман ушёл. Кататься будем!
Взревел мотор и катер стал напряжённо разгоняться. Милюль показалось удивительным, что он при этом не задирает нос, а выдвигается всем корпусом из воды. И вот катер «встал на ноги». Река за окном оказалась внизу, сосем не так близко, как давеча. Катер перестал напряжённо вибрировать и помчался с нежданной прытью. Он теперь не полз. Он летел.
Через пару минут берега канала расступились. Впереди раскинулась довольно широкая водная поверхность. Пролетали мимо и назад берега. С невероятной быстротой проносились по сторонам домики, причалы, перелески и холмы. Милюль глядела в окно и дивилась невероятной быстроте. Даже тогда, когда, стоя на носу корабля, она наблюдала мчащихся впереди дельфинов, скорость была куда меньше. Какой бы дельфин догнал их теперь? Вскоре река вновь начала сужаться. Катер приближался к высоченному железнодорожному мосту.
– Дядя Стёпа – прокричала мужиковатым голосом Алка – откуда вы знаете, как не сесть на мель? Наверное, вы весь канал наизусть помните? Или есть какие-то правила?
– Наизусть всё не упомнишь – степенно ответствовал капитан – фарватер отмечен бакенами и створными знаками. Я по ним иду.
– Бакен – это такой буёк с фонариком? – не унималась Алка.
– Буёк, деточка, буёк – снисходительно кивнул капитан и вдруг запел, являя присутствие мощного баритона и полное отсутствие слуха – Ах, буёк, ты, буёк! Твоя жопа, мой хуёк…
Продолжение песни, тоже довольно скабрезное, растаяло в отражённом сводом моста рёве двигателя. Проскочив мимо бетонных опор, катер промчался мимо обширного причала, с которого ему махали руками люди. Рядом с причалом, в окружении свежих саженцев торчал на постаменте почти такой же катер как тот, на котором теперь ехала Милюль.
– Смотрите! – закричала Алка – такой же катер, как у нас!..
– Почти такой же – прервав гнусное пение, уточнил Дядя Стёпа – наш в три раза больше и мощней. Это был прототип. Первый в мире катер на подводных крыльях. Изобретён здесь, у нас. Пятнадцать лет назад. Мы теперь столько таких катеров понаделали! Весь мир и Европа, все на наших крыльях летают!
Катер на постаменте, причал и железнодорожный мост остались позади. Река снова расширилась. Её левый берег пятился, пятился, удаляясь, и вдруг резко отпрыгнул почти до самого горизонта. Серая плита, накрывавшая до сих пор небо, треснула в нескольких местах. Косые солнечные лучи прорвались сквозь трещины, ударили по воде, и тут же оказалось, что река, по которой стремительно летел волшебный катер на крыльях, никакой была не серой. Преобразившись, она удивила Милюль беснующимся многоцветьем. Зелёные берега, голубые просветы неба в белых, серых и фиолетовых обрывках туч, серебряные солнечные блики, всё отражалось, дробилось на водной ряби, скакало, прыгало и переливалось вокруг.
Катер забирал левее и солнце всё чаще и сильней било Милюль в глаза. Она заслонилась рукой и смотрела только вперёд, сквозь лобовое стекло, по которому тоже бегали блики и солнечные зайчики.
– Красота! – определила совпавшие состояния души и природы Алка. Дядя Стёпа принял её возглас на счёт своих вокальных данных и согласился:
– Да! Надо было мне артистом становиться. Сейчас бы в опере пел, как Штоколов – тут он заорал надрывным осатанелым басом в лобовое стекло – Муха! Ха-ха! Ха-ха!
Алка рассмеялась:
– Не муха, Дядя Стёпа! Блоха же! Блоха!
– Какая разница? – махнул рукой капитан – Что блоха, что муха. Одно и тоже.
Катер завибрировал на пологих волнах. Впереди, оставляя за собой светлый след на воде, медленно двигался трёхпалубный туристический речной теплоход. Немногочисленные пассажиры, оказавшиеся на палубе в утренний час, стояли на корме и махали катеру.
– Сейчас мы им покажем! – пообещал Дядя Стёпа и стремительно обошёл туристический лайнер вдоль левого борта.
Пока обгоняли, Милюль смотрела на высокий белый борт с палубами, напоминающими балконы, на возвышающийся нос с золотой надписью: «Георгий Дмитров». Ей подумалось, что этот кораблик в белых балконах немного походит на тот белый лайнер, на который она поднималась пять дней назад.
«До чего счастливы должны быть те люди, пассажиры, которые сидят в каютах и движутся вместе с кораблём неизвестно куда! А куда, интересно, движемся мы?» – Милюль перевела взгляд вперёд и увидела здоровенную баржу, идущую встречным курсом. Она даже вскрикнула и зажмурилась. Но Дядя Стёпа знал своё дело. Катер слегка накренился и пулей промчался меж баржой и лайнером «Георгий Дмитров».
– Не ссать, молодёжь! – приказал капитан с таким азартом в голосе, что многим захотелось тут же ослушаться.
Река снова сузилась и снова расширилась. Теперь уже вправо. Мимо левого борта прошла бухта с многочисленными маленькими причалами, к которым были пришвартованы мизерные и угловатые, точно спичечные коробки моторные лодки, а так же крошечные как ореховые скорлупки парусные яхточки.
– Это что за причалы? – поинтересовалась Милюль.
– Частный сектор – с презрением в голосе ответил Шурик. Милюль как всегда, ничего не поняла и стала размышлять над услышанным: «Сектор это часть круга. Эти причалы с утлыми корытцами называются частным сектором. Значит, есть и какая-то другая часть, которая тоже сектор, но не частный. А какой? Какой может быть другой сектор?» – Собственные логические построения завели её в очередной тупик, поэтому Милюль решила забыть про выяснения того, чего понять невозможно.
Катер прошёл мимо лесистого берега. Впереди открылся новый водный простор, пересечённый у самого горизонта длиннющим мостом со множеством опор. Издалека мост казался тонюсеньким. Серебристые жучки, сияющие в лучах солнца, ползли по нему в обоих направлениях.
«Может быть там, за мостом, начнётся море – возмечталось Милюль и она тут же поделилась этим предположением с Дядей Стёпой.
– Как же, за мостом! – воскликнул он – Вот и не за мостом! Мы давно уж в нём, в Клязьминском море.
Милюль растерялась. Хоть и серебрился день на водной ряби, а бесконечное пространство открывалось впереди узким проходом к горизонту, а всё же никакое это было не море. Не было ни солёного воздуха, ни могучих покачиваний, в которых ощущались бы прошедшие через неведомые дали, нагулявшие мясо волны. Как бы ни называли это место, но оно не было тем, к чему стремилась её, Милюлина душа.
Тут до неё дошло: Дядя Стёпа не обманывал, когда говорил о ненужности компаса. Слово «море» в совокупности с определением «Клязьминское» – перестаёт обозначать желаемое. Слово вырождается и становится мёртвым. Получается: кто-то словом хотел возвеличить лужу, а в результате убил слово, лишив его главного содержания.
По всему выходило, что окружающие Милюль люди говорят теми же словами, что и она, но при этом на другом языке. Или наоборот: язык оставался тем же, но слова его обозначали не те мысли, к которым она привыкла.
Милюль подумала: «Подобная свистопляска со словами и смыслами происходит далеко не первый день! Кто знает, может быть и прежде слова меняли свой смысл, чтобы остаться в языке и не исчезнуть насовсем? При этом, меняясь и приспосабливаясь под новые смыслы, они превращались в свою полную противоположность. Я сама ежедневно пытаюсь приспособиться к новым обстоятельствам, которые обрушиваются на меня и в результате, я, как и те самые слова, перестала соответствовать тому, чем была изначально. И в словах и в языке и во мне самой случился какой-то маленький, но ощутимый вывих. Я лишь отчасти могу понять, что сообщают мне окружающие, а они не поймут меня вовсе, если я попытаюсь им что-либо объяснить. Остался маленький, неповреждённый сектор языка, где мы понимаем друг друга.
Вот и в тот раз, когда Шурик сказал: «Частный сектор», стало непонятно, почему он столь презрительно произнёс такое красивое и поэтичное словосочетание. Но спрашивать не стоит. Сколько ни спрашивай, ничего кроме невразумительной околесицы не услышишь. О том, чтобы поделиться собственными соображениями или воспоминаниями, вообще не может быть речи. Даже в гальюн проситься нелепо. Нет здесь никакого гальюна, как на торпедном катере. – Милюль запнулась, прервав собственные размышления – Что за торпедный катер? Откуда он вылез?.. Ага! Вчера о нём рассказывал мой старший брат, который воевал на торпедном катере. Мой брат Павел Громов. Дядя Стёпа знает Павла Громова, а я дочь того самого Павла Громова, которого он знал. Получается, Павел Громов мой отец, хотя при этом он же – мой брат».
Ни одна мысль не могла появиться у Милюль так, чтобы не войти в конфликт с самой же собою и не уничтожить саму себя. Милюль попыталась построить зримую модель образовавшейся ситуации. Она посмотрела на свою раскрытую ладонь и сказала себе:
«Вот она, я. Вот я живу и чувствую собственные пальцы, как обстоятельства и как потенциальные возможности. Хочу, пошевелю пальцами, не захочу, так и не буду ими шевелить. Представим себе, что главное обстоятельство моей жизни, это вот этот вот большой палец. Теперь возьмём и слегка нарушим его место в общем порядке, как это в действительности всё время происходит – она сместила большой палец к центру ладони – С таким главным обстоятельством начнём действовать и жить!» – тут Милюль свернула все остальные пальцы.
Ловко сложился кукиш. Милюль обрадовалась тому, что именно кукиш как нельзя лучше изображал создавшуюся ситуацию. Кукиш – бесполезный кулак, замкнувшаяся в самой себе личность, вечный символ невозможности двигаться и разбираться в обстоятельствах, которые смещены.
– Ты долго намерена на свою фигу любоваться? – поинтересовалась Алка – Смотри, как сейчас под мостом пролетим!
Действительно, тот мост, который недавно казался изящным украшением на шее реки, приблизился, стал огромным и длиннющим. Его гигантские опоры стремительно надвигались и вот, обойдя катер с обеих сторон, остались позади. Впереди открылось огромное пространство с редкими парусами яхт на нём.
– Клязьминское море во всей красе – гордо заявил Рудик.
Милюль поморщилась от разочарования. Да, воды тут было много. Но нигде не уходила она за горизонт. Нигде не было того единения земли и неба, которое возможно только в настоящем море. Тут и шторма то порядочного не дождёшься.
Все, кто был в катере, смотрели в окна, а Милюль заскучала: «Это и не плавание вовсе, а езда. Что за интерес, сидеть в кресле и нестись с бешенной скоростью, вместо того, чтобы прогуливаться по палубе, заходить в каюты, или в ресторан. Нет, сиди тут, как прикованный паралитик и пялься в окно. Вот бы сейчас выйти хоть бы на корму и подставить лицо утреннему ветру!» Но сделать так Милюль не решилась.
Дядя Стёпа, решив скрасить монотонность путешествия, крутанул какую-то ручку на светящемся изнутри приборе, и в салоне раздалась довольно мелодичная музыка, а приятный баритон запел песню со странным сюжетом про то, как в избушке на краю леса жила некто Зима, занимающаяся разнообразной, но бесполезной хозяйственной деятельностью.
Пока Милюль недоумевала о том, как это можно солить в кадушке снежки, куплет закончился и все, кроме Дяди Стёпы, подхватили припев, в котором описывался неуютный и мрачный быт героини песни. С нескрываемым удивлением Милюль наблюдала счастливые лица молодых людей, поющих:«Потолок ледяной,
Дверь скрипучая!
За шершавой стеной
Тьма колючая!
Как пойдёшь за порог,
Всюду иней,
А из окон парок
Синий – синий!!!»
Нарисованная в припеве картина никак не вызывала в Милюль того энтузиазма, с которым все его исполняли. Когда же они радостно затянули второй куплет, не менее мрачного содержания, Милюль решила: «Я живу в абсурдном, сумасшедшем мире, где не только слова не соответствуют предметам, но и сами проявления человеческой души рождаются чёрт знает от чего и не имеют никакой связи ни со словами, ни с действиями».
Не успела Милюль как следует огорчиться от такого умозаключения, как песня закончилась и началась ещё более непонятная, которую молодёжный хор подхватил с тем же оптимизмом.
На этот раз содержание песни проследить было почти невозможно, потому как весь её текст состоял из невероятной тарабарщины, в которую изредка вкраплялись едва узнаваемые слова. Из куплета Милюль удалось уяснить, что лирический герой опечален неизвестной дамой, которая его «чаровала». Но на лицах поющих, как и в прошлый раз, не отразилось никакой печали. Напротив, они так и светились коллективной радостью. В припеве Рудик, Шурик, Вован и Алка лихо заорали абсолютно нелепый призыв – «не шукать вечорами» какую-то «червону руту».
Вслед за припевом пошла полная абракадабра из непонятных слов с перекошенными ударениями. Милюль никак не могла уразуметь, от чего все так радуются. Она и спросила напрямую:
– Кто-нибудь мог бы мне объяснить, что это вас так осчастливило?
– Да ладно тебе кукситься! – отозвалась Алка – гулять, так гулять!
«Они спят – поняла Милюль – им кажется, будто они бодрствуют, веселятся, поют, но на самом деле они находятся во сне. Как ещё можно объяснить такое поведение? Они произносят непонятно что и радуются, не утруждая себя попыткой осмыслить произносимое».* * *
Катер сбавил ход, опустился на воду и тормознул довольно резко. Милюль, да и всех остальных даже качнуло вперёд.
– Ну вот, приехали – сообщил Дядя Стёпа.
Милюль смотрела сквозь стекло на поросший стройными соснами берег, на буйную осоку вдоль кромки воды, на далеко выступающий дощатый причал с железными перилами. Рудик, цепляясь за ручки, ловко вскочил на борт, прошёл к носу и, перепрыгнув на деревянные мостки, пришвартовал катер. Мотор замолчал. Наступила удивительная и непривычная тишина.
Давно уже Милюль не ступала на твёрдую землю, а потому и замешкалась, глядя как все, кроме Дяди Стёпы выпрыгнули на пирс, как побежала к берегу Алка, а юноши понесли туда же сумки и тюки. Дядя Стёпа обернулся к Милюль и улыбнулся ей:
– Чего сидишь, пигалица? Беги к своей стае.
– Это не моя стая – возразила Милюль – я вообще плохо понимаю, как тут оказалась.
– Эх, молодо-зелено! – вздохнул Дядя Стёпа – Надо бы всех вас выпороть, чтоб вели себя как положено. В наши времена девки так не напивались. Ну, да уж ладно, сделаем сноску на ваше сегодняшнее начало взрослой жизни.
– У Софьи сегодня двойной праздник – вернувшийся с берега Шурик вынимал рюкзаки и сумки из-за задних сидений – у неё сегодня день рождения.
– Вот оно как! – удивился Дядя Стёпа – Ну, тогда и я тебя поздравляю! Сколько тебе исполнилось, если не секрет?
Милюль пожала плечами. Она понятия не имела, сколько ей исполнилось. Можно бы было сказать: «Вчера исполнилось пятнадцать, позавчера одиннадцать, а два дня назад шесть» – но не стоило.
На выручку пришёл всё тот же Шурик. Вешая рюкзаки и сумки на плечи, он сообщил Дяде Стёпе:
– Соне сегодня исполняется восемнадцать лет.
– Ба! – развёл руки Дядя Стёпа – Да это же не просто день рождения, а редкостная дата! – Тут он мощно вздохнул и, жутко фальшивя, завыл:
«Вот уж облета-ает с белых яблонь цве-ет,
В жизни Ра-аз быва-ает восемнадцать ле-е-ет!..»
Резко прервав гимновое пение, Дядя Стёпа хлопнул себя по карману пиджака, потом по второму, и заговорил:
– Неспроста, видать, оно выходит! Так, значит, распорядилась сама судьба! Воля случая! Фата, понимаешь ли, Моргана! Погоди-ка немного, я должен тебя официально поздравить с наступлением совершеннолетия. Да где ж она?.. – он шарил по карманам пиджака и уже извлёк наружу носовой платок, расчёску, карманные часы с оборвавшейся цепочкой, зелёненькую книжицу, портсигар, огрызок карандаша, ржавый гвоздь, спичечный коробок, монеты.
Он выгребал и выгребал из карманов различные предметы, а Милюль смотрела на него и обречённо думала: «Настало время получать лягушку». Это была истинная правда. Покопавшись во всех карманах и пазухах, капитан достал именно её, ту самую царевну-лягушку, которую изо дня в день вручали Милюль разные люди, которая возвращалась к ней в начале каждого дня как неразменный рубль.
Протягивая брошь, Дядя Стёпа говорил что-то про её деда, про отца, которого он, Дядя Стёпа, сильно уважает, и что дед её сам вручил ему эту безделушку только что, этой весной, а теперь он её как бы возвращает, потому что сразу понял, что вещица непростая, что фамильная ценность.
Много он чего говорил, но Милюль слушала вполуха. Глядя на украшение, она корила себя за недостаток ума. Эта штуковина, как и события каждого дня, столь странные и необъяснимые, давно уже сложились в нечто общее, чему она, будь у неё получше с соображением, могла бы дать определение в общем. Жаль, но соображения не хватало. Или, может быть, отвлечённая на множество неразгаданных нюансов, она не находила времени на изучение ситуации в целом? Что, если попробовать теперь? Смогла же она только что найти точное определение тому состоянию, в котором находились её поющие попутчики, или как их…
– Это непростая брошка – сказал Шурик, который тоже разглядывал царевну-лягушку – она очень старинная.
– Конечно, старинная! – согласился Дядя Стёпа – я уж подумывал снести её в ювелирку, да закрутился там-сям, по делам, вот и забыл. Ну, ты чего замерла? Забирай подарочек.
Поблагодарив, Милюль взяла брошку, покрутила её в руке, да и приколола к груди.
– Так буду ходить. Может, она мне поможет. В прошлые разы я её всё откладывала.
Никто не обратил внимания на замечание про прошлые разы. Согбенный под грузом ноши Шурик вылез на пирс и направился к берегу, даже не протянув ей руку. Дядя Стёпа – напротив, помог Милюль выбраться из катера и сам направился следом.
* * *
На берегу возле старого костровища уже происходили приготовления к празднику. Алка вынимала из сумок разнообразную снедь. Вован складывал из кирпичей очаг. Рудик осуществлял общее руководство. Стоило Шурику поставить сумки на землю, как Рудик оказался рядом.
– Значит так, Шура, иди-ка ты в лес, да собери побольше хворосту. Что за праздник без костра? Вован, ступай с Шуриком за дровами. Я пока мангал соберу и палатки поставлю. Девушки, на вас ложится кухня. Режьте булки и салаты. Отдыхать, так отдыхать!
Перспектива заняться кухонным делом совсем не радовала Милюль. Ещё свежи были воспоминания о вчерашних упражнениях на камбузе. Поэтому Милюль робко спросила:
– Может, я тоже за дровами схожу, или за грибами?
– Какие ещё грибы в июне? – вскинул брови Рудик – не дури, Соня. Помогай вон Алке.
Алла оказалась умелой поварихой. Вот кого надо было бы вчера посылать на камбуз. Только не было её вчера. Довольно быстро она вместе с Милюль расстелила на траве большую клеёнку и стала выгружать из рюкзака банки, мешочки и ведёрки, а так же разнообразную посуду.
В ёмкостях находилась еда, но ещё не готовая и требующая знания, умения и терпения. Этих качеств Милюль была лишена напрочь. Алла заругалась, когда Милюль невзначай съела всего лишь огурец, потом стукнула Милюль по руке, когда та потянулась за батоном. Когда же Милюль откусила немного от большого прямоугольного куска сыра, Алка вышла из себя и приказала:
– Иди уже отсюда! Я тебя потом позову.
Милюль вздохнула и, стыдясь своей никчёмности, отправилась вслед за ушедшими в лес парнями. Пройдя среди многочисленных сосен, по жёлтой от опавшей хвои земле, она углубилась в густой осинник. Там, среди кустов и молодой поросли, Милюль пошла блуждать, радуясь то пробивающимся пучкам травы, то муравейникам, стоящим большими кучами среди леса. Она дивилась всякой растущей мелочи, заглядывалась на движение букашек, углядывая в нём неизвестный ей, но явно присутствующий смысл. Долго блуждала она среди леса, наслаждаясь присутствием незаметной на первый взгляд жизни.
Большой синий жук с мощным жужжанием пронёсся над её головой и врезался в зелёный ото мха берёзовый ствол. Упав на землю, он некоторое время дёргал ногами, пока не перевернулся, а, перевернувшись, устремился под куст волчьей ягоды. Присев на корточки, Милюль полезла посмотреть: куда это он направляется. Жук полз между тонких стволов куста. Он шёл по своим делам, неизвестным никому кроме него, а Милюль ползла за ним. Ползла она тихо, тише ветра, гуляющего в древесных кронах, услыхав же человеческие голоса, замерла, спрятанная в густом кустарнике.
– Понимаешь ли, Саня, какая история – говорил Вован Шурику – ты идеалист. Потому что не замечаешь, или делаешь вид, что не замечаешь, как в этом мире всё устроено. А устроено всё очень грамотно. Помнишь, в четвёртом классе нам говорили на уроке истории про древних людей, которые жили первобытно-общинным строем?
– Кто ж этого не помнит? – откликнулся Шурик.
– А помнишь, Саня, кто там входил в первобытную общину?
– Родичи. Это ты вообще, к чему?
– К тому, Саня, что ничего с тех пор не изменилось. Вот, к примеру, кто у тебя родичи?
– Хорошие люди.
– Говно они, а не хорошие люди!
– А в глаз? – обиженно спросил Шурик.
– Это мы ещё успеем – обнадёжил Вован – сначала надо разобраться по сути. Лично я ничего против твоих родичей не имею. Ну, инженеры и инженеры. Нормальное явление. И ты будешь таким же инженером с окладом в сто двадцать рублей.
– Сто восемьдесят – уточнил Шурик.
– Сто восемьдесят – согласился Вован – но ты знаешь, у меня с математикой всегда было плоховато. Мамаша моя всю жизнь вахтёром на заводе горбатится, но никакой существенной разницы между ней и твоими родичами я не вижу.
– Не мудрено – усмехнулся Шурик.
– Во-от – протянул Вован – теперь и мне есть, за что тебе глаз подбить.
– За что? – не понял Шурик.
– Да за высокомерие твоё! За то, что ты думаешь: прочитал много книжек и стал шибко умным. Это ошибка, Саня, непростительная ошибка. Я, знаешь, добрый человек, поэтому попробую тебе растолковать её по-дружески. Мы же друзья? – тут Вован так старательно хлопнул Шурика по плечу, что никаких сомнений в его дружественности не должно было остаться. Их, наверное, и не осталось, потому что Шурик обречённо согласился:
– Друзья.
– Ну и замечательно! – воскликнул Вован – Посмотри вокруг, друг Саша! И мать моя, вахтёрша, и твои родичи, инженера, все они одинаково пребывают на нижней ступени социальной лестницы. Денег еле-еле хватает, никакого тебе благосостояния, никакого веса в обществе. Придут они в магазин, или в прачечную, так их там обхамят и в очередь поставят. В рестораны они уж, наверное, лет десять не ходили. И правильно! Нечего им там делать. Не про них эти заведения. Отпуск мизерный и если удастся хоть одному из них разжиться путёвкой на курорт, в Крым, так сразу такое счастье наступает: ни в сказке сказать, ни пером написать. Теперь посмотри с другой стороны: мать моя хотя бы принадлежит к великому классу пролетариев. Хоть тут есть для неё какой-то почёт и уважение. Твои же родичи вообще какая-то прослойка. Сидят, поди, на кухне по вечерам и ругают Советский Союз. А это не хорошо. Родину надо любить, Саня.
– Мои родичи любят родину.
– И ты, поди, любишь?
– Люблю.
– За что же ты её любишь? За то, что всю жизнь будешь, как проклятый книжки читать и учиться, а потом станешь никому не нужным инженеришкой? Будешь сидеть в КБ с дохлым окладом и по вечерам, на кухне, ругать свою любимую родину? Ничего себе, любовь!
– Знаешь, Вова, не твоего ума это дело – заносчиво сказал Шурик.
– Конечно, не моего – согласился Вован – я просветить тебя, дурня, хотел, а-то живёшь и ничего вокруг не видишь. Хотел я тебе сказать, что твои и мои родичи, одинаково изгои. Низшая ступень. А вот у Рудика родичи – совсем другое дело. Там такой правительственный двигатель проложен, что тебе и не снилось! Его папаша сам крупный деятель и сын ещё более крупного партийного человека. Перед Рудиком, а не перед нами все пути открыты. Его любит Страна и он, соответственно любит её. Вот, окончили мы школу, окончим институты, а дальше что? У нас – ничего, а у Рудика – всё. Ему и развлечения и возможности. Захочет он стать инженером, так будет главным, захочет военным, так будет генералом, а песни захочет петь, так станет обязательным, официально лучшим певцом для всей страны. Это уже предопределено.
Так что я подумал, подумал, и решил вступить в его первобытную общину. Того же и тебе советую. Пойми, старик, Рудик это и вождь и прекрасный принц в одном лице! Не серди вождя, и твоя жизнь обретёт перспективы. Глядишь, и ты со временем станешь для потомков достойным и уважаемым родичем. Только тогда и только так ты научишь потомков любить родину.
– Знаешь, Вован, я у тебя советов не просил – сказал Шурик – и Рудик твой мне хоть одноклассник, но не вождь, не принц и не указ. Не знаю, чего ты так о нём печёшься.
Вован театрально вздохнул:
– Подойдём к вопросу с другой стороны. Ну, чего ты упрямишься? Я тебе откровенно намекаю: наш Рудик на твою Соньку глаз положил. Так ты не мешай ему! Не путайся под ногами-то. Он с ней побалуется, да забудет, а ты ему на всю жизнь станешь другом.
– Срал я на твоего Рудика! – упорствовал Шурик.
– Вот она, человеческая неблагодарность! Он к тебе по-человечески: пригласил на свой катер, кормит тебя, поит бесплатно, а ты ему только кукиш кажешь. Разве это хорошо, Шурик?
– Он меня на катер не звал! Меня Соня позвала.
– До чего же у тебя отрывочное восприятие мира! Ты видишь Соню, которая позвала тебя, но не видишь Рудика, который позвал Соню. Давай-ка, расширяй кругозор, Шурик! Иначе твой интеллект заставляет меня воспринимать тебя как жука.
Милюль поморщилась. Пять минут назад она с любопытством наблюдала за синим жуком, а теперь ей стало неприятно и за Шурика и за себя и за жука, который давно уполз бог весть куда.
– Хватит меня прессовать, Вова – попросил Шурик – нам сказали дров принести, так давай, вяжи дрова.
– А я тебя ещё не прессовал! – откликнулся Вован – Хочешь, покажу, как на самом деле прессуют?
– Ну, да, конечно! – огрызнулся Шурик.
Тут на поляне, где юноши вязали собранный сушняк, произошла короткая, но очень агрессивная потасовка. Видеть её Милюль не могла, потому как боялась шевельнуться и сидела неподвижно под листвой куста, но хорошо было слышно, как раздаются короткие и смачные удары. Милюль помнила разницу телосложений и догадывалась, кому достанется больше.
– Ну чо, ясно тебе? – раздался голос Вована.
– Иди ты на хер! – крикнул Шурик, и оплеухи возобновились. Милюль понимала, что на лесной поляне происходит не битва, а избиение того самого Шурика, который проявлял о ней заботу с момента её появления в этом мире, а может быть и раньше. Надо бы было выскочить и прекратить эту глупость, но Милюль предпочла сидеть неподвижно.
– Ну чо, хочешь ещё? – спросил Вован, тяжело дыша. В ответ ему раздалось мычание, ярко говорившее о состоянии собеседника. Вован прочёл краткую мораль:
– Зря ты дёргаешься, старик. Рудик, он как самолёт, летит сквозь пространство и всем приносит только пользу. Он и с моей Алкой уже давно переспал, да и забыл о ней. Алка теперь моя, и это на всю жизнь. Ну, побалуется он с твоей Сонькой, ну и чо? Она после этого тебя же, дурака, сильней любить будет. Не мешай Рудику, дурень, а-то он тебя в порошок сотрёт. То, как я тебе накостылял, раем покажется. Он с евонным папой такое с человеком сделать может… тебе и в голову не приходило! Это же ЦК партии! Ты чо? Совсем тупой?
– Иди ты нахуй, холуй… – раздался хрип избитого Шурика.
– Ах, так мы в героев-комсомольцев играть будем? – спросил Вован, и добавил, вслед за увесистым шлепком – На тебе!
Тишина была ему ответом. Помолчав немного, Вован сообщил:
– Ладно, пойду я. Ты уж меня сам догоняй, а по дороге подумай. Дрова взять не забудь.
Вован ушёл, а Милюль, выглянув из-за куста, увидела одиноко сидящую посреди поляны фигуру Шурика. Подходить к нему было нелепо. Что она могла бы сказать? Что бы он объяснил теперь ей, начни она задавать вопросы о многочисленных непонятных словах, произнесённых Вованом? Пятясь, она выбралась из кустов и неспешно пошла в сторону реки. Всё происходящее сегодня очень ей не нравилось. Ей не нравилась прилизанная причёска Рудика, не нравилась подслушанная лекция Вована про «принца и вождя».
– Тоже мне, принц! – усмехнулась Милюль – из детской сказки… – и тут она встала как вкопанная. Её осенило: – Точно! Вот оно, оказывается, что! Никакой это не сон случился со мною! Нет! Это именно сказка, но сказка необычная и страшная. Сказка, в которую я соскользнула как в воронку, или водоворот. Водоворот движется всё быстрее, всё глубже засасывает в себя и отрывает от нормального человеческого мира, где были нянечка, огромный лайнер, огромный человек и огромное море. Вначале я находилась лишь на краю сказочной воронки, я только слегка была задета ею, и не сразу заметила, когда это случилось.
Милюль присела на поваленное дерево и, подперев щеку кулачком, задумалась, припоминая начало зловещей истории. Не могло быть сомнений в том, что та злая ведьма в сиреневой шляпе заколдовала её! Именно тогда весь мир зашатался и раздвоился, а судьба совершила переворот, за которым начались остальные превращения. С каждым днём изменения всё сильнее и обратной дороги не найти. Даже земля, на которой она теперь сидит, совсем не та, которая могла быть давеча, и сказочный принц тоже оказался никуда не годным. Никак он не походил ни на Ивана-Царевича, ни на Иванушку-Дурачка. Он испорченный принц, как и вся испорченная сказка.
Милюль завершила ход печальных мыслей, подумав: «Сказка – дрянь. Надеюсь, что хоть еда в ней ещё не протухла». Ей опять хотелось есть. Голодное утро, разбавленное вредными и противными напитками, переходило в день и день этот требовал своего. Милюль поднялась и бодро зашагала к лагерю.
* * *
В центре поляны, обложенный с двух сторон кирпичными стенками, потрескивал костёр. Посреди поляны была расстелена «скатерть-самобранка», уставленная вожделенной едой и разнообразными бутылками. У сосен, растущих вдали от воды, раскинулись две палатки. Дядя Стёпа и Алка сидели на брёвнах у костра и курили. С другой стороны очага, стоя спиной к Милюль, беседовали Рудик и Вован.
«Подслушивать, так подслушивать» – решила Милюль, подкралась и замерла у них за спиной.
– Я ему и так и сяк объяснял – говорил Вован – но он ничего не понимает. Идеалист.
– Потому я и не хотел его брать – вздохнул Рудик – надо было хватать Соньку в охапку, да волочь на катер, пока пьяная.
– Вышло бы недопустимо шумно – выразил несогласие Вован.
– По-твоему будет лучше от того шума, который Шурик устроит здесь?
– Ну, я о нём позабочусь.
– Вот и позаботься. Выпей с ним мировую. Пускай Алка тебе поможет. Пейте, пока он не ухрюкается, или ещё чего придумай. Я буду не я, если сегодня на Соньку не залезу!
– Это зачем? – спросила Милюль.
Оба юноши подпрыгнули от неожиданности и обернулись.
– Ты чего подслушиваешь? – спросил Вован.
– Ничего – пожала плечами Милюль – никто не говорил, что нельзя.
– Ты давно тут стоишь? – засуетился, отводя глаза, принц.
– Да вот, только что пришла – сказала Милюль и, так и не выяснив, для чего ему приспичило залезать на Соньку, приблизилась к сидящей у костра Алке.
– Ну что, нагулялась? – спросила Алка, запрокидывая лицо и выдыхая дым вверх. Милюль неопределённо пожала плечами:
– Как-то тут всё чудно. Я ходила и всех подслушивала.
– Да ну? – оживилась Алка – Молодец какая! И что наподслушивала?
– Сама не поняла. С одной стороны говорят, будто Рудик принц, а я смотрю и вижу: не похож.
– Ублюдок он, а не принц – отрезала Алка – рассказывай, что говорят с другой стороны?
– С другой стороны сам Рудик зачем-то хочет на меня залезть.
– Можно было и не подслушивать – Алка махнула рукой – это видно невооружённым глазом. Ещё с Ленинских гор, когда он стал угощать нас портвейном.
На поляне появился Шурик. На лице его сиял свежий фингал, а через плечо был перекинут связанный верёвками огромный пук валежника. Он подошёл к костру и сбросил сучья на землю. Алка радостно воскликнула:
– О! Вот и наш лесоруб появился!
– Самое время! – возрадовался Рудик и, взяв топор, начал рубить принесённые Шурой сучки. Занимаясь этим делом, он, как бы походя, спросил – Чего это у тебя фингал под глазом?
– Это награда за моё неверие в то, что ты принц – зло ответил Шурик.
– Тогда правильно! – согласился Рудик – Я принц и наказан будет каждый, кто в этом усомнится.
– Пошёл ты нахрен! – посоветовал Шура.
– Не обижаюсь! – улыбнулся Рудик.
Огонь, засыпанный свежими дровами, на время угас, но потом постепенно вновь разгорелся. Милюль загляделась на пляшущее пламя. Отрываясь от древесины, жаркие языки взлетали вверх и растворялись в воздухе. Каждый новый огонёк рождался из древесной щёлки, жил мгновение, расширялся, выпрыгивал вверх и тут же таял. Их стремительный, моментальный полёт завораживал множеством хаотичных перемен.
Милюль отслеживала движение таинственных протуберанцев и воображала в каждом из них тысячи и миллиарды быстротекущих жизней. Она наблюдала, как в мизерных вихрях за доли секунд случается неисчислимая масса событий, конфликтов и ссор. Одни искорки хотели лететь в одну сторону, другие им мешали. Вокруг больших искр вертелись рои мелких сателлитов, и на них, возможно, тоже были свои вселенные и миры, живущие в непонятной, но искромётной борьбе. Долетая до верхней точки, все они исчезали, превращаясь в горячий воздух. Какое, сжатое до невероятной малости время протекало во вспыхивающих частицах костра? Как быстро происходила в них скрытая от медленного человеческого взгляда жизнь?
Милюль разнежилась и расслабилась, созерцая поток огненных залпов. Дрова превращались в головёшки, которые разваливались на рубиновые угольки. Угольки сваливались в кучки, а Рудик, как демиург, выравнивал их дымящимся кривым сучком в ровную, пышущую жаром поверхность. Лицо его раскраснелось, в глазах отражался огонь.
Милюль предположила про себя: «До того, как испортиться и прокиснуть, он, вероятно, вполне мог быть нормальным сказочным принцем». Вслух же сказала:
– Как здорово сидеть у костра. Такое ощущение, словно вселенная перед глазами!
– Огонь – чарующее зрелище – согласился Рудик. Но тут Вован, совершенно неожиданно, возразил:
– Это развлечение для пролетариата. Мы, серьёзные старики, должны смотреть на это дело по-новому. Нам это ни к чему, как театр.
– Глубокое решение – усмехнулся Рудик – ты, Вован, вообще ведущий мыслитель современности, как я заметил.
– Я тоже чувствую, как огонь завораживает – признался Вован – только стараюсь не обращать на это внимания. У огня своя жизнь, у меня своя.
– Верно – согласился Рудик – и нам пора насаживать мясо.
– Самое приятное дело: насаживать мясо на мясо! – сострил Вован и сам же громко заржал.
Алка обозвала его дураком.
Рудик отошёл от костра и вернулся с эмалированным ведром и небольшими железными рапирами без эфесов. Открыл крышку ведра и стал натыкать куски сырого мяса на одну из рапир. Взглянув на наблюдавших за ним одноклассников, сообщил:
– Есть у бати кухарка, тётя Глаша. Замечательно мясо маринует. Шашлык будет царский. Зря ты, Шурик, не поверил, что я принц.
– Кухарка? – переспросил Шурик.
– Ну, да – ответил Рудик – а что?
– Ничего – пожал Шурик плечами – всю жизнь думал, что твой предок коммунист. И по телевизору так говорили.
– Он и есть коммунист – невозмутимо ответил Рудик, откладывая полную рапирку и начиная насаживать мясные куски на следующую – не понимаю твоего удивления. Мой папа строит коммунизм для тебя, Шурик и для всех. Дело это нелёгкое. Если он будет сам себе щи варить, то коммунизм так никогда и не построится. Надо понимать: одно это одно, а другое, это другое.
– Мне уже третий день говорят о коммунизме – призналась Милюль – а я так и не поняла, что это такое.
– При коммунизме не может быть кухарок – заявил Шурик.
– Их застрелят? – спросила Милюль, но ей никто не ответил. Все засмеялись, загалдели, и тема разговора уплыла в сторону. Рудик окончил нанизывать мясо на шампуры, сгрёб горящие головёшки в сторону и аккуратно выложил шашлык над красными углями. От костра потянуло вкусным до головокружения запахом.
– Давайте будем есть – предложила Милюль, после чего моментально выхватила из ведёрка кусок сырого мяса и проглотила его, почти не жуя.
– Вот нифига себе! – среагировала Алка.
– Ты чо? – закричал на Милюль Вован.
– Не «чо», а «что» – поправила его Милюль и таким же образом съела второй кусок.
– Э! Так не пойдёт! – запротестовал Рудик – Фокусы фокусами, а шашлык требует серьёзного отношения! Прекрати, Софья, сырое мясо жрать. Глисты заведутся.
– Очень кушать хочется – улыбнулась Рудику Милюль и потянулась за третьим куском, но Рудик пресёк её поползновение, накрыв ведро крышкой:
– Хочешь есть, так ешь, а продукты не переводи!
– И правда – поддержала Рудика Алка – вон, сколько человеческой еды! – тут она повела рукой в сторону скатерти-самобранки.
– Давно пора заняться делом – почёсывая руки, подсел к скатерти Вован – а то сидим на дровах как филины, ждём неизвестно чего!
– Известно чего ждём. Шашлыков ждём – не согласилась Алка.
Вован схватил одну из бутылок и обратился к Шурику:
– Я с Сонькой солидарен. Пока зажарятся шашлыки-машлыки, мы слюнями захлебнёмся. Давай, Саня, выпьем за наше примирение, да начнём замаривать червячков.
Постепенно все, кроме Рудика, занятого приготовлением шашлыков, переместились поближе к скатерти. Вован то и дело наливал в стаканы гадкую жидкость, произносил тосты один нелепее другого и выпивал с Шуриком.
Милюль не слушала его болтовни. Всё её внимание поглотил сам стол. Как много тут оказалось еды! Хоть и не было ни стюардов, ни официантов, хоть и обеднел ассортимент, но количество блюд оказалось не в пример больше, чем вчера и позавчера.
Три маринованных огурца Милюль заглотила подряд, достав их из банки с рассолом. Нарезанную толстыми ломтями ветчину, она проложила слоями белого хлеба и тонкими ломтиками сыра. Получившийся бутербродище уничтожился в три укуса. Толстый батон розовой колбасы с белыми кружочками жира внутри лежал на отдельной тарелке и нарезан был не весь. Милюль не стала трогать резаные кругляши, а взяла оставшуюся, неразрезанную часть батона и съела его, кусая прямо так. Справившись с колбасой, она схватила открытую банку с надписью «Булгарконсерв» и алюминиевой ложкой выела из неё весь, находящийся там зелёный горошек. Три коричневые груши из другой похожей банки тоже стремительно съелись.
Милюль не чавкала, не жрала точно свинья. Она кушала очень аккуратно, хоть и быстро. Экономя время на прожёвывании, она заглатывала такие куски, которые могли проскочить в глотку, но соизмеряла их настолько точно, что ни разу не подавилась. Тем не менее, едва Милюль остановилась, чтобы перевести дух и негромко рыгнуть, её насторожила наступившая вокруг тишина. Оказывается, все сидящие за трапезой, включая Дядю Стёпу, не едят и не разговаривают, а молча смотрят на неё.
– Что-то не так? – поинтересовалась Милюль.
– Ты чо закуску мечешь? – преодолев оторопь, возмущённо воскликнул Вован.
– Разве нельзя?
– Можно! Но не так же! – Вован обратился ко всем – Видали? Она заглатывает как крокодил!
– Да-а-а – протянула Алка.
Шурик ничего не сказал, а Дядя Стёпа, сидевший до сих пор молча, насмешливо вымолвил:
– Закуска без выпивки называется едой.
– Ты чо, с цепи сорвалась? – не унимался Вован – Тебя год, что ли не кормили?
– Я люблю всё делать основательно – пояснила Милюль, сооружая новый многоэтажный бутерброд.
– Стой – стой – стой! – Вован вытянул вперёд левую ладонь, а правой рукой взял одну из бутылок – раз ты ешь основательно, так ты основательно и пей. Кто возражает?
Никто не возразил и Вован продолжил разливать содержимое бутылки по алюминиевым кружкам.
– Давайте содвинем бокалы за то, чтоб не было мучительно больно за бесцельно сожратую закусь. Кажется, так говорил классик?
Все подняли кружки. Милюль последовала общему порыву. Лишь Рудик, колдовавший возле костровища, не участвовал в разборе тары. Вован закричал ему:
– Рудольф! Питьё уходит от тебя!
– Ребята, я пас, – махнул рукой Рудольф, – мне ещё три минуты до полной готовности.
– Ну, пас, так пас, – великодушно разрешил Вован. – Дядя Стёпа, вам, как старшему, предоставляется слово, уважение и почёт.
– Спасибо – поблагодарил Дядя Стёпа – спасибо за уважение, а почёт пускай повременит. Ну, так что ж, я много говорить не умею. Скажу только вот что: ваши родители, весь наш Советский Союз растил вас от самых пелёнок. Вы ходили в школу, получали знания и жили в мире. Никакая атомная бомба на вас не упала, и за всё это время никакой враг вас не потоптал. Впереди вас ждут институты. Получайте высшее образование и становитесь настоящими гражданами. Учитесь и получайте. И скажите спасибо нам, старикам, за то, что мы это всё вам устроили. Мир и все возможности. Всё для вас, для молодых.
– Ура! – закричал Вован и, чокнувшись со всеми, запрокинул голову, пия. Остальные тоже чокнулись и выпили. Выпила и Милюль. Горячая волна, как и в тот раз, на катере, прокатилась по пищеводу, но, на этот раз растворилась в животе без ощутимых и разрушительных последствий.
– Теперь есть можно? – поинтересовалась она.
– Теперь не можно, а нужно – ответил Вован, жадно чавкая закуской.
Рудик закончил ворочать шампурами у костра и подошёл, неся веера готовых шашлыков к «столу». Веселье вспыхнуло с новой силой. Были открыты новые бутылки и зазвучали новые тосты «под шашлык». Застолье продолжило развиваться довольно мирно и весело.
Милюль совсем расслабилась. В сегодняшней компании ей оказалось ненужно отслеживать своё неизвестное прошлое и пытаться выстроить правильную линию поведения, а главное, сегодня было не голодно. Милюль ела от пуза, в то время как остальные выпивали и смеялись. Рудик так и сыпал байками и анекдотами:
– В тридевятом царстве жила-была царевна Несмеяна. Никто не мог её рассмешить. Плакала и плакала. Собрал царь всех мудрецов, которые были. Мудрецы думали, думали, ничего не придумали. Решили пойти, спросить у старого еврея. Искали его три дня и три ночи. Наконец, нашли. Окружили со всех сторон и спрашивают: «Ну, ты, жидовская морда, когда в Израиль уедешь?»
Взрыв всеобщего хохота увлёк Милюль. О ком шла речь в анекдоте, и в чём заключался юмор, совершенно её не заботило. Милюль смеялась за компанию.
– А вот ещё – вспомнил о чём-то Вован и тут же рассказал такую же несуразицу, но почему-то совершенно несмешную. Закончилось очередным тостом.
По подобному сценарию ситуация повторялась неизвестное количество раз. Милюль ела неизменно много и потому практически не пьянела.
По задумчивому лицу Дяди Стёпы трудно было понять, действует ли на него выпивка. А вот Вован, Шурик и Алка изрядно раскраснелись и захорошели. Они даже порывались петь, но неизвестная песня, как всегда с туманным содержанием, запуталась на первом же припеве, споткнулась и перестала звучать.
– Э-э-э – протянул Рудик – да я вижу, вы уже спеклись.
– Да – поддержал его Дядя Стёпа – вы отдыхайте, а мне пора на боковую.
Он поднялся, отряхнул капитанской фуражкой штаны и походкой морского волка, вразвалку пошёл к стоящему у мостков катеру.
– Во мужик! – сказал Вован, завистливо глядя ему в спину – Пьёт и не пьянеет.
– Он меру знает – разъяснил Шурик и икнул.
Вован косо глянул на Шурика, вновь налил в кружки и заговорил, обращаясь к Рудику:
– Спасибо, Рудик, тебе за этот праздник. Спасибо за то, что ты умеешь так вот всё организовать. Этот – он махнул рукой в сторону катера – говорил, что мы должны его поколение благодарить, а я решил так: я тебя благодарить буду! И папу твоего, конечно, но тебя больше, потому что ты нам всем друг и ты устроил нам такое… вот за то, что ты такой человек… – тут Вован пустился в долгие разглагольствования. Речь его то скакала с одного на другое, то возвращалась к достоинствам Рудика и его папы. Постепенно Милюль стало совсем непонятно, о чём он хочет сказать. Она глянула на Алку, которой видимо, тоже стало скучновато. Алка уловила Милюлин взгляд и тут же прервала Вована:
– Рудик, я хочу подытожить то, про что он говорит, а то мы до утра не выпьем. За твоего папу, и за коммунизм, который он всем нам так замечательно построил!
Все чокнулись, причём Шурик с Вованом поначалу промахнулись кружками и от этого все опять засмеялись. Милюль потрогала себя за лицо. Кожа потеряла чувствительность, и рукам казалось, будто они трогают нечто чужое. Вместе с тем в голове образовалась беспечная лёгкость. Милюль решила поддержать разговор.
– Я про коммунизм чего-то слышала – сообщила она – Мы с вами пионеры, да?
Алка почему-то засмеялась, а потом продекламировала:
– Пионеры юные! Головы чугунные! Ноги оловянные! Черти окаянные! Давайте за пионеров выпьем! За наши школьные годы!
– Точно! – обрадовался Вован – за школьные годы мы уже часа два, как не пили! А ну-ка, все поднимем стаканы, содвинем их разом! – и, дико вращая глазами, вдруг заорал – За Родину! За Сталина! Ура!
Все опять стали чокаться и выпивать, а Милюль решила уточнить:
– Стало быть, коммунизм уже наступил?
– А ты как думала? – осклабился Рудик – Конечно, наступил. Вот в этом, конкретном месте. Видишь, питьё бесплатное?
– Быстро – вздохнула Милюль.
– Что быстро? – переспросил Рудик.
– Коммунизм наступил. Ещё позавчера только собирались его строить, а сегодня уже построили.
Алка и Вован одинаково пьяно рассмеялись, а Шурик поднялся с недопитой кружкой в руке и выступил:
– Коммунизм это светлая идея будущего. Ленин и все поколения наших отцов положили за коммунизм жизни. Мы обязаны строить его и приближать тот счастливый день, когда всё человечество освободится от рабской психологии, когда общественное сознание победит частный сектор. Мы будем сражаться за новое время, чтобы наступило равенство всех на земле, и чтобы ни у кого не было кухарок! – тут он выпил и рухнул на своё место.
– Не будет кухарок, не будет и шашлыков – заметил Рудик.
– Чо? – придвинувшись к Рудику процедил Вован – Пора его вырубать?
– Кого вырубать? – спросил Шурик заплетающимся языком.
Вован не ожидал, что Шурик его услышит. Находясь в состоянии пьяной прелести, он полагал свой вопрос, направленный конкретно Рудику, неслышимым для всех остальных. Поэтому он с удивлением взглянул на Шурика и возмутился:
– Ах ты! Тебя, мор-рда! – и Вован всей пятернёй толкнул Шурика в лицо. Шурик опрокинулся с бревна на спину, по-клоунски задрав к небу ноги.
– Объявляю танцы! – крикнула Алка и нажала клавишу на коробке с двумя колёсами, между которыми была хитро натянута тонкая, тёмная плёнка. Колёса начали вращаться, и из чудесной коробки понеслась новая песня. На этот раз про какого-то российского соловья, славного птаха, который «начинает песнь свою со свиста».
Услыхав звуки музыки, Вован забыл про Шурика, встал, покачиваясь, взял Алку подмышки, поставил на ноги и, обняв её, стал бессмысленно переминаться с ноги на ногу. Рудик тоже поднялся, протянул руку Милюль. Она с интересом посмотрела на протянутую ладонь, подняла взгляд на Рудика. Спросила:
– Тебе чего?
– Давай потанцуем – не то спросил, не то предложил «принц».
Милюль растерянно огляделась. Нигде вокруг она не видела подходящего для танцев пола. Разве что танцевать на причале, но он слишком узенький. Можно и в воду грохнуться. К тому же мелодия не была похожа ни на вальс, ни на мазурку. Какая-то булькающая музыка. Под неё только лягушкам плясать. От этой мысли Милюль сделалось необычайно смешно, и она расхохоталась. Рудик же покраснел и, схватив её за руку, резко дёрнул вверх. Едва Милюль оказалась на ногах, Рудик обнял её за талию, прижал к себе:
– Что ты ржёшь надо мной? – обдавая горячим воздухом, сказал ей на ухо.
Может быть, он хотел куда-то её повести, или собирался зачем-то ещё сдвинуть с места, но Милюль обиделась. Она не привыкла к такому обращению и не собиралась привыкать. Вот ещё! Всякий «принц» будет её хватать, да дёргать! Будь он хоть трижды принц, нельзя так обходиться с дамами. Милюль схватила Рудика за талию и, легко оторвав от земли, бросила в направлении реки. Пролетев метра три, Рудик упал и покатился к берегу. Шурик, только что вылезший из-за полена, за которым валялся, удивлённо отследил полёт одноклассника и перевёл взгляд на Милюль. Та невозмутимо вернулась на бревно и, взяв очередной шампур, с удовольствием возобновила поедание шашлыка.
Рудик сначала поднялся на четвереньки, затем встал, посмотрел на Милюль, попытался осознать произошедшее, но не смог, а потому дико закричал:
– Вован! Вали её, суку! Сейчас мы ей вставим!
Музыка продолжала играть и Вован, увлечённый топтанием в обнимку с Алкой, не сразу понял, чего от него требует «вождь». Он оторвался от Алки, рассеянно посмотрел на стоящего в отдалении Рудика, на сидящую на бревне Милюль, на Шурика, поднимающегося с колен и, сказав: «Ах, ты, говнюк!», со страшной силой стукнул Шурика ногой по лицу.
Шурик упал снова, а Вован, вздохнув как человек, достойно выполнивший долг перед обществом, обнял Алку и возобновил парные переминания и покачивания.
– Не его! – кричал, приближаясь, Рудик – Её! Соньку вали на землю! Она у меня получит!
Он показывал пальцем на Милюль, а Милюль ела жареное мясо и думала про себя: «Никакой он не принц. Злобный гном. Вот он кто». Под действием громких призывов Рудика, Вован снова оторвался от Алки, подошёл к костру и, глядя на Милюль сверху вниз, грозно спросил:
– Ты чо? Ты вождя обидела?
– Нехрен с ней разговаривать! – скомандовал подошедший к костру разъярённый «вождь» – Хватай её за руки. Ноги я сам раздвину!
Милюль подумала… какая, впрочем, разница, что она подумала? Нечего об этом и говорить. Потому что Вован не успел выполнить приказ товарища. Он даже нагнуться не успел. Отложив шампур, Милюль обеими руками схватила его за лодыжки и, не отпуская, встала. Вован потерял равновесие и упал, страшно ругаясь. Милюль же потащила его за ноги, закрутилась на месте, вращая здоровенного Вована вокруг себя и отпустила. Вован полетел в Рудика, врезался головой ему в грудь и вот уже оба они покатились по берегу, докатились до реки и бухнулись в воду.
И Алка и Шурик были потрясены нереальностью происходящего. Они молча наблюдали, как Рудик и Вован выбираются из воды, ползут сквозь прибрежную осоку и помогают друг другу встать. Вован же с Рудиком о нереальности не задумывались. Мокрые и возмущённые от унижения они бросились мстить, извергая потоки нецензурщины.
Из катера на пирс вышел разбуженный шумом Дядя Стёпа. Он видел, как юноши добежали до Милюль, как она схватила обоих за шеи и оттолкнула с такой силой, что Рудик тут же упал и покатился по траве, а Вован, будучи покрепче и потяжелей, стал стремительно пятиться, пока не допятился до реки и не вошёл по щиколотку в воду.
– Бей её, Вован! – приказал, поднимаясь, Рудик.
Дядя Стёпа оценил обстановку и побежал по мосткам на помощь хрупкой девушке, которая, к его удивлению, не проявляла никакого беспокойства по поводу нависшей над ней опасности. Отделавшись от приставал, она села на полено и продолжила трапезу.
Несмотря на годы, капитан катера оказался проворнее пьяных выпускников и быстрее них добежал до Милюль. Она повернулась к нему и, не переставая жевать, пожаловалась:
– Дядя Стёпа, как они мне надоели. Поесть не дают.
Тут она, не оборачиваясь, резко вскинула вверх сжатую в кулак свободную от шампура руку. Рудик налетел на кулак животом и, перекувыркнувшись через Милюль, упал с другой стороны.
– А ну прекратить безобразие! – приказал Дядя Стёпа, но, видимо, опоздал, потому что коварный Вован, бежавший почти сразу вслед за Рудиком, ударил Милюль по голове невесть откуда взявшимся у него поленом.
* * *
Я мог бы рассказать вам, что случилось на лесной поляне потом, но не вижу в этом смысла. Очередная игра реальности, происходившая в жизни Милюль, прекратилась. Она закончилась, как может закончиться жизнь любого из нас.
Так же резко и бессмысленно прерывается порою головокружительный сюжет спокойного здорового сна. Самый обычный сюжет, не имеющий никакой логической связи ни с тем, что было до него, ни с тем, что будет после. Вот так шёл он, шёл, длился и длился, а потом раз и оборвался. Пойди, вспомни, чего там такое снилось? Начнёшь вспоминать и увидишь только нагромождение нелепостей.
На историю Милюль можно было бы плюнуть, да и забыть её как глупый сон, если бы всё это нагромождение поступков и ситуаций не было бы самой настоящей жизнью. Нелепая жизнь? Уж, какая есть. Неужто наша с вами жизнь, уважаемые раки, намного осмысленней? Едва ли. Иной рак бежит по пляжу, торопится, беспокоится: как бы покушать, как бы домик себе подходящий подобрать, чтобы актиния была на спине и прочие удобства… или ещё придумают себе заботу об икре и потомстве. Вся жизнь оказывается бесконечной чередой забот, волнений и беспокойств.
Иные заняты постижением вселенной. Ходят, чертят на песке научные формулы, беседуют друг с другом, спорят. Иные ревностно служат Омару и прочим святым. Чем только мы ни занимаемся, и при этом находим в наших занятиях смысл. Так продолжается, пока в один прекрасный день не появляется рука судьбы в виде чего-нибудь неприятного. Это может быть осьминог, человек, нефтяное пятно… мало ли в каком облике может прийти неприятность? Щёлк! Прервалась осмысленная и серьёзная жизнь разумного рака. Улетает она в прошлое со скоростью времени, как оборванный сон, который и не вспомнишь толком. Что ему, раку, за дело теперь до тех следов, которые он оставил на мокром песке? Морские волны выровняют песок, смоют следы, разобьют о камни его опустевшую раковину. Была раковина важным элементом бытия, а теперь на неё наплевать. Металась в сердце забота о маленьких и беззащитных икринках, а теперь нет заботы, и не имеют икринки никакого значения. И отправляемся мы – кто к Омару, кто ко Крабу, а кто ко Креветке, хотя и тут не можем быть стопроцентно уверены в своём пути, ибо все эти трое остаются лишь частью разговора из минувшего и забытого теперь сна. Вселенная, оставшаяся непостигнутой, море, оставшееся неизмеренным и родной пляж с неоконченными заботами и суетой, всё остаётся в стороне и делается ни причём.
Вы видите, как я обескуражено развёл в разные стороны клешни и стою, не зная: к чему была жизнь? К чему моя сказка о ней, если закончится она и не останется следа ни от жизни, ни от самой истории? Может быть, вы ждёте от меня ответов на мои же вопросы? Но каждый из вас, едва он начинает говорить и думать, спрашивает о том же. Вот и я вынужден всех вас огорчить: никаких ответов я не знаю.
К чему же сказка? Да к тому, доблестные мои слушатели, чтобы вы отбросили свою видовую спесь, отворили души окружающему миру и, хотя бы в виде сомнения, допустили возможность присутствия в ином существе самой обыкновенной живой души, такой же, какая мучительно дрыгается в каждом из нас. Моя история не о каком-то там человечке, но о нашей с вами сестре, которая однажды потеряла место в безупречном построении живой природы. Мой рассказ о существе, метущемся в бескрайних просторах и не знающем, куда занесёт её в следующее мгновение.
* * *
Ночью светлой и тихой, когда полная луна превратила поверхность воды в матово-блестящую ртуть, когда трава на берегу потеряла дневной, зелёный цвет и серыми волосами торчала во все стороны, когда нервные тени летучих мышей истерично чертили в небе невидимые линии, Милюль коснулась руками вязкого ила под прибрежной осокой. Двигаясь медленно и осторожно, она доползла до твёрдой земли и замерла, выдвинувшись на поверхность почти целиком.
Непривычно холодило кожу. Непривычно тяжело прижимало к земле и никуда не влекло, не тянуло течением. Благодаря царившему вокруг безветрию, окружающий мир не шевелился и, стираясь из памяти, постепенно исчезал.
Милюль медленно двинулась вперёд, чтобы обновить картину колючей окружающей среды. Покинутое только что подводное царство было уютно накрыто ровной блестящей крышкой, а тут – нет. Огромный белый круг жёстко светил сверху. Вертикальные полосы и чёрные тени окружали Милюль со всех сторон. Она долго сидела неподвижно, ощущая нарастающий голод.
Справа раздался тихий, монотонный звук вибрирующих крыльев. Звук приближался, и вот в поле зрения показалась маленькая движущаяся цель. Милюль безошибочно метнула в неё липкий язык и тут же проглотила мелко дрожащего во рту комара. Так же точно Милюль поймала и съела ещё одного комара, потом ещё и ещё. Еды оказалось предостаточно. Милюль ела и думала: «Тут хорошо. Тут можно жить».
Глава шестая Четверг
Свесив здоровенные тёмные брюхи, огромные тучи плотным строем медленно ползли из-за скал. Ветер, налетая частыми порывами, тщетно пытался разогнать, расшевелить их. Слишком ленивым и монотонным было небесное стадо. Оказавшемуся в тесной щели меж ними и морем ветру оставалось лишь злиться на самого себя. Он и злился. Он дёргал за ветки прибрежные кусты, драл верхушки чахлых пальм, гонял по берегу лёгкий мусор и сбивал с волн редкие белые барашки, хлопая ладонью волнам по затылкам. Волны, угрюмые спросонья, шли к берегу с двух разных сторон, встречались и рисовали на поверхности океана почти правильные ромбы. У берега они вступали в сложные взаимоотношения. То сталкивались и подпрыгивали вверх, до самого неба, то вылетали на пляж и неслись по песку наперегонки, а иногда они поедали друг друга, и тогда в ритме прибоя образовывалась кратковременная пауза.
Многих раков уволокло на дно и они, спрятавшись поглубже, отсиживались в коралловых дебрях. Оставшиеся на берегу – напротив, отбежали подальше от воды и там, среди нетронутых прибоем песков, наблюдали битвы утренних стихий.
Нечленораздельные выкрики с моря достигли их слуховых органов. Раки направили в ту сторону стебельки глаз, и увидели, как волны то выбрасывают нечто на берег, то увлекают обратно в море. Дабы получше разглядеть эту штуку, раки стали перемещаться вдоль пляжа и вскоре собрались в небольшую группу напротив катающегося и орущего предмета.
Постепенно все узнали того самого старого рака, который вот уже несколько дней подряд рассказывал им не-то сказку, не-то историю про девочку, или про лягушку… чёрт знает, про что он им рассказывал, а теперь ужасный прибой захватил его в свой беспокойный плен.
– Не наш ли это учитель? – спрашивали одни.
– Да какой он, к чертям, учитель? Старый маразматик! – возражали другие.
Несмотря на разницу в оценках просветительской роли старого рака, никто не сомневался в том, что это именно его там носит.
– О чём он хочет нам сообщить? – интересовались позитивно настроенные.
– Да чего он может хотеть? – вопрошали их оппоненты – Неужели не видите, как глупость вашего учителя довела его до беспомощного состояния? Как может учить уму-разуму тот, кто не умеет укрыться от губительных волн хоть по одну, хоть по другую сторону прибоя? Чему он может научить?
Сам предмет обсуждения продолжал бултыхаться в волнах, то приближаясь к спорящим, то укатываясь от них. При этом он продолжал издавать довольно громкие звуки и вот что интересно, звуки были одни и те же. То есть они повторялись как однообразный сигнал первого спутника Земли. Ни отчаяния, ни призывов о помощи не слышалось в его голосе.
Рак-интеллигент вслушался и сказал:
– Кажется, там повторяются две гласные буквы: «Э» и «А».
– Вы перечислили три буквы – поправил его зелёный рак.
– Вот уж, чего-то не заметил – скорчил ехидную гримасу интеллигент.
– Тихо! – прервал их спор серьёзный крабопоклонник – вы мешаете вслушиваться. Может быть, он возвращается к истинной вере, как это должен сделать каждый перед лицом смерти.
Ему возразили по-разному, разгорелся привычный спор и среди собравшихся поднялся гвалт, сквозь который не смогли бы пробиться даже самые отчётливые вопли. Каждый спешил высказать своё мнение, или поделиться когда-то выученным.
Препирательства длились бы до вечера, если бы волны, сойдясь в аналогичном, но непонятном ракам споре, не образовали невероятно высокий бурун, подхвативший сенсэя и понёсший его в центр дискуссии. На мгновение все умолкли и с ужасом смотрели как, растопырив ноги и клешни, подобный гигантской птице кондор, летит на пенистом гребне волны старый рак и орёт позывной сигнал:
– Эх, ма!..
Но вот волна донесла его до группы спорщиков. За миг до падения, старец, с обычной для отшельников прытью, скрылся внутри ракушки. С хрустом и скрежетом упала большая раковина на песок, а волна, мягко шелестя, уползла в море.
Наступила тишина. Все ждали: покажется ли старик наружу? Он медлил. Наконец зелёный рак не выдержал, подполз к большой раковине и постучал по ней клешнёй.
– Занято! – донеслось изнутри.
– Уважаемый учитель! – прокричал зелёный рак – не могли бы вы ответить на несколько вопросов?
Раковина приподнялась. В щели между ней и песком появился глаз уважаемого отшельника, двинулся влево-вправо, оглядел всех собравшихся, после чего исчез. Раковина водрузилась на прежнее место, и из неё глухо прозвучало:
– Нет.
– Почему? – удивился зелёный рак – Мы всегда вас внимательно слушали! Сегодня мы так удивлены увиденным… возникли споры и мы не можем составить единого мнения. Что это было?
Тишина была ему ответом. Выждав немного, зелёный рак продолжил орать на безмолвную ракушку:
– Учитель, мы видели, как опаснейший прибой швыряет вас туда-сюда! Мы слышали, как вы кричите, или посылаете нам некие сочетания звуков и тут наши толкования разделились. Одни услышали в ваших воплях – мантры для объединения с неким эгрегором, который мог бы укрепить ваш дух, либо изменить направление природных сил. Другие утверждали, будто вы молитесь Омару, или кому-то ещё, дабы он выручил вас из этого неприятного положения. Третьи же предположили, что вы готовитесь достойно принять свой смертный час и, опять же молитесь.
Раковина молчала. Зелёный рак решил придать произнесённой тираде вопросительный оттенок и громко выкрикнул:
– А?
Но летающий старец не был настроен общаться, поэтому ответ, прозвучавший изнутри его домика, оказался совсем категоричным:
– Хуй на.
Зелёный рак обиделся и отполз в сторону. Некоторые легкомысленные раки захихикали. Одного недалёкого детину разобрал совсем неприличный дурносмех. От его гогота многим стало неудобно, и они даже покраснели, смутясь. Тогда большая раковина зашевелилась, поднялась, и гигантский старик появился весь, со всеми своими клешнями, ногами, усами и мохнатостями.
– Это кто тут ржёт как лошадь? – грозно спросил патриарх.
Глупый рак-весельчак прекратил смеяться, едва раковина зашевелилась, поэтому теперь старик мог подумать на кого угодно. Смущённые отшельники бочком отползли от невежды, и постепенно ответ на поставленный вопрос стал очевидным, хоть и не прозвучал. Никто не знал, чего ожидать от пожилого гиганта. Не знал и этот, недалёкий. Но ничего страшного не произошло. Старик смерил его взглядом и печально вздохнул:
– Прошу извинить меня за сквернословие, дети мои! Глубина охвативших меня чувств была невыносимо значительной, поэтому хотелось некоторое время побыть в одиночестве. Мне докучали ваши назойливые приставания и вопросы, вот я и отказывался вылезать. Надеялся, вы оставите меня в покое на некоторое время, но ваша взяла! Благодаря вам все мои переживания и эмоции утекли как песок сквозь клешни, а громкий смех этого юноши разметал даже тень того трепета, которую я пытался удержать в сердце.
Насколько я понимаю, вас заинтересовало, как я оказался в самом центре прибоя и не потерял ли я рассудка? Отвечу: Рассудок мой не повредился, хоть и залез я в волны по своей собственной воле. Минувшей ночью мне чего-то не спалось. Прогуливаясь вдоль пляжа, я размышлял об одном, довольно досадном противоречии, кое вот уже несколько лет не даёт мне покоя.
С одной стороны несомненным и доказанным фактом я должен признать свою собственную божественность. Да, уважаемые раки, я являюсь всевышним и единственным богом, который один и есть во всей вселенной. Сколько бы я ни напрягал воображения и чувства, никакого второго себя во вселенной я не нахожу. С другой же стороны, если это действительно так, то почему мои возможности и способности столь ограниченны и несовершенны? Почему я не могу превращать песок в воду и наоборот? Почему я не могу являться в разных местах одновременно, или, хотя бы исцелять собратьев прикосновением клешни? Какой я такой бог? Никакой не бог. А кто же я такой? Как есть, самый заурядный рак-отшельник. И опять же, возвращаясь к противоречию, какой же я заурядный? Это для других я заурядный, а для самого себя абсолютно единственный и неповторимый. Незаменимый, можно сказать, потому что других раков пруд пруди, а я всегда один. От противоречия этого разобрала меня тоска. Сел я на камушек и запел:
«Дывлюсь я на нибо
Тай думку гадаю,
Чому я не сокил?
Чому ж нэ летаю?
Чому ж мэни, Божэ,
Ты крыла нэ дав?
Я б Зэмлю покынув,
Тай в нибо злитав!..»
Так я пел, слушая дыхание океана и глядя на огромные близкие звёзды, когда порыв ветра, а затем другой и третий – сообщили мне о приближающемся шторме. Настала пора выбирать: либо ползти в воду и уходить на безопасную глубину, либо наоборот, отдалиться как можно дальше на сушу, где волны не могли бы меня зацепить.
Я поднялся и собрался, было уже уходить в глубь, как вдруг подумал: «Да что же это такое делается?! Доколь можно терпеть это унизительное безобразие?» – Даже не поверите, какое отчаянное возмущение овладело моим сердцем: «Сколько – думаю – буду я, точно раб, нести оковы бренного бытия? Я, столько поживший и повидавший на своём веку, смирюсь со своей ползучей участью? Не бывать этому! Нет! Сегодня я полечу, как бы это не было опасно!»
И вот я дождался шторма, и смело кинулся в гигантские волны. Думаете, я не осознавал, до чего рисковый затеялся эксперимент? Осознавал. Я и боялся поначалу до дрожи во всех десяти ногах, но когда волна подхватила и понесла меня, я выглянул из домика и увидел: Я лечу! Я мчусь над морем, над землёй, над своей прежней скучной и однообразной жизнью! За секунду до падения, я сгруппировался, укатился в море и полетел снова, на следующей, подхватившей меня волне.
Так мне это дело понравилось, такой образовался восторг, что я решил выразить чувства в стихах. Стал подыскивать нужные слова, но чувства были такие мощные, такие трепетальные… ничего кроме: «Эх, ма!» не могло сорваться с моих жвал. За этим занятием вы меня и застали. Как видите, все ваши предположения оказались ошибочными. Я не молился и не читал мантры. Я выражал себя в творчестве. Вот как это называется.
Когда всё кончилось, в моём центральном нервном узлу сам собой образовался ответ на тот гнетущий вопрос, который заставил меня летать на волнах. Меня покинули последние сомнения, и я утвердился в правоте предположения о том, кто на самом деле есть создатель всего этого мира.
Да, уважаемые! Я – тот самый демиург, иными словами всевышний, и прочая, и прочая о котором говорят все ваши учения, который един во все времена и на всех протяжённостях отныне и присно и вовеки веков. Аминь. Прошу любить и жаловать.
Сообщество раков встретило самопризнание создателя скептически. Некоторые даже покручивали клешнёй у виска, явно демонстрируя негативное отношение к сбрендившему старцу. Видя повальное проявление недоверия, бог-самозванец предложил:
– Тем, кто не верит, я могу привести разъяснения, и подтвердить свою правоту неопровержимыми аргументами.
Раки шушукались, хихикали и переговаривались меж собой, но явно возражать не стали, и старик продолжил:
– Все вы периодически обязательно обращали внутренний взор к тем, или иным божествам, существующим на самом деле, либо же вымышленным. Следуя установленным традициям, авторитетным источникам и по привычке, разные раки обращаются к разным сущностям и совершенно одинаково предполагают наличие того, которое, или который находится вовне, но при этом оно, или он – всемогущий и непостижимо огромный в своих возможностях. Я прав?
Некоторые согласно кивнули. Иные же затаились, ожидая от старого софиста логическую каверзу, или подвох.
– Ну, это дело ваше – сказал он и тем и другим – давайте попробуем запомнить: многие к нему обращаются, просят о всяком разном и, самое главное, по разному его себе представляют. Всех объединяет одно: неизменно Он представляется вовне от обращающегося к нему рака. В редчайших случаях где-то внутри, но всё равно никто не отождествляет его с самим собой. И ещё всех нас объединяет то, что именно свою версию стороннего от нас существа мы защищаем, как истину о единственном настоящем Боге-Творце.
Ну и ладненько. Пускай для начала он будет сторонний. Пусть тот самый Творец, на роль которого так нагло и самоуверенно я поставил самого себя, есть некое неизвестное, а не каждый из вас. Все, какие ни на есть источники сходятся на вполне логичном утверждении: до создания вселенной никого и ничего, кроме него нигде не было. Всеобщая мудрость гласит: «Великий Омар создал мир из ничего» – коль мы не оспариваем оной истины, то составьте себе труд взглянуть на ситуацию до того самого сотворения. Что вы видите вокруг? Ничего! Ни камушка нет, ни песчинки, ни капельки того моря, где мы теперь живём, ни клочка того неба, которое теперь смотрит на нас с неизмеримой высоты.
Некто вознамерился создавать нечто серьёзное, а со строительными материалами, мягко говоря, жёсткая напряжёнка. Стройплощадка тоже оставляет желать лучшего. Её нет. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, ни вглубь. Нет пространства! Это ещё полбеды. Времени… времени не то, чтобы не хватает. Оно катастрофически отсутствует. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ничерта нет. Что делать?
Наверное, поискав, да пошарив, вы обнаружили бы: поскольку вы-то сами есть, то не так уж всё безнадёжно! Есть за что ухватиться! И вот, начинаете вы строить вселенную, создавая и пространство и время… из чего?
Рак ободряюще протянул клешни к слушателям. Один из них, тот самый чудак, который недавно ржал, а теперь стоял в некоторой изоляции, задумчиво полусказал – полуспросил:
– Из самого себя?
– Точно! – радостно воскликнул старик – Садись, пять за сообразительность! Абсолютно верный ответ! Строить можно только из имеющегося в наличии, а в наличии имеетесь вы. Лично вы. В единственном числе. Увёртки типа: «Пойду, найду на берегу камушков» – отпадают потому, что если есть камушки, значит, их уже кто-то создал. А в этом случае Создатель уже не Создатель, а гастарбайтер. В том-то и есть уникальность и неповторимость великого мастера! И строительные материалы, и трудодни и поставщиков со смежниками он создал из самого себя! Мало того, никаких иных живых сущностей вокруг тоже не наблюдалось. Никакого иного сознания, ни одной живой души, кроме той, которая была им самим. Вот какая картинка нарисовалась! Скажите мне, раки, кто из вас воображает, будто кирпичи, раствор, воду, и рабочую силу нашему Создателю предоставили какие-нибудь иные существа и боги, являющиеся носителями иных, отличных от него душ? Есть тут таковые?
Таковых раков не оказалось. Все призадумались, взвешивая сказанное стариком. Старик, ободренный успехом, похвалил слушателей:
– Конечно, среди вас нет абсолютно безмозглых. Потому вы и великие раки. Потому вы и достойные собеседники. О чём бы мне было говорить с тем, который не думает сам, а лишь повторяет заученные стишки? С таким же успехом я мог бы беседовать с граммофонной пластинкой. Впрочем, вы не знаете, что такое граммофонная пластинка. Объясняю: это такая штука, которая может звучать, но не может изменяться, но мы, раки, изменяться можем. Мы умеем перемещаться по закоулкам того царства, которое называется знанием. Но и тут, в бескрайних областях, где хранится разнообразнейшая информация, оказывается, существуют и проторенные пути, и нехоженые чащобы.
Двигаясь под мудрым руководством учителей по протоптанным неизвестно когда дорогам, мы обретаем навыки, учимся языку, письменности, счёту и другим условным методам общения. Но рано, или поздно, всякий рак-отшельник обнаруживает: этого мало! Кроме проторенных путей, обусловливающих всеобщее сосуществование, есть абсолютно нехоженые, дикие и девственно непроходимые места. Вот тогда-то мы силой своей мысли устремляемся в заросли и дебри, где обнаруживаем удивительнейшие открытия. Например такое: «Тело, впёрнутое в воду выпирает на свободу силой выпертой воды телом, впёрнутым туды». Тогда мы радуемся и сообщаем всем вокруг: «Эврика! Я нашёл нечто новое!» Какое же оно новое, коли всегда там лежало? Но нам-то невдомёк! Мы с удивлением пучим глаза на открывшуюся истину и говорим сами себе: «Вот оно как!» Кстати, дорогие друзья, именно поэтому у нас такие выпученные зенки.
Так почему же каждая истина, которая лежала на этом нехоженом пути миллионы лет и пролежит там ещё столько же, вызывает у нас удивление, а порой даже и недоверие? Почему не воспринять её так же просто, как мы воспринимаем валун или каменную гряду? Оказывается, воспринять очевидные вещи нам мешают те самые проторенные пути общепринятых условностей, двигаясь по которым мы обучались общаться между собой.
Сызмальства мы учились отличать чужих от своих и самих себя от окружающих. Наши учителя говорили нам: «Это есть ты, а вон там другие». Оно очень правильно в житейском смысле. Только так можно ориентироваться и отвечать за поступки, но это абсолютная ложь с точки зрения космогонии. Это та самая разъезженная колея, которая обводит нас вокруг краеугольного камня строения мира и прячет истину в зарослях сознательного запустения.
Досточтимые мои соплеменники, сегодня я призываю вас вернуться в собственное детство, когда каждый из вас только что вылупился из икринки, увидел мир и пополз искать свой первый дом. Именно тогда, до первой линьки, до первого сброшенного хитина, мир казался вам гармоничным и естественным, хотя и был полон опасностей. Пусть каждый из вас вспомнит ощущение самого себя, как неотъемлемой и главной единицы вселенной. Тогда, сам не зная того, каждый был на тысячи шагов ближе к истине, чем сегодня.
Сколько лет прошло с той поры! Сколько пережито штормов и великих опасностей! Сколько мыслей и доктрин впитали наши с вами центральные нервные узлы! А сколько новых детей вступило за это время в жизнь! Услышанные когда-то от учителей мысли, мы добросовестно передавали им! Казалось бы, нет и не может быть дороги назад. Мы углублены в обретённые устои и перегружены условностями. Ан – дудки! Сейчас мы сойдём с торной дороги, прыгнем вбок и совершим неожиданный подвиг. Мы подвинем нашу мысль и преодолеем тысячи шагов, отделяющие нас от очевидного положения вещей.
Итак, начинаем двигать. Ну-ка ответьте мне на самый простой вопрос: неужто, создав этот мир из самого себя, Создатель покинул его, как мы покидаем ставший тесным домик? Неужели он сбросил всю красоту мира, как мы сбрасываем старый хитиновый панцирь? Неужто он удалился, как удаляется душа из умершего тела?
Раки отрицательно мотали головами, а некоторые уже кричали:
– Нет! Омар с нами!
– Слава Омару!
– Слава Креветке, пророку его!
– Краб неумертвим!..
Много чего кричали раки и их совместные вопли чуть не заглушили звуки прибоя, но старый рак всех перекричал. Он крикнул так громко, что сотряслись скалы, а яхта, маячившая на горизонте, развалилась пополам и тут же затонула. Да, именно так и случилось, невзирая на краткость его бессмысленного вопля:
– Вы! – проорал он и умолк.
Оцепенение, охватившее слушателей, продлилось несколько секунд, но какое это было оцепенение! Даже волны прекратили налетать на берег и замерли точно стеклянные. Несколько секунд прошли. Ветер возобновил движение, волны зашевелились, раки задвигались, и мир ожил. Тогда старый рак закончил мысль:
– Вы, придурки! Каждый из вас мог бы легко сообразить, что именно он сам, а не кто-то вовне – и есть Создатель, созерцающий в эту секунду, с конкретного и несменяемого угла зрения плоды деяний рук своих и собственно самого себя. Кем ещё вы можете быть, если изначально не было никаких иных душ, кроме души Создателя, если сформировать ваши души он мог только из одной единственной, из своей, разорвав её на бесконечное количество частей? Но нет! Мы привыкли думать: «Я это я, а они это то, что снаружи». Вот и самого Создателя каждый из вас выносит за пределы своей раковины, нарекает его фиг знает какими именами и ставит в ряд с окружающими чужими, вместо того, чтобы честно признаться самому себе: «Да, это я!»
Старый рак раскланялся на три стороны, как артист в ожидании оваций, но аплодисментов не последовало. Никто не собирался благодарить старика за его великое открытие. Никто не бил себя клешнёй в грудь и не признавался со слезами на глазах: «Да, братья мои, я осознал себя богом единым и всемогущим!» Не было даже таких, которые признали бы самого старца не то что богом, но хотя бы пророком, принесшим благую весть. То есть никаких явлений, соответствующих моменту не произошло. Физиономии раков не выражали ни озарений, ни задумчивых углублённостей, ни торжественных возвышенностей. Сторонний наблюдатель мог бы прочесть на них следы абсолютно противоположных чувств. Некоторые скривились в ехидных ухмылках, выражающих не то сочувственный скепсис, не то любопытственную глумливость. Иные возмущённо пучили очи и раздували покрасневшие щёки в преддверии гневной отповеди наглецу. Кто-то совсем отвернулся, выражая несогласие, а кое-кто флегматично подбрасывал челюстями песчинку, да пускал пузыри.
Проповедник прекратил ждать реакций и, встрепенувшись, спросил у честной компании:
– Что не так?
– Да всё не так, старая ты развалина! – крикнул кто-то из задних рядов и спрятался за другими, дабы случайно не стать жертвой носителя новой доктрины. Однако сам носитель даже не глянул в сторону анонимного дебошира и это ободрило кое-кого на более аргументированное высказывание:
– Извините, учитель – из толпы выдвинулся зелёный рак – ваша теория удалена от жизни и в ней слишком много очевидных несоответствий.
– Например? – ободряюще улыбнулся учитель.
– Да вот самое простое. Если я построил вселенную, то почему я ничего подобного не помню? Почему я должен верить вам на слово, будто я делал то, чего я никогда не делал, не умею и не собираюсь? Видит Омар, если бы я создавал этот мир, то постарался бы сварганить его не таким жестоким, не таким несовершенным. В моей реальности не было бы детей, погибших на заре своей жизни, в ней не было бы осьминогов, нефтяных пятен, людей, братоубийственных войн и прочих неприятностей. Я не допустил бы на эту землю ни невежества, ни подлости, ни равнодушия. Лишь процветание и красоту лелеял бы я под водой и на суше, а всем ракам я бы даровал удобные домики соответственно их возрасту и размерам. Вот какую жизнь я бы создал, будь на то моя воля, а совсем не ту, которую вижу ежедневно и ежечасно. Так что не сердитесь, учитель, но своей речью вы возвели на меня напраслину. Как же я вам поверю?
Старик подвигал челюстями и громко спросил:
– Раки, есть ли среди вас такие, которые думают про себя нечто подобное?
Такие нашлись, и было их немало.
– Тогда ответьте мне – обратился учитель к таким – встречали ли вы под водой жёлтых полосатиков?
Такие полосатиков встречали и дружно закивали.
– Каждая рыбка-полосатик помнит события во временном промежутке, равном трём секундам. Тот, кому случалось хоть однажды пообщаться с полосатиком, наверняка помнит, какое это мучение:
– Привет! – говорит вам счастливый полосатик, и пока вы отвечаете ему, он уже забывает, что здоровался. Он снова радостно орёт: «Привет!» Когда вы напоминаете ему, мол уже здоровались, он искренне удивляется. Потом забывает и об этом. Он спрашивает: «Чего это такое ты отчебучил?» – Когда же вы признаётесь, что ничего не отчебучивали, он выражает недоверие и хочет узнать, почему же он такой удивлённый, если… не окончив описывать глубину собственного удивления, он неожиданно интересуется: «Кто вы, собственно такой, и откуда на меня набрели?» Если вы не зароетесь в песок, то он продолжит задавать вопросы, то впадая в бурную радость, а то возмущённо атакуя вас за мнимые оскорбления.
Это, друзья мои, пример короткой памяти. Наша память несравненно больше, но и она имеет пределы. Кто из вас помнит стишок, разученный в детском садике для новогоднего утренника? Никто. Кто из вас припомнит, что сказала его бабушка, когда увидела его в первый раз? Никто. Но это совсем не значит, что все бабушки немые.
Утверждение: «Не помню, значит, этого не было» является, мягко говоря, неточным. Этот аргумент, может, и годился бы для какой-нибудь научной дискуссии, но в нашем случае он совершенно не подходит.
Теперь о вере на слово. Я и не просил никого верить мне. Наоборот, я советовал взглянуть внутрь самого себя, перевести взгляд на окружающий мир, а потом сопоставить результаты этих нехитрых наблюдений. Если кому-то лень, если он привык жить по инерции и вместо того, чтобы думать, только и ищет: какому бы учителю довериться, так я тут ни причём.
А вот что я отвечу тем, кто говорит мне о несовершенстве этого мира! – тут старик грозно нацелил на раков страшные зазубренные клешни – Каждый, который полагает, будь его воля, он бы не допустил ни жертв, ни страданий, есть не кто иной, как ленивый глупец. Клянусь смертоносностью правой клешни, это даже не заблуждение, а самая полная дурь.
Говоря так, вы совершаете святотатство, даже являясь искренними поклонниками Омара. Сначала вы объявляете Омара всемогущим и всевидящим. «Ворсинка с ноги не упадёт без его ведома» – заявляете вы, но потом тут же, без всяких переходов хулите создание его клешней: «Я бы устроил лучше!» Вздор! Ещё пущий вздор брякнуть себе в оправдание: «Пути Омаровы неисповедимы» – Послушайте сами себя и сопоставьте одно с другим. Сторонний рак, ничего не знающий об Омаре, услыхав похожие речи, сочтёт великого Омара не великим, а глупым безалаберным шизофреником. И вселенную-то он не так сварганил, и теперь постоянно над всеми измывается, точно маньяк. Ну, конечно, стыдно будет, поставь каждый себя на его место. Насмотревшись на несовершенства и всякие неприятности, вы говорите себе: «Так поступать может кто угодно, только не я!» – Старик понизил голос до обычного, и обратился к зелёному:
– Дорогой мой зелёный коллега! Сознайся ты, лично, что иногда, делая самые обычные рачьи дела, ты очень даже можешь взять, да залениться, что-нибудь недоделать, бросить на полдороге. Можешь ведь?
Зелёный рак потупился и сознался:
– Бывает, учитель.
– Так почему бы тебе не полениться в незапамятном прошлом так же, как ты ленишься теперь? Неужто это великий грех? На мой взгляд, вовсе и не грех. Наоборот, это естественное положение вещей. Каждый рак обязательно ленился в прошлом, ленится в настоящем, и будет лениться в будущем. Когда же рак не ленится, то он не живёт, а совершает подвиг. Он пробивается сквозь вечную лень, как солнечный свет пробивается сквозь водные толщи, как моя мысль пробивается сквозь наслоения догм, обычаев и баек про отдалённое и всесильное существо, которое даже невозможно понять, а не то чтобы ему посочувствовать, как себе самому!
Зелёный рак отступил, но на его место тут же выполз один из ортодоксальных почитателей Омара с хитрющей рожей заядлого философа и пройдохи.
– Не знаю, уважаемый сказочник, удалось ли вам убедить в своей правоте нашего зелёного друга – вкрадчиво начал омаровер – но меня подобные рассуждения только веселят. Во-первых, вы мечетесь, пытаясь доказать нам одновременно две противоречащие друг другу теории. Во-вторых, вы упорно не хотите обращать внимания на очевидное. Оглянитесь кругом, уважаемый лектор! Вы видите, сколько нас, раков собралось на берегу? Нас много. Я не берусь сосчитать, сколько нас на Земле. Омар же один. Допустим, я согласился с тем, что единственный Омар и есть я, да простит меня Омар, но в этом случае кто, или что все остальные? Плод моей фантазии? Мираж? Даже вы, великий учитель, как называют вас некоторые, в случае истинности вашей доктрины, превращаетесь в декорацию. Чёрт знает, во что вы превращаетесь. Вас вообще не существует, если допустить правоту ваших слов. Именно из-за безмерного уважения, любви и боязни к вам, я и не могу вам поверить.
– Спасибо – поблагодарил лектор – я тронут знаками уважения, любви и боязни. Теперь не могли бы вы разъяснить мне, что за миражи и декорации окружают вас?
– Вот именно, не миражи! – воскликнул рак-пройдоха – Меня окружают уважаемые личности. Некоторые из них настолько уважаемые, что я готов пасть перед ними на колени. Это я вас имею в виду.
– На колени падать не надо – перебил его рак-рассказчик – в том-то и дело, что вы, любезный друг, на самом деле только одну личность, одну душу считаете действительно живой. Свою. Всех остальных, окружающих вас, вы изначально отнесли к иным. Вы согласны смириться с фактом внешней схожести себя и ближнего, но воспринять его как самого себя… этому противится весь организм. Противится? Ну и хорошо. Никто его не собирается неволить, но в таком разе зачем разглагольствовать о великом Омаре? Не вам судить о том, что хорошо, а что плохо. Не вам решать – верить мне, или нет. Не потому, что вам лень, а потому, что вы держите Омара за нечто, постороннее от себя лично, нечто стоящее в ряду иных, внешних от жизни предметов. Отрицая тот факт, что вы и есть никто иной, как Создатель вселенной, созерцающий её с доступной в данный момент точки зрения, вы взваливаете ответственность за обстановку и за собственные поступки на плечи неизвестно кого, находящегося где-то далеко. Вы говорите: «Всё в руках Омара», и как бы становитесь ни при чём.
Безответственность и лицемерие вижу я перед собой в вашем лице. И что? Я собираюсь ругать вас за это? Нет, не собираюсь. Потому что понимаю, как велик Создатель и огромен его, то есть, мой труд. Сотворив мир, он, то есть я, вполне мог устать и захотеть немного передохнуть. Будучи мною, он продолжает трудиться, а будучи вами, отдыхает и переводит дух. И то и другое одинаково почётно в моих глазах. Поэтому вместо того, чтобы вас обругать, я, пожалуй, вас восхвалю. Будьте вы благословенны, и да продлятся ваши дни, наполненные радостью отдыха!
Рак-омаровер глубоко задумался. Противоречивые чувства заставили его усиленно шевелить глазами. Одновременно и поочерёдно рак гордился, обижался, негодовал, снисходил, ощущал уверенность в правоте и сомневался в ней. В конце концов, ниточки, на которых крепились его глаза, заплелись между собой.
Тут бы и спорам конец, но нет. Вот уже на его место восполз рак-интеллигент:
– Уважаемый лектор – обратился он к рассказчику, подслеповато задвигая глаза в глазные гнёзда – хоть вам и удалось запутать нашего коллегу, я осмелюсь открыть ту логическую западню, которая мешает мне согласиться с вами и восславить ваше величие, а также величие моё и величия всех, присутствующих здесь.
– Вы забыли про отсутствующих – напомнил старик.
– Да, и отсутствующих тоже – поправился интеллигент – ну и ладно. Ещё недавно вы довольно остроумно доказывали нам совершенно обратное теперешнему.
– Не припомню – сощурился старец – что из моих вчерашних слов противоречит сегодняшним?
– Позвольте напомнить – предложил интеллигент, и тут же напомнил – вы убеждали нас, и небезуспешно, что в каждом индивиде вполне могут сосуществовать несколько разных сущностей. Теперь же вы пытаетесь нам втолковать, будто каждый из нас носитель и проявление одной и той же души, которая создала этот мир, а теперь живёт одновременно в разных местах. На мой взгляд, это две диаметрально противоположные идеи, причём одна полностью исключает другую. Разве не так?
– Надо же! – воскликнул старик и даже как-будто огорчился – Неприятность-то какая! Я и не заметил! Сам не пойму, как это меня угораздило! До чего нелепая неувязочка прокралась! – тут он закряхтел, заохал сокрушённо, и даже несколько раз присел. От его покаянных телодвижений – несогласные с его речами раки возрадовались, а среди согласных образовалось беспокойство. Не один смущённый стариковскими вздохами рак пихал соседа плечом и вопрошал шёпотом:
– Это что же такое? Как же это так получается? Мы слушали его, как нашего учителя! Он убедил нас распахнуть сердца! Мы гордо считали себя учениками, которым открываются тайны мироздания, а он в это время только прикидывался пророком с абсолютным знанием! Он глумился над нами, пользуясь нашей доверчивостью! Все обретённые нами истины оказались не истинами, а бредом и болтовнёй! Как дальше жить, если наша вера, не успев встать на ноги, потерпела такой очевидный крах?
Но рак прекратил сокрушаться и спросил у аудитории:
– Ну и как? Вы все считаете, что сегодня я противоречил себе вчерашнему?
Ропот прошелестел в рядах слушателей и смолк. Ну и было бы шуму, если бы подобные прения шли среди людей! Половина народу орала бы: «Да!» Другая половина, пытаясь перекричать первую, драла бы глотки, выкрикивая: «Нет!» Но раки это вам не люди. Особенно отшельники. Потому они и называются отшельниками. Стадные чувства им недоступны. Вместо того чтобы однозначно ответить на вопрос и объединиться в дружном крике, каждый рак спешил разобраться в нюансах собственного непонимания. Наконец, один из многих поднял клешню, и, когда старец кивнул ему, заговорил:
– Уважаемый учитель, может быть, я ещё очень юн и недостаточно умён для постижения всей глубины вашей мысли, но и вправду в моей голове не умещаются одновременно две точки зрения. Я мог согласиться с вами, когда вы предположили во мне несколько личностей одновременно. С другой стороны я могу теоретически допустить превращение самого себя в кого-то другого по окончании этой жизни. Может быть я даже стану вами, учитель. Но совместить эти две стороны в одно целое моя голова отказывается, хоть убейте!
– Блестяще! – рявкнул старик и громко треснул клешнёй по камню – вы не только блестяще выразили мучающие вас сомнения, но и обнаружили причину того, почему эти сомнения не дают вам согласиться с истинностью моих утверждений. Так и есть: к выводу о множестве сущностей, живущих в каждом индивиде можно прийти лишь на основе чувственных наблюдений. Достаточно дать себе отчёт о собственных противоречивых переживаниях, чтобы множественность самого себя стала очевидной. Вторая же точка зрения почти недоступна эмоциональному восприятию. Путь к её постижению лежит через знания. Это противоположности, но не противоречия. Наоборот, одно дополняет другое.
У каждого из вас есть два глаза. Положите камень между ними и посмотрите на него. Неужели картина, которую видит один глаз, исключает наблюдения другого? Наоборот! Они дополняют друг друга, и в результате мы получаем объёмное представление об этом камушке. Раки, я призываю вас так же взглянуть на душу живого существа. Если угодно, на свою собственную. Посмотрите на неё обоими глазами, данными вам природой. Пусть разум не противоречит чувству, а дополняет его. Только так вы сможете ответить на главный вопрос жизни: «кто я такой?»
Пусть ваш ответ будет искренним, самостоятельным и точным. Пусть не смущают вас мои подсказки и болтовня, ибо мои слова – не ваши. Я – Создатель этого мира. Я – живая душа, созерцающая вселенную. Я – перетекающее множество сущностей и обликов. Я – рак-отшельник, таскающий на себе ракушку. Я – балаболка, сидящая на берегу и рассказывающая сказки… кстати, о сказках. Не думаете ли вы, будто история про Милюль закончилась?
– Мы уже ничего не думаем – проворчал рак из числа верующих в вечного Краба – после того, как ваша Милюль чудесным образом воскресла, предварительно дважды утонув, удар по башке дубиной, надо полагать, ей даже пошёл на пользу.
Старикан криво усмехнулся:
– Понимаю, ваш сарказм, уважаемый крабовер. Куда интереснее увидеть чудо, нежели слушать многочисленные байки о том, во что трудно поверить. Может быть, я достиг бы большей популярности, бессловесно показывая вам колбасу, но колбасы нет, а есть охота потрепаться. Сказке моей далеко до конца, и те из вас, кто притомился, могут идти по своим делам.
Раки загалдели вразнобой, выражая готовность слушать дальше. Никаких срочных дел ни у кого не было. Утренний шторм прошёл, стада чёрных туч унеслись за горизонт, и впереди ожидался тихий солнечный день без каких-либо событий и неожиданностей. Самый обычный, даже скучный день, на протяжении которого солнце будет раскалять песок, а спокойное море тихо дышать пологими волнами. Чего бы в такой день не послушать историю о далёких, незнакомых местах и странных существах, которые мечутся, озабоченные глупостями и движимые безумством?
* * *
– Милюль пролетела через густую высокую траву, продралась сквозь гибкие стебли и плюхнулась на землю.
– От чего я полетела? – мелькнул в её голове смутный вопрос и как неясное воспоминание ушедшего сна пронеслась лесная поляна, костёр, агрессивные личности вокруг… «На меня напали! Вот оно что!» – сообразила Милюль, и её маленькое тельце стало стремительно наполняться ощущением страха. Испуг сковал мышцы рук и ног, холодной судорогой пробежал по спинке, и заставил дрожать круглый, мягкий животик. Наружу вырвался клокочущий возглас. Получилось громко, красиво и непривычно. Успокоившись немного, Милюль повторила песенную трель. Похожие позывные эхом раздались с разных сторон и, услыхав их, Милюль поняла:
– Я не одна в этом мире!
Она ответила тем, невидимым, которые кричали вокруг, а они ответили ей и долго ещё отвечали друг другу. Стало светать. Милюль подалась вперёд, заползла на кочку, а потом оттолкнулась мощными задними лапами и полетела сквозь высокие травы. Её полёт длился совсем недолго. Доли секунды. Но за то короткое время все смутные страхи окончательно забылись. Были некие глупости в голове, и нет там ничего, а вот впереди, за зарослями есть нечто гладкое и блестящее. Конечно, надо прыгать туда, где заканчиваются непролазные дебри. Там начинается удобное и ровное пространство. Может быть, там дорога, а может быть что-то ещё. Именно с той стороны тянется прохладный воздух.
Ещё раз семь или восемь Милюль взлетала и плюхалась на землю, пока оно не приблизилось. Раздольное и бесконечно ровное, оно сулило волю и источало покой. «Вот где я разгуляюсь!» – возмечтала Милюль, не сильно задумываясь о том, как она будет разгуливаться, что это «разгуляние» представляет собою и зачем оно ей нужно.
Может быть, достигнув того огромного и гладкого поля, она заскользит по нему в прекрасном, медленном танце? Может быть, она будет любоваться своим отражением? А может, даже вознесётся на такое же ровное небо, чтобы оттуда, свысока смотреть на траву и на копошащихся в ней глупых лягушек?
Собравши силы, Милюль прыгнула навстречу счастью, пролетела сквозь последние травинки, мелькнула в краешке зеркальной поверхности и, торжествуя, бултыхнулась внутрь мутной воды. Медленно всплыла, повернулась разочарованным лицом к берегу и проквакала в окружающий мир:
– Какая же я дура!
* * *
– С чего это вдруг? – ответил ей вполне человеческий, хоть и хриплый голос. Постепенно переменился созерцаемый только что пейзаж. Берег, к которому она вынырнула, странным образом отодвинулся. Она оказалась в самой середине того гладкого пространства, к которому скакала сквозь прибрежную осоку. Это ещё ничего! Были и другие перемены, куда более разительные. Голова её, оказывается, покоилась на некоем подобии подушки, а сама Милюль лежала, поджав ноги, в гнезде из старого стёганого ватника. Другим ватником она была накрыта.
«Какие ещё ватники могут быть у лягушек?» – подумала Милюль и окончательно проснулась. Посмотрела вокруг, оценивая новую обстановку. Да. Она лежала в деревянной лодке, плавающей посередине озера. Со всех сторон в воде отражалась прибрежная зелень. Стены из деревьев окружали водоём. Ивы нависали над гладкой поверхностью. Из-за их спин выглядывали берёзы и осины, а ели и сосны тянулись к небу на заднем плане. Солнце ещё не вылезло из-за их макушек, но уже рассвело.
– С добрым утром – сказал голос. Милюль оглянулась на него и увидела на корме лодки старенького-пристаренького старичка в старенькой-пристаренькой одёжке, которая когда-то, очень давно, наверное, была пиджачной парой, а может быть и тройкой, теперь не понять. Из-под серого пиджака торчал ворот грубого шерстяного свитера. Густая седая щетина начиналась от ворота и наползала на щёки. Дальше шли морщины. Изобильные и глубокие как овраги. Сквозь щетину тоже были видны морщины, а там, где щетина не росла, вообще ничего кроме морщин не было. И седой ёжик и мохнатые седые брови окружены были ими, морщинами, со всех сторон. Среди изобильных морщин блестели жизнью два серых озерца. Через них из глубины самого себя смотрел на Милюль неизвестный этот старик. Смотрел, смотрел, а потом как скажет:
– Ну, здравствуй, Милюль. Давно я тебя жду.
Не угрожал, вроде, ничем, но Милюль стало жутковато. Вновь пробежала по спине волна холодного страха. Так же, как совсем недавно во сне… впрочем, был ли это сон? Может быть, как раз, наоборот? Сон здесь, а на самом деле она и есть лягушка, которая периодически засыпает и видит гримасы воспалённого ума? Там, в лягушачьем мире, её жизнь последовательна и логична. Здесь же, в мире людей, события не укладываются в схему причин и следствий. Там она живёт, постепенно вырастая из головастика во взрослую квакушку, а тут… тут всё неожиданно. Вот, например, этот старик. Что за старик? Откуда он взялся? Откуда знает, как её зовут? Милюль так и спросила:
– Дедушка, откуда вы меня знаете?
Вместо того, чтобы ответить, дедушка констатировал:
– Поздороваться тебе, стало быть, в падлу.
– Извините, не хотела вас обидеть. С добрым утром – поспешно поправилась Милюль – вы меня огорошили. Меня давно уже так никто не называл.
Дед вздохнул и сказал совсем уже горько:
– Значит, это всё-таки ты. Юлия Ивановна оказалась права.
– Юлия Ивановна? – переспросила Милюль – это моё полное имя с отчеством.
– Да я знаю – сказал сморщенный дед и извлёк откуда-то пол-литровую бутылку, на этикетке которой крупными буквами было написано: «Водка» – давай наведём ясность в наши тёмные дела.
– Я водку не буду – засопротивлялась Милюль – мне от неё вчера было плохо.
– Вчера? – дед блеснул серыми озёрцами и успокоил – тебе никто и не предлагает. Я для себя припас.
Он отвинтил крышку и приложился к бутылке. Крякнул. Шумно понюхал рукав, потом отломил кусок чёрного хлеба, сунул в рот и стал жевать, хаотично перемещая морщины по лицу.
– Стало быть, говоришь: вчера на тебя водка подействовала?
– Ну, да – кивнула Милюль – там были крепкие напитки. Коньяк, виски, ещё чего-то. А потом…
– Потом тебя ударили по башке – подсказал старик.
– Наверное – согласилась Милюль – во всяком случае, помню, как на меня нападали двое и мешали мне есть. Я их бросала в реку, а потом не помню. Отключилась.
– Дядю Стёпу помнишь?
– Помню.
– Царство ему небесное – старик перекрестился, взглянув куда-то вверх и, снова приложившись к бутылке, добавил – он-то тебя и спас. То есть не тебя, а мать твою. Да и не твою и не мать вовсе… тьфу ты! Мозги в раскорячку от тебя.
Он опять откусил хлебушка и задвигал челюстями, а Милюль, припоминая события вчерашнего дня, сказала:
– Среда была.
Дед кивнул, пожевал ещё немного и заключил:
– Да, среда. А перед тем – вторник.
То, что перед средой вторник знают все. Никаких тут открытий нет, и не может быть, но Милюль, посмотрев на жующего хлеб старика, смекнула: не простое чередование дней недели имеет он в виду. Он знает про её личный вторник, про её несуразную, неподдающуюся объяснениям жизнь и, возможно, он-то и является одним единственным на земле человеком, который мог бы объяснить, что такое с ней происходит, почему так нелепы и бессвязны её дни, какой скрытый смысл или порядок существует в калейдоскопе её лягушачьих снов. Так Милюль и спросила:
– Что вы знаете про мой вторник?
– Экая ты шустрая – сказал дед, хмурясь – я на твои вопросы отвечу. А на мои кто ответит?
– Так вы спросите – посоветовала Милюль.
– Спросить? – старикан неожиданно возмутился – Спросить! Может, я не хочу спрашивать? Может, я хочу теперь треснуть тебя по башке веслом, да выкинуть за борт? Сколько ты жизней загубила! Ты знаешь? У скольких людей через тебя всё кувырком пошло! А сколько померло! Ты хоть помнишь, что сотворила с моей… – тут он запнулся, вспоминая, как звали эту, его, и кем она ему была – с моей первой женой? Царство ей небесное.
Милюль не могла знать, сколько у старика жён и какое отношение имеют к ней чьи-то загубленные жизни. Поэтому она пожала плечами и призналась:
– Не знаю, дедушка.
А дедушка от этого признания совсем загрустил, опять стал выпивать, да убого закусывать. Закусив же, наставил на Милюль скрюченный указательный палец и изрёк:
– Во вторник ты проснулась на рыболовецком сейнере, отметила день своего рождения, набедокурила на камбузе, обожралась только что пойманной рыбой из сетей, а потом нырнула в реку и утонула. Верно?
Лаконичная точность описания случившегося позавчера, потрясла Милюль: «Откуда ему знать? Его на сейнере не было! Может быть, он тайно управлял её жизнью как злой Кощей Бессмертный, а сегодня решил объявиться и заявить свои права?»
– Вы злой волшебник? – спросила Милюль, готовая вот-вот расплакаться. Горькая обида подкралась к ней вместе с воспоминаниями о прошедших днях, с осознанием сумбура и безысходности досадного положения. Предполагаемый виновник затянувшейся беды находился теперь здесь, сидел напротив. Это было выше её моральных сил.
Старик, наверное, ощутил Милюлины муки и от своей Кощеевой вредности принялся дразниться. Он залез во внутренний карман пиджака, достал оттуда что-то и бросил ей со словами:
– На вот! Забери клятую жабу! Она же всегда с тобой!
Вертясь и посверкивая зелёными искрами, через лодку перелетела и упала на стеганый ватник насквозь знакомая безделушка. Теперь она лежала кверху тыльной стороной, где к серебряной оправе была припаяна мощная английская булавка, а белое кварцевое пузо земноводной твари топырилось беременным пузырём.
Милюль взяла брошку, перевернула её кверху кокетливо выгнутой малахитовой спинкой, кверху задранной мордой в золотой короне. В этот самый миг косой солнечный луч выскочил из-за высоких хвойных вершин и упал на Милюлину ладонь, на потемневшее серебряное кольцо старинной брошки. Изумрудики заиграли зелёными искрами, а рубины вспыхнули кровавыми гранями.
– Проснулась – заметила Милюль, в то время как её настроение всё ухудшалось и ухудшалось.
– Да ну? – проскрипел дед – Наверное, скоро жрать захочет. Ты не хочешь пожрать?
– Пока ещё нет – ответила Милюль.
– Смотри, меня не сожри. Ты всё время, как просыпаешься, чего-нибудь гадкое вытворяешь, и жрёшь всегда как голодный крокодил. Не знаешь, почему?
– Не знаю – пожала плечами Милюль – я думаю, вы знаете. Вы же всё знаете. Вот и царевна-лягушка у вас оказалась. Мне уже столько раз её дарили. Когда нянечка дарила в первый раз… – Милюль замолкла, сдерживая подступающие спазмы рыданий и, превозмогая себя, продолжила – она сказала, чтобы я берегла её до тех пор, пока меня не найдёт Иван… Иван… – слёзы переполнили её и начали вытекать из глаз. Не в силах сдерживать их, завывая и ревя, Милюль закончила фразу – … Царе-е-е-е-вич!
Больше Милюль не могла говорить. Она рыдала громко, захлёбываясь, потому что горе, копившееся в ней с понедельника, стало слишком большим. Теперь оно клокотало, вырываясь наружу. Старик беспомощно молчал и, может быть, даже боялся. Рыдания сделали её страшной. Лицо покраснело и надулось. Глаза пропали, превратившись в узкие трещинки, а губы вспухли, перекосив рот. Она не стыдилась рыданий. Она ревела в голос, как ревёт малое дитя, бессловесно и неудержимо.
– Ну, ты это… ты уж не очень… – пробормотал дед, теряясь от неумения угасить разразившееся на его глазах горе. Он попытался подняться, чтобы подойти к Милюль, обнять её, может быть убаюкать на руках, но лодка качнулась, и он снова сел, досадуя на неуместность своего порыва, на собственную чуждость, не дающую ему права на утешения.
Всё выше поднималось солнце над зелёным озером. Потоки слёз сами собой стали заканчиваться. Икая и всхлипывая, Милюль прокричала:
– Я уже вчера поняла! Это злая сказка! Тут нет Ивана Царевича!
Дед вздохнул. Глотнул горькой и замер, бессильно опустив на колени узловатые кисти. Потом предложил ей воды. Она взяла из его рук алюминиевую флягу и пила из горлышка, утихомиривая судорожные остатки рыданий. Наконец успокоилась. Дед глянул на неё несколько раз, прежде чем решился заговорить:
– Извини меня. Это я сдуру на тебя наорал. Ты, наверное, хочешь узнать, почему в твоей жизни всё так складывается? Эх, как бы это тебе объяснить? Поймёшь ли? У Юлии Ивановны всё довольно складно получалось, но то было между нами, между стариками. Мы-то жизнь постепенно впитывали, а на тебя, видишь, всё бухнулось разом. Человеку такое выдержать тяжело. Но ты и не человек… то есть, не совсем человек.
– А кто я? – крикнула Милюль.
Дед смутился, отвёл глаза и стал неуклюже поправлять фразу:
– То есть, я хотел сказать, человек, конечно, не полтергейст, не привидение, но очень маленький. Тебе бы в куклы играть, да сказки слушать, а тут такое. А давай-ка я расскажу тебе сказку, чтоб скучно не было!
– Мне не скучно – пробурчала Милюль.
– Ну, всё равно расскажу! Мне эту сказку одиннадцать лет назад рассказала Юлия Ивановна, царство ей небесное. Ей тогда было девяносто четыре года, а мне только семьдесят девять. Я и не подозревал, что доживу до сегодня, а вот, гляди-ка, дожил. Может быть, специально дожил, чтобы рассказать её тебе. Так что слушай.
* * *
Давным-давно жил-был мальчик шести лет. Однажды сел он на пароход, чтобы отправиться в путешествие. Дядьку того мальчика звали Сергеем Пантелеймоновичем. Вот и получилась вполне классическая сказочка: «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Могу дальше не рассказывать.
Дед приложился к бутылке, а Милюль, продолжила:
– Сергей Пантелеймонович ходил в белом костюме, курил сигары и пил коньяк по утрам.
– Верно! – отозвался дед, завинчивая бутыль – Он иногда выпивал, но немного и под солидную закуску. А я вот пью сущее дерьмо, закусываю чёрным хлебушком, и-то через раз. Сергей Пантелеймонович после обеда заваливался почивать и храпел так, что стёкла трескались. Когда Сергей Пантелеймонович не спал, то иногда рассказывал очень увлекательные истории. Нам предстояло пересечь море, пройти, как положено, Босфор, потом Дарданеллы – старик пожевал сморщенными губами, припомнил что-то ещё и повторил – всё, как положено. Компании никакой для меня не было. Единственная была радость: гулять с дядькой по палубе, смотреть на море, да слушать его байки.
Дядька Сергей был мужчина видный, в самом расцвете лет. Так что дамы так за ним и ухлёстывали. Ему-то хорошо. Он-то рад с ними кокетничать, да вдаряться в их взрослые разговоры. А мне что оставалось? Слушать? Быстро становилось скучно, поэтому чаще всего я стоял на смотровой площадке, смотрел, куда идёт корабль, и мечтал стать капитаном. Ещё я мечтал о бурях и штормах, о встречном ветре и геройских подвигах.
Милюль подумала: «Что за бред он несёт? Я-то помню Сергея Пантелеймоновича. Хоть он и выглядел весьма представительно, но никто за ним не ухлёстывал, и потом не было на корабле этого дедушки. Тем более несуразно ему называть Сергея Пантелеймоновича дядькой! Сам раза в три его старше!»
Старец не слышал её мыслей, а потому продолжал городить ещё пущие несуразицы:
– В один прекрасный день разразилась буря. Самое время постоять на палубе и ощутить себя бесстрашным капитаном. Но дядька меня отловил и запихал в скучную каюту, чтобы я вместо настоящего дела игрался в игрушки с какой-то девчонкой – тут он посмотрел на Милюль пьяным глазом и неожиданно закончил – стало быть, с тобой.
Конечно, не стоило обижать выжившего из ума старичка. Пускай бы он так и тешился дурацкими фантазиями. Говорят же: «Что старый, что малый». Ну, впал, допустим, дедушка в маразм. Ну, возомнил себя юным капитаном. Какой от этого вред? Пускай фантазирует! Но Милюль не сдержалась:
– Какая белиберда! Всё вы врёте, дедушка! Как вам в голову пришло, что неделю назад вы были на том корабле, да ещё игрались в игрушки? Почему тогда я этого не помню?
– Неделю назад? – переспросил старик, и, пьяно хихикнув, уточнил – А какой теперь год, Милюль?
– Откуда мне знать? С меня хватает того, что я отслеживаю дни недели. Сегодня четверг, а то, про что вы говорите, было в минувшее воскресенье.
– Ну, и!.. – радостно взвизгнул старикашка.
– Что «и»? – не поняла Милюль.
– И тебя не удивляет, что в воскресенье тебя поздравляли с шестилетием, а сегодня, в четверг, ты уже двадцатилетняя тетя-Мотя?
С размашистой амплитудой пьяного жеста, старик извлёк из-за пазухи маленькое зеркальце и вытянул руку, пытаясь навести его на Милюль.
– На вот, посмотри на себя. Авось и убедишься, что я тебе не вру.
Зеркальце сильно раскачивалось вместе с вытянутой рукой и никак не хотело отражать Милюль. Оно показывало ей то кусок неба, то деревья на берегу, а то зелёную воду, фрагмент лодки, её собственные колени, накрытые стёганкой. Милюль не торопилась смотреть на себя. К чему смотреться в зеркало, если в нём всегда нечто новое, нечто другое, не то, что должно быть на самом деле?
– Зеркала врут – сказала она пьяному старику – они всё время показывают мне разных людей, но никогда не отражают меня. Я-то помню, какая я должна быть.
– Да? – удивился дед и, развернув зеркальце, заглянул в него сам. Заглянул, да и засмотрелся, покачиваясь взад-вперёд. Оторвавшись от самосозерцания, сообщил:
– Я тоже иногда удивляюсь тому, как выгляжу на самом деле. Мне всё время кажется, что я ещё о-го-го! А лишь только гляну… э, брат… во гробах видали краше! Ну, да и ладно. Ты-то будешь на себя смотреть?
Милюль отрицательно покачала головой. Тогда дед сказал:
– Понятно. Отказываешься взглянуть правде в глаза. Правда никогда никому не нравится. Уж мне как приятно было бы теперь сидеть в кругу семьи, с Пашкой, старым пердуном, с Сонькой и её мужем, твоими родителями. Сидели бы сейчас, поздравляли тебя с юбилеем и были бы счастливы все, кроме тебя. А ты бы удивлялась, никого не признавала и, как всегда, думала бы: «Как мне правильно себя повести? Как бы мне не дать им повода просечь, что я, это не я, а хрен знает кто?..» Верно говорю? Чего плечми пожимаешь? Тебя же вчера называли Софьей? Позавчера – Надей. Перед тем – Любой, Верой, а ты каждый раз подстраивалась, хитрила и всё время думала: «Что это за люди и откуда они свалились на мою голову?» Ну-ну-ну, не надо реветь! Хватит! Поревели и прекратим. Я не для того тебя сюда вывез, чтоб мы целый день плакали. Я тут для того, чтобы тебе объяснить, что с тобой происходит и как нам дальше быть. Так что давай, напрягай соображение. Тебе много чего предстоит услышать и узнать.
– Не могу – возразила Милюль.
– Это от чего же? – вскинул мохнатые брови дедок.
– От того, дедушка, что очень хочу писать.
Старик оторопело уставился на Милюль. Кашлянул в кулак и признался:
– Об этом я не подумал. Я вознамерился общаться с существом инфернальным, с духом, можно сказать… а нам ничто человеческое… н-да… ну, тогда бери весло и греби. Причалим, сбегаешь в кустики. Только побыстрей возвращайся, а-то я, неровен час, совсем захмелею и засну. Тогда от меня ввек толку не добиться. До вечера будешь ожидать, пока просплюсь.
Говоря это, он смотал леску на давно оставленную без внимания удочку. Милюль скинула ватник, перебралась на середину лодки, села спиной к старику, взяла лежавшее на дне весло и стала обеими руками неумело грести к берегу.
Лодку то и дело разворачивало. Милюль принималась грести с другой стороны, от чего лодка постепенно выправлялась, начинала идти куда следовало, но потом неудержимо уклонялась и вставала другим боком, всячески отказываясь плыть в нужном направлении. Невероятными зигзагами и синусоидами она всё же преодолевала расстояние до берега, а старик, не замолкая, вещал с кормы:
– Ты, Милюля, греби попеременно! Право – лево – право-лево. Чего ты всё время с одной стороны гребёшь? Ну вот, уже справа пора начинать! Давай, справа греби! Ай, поздно! Ну, теперь выравнивай. Выравнивай! Слева гребани пару раз. Ну, что ты будешь делать?
Советами, да подсказками он только мешал и к тому моменту, как лодка, раздвинув прибрежную осоку, уткнулась в пологий берег, изрядно надоел. Милюль встала, прошла, балансируя, к носу и спрыгнула на сушу. Ноги в резиновых сапогах моментально углубились в илистую жижу, которая чавкала при каждом её шаге. Сзади донеслось ворчание старика:
– Сразу видать, что ты не Милка. Она бы не стала в эту мокреть выходить. От тебя правее будет мосток. Я к нему причалю и подожду тебя там. А ты поторапливайся. Сама понимаешь… как двину коней, тогда никогда не узнаешь: кто ты, да что ты, откудова взялась и куда путь держишь. Не застревай там!
* * *
Сразу за осокой оказались кусты, сквозь которые пришлось продираться, наступая на торчащие из мокрой земли корневища. Потом начался лес. Густой и тёмный, пахнущий крапивой и лиственной прелостью. Раздвигая многочисленные гибкие ветви, Милюль добралась до тропинки, пересекла её и углубилась в другой лес, росший уже на твёрдой земле. Дед советовал ей не застревать, но возвращаться совсем не хотелось. Уж очень зловещими и недобрыми казались ей обещания старикашки – всё разъяснить.
«Что он разъяснит? Какую такую отгадку знает этот чужой пожилой человек? Что вообще могут знать чужие люди? Все они смотрят на неё со стороны и даже не знают, как её зовут. Хотя, этот знает. Ну и что?»
Милюль вышла к той самой поперечной тропинке. Вспомнила: правее – мосток. Задумалась: «Правее, это теперь куда? Правее с той стороны означает левее с этой. Это логично. Значит, если пойти налево, то получится как направо. Ладно. Так и пойду».
Тропинка чёрной змейкой повихлялась между деревцами и повернула, упёршись в кусты, затем поднялась на бугорок, где её обступили молодые златостволые сосенки. В просветах меж ними стала видна вода и отражающийся в ней противоположный берег. Ни поворота к озеру, ни намёка на мосток Милюль не обнаружила и, продолжая идти дальше, спустилась в заросший крапивой овражек, по дну которого журчал мелкий ручеёк.
Поперёк лежали два длинных бревна, небрежно брошенные неизвестно кем и когда. Ручеёк нырял под брёвнами, едва касаясь их своей поверхностью, и бежал дальше по промытому им же песчаному руслу. Милюль остановилась, было над ручейком, но комары, во множестве населявшие овраг, накинулись на её сразу со всех сторон, и она пошла дальше, изо всех сил размахивая руками.
Только за оврагом тропинка метнулась к водоёму и распалась на две. Одна из них убегала в лес, а вторая – прямиком выводила на длинные и узкие мостки. Милюль вышла на них и села на самом краешке, свесив в воду ноги. Не нарушая тишины, во все стороны от неё заскользили нервные водомерки. Никого больше не было вокруг. Ни лодки, ни старика.
– Куда он подевался? – спросила Милюль вслух. Теперь, когда она осталась одна, ей почему-то стало недоставать того ворчливого дядьки, который знал, как её зовут на самом деле. Да и не было ничего такого уж зловещего в его сморщенном образе. Много водки пьёт? Волнуется от чего-то, вот и пьёт. А грубит оттого, что и пьёт и волнуется. Зато он никем другим её не называет, всё про неё знает и даже говорит, будто знает то, чего не знает она сама. Очень даже полезный получается старикашка. Но где же он? И уже волнуясь о полезном старике, который мог осуществить свою угрозу и двинуть куда-то каких-то коней, Милюль закричала громко, на весь дремлющий пруд:
– Дедушка!
Эхо отскочило от зелёной стены противоположного берега и заметалось над неподвижной водой. Здоровенная стрекоза пронеслась перед носом и, как сахаринка в чае, растворилась в окружающем пейзаже. И всё. Ни ответа, ни привета. Как и не было никакого волшебного дедушки. Милюль побултыхала сапогами в воде. Опять во все стороны, обгоняя расходящиеся круги, помчались водомерки. Милюль подумала:
«Вот, сижу я и пугаю водомерок. Мне это не мерещится, значит, и старичок не мерещился. Одиннадцать лет назад ему было семьдесят девять лет. Сейчас уже должно быть девяносто. Ого! Через десять лет ему стукнет ровно сто! Ну, разумеется, он волшебный! Только волшебники бывают такими старыми. Если он волшебник, значит, он может отправить меня обратно, к нянечке. Тогда прошедшая ужасная неделя, которая и есть сказка Кощея Бессмертного, должна будет закончиться».
Милюль прихлопнула впившегося в щёку комара и произнесла вслух:
– Неправильно я думаю. Начала правильно, а потом сбилась. Никогда Кощей Бессмертный добровольно не помогал людям. Ни в одной из сказок. С чего я решила считать себя исключением? Надо рассуждать логично. Дед бессмертный, более того, он волшебный. По всему выходит, я у него в плену. Освободиться из плена, то есть из сказки я смогу только тогда, когда явится Иван Царевич. Когда он явится, я отправлю его искать самый высокий дуб, потому что на самом высоком дубу лежит, то есть висит ларец. В ларце сидит заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце та самая игла, в которой хранится смерть Кощея Бессмертного. Надо собраться с силами, прекратить терять время даром, срочно выведать у Кощея, где тот волшебный дуб. Наверняка, он где-то рядом, в лесу.
Составив чёткий план действий, Милюль опять позвала старика, и ещё несколько раз, пока он не отозвался. Сначала Милюль услышала откуда-то сбоку негромкое и пьяное: «Иду! Чего орать то?» – потом увидела, как из-за небольшого мыса, поросшего соснами, справа, именно оттуда, откуда она сама недавно пришла, появилась лодка. Так же, как и раньше, старик сидел на корме, от чего нос лодки слегка задрался кверху. При этом дед чего-то напевал и довольно ловко управлялся веслом. Лодка у него не металась из стороны в сторону, а плыла прямо и осмысленно. Он вывел её почти на середину пруда, и, разворачивая по плавной дуге, направил к мосткам. Подплывая, старик завершил исполнение неизвестной Милюль песни:
«Берёзки подмосковные качались вдалеке,
Плыла, качалась лодочка по Яузе – узе…»
Лодка чиркнула бортом по доскам мостков и, повинуясь веслу в крепкой руке Кощея, остановилась.
– Я тебе чего говорил? – спросил Кощей – Ступай правее! А ты куда пошла? Уж я тебя ждал, ждал, да и задремал. Чуть было из лодки не вывалился. Хорошо, хоть ты додумалась меня позвать, а-то я бы так там и сидел до морковкиного заговенья.
Милюль хотела, было вступить в пререкания и разъяснить, как право с одной стороны превращается в лево, если развернуться в другую, но передумала и спросила Кощея о самом главном:
– Дедушка, где тут самый высокий дуб, на котором висит ларец?
– Чего? – переспросил Кощей.
– Я вас про дуб спрашиваю – пояснила Милюль, вставая – я догадалась, где нахожусь и кто вы такой.
Кощей положил весло поперёк лодки и потянулся к стоящей в ногах бутылке.
– Говорите! – потребовала Милюль – А не-то я сбегу!
Кощей отвинтил крышку с горлышка, приложился к бутылке, и сгрудив морщины до превращения своего лица в кукиш, ответил:
– Не сбежишь. У меня еды припасено, слона можно накормить. Тебе же скоро кушать захочется.
Это было правдой. Милюль уже хотелось позавтракать, или пообедать, а бегать голодной по неизвестному лесу совсем не хотелось, но соглашаться с Кощеем Бессмертным никак было нельзя.
– Отвечайте, где дуб! – крикнула Милюль и топнула ногой так, что мостки под ней зашатались. Кощей же лишь рассмеялся и сказал с досадой в голосе:
– Одиннадцать лет к этому разговору готовился, ночей не спал! Чёрт знает, чего про себя передумал. Сын родной меня чуть за сумасшедшего не считал, пока я его не убедил, в конце концов. Всё продумал! Всю жизнь перетряс! Готовился, как будто к экзамену, даже отрепетировал, а тут раз, и, пожалуйста: какой-то дуб! – дед стукнул себя кулаком по коленке и, глядя на Милюль из-под седых кустистых бровей, прокричал:
– Что за дуб у тебя в башке? Откуда он взялся? Неужто тебе после всего, с тобой произошедшего, хочется знать не про то, кто ты такая, не про то, почему тебя преследует сплошная свистопляска людей и событий, а про какой-то дурацкий дуб? Что за чушь собачья?
Милюль смутилась. Она могла ожидать от Кощея попыток уйти от ответа. Начал бы он юлить, или выяснять, зачем ей понадобилось знать о волшебном дубе. Или, ещё лучше было бы, если бы Кощей удивился её смекалке и даже похвалил бы её, сказав: «Какая ты догадливая, Милюль!», но к тому, что он рассердится – Милюль никак не была готова, поэтому, сложив руки за спиной, спросила обиженно:
– Ну, почему же, собачья?
– Потому что собачья! – закричал Кощей ещё громче прежнего – Тебе, в твоём непростом положении, следует сидеть и слушать! Слушать и сидеть! Девяносто лет прошло! Вся жизнь вокруг переменилась! Все могли давно забыть про тебя. Если бы не я и не Юлия Ивановна, царство ей небесное, никто бы тебя не ждал и не признал сегодня! Я, старый хрен, можно сказать, одной ногой в могиле, а специально тебя дожидаюсь, чтобы помочь, а ты: «дуб!» А ты: «Убегу!» Беги! Чёрт с тобой! Съешь там, в лесу какого-нибудь грибника. Только через двадцать один год, когда никто на земле тебя не узнает, никто не скажет тебе, откуда ты взялась и что ты такое, вот тогда я не знаю, какой дуб ты будешь искать, или сосну! – Дед махнул рукой, отвернулся и занялся бутылкой.
Суть сказанного им оставалась непонятной, но в яростной отповеди Кощея Милюль уловила и обиду и разочарование и досаду непонятого человека. Ей ли не знать этой досады? Именно её никто не хотел понимать. Это её никто никогда не слышал и не слушал. Теперь же старик пытался докричаться до неё, донести нечто необходимое, а она вела себя как бездушное бревно, как все. Растерянная и смущённая Милюль спросила:
– Так вы не бессмертный?
Кощей оторвался от бутылки, повернул к ней полное непонимания лицо. Казалось, он пытался разглядеть её и не мог. Его светлые глазёнки никак не фокусировались и бессмысленно пялились в Милюлину сторону, при этом глядели куда-то мимо и вскользь. Очевидно, глядя на Милюль, он нашаривал внутри себя ответ на её вопрос. Нашарил, ухмыльнулся и произнёс:
– Этого никто не может утверждать. Откуда я знаю? А ты про себя знаешь, бессмертная ты, или нет? – ещё немного подумав, он предложил – Давай-ка лучше пообедаем – и, нагнувшись, развязал горловину огромного рюкзака, набитого пакетиками и кульками.
Милюль забралась в лодку и подсела к рюкзаку. От старика сильно пахло водкой. Движения его были излишне напористыми. Энергичностью он пытался компенсировать уплывающую координацию движений, поэтому пакеты в его руках разрывались, вываливая содержимое наружу.
Как же много бутербродов оказалось в Кощеевом рюкзаке! Не сосчитаешь! И были эти бутерброды очень даже разнообразными: с варёной колбасой, с другой колбасой и с третьей, копчёной и жёсткой. Потом пошли приправленные чесноком бутерброды с бужениной, ветчиной, шейкой. Тех, других и третьих Милюль съела по пять штук. Старик же ел скупо, по одному. Когда мясные бутерброды кончились, он погладил пузо и предложил:
– Давай передохнём, Милюль, а-то я боюсь, лопну, хоть и ем в пять раз меньше тебя.
Для того чтобы передохнуть, дед достал большой металлический цилиндр и открутил с торца подвижную часть. Цилиндр этот – оказался сосудом, к которому привинчена кружка без ручки. Дед плеснул в ту кружку коричневой жидкости и протянул Милюль, советуя пить аккуратнее, чтобы не обжечься. Оказалось, горячий чай. Не очень сладкий. Самое то, чтобы запить сухомятку.
Милюль пила чай и изучала разорванные дедом упаковки. Очень они были непривычные, совсем не бумажные, а спаянные из неизвестного тонкого и прозрачного материала.
– Полиэтилен – произнёс дед неизвестное слово, обозначающее, как надо было понимать, тот самый материал – тебе, я вижу, он в диковинку.
– Да – согласилась она – в диковинку.
– Это и есть прогресс. Когда ты появлялась в прошлый раз, полиэтилен уже был, но у нас, в стране советов, тогда ещё не так изобильно им пользовались. Продукты всё-таки чаще всего паковали в бумагу. Теперь кругом полиэтилен. Удобно. Положил в мешок, вынул из мешка, мешок выбросил. Если присмотреться, он кругом валяется. Выбрасывают его. Ученые говорят, в природе он полностью разложится за триста лет. Но за триста лет этим полиэтиленом можно всю землю засрать. Только я этого не увижу… наверное… всё-таки нет – и он опять замолчал, приложившись к бутылке.
– Что «нет»? – переспросила Милюль.
Съеденные бутерброды стремительно растворялись в её животе. Лодка свободно дрейфовала к середине озера и жаркое солнце, отражённое зеркалом воды, согревало её со всех сторон.
– Наверное, я не бессмертен – сказал дед заплетающимся языком – ты давеча спросила, а я задумался. Действительно, если что-то однажды началось, оно обязательно когда-нибудь кончится. Был Осирис, был Христос, был Карл Маркс… эх, и я тоже скоро умру.
Солнце, которое начало припекать Милюль, действовало и на старика. С каждой минутой он всё более соловел. Кожа его морщин ровно покраснела, а глаза съехались к носу, придав лицу крайне комичный вид. Дед снял с себя древний пиджак, принялся стягивать через голову свитер, да запутался в нём и чуть не вывалился за борт. Перегнувшись через рюкзак, Милюль помогла ему высвободиться из вязаной ловушки. Дедок поблагодарил, отдышался, сидя неподвижно, уцепившись обеими руками за борта лодки, а потом принялся хихикать мелко и пьяно.
– О чём вы смеётесь? – поинтересовалась Милюль.
Дед резко посерьёзнел, поднял на Милюль косые глаза, переспросил:
– Как ты сказала?
Милюль повторила вопрос. Тогда дед, вместо того, чтобы ответить, возмущённо выкрикнул:
– Вот именно! Вот именно: «О чём»! Это в твоё время такой вопрос был в порядке вещей. Теперь так не говорят. Теперь говорят: «Чего ты ржёшь?» Всё стало по-другому, всё! – и, уронив голову на грудь, он огорчённо пробурчал – Какую страну сгубили коммунисты хреновы…
Похоже, тут силы его покинули, и настала пора уснуть. Во всяком случае, к тому явно шло, но настроение старика в очередной раз стремглав переменилось. Он распрямил понурую спину, негодование отразилось на красном лице. Совсем иной сделался старик. Этот, иной, вступил в яростный спор с прежним, предыдущим собой:
– Что?.. Кто сказал?.. Я капитан балтийского и северного красного флотов! За революцию! За власть советов! Да здравствует диктатура пролетариата! Кто ещё хочет комиссарского тела?..
Медленно сложив руку в жилистый кулак и размахивая им то вправо, то влево, он запел:
– Спокойно, товарищи, все по местам!
Последний поход наступа-ает!
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
Пощады никто не жела-ает!..
Слёзы выступили из бессмысленных серых глаз старика. Он перевёл плачущий взгляд на Милюль, отогнул от кулака указательный палец и, нацелив его на девушку, сообщил:
– Ты! Ты спасла меня восемьдесящ-щ-щ – он запнулся и, с большим трудом, по слогам выговорил – во-семь-десят-че-ты-ре года назад. Поэтому я всё видел, всё знаю, во всём принял личное участие! – старик резко поклонился, и словно волейбольным мячом в корзину, попал головой в рюкзак.
Крепко лежал он на дне судна и мощно пах водкой. Постепенно Милюль оставила попытки его поднять. Она накрыла голову пьяного старца его же свитером и решила ждать, когда он оклемается. Не поднимая головы, дед взмахнул левой рукой и пробубнил:
– Я понял. Ты приняла меня за Кощея Бессмертного, а всё остальное за сказку про белого бычка. Вот откуда взялся дуб в твоей глупой голове!
Тут же, без лишних переходов, он выдал рулады такие громкие и разнообразные, на какие способен не каждый спящий богатырь. Милюль вытянула из под старика весло, развернулась лицом по ходу лодки и стала учиться грести. Она не торопилась, гребла не сильно и следила за тем, чтобы нос не заносило в ту, или иную сторону. Чем спокойнее она гребла, тем послушнее становилось судёнышко.
Двигаясь вдоль берега, она заплыла в тень нависающих над водой ив, и там остановилась, взявшись за тонкую длинную ветку, свисающую почти к самой воде. Поразмыслив немного, Милюль склонилась над пьяным, высвободила из горловины рюкзака верёвку, и той верёвкой привязала лодку к склонённой ивовой ветке. Здесь не палило солнце. Ветерок с берега нёс прохладу леса. Если бы не громкий храп, было бы совсем тихо.
Милюль смотрела на спящего с жалостью и сочувствием:
«Никакой он не Кощей. Обычный человек, но очень старый и уставший. Вон, как его солнышком разморило. Уснул. Обещал рассказать что-то очень важное и полезное для меня. Жаль, не успел. Ну, ничего. Проснётся, тогда и расскажет».
Слегка потревожив голову храпящего деда, от чего тот пробормотал нечто невнятное, Милюль запустила руку в рюкзак и вытащила очередной пакет. Открыла его, произнеся вслух новое слово: «полиэтилен», и начала неспешно поедать уложенные в пакете бутерброды с маслом и сыром. Пока ела, размышляла: «С чего старик взял, будто я могу его съесть? Разве можно съесть такого жилистого и вонючего человека? Глупый дед. И я глупая. Возомнила себя Царевной-Лягушкой. Никакая я не царевна. Я самая обычная девочка, которой недавно исполнилось шесть лет. Даже если я выгляжу на двадцать, это не значит, что мне столько на самом деле».
* * *
– Вы только послушайте, какую байку рассказали мне под водой! – к группе раков, слушавших старого учителя, бежал со всех ног тот самый, с полосатыми клешнями, который недавно рассказывал короткие и поучительные истории, впрочем, не имевшие успеха. Наверное, досада от постигшего его выступление фиаско не давала покоя полосатому раку и, наконец, он дозрел до реванша.
Некоторые раки, недовольные грубо прерванным повествованием, зашикали на наглеца, но старый рак, напротив, приветливо помахал ему клешнёй и крикнул:
– Конечно, конечно! Нам всем интересно послушать твою историю!
Обрадованный поддержкой лидера, полосатый подбежал к нему, встал рядом и, отдышавшись, начал рассказ:
«Моя история произошла в самые древние времена и с тех пор передаётся у нас, раков, из жвала в жвало, из челюсти в челюсть. Тогда на суше и в море господствовали самые разнообразные звероящеры и пресмыкающиеся. Жили среди них очень крупные особи и не очень. Много водилось мелочи и шелупони. Были и умные и общительные и хитрые, но, в общем и целом, цивилизация сложилась довольно злобная. Так все и норовили сожрать друг друга. Ни о каком гуманизме речи не шло. Долго они зверствовали и пресмыкались, как бог на душу положит и, в конце концов, безумно расплодились, и начало нашей планете угрожать перенаселение.
Тогда главный звероящер, всемирный президент дикой фауны, решил собрать всю живность на экстренное совещание. Нас, раков, не позвали потому, как считали бесполезными, безмолвными и асоциальными. Ну и ладно. Никто и не обиделся. Совещание, тем не менее, назначили тут, на этом берегу, а потому наши далёкие пращуры всё видели, всё слышали, и потомкам своим, в том числе и мне, передали ту историю как миф, легенду и частушку. Сегодня я передаю её вам, чтобы вы рассказали детям и внукам, а те, в свою очередь, следующим поколениям, а те – дальше и конца края не видать.
Так вот, собрались на этом берегу делегаты ото всех звероящеров планеты Земля. Пришёл, сотрясая материк, гигантский главный диплодок, приковылял страшный тираннозавр, прискакал хитрозлобный раптор, прилетел пошлый птеродактиль, приползла гигантская черепаха, приплыл плезиозавр… если буду всех перечислять, то боюсь, не доживу до конца этой эры. Одним словом, для ясности, представителей собралось великое множество, и заявились ещё на совещание такие персоны, как лягушка, брат её крокодил и, совсем особняком, ни к кому не имеющий прямого сродства, Проточеловек.
Этот, последний, замечу я, был среди собрания, как белая ворона. Уж очень он от тогдашней земной фауны отличался. Ростом был не то чтобы большой. Иной серьёзный диплодок и раздавить его бы мог! Такой напросился каламбур. Гы-гы-гы! Главное же отличие Проточеловека заключалось в его образе жизни. Яиц он не высиживал, гнезда не вил, не пресмыкался, не зверствовал и себе подобных не кушал. Плюс ко всему, он имел на черепе третий глаз, коим постоянно взирал в космос и мог благодаря тому глазу, видеть не только тела окружающих его тварей, но и углядывать невидимые остальным движения душ. За счёт этого он выживал среди кромешной окружающей дикости. Только какой-нибудь хищный звероящер замыслит Проточеловека схарчить, как тот уже просёк злые намерения и посылает ему телепатический сигнал: «Не сметь! Я тебе покажу!». Звероящер, понятное дело, смущается, начинает рефлексировать, переживать муки совести и комплексы неполноценностей. Пока он переживает, Проточеловек его дубинкой по черепушке тюк, и делает ноги.
За это звероящеры очень Проточеловека недолюбливали, но и побаивались. Кроме того, решили его позвать из шкурных соображений: раз он так ловко проникает силой мысли в разные сущности, то должен будет помочь звероящерам разрешить какие-нибудь неожиданные психологические вопросы, в которых сами они не то что ни в зуб ногой, но немного туповаты.
Как все приглашённые собрались, главный звероящер, всемирный президент дикой фауны уселся вон на тот высокий камень и заорал на доисторическом, диком и примитивном языке:
– Привет, охламоны! Ну, как, допрыгались?
Сильно смутились все, кто был вокруг. Только крокодил и лягушка сидят, как ни в чём не бывало. Никаких угрызений на их мордах не нарисовалось, потому что были они бессовестные.
Президент выдержал паузу, чтобы каждый ощутил важность момента и приступил к докладу:
– На повестке дня – сказал он – стоит вопрос перенаселения планеты. Кабы были мы с вами поумнее, да поразвитее, давно бы наделали космических кораблей и всяких НЛО, да улетели бы к ядрёной фене, на Марс. А поскольку все вы академиев не кончали и умеете только пресмыкаться, да зверствовать, никаких шансов выбраться в межзвёздное пространство у вас нет. Так и будете топтать колыбель нашей цивилизации. Но поскольку колыбель уже изрядно испоганена, придётся нам сейчас принять решение неприятное, но судьбоносное. Кое-кому из вас, а также ваших родных и близких придётся прекратить своё биологическое существование. Проще говоря, готовьтесь вымирать, а ещё проще: запасайтесь, ящеры, гробами!
Тут поднялся такой шум! Такая началась паника, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Одни пытаются бежать, другие их держат, третьи орут, мол, они не согласны. Несколько особо агрессивных звероящеров решили поднять бунт против главного президента, и, как вы понимаете, в сей же момент и вымерли. Три дня они бесновались и выражали протесты, а главный президент всё стучал ложечкой по стакану и призывал собрание к порядку.
Наконец все устали и попритихли. Сидят, смотрят друг на друга зверями. Каждый мечтает, что придётся вымирать кому-нибудь другому, только не ему. Очень порочный образ мысли, я вам скажу. Именно из-за того, что каждый думает про себя, будто лично его общий поток истории не коснётся, что его пронесёт, вот именно из-за этого никуда и не деться от вымирания, когда накрывает сразу всех. Президент посмотрел на притихшую публику и говорит:
– У кого есть предложения по существу вопроса?
Как самый сообразительный и социальный зверь, лапу поднял один раптор. Все на него обернулись настороженно. Каждый ждал пакости против себя. Тираннозавр даже хотел раптора по-быстрому проглотить, пока тот говорить не начал, но не успел. Раптор быстрей оказался:
– Предлагаю – говорит – пожертвовать крокодилом и лягушкой. Они всех нас в три раза древнее. Пожили, хватит. Пора и честь знать.
Динозавры вздохнули облегчённо. Видят, что раптор спасает положение. Начали головами кивать, соглашаться. Эти же двое (крокодил с лягушкой) так и сидят, будто дара речи лишились. Чувствуют – всё, каюк настал. А тут и птеродактиль, краснобай известный, крыло задрал, слова требует. Дал и ему президент высказаться, да только зря. Птеродактиль всю затею испортил одним случайным замечанием. Но кто ж ожидал того замечания? Никто.
Вот, Птеродактиль встал, прокашлялся и говорит:
– Я абсолютно согласен с товарищем раптором. Видите, они сами не возражают, и чего они могут возразить? Интеллект у них самый низкий, конституция примитивная. Если крокодил хотя бы раз в году испытывает какие-то родственные чувства к подрастающему молодняку, то лягушка вообще ни о ком не заботится. Вы посмотрите, уважаемые далёкие родственники, какое убогое у лягушки зрение! Она же ничерта не видит! Все вы знаете, насколько несовершенен глаз лягушки! Неподвижные объекты им не воспринимаются вовсе. Недоразвитая тварь! Если мы сейчас прекратим чесаться, да вздыхать, то она, скорее всего, решит, что осталась в полном одиночестве. Зачем ей жить? Она не может наслаждаться созерцанием прекрасной природы, которая её создала! Эти величественные скалы, это чистое голубое небо, эти гигантские хвощи и папоротники, которые возвышаются на берегу, а в будущем станут замечательным углём-антрацитом, остаются вне круга её ограниченных интересов! Что видит она? Разве, только море, беспрестанно шевелящее волнами! Да и море исчезнет для неё, стоит ему замереть безветренным туманным утром. Она видит движение мелких предметов и сразу норовит их съесть, она видит движение больших, и спешит от них спрятаться! Вот и всё! Она даже не сможет разглядеть нашего президента, если он на секунду прекратит ковыряться в носу. Потому мы должны сказать единодушно и возмущённо: «Смерть жабе! Позорная смерть!»
Все радостно загалдели, а потом стали скандировать: «Смерть жабе!» Уж очень всем лозунг понравился. Один президент не скандировал. Задел его за живое придурочный этот птеродактиль, когда про нос напомнил. Вот, президент копил свою злость, копил, а как накопил, то стукнул кулаком по скале и крикнул: «Тихо!»
Все примолкли, и он продолжил:
– Двое замечательных ораторов измусолили одну блистательную идею, как нам спасти планету от перенаселения. Я же вам замечу, что идея эта, несмотря на тонкость и неординарность, имеет один недостаток: она никуда не годится. Лягушки, несмотря на их кажущуюся многочисленность, совсем малы каждая в отдельности. Они никак не влияют на густоту нашего населения. Я сам люблю иногда позавтракать сотней – другой лягушек. Если вы хотите, чтоб их не было, ладно, могу обойтись без завтраков. Не знаю только, кому станет весело жить, когда я каждое утро буду злой и голодный.
Теперь о крокодилах. Крокодилы сидят себе в тёплых реках и, несмотря на достаточно уважительные размеры, даже и не думают существенно увеличивать популяцию. Ну, перебьём мы всех крокодилов, а что толку? Я настаиваю на вымирании как минимум одной трети наших собратьев, а ещё лучше целой половины. А всем птеродактилям в первую очередь пора скопытиться, иначе планета Земля задохнётся от тесноты, которую вы тут устроили! Понятно?
Наступила зловещая тишина. Ситуация, казавшаяся разрешённой, вернулась к исходной точке и выпрямилась перед звероящерами во весь убийственный рост. Опять всем стало тревожно и страшно.
– Надо, чтобы вымерли самые большие! – предложил брахиозавр и тут же вымер. Большие даже возражать не стали, а незаметно, как-будто случайно, раздавили его. Президент же сделал вид, будто не заметил столь внезапного вымирания одного из сородичей, и спешно пустился в рассуждения на тему размера, который роли не играет. Продемонстрировав таковой либерализм, он повысил свой авторитет, но проблема не решалась. Тогда голос подала черепаха, предварительно спрятавшись в панцире:
– Пусть скажет Проточеловек! – прошипела она, поблёскивая глазом из костяной глубины. Тираннозавр пару раз укусил панцирь, но потерял два зуба и плюнул.
– Любопытное предложение – усмехнулся президент – этот Проточеловек всегда зрит в корень. Может, он и откроет нам пути дальнейшего выживания или вымирания, кому как повезёт. Опять же, можно надеяться, он не посмеет обидеть кого-нибудь из уважаемых всеми персон, как необдуманно поступили некоторые вымершие виды нашей с вами, доисторической фауны. Итак, друзья, учитывая поразительную уязвимость и необъяснимую с нашей точки зрения выживаемость этого представителя животного мира, я даю слово ему. Эй, Проточеловек, прошу к микрофону!
Проточеловек обречённо встал, не спеша проследовал к камню, на котором восседал президент и начал карабкаться наверх. Имея третий глаз, он прозревал смутные мысли и примитивные желания окружающих товарищей. Более того, он видел третьим глазом, какие слова предстоит сказать, какое потрясение вызовет его речь, как будет развиваться конференция и какой выход найдёт хитрейший президент. Проточеловек знал всё, поэтому он грустил. Он печалился столь сильно, что когда залез на возвышенность рядом с президентом, все звероящеры увидели, как он плачет из всех трёх глаз.
– Уважаемое собрание – начал он, не прерывая потока слёз – мне очень грустно выступать сегодня перед вами, потому что многое из сказанного мной не понравится никому. То, что я скажу, не нравится даже мне оттого, что мне заранее больно и жалко расставаться с привычным образом жизни, с той окружающей средой, в которой я вырос, и которая была мне близка как мать. Сегодня я покину свой рай, свой эдамский сад, если хотите, и возврата назад не будет. Поэтому я плачу.
– Не стоит так огорчаться – попытался утешить его президент – нам, конечно, наплевать: вымрут протолюди, или не вымрут, но что до меня, то я не вижу никакого смысла в вымирании столь немногочисленного вида. Вас всех можно по пальцам перечесть! Конечно, трогательно видеть, как человек ради жизни на Земле решился на самопожертвование, но зря! Не будет никакого проку. Я теряюсь в догадках о мотивах твоего героизма, но хочу, чтобы ты не тешил себя мыслью, будто своим добровольным вымиранием подаёшь нам пример. Уверяю тебя, никто за тобой не последует.
– Спасибо вам, господин президент – поблагодарил Проточеловек главного звероящера – но я не собираюсь подавать пример остальным, совершая самоубийство. Я вообще не собираюсь вымирать, как и присутствующие здесь досточтимые гады.
– Тогда я не понял вообще ничего – вздохнул президент – чего ты нам голову морочишь о покинутом рае? Я уж думал, ты решил наложить на себя руки.
– Если вы позволите, я подробно обрисую собравшейся аудитории сложившуюся ситуацию – предложил Проточеловек, и, дождавшись утвердительного жеста президента, продолжил – Уважаемый мною Птеродактиль указал на способность лягушачьего глаза лишь фиксировать движения окружающих, а не замечать их самих. Так и есть, но способности большинства присутствующих мало чем отличаются от такого порядка. Да, ваш зрительный орган устроен лучше. Вы можете видеть контуры, отличать цвета и идентифицировать друг друга. Вы не спутаете диплодока с бронтозавром и распознаете проходящего мимо подростка-тираннозавра, даже когда он, по юности лет, сильно смахивает на взрослого раптора. Но разве зоркий глаз, да крепкий зуб – являются пределом совершенства? Вы видите внешние проявления, но не можете разглядеть стоящих за ними сущностей. В то время, когда вы лишь смутно догадываетесь о наличии чего-то внутри себя, я, благодаря третьему глазу, имею возможность ясно видеть непосредственно сами ваши души. Уважаемые звероящеры, я должен сообщить вам: душа лягушки ничем не отличается от той души, которая живёт в теле крокодила, птеродактиля, плезиозавра, да и от моей, собственно, тоже.
– Про тебя спорить не буду – парировал президент – но плезиозавра ты зря сюда приплёл. Всё-таки мы не такие, как они. Мы, звероящеры, имеем культуру и цивилизацию! Мы живём и действуем, а не мух глотаем, да не упрекнут меня в шовинизме.
– Все живут – парировал Проточеловек – но я говорю не про объёмы памяти, сложности намерений и наслоения культурных уровней, а лишь о той квинтэссенции, на которой, как на фундаменте, строится остальное. Уважаемый президент, не стоит подозревать иное существо в отсутствии души за ограниченный спектр его возможностей. Ваши возможности велики, но тоже ограничены. Если же вас связать, да заткнуть кляпом зубастую пасть, то возможности и вовсе сойдут на нет. Всё равно, я не буду отказывать связанному президенту в наличии у него не только бессмертной души, но даже интеллекта. Кто из присутствующих считает иначе?
Никто из присутствующих не проявил желания отказывать президенту в наличии интеллекта. Не мудрено. Президент всё-таки не был связан. Посмотрели бы вы на них, если бы президента и вправду связать. Так Проточеловек слукавил и выиграл спор с президентом звероящеров. Добившись жульничеством всеобщего согласия, он обратился с призывом:
– Звероящеры, сконцентрируйте ум и критичнее отнеситесь к своими возможностям. Грош им цена, если вы не видите души иного существа точно так же, как лягушка не различает неподвижные предметы.
– К чему ты клонишь, плут? – подозрительно сощурился президент.
– Да, собственно, вот к чему. Недостатки одного не столь разительно отличаются от ограниченности другого, чтобы из-за них подвергать кого-то обязательному вымиранию.
– А на мой взгляд, ты хвастаешься! – закричал президент и, погрозив Проточеловеку кулаком, спросил – Уж если ты можешь глядеть в саму мою суть, то отвечай мне: что за мысль так и крутилась у меня в башке, пока я тебя слушал?
– В этом нет никакой сложности – поклонился Проточеловек президенту динозавров, одновременно разглядывая его третьим глазом – всё это время вы сидите и думаете буквально следующее: «Эра звероящеров прошла. Вот-вот пробьёт наш последний час. Хотим мы этого, или нет, но нам придётся вымирать. Никакие жертвы не спасут нас. Где спрятаться нам? Как миновать той катастрофы, которая стоит на пороге?.. Что толку от разговоров и собраний, которые я должен проводить, как президент динозавров? Никакие совещания не спасут нас от грядущей беды!»
Кромешная тишина нависла над звероящерами. Даже самым глупым динозаврам сделалось страшно от сложившейся ситуации. Все ждали, как ответит главный. Если он и вправду думает, как сказал Проточеловек, значит, оно и есть, и тогда никаких надежд не осталось, а все жертвы – лишь бесполезная суета уходящего ритуала. Президент медлил. Он мог бы обвинить Проточеловека во лжи. Мог проглотить его, но оба действия оказывались бессмысленными ввиду надвигающегося катаклизма. Проточеловек оказался прав. И тут в голове президента родился креативный стратегический план, то есть, единственный путь к спасению. Президент обрадовался своему решению и, хлопнув перепончатой ладонью по своей зелёной ляжке, крикнул:
– Правильно! Угадал, этакий ты баламут! Но… – президент повернулся ко всему честному собранию – уважаемые звероящеры, братья! Я придумал средство того, как нам спастись от неминуемого вымирания!
– Как?
– Как?
– Как спастись? – раздалось со всех сторон. Динозавры проявляли неподдельный интерес.
– Всё гениальное – просто, братья! – ответил президент – Просто, хоть и нелегко! Я выслушал, как ловко этот проницательный хмырь прочёл мои глубокие, но беспросветные мысли. Выслушал и поразился! Он, безусловно, молодец, наш Проточеловек! Теперь я уверен, он может узреть будущее так же ясно, как мы видим еду. Не только мысли, но намерения, замыслы и их последствия доступны его третьему глазу! Раз он видит то, чего нам не дано, так пусть же сам и послужит бесспорным аргументом моего сверхмудрого решения! Я бы сам сообщил вам тот единственный выход, но тогда вы не поверите мне! Вы назовёте меня дураком, а не гением. Если же моё гениальное решение поведает этот Проточеловек, то вы убедитесь, как он легко и ловко проникает внутренним взором туда, куда нам соваться бесполезно. Не я, а он расскажет, о чём я думаю, и откроет наш невидимый, но довольно увесистый шанс на выживание! Ну, как, вы согласны услышать голос вечности, который звенит в моей голове?
– Да!
– Да!
– Пусть говорит! – закричали звероящеры.
– Сами этого хотели! – резюмировал президент – Говори, Проточеловек!
– Я знал, что этим кончится – признался человек – потому и плакал. Но деваться некуда. О, динозавры, ваш президент, принял следующее решение: вы все вымрете как биологический вид, но поскольку ваши души найдут продолжения своих жизней в телах будущих людей, ваша жизнь продолжится. Вы бы не поверили мне, но ваш президент уже придумал, как убедить вас, как принести единственную небесполезную жертву и как сделать так, чтобы вы убедились в неотступности будущего. Он решил принести в жертву мой третий глаз – сказав это, Проточеловек вновь разрыдался.
– Молодец, спаситель! – президент похлопал Проточеловека по плечу – Да, господа, времена меняются. Невозможно сохранить нашу пресмыкающуюся цивилизацию, но мы продолжим наслаждаться зверощярерными возможностями. У нас нет другого выхода, кроме как начать новую жизнь. Жизнь в человеческом обличье! Наши души продолжат свой путь в телах потомков вот этого Проточеловека, а чтобы ни он, ни кто-либо ещё не мог увидеть, какой змей живёт внутри того, или иного, я сейчас лишу его третьего глаза. Он перестанет читать в чужих душах, перестанет заглядывать в будущее и продолжит жизнь среди нас, как и раньше. Вот какой выход! Ура! – и президент звероящеров выбил Проточеловеку третий глаз. Тут же все динозавры вымерли кроме лягушек и крокодилов, потому что они не понимали, о чём шёл разговор.
С тех пор динозавров нет. Есть люди, но они лишены третьего глаза и поэтому не могут проницать в души окружающих индивидов, не могут видеть будущего и охватывать сознанием вселенную. А звероящеры с тех пор ловко продолжают пресмыкаться и зверствовать, скрываясь в человеческих обличьях».
* * *
В аудитории повисла напряжённая тишина. Раки осмысливали услышанное и не спешили выражать свои мнения. Озадаченный такой невнятной реакцией, начинающий сказочник направил оба глаза на старого мэтра. Мэтр улыбнулся ему и обнадёживающе кивнул:
– Очень хорошая сказка. Мне понравилась. Молодец.
В подтверждение похвалы он вытянул клешни и несколько раз хлопнул одной о другую. Кто-то из раков повторил поощрительный жест. Потом хлопки раздались с другой, с третьей стороны и вот уже все слушатели дружно аплодировали к великой радости молодого исполнителя.
Когда клешнеплескания утихли, уважаемый старик дружески тюкнул триумфатора в раковину и сказал, обращаясь к залу:
– Дорогие мои! Вы видите, как стремительно растёт исполнительское мастерство нашего собрата. Совсем недавно он рассказывал нам прекрасные старинные легенды, но не имел успеха. Сегодня мы услышали из его уст не менее древнюю и замшелую, но не утратившую актуальности историю. Чем она мне мила? Не насмешкой над человеческим племенем и не тем, что в ней упоминается теория переселения душ. Для меня эта сказка представляет ценность, как след памяти о временах глобального кризиса, из которого нет выхода в пределах устоявшихся обычаев и доктрин. Лишь абсолютно новый взгляд на общий порядок вещей в сочетании с кристальной честностью позволяют найти единственный выход из безвыходного положения. Перечисленного мало! Как видно из рассказанной истории, в любом новаторстве необходимо участие живого духа, того, который в силах прорицать будущее и видеть космос как дело собственных рук. Только он поможет узнать, что ждёт нас впереди.
Как хотелось бы мне не терять присутствия этого духа! Но он ускользает! Несмотря на мои преклонные годы и колоссальный жизненный опыт, я лишь анализирую накопленные знания и очищаю их от шелухи расхожих клише. Может быть, кто-то из вас совершит единственно верный поступок настоящего дня. Кто-то обнаружит жизнеспособный строй мировоззрения, которому последуют остальные. Пусть рассказанное на этом берегу поможет ему.
Старый рак воззрился на рассказчика с полосатыми клешнями:
– Ты радуешь меня, молодой исполнитель былых новелл. Ты стремительно растёшь, поглощаешь накопленные знания и совершенствуешься в методах интерпретации. Поэтому я не в обиде на то, что ты прервал мой рассказ на середине шестого дня удивительной жизни Милюль. Откровенно говоря, я и сам сегодня немного подустал. Отправляйтесь-ка вы все – куда глаза глядят, да приходите завтра. Надеюсь, к тому времени я придумаю что-нибудь новое, интересное и вместе с тем соответствующее действительности.
Раки расползлись по пляжу, потому что наступал вечер, а на берегу валялись разнообразные останки, интересные находки и полезная для организмов еда.
Глава седьмая Пятница
Минула ночь. Для кого-то она оказалась последней, потому как именно по ночам осьминоги выходят на охоту. Ночь хоть и является антиподом дня, но всё же это вовсе не безвременье, не полная противоположность жизни. Ночь на побережье всегда насыщена неисчислимым множеством событий.
Спокойной неукротимостью дышит невидимый в черноте великан. По берегу проносятся редкие, неведомо кем отбрасываемые тени. Не то сухие водоросли, не то волосья таинственного зверя зашевелятся за каменной грядой и скроются там. Ветер донесёт обрывок далёкой мелодии, или механические звуки порта, чьи огоньки мерцают в шевелящемся над песком воздухе и также малы, также ничтожны и неустойчивы, как редкие звёзды, безуспешно спорящие невеликими силами с блеском ущербной луны.
Негромкие голоса, ведущие неспешную беседу, вклиниваются в призрачную жизнь ночного пляжа. Это две человеческие фигуры бредут по кромке пологого прибоя. Отделённые сумраком от дневного мерцания красок, от суеты и ряби привычной жизни, именно этой ночью, на краю ворочающегося во сне океана, они испытывают острую необходимость друг в друге. Это море хочет, чтобы, целуясь, они ощущали на губах его горькую солёность. Это прибой хочет поселиться в их дыхании и биении их сердец, чтобы потом напоминать о себе при каждом удобном случае. Это бездна непроглядного горизонта залезает в глубину их глаз, чтобы потом смотреть из неё на весь, далёкий от морей и океанов мир. Так великий Омар расползается по земле, чтобы видеть все уголки мироздания.
* * *
На самом рассвете, когда розовое безветрие обещало грядущее дневное пекло, а неостывшая за ночь земля постанывала в предвкушении неминуемо надвигавшейся жары, когда напоминающее тёплый бульон море бессильно распласталось в ожидании восходящего солнца, осьминоги спешили уйти на глубину и затаиться в подводных норах. Раки же, сверкая мокрыми раковинами, выползали на сушу. Они шныряли туда-сюда, узнавая новости и оценивая перемены. К радости тех раков, которые подумывали о новых домиках, на морском дне к утру, как всегда прибавилось опустевших ракушек.
Из-за большого камня, ставшего привычным местом ежедневных сборищ, раздавался монотонный стук. Наверное, кто-то решил там чего-то обязательно расколоть и тюкал по этому чему-то с иступлённым упорством. Боязливо шевеля усами и до потрескивания вытянув стебельки глаз, самые отчаянные заглянули за камень. Там сидел знакомый всем старый рак и бил себя по башке большой клешнёй. Некоторое время все молча наблюдали нелепое самоистязание пожилого гиганта. Наконец, самый смелый и любопытный из раков спросил:
– Уважаемый учитель, не могли бы вы объяснить нам, зачем вы ударяете себя по тому месту, где под панцирем находится основной нервный центр? Может быть, это полезно для развития творческих способностей? Поделитесь с нами, и мы обязательно будем практиковать ваше упражнение.
Рак обернулся на вопрошающего, смерил его взглядом, после чего крепко треснул себя и крикнул: «Идиот!»
Учитывая редкостную способность старца говорить неприятные гадости, можно было не обижаться, но любопытный рак решил обидеться. Он попятился назад и стал уже разворачиваться, чтобы уйти, когда следующий вопль остановил его:
– Не надо обижаться на меня! Это я о себе говорю. Я – идиот! Я – выживший из ума старый кретин! – и кающийся идиот снова ударил клешнёй по верхней части панциря.
Никто не стал спорить. Все молча пялились на самокритичного товарища, поэтому старый кретин развил тему, то и дело богатырки хлопая по собственному крепкому лбу:
– Я шибко умничал, а того не заметил, как сам, своей клешнёй лишил простого человеческого счастья многих и даже себя! Сколько мук и страданий свалилось на ни в чём неповинных людей! Членовредительства и сумасшествия, убийства и самоубийства преследовали героев моего повествования. Я тужился, задаваясь вопросом: от чего это произошло? Кто, или что стало причиной ужасного положения, постигшего Милюль и всех, кто сталкивался с нею по прихоти безжалостной судьбы? Откуда возникло демоническое существо – Милюль, выскакивающее то тут, то там, точно чёрт из табакерки? Что это за странная Царевна-Лягушка, которая не может найти себе места и вносит сумятицу в окружающий мир?
Вначале я искренне подозревал виною происшедшего ту даму в сиреневой шляпе, вступившую в препирательства с нянечкой во время посадки на лайнер. Да! Я думал, именно она оторвала от реальности неокрепшую душу шестилетней девочки. Её сарказм, её угрозы и её ненависть пробудили в маленькой Милюль неуправляемый гнев и, расслоив её, забросили чёрт знает куда. Позже, когда Милюль сталкивалась с подобиями той дамы, когда она убила одну из них, я, вместе с Милюль укреплялся в правоте моих подозрений.
В лице несчастной Милюль я видел исковерканную, оторванную от преемственности жизнь целой страны. Жизнь на ощупь, в бесконечных попытках приноровиться к стремительно меняющимся обстоятельствам. Но сегодня ночью, глядя на мерцающие в вышине звёзды, я вспомнил о делах последних дней. Словно электрическим током, меня пронзила ужасная мысль: «Вот оно! Это я во всём виноват! Зачем я совершил то, чего теперь никогда не исправить? Ради каких таких достижений?»
Забрезжил рассвет. Я сидел в оцепенении, и чем дальше в прошлое улетала стрела моей мысли, тем больше неотвратимых последствий собственной дурости находил я там! Не дама в сиреневой шляпе, не коммунизм, не договор с Кощеем Бессмертным… не кто-то другой во всём виноват, а я! Я! Я это сделал!
Выкрикнув последнюю фразу, рак с такой страшной силой треснул себя, что не удержался на ногах и покатился, гремя раковиной по камням.
Озадаченные раки подползли к остановившейся, в конце концов, ракушке. Когда старик высунулся из неё, известный многим рак-философ задал ему вполне логичный вопрос:
– Уважаемый главный мыслитель ближайшего побережья, из вашей покаянной речи я могу заключить, что вы совсем недавно сотворили некий поступок, последствия коего стали происходить в весьма отдаленном, почти доисторическом прошлом, да к тому же за тридевять земель, очень далеко отсюда. Я правильно понял?
– Так и есть – ответил старый рак и печально шмыгнул носом.
– Абсурд! – воскликнул рак-философ.
– От чего же? – старик вопросительно вскинул брови.
– Следствие не может наступить раньше причины. Сначала происходит причина, и лишь затем её следствие.
Старый рак перестал хлюпать носом, поклонился раку-философу, а потом, тыча в него пальцем, вполне по-философски отчитал:
– Если бы ты плоско мыслил, ты бы усомнился в произнесённом только что стереотипе, но ты мыслишь хуже, чем плоско! Ты мыслишь линейно. Для тебя время выстроено как убогая прямая, как вектор, направленный из прошлого в будущее. Поэтому, когда в твоей жизни произойдёт нечто, не укладывающееся в привычный тебе порядок вещей, ты будешь растерянно спрашивать самого себя: «Чем я заслужил такое?» Придёт, к примеру, турист в плавках и ластах, поймает тебя и начнёт выковыривать из ракушки. Ты будешь страдать. Ты будешь взывать к Омару и кричать: «За что, Великий?» А не за что. Вот тут-то твоя вера и линейные умозаключения дадут мощную трещину, и ты умрёшь, корчась и кляня общепринятые догмы.
Возможен и другой вариант: турист ни с того, ни с сего бросит тебя в набежавшую волну. В этом случае ты будешь носиться с выпученными глазами среди нас, и орать: «Омар есть! Он услыхал мои молитвы!» Ты поместил себя в убогий мир причин и следствий, поэтому не замечаешь происходящего сбоку, в стороне от цепочки твоей логики.
Можно жить и так, но есть другой путь. Путь, насыщенный удивлениями, печалью и радостями. Если ты, философ, перестанешь представлять жизнь как голый отрезок между рождением и смертью и поглядишь на события, происходящие за пределами этого отрезка, то, может быть, однажды вселенная предстанет перед тобой в неожиданной и разнонаправленной многогранности. Может быть, ты увидишь: любое нарушение равновесия привносит перекос не только в будущее, но и в прошлое. Тогда ответственность за поступки, мысли и слова уже сегодня тяжким грузом ляжет на твой панцирь. Не берусь загадывать, сможешь ли ты, философ, выдержать этот груз, или же он сплющит тебя так же, как плющит теперь меня. А меня и плющит и колбасит!
Пока старик распинался, зелёный рак-крабовер терпел, терпел, да и не вытерпел:
– Хватит мудрословий! – воскликнул он – объясните, в конце концов, что вы такого натворили?
– Я совершил ужасное! – воскликнул гигант – И вы этому свидетели! Все видели, как я в угаре полемики отрезал у морской звезды лучик!
– В жизни не слыхал ничего более дурацкого – признался философ, а зелёный рак, видимо желая утешить сумасшедшего учителя, заговорил с ним как с малым дитём:
– Да, учитель, не волнуйтесь так сильно. Мы видели ваш замечательный эксперимент и все его запомнили. Вы изобрели мощный наглядный пример для объяснения новых идей. Это делает вам честь и заслуживает всяческих похвал. Что же вы убиваетесь? Никакого вреда вы никому не причинили. Наверняка обе звезды живут теперь преспокойно каждая сама по себе.
– Вот именно, сама по себе! – передразнил зелёного старец – Я нарушил равновесие и теперь во вселенной вместо гармоничной уравновешенной сущности ползают два урода! Единому целому, отныне никогда им не быть. Большая часть звезды, поболеет недельку, отрастит новый лучик и выздоровеет. Лучик же тот, отрезанный ломоть, обречён маяться, сознавая собственную фрагментарность! Вы можете представить, каково быть лишь частью самого себя?
Старый рак разрыдался в голос. Окружающие молча переминались с ноги на ногу, сомневаясь в том, достойна ли причина столь тяжких переживаний. Как и положено сумасшедшему, рак резко прекратил слезомойство:
– Срать мне на морскую звезду! – объявил он серьёзным, деловым тоном – вы думаете, я переживаю из-за беспозвоночного моллюска? Дудки. Сегодня ночью я нашёл настоящую причину того, из-за чего Милюль так уродливо и фрагментарно живёт. Я создал вселенную, я же внёс в неё сумятицу и беспорядок. Я отрезал лучик звезды и в тот же миг, но далеко в прошлом, душа маленькой Милюль расслоилась на части. Эти части продолжили жить каждая сама по себе. Не верите? Тогда слушайте. Что вам говорит такое замечательное слово: «Онфлер»? Ничего? Ну, так я расскажу!
* * *
Там, где Сена растекается широкой дельтой и впадает в пролив Ламанш, находятся два города. Один – крупный порт, с огромными причалами и шумными каналами, по которым движутся то туда, то сюда серьёзные грузовые суда, встающие лишь за тем, чтобы загрузиться, разгрузиться и снова деловито отчалить, прогудев басом на прощание. Широкие улицы этого города прямы и строги. Бетонные кубы одинаковых домов из цемента монолитно смотрят на приезжего геометрической чёткостью рабочего гиганта.
На противоположном берегу Сены стоит другой, маленький и удобный для частной жизни городок. Он совсем не такой. Он – полная противоположность первому. Узенькие мощёные улочки между прижатых друг к другу домиков спускаются к набережной святой Екатерины, к старинным узеньким причалам, где, никуда не торопясь, умиротворённо покачиваются моторные лодки, катера и яхты. Тут никто не пыхтит, никто не занят экономией времени, никто не стремится в далёкие рейсы. В сравнении с озабоченной, потной промышленной жизнью соседа, здесь тихая гавань. Большой город это Гавр, а маленький – Онфлер.
В этом самом маленьком Онфлере проживала старушка девяноста четырёх лет, которую соседи звали Мадам Юли с ударением на последнюю гласную. Так давно она тут жила и так органично соответствовала чистеньким улочкам, аккуратненьким домикам, черепичным крышам, яхтам у причалов и всему образу европейской старины, что мало кто мог бы предположить, в той старушке неместную, залётную скиталицу, некогда исколесившую половину Европы.
Пришёл бы какой-нибудь бойскаут и спросил бы: «Бабушка, откуда вы свалились на нашу голову?»
С большим удовольствием рассказала бы мадам Юли маленькому любопытному туземцу о далёкой северной стране, где зимой не то что леса и поля, но даже большие города укутываются снежными одеялами, о стране, где выше заснеженных крыш и выше деревьев, куда ни посмотри, тянутся к небу колокольни и колоколенки.
Когда закат окрашивает в сиреневый цвет облака, а голубые тени разрезают сугробы на множество розовых островков, из всех колоколен степенно и нежно льётся звон, наполняя души жителей тихой радостью и мудрым спокойствием. Отзвенят колоколенки, погаснут неповторимые акварели заката, и небесная синева неторопливо сгустится до бархатной глубины, за которой прячется зажигающая звёзды бесконечность. В звонкой, морозной тиши земля оказывается светлее самого неба. Это свет луны, отражённый миллиардами снежинок исходит снизу вверх, и снег светится изнутри. В детстве мадам Юли настолько была в том уверена, что однажды с каким-то мальчишкой, который искренне разделял её заблуждение, долго и старательно сгребала лопатой снег, чтобы потом внутри огромной кучи прокопать дом с самосветными стенами.
Завтракая в одиночестве, мадам Юли включила радио и спросила себя: «К чему бы накатили столь давние воспоминания?» По радио передавали новости, и дикторы говорили о бойкоте московской олимпиады, объявленном Соединёнными Штатами Америки.
– Вот оно что! – воскликнула мадам Юли – Третий день они говорят о грядущей олимпиаде в Москве и в то время, когда сознание переваривает: «Олимпиада, бойкот, Афганистан, Брежнев…», где-то в глубине души бьётся мелким пульсом: «Москва, Москва, Москва…»
Разгадав шараду собственной души и сложив посуду в мойку, Мадам Юли пошла одеваться. Кряхтя, она натянула высокие резиновые сапоги. Поламывало спину и выпрямляясь, мадам Юли помогла себе, упершись рукой в поясницу. Надела непромокаемую штормовку, привычно прихватила пустую корзину, перекинула её через локоть и вышла за порог. По знакомой до камушка улочке пожилая женщина неспешно шла под-горку в направлении набережной. Вот улочка изогнулась, и солёный морской воздух знакомо защекотал ноздри.
«Доброе утро» – сказала она по-русски, ощущая вкус каждого слова, сплетая их с привычными запахами и радуясь получающемуся коктейлю. Спускаясь с набережной, она ещё раз заметила: «Опять я думаю о России. Что за притча сегодня? Сколько лет, спускаясь с набережной по утрам, я думала о чём угодно, но не о ней. Сколько лет, идя привычным маршрутом, мимо привычных домов, я была занята тем, чем занята, а вот сегодня… сегодня совсем иное настроение. Это непременно что-то значит, но что?»
Она спустилась к набережной и двинулась вдоль расчёски причалов с белыми яхтами. Борт к борту стояли разнообразные по конструкции суда и судёнышки. Были тут шикарные плавучие дома, в которых можно жить целой семьёй. Рядом покачивались куда более скромные ялики, на которых единственным укрытием от непогоды была маленькая крыша, а то и вовсе тент. Разнообразие моделей, говорящее о разнице состояний их владельцев нивелировалось одинаково направленными в небо мачтами. Ещё их объединял причал, общий для всех.
«В России говорят, люди равны лишь в бане и на кладбище» – придумала мадам Юли и даже остановилась, сказав себе: «Опять!» Россия навязчиво лезла в её сознание, и оказывалось невозможным ни отмахнуться от неё, ни выставить за дверь.
«Ладно – пообещала себе мадам Юли – устрою сегодня русский день. Испеку пирог с вязигой, и если придут соседи, а они обязательно придут за рыбой, то приглашу их вечером на чай. Пускай удивляются и охают. Если же останусь одна, то открою альбом, буду смотреть старые фотографии и вспоминать о скитаниях».
Размышляя так, она дошла до того места, где на речной волне покачивалась её моторка. Аккуратно спустившись на зыбкое дно, Юли присела на мокрую от росы скамью, чтобы перевести дух. Последний год, день ото дня ей всё тяжелее было выходить в море. Она упорно цеплялась за этот ежеутренний ритуал, понимая, что рано или поздно он обязательно завершится, став недоступным из-за отсутствия сил и тогда… то, что будет тогда, совсем не радовало мадам Юли. Тогда придётся продать лодку и начать строить жизнь как-то иначе, с другими ритуалами, другими, более доступными радостями. Тогда можно будет хоть сутками листать старый альбом и пить чай с гостями, или без. Тогда настанет время вдаваться в воспоминания хоть о России, хоть о Турции, и рассказывать юным туземцам о сказочных странах и малиновом звоне.
Тогда будет тогда, но сегодня ещё нет. Сегодня ещё далеко до капитуляции перед надвигающейся немощью. Сегодня она в своей лодке и готова идти в море назло воспоминаниям, назло собственной старости, назло этой проклятой России, что с самого утра так и лезет в голову.
Перегнувшись через борт, Юли отвязала швартовый, перешла по качающемуся полу к штурвалу, воткнула ключ в замок зажигания. За спиной заурчал мотор. Юли улыбнулась и, двигая рычаг газа, произнесла вслух знаменитую фразу космонавта Гагарина: «Поехали!»
* * *
Мадам Юли была заядлым рыболовом, о чём знали все её многочисленные соседи. Поэтому каждое утро, вернувшись с рыбалки, она поджидала гостей. Домохозяйки из соседних домов заходили к ней запросто, и она дарила им свои трофеи, узнавая новости и поддерживая хорошие отношения с добрыми и отзывчивыми семьями.
Случались дни, когда перед мадам Юли вставали неразрешимо сложные задачи. Например, потёк на кухне кран, сломался старый торшер, муниципалитет начислил непомерно большую пеню за просроченную выплату, страховая компания предлагает контракт, в котором без толкового юриста не разобраться… да мало ли бывает ситуаций, когда безвозмездная помощь соседей куда нужней, чем любые службы и институты? В таких обстоятельствах и выручали мадам Юли налаженные благодаря её хобби отношения. Соседки-домохозяйки влияли на мужей. Те влияли на сложный для мадам Юли социальный мир и он, сам того не замечая, начинал её обслуживать.
Так и сегодня, приглашая соседей на «Русское пати», мадам Юли совершала самое настоящее жертвоприношение социуму. Щедрые морские дары должны были заставить социум откликнуться на вставшие перед Юли вопросы: «Что делать с Россией? Как повести себя, чтобы набегающие воспоминания не превратились в старческую ностальгию, когда навязчивая мысль о тщете существования загораживает мир и делает его бесцветным и постылым?»
Вечером пришли гости. Мадам Николь с племянником, таким же носатым и коротко стриженым как она и пожилые супруги Жопэн. Если бы был жив муж мадам Юли, Сергей Пантелеймонович, он бы назвал последних: «мадам Пожрать и мсье Потрындеть». У других соседей не оказалось в этот день свободного времени. Тоже правильно. Кому охота сидеть весь вечер в компании с одинокой старухой?
Гости вкушали пирог, а мадам Юли, подливая им чаю, прикидывала как бы перевести разговор в нужное ей русло. Говорили о сущих пустяках: о погоде, о рыбной ловле, о безумцах, затевающих копать под Ла-Маншем тоннель. Мсье Жопэн рассказал пару забавных анекдотов и сплетню про какого-то Де Гази, служащего в ратуше.
Всё было не то. Нельзя же взять, да и брякнуть ни с того, ни с сего: «Меня замучили воспоминания по России. Она мне покоя не даёт. Может быть, мне туда съездить?» – Какую реакцию можно вызвать подобным заявлением? Вслух скажут: «Мадам Юли, вам уже девяносто четыре года», а про себя подумают: «Сошла старуха с ума», или того хуже: «Собралась помирать». Нет, такой сценарий мадам Юли не устраивал. Необходимо было подвести гостей к решению проблемы исподволь, органично, да так, чтобы именно гости сгенерировали варианты дальнейшей судьбы. Поэтому мадам Юли продолжала подливать чай мсье Жопэну и подкладывать носатому племяннику Николь новые куски пирога.
Мсье Жопэн, чувствуя себя центром компании, говорил много и всё больше атаковал современную действительность. От критики внутренних городских недостатков он мягко перешёл к насмешкам над чудачествами коммунистов и либералов, засевших в парламенте, высказал надежды на светлую голову Жан-Мари Ле Пена, единственную надежду французов сохранить лицо. Потом мсье Жопен стал ругать свору ренегатов и дегенератов, которые обязательно помешают Ле Пену.
С терпением опытного рыболова мадам Юли следила за направлением движения мысли старого брюзги и когда его речь вошла в фарватер глобальной политики, незаметно подбросила наживку:
– Мсье Жопэн – обронила она – по радио говорят, Соединённые Штаты объявили бойкот московской олимпиаде. Как вы думаете, это заставит коммунистов уйти из Афганистана?
Мсье Жопэн заговорил сквозь набитый пирогом рот. Получалось не очень внятно, посему он помогал себе убедительной жестикуляцией и повышенной эмоциональностью. Его речь приблизительно звучала очень невнятно, но общая суть сводилась к тому, что американцы порядочные дураки и сами не знают, как ещё нагадить Советам. Бойкот олимпиады это совершенно нелепый, немощный и идиотский жест. Никому, кроме самих себя они этим вреда не принесут. Зато теперь, когда тупые мускулистые негры останутся за океаном, у нормальных европейских спортсменов куда больше шансов завоевать золото и стать олимпийскими чемпионами.
Тут в разговор вступила мадам Николь и высказала мнение о спортивных ристалищах вообще. По её словам выходило, что любой спорт это сущая глупость. Мсье Жопэн возразил, заявив о традициях античной культуры и европейском образе мысли. Именно через олимпиаду цивилизация распространяется по всему миру.
Завязался спор, в котором мадам Юли встала на сторону мсье Жопэна и заявила, что она переживает за успехи французской сборной, а особенно её волнует команда академической гребли, в которой есть спортсмены из Онфлера. Получилось эффектно и убедительно, хоть и немного высокопарно.
Мсье Жопэн на пару секунд задумался, а потом вдруг вскочил и забегал по зале:
– Это замечательно! В этом есть очень здоровое зерно! Блестящая идея!
– Какая идея, дорогой? – спросила его супруга.
– Ну как же! – воскликнул Жопэн – Это же патриотично! Вы представьте себе, как поднимется дух наших спортсменов, если мадам Юли согласится ехать на олимпиаду и поддерживать нашу сборную!
– Вы думаете послать меня на старости лет в Москву? – уточнила Юли.
– Да! – с жаром воскликнул Жопэн – Да! Это будет фурор! Старейшая, извините меня, жительница Онфлера поддерживает сборную Франции по академической гребле! Какой это почёт для города и какой эффект для прессы!
Супруга мсье и племянник мадам Николь поддержали его энтузиазм, а затем и мадам Николь была вынуждена примкнуть к прелестному замыслу. Жопэн не унимался:
– Завтра же я скажу об этом в ратуше! Вы не представляете, как это может понравиться нашим журналистам! Я вижу заголовки в газетах: «Долгожительница Онфлера болеет за французских гребцов!» Или так: «Олимпийский талисман мореходов Нормандии едет на олимпиаду!» Как вам это нравится, мадам Юли?
Мадам Юли прикинулась смущённой и согласилась с гениальностью обоих заголовков. Единственное замечание: она не хотела бы заострять внимание на своём возрасте, и никто не выбирал её в олимпийские талисманы.
Вечер удался. Мадам Юли поймала попутный ветер. Окружающий мир оказался на её стороне. Внутренние проблемы мадам Юли разрешились и к тому же, как выяснилось, вся Франция заинтересована отправить её в Москву.
* * *
Сидящий неподвижно и клюющий носом пожилой человек со стороны кажется бездействующим. Он не беседует с окружающими, не обращается к стюардессам, не шевелит листами газет и журналов. Но до чего мелочны все эти шевеления по сравнению с гигантскими движениями его внутреннего «я», носящегося по бескрайним просторам воспоминаний.
Аэроплан, в кресле которого толи дремала толи спала мадам Юли, оставляя в небе прямой инверсивный след, поглощал сотни километров пространства, но если бы память мадам Юли оставляла такие же следы за собой, то несомненно Европу накрыла бы плотная сеть облаков. Пространство прожитых ею лет было куда больше, чем расстояние, преодолеваемое самолётом. Ни на каком аэробусе невозможно было бы преодолеть его. Нет таких транспортных средств, которые вернули бы мадам Юли в ту Россию, которую покидала она шестьдесят три года назад. Поэтому неоднократно и до полёта и во время его она говорила себе: «Нет, я не возвращаюсь. Я еду погостить. Ничто не связывает меня со страной, где и руин не осталось от прошлого». Но вновь и вновь в душе её рождалось смутное волнение. Сердце ныло от нелогичных чувств, а память металась с места на место, не останавливаясь где-либо подолгу.
* * *
Сумрачная комната в Петрограде. В кроватке посапывает полуторагодовалая Надя. Мрачный юноша Алёша с красным бантом в петлице выговаривает ей, тётке Юлии, что забирать с собой малое дитя и тащить его через страну, охваченную гражданской войной это немыслимое варварство и эгоизм. Он полон революционного оптимизма. Он убеждает её оставаться и возмущается за блажь, которая толкает её на юг, туда, где враги новой советской республики «точат стальные зубы».
Тётка Юлия пытается образумить его, приводя вполне логичные аргументы:
– Алёшенька – говорит она – там твой папа, твой дядя. Неужто они тебе враги?
– Они заблуждаются – отвечает пылкий юноша – рано, или поздно они поймут и перестанут воевать против собственного народа. Они вернутся.
Тогда Юлия Ивановна приводит страшный довод. Довод, который должен бы смутить потерявшегося в идеологических лабиринтах юнца:
– Алёша, а если они не успеют понять и ты столкнёшься с ними на фронте, неужто ты будешь стрелять в них? Они же твои… они наши!
Ответ Алексея обескуражил её. Она и представить себе не могла, до чего вёрткое сознание у этого мальчика. При всей его бескомпромиссности, сознание само подсовывает ему компромисс:
– Не столкнусь. Я буду служить во флоте в отличие от них.
Алёша не умел и не хотел понять, что служба во флоте вовсе не гарантия. Он встал на сторону врагов своего отца, своего дядьки. Что же он называл народом, против которого борются они? Какой такой народ? А они – кто?
Всё это она говорила ему, но что толку? Сама Юлия Ивановна не очень всерьёз воспринимала тогда сложившуюся абсурдную ситуацию. Она видела гражданскую войну как временную ссору в семье. Потому и оставила на Алёшино попечение малолетнюю Надежду.
Какая неисправимая глупость! Какое жестокое легкомыслие! Сколько лет после она вспоминала о них и корила себя за то, что не забрала дочь с собой. Она полагала свой отъезд временным. Ситуация должна была утрястись и они с Серёжей неминуемо вернулись бы в Петроград, домой… куда там?
* * *
Ноябрь двадцатого года. Сутолока на причале. Впереди трап. Серёжа в военной форме, при орденах и медалях держит в одной руке чемодан, а другой рукой сжимает её руку. Отпустить нельзя, потому что страшное столпотворение! Страшное! Давящая со всех сторон живая масса так и норовит оторвать её от Серёжи, разнести их в разные стороны, разлучить так, чтобы они никогда больше не встретились. Она, как умеет, пихается в напирающие тела саквояжем, но пихаться она умеет плохо. И вот уж саквояж отделяется от неё и ныряет в смыкающиеся меж людьми щели.
– Серёжа, саквояж! – кричит она мужу.
– Чёрт с ним – отвечает он и продолжает протискиваться к трапу. Не отпуская его руки, она оборачивается и видит, как саквояж взмывает над головами далеко позади и тут же тонет в море людских голов, шляп и фуражек.
* * *
Вечер в кишащем разномастной публикой Стамбуле. В ожидании Сергея Пантелеймоновича Юлия Ивановна стоит на набережной района Галата, смотрит на Святую Софию, что на противоположном берегу Золотого Рога и вдруг видит солдатика, бывшего солдатика, бывшего крестьянина, а теперь одетого в обноски эмигранта из той самой России, где установилась власть рабочих и крестьян. От чего же он здесь? От чего не властвует там, где декларируется его гегемония? Глупые вопросы. Чтобы задавать их, надо быть дураком, или циником. Но тут, в Константинополе, над каждым эмигрантом висит ощущение собственной глупости и ужасного цинизма сложившегося положения. Поэтому никто не пристаёт к солдатикам с политическими дискуссиями.
Политические дискуссии могут быть интересны только тем, кого эта война обошла стороной, тем, кто не покидал свою страну на переполненных кораблях. Тому же, кто четыре дня провисел на якорной цепи, или простоял в ограждении из пеньковых канатов без пищи и воды уже не хочется говорить о политике.
Солдатик играет… на чём он играл тогда? На каком-то струнном инструменте, но не на балалайке, это точно. Яркие балалайки как символ эмигрантской России появились значительно позже, напоказ, пошло и безвкусно как всякая ложь. А солдатик играл не то на домбре, не то на мандолине и пел заунывно:
«На улице дождик с ведра поливает
С ведра поливает, брат сестру качает.
Брат сестру качает, тихо величает:
– Вырастай, сестрёнка, отдадим тебя замуж.
Отдадим тебя замуж во чужу деревню.
Во чужу деревню, к мужу нелюбиму.
К мужу нелюбиму, в семью несогласну!..»
Абсурдная и жестокая как сама жизнь тоска, растворённая в словах и мелодии песни, безжалостность к собственной участи, и печальная безысходность неожиданно продырявили некий внутренний пузырь в груди Юлии Ивановны. Она расплакалась, и чтобы не привлекать к себе внимания, отошла к парапету набережной, прикрывая лицо платком.
– Что случилось, Юленька? – это Сергей Пантелеймонович обнял её за плечи.
Она уткнулась в его грудь мокрым носом и разрыдалась в голос. Конечно, она тосковала по оставленной неизвестно где дочери. Оторванная родина болела и кровоточила в Юлии Ивановне, но то же самое в большей, или меньшей степени, было со всеми.
* * *
Снова палуба парохода. Теперь уже не переполненная, человеческая. Ночь. За бортом светятся огни порта Пирей. Остатки некогда многочисленной константинопольской колонии завершают процесс распыления по белому свету. Большинство из переселенцев намерено плыть дальше, но некоторые, те, которые почему-то решили зацепиться за что-то в Афинах, покидают корабль. Юлия Ивановна спрашивает мужа:
– Сергей, почему мы всё время плывём куда-то? Почему нет нам твёрдого причала?
Он гладит её по плечу, усмехается в русые усы с алюминиевыми проволоками седых волос и говорит, обнадёживающе:
– Ничего, Юленька, ничего. Построим и мы свою лубяную избушку.
И ведь, пытались! Строили то там, то сям, собирались в какие-то общества. Что-то обсуждали. Но без настойчивости, без целеустремлённости, всё время с оглядкой на оставленную родину: «А что там?», «Как там развивается?», «Что говорят?». Велико и неизбывно было желание вернуться. Они бы вернулись, если бы не ясный, внимательный рассудок Сергея Пантелеймоновича. Он умел анализировать события.
* * *
Русский ресторан. Уже приноровились, прижились в Париже. Это здесь демонстративно и вычурно зазвучала та самая псевдонациональная балалайка и вовсю застонала пошлая романсовая цыганщина, которую в прежней жизни не пускали и на порог.
Звенят по тарелкам вилки. Сквозь приглушённый гомон множества ужинающих, убеждённо и пафосно выступает какой-то мозгляк. Он говорит о том, что теперь, после того, как умер Ленин, всё в России стало меняться. Говорит, что новый царь собирает империю из руин. Дескать, кровавого Троцкого изгнали из Кремля и вообще из России и теперь, несмотря на оставшиеся коммунистические лозунги, намечается возврат к национальному единству. Говорит много и красиво.
Юлии Ивановне начинает казаться, что он прав, что так оно и есть. Надежда на возвращение просыпается в ней с новой неожиданной силой. Она сжимает руку Сергея Пантелеймоновича, смотрит на него и шепчет:
– Вернёмся, Серёжа?
Его лицо суровеет. Он тоже хочет вернуться. Там, в оставленной России растёт без отца, без матери, в кромешной неизвестности, на попечении родни, да племянника-коммуниста их единственная дочь. Но Серёжа знает и то, чего не знают многие, собравшиеся здесь и надеющиеся на возвращение. Громыхнув стулом, Сергей Пантелеймонович поднимается и, перебив оратора, обращается в зал:
– Господа, я прошу поднять руки тех из вас, у кого есть оставшиеся там родственники, близкие и друзья.
Множество рук поднимается над столиками. Сергей Пантелеймонович благодарит собрание и просит, чтобы теперь подняли руки те, кто получал из России письма. Кто-то один поднимает руку, и Сергей Пантелеймонович благодарит его. Тот смущается и лопочет что-то про сомнения, которые вызывает у него полученное письмо. Сергей Пантелеймонович снова благодарит этого невнятного господина и обращается теперь уже непосредственно к тому самому мозгляку, который агитировал за возвращение:
– Извините меня, милейший господин, за вмешательство. Ваше выступление мне очень нравилось, потому что лелеяло самую горячую мою мечту. Как и вы, я стражду вернуться в Россию, но в отличие от вас не говорю об этом остальным. Мне дороги человеческие жизни. В отличие от вас, мне не хочется брать на душу грех за тех людей, которые не выдержат и помчатся навстречу смерти. На всякий случай хотелось бы узнать ваш адрес. Когда кто-то из моих здешних знакомых возбудится от пропаганды, отправится к своим пенатам, и от него не будет поступать писем, я найду вас и непременно пристрелю.
В зале установилась тишина. Перестали звенеть приборы и все с любопытством уставились на мозгляка-агитатора, по лицу которого забегали самые неприятные эмоции.
– Конечно – ответил он – я оставлю свой адрес, но с чего вы взяли, что вас там будут расстреливать?
– Я этого не произносил-с – осклабился Сергей Пантелеймонович – потому что не осведомлён о методах, которыми там нас казнят – и, уже обращаясь к аудитории, добавил – Мы потеряли Россию, господа. Ступайте в магазин и купите новые глобусы. На них нет России. Те же из вас, кто захочет ехать в Коммуниздию, пусть предварительно ответят сами себе: почему не в Антарктиду? Уверяю вас, пингвины отнесутся к вам гуманнее, чем грузинский царь и его уголовная челядь.
Люди, находившиеся до сего момента в сладком мороке, очнулись, повскакали с мест, принялись спорить, кричать, жестикулировать. Сергей Пантелеймонович обернулся к Юлии Ивановне и деловито сказал:
– Пойдём, Юленька, пока драка не началась.
* * *
Маленький домик в Онфлере. Они стоят на пороге, и Сергей говорит ей:
– Ну вот, Юленька, это и есть наша лубяная избушка. Больше мы никуда бежать не будем. Приехали.
Действительно, бежать больше не пришлось. Не прошло и года, как в дверь их «лубяной избушки» постучали грубо и громко. Мадам Юли проснулась и поспешила открыть, на ходу надевая халат. Коридор наполнился людьми в форме. Её оттеснили в зал. Вошёл офицер и спросил на скверном французском:
– Где ваш муж, мадам?
Откуда ей знать? «Была у зайки избушка лубяная, а у лисы ледяная. Настала весна и растаяла у лисоньки избушка». Сюжет старинной русской сказки оказался сюжетом её, Юлии Ивановны жизни. С того самого момента, как революция выгнала их с Сергеем Пантелеймоновичем из собственной избушки, из их страны, длились и повторялись бесконечные скитания. И теперь, стоило им остановиться, обосноваться в собственном доме, отгородившись от громыхающего двадцатого века, как и сюда нагрянула мрачная эпоха, поставившая своей целью уничтожение всех обычных, трезвомыслящих людей, которым ничего не нужно, кроме семейного счастья, покоя и человечности.
Юлия Ивановна смотрела на офицера и молчала. У ней были кое-какие подозрения насчёт мужа, но не делиться же ими с представителями оккупационных властей, у которых тоже были подозрения. Что им проку от совпадения подозрений?
* * *
В одиночестве она пережила оккупацию, встретила высадку союзных войск, окончание войны. Позже к ней заявились двое, назвавшие себя французскими коммунистами. Сказали, что лично знали Сергея Громова и что он погиб, сражаясь на стороне сопротивления. Мадам Юли пригласила их в дом и угощала кофе, а они рассказывали подробности.
До подробностей ли ей было? Подробности нужны следопытам, журналистам, писателям, историкам. Причём, нужны всегда криво, не до конца, в извращённой форме. Ежели подробности не соответствуют модным представлениям, или «требованиям эпохи», то они тут же отметаются, выворачиваются, заменяются другими, вымышленными. Мыслимое ли дело: угощать коммунистов кофе? А вот, представьте себе! И как те самые коммунисты оценят следующий парадокс: Сергей Пантелеймонович, ненавидевший коммунистов за кровожадность идеи насильственного распределения добра, пал героем, воюя на их стороне. Ирония судьбы? Так, ничего смешного.
Есть ли кому дело до её, Юлии Ивановны, горя? Будут ли извиняться перед нею почитатели «Капитала» за отнятые у ней страну, семью и, наконец, мужа? Нет. Не будут, и не жди. Потому она выслушала их молча, не проявляя никаких эмоций, отчего коммунисты, наверное, удивились и сочли её за бесчувственную функцию. Но тут уж ей не было дела до их удивлений.
* * *
В который раз, прерывая полудремотные воспоминания, Юлия Ивановна смотрела в иллюминатор на бескрайние поля белых облаков и повторяла про себя одну и ту же фразу: «Сколько лет прошло! Немыслимо, сколько лет!»
* * *
Пойди теперь, найди – какой подлец науськал мелких, ничего ещё не смыслящих рачьих детей разучить эту гнусную песенку! Им-то, детям малым, что? Им забава бессмысленная, а взрослого рака такая акция могла бы и обидеть. Представьте себе, на глазах у всего честного народа маршируют карапузы, которым месяца ещё не исполнилось, и хором распевают слова, смысл коих им самим не очень-то понятен:
«Крутится, вертится коловорот!
Время в пространстве дискретно течёт,
следствия встали с причинами в круг,
и совершают внезапный цурюк!
«Что же наделал я, старый дурак? —
глядя на звёзды, печалится рак —
Луч от звезды откусил и тот час
в прошлом далёком случился атас!
Кабы не трогал я эту звезду,
то не накликал бы людям беду!
Мир погрузился в печали и мрак,
коим причина полнейший пустяк!»
Брось огорчаться, учитель седой!
Звёзды морские ползут под водой,
звёзды небесные сверху глядят,
новые лучики вечно растят!
Много причин для тревог, ну и что ж?
Душу напрасно себе не тревожь!
Лучик морская звезда отрастит,
новая звёздочка рака простит.
Крутится – вертится звёзд хоровод.
Скоро судьба круг событий замкнёт.
Мир так велик, что его не объять,
стало быть, нечего нам горевать!»
Старик посмотрел вслед уходящей колонне юных исполнителей строевой песни и не стал обижаться на выпады в свой адрес. Напротив, он обернулся к замершему в ожидании его гнева рачьему племени и радостно прокричал:
– Началось! Я рад, дорогие мои! Наконец-то началось обсуждение и перетирание! Невидимые мною оппоненты входят в дискуссию! У дурной идеи оппонентов не бывает. Я вижу, настала пора раскрыть вполне заурядные причины тех невероятных коллизий, которые приключились с главной героиней моей сказки, что за люди окружали её целую неделю, и что такое представляла собой она сама. Для этого мне нужно ещё разок вывернуть историю и посмотреть на неё с третьей стороны. Готовы ли вы такое вытерпеть?
Раки облегчённо вздохнули. Кажется, старик не рассердился. Они радостно закивали головами, и тогда старый сказочник начал выворачивать историю на третью сторону:
* * *
– Алексей Андреевич Громов – тысяча девятьсот первого года рождения, бывший командир бронекатера балтийского флота, бывший капитан рыболовецкого судна, бывший командир траулера береговой охраны северного флота, ветеран Великой Отечественной Войны, снова бывший капитан рыболовецкого речного траулера, бывший капитан речного флота, а теперь заслуженный пенсионер – сидел в квартире и смотрел по телевизору церемонию открытия московской олимпиады.
Почему бы заслуженному пенсионеру не посмотреть телевизор? Конечно, он вполне мог бы отправиться на стадион вместе с сыном Пашкой, то есть с Павлом Алексеевичем Громовым, капитаном первого ранга, ветераном Великой Отечественной войны, а теперь главным инженером Северного Речного Порта города-героя Москвы, но Алексей Андреевич решил на стадион не ездить. А Пашка поехал и супругу свою на стадион забрал, и дочь Соньку, и внучку Милку тоже.
Один остался Алексей Андреевич, но не огорчался, а спокойно смотрел, как идут по стадиону делегации спортсменов почти со всей Земли. Только американцы не приехали (дурни), и почти вся западная Европа шла не под своими знамёнами, а под общим флагом МОК. Тут тебе и Западная Германия (фашисты), и Франция (сифилитики), и Италия…
Звонок в дверь прервал навешивание Алексеем Андреевичем ярлыков на оскорбивших его иностранцев. Бодренько, в три приёма Алексей Андреевич поднялся с дивана и направился отворять дверь. Он никогда не спрашивал: «Кто там?», никогда не смотрел в глазок. Как человек честный и военный, он всегда открывал сразу.
За дверью оказалась старушка. Сухонькая, жилистая и загорелая, к тому же одетая чистым клоуном: в широких парусиновых штанах, в клетчатом пиджаке и с кепкой на голове. На плече её висела совсем импортная, и даже более чем импортная сумка. У нас таких сумок не делают, не продают и вообще таких не бывает. Явно иностранная старушка стояла перед Алексеем Андреевичем.
Он поздоровался, безуспешно пытаясь определить на глазок её возраст. Явно она была не моложе, чем он сам, но вот, на сколько не моложе, понять было трудно. На пять лет не моложе или на девять. Она тоже поздоровалась с лёгкой нездешностью выговора, подтверждающей её иностранное происхождение и спросила:
– Не могла бы я видеть Алексея Андреевича Громова, тысяча девятьсот первого года рождения?
Всё ещё размышляя о возрасте визитёрши, Алексей Андреевич ответил:
– Так точно. Это я.
Наступила пауза. Старушка молча разглядывала его лицо, словно читала сложную и не очень понятную с первого взгляда депешу. Наконец она разомкнула сморщенные уста и медленно произнесла:
– Здравствуй, Алёша. Я Юлия Ивановна Громова, в девичестве Золотарёва, вдова Сергея Пантелеймоновича, твоего дядьки.
Теперь ему, Алексею Андреевичу, настала очередь вглядываться в её лицо. Он вглядывался, сопоставляя видимое с хранимым памятью, порядочно истёршимся образом. Многочисленные морщинки, похудалости и кожные изъяны, коими награждает людей время, легко отбрасывались и были не в счёт. Это не основное. Скулы Юлии Ивановны, обтянутые загорелым пергаментом, выделились над впавшими щеками и строгой чёткостью сломали некогда безупречный овал лица. Надбровные дуги, придав черепу необычайную рельефность, так же вступали в спор с хранимым в памяти изображением. И эта немыслимая в отношении к Юлии Ивановне (внутренней Юлии Ивановне) кепка…
Алексей Андреевич отметал внешние излишества, докапываясь до того, что сохранилось, и чем больше отметал, тем слабее и невнятнее становилось жившее в глубине собственных нейронов воспоминание, тем явственней подменялось оно очевидным. Где-то на середине этого внутреннего пути он сообразил, что неприлично долго стоит на пороге и надо бы пригласить даму в дом, надо бы выразить радость от неожиданной встречи, надо бы сделать что-то ещё, положенное в таких случаях. Например, закричать: «Юлия Ивановна! Сколько лет, сколько зим!» – но как-то не выходило и нелепо было и глупо. Движимый необходимостью хоть что-то сказать, но не зная что и конфузясь от такого стечения чувств, он выговорил только:
– Эх…
Юлия Ивановна, будучи и старше и подготовленней чем Алесей Андреевич, пришла ему на выручку. Она сделала шаг навстречу и со словами: «Со встречей, Алёшенька» – обняла его. И он неуклюже обнял тётку, ощущая неземную утлость живущего под заграничным пиджаком скелета.
Прошла конфузливость и растерянность перед неожиданным событием. Наладилась жизнь, в которой есть место привычному поведению и обыкновенным, выверенным временем и обстоятельствами ухваткам. И вот уже приглашена нежданная гостья в дом, вот уж повисла на вешалке её кепка и сама она усажена за стол на кухне и сидит, глядя, как он хлопочет, выставляя на стол все, какие есть в холодильнике и буфете угощения.
Алексей Андреевич трудится изо всех сил. То к чайнику метнётся, то к холодильнику, то вспомнит про сохранившиеся конфеты «Птичье молоко». Выяснил, что Юлия Ивановна растворимый кофе не уважает. А зря. Потому как это дефицит, которого запросто в магазине не купишь. Но и чай у него есть хороший, цейлонский.
Ставит Алексей Андреевич на стол закуски да угощения, радуется тому, что есть чем гостью угостить, да не ударить в грязь лицом, хотя, конечно, у них там, в Париже с едой да питьём куда всё обстоятельнее… «Что? Не в Париже? В Онфлере? Надо же, какое название! Сразу и не запомнить! Где это такой?…»
Он спрашивает и, не очень-то заостряя внимания на её ответах, генерирует новые вопросы. Старается держать инициативу в руках потому что знает: Юлия Ивановна задаст главный вопрос, ответить на который ему будет ох, как трудно, ох, как нелегко! А вам легко было бы сообщить старой женщине, что её дочь, которую она оставила на ваше попечение, не дождалась встречи с матерью и умерла, не оставив после себя ни детей ни внуков? Легко ли было бы вам сообщить старушке, что пресеклась нить её потомства? Легко ли? Потому-то бывший капитан оттягивает тот неприятный момент, как может отодвигает его заботами о радушии и хлебосольстве. А старушка с гладко зачёсанными назад седыми волосами внимательно следит за его стремительными манёврами по кухне и всё печальнее, всё отрешённее делается её сухонькое лицо.
Но вот, уловив паузу в его словоговорениях и хлебосольных метаниях, она молвила тихо и безнадёжно:
– Ты сядь, Алёша. Я уже поняла, что Надежды нет в живых.
Он сел напротив неё и глядя в чашку с хорошим цейлонским чаем, подумал: «Какая несуразная жизнь! По всем правилам, по всем существующим законам, он должен утешать её. Он должен оправдываться или как-то поддерживать женщину в её несомненном горе, а выходит как-то наоборот, шиворот навыворот».
– Никого от Золоторёвых не осталось – проговорила старуха – оно и не мудрено. Кто из родни был в Петрограде, все старше меня. Столько не живут. Да и Надежду я найти не чаяла. Тебя нашла, уже чудо. Чего же большего от бога просить? Ты поведай мне, где она умерла и когда? Вы же тут как на другой планете живёте. От всего мира отрезанные. Варитесь сами в себе.
– В Ленинграде, в блокаду – доложил Алесей Андреевич обстоятельства, которые обязан был доложить – она находилась в больнице, а я тогда уже служил в северном флоте. Меня сразу в северный флот перевели с лишением всех званий и наград ещё в двадцать восьмом году, когда Надежда мою жену, Ленку, съела.
– Как съела? – не поняла Юлия Ивановна.
– Обыкновенно – пояснил Алексей Андреевич и показал жестами – вот так: ням-ням-ням.
– Голод что ли был? – ещё более удивилась Юлия Ивановна.
Алексей Андреевич отрицательно покачал головой:
– Жили мы хорошо. Надежда росла под приглядом, во внимании. Родня твоя в ней души не чаяла, да и я помогал чем мог. Гражданская война её, считай, не коснулась. Как положено выросла, пошла в школу. Я к тому времени стал командиром, героем, участником подавления Кронштадтского мятежа. В общем, прирос я к военному флоту, как в детстве и мечтал. Женился. Сынишка родился у меня в двадцатом году. Павлик.
В двадцать восьмом устанавливают на мой бронекатер «БК-24» новое по тем временам скорострельное орудие с автоматической подачей снарядов, и выходит у меня запланированный выход в Ладожское озеро, чтобы там произвести испытательные стрельбы. Порядки на флоте были тогда более чем демократичные. Семейные были порядки. Вся команда друг другу как родня. Да и как иначе? Ну и решил я Надежде подарок к одиннадцатилетию устроить. Взял её на катер. И Павлушку взял. Они же дружили как брат и сестра. Ну, и моя жена, Лена, тоже увязалась, чтобы за детьми был пригляд. Таким табором мы и отчалили. Сколько было радости, пока шли вверх по Неве!
А на следующий день, в понедельник двадцать пятого июня, когда стали день рождения Надежды справлять, начались непредвиденные чудеса. Первым делом дети как проснулись, так сразу и подрались. Надька Пашке сливу на нос поставила и объявила, что никакая она не Надя, никакая не пионерка и вообще знать не знает, что такое пионерия и кто мы тут все такие.
Я, конечно, удивился, что за блажь на девку напала, но не стал мешать её фантазиям, а торжественно поздравил её с днём рождения, как положено. Но чем дальше, тем больше. Сначала она учинила скандал за столом, потом сбежала, проникла в орудийную башню и устроила такие стрельбы, мама не горюй! Из башни её выкурили, так она как начнёт бесноваться! Тогда её заперли в каюте.
Уж, не знаю, чего было жене Елене от Надьки нужно. Она, понимаешь ли, училась на медика. Подавала большие надежды в области психиатрии. Может, хотела помочь? Когда никакого надзора не было, полезла к Надьке в каюту, а та её убила и съела. Не всю, конечно. Сбросила обглоданный труп за борт, но так обожралась, что врачи у неё обнаружили непроходимость кишечного тракта. Прооперировали. Слава богу, спасли. Так она ни о чём, чего понатворила, не помнит! Ты представляешь?
Юлия Ивановна не представляла. Наблюдая за взволновавшимся от воспоминаний племянником, она спросила:
– Так что же, Алёша, получается? Моя Надя сошла с ума?
– Нет, не получается. Врачи ничего такого не обнаружили. На мой взгляд, с ней какое-то временное наваждение было. После она опять стала абсолютно нормальным ребёнком, но с Пашкой, больше никакого общения быть не могло. Я ему, конечно, этого не рассказывал и вообще… – Алексей Андреевич неопределённо покрутил рукой вокруг головы – меня с тех пор кошмары лет пять не отпускали. Ну, и на службе скандал получился: «Какого чёрта красный командир тащит на военный катер ещё и семью? Что за такая сестра, которая ест людей и расходует боекомплект? Гнать его в шею!»
Меня и погнали с глаз долой, рядовым матросом в Мурманск. Там всю карьеру начинал сначала. С нуля. А Надежда в тридцать пятом году поступила в мединститут. К войне закончила и уже была врачом. Я с ней встречался несколько раз, хоть мне было и нелегко. Никак я не мог забыть про съеденную Ленку и про то, как однажды в Надежду вселился дух Милюль.
– Кто вселился? – переспросила Юлия Ивановна, наклоняясь вперёд.
– Это только я так называю, про себя – Алексей Андреевич потупился – никому больше не говорю, чтобы меня не приняли за дурака, но дух Милюль преследует наш род, вот что я заметил. С той поры ещё дважды в жизни моей семьи случались такие выперды. Я их очень боюсь и называю про себя духом Милюль. Ну, чего поделать? Есть люди, которые верят в барабашку, в инопланетян, в прочую муть. А я верю в Милюль, хотя никому не говорю об этом. Это моя тайна на всю жизнь. Я точно уверен, что это какое-то наказание. Называется Милюль.
Юлия Ивановна усмехнулась, пригубила чаю. Чай действительно оказался вкусным и хорошо заваренным. Взяла конфетку из открытой коробки и сказала задумчиво:
– Ты знаешь, Алёша, а ведь Милюль это я.
Заслуженный пенсионер Советского Союза очень испугался. Он вскочил, постоял растерянно, взял себя в руки и снова сел. Спросил:
– Ты что же, съесть меня пришла?
Поворочав мозгами, он скорректировал ситуацию и сообщил вывод:
– Да нет, не может быть! Милюль появляется не так. Она с самого утра проявляется и никогда никого не ищет. Ты, Юлия Ивановна, шутить надо мной, над стариком вздумала. Ну и правильно. Потому-то я никому про Милюль и не рассказываю. Знаю, все будут шутить. Только мне совсем не до шуток. Слишком уж это всегда грустно.
– Да нет, Алексей – возразила старушка, прихлёбывая чай – я не собираюсь ни есть тебя, ни шутить над тобой. Меня так называли в детстве. Ты сказал «Милюль», я и вспомнила. Кто-то из родителей приклеил мне такое прозвище. Наверное, потому, что я была миленькая. Я и сама только так себя величала лет до семи. Надо же! Удивительно, откуда у тебя это слово в обороте?
– Откуда, откуда – проворчал Алексей Андреевич – от верблюда. От жизни моей непростой. У меня, Юлия Ивановна, тоже была родная дочь. Только позже. И она, представь себе, погибла в день своего рождения, на пятнадцатилетие. Утонула в Оби.
– В Оби? Это где-то в Сибири? – переспросила Юлия Ивановна.
– Да – кивнул Алексей Андреевич – есть такая река, большая и рыболовная. Обь. После войны я с новой семьёй и с дочкой, Любонькой оказался там. Стал трудиться капитаном рыболовецкого траулера. Трудился, трудился, пока не повторилась такая же чертовщина как с твоей Надеждой.
В сорок девятом году. Как сейчас помню, вторник двадцать восьмого июня. Она как проснулась, так чудеса и начались. Я сразу заметил и подумал: не к добру эти штуки. Но сам себя успокаивал: с чего бы случаться беде? Никакой связи, никаких предпосылок. Да только как начало одно на другое накручиваться! Как пошло, как пошло!.. Сначала она родного, то есть, кровного брата назвала дядькой и на меня так смотрит, как будто не узнаёт. Потом ещё веселее: разучилась макароны по-флотски варить. Ещё вчера умела, а тут на тебе, разучилась. Учинила на камбузе сущий погром. Дальше – хуже. Стала живую рыбу из сетей выхватывать, да так сырьём и жрать. Скакала по сейнеру, точно тигра, а перед тем, как прыгнуть за борт крикнула: «Никакая я вам не Люба! Я Милюль!» С чего взяла? Она и слова такого отродясь не слыхала.
Мы с Пашкой за ней с борта попрыгали. Чуть сами не утонули. Какое там? Не стало моей Любы. Унесла её эта самая Милюль, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Так-то.
– Жуткая история – сказала Юлия Ивановна.
– Жуткая – согласился Алексей Андреевич – но самая жуть заключалась в том, что мы потом с Пашкой припомнили. Надежда в двадцать восьмом точно так же на свой день рождения сбрендила. Тоже утверждала, что она не Надя, а Милюль.
Некоторое время Юлия Ивановна обдумывала услышанное, беззвучно шевеля губами, а Алексей Андреевич молчал и всё отчётливее мрачнел от нелёгких воспоминаний. Наконец Юлия Ивановна нарушила тишину и спросила:
– Ты помнишь, Алёша, Сергея Пантелеймоновича?
– Дядьку то? – переспросил Алексей Андреевич – конечно помню. Помню даже как ты перед расставанием пугала меня, дескать, придётся друг против друга воевать. Как видишь, не пришлось.
Юлия Ивановна утвердительно кивнула:
– Он во время Второй Мировой погиб. Сражался на стороне сопротивления.
– Партизанил, значит – уточнил Алексей Андреевич. Воспоминание о дядьке отвлекло его от беспросветных историй. Он посмотрел на Юлию Ивановну и подумал вслух:
– Наверное, зря я рассказал про свои кошмары. Тебя, судя по всему, жизнь не меньше моего потрепала, а может быть и больше.
– От чего ж? Твои рассказы мне интересны. Есть о чём поразмыслить. Я, Алёша, знаешь ли, привыкла размышлять. Сижу себе и размышляю, раскладываю пасьянсы. Многое на ум приходит. Вопросы за жизнь накопились, а ответов нет ни в книжках, ни в справочниках. До всякого ответа приходится додумываться самой. Ты рыбалку любишь?
– Да нет, не очень – пожал плечами Алексей – бреднем зайти, или мордочки закинуть я ещё могу, а сидеть с удочкой и ждать, клюнет – не клюнет, это не для меня.
– А я люблю – объявила Юлия Ивановна – я и на жизнь иногда смотрю как на рыбную ловлю. Нет-нет, да и выловится какая-нибудь новость. Посмотришь на неё и скажешь: «Надо же, а я раньше не замечала».
– Это ты к чему? – спросил Алексей.
– К тому, что в твоих историях есть общая черта – ответила гостья – обе трагедии легли аккуратно на дни рождения, и у твоей Любы и у моей Надежды. Вот и первый повод для размышлений.
– Вот тебе второй повод – пообещал Алексей и, поднявшись, пошёл к буфету, открыл его, достал тёмную бутылку, откупорил. Спросил:
– Коньячку тяпнуть не желаешь?
Юлия Ивановна отрицательно мотнула головой:
– Нет. Мне вредно.
– Ну, как знаешь. А мне полезно.
Плеснул в ту же чашку, откуда только что пил чай. Закупорил бутылку и поставил на место. Выпил залпом и завершил мысль:
– Десять лет назад на день рождения Софьи (это моя внучка, Пашкина дочь), Милюль появилась снова.
– Да ну? – подняла на него серенькие старческие глазки Юлия Ивановна – Кто же погиб на этот раз?
– Слава богу, обошлось без жертв – успокоил её Алексей – только Соньке слегка проломили голову бревном. Мы с Пашкой переживали страшно. Я думал, Сонька не выживет. Пронесло. Правда с тех пор у неё периодически голова болит, но это ничего. С врачом повезло. Очень оказался талантливый врач-мозговик. Вылечил нашу Соньку, а потом женился на ней. То ли от радости что вылечил, то ли от её душевности и красоты. Не знаю. С тех пор всё устаканилось.
– И снова на день рождения? – предположила Юлия Ивановна.
– Да – кивнул Алексей – чистая мистика. Двадцать четвёртого июня тысяча девятьсот семидесятого года. Сразу после выпускного.
– Что такое выпускной?
– Наверняка у вас там тоже есть такой обычай, или нечто подобное. Тут, у нас, в Москве, после последних экзаменов выпускники идут встречать восход солнца на Ленинские горы. Такая традиция.
– Твоя внучка к тому времени успела закончить гимназию? – уточнила Юлия Ивановна.
– Не гимназию, Юлия Ивановна, школу. У нас, в Стране Советов, никаких гимназий нет и быть не может. У нас всеобщее среднее образование.
– Да, да, конечно – закивала старушка – прости, я об этом осведомлена. Я хотела уточнить другое. Сколько твоей Соне в то время было лет? Семнадцать?
– Восемнадцать как раз исполнилось. Она в детстве сильно болела, и в четвёртом… нет, в пятом классе отсидела два года подряд. Так вот, одноклассники ей черепушку-то бревном и проломили. Хорошо, что с ними оказался Степан Степаныч. Из наших, из флотских. Теперь уже пенсионер. Пашка его с войны знает. Этот самый Степан Степаныч нашу Соньку и спас, как по его словам выходит. Из его же слов я заключил про Милюль, которая опять к нам наведывалась, и Павлу велел не раскручивать это дело. Он-то, как узнал, так взбеленился, хотел этим одноклассникам бошки поотрвывать. Та ещё была история…
– Интересно – проговорила старуха после долгого молчания, пользуясь которым Алексей Андреевич успел снова занырнуть в буфет и всё тем же методом тяпнуть коньячку – и как же ты, Алёша, заключил?
– Что заключил? – не понял Алексей Андреевич, чьи мысли успели продвинуться далее.
– Ты заключил, что к вам опять наведывалась Милюль – напомнила Юлия Ивановна – расскажи мне, пока есть время, как ты заключил? Чего она такого натворила, что у тебя не родилось других версий?
– Это мистика, Юля! Чистая мистика – ответил Алесей Андреевич. Тяпнутый коньячок розовым заревом осветил изнутри его нос и оживил блеск в глазах – мы, люди старые, ни в мистику, ни в чертовщину не верим. А я вот тебе сейчас такое покажу, что ты сама уверуешь и в навь и в чох и в святое знамение! – он выбежал из кухни, оставив Юлию Ивановну одну. Она поднялась, подошла к окну и стала смотреть на движение людей и транспорта по праздничной улице олимпийской столицы.
– Строгий город – сказала она – строгий и безалаберный одновременно. Даже удивительно, почему они его не переименовали?..
– Вот, полюбуйся! – выкрикнул Алексей, вбегая в кухню – узнаёшь? – и он выложил на стол малахитовую лягушку в серебряной оправе.
Как ей было не узнать ту брошку? Она сама носила её с шести лет, пока не подарила своей племяннице в тот роковой день на пароходе. Это была та самая брошь, которую Вера оставила в самом центре макета Сергиевской лавры.
Брошка с малахитовой царевной-лягушкой оставалась у Юлии Ивановны до её отъезда из Петрограда. Тогда, уезжая, она то ли забыла, то ли не захотела забрать её, надеясь на скорое возвращение. Теперь не вспомнить. Иногда, живя в других странах и городах, она вспоминала о брошке, но не как о потере, а отстранённо: был предмет под рукой, и нет его. Был и сплыл, ну и ладно.
– Ишь ты – промолвила Юлия Ивановна, вертя в руке безделушку – сохранил.
– Сохранил, будь она неладна! Я уж не хотел её хранить. Однажды весной, в том же семидесятом, собрались мы друг друга поздравлять от лица речного пароходства. На празднике оказались мы с Пашкой и со Степанычем. Ну, и ещё были мужики, все в основном флотские ветераны. Сидели в ресторане на Речном вокзале, отмечали день победы. Опять же вспоминали о разном. Кто служил вместе, кто по отдельности. Война-то для нас всех одна.
Только я вдруг вспомнил совсем не о войне, а как мы с Пашкой в сорок девятом за Любаней в Обь ныряли. Вспомнил и то, как в двадцать восьмом дарил эту штуку твоей Наденьке, да потом оказалось, зря дарил. Она всё напрочь забыла, а напоминать не хотелось, понимаешь сама… да, так вот, в сорок девятом-то я подарил её Любочке. Она так и оставила её в каюте на матрасе.
Как вспомнил – затосковал и говорю Степану Степанычу: «На тебе эту дореволюционную цацку. Она в моей семье с царских времён, да только не хочу больше её видеть. Ты мужик бравый. Чего хочешь, то с ней и делай. Хоть в ломбард сдай». Вот как я поступил и сразу так полегчало, как будто избавился от ноши какой.
Алексей Андреевич опять замолчал, унырнув во глубь своей натуры. Когда вынырнул, то подступил к Юлии Ивановне со старой затеей:
– Юлия Ивановна, что ты мне голову морочишь? Давай выпьем за встречу? В кои-то веки нас судьба свела? Так бы и померли не увидавшись…
– Это не судьба – отклонила его натиск Юлия Ивановна – это, Алёшенька, я сама о тебе вспомнила и нашла тебя с третьей попытки. Знаешь, сколько Алексеев Андреевичей Громовых в Москве?
– Сколько? – спросил Алексей Андреевич через плечо, поскольку уже лез в заветную дверь буфета.
– Восемнадцать – произнесла с жестковатым выговором заморская старушенция.
– Да ну? – удивился Алексей Андреевич, ставя бутылку посреди стола и доставая к ней две гранёные стопки – Откуда знаешь?
– Мне помогли в посольстве. У вас есть такая организация, называется «стол справок».
– Как ловко! – воскликнул Алексей Андреевич, разливая коньяк по стопкам – А если бы Павлушку его фронтовые друзья не заманили в Москву? А если бы он меня за собой не потянул и жил бы я теперь в Салехарде? Что бы тогда?
– Тогда я обошла бы семнадцать Алексеев Громовых и вернулась в Онфлер несолоно хлебавши.
– Вот и я говорю, судьба! – подытожил Алексей Андреевич – так что давай выпьем по-родственному.
Юлия Ивановна обречённо вздохнула:
– Судьба так судьба – и взяв стопку, пригубила коньяк.
– Э-э! – запротестовал Алексей Андреевич – а как же чокнуться?
Юлия Ивановна смутилась:
– Фу ты, ну ты! Я совсем отвыкла.
– Ага! – непонятно чему обрадовался бывший капитан – Ты, тётка, совсем офранцузилась. В старые времена тебя приняли бы за шпионку!.. – Алексей Андреевич осёкся, взглянув в её беспристрастные, спокойные как северное небо глаза. Чокнулись. Выпили. Хоть Алексей Андреевич и выставил на стол разнообразную закусь, Юлия Ивановна взяла лишь кружок тонко нарезанного лимона и не морщась съела вместе с кожурой. Спросила:
– Ну и что?
– Да ничего – развёл руками Алексей Андреевич – поймали бы тебя и сказали: «Нехорошо! Мы тут, понимаешь ли, коммунизм строим, а ты шпионишь!» Потом отправили бы домой, чтобы ты всем там рассказала что «Коммунизм это молодость мира и его возводить молодым», а не таким развалинам, как мы с тобой.
– Я не про то – тётка с настойчивой льдинкой в голосе поправила потерявшего нить повествования капитана – ты подарил эту брошь. Почему она здесь?
– А-а-а! – протянул капитан, глядя на брошь – брошь то… Так забери её себе. Она же твоя.
– Как скажешь – согласилась Юлия Ивановна, прикалывая брошь – значит, Степан Степанович её не взял?
– Этот старый хрыч подарил её Соньке аккурат в день рождения! Ну, разве не судьба? – и Алексей Громов треснул кулаком по столу.
Юлия Ивановна оторвала взгляд от висящего на груди украшения. Перед ней сидел племянник, сильно переменившийся не только за годы, прошедшие в разлуке, но и за последние полчаса. Недавно был он хоть и пожилым, но подтянутым и собранным, даже красивым своей скупой мужественной статью, а теперь разнуздался, распоясался. Рожа сделалась красной, глазищи бессмысленно глядят сквозь. Ни дать – ни взять, старый пират, загнанный на маленькую кухоньку за бесцельные буйства.
– Не по годам пьёшь, Алексей – заметила старушка – вот и преследуют тебя барабашки с мистикой.
– Упроща-аешь – обиженно протянул Алексей Андреевич – я тоже, как и ты, хотел, было отмахнуться от фактов. Только невозможно отмахнуться. Слишком они очевидные. Мне Степаныч рассказал, что Сонька вытворяла. Всё совпадает, все приметы налицо. Во-первых – Алексей принялся загибать пальцы – она ест как троглодит. Степаныч говорил, она все продукты сожрала, которые были припасены и ещё жаловалась ему, дескать, ей мешают кушать. Во-вторых, она кидалась людьми. То есть силища в ней просыпается нечеловеческая. В-третьих, день рождения. В-четвёртых, эта самая брошка, что у тебя на груди. Только возраст не совпадает – тут он помахал перед Юлией Ивановной оставшимся не загнутым большим пальцем – возраст всё время возрастает: одиннадцать, пятнадцать, восемнадцать… что дальше то будет? А?
– Шесть – произнесла Юлия Ивановна.
– Что шесть? – не понял Алексей Андреевич.
– Был четвёртый случай. То есть первый, когда Милюль было шесть лет. В тысяча девятьсот седьмом году она спасла тебе жизнь. Тебе тогда тоже было шесть лет и тебя чуть не смыло за борт во время шторма. Забыл?
Алексей Андреевич ошарашено посмотрел на тётку, старательно налил в гранёные мензурки поровну и, поставив бутылку на стол, признался:
– Забыл. Уж очень это было давно. Вывалилось из общей картины.
– Вот я и говорю, прекращай пить – посоветовала тётка – чтобы не терять чёткость.
Алексей Андреевич пьяно захихикал. Что-то ему в тёткиных словах показалось смешным, а Юлия Ивановна встала из-за стола и объявила:
– Пора мне, Алёша. Завтра трудный день. Я не просто так приехала в Москву. Я талисман сборной Франции по академической гребле. Буду напутствовать команду на завоевание золота. Приезжай на гребной канал, может и увидимся.
– Да? А я чего-то флаг Франции на открытии не видал – съехидничал Алексей Андреевич.
– Не мудрено. Франция официально присоединилась к бойкоту. Наши спортсмены приехали в индивидуальном порядке и маршировали под общим флагом. Но я всё равно с ними.
– Нет, ну ты посмотри на подлецов! – возмутился Алексей Андреевич.
Не прощались. Она надела кепку, подхватила сумочку и двинулась к выходу. Он предлагал тётке остаться и переночевать. Она отказалась, сославшись на какие-то необходимые вещи в гостинице. Потом он провожал её, сажал на такси и кричал вслед отъезжающей машине: «Физкульт-привет!»
Вечером вернулись со стадиона его родные, но он уже спал. На столе оставались пустые чашки, разнообразные угощения и две полные стопки коньяку, из чего Сонька заключила, что у деда гостила какая-то дама.
* * *
Взять нечто целое, да и разорвать его к ядрёной фене на части – довольно просто. Тут особого ума не нужно, а вот собрать целое из частей, гораздо сложнее. Даже если это целое есть ты сам.
Тяжело было Алексею Андреевичу собирать себя утром в нечто единое и неделимое. Не то, чтобы болела голова. Круглый костяной шар, обтянутый кожей и утыканный волосами болеть не может. Хоть и есть на нём рот, нос и глаза с ушами, это не причина жаловаться на головную боль или недомогание. Но кроме головы оказалось у Алексея Андреевича много чего и другого. Например, утроба, состоящая из разных штуковин, которые специально выдумали врачи, чтобы было чем заняться. Эта самая утроба, чувствуя растерянность головы, стала кобениться и заявлять о себе покалыванием в груди, побаливанием ниже груди и прочими проявлениями сепаратизма.
Однако не на того напали! Алексей Андреевич был не из тех людей, кто капитулирует перед распадающимся организмом. Нет! Он проснулся и занялся мобилизацией внутренних органов. Совсем негромко постанывая и поохивая, он проследовал в санузел, где проделал над собой серию дисциплинирующих процедур, финалом которых был контрастный душ и растирание полотенцем под старую добрую песню в собственном исполнении и с собственным же текстом:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
И ничего другого не хотим!
Нам размудал стальные руки-крюки,
А вместо сердца тоже кой чего!..» —
примерно так напевал Алексей Андреевич, ничуть не смущаясь нескладностей. В дальнейшем текст песни и вовсе превратился в абракадабру, где вместо слов были отдельные нечленораздельные звуки на одинаково неизвестном всем народам языке. Зато потом, явившись перед собравшимися на кухне домочадцами, он с полным ощущением победы над собой размашисто перекрестился и провозгласил:
– Христос воскрес!
– Ты чего, дед? – удивилась Софья Павловна – Сегодня двадцатое июля. До пасхи ещё почти год.
– Это я о себе – пояснил Алексей Андреевич, потом спросил у сына – Павлушка, ты у меня моряк, или сухопутная мазута?
– Моряк – неуверенно ответил капитан первого ранга.
– Раз моряк, то доставай всем билеты на Гребной канал. Там сегодня академическая гребля.
Оказалось, никто в семье Алексея Андреевича не интересуется академической греблей. Ни Пашка (штабная крыса), ни Сонька (клуша), ни муж её Серёга (мозговик), ни даже правнучка Милка (егоза), никто не захотел париться на трибунах (предатели). Один единственный билет для Алексея Андреевича Павел устроил телефонным звонком, на чём суета закончилась и конфликт сдулся. Разочарованно бурча, Алексей Андреевич собрался и поехал на Гребной канал один. Сам.
Зря поехал. В олимпийской сутолоке он потерял боевой настрой и сам потерялся среди множества болельщиков. Как ни вытягивал шею, пытаясь разобраться в увлекательном спортивном зрелище, так и не разглядел нигде Юлии Ивановны. Огорчённый бестолковщиной проведённого на трибунах дня, замученный вусмерть, он вернулся домой и торжественно поклялся больше никогда и ни за какие награды не болеть. На следующий день он действительно заболел от перенесённых волнений и нагрузок. Сонька (тоже мне, комсомолка) представила его болезнь как наказание за богохульство.
– Какое такое богохульство? – удивился Алексей Андреевич.
– То, как ты себя утром Иисусом Христосом обозвал – разъяснила внучка.
Алексей Андреевич хотел возмутиться, но сил не было. Даже не плюнул. Целый день он лежал на диване, на вопросы домочадцев отвечал односложно и думал про себя: «Не приедет тётка. Куда уж…»
* * *
Она приехала через день. Как и в прошлый раз в квартире никого кроме него не было, а он всё ещё болел. То его знобило, то наоборот, кидало в жар.
Позвонил дверной звонок. Шаркая тапками, Алексей Андреевич добрёл до двери, отворил и, махнув рукой, заходи, мол, вернулся на диван. Она вошла в залу, осмотрелась, потому, как в прошлый раз её принимали на кухне, взяв стул, подсела к больному.
– Я тебя вчера ожидал – сказал он.
– Вчера было недосуг – ответила тётка, не уточняя, какие неотложные дела могут быть у неё, французской пенсионерки.
Алексею Андреевичу показалось стыдным валяться без задних ног, в то время, как она, на пятнадцать лет пожилее его, имеет силы и здоровье на всякие занятия и перемещается по огромному мегаполису, сохраняя себя в постоянной бодрости. Иные старухи в её годы впадают в маразм, болеют, сидят безвылазно дома, а-то и вовсе уж померли. Эта же всё движется куда-то, делает какие-то дела как неломающаяся дореволюционная машинка Зингер.
– Извини меня, Юлия Ивановна. Чего-то я расклеился. Сейчас немного полежу и забегаю, засуечусь.
– Чего это ты забегаешь?
– Ну, как чего? Буду тебя угощать.
– Хватит угощать – улыбнулась старушка и положила на его плечо сухонькую свою ручку – тебе, Андреевич, выздоравливать надо и жить в силе да разуме – как минимум ещё одиннадцать лет. Дальше как получится.
– Почему такая цифра? – удивился он.
– Потому что я разобралась в твоём барабашке – ответила она – не то, чтобы я поняла всё до конца, но механизм того, как оно действует, мне теперь ясен. Так что ничему особенно не удивляйся…
– В Сибири был такой случай – перебил Юлию Ивановну Алексей Андреевич, отводя разговор от темы, которую он считал закрытой – у одной семьи в избе завёлся настоящий барабашка, и ну шалить. То посудой гремит, то скамейками двигает. Позвали в дом колдуна-цыгана. Цыган посмотрел, потом взял колоду карт, да и засунул в подпол.
«Всё – говорит – больше он вас не побеспокоит. У него теперь дело есть». И точно! Шутки прекратились, как и не было. Глянули в подпол, а колоды то и нету!
– Я не цыганка и не колдунья, но скажу серьёзные вещи. Так что тебе тоже будет, чем заняться.
Алексей Андреевич застонал, жалея себя, болезного, но, уступая Юлии Ивановне, согласился:
– Ладно уж, говори серьёзные вещи.
Юлия Ивановна открыла свою иностранную сумку, извлекла записную книжечку, а из книжечки достала сложенный вчетверо бумажный лист, развернула его и подала Алексею Андреевичу. Он уставился в нарисованную от руки таблицу с годами, датами и именами. Сначала ничего не понял, а потом, вглядываясь и вчитываясь, пробормотал:
– Да ты, Юлия Ивановна, чистый Менделеев! Надо же, какую периодическую систему изобрела! От тысяча восемьсот восемьдесят шестого до двух тысяч двенадцатого. А это что за цифра двадцать один? Очко? – тут он ткнул пальцем в нижнюю строчку таблицы, где цифра 21 с пометкой «Период» повторялась несколько раз.
– Это основной период – ответила Юлия Ивановна и, забрав у Алексея Андреевича листок, разъяснила, тыча пальцем в графы самодельной таблицы – смотри, Алёша, тысяча восемьсот восемьдесят шестой год. Двадцать пятое июня. Пятница. Это я родилась. А вот, через шесть лет, в субботу тысяча восемьсот девяносто второго, в тот же самый день, двадцать пятого июня, во время дня моего рождения началось, судя по всему, то, что до сих пор не может остановиться. Я то событие помню в крайней степени смутно. Сам понимаешь, на всю жизнь памяти не хватает, но чего-то припоминаю. В тот день я с нянечкой садилась на большой океанский лайнер в Севастополе. Очень хорошо запомнилась Графская пристань, оркестр, колонны и белые мраморные львы.
Потом не помню, но говорили, после дня рождения я не то объелась, не то отравилась и целую неделю болела. На этой таблице, кстати, ты тоже можешь углядеть неделю, с той разницей, что каждый следующий день наступает через двадцать один год. Этого, Алёша, я объяснить не могу. Только проследила и зафиксировала, как закономерность.
Алексей Андреевич пробурчал:
– Ну да, конечно, магическое число. Вот тебе и колода карт для барабашки.
– Думай, как знаешь. Во времена моей юности спиритизм, магия и столоверчение были очень даже в моде, но меня это совсем не интересовало. Зачем заниматься тем, чего не можешь понять? Так что не жди от меня никаких слов о магии или о сверхъестественных глупостях. Или ты подозреваешь меня в легкомыслии?
Видя, что Юлия Ивановна сердится, Алексей Андреевич примирительно коснулся её локтя и попросил:
– Ну, ладно, тётка, не кипятись. Я больше не буду о глупостях.
Тётка успокоилась и снова сунула таблицу ему под нос:
– Смотри, в тысяча девятьсот первом году, двадцать третьего июня у моей сестры рождается дочь Вера. Сестре было не до неё, поэтому в основном Верочкино воспитание лежало на мне. Так вот, в седьмом году двадцать третьего июня в воскресенье мы с ней плывём по Средиземному морю тоже на лайнере, только на маленьком. Этакий морской пароходик. Верочке исполнилось шесть лет. С самого утра она заявляет мне, что её зовут Милюль. Мне это кажется забавным, но моя голова занята другим. Я как раз только-только завела роман с Сергеем, моим будущим мужем, который, так же, как и я опекает своего шестилетнего племянника.
– То есть, меня.
– Да. Вы с Верой были одного возраста, и это показалось очень удобным. Вас можно было оставлять играться вдвоём, в то время как мы с Сергеем Пантелеймоновичем знакомились.
– Насколько я помню, Вера была старше меня.
– Она была крупней и разумней, но не старше. Главное в этой истории то, что двадцать третьего июня тысяча девятьсот седьмого года это была не Вера, а я.
– Что значит, ты?
– То и значит. В тысяча восемьсот девяносто втором году я раздвоилась. Не знаю, как это произошло и от чего, но шестилетняя Милюль, которая спасла тебя, полагала день рождения прошедшим вчера, в субботу. Она удивлялась его повторению в воскресенье. В её памяти было то же самое прошлое, которое было и у меня вплоть до моего шестилетия. Это была часть меня, которая однажды оторвалась и зажила своей собственной жизнью.
– Она погибла.
– Погибла Вера, но, как оказалось, не Милюль. Посмотри на таблицу. Через десять лет двадцать пятого июня рождается моя Надя. В день её одиннадцатилетия в двадцать восьмом году она удивляет тебя и всех вокруг необъяснимым поведением. Так же, как Вера, она всё время голодна и считает себя не тем, за кого её принимают.
Спустя шесть лет, двадцать восьмого июня тысяча девятьсот тридцать четвёртого года у тебя появляется дочь, которая в сорок девятом году, спустя двадцать один год после Надежды, опять проявляет себя как совершенно иной человек. Она называет себя Милюль, проявляет бурную прожорливость, удивляется очередному дню рождения, который теперь выпадает на вторник.
– Надежда не удивлялась.
– Может быть, уже привыкла. Но Царевну-лягушку ты ей подарил?
– Да.
– В среду, двадцать четвёртого июня тысяча девятьсот семидесятого года эту брошь дарит Милюль твой Степан Степанович. Ей каждый раз вручают Царевну-Лягушку, но теперь Милюль узнаёт о своём восемнадцатилетии и это твоя Софья.
Юлия Ивановна умолкла. Алексей Андреевич внимательно изучал таблицу, кивал головой и скрёб подбородок. Наконец, спросил:
– Вижу, ты уже строишь прогнозы.
– Строю – согласилась Юлия Ивановна – по всему выходит, двадцатого, или двадцать седьмого июня тысяча девятьсот семьдесят первого года где-то неподалёку родилась девочка, которой в четверг, в июне девяносто первого исполнится двадцать лет.
– Почему именно двадцать?
– Потому что количество лет стремится всё к тому же необъяснимому числу двадцать один, но стремится как убывающая последовательность. Посмотри на разницу возрастов: мне исполнилось шесть. Это первое число. Надежда старше Веры на пять лет. Второе число – пять. Люба на четыре старше Нади. Соня на три старше Любы. Следующая разница должна быть в два года. То есть восемнадцать плюс два равно двадцать. Дальше будет ещё удивительнее. Одновременно, или почти одновременно с появлением двадцатилетней Милюль, где-то родится девочка, которой через двадцать один год исполнится двадцать один год.
В две тысячи двенадцатом сойдутся все сроки и Милюль станет соответствовать… не знаю, чему она будет соответствовать. Может быть, самой себе? Или мне? В конце концов, мне тоже был двадцать один год, когда я решила выйти замуж за Сергея Пантелеймоновича.
Алексей Андреевич резко сел на диване и громко, с видом человека глубоко потрясённого воскликнул:
– Людмилка! Милка родилась двадцать седьмого июня!
– Вот как? – спросила Юлия Ивановна, забрала у Алексея Андреевича таблицу и вперилась в неё, бормоча – Ага. Двадцать седьмое июня тысяча девятьсот девяносто первого. Четверг. Всё совпадает, Алёша. Готовься встречать. Милюль на подходе.
– Что же это за наваждение такое? – взвыл Алексей Андреевич – за что мне такая… такая… – он не находил нужного слова и только тряс рукой, пытаясь назвать – такая…
– Ответственность – подсказала Юлия Ивановна.
– Такая мука! – крикнул Алексей Андреевич и обессиленный упал на диван.
– Алёша, никто не знает своего предназначения и тем более не может его объяснить. Я тоже не знаю про себя. Для того ли я прожила так долго, чтобы теперь объяснять тебе то, чего сама не могу видеть до конца?
Если верить нашим выводам, а у нас нет оснований думать иначе, Милюль оторвалась от меня и за одну неделю проживает весь двадцатый век. Ни понять его, ни разглядеть она не успеет. Она как турист на обзорной экскурсии летит мимо событий, сквозь Россию, сквозь столетие. «Посмотрите направо, тут были Красные ворота, посмотрите налево, тут была Сухаревская башня». Вот и вся экскурсия. Что-то было, а где оно теперь? Даже в самой себе разобраться она не успевает. По своей сути она остаётся шестилетним ребёнком. Так вот, может быть, для того она и спасала тебя от смерти на том корабле, чтобы ты был ориентиром и помог ей найти саму себя? Может быть, поэтому она привязана к тебе, и каждый раз появляется где-то в твоём окружении? А ты не помогаешь. Ты даже не слышишь её просьб о помощи. Может, хоть в предпоследний день ты поможешь ей понять, кто она такая?
– С чего ты взяла? – взвизгнул Алексей Андреевич, вскакивая с дивана – С чего ты взяла, что это именно так, что эти дни недели именно так и ложатся? – он несколько раз ткнул пальцем в листочек с таблицей – Откуда ты знаешь, что двадцать пятое июня тысяча восемьсот девяносто второго это именно суббота, а не какой-нибудь вторник? Почему двадцать пятое июня двадцать восьмого года именно понедельник? Что за конспирология?
– Астрология ты хотел сказать?
– Какая разница? Может быть, ты это всё придумала?
– Скажи ещё, подгадала.
– Хоть бы и так! Ты ответь, ответь! Что у тебя за зловредная таблица?
Юлия Ивановна молча смотрела на Алексея Андреевича и думала… никто не знает, о чём она думала, но взгляд был изучающий, оценивающий. Словно она, совещаясь с собой, говорила: «Ну, давай, поглядим, что ты за мужик такой».
Алексею Андреевичу стало стыдно проявленной слабости. Он устыдился и собственного визга и нежелания согласиться с возлагаемой на него миссией ждать неизвестно чего и помогать неизвестно кому. Он уж и глаза отвёл от её напряжённого, испытующего лица, когда она сказала просто и обыденно:
– У меня есть вечный календарь. Вот, посмотри – она достала из сумки картонную игрушку. Очень старинную и очень потрёпанную. Хоть и был календарь вечным, но судя по затёртостям, вечность доживала последние дни. Два хитроумно разграфлённых кружочка крепились к общей картонке на одной медной заклёпке. В верхнем были прорези, через которые открывались циферки, напечатанные на нижнем. Кружочки эти, видимо, долго крутили, от чего верхний круг отвалился от оси. Поворачивая круг и сопоставляя дырки с цифрами, можно было с удивительной точностью выявить год, месяц, число и день недели в периоде от тысяча семисотого, до две тысячи сотого года.
– Юлия Ивановна – заметил Алексей Андреевич, разглядывая картонное чудо – у нас такие тоже выпускают, только алюминиевые, и в них заложен не такой долгий период.
– Велика сложность – ответила Юлия Ивановна – такие календари изобрели в тысяча девятьсот втором году. Бывают с периодом на двадцать восемь лет и на четыреста.
– Ну, да – Алексей Андреевич так и сяк поворачивал верхний кружочек.
Юлия Ивановна улыбнулась:
– Смотрю на тебя, Алёшенька, и радуюсь. Вроде, пожилой человек, а увидал игрушку и, точно дитя, забыл обо всех горестях.
– Что же мне делать? – спросил он, отрывая взор от картонок.
– Думай сам – ответила Юлия Ивановна – как бы я была рада снова с самой собою повстречаться, да уж очень это маловероятно. Ты теперь всё знаешь. Сможешь подготовиться к тому, чтобы побеседовать со мной, маленькой. Я… то есть она будет рада, если ты хотя бы её признаешь. Сам посуди, легко ли каждый новый день оказываться среди незнакомых людей, которые принимают тебя за другого и хотят неизвестно чего? Но я уверена, как я неделю болела, так и у неё через неделю мытарства должны закончиться. Только неделя у ней другая. Для неё время течёт не так, как для нас, а кусками. Пока мы живём, её нет. На один день выскочит и снова проваливается неизвестно куда.
Ты расскажи ей, что от меня узнал и что сам сообразишь. Времени на размышления у тебя много. Таблицу и календарик я оставляю тебе. И брошку тоже забирай. Покажешь ей, она тотчас её узнает. Её эта брошка. Готовься. Помни, что ты перед ней в долгу. Она тебя от смерти спасла.
Юлия Ивановна поднялась, от чего Алексей Андреевич забеспокоился, вскочил с дивана, нашмыгнул тапки, спросил:
– Зайдёшь ещё?
– Да нет, Алёша, меня завтра ждёт аэроплан – ответила она – погостила и будет.
– Какой рейс? – спросил он – Я приду проводить.
– Это ни к чему – тётка положила руки ему на грудь – лежи и выздоравливай. Береги себя, Алёша. Я очень на тебя надеюсь.
Так же, как и при давешней встрече, она обняла его, и он вновь ощутил щемящую тщедушность, почти бесплотность её маленького пожилого организма, в котором совершенно непонятным образом хранились и память о множестве событий и прозорливость светлого разума, не замутнённого никакими случившимися с нею бедами.
* * *
Далёкий гул медленно втёк в рассказ старого рака. Рак задрал морду и проводил взглядом пролетающую в голубой вышине маленькую серебристую птицу.
– Вот парадокс – заметил кто-то из слушателей – самолёты такие маленькие, а летают с жутким грохотом, а бакланы наоборот, очень даже большие, но подкрадываются совсем беззвучно.
– Если бы самолёты летали как бакланы, то их бы никто не замечал, и им было бы обидно – ответил кто-то другой.
Старый рак опустил взор на говорящих, и с ноткой зависти в голосе сказал:
– Всё то вы умеете объяснить!
– Как раз, наоборот, уважаемый мэтр – отозвался из зала зелёный рак – мне, например, очень удивительно. Из вашего рассказа я уяснил: одна особь женского пола осознала, что от неё отпочковалась другая. Почему же другая, отпочковавшаяся, или отрезанная, это как вам угодно, не осознаёт того же самого? Она что, глупее первой?
– Не умнее и не глупее – ответил старик – такая же. Всё дело в накопленном объёме знаний. Первая особь накопила их достаточно, чтобы осознать былую общность, а вторая эту информацию накопить не успела. У неё и повода не было задумываться о том. Она сталкивалась с другими задачами и проблемами. Так уж всегда, более осведомлённый индивид может углядеть в менее осведомлённом самого себя, а вот, чтобы наоборот, так это шиш. Всегда трудно не то, что признать, но даже заметить собственную ущербность, особенно если ты голоден, если необходимо срочно расти и основная забота в стремительном поглощении еды для восстановления некогда утерянных величин.
– Ага! – радостно закричал зелёный рак – Вот я и поймал вас на слове! По-вашему обе эти души имели некогда один корень, но теперь между ними мало общего. Ведь так?
– Так – пожал плечами старый – ну и что?
– А вот и то! Вы убеждали нас, что душа на всех, про всех одна! А теперь их уже две и они разные! Вот и попался ты, старый обманщик!
К большому удивлению присутствующих, зелёный заплясал, высоко задирая ноги и отклячивая раковину домика.
– Никого я не убеждал. Я размышляю и по размышлении могу сообщить: нет предела глупости, как нет числа тварям во вселенной. Это, в конце концов, хорошо. Если бы была какая-нибудь стройная система, позволяющая понять, как, по каким законам перетекает живой дух из одного состояния в другое, если бы были сосуды, в коих мы могли бы углядеть и измерить божественную суть души, то стало бы скучно и предсказуемо жить на земле. Например, сейчас ты, зелёный, пляшешь от сильной радости чему-то внутри себя, и твоя радость невольно передаётся мне. Тебе думается, ты меня в чём-то уличил, но я этого не понял и потому со спокойным сердцем чувствую себя дураком. С другой стороны ты в своей радости не замечаешь многого вокруг себя. Посмотри, за твоей спиной стоит баклан. Никто не знает, о чём думает он, как и он не подозревает, чему так радуешься ты. Может быть, я и обманщик, но что-то мне подсказывает, что сейчас он тебя утащит. Причём обрати внимание, его не волнует главный вопрос твоей жизни: «Кто ты такой?» Тебя волнует, но для тебя он так и не решился, а вот это уже плохо и я огорчаюсь.
Действительно, баклан, привлечённый активными движениями зелёного рака, стоял у него за спиной и следил за его танцем. Зелёный обернулся, посмотрел вверх, на огромную пернатую голову, на мощный костяной клюв и в ужасе полез прятаться, но было поздно. Баклан схватил его домик, мощно и бесшумно взмахнул крылами и улетел в заоблачные выси. Наверное, в рай.
Иные углядели в этом знак свыше. Большинство же ничего особенного не углядели. Мало ли кого уносят бакланы? Подумаешь, какая невидаль! А ведь всегда хочется узнать как можно больше необычного, того, чего в жизни не бывает. Сначала робко, а потом всё громче раки потребовали продолжения истории про Милюль.
* * *
Когда Алексей Андреевич пришёл в сознание, его рюкзак оказался наполовину пустым. Взглянув на осоловелую от обжорства Милюль, он спросил:
– Деточка, чего же ты так много кушаешь?
– А вы много пьёте – резонно ответила деточка и громко рыгнула.
– Тоже верно – прокряхтел Алексей Андреевич и с большим трудом сел.
Солнце уже клонилось к закату. Это означало, что день, к которому Алексей Андреевич давно и обстоятельно готовился, оказался прожит зря. Осталась несказанной большая половина самого главного, отрепетированного и подготовленного! Алексей Андреевич засуетился, зашерудил руками и торопливо заговорил:
– Послушай, Милюль! Я тебе сейчас скажу необычное, которое даже может показаться глупым, но ты уж постарайся меня понять. Другой возможности не представится. Помнишь, как в воскресенье ты спасла мальчика, которого буря чуть не смыла с палубы корабля?
– Было дело – согласилась Милюль – только я не помню точно, спасла я его, или нет. Мальчик был довольно противный. Он обзывал дельфинов рыбами.
Алексей Андреевич проигнорировал замечание о противном мальчике:
– Весь фокус, Милюль, заключается в не совсем обычном течении твоей жизни. За ту неделю, которую ты прожила, на Земле прошло почти сто лет.
– Как это сто? – удивилась Милюль – не может сто лет пройти за одну неделю.
– Я тоже так считал, пока Юлия Ивановна не открыла мне глаза на связанные с тобою чудеса.
– Вы уже в который раз её упоминаете, а между тем, я вам говорила, это мои полные имя и отчество.
– Вот, вот! – закивал Алексей Андреевич – именно твои и полные. Только так тебя никто не называет, и сама ты так себя не называешь, а знаешь, почему?
– Маленькая ещё – буркнула Милюль.
– Верно! – обрадовался Алексей Андреевич – А раз маленькая, то слушай меня, старенького. Знаешь такую сказочку про волшебные яблочки?
Был на Земле один добрый молодец. Попал он в гости к одной красной девице, а она оказалась не простая, а волшебная. Дала она ему съесть яблочко вкусное. Он съел, а на земле тридцать лет прошло. Ещё съел, ещё тридцать, а с последним, третьим яблочком, накопилось этих лет целых девяносто. Возвращается он в родную деревню, а его никто не признаёт. На том месте, где жили родные матушка с батюшкой, другой дом стоит, и чужие люди живут. Так-то.
– Какой ужас! – оценила сказку Милюль.
– Вот и я говорю, ужас. Ужас и кошмар. Только это не сказка была, а присказка. Ты слыхала такую фразу: «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок»?
– Слыхала – обрадовалась Милюль – мне нянечка её говорила в конце какой-нибудь сказки, а я каждый раз думала, что за урок такой? Так и не знаю, какой урок, хоть сказок с этим концом помню много.
– Хорошо, что много. Это, знаешь ли, очень полезно в твоём положении. Так вот тебе и сказка после той присказки. Приехала девочка с няней и села на корабль. Легли они спать. Просыпается девочка, а корабль другой и люди вокруг не те. Невдомёк девочке, что минуло уже пятнадцать лет.
– Она пятнадцать лет проспала? – спросила Милюль.
– Для простоты будем считать так – кивнул Алексей Андреевич – пятнадцать плюс шесть, двадцать один год получается. Но это не важно. Через пятнадцать лет всё вокруг изменилось, но не очень. Девочка даже приноровилась легко и при этом встретилась с мальчиком Алёшей, который оказался ей ровесником. Стал Алёша погибать, а девочка спасла его, когда он чуть не утонул.
– Это про меня сказка? – уточнила Милюль.
– Не перебивай, а-то собьюсь! – строго велел Алексей Андреевич – Спасла девочка Алёшу, да и уснула. Просыпается… батюшки! Что за беда? Алёша-то на двадцать один год вырос и числится той девочке почти родным дядей. Ничего не сказала девочка, да и… снова уснула. Просыпается, а уже опять двадцать один год прошёл. Дядя тот ещё подрос, бороду отпустил и стал почему-то папой. Ничего девочка понять не может. Что за чехарда? Снова заснула на двадцать один год. Просыпается. Куда все подевались? Кругом незнакомые люди! Ну, она опять за своё: спит, да спит. А тот мальчик-дядя-папа всё живёт и стареет. Проснулась она ещё через двадцать один год. Смотрит, вот он я, Алексей Андреевич, перед тобой сижу и числюсь тебе уже прадедом, потому что пока ты засыпала, да просыпалась, прошла в твоей жизни одна неделя, а в России целый век.
– И что? – настороженно спросила Милюль – тут и сказке конец?
– Нет, Милюль, не конец, а самое начало. Я не знаю, где ты была и что делала, пока спала.
– Я была лягушкой – призналась Милюль – сначала головастиком, потом лягушонком с хвостиком, потом без хвостика, а перед тем, как проснуться, я прыгнула в этот самый пруд.
– Да ну? – удивился Алексей Андреевич – Этого я не знал.
Рассказанная им сказка, хоть и была страшная и вовсе не сказочная, убаюкала Милюль. Она бы возмутилась, сказала бы этому постаревшему мальчику Алёше, до чего неправильные он придумывает сказки, но сонная мгла всё глубже уволакивала её и потому она сказала совсем иное:
– Я знала. Только я считала себя Царевной-Лягушкой, а вас Кощеем Бессмертным.
– Да я уж давно понял, какой дуб тебя интересовал – ответил Алексей Андреевич, но Милюль уже не было дела ни до сказочного дуба, ни до волшебных персонажей. Из последних сил борясь со сном, она спросила:
– Скажите, Алексей Андреевич, почему я оказалась именно в этой сказке?
– Наверное, так легли звёзды на небе – предположил прадедушка, но ответ не устраивал засыпающую Милюль:
– Что мне делать? Что делать-то? – прокричала она изо всех сил, но еле слышным шёпотом донёсся до уплывающего мира её крик.
Столь же туманно и неразборчиво прозвучал ответ не то Кощея Бессмертного, не то Алёши Поповича:
– Делай то, чего тебе больше всего нужно и не забывай, кто ты такая…
* * *
– И кто же я такая? – спросила Милюль. Дрёма свалилась с глаз. Теперь она могла говорить внятно, не пытаясь прокричаться сквозь ватную сонливость. К ней вернулись ясность мысли, необычайная живость и лёгкость во всём теле. Под лапками и под животом пугающе сочилось тепло от чего-то большого и мягкого. Она шевельнулась, чтобы освежить картину окружающего пейзажа…
«Ужас! Как меня сюда занесло?»
Изо всех сил Милюль прыгнула и уже в полёте досматривала кошмарную окружающую среду, которую она так мудро и быстро сообразила покинуть. В огромном мрачном судне, через борт которого она перелетала, находились гигантские тёплые млекопитающие! Одно из них, с которого она спрыгнула, судя по всему, спало, или отдыхало. Второе шевелилось, издавая страшные рокочущие звуки. Слава богу, этот кошмар остался позади. Навстречу ей стремительно надвигалась гладкая поверхность бескрайнего зеленоватого моря. Милюль стукнулась мордой об воду. Вода разлетелась миллионами мелких брызг, но тут же опомнилась, побежала обратно и, приняв Милюль в себя, сомкнулась над головой.
«Так со мною бывало и не раз» – вспомнила Милюль, двигаясь по гладкой дуге в зеленоватом пространстве, насыщенном пузырьками и мутью. Подёргивая ластами, она поплыла прямо, подальше от того огромного лайнера, на который забросила её злодейка-судьба. Вода постепенно выталкивала Милюль наверх и вскоре она совсем всплыла. Ноздри и глаза оказались над поверхностью, но Милюль продолжала двигаться вперёд, мощно дрыгая ластами. Плыла недолго. Вот уж и берег, где можно отсидеться в высокой траве и привести мысли в порядок. А мыслей образовалось великое множество, но разрозненных, не связанных между собой и даже ненужных: «Что за лайнер? Какое отношение я имею к лайнеру? Как я там оказалась? Кажется, я садилась на лайнер вместе с нянечкой и большой белый мужчина предложил мне посидеть на гранитном льве. Это не мысль, а нелепая, ненужная глупость. Мусор. Долой его! Какая там следующая мысль?.. Пока я сплю, в России проходит двадцать один год… полная околесица!»
Сидя в прибрежных зарослях, Милюль перебирала глупости, в изобилии хранящиеся в памяти и не находила ничего путного.
– Я здесь! – раздалось откуда-то справа.
– Я тут! – ответили с другой стороны.
– Вот я! Вот я! – это уже издалека, а потом снова, совсем рядом:
– Я здесь!
Милюль подумала, подумала, да и крикнула:
– Ну и что?
Орущие умолкли, видимо, соображая: «Действительно, что?» Ничего не решив, они принялись орать то же самое с удвоенной силой.
– Какое однообразие – подумала Милюль про глупых крикунов. Они же орали, надрываясь до усёру и соревнуясь, кто кого перекричит.
«Надо делать то, что мне больше всего нужно» – зацепила Милюль очередную мыслишку, валявшуюся на поверхности сознания, и обрадовалась гениальности открытия. Мыслишка эта, конкретная и ёмкая, лучше всех прежних подходила к ситуации. Более того, она была красивой и требовала детального изучения:
– Чего же мне нужно? – спросила себя Милюль и попробовала перебрать варианты ответов:
– Не мешало бы отрастить хвост, как в юности? Хорошо, но не обязательно. Посмотреть на этих, которые орут? Любопытно, конечно, но какой смысл, если они такие тупые? Пожрать? Это – да. Это всегда хорошо, но ответ не соответствует гениальности вопроса. О! – вспомнила Милюль – Я давно мечтала добраться до моря! Я хотела слушать шум прибоя, забегать в воду с песчаного берега и ощущать солёную упругость. Вот, чего мне нужно! С другой стороны, кажется, я моря достигла. Вот оно, напротив меня. Много воды. Милюль пошевелилась, чтобы разглядеть «много воды» получше. Ровное зеркало лежало перед нею. В некоторых местах его поверхность была выщерблена островками ряски. Огромные листы и стебли кувшинок выпирали вверх далеко впереди. Дальше, за ртутной полированной неподвижностью угадывался противоположный берег, дыбящийся множеством циклопических растений. Вдруг совсем рядом, в секторе осмотра, всплыла здоровенная, утыканная бородавками рожа и радостно заорала:
– Я здесь!
От неожиданности Милюль подпрыгнула на месте и с отчаянным разочарованием резко сообразила: «Это не море!» Разинув пасть, она ринулась на вопящего идиота и обязательно укусила бы его, если бы он не отпрянул и не скрылся под водой, испуганный её яростью.
Милюль поплыла вдоль берега, соображая про себя: «Что за напасть? Почему всё окружающее, всё мыслимое оказывается не тем, что мне нужно? Почему я здесь? Как добраться до волшебного мира, который мне так необходим? Как доплыть до моря, о котором я мечтала целую неделю, целый век, прошедший в России!»
Милюль корила бесчувственную реальность, подсовывающую ей разнообразные обманки, вместо того, чего она хочет. Она ругала себя за тупость и несообразительность, а сама всё плыла и плыла вдоль берега, пока не заметила, как невидимая сила движет её гораздо шибче, чем может плыть она сама. Удивляясь этой перемене, Милюль прекратила дрыгать ластами, но течение несло её навстречу лысому бетонному берегу. Пару раз Милюль прокрутило в мелких, неожиданно возникающих воронках, снова вынесло на прямую и, наконец, с грохотом и бурлением впёрло в тёмную трубу, где перевитая жгутами вода с невообразимой скоростью неслась по тоннелю.
– Так это был пруд! – сообразила Милюль, кувыркаясь и захлёбываясь в стремнине.
До чего неприятно лететь сквозь непроглядную тьму! И страшно представить, как здесь, в гремящем мраке её может садануть о любое твёрдое препятствие, и тонкая лягушачья черепушка разлетится на тысячи кусков. Тогда конец путешествию, а Милюль уже поняла, что в её жизни началось самое главное: путешествие к заветному морю.
Именно здесь, в беспорядочном движении наперегонки с собственным страхом, Милюль непостижимым образом смекнула, что все воды, текущие вниз, приходят в конце концов туда, куда стремится она сама. Мчась мимо гулких невидимых стен, она решила: «Я буду плыть по течению! Пока я живу лягушкой, я буду стремиться к тому, чего безумно желаю как человек! Пусть пройдёт ещё двадцать один год, но к тому времени, когда придётся проснуться вновь, я проснусь сама собою, не куском чьей-то чужой жизни, не обрубком несостоявшегося «я», а целым, самостоятельным существом, у которого есть прошлое, но главное, есть и будущее!»
Её выплюнуло из трубы в быструю мутную речушку, течение которой постепенно замедлялось, речушка становилась шире и впадала в следующий пруд, заросший водорослями и тиною. Появились вокруг знакомые рожи соплеменников, старательно орущие о себе. Каждый орал как умел. Кто-то громче, кто-то искуснее, но скучно было Милюль от однообразия тем их песенного творчества. Никто из них не умел придумать ничего принципиально нового. Мимо! Дальше и дальше, не задерживаясь на одном месте. Она искала текущую воду среди стоячей. Оказавшись в плену нового течения, пугалась до беспамятства, но наперекор страху, возобновляла движение к цели.
Серый туман окутывал реки и озёра, а Милюль плыла. Дождь плясал по воде, утыкивая её мелкой сетью холодных игл, но Милюль двигалась и под дождём. Милюль продолжала плыть, когда наступала ночь и огромная луна надувалась от удивления, видя необъяснимое для всего сущего упорство одинокой лягушки. Кто сосчитает, сколько раз подвергалась она риску быть съеденной, пойманной, раздавленной, разрубленной, уничтоженной самыми разнообразными и немыслимыми способами? Она научилась держаться в тени свисающих над водой кустов и с замиранием сердца торопилась преодолеть открытые пространства, над которыми в любой момент могла появиться голодная зоркая птица. Милюль научилась пользоваться досками, брёвнами и прочей плавучей всячиной, влекомой течением реки.
В незыблемом покое гигантского водохранилища Милюль поджидала жуткая депрессия, и даже отчаяние от нереальности преодоления такого огромного стоячего пространства. Если бы не память, если бы не опыт, накопленный Милюль за время путешествий по рекам и водоёмам в облике человека, она не нашла бы ни сил, ни соображения для того, чтобы продолжать путь.
Жёсткая встречная струя смыла Милюль с уступа на борту попутного катера и режущие воду винты чуть не перемололи её в пыль. Жуткие чудовища всплывали из глубин и норовили проглотить Милюль зубастыми ртами. Через препоны и напасти длился и длился её нескончаемый путь к великой цели, которую не в состоянии вместить никакое сознание. Не только вместить, но даже представить. Милюль двигалась к морю.
* * *
Ритмично и громко шлёпали по песку многие ноги. По пляжу маршировали взрослые раки. Глядя на стройную шеренгу, старик подумал: «Что за день такой? Все маршируют! Ладно ещё, дети, им простительно. Когда маршируют дети, они мнят себя удалыми воинами древности, чья сила в единстве и слаженности действий. Если же начинают маршировать взрослые, то всем здравомыслящим ракам вокруг становится так же стыдно, как если бы великовозрастные тёти наладились играться в дочки-матери и баюкать тряпочных кукол».
Строй взрослых раков подошёл к большому камню и по команде: «Стой! Ать-два!» – встал пред лицом пожилого сказочника.
– Здравствуй, дорогой собрат! – поприветствовал старика рак с длинными волосами на ногах – Мы пришли сюда для того, чтобы сообщить: своей историей ты возбудил в наших рядах небывалые смуты. Раки трактуют их то так, то этак. Часто, споря между собой, они доходят до рукоприкладства, хотя сезон спаривания ещё не начался. Не мог бы ты внести ясность и громогласно объявить, какую концепцию проповедуешь ты с вершин глобального многолетия? Если ты говоришь о единении всего живого в свете существования общей для всех всемирной души, то провозгласи это! Если же ты намерен убедить мыслящий мир во множественности сущностей, населяющих каждого изнутри, то на сём и заостри наше внимание. Тебе нужны единомышленники, которые вслед за тобой признают себя создателями вселенной! Подай нам знак! Мы, пришедшие к тебе воины, готовы поддержать любую из указанных тобою основ и силой боевого авторитета навести порядок в разбредшихся умах рачьего племени. Как видишь, нас много. Мы являемся твоими последователями и готовы идти туда, куда ты укажешь. Сделай же милость, укажи!
Старик блаженно потянулся всеми конечностями, потряс усами и, открыв рот, начал указывать:
– О, дети мои, а так же истовые последователи! Даю вам чёткую и непререкаемую установку: идите вы…
Скрип тормозящего механизма донёсся от дороги. Вслед за ним прозвучали голоса множества людей, выпрыгивающих из остановившегося в отдалении белого автобуса. Все раки, и старик в том числе, развернули глаза в том направлении. Место ежедневных сборищ оказывалось в точности промеж морем и автобусом.
– Туристы! – воскликнул один из воинов.
– Надо объявлять эвакуацию! – подсказал другой.
– Учитель! Тебе, с твоей большой и красивой раковиной следует покинуть опасный сектор! – обратился к старику волосатый командир.
– Бегите, я вас прикрою – ответил учитель, но раки успели последовать его совету ещё до того, как совет прозвучал.
Задрав кверху клешни и дома, они дисциплинированно приступили к эвакуации. Делали это согласно чётко отработанной вековой стратегии, не допускающей ни паники, ни давки, то есть все побежали врассыпную, во все мыслимые стороны одновременно. Надвигавшиеся как стихийное бедствие туристы не успели ещё расстелить на песке коврики и полотенца, а раки, как и положено мыслящим существам, уже выполнили план эвакуации. Почти. Первая группа ушла под воду, и там, взрыхляя лёгкий белый песок, медленно пыталась углубиться. Воины из второй группы оказались между ног наступающих туристов и в отчаянии метались, не находя себе места среди жестоких гигантов. Дальше всех продвинулись те, которые побежали в обе стороны, по мокрому песку границы моря, но и тут не обошлось без потерь.
Волосатоногий командир, последователь и проводник нового учения, упёрся в здоровенный булыжник, и безуспешно штурмовал его неприступную твердыню, оставаясь в пяти шагах от не пожелавшего эвакуироваться сэнсэя.
Туристы, стремительно захватившие пустынный пляж, вели себя нагло и дерзко, как любые оккупанты. Переговариваясь, они стелили циновки, снимали с себя одежду, напяливали резиновые ласты, маски с трубками, договаривались играть в волейбол. Они совершенно беззастенчиво хватали мечущихся между ног отшельников, разглядывали их домики, восхищались, показывали несчастных друг-другу. Некоторых отпускали, но некоторых – и нет!
Старый рак слушал долетающие до него обрывки разговоров и, надо думать, проводил глубокий научный анализ изучаемого им хищного вида прибрежной фауны.
– Всю жопу отсидел! – радостно делился достижениями длинноволосый блондин атлетического сложения.
– Не мудрено – соглашался загорелый сероглазый брюнет – за пять часов чего хочешь отсидишь.
– Чего ради ехали? – удивлялся блондин – то же море, тот же песок.
– Не скажи! Это другая сторона Аравийского полуострова. Видишь, солнце встало из-за моря, а не со стороны суши?
– Какая разница, откуда оно встало? Всё едино, жара! Надо бы натянуть тент. Сгорим нахрен.
Одна из женских особей человека, находившихся в компании туристов, сказала:
– Сюда стоило съездить хотя бы потому, что в Дубаях только Персидский залив, а здесь, на Фуджейре, целый Индийский океан.
– То же самое. Никакой разницы – стоял на своём блондин.
– Тут вода чище и пляж совсем дикий – продолжала спорить женская особь – смотрите, раки-отшельники так и вошкаются вокруг!
– А вон и местные! – брюнет, показал пальцем в море.
Небольшое моторное судно с четырьмя рыбаками медленно двигалось вдоль берега. Рыбаки, увидав группу разнагишавшихся туристов, заглушили мотор и стали активно совещаться о чём-то между собой.
За исключением брюнета, никто на местных мореходов внимания не обратил. Туристы увлечённо занимались отдыхом. Кто-то уже плескался в воде. Небольшая группа, обливаясь потом, азартно играла в мяч. Те, кто вздумал валяться и жариться, сделались до такой степени расслабленными, что никакая идея не смогла бы мобилизовать их мозги на хоть какой-то разговор. Случайные фразы вяло слетали с уст отдыхающих, и далеко не всякое слово вызывало ответ, а зачастую так и оставалось безответно произнесённым и тут же забытым, не связанным никакой общей темой и бесследно затерявшимся в жарком пространстве.
– Вчера вечером, когда вернулись с Джумейры, я сочинил стишок. Хотите, прочитаю? – спросил блондинистый атлет.
Ему никто не ответил. Он воспринял молчание как знак согласия и взялся декламировать плод своей творческой неуёмности:
– Перед самым отъездом
мы пришли на залив.
Серо-синяя бездна…
вид привычно красив.
Волны шли с океана,
нежно гладили пляж.
Компромиссы Корана
дополняли пейзаж:
в белых рясах арабы
наблюдали, как тут
полуголые бабы
автономно живут,
и никто к ним не лезет.
«Как ты думаешь, зём,
завтра море исчезнет,
или мы пропадём?»
Усмехнулся товарищ:
«Ну, ты задал вопрос!
На него, сам же знаешь,
не ответить всерьёз».
Так, болтая беспечно,
мы прошли без следа,
а вопрос этот вечный
безответен всегда.
Пока он читал, рыбаки завели мотор, поплыли к берегу и вот уже их лодка, уткнулась носом в песок. Брюнет, не дослушав поэта, направился посмотреть, чего это там. Несколько туристов, заметивших рыбаков, тоже подошли к лодке. Основное же большинство никак не отреагировало на появление гостей.
– Ну, как? – спросил блондин у женской особи.
– Ничего – ответила женская особь.
– Ну вот! – огорчился поэт – я думал, тебе понравится, а ты: «Ничего»!
Наверное, он наскучил девушке, или ей захотелось прогуляться просто так, независимо от того, читают ей стихи, или нет, просят признания литературных успехов, или не просят. Она поднялась с расстеленного на песке полотенца и пошла вдоль водной кромки в ту сторону, где сидел, грея уши о чужие разговоры, тот самый, древний рак-отшельник, который целую неделю рассказывал собратьям необычайно длинную сказку. Периодически девушка наклонялась, подбирая выброшенные волнами обломки раковин. Некоторые кидала в море, а другие, особенно понравившиеся, несла с собой в ладошке. Рак сидел неподвижно и наблюдал, как она медленно и неотвратимо приближается к нему.
Её окликнули. Остановившись, она обернулась к спешащему от лодки брюнету. Когда старый рак услышал имя, которым брюнет звал девушку, он попятился и стукнулся раковиной домика о большой камень.
– Милюль! – кричал бегущий брюнет – Там араб предлагает рыбу купить.
– Зачем нам? – пожала плечами Милюль.
– Купим, зажарим. Вечером посидим – обрисовывал перспективу брюнет, а следом за ним уже шёл вдоль прибоя туземный рыбак с огромной рыбой в руках.
– Это не араб – вклинился блондинистый поэт – арабы по пятницам отдыхают, ничего не делают.
– Да какая разница, кто он? Хоть бы негр – парировал брюнет – рыбу-то дёшево купим.
– Мадамка! Мадамка! – заговорил рыбак по-русски, от чего стало ясно: человек он образованный и не настолько ему надо продать эту рыбину, насколько приятно походить, посмотреть на полуголых женщин, собранных в кучу в таком райском количестве.
Все трое вступили в торги, произнося полуанглийские слова: «Твенти», «Тёрти», «Фёрти», «Пёрти». Эти слова знает каждый человек, которому приходится торговаться на территории арабских эмиратов. Даже непонятно, почему у людей, хорошо знающих настоящий английский, они вызывают недоумение и даже смех. Для тех же, кто английского не знает, надо привести перевод этих слов: «Двадцать», «Тридцать», «Сорок», «Пятьдесят» соответственно. Скорее всего, консенсус не был найден, поскольку брюнет, покачивая головой, несколько раз повторил: «Вери экспансив!». Тогда заморский продавец, не выпуская рыбы из рук, обратился к Милюль:
– Мадамка, вот а ю стэйдж?
– Россия – ответила Милюль.
– Я зналь Россия – радостно заулыбался чернявый рыбак и добавил – Казахстан.
– Почему это Казахстан? – возмутился сероглазый брюнет, а Милюль, засмеявшись, отвернулась от торгующих рыбу сторон и продолжила свой путь по кромке прибоя.
Все раки могли видеть, как она заметила сэнсэя, как наклонилась к нему, привлечённая небывалой величиной и красотой его раковины, как подняла его с земли, и как он, старый, тёртый жизнью рак, вместо того, чтобы скрыться в домике, с шумом захлопнув клешнёю вход, спокойно висел и смотрел на неё бусинками глаз…
Споют рачьи певцы и расскажут поэты в стихах, как умудрённый науками рак глядит в лицо неминуемой гибели. Юные раки поклонятся памяти бесстрашного учителя и удивятся его легкомысленной глупости. В легендах и былинах сохранится образ чудодейственного старца, который искал погибели в волнах прибоя, в сражениях с осьминогами и с толпами не верящих его мудроте фанатиков, но за святотатство и богохульство был он захвачен самым страшным хищником на земле, человеком. Не просто человеком, но предметом его научного поиска, ожившей героиней его творчества, воплотившимся плодом его сказки, его рачьего воображения!
И вот, смотрел рак на Милюль и видел направленные на него человечьи глаза, о коих многократно рассказывал товарищам и собратьям. Он удивлялся их конструкции, благодаря которой они всегда зырят оба в одну и ту же сторону. Удивлялся он и тому, что светлая как доброе безоблачное небо радужная оболочка человеческого глаза обязательно имеет в середине чёрную дыру, уходящую в абсолютную тьму неизвестного космоса, где может таиться чёрт знает какая мысль. Ещё он удивлялся прекрасным в своей функциональной бессмысленности ресницам, дивился округлости лица и тому, до чего мягки и размыты его черты. Знать, великий скульптор, создавший всё на этой Земле, то бишь он сам, к тому моменту, как приступил к лепке женского лица, изрядно устал, а потому не стал отграничивать его части друг от друга, а лишь слегка намекнул на необходимые всякому лицу детали, да лёгкой неровностью обозначил нос.
Никто не знает, какие чувства, или мгновенный разговор проскочил между раком и Милюль. Да и о чём могли говорить существа, столь далёкие друг от друга, принадлежащие не только разным цивилизациям и культурам, но разным вселенным, в коих даже время течёт по-разному? Что между ними может быть? Да ничего! Тем не менее, меж ними произошло то явление, которое позднее, пытаясь объяснить другим, старый рак назвал непонятным словом: «Эмпатия». При этом он искренне советовал всем, кто его слушал, не пытаться повторять сей поступок, ибо чудо случается очень даже не всегда. Чаще всего, человеческие особи, найдя на берегу красивую ракушку, забирают её, не спрашивая хозяина, что он по этому поводу думает, но Милюль, посмотрев раку в глаза, улыбнулась и положила раковину на прежнее место.
Может быть, она вспомнила пьяный взгляд пожилого Алексея Андреевича? Хотя, как? Как она могла вспомнить то, чего не могла видеть? Но почему бы и не вспомнить? Разве мы порой не вспоминаем того, что с нами вовсе не происходило?
В общем, нет смысла париться над всеми «может быть». Я этого не знаю и знать не могу, как не могу объяснить, почему молния, убивающая любого в случае прямого попадания, кого-то вдруг оставляет в живых. Никто не нашёл объяснения, почему Солнце нарушает цикличность активности и взрывается изобилием протуберанцев в тот момент, когда этого никто от него не ждёт. Старый рак позже утверждал, что именно нарушениями привычных закономерностей и рутинного однообразия проявляет себя живой дух и, улыбаясь, посылает всем, кому охота видеть сигнал: «Я здесь! Я живая душа, способная прорваться сквозь корку установленных мной же порядков, потому что я создатель вселенной».
Старый рак много чего говорил позже, но теперь он сидел на песке и обеими бусинами молча смотрел вслед уходящей по берегу Милюль. Мог ли он рассказать, какие чувства ползали в нём под толстой, красивой раковиной, под хитиновым панцирем и ещё глубже? Вряд ли. Для того чтобы слушатель понял рассказчика, ему, слушателю, необходимо хоть раз в жизни оказаться в какой-нибудь похожей ситуации и накопить минимум информационного запаса.
Например, если бы Алексей Андреевич мог вступить в диалог со старым раком-отшельником, то припомнил бы такой случай из своей жизни: однажды, ещё до всех путешествий, до того, как его втянуло в историю, начавшуюся до его рождения и закончившуюся через много лет после смерти, он, будучи пятилетним ребёнком, часами просиживал в укромной бухточке на берегу пруда. Место это утоптали и приспособили для долгого сидения неизвестные маленькому Алексею Андреевичу рыбаки. По вечерам они приходили сюда, чтобы сидеть так же долго, закинув в воду лески на длиннющих удилищах, а днём полноправным хозяином маленького угодья среди камышей и осоки был он.
Алексей Андреевич не удил рыбу. Сидя неподвижно, он наблюдал, как в прогретом солнцем мелководье перемещаются многочисленные мальки, следил за водомерками, то прытко скользящими по поверхности, то замирающими совсем без движения.
Особую радость вызывали в нём пузатые, неповоротливые головастики, которые то и дело выплывали из подводных зарослей и паслись там же, где и рыбьи дети. Головастики были разнообразнее и интереснее мальков. Некоторые отрастили ноги и проявляли некоторую индивидуальность. Взрослых лягушек Алёша ловил и подолгу рассматривал их удивительно человеческие лапки, трогал пальцем тонкие горлышки, а потом отпускал, полагая, что они расскажут про него другим.
В этом добром царстве были и злые персонажи, которых Алёшенька очень боялся. Слава богу, появлялись они не часто. Пиявки! Алёша не знал, могут ли пиявки гоняться за людьми, но помнил со слов взрослых, что пиявки пьют человеческую кровь.
Однажды пойманная им лягушка выпрыгнула из рук, нырнула в воду и стремительно улезла под плоский камень, частично торчащий над водой.
– Сейчас я тебя догоню! – пообещал Алёша и стал отдирать камень от налипшего снизу ила.
С громким чмоком камень оторвался, а там, в жидкой глине, оказалась здоровенная сморщенная пиявка! Она медленно и грозно повернула шею, направляя на Алёшу безглазую голову и, наверное, собралась выпить всю его кровь.
В ужасе Алёша отбросил плоский камень и с безумной скоростью побежал прочь. Он бежал мимо кустов и деревьев, мимо цветущего летнего разнообразия, до которого сейчас ему не могло быть никакого дела. Страшная пиявка наверняка гналась за ним, поэтому Алёша даже не оборачивался.
Как он ни старался, как ни пыхтел, помогая себе руками, всё равно получалось бежать чересчур медленно. Можно было бы бежать побыстрей, но за нужной скоростью не поспевали предательски неповоротливые ноги.
Лишь перебежав сельскую дорогу, Алёша остановился и посмотрел назад. Пиявка отстала. Её вообще не было видно. Отдышавшись, он успокоился и почувствовал себя в радостной безопасности. Ничего плохого случиться уже не могло.
Где он, Алексей Андреевич? Где собеседник, который мог бы понять старого рака-отшельника? Уж он бы припомнил, как примерно тогда же, в далёкие времена, пока не было ни революций, никаких других заунывностей, захвативших его позже, гостила в их семействе взрослая девочка по имени… никто теперь имени и не вспомнит. Погостила и погостила, беседуя с его матушкой и тётками о хозяйстве и ещё неведомо о чём. Загостившись, осталась ночевать, а утром, едва отзавтракав, засобиралась домой.
Алёша, весь вчерашний день глядел на незнакомую гостью как на чудо чудное и диво дивное, ходил вокруг да около, увлечённый только ею, и от счастья созерцать такую красоту, млел. Он вызвался проводить её до околицы и, идя рядом, делился достижениями. Показывал, например, удобную ивовую палку, уверяя красавицу, что это его конь. Ну, и так далее. Много было у него тогда достижений. Наконец, девушка сказала:
– Ну, всё, скачи домой. Дальше я сама пойду.
И пошла. А он, перед тем, как поворотить коня к дому, радостно смотрел ей вслед, и ему очень нравилось, как она идёт. Через широкий луг, мимо росистых утренних трав, туда, где тропинка загибается за лесные деревья, долго и неповторимо уходила девушка с длинной косой, самим своим движением даря Алёше ощущение щемящего счастья.
Так и теперь уходила Милюль от старого рака. Другой пейзаж окружал её. И выглядела и шла она по-другому, но предыдущие истории я рассказал для того, чтобы стали хоть чуть понятны чувства членистоногого учителя на песчаном берегу, у самой кромки далёкого моря.
Он изо всех сил напрягал стебельки глаз, созерцая её удаляющийся силуэт, когда кто-то постучал в его раковину. С досадой старик обернулся. Рядом стоял зелёный бородатый рак.
– Чего, не чаял меня встретить? Думал, поди, меня баклан съел? Дудки! Не на того напали! Мы как поднялись кверху, так я не будь дураком, за ноздрю его клешнёй! Клешнёй! Он меня и отпустил. Ох, и натерпелся я, пока летал, да ползал! Столько могу рассказать… кстати, учитель, как там твоя сказочка? Говорят, Милюль в лягушачьем обличии двинулась к морю по ручьям и рекам. Это правда?
– Милюль только что была здесь – ответил старик – судя по всему, минули все условные сроки. Действие договора с Кощеем окончено. Метаморфоза состоялась. Она теперь не лягушка. Она окончательно человек. Она у моря.
– Здесь? – удивился зелёный рак – Нет, постой, постой! Я не совсем понимаю, по какой такой реке лягушка из России могла доплыть до Индийского океана?
– Откуда мне знать? – пожал плечами старик – Мало чего в сказках-то?..


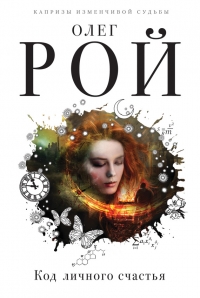




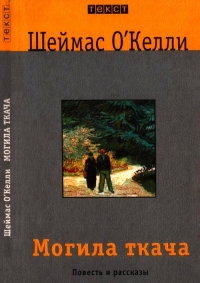


Комментарии к книге «Милюль», Вадим Шильцын
Всего 0 комментариев