Аполлон Давидсон Андре Бринк и его народ
Герои Андре Бринка живут в далекой от нас стране. По ту сторону экватора. Ближе к Антарктиде, чем к Европе.
Но их страна называется Трансвааль, и само это слово делает ее чем-то близкой. Ее беда, пронесшаяся над ней буря, когда-то глубоко волновала наших дедов и прадедов.
На заре двадцатого века англо-бурская война всколыхнула весь мир. Туда, на Юг Африки, на помощь бурам стекались добровольцы из Европы и Америки. Сестры милосердия из Петербурга выхаживали раненых под Питермарицбургом. А кронштадтские ветераны добрались чуть не до Капштадта, как у нас называли тогда Кейптаун.
Появилась и долго потом жила русская народная песня о трагедии далекой земли: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…»
Через несколько десятилетий, уже на склоне лет, Маршак вспоминал, как в детстве он играл с соседскими мальчишками в войну буров и англичан. А Эренбург — «сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий». Но его поймали и вернули.
Паустовский в своей чудесной повести о детстве и юности писал: «Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели флегматичных буров, дравшихся за независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли… Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».
Но не только мы — весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой».
И как было не сочувствовать бурам. Ведь англичане сжигали их дома, а женщин, детей и стариков отправляли в концентрационные лагеря, где они умирали тысячами. Именно тогда и появились концлагеря.
Это было восемьдесят лет назад. Еще живы очевидцы, современники.
В наши дни Трансвааль — провинция Южно-Африканской Республики. Народ, известный когда-то всему миру как буры, называет себя африканерами, то есть африканцами, но белыми африканцами. А свой язык, в основе которого лежит староголландский, именует африкаанс.
Андре Бринк — тоже африканер. Родился в 1935 году и в этих своих романах говорит о событиях и людях нашего времени — второй половины семидесятых годов. Рисует образы буров-африканеров такими, как он их видит сегодня.
Каковы же эти люди теперь? Ведь, в сущности, мир знает об африканерах не так уж много. В основном — то, что пишут о них другие. Англичане, американцы, французы — журналисты, писатели, публицисты.
Ну а как сами буры осознают себя сегодня, как они осмысливают свое прошлое, настоящее да и будущее? Без этого ведь не понять ни человека, ни народ, ни какую бы то ни было общественную группу.
Но вот так получилось, что крупных африканерских писателей — тех, чьи произведения помогают понять народ, почувствовать его душу, услышать пульс его жизни, — мир почти не знает. Андре Бринк первым из бурских прозаиков приобрел широкую известность за пределами своей родины. Привлек внимание его несомненный талант. И острота проблем, которые он ставит. Не последнюю роль сыграл и интерес к самой Южной Африке, проявляющийся в наши дни.
В романах Бринка поднимается вполне естественный, но совсем не такой уж простой вопрос. Как же это получилось, что слово «бур», которое на заре нашего столетия было символом мужества, стремления к независимости, к освобождению от иноземного господства, теперь приобрело прямо противоположный смысл?
Буры — их сейчас почти три миллиона — составляют большую часть белого меньшинства, господствующего в Южно-Африканской Республике, где живет тридцать миллионов человек. И даже внутри этого белого меньшинства буры занимают привилегированное положение.
Правит в стране Националистическая партия, состоящая из буров. Почти все министерские посты во всех составах правительства уже давно принадлежат бурам. К тому же и Националистическая партия и правительство находятся в руках еще одной, тоже бурской организации. Это могущественное тайное общество «Брудербонд» — Союз братьев, — которому принадлежит подлинная власть в стране.
Доктрину и политику апартеида создали руководители и идеологи «Брудербонда» и Националистической партии. И само слово «апартеид» (его у нас когда-то по ошибке приняли за английское слово и соответственно транслитерировали) принадлежит языку африкаанс, произносится «апартхейд» и означает «раздельное существование, раздельное развитие».
Из буров в основном комплектуется и государственный аппарат, и полиция, и служба государственной безопасности этой самой расистской страны сегодняшнего мира.
Слова «бур», «африканер» для африканцев, черных, теперь чуть ли не самые ненавистные.
Как же видит все это Андре Бринк, африканер, крупнейший африканерский прозаик сегодняшней Южной Африки?
Прежде всего надо признать, что Бринк — в отличие от многих своих собратьев по перу — не закрывает глаза на все те ужасы, что происходят в его отечестве. Он показывает, «как выглядит ад изнутри» — Соуэто, самый большой «черный» пригород самого большого в Трансваале и во всей Южной Африке «белого» города — Йоханнесбурга. Жизнь африканцев, черных, — подавляющего большинства населения. Судьбы людей всех цветов кожи в стране, где цвет кожи определяет место человека в обществе и государстве. Пытки и убийства в тюрьмах, произвол, шантаж. Атмосферу всеобщего страха.
Но все-таки в центре внимания Бринка — его народ, африканеры. Их роль, их ответственность за происходящее. Их будущее.
Он отчетливо видит преступления, что совершаются якобы от имени и во имя его народа.
И он дает галерею образов: промышленники, министры, сенаторы, сотрудники службы государственной безопасности, священнослужители, фермеры, учителя… Стремление сохранить привилегированное положение, доходы, власть каждый из них прикрывает высокими словами об интересах своего народа, его особой судьбе, особой роли, особых правах. Одни отдают себе в этом отчет, другие даже и не задумываются. Просто с детства благодаря всей системе воспитания ими была усвоена такая шкала ценностей, и она им кажется не только верной, но и единственно возможной. Истинно патриотичной.
Конечно, не только говорят, но и думают они не вполне одинаково. В романе «Слухи о дожде» министр Калиц провозглашает с твердолобой категоричностью:
— Мы африканеры. Африканерами и останемся. Мы никому не позволим навязывать нам свою волю. И пусть весь остальной мир, подобно одержимым бесами свиньям, устремится в пропасть расовой терпимости и беспринципности. Мы не дадим сбить себя с избранного нами пути.
Крупный промышленник Мартин Мейнхардт не позволит себе такого кликушества. Ему часто приходится бывать в Европе и Америке, вести деловые переговоры с руководителями европейских и американских фирм. Он понимает, что такой тон произведет худое впечатление, скомпрометирует, вызовет неодобрение многих партнеров, считающих себя либералами. Да и думает Мартин, конечно, не так упрощенно.
Но в главном, в стремлении сохранить сущность нынешнего режима, оба эти человека выступают вместе, хотя Мартину Мейнхардту, может быть, и не хотелось бы этого признавать.
И в свои кризисные дни, понимая, что единственный сын готов отвернуться от него, он бросается к аргументам, которые ничем не отличаются от доводов Калица. О черных, об африканцах он говорит:
— Три столетия мы пытаемся цивилизовать эту страну, но они сами каждый раз губят все на корню.
О других белых — неафриканерах:
— Нас окружают англичане и евреи, готовые при первой же возможности подставить нам ножку…
И вообще обо всех чужих, неафриканерах:
— Понадобилось триста лет, чтобы мы завоевали право на жизнь в собственной стране. И пусть не думают, что мы без сопротивления что-то отдадим.
В пылу спора даже сам Мартин вдруг с изумлением видит, что он, считающий себя человеком современным, давно преодолевшим предрассудки, начал говорить словами своего отца, ярого африканерского националиста, входившего во время второй мировой войны в профашистскую организацию Оссева-Брандваг, готовую стать на сторону Гитлера, лишь бы одолеть ненавистных англичан.
— Нам, африканерам, — говорил ему отец, — пришлось много хлебнуть в жизни. Даже сейчас находятся люди, косо смотрящие на нас лишь потому, что мы африканеры. Мы должны доказать им, на что мы способны. И будем доказывать это изо дня в день, пока они не научатся уважать нас.
В чем же живучесть таких настроений? Накануне и во время второй мировой войны их использовали организации, которые сотрудничали с Гитлером, да и сейчас на них играют те, что ничуть не лучше. Этим настроениям поддается и Мартин, бизнесмен, казалось бы, вполне современного западного типа. Откуда же эта застарелая горечь, ущемленность, на которой могут играть самые злые силы?
Причин, наверно, немало, и они причудливо переплетаются между собой. Буры в течение многих поколений считали, что их прародина, Европа, относится к ним пренебрежительно.
Что и говорить, буры на протяжении сотен лет нередко становились мишенью критики, а то и насмешек. Уходя в поисках новых мест все дальше в глубь Африканского континента, они удалялись и от европейской культуры. Во многих семьях Библия становилась единственной книгой, а читать и писать умел нередко только глава семьи. Кальвинизм, каким его знала Европа в середине XVII столетия, законсервировался у буров на много поколений. И претензии бурских переселенцев, будто они несут африканским племенам свет цивилизации, воспринимались в Европе и Америке, мягко говоря, с недоумением даже в период господства колониализма и колониальной идеологии.
Побывав на Юге Африки незадолго до англо-бурской войны, Марк Твен писал в своей своеобразной манере: «Черный дикарь, которого вытеснил бур, был добродушен, общителен и бесконечно приветлив; он был весельчак и жил, не обременяя себя заботами. Он ходил голым, был грязен, жил в хлеву, был ленив, поклонялся фетишу; он был дикарем и вел себя, как дикарь, но он был весел и доброжелателен.
Его место занял бур, белый дикарь. Он грязен, живет в хлеву, ленив, поклоняется фетишу; кроме того, он мрачен, неприветлив, важен и усердно готовится к вступлению в райскую обитель — вероятно, понимая, что в ад его не пустят».
Пусть это шутка — и о буре, и о «дикаре». Но великий американец писал и вполне серьезно:
«Суммируя все добытые мною сведения о бурах, я пришел к следующим выводам:
Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чернокожим слугам, ленивы, искусны в стрельбе и верховой езде, увлекаются охотой, не терпят политической зависимости, хорошие отцы и мужья… еще до недавнего времени здесь не было школ, детей не учили; слово «новости» оставляет буров равнодушными — им совершенно все равно, что творится в мире…»
Правда, мужество буров в войне с Англией на какое-то время отодвинуло на второй план эти оценки, но даже в те годы они не были полностью забыты. В чем-то они верно характеризовали патриархальное бурское общество времен оома (дядюшки) Крюгера, президента Трансвааля.
Отсюда метания таких людей, как Мартин Мейнхардт, первого поколения африканерских промышленников и финансистов современного типа. Их детство, их воспитание связано с прежней жизнью: ферма, скот, батраки-африканцы, стародавние традиции. А теперь — большой бизнес, транснациональные корпорации. Мир, в котором нет места той отцовской ферме — она уже обуза, и ее, вместе с могилой отца, надо продавать.
И все это на фоне быстрых перемен в той громадной Африке, на самом юге которой обосновались буры-африканеры. За последние двадцать лет исчезли почти все крупные белые общины на этом материке. Французских поселенцев в Алжире был миллион. Где они теперь? Почти все во Франции. Много ли осталось португальцев в Анголе и Мозамбике, а ведь там они жили со времен великих географических открытий. А тут, на самом юге, разве не назревает буря?
И все это в одном поколении. Вчера — жизнь на далекой ферме, сегодня — международный бизнес. А завтра?..
Отсюда у Мартина и раздвоенность, и одиночество. Как далек он даже от собственной матери. Видит, что она не может его понять. И чувствует «странную зависть к ее глубокой, темной и простой вере». И он ей бесконечно далек, хотя она и пытается оправдать его, не только как своего сына, но даже как представителя иной социальной силы:
— Может быть, для нашего народа было необходимо создать тип человека вроде тебя. Иначе бы мы пропали.
Не находя общего языка с матерью, женой, любовницей, сыном, он ищет опоры в традициях, оправдания — в давней национальной горечи.
«Если вы обратитесь к истории…» — фраза, рефреном звучащая в романе «Слухи о дожде». Герои его постоянно ищут в истории оправдания своих поступков.
Африканец Чарли Мофокенг бросает африканерам обвинение:
— История научила вас никому не доверять, вот и все. Вы так и не научились уживаться с другими людьми. Когда дела становятся плохи, вы грузите вещи и уезжаете или, заслонившись Библией, прицеливаетесь и стреляете. На свободных пространствах вы разбиваете лагеря, окружаете их заборами. А когда вам становится мало своей земли, забираете чужую. С оговоркой об аренде или без оной.
— Вы несправедливы, Чарли, — парирует Мартин. — Я, так же как и вы, лишь унаследовал определенный порядок вещей. Нельзя же упрекать человека за то, что делали его предки.
Историческое прошлое — разговоры о нем, апелляция к нему, поиски аргументов в недавнем и даже далеком прошлом — занимает в книге очень большое место. Это вполне оправданно — южноафриканская общественная жизнь и политическая борьба изобилуют спорами об истории.
Есть несколько событий африканерской истории, вокруг которых особенно жарко спорят на страницах романов Бринка — как и в реальной южноафриканской жизни.
Первое из них относится к седой древности. В 1652 году, 330 лет тому назад, первые голландские поселенцы появились на мысе Доброй Надежды и вскоре основали там Капскую колонию («колонию на Мысе»), Впоследствии, расселяясь в глубь страны и захватывая все новые земли, они создавали обширные фермы и самих себя называли бурами (по-голландски — «фермерами», «крестьянами»). Вскоре к ним присоединились французские гугеноты из Ла-Рошели, бежавшие от преследований католической церкви, после того как Людовик XIV отменил Нантский эдикт о веротерпимости, принятый его дедом, Генрихом IV.
Так вот, один из самых острых споров сейчас — это вопрос о приоритете. Сторонники нынешних порядков в ЮАР утверждают, что пришли на самую южную оконечность Африки раньше «черных» и потому имеют здесь преимущественные права.
Как это доказывается? Дело в том, что многочисленные народы языковой группы банту, населяющие сейчас южную половину Африканского континента, тогда еще не обитали на землях, составляющих западную часть Южно-Африканской Республики. Там жили народы кой-кой (готтентоты) и сан (бушмены). По нынешней, официально принятой властями ЮАР расовой классификации населения кой-кой и сан отнесены к цветным вместе с метисами. Вот и выходит, что белые, буры, пришли на Юг Африки раньше африканцев, черных.
И так далее, в течение всех этих 330 лет.
Первые столкновения с народом коса. Когда-то именно этот народ в Южной Африке называли «кафрами» (от арабского — «неверный, язычник»), потом же это слово стало бранной кличкой по отношению к африканцам.
Позднее непрестанные притеснения уже самих буров со стороны англичан, которые во время наполеоновских войн захватили Капскую колонию. Антианглийское выступление буров в округе Храфф-Рейнет. Казнь бурских мятежников в Слахтерс-Неке.
Великий трек — Великое переселение. Во второй половине 30-х годов прошлого века множество бурских семей, решив уйти из-под британского владычества, погрузили свой скарб в большие фургоны, запряженные десятками волов, и отправились на север. Переселение заняло несколько лет. Останавливаясь на ночевки или на длительный отдых, каждый отряд разбивал лагерь, вокруг которого, впритык друг к другу, ставились фургоны. Из-за них можно было отстреливаться, отражать нападения зверей или враждебных племен.
С тех пор слово «лагерь» приобрело в сознании буров совершенно особый смысл. С ним связано представление о товариществе, о взаимовыручке вплоть до самопожертвования, о единстве буров в борьбе против любых внешних опасностей.
Эту-то идею и стремятся поставить себе на службу нынешние власти ЮАР, призывая всех африканеров под свои знамена сражаться против всей Африки «спиной к стене» или «пока потоки крови не омоют уздечки наших коней» (эти слова, использованные Бринком в романе «Слухи о дожде», были действительно произнесены одним из лидеров южноафриканского правительства).
С самим Великим переселением связано немало событий, о которых в Южной Африке непрестанно спорят. Упомянутый Бринком Питер Ретиф, вождь одной из переселенческих групп, добивался, чтобы верховный правитель зулусов Дингаан отдал бурам часть своих земель. Во время переговоров зулусы убили Ретифа и нескольких его спутников. Обстоятельства, при которых это произошло, так и остались невыясненными. Но буры обвинили зулусов в «коварстве», и большая их группа, собравшись вместе, договорилась отомстить. В битве с зулусами 16 декабря 1838 года они убили три тысячи зулусских воинов. Вода в реке, на которой шло сражение, окрасилась в красный цвет, и с тех пор ее называют Кровавой рекой. А день этот — 16 декабря — стал и остается до сих пор государственным праздником. До недавнего времени его называли Днем Дингаана, а потом переименовали в День соглашения.
Затем серия новых притеснений со стороны Англии. Буры вышли к юго-восточному побережью Южной Африки, основали там республику, но англичане отняли у них эти земли и назвали своей колонией Наталь.
Сколько же у буров к тому времени накопилось ненависти к англичанам! Мартин Мейнхардт припоминает, что Мелани Мейнхардт, должно быть, его прапрабабка, после аннексии Наталя Англией в 1843 году «была в числе женщин, объявивших, что они скорее перейдут босиком через Драконовы горы, нежели вновь станут жить под английским владычеством».
И новые переселения. Образование бурских республик на реках Вааль и Оранжевая: Южно-Африканской Республики (Трансвааля) и Оранжевого свободного государства (Оранжевой республики). Английская аннексия Трансвааля в 1877 году. Первая освободительная война буров в 1880 — 1881-м. Алмазная лихорадка в Кимберли, у границ Капской колонии. Золотая горячка в области Витватерсранд, в Трансваале. Схватка за золото приводит в 1899 году ко второй англо-бурской войне, той, которая вызвала тогда сочувствие к бурам во всем мире.
Поражение буров и создание английского доминиона Южно-Африканский Союз в 1910-м. Новая попытка восстания — в 1914-м, во главе с генералом Бейерсом. Выдвижение Яна Смэтса, который выступал за компромисс с Англией.
Но пробивали себе дорогу все больше не идеи Смэтса, а лозунги крайних африканерских националистов, игравших на чувстве униженной англичанами национальной гордости буров.
Разорявшиеся бурские фермеры шли в города, на рудники, на фабрики. Но где им было выдержать конкуренцию с квалифицированными английскими рабочими! Во время экономического кризиса начала 20-х годов шахтовладельцы даже решили избавиться от горняков-буров, заменив их африканцами, которым можно было платить куда меньше. И в марте 1922-го тысячи трансваальских горняков-буров подняли вооруженное восстание. Правительство Южно-Африканского Союза (состоявшее и тогда в основном из буров, хотя это и был британский доминион) бросило против них десятки тысяч солдат и вооруженных фермеров. После разгрома восстания пять тысяч рабочих были арестованы, а нескольких «зачинщиков» сразу же повесили.
Но правящие классы вынесли из этого восстания урок. Поняли, что в стране, где против них стоит все небелое население, нельзя настраивать против себя к тому же еще и белый пролетариат.
И бурских рабочих стали подкупать все больше и больше. Сперва на это еще не хватало денег и действовали больше идеологической обработкой: старались вызвать национальную гордость, чувство расового превосходства. Министр юстиции Тилман Роос, обращаясь к собранию безработных бурских рабочих, которые буквально не имели рубашки на теле и ничего не ели в тот день, взывал:
— Я обращаюсь к вам как к аристократам, так как каждый из вас — господин и аристократ.
Созданный в 1918 году «Брудербонд» разработал целую систему методов, как собрать африканеров под националистическими и расистскими знаменами. Его лидеры впоследствии во многом учились у Гитлера. Тот ведь тоже, взращивая национализм и расизм, сумел, на горе всему человечеству, обмануть и обработать немалую часть немецкого народа — народа Гёте и Гейне, Маркса и Энгельса, Гегеля и Фейербаха.
Обманывать и обрабатывать буров было, пожалуй, легче. У них не было такой высокой культуры. Чувство униженной национальной гордости — горше, а расизм уже давно отравил сознание многих из них. И посулы — потеснить англичан, увеличить долю бурских землевладельцев в эксплуатации небелого населения, сделать их монополией доходные государственные должности, дать им место под солнцем в промышленности и финансах, где всегда господствовал английский капитал, — разве это не было заманчиво, особенно для людей честолюбивых, желавших сделать карьеру, пробиться наверх…
В 1948 году Националистическая партия пришла к власти. Апартеид стал государственной доктриной. И с тех пор — правительства Малана, Стрейдома, Фервурда, Форстера, Боты. Одно мрачнее другого… Двадцать лет назад страна перестала быть британским доминионом, правительство провозгласило ее Южно-Африканской Республикой. Таково было когда-то официальное наименование Трансвааля. И власти ЮАР заявили, что цель достигнута, бурский республиканизм восторжествовал.
Да, страна теперь именуется как когда-то Трансвааль. Государственный аппарат в руках африканеров. Среди африканеров появились воротилы промышленнофинансового мира. Мартин Мейнхардт у Бринка — пример тому. Рабочих-африканеров, во всяком случае многих или даже большинство из них, удалось подкупить — прежде всего зарплатой, куда более высокой, чем у африканцев.
Но правительство снова и снова взывает к историческому прошлому. Снова и снова повторяет, что судьба африканеров как была, так и остается трудной, что у них полно врагов — и в своей стране, и в Африке, и во всем мире. Зачем все это опять? Ну как же! Если у народа такая трудная судьба, то он и теперь должен быть сплочен, един. Сплочен вокруг своих руководителей, то есть нынешнего правительства. Снова — лагерь, лагерь, лагерь…
И значит, только тот и может считаться африканером, кто поддерживает власть. А кто сомневается или еще, не дай бог, спорит, критиканствует, бунтует, тот, значит, просто не африканер. Именно так и говорят о Бернарде Франкене, подлинном герое романа «Слухи о дожде»:
— Он больше не имеет права даже называться африканером.
Так власть пытается присвоить себе прерогативу отлучать несогласных даже от принадлежности к африканерскому народу.
Отчего она это делает? От полной уверенности в своей силе?
Вряд ли. Очень уж быстро растет число врагов у этой власти — и внутри страны, и во всем мире. В наши дни достаточно посмотреть политические новости в любой крупной газете, чтобы убедиться в этом.
Ну а как же с оппозиционными настроениями в среде самого африканерства? Андре Бринк детально показал поведение и мышление сторонников апартеида. Их психологию. Расист у него — это человек во плоти и крови, а не ходячая схема, как у изрядного числа авторов. Уже это важно и интересно.
Но еще важнее и интереснее другое — образы африканеров, поступающих или хотя бы думающих иначе.
Об этом до Бринка писали мало. Да и жизнь давала не так уж много материала.
У Бринка один из героев, Бернард Франкен, — лидер южноафриканского подполья. Он показан в основном как человек уже сложившихся взглядов.
Другой, Бен Дютуа из романа «Сухой белый сезон», проходит путь от первых сомнений в справедливости существующего порядка до решимости разоблачать его.
К третьему, еще совсем молодому человеку, Луи Мейнхардту, сыну Мартина, понимание пришло почти сразу, за несколько недель, — ему помогла прозреть «грязная война» в Анголе, куда его послали как новобранца. В нем пока еще больше говорят эмоции. Он еще многого не сознает. Не понимает, какова на самом деле роль кубинцев в Анголе. И когда он произносит «Nkosi sikelel’ iAfrica» («Господи, благослови Африку»), он, может быть, еще не очень представляет, что означает этот гимн Африканского национального конгресса (АНК), крупнейшей политической организации африканского населения ЮАР. Но на уговоры отца он уже бросает:
— Тебе легко говорить. А когда сам попадаешь в это месиво, поневоле начинаешь задумываться, почему так случилось. Начинаешь задумываться, за что воюешь, во имя чего убиваешь и во имя чего убьют тебя. Кому охота, чтобы его голова разлетелась на куски только ради того, чтобы это дерьмовое государство не пошатнулось.
И еще:
— Начинаешь понимать, что порядок в этой стране держится только потому, что нам всем плевать на нашу совесть.
И уж совсем приходит в бешенство, когда отец все-таки уговаривает его стать полезным гражданином.
— А чего ради мне становиться полезным гражданином этой чертовой страны?
Отец пытается было привести ему обычный довод:
— Пусть не думают, что мы без сопротивления отдадим все это.
Но получает в ответ:
— Разве дело в том, отдадим или не отдадим? Это лишь вопрос времени, когда у нас отберут все. Если мы не научимся делиться с другими.
Наконец, еще один образ у Бринка — это Йоханн Дютуа. Он еще моложе. Подросток. Он вряд ли многое успел понять, но, чтобы поддержать отца, уже противопоставил себя правоверной матери и сестрам.
— А я все знаю, — говорит он отцу запальчиво. — А стыдиться тебя стану не раньше, чем ты сам сдрейфишь. Понятно?
Бринк убедительно показал, как трудно африканеру — именно африканеру — выступить против существующего порядка. Ведь общепринято думать, что этот порядок создан твоим собственным народом. Значит, ты выступаешь против своего же народа!
Бену Дютуа его тесть, сенатор, так и говорит:
— Бен, Бен, как ты можешь вставать на сторону врагов собственного народа?
Так считает сенатор, один из столпов этого режима. Но и от журналистки Мелани Брувер, от своей единомышленницы, Бен слышит грозное предупреждение, что его, африканера, власти сочтут себя вправе считать изменником и расправиться с ним соответственно.
— Бен, они могут все, что угодно. Запомните, вы — африканер, вы один из них.
А ведь еще до начала борьбы любому из них — такому, как Бен Дютуа, — нужно было очень многое перебороть в самом себе. Расовые предрассудки внушались ему с самого детства. Капризного ребенка пугали «кафром»:
— Кушай хорошенько, а то придет кафр. Не пойдешь спать, тебя заберет кафр.
Даже Бернард признает:
— Когда я впервые пожал руку чернокожему, мне казалось, что я не смогу брать этой рукой пищу.
И еще одна трудность, стоящая перед африканерами. Ее нельзя недооценивать. Мелани Брувер говорит об этом Бену, сравнивая его положение с положением африканцев:
— Им нечего терять, только жизнь. Да и можно ли это прозябание назвать жизнью? Хуже некуда… Но вы. У вас есть все, что человек может потерять. Вы-то как же?
Да, этим людям, африканерам, есть что терять. И это делает выбор еще труднее.
Вот и причины, почему пока еще сравнительно мало африканеров встало на сторону южноафриканского Сопротивления. Бринк говорит об этом убедительно.
И столь же веско показывает причины, которые все-таки могут заставить африканера задуматься. Даже такого, кто не очень интересуется политикой, кто судит о Южно-Африканской коммунистической партии, исходя из определения коммунизма в Законе о подавлении коммунизма, а об Африканском национальном конгрессе — по закону о его запрещении. Даже такого, кто не вдумывался в абсурдность обвинений, предъявляемых «заговорщикам» на бесчисленных политических процессах, не очень вспоминал о судьбе заключенных на острове Роббен и не считал такими уж несправедливыми законы, по которым любого жителя страны можно посадить в тюрьму на 90 или даже 180 дней без предъявления каких-либо обвинений.
История жизни Бена Дютуа наглядно показывает, как даже людей, не очень интересующихся политикой, обстоятельства шаг за шагом могут заставить встать на сторону униженных и угнетенных.
Потому что апартеид, как бы он ни резал живое тело страны, какие бы ни воздвигал пропасти между людьми, все-таки не может вконец уничтожить их влияние друг на друга, их взаимную зависимость.
Самые продуманные мысли о стране и ее будущем принадлежат в этой книге Бернарду, герою романа «Слухи о дожде».
Образ Бернарда создавался Бринком явно под влиянием реального человека — Абраама Фишера. Фишер происходил из африканерской аристократии. Его дед, тоже Абраам Фишер, был премьер-министром, а отец — верховным судьей Оранжевого свободного государства. Да и сам Фишер был известным адвокатом. В 30-х годах он стал коммунистом, затем — одним из руководителей компартии, а в середине 60-х годов перешел на нелегальное положение, возглавил подпольное революционное движение. Его выследили, арестовали, присудили к пожизненному заключению. Когда он уже находился в тюрьме, ему была присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».
Нельзя сказать, что Бринк прямо срисовал своего Бернарда с Фишера. Нет. Бернард дан как человек другого поколения, намного моложе Фишера, с иной биографией. Но в текст романа «Слухи о дожде» Бринк как слова Бернарда включил целыми страницами речь Фишера — последнее его слово на суде перед вынесением приговора.
Эту речь, Фишер произнес ее 28 марта 1966 года, справедливо сравнивали с речью Георгия Димитрова на процессе о поджоге рейхстага.
Эта речь, да и вся судьба Фишера придают особую убедительность книге Бринка.
Андре Бринк не поддался соблазну — такому распространенному — величать свой народ самым передовым и непобедимым, все его беды объяснять кознями и происками других — чужеземцев, иноверцев.
А как легко можно было таким путем снискать славу патриота! И не только у властей, но и у большей части самого народа — у людей, не привыкших думать и уж тем более не желающих хоть сколько-то критически поглядеть на самих себя и на себе подобных. Как ведь легко было сыграть на той болезни взаимных предрассудков, ксенофобии, что приносит здоровью человеческого общества больше вреда, чем рак и инфаркты.
Бринк выбрал тяжелый путь — ох какой тяжелый. Он решил стать не лжепатриотом, а подлинным патриотом. И начал говоритьсвоему народу правду. А правда — сколько в ней неприятного!
Выступи Бринк против чужого расизма, чужого национализма — ему бы рукоплескали.
Но он выступил против расизма своих «соплеменников», против собственного национального эгоизма, чванства, тупости, близорукости — тех черт, которые для любой группы людей, как бы велика она ни была, так же пагубны, как и для каждого отдельного человека.
В рецензии на «Сухой белый сезон» журнал Южно-Африканской компартии «Африканский коммунист» выделил то место, где Бен Дютуа рассуждает о понятии «мой собственный народ». Он извечно воспринимал его как само собой данное и вдруг увидел, что он больше не знает, что входит в это понятие. Те, кто пытают и истязают в тюремных камерах? «Кому я обязан сохранять лояльность?» И как же «другие» — не африканеры, но жители его родной страны? Каковы его обязанности по отношению к этим людям? И прежде всего к африканцам?
Бену Дютуа было страшно подумать об этом. Но он ведь только думал — держал в себе, не кричал на площади. А Бринк обнажил язвы своего народа перед всем миром. Он заявил о них вслух, громко, и не только на площадях родных городов. Хотя знает, чего это может ему стоить. В своей книге он пишет: «У нас, африканеров, правило — не выносить сор из избы».
Может быть, самые важные слова в этой книге автор произносит устами Бернарда.
— Итак, господин судья, в один прекрасный день я понял, что не могу более терпеть смирительную рубаху, накинутую на нашу страну и ее прошлое. Это означало, что мне придется бороться против своего народа, против тех самых африканеров, которые в прошлом сами боролись за свободу, а теперь взяли на себя миссию распоряжаться судьбами других народов.
Для того чтобы выжить в Южной Африке, сейчас, как никогда ранее, необходимо открыть глаза и прислушаться к собственной совести. А нас учат ничего не чувствовать и ни над чем не задумываться, иначе ты станешь нежелателен. Другими словами, парадокс заключается в следующем: чтобы выжить, нужно отказаться от самой жизни. А стоит ли такая игра свеч?
И наконец:
— Я мог бы извлекать выгоду из своего положения, пока оно существует. Или же я мог встать на путь полного бездействия. Но я мог сделать и другой выбор: обрести свою свободу, свободу мыслящего и чувствующего человека, отказавшись ради свободы других от всего, что я мог бы получить не за свои личные заслуги, а лишь по праву рождения, — а это и есть своего рода рабство. Ибо никто так не угнетен, как сам угнетатель.
Важная мера зрелости народа, как и отдельного человека, — это умение отнестись критически к самому себе, видеть свои собственные слабости, недочеты, ошибки. И может быть, появление крупного писателя, критикующего свой народ, — это уже свидетельство нового шага в развитии самого народа?
Бринк и сейчас живет в Южно-Африканской Республике, хотя романы его и подвергаются запретам, да и самому ему, должно быть, бывает по-настоящему страшно. Живет с надеждой, что сухой сезон все-таки кончится и живительный дождь оросит землю.
Аполлон Давидсон
Слухи о дожде
О влаге молишь, но только кровь И только пламя, моя страна. Брейтен БрейтенбахGerugte van Reën
Human & Rousseau
Kaapstad en Pretoria
1978
Перевод A. Славинской
Редактор И. Клычкова
Комары. Тучи комаров облепили ветровое стекло, а дворники не работают. Почему-то именно это вспоминается мне прежде всего, стоит подумать о том уикенде. Но одних воспоминаний мне теперь недостаточно. Пора наконец разобраться, что же произошло в те дни с пятницы до понедельника. Разобраться? Ведь, казалось бы, я и тогда действовал вполне осознанно. И все же меня не покидало ощущение, будто что-то ускользает от меня, что-то потаенное, глубинное: вроде того, как порой просыпаешься с мыслью, что видел вещий сон — видел и забыл, — и хочется вернуть его, нырнуть в тот же поток вторично, и никогда это, разумеется, не удается.
Чего мне всегда не хватало, так это времени. Когда по двенадцать-пятнадцать часов в день занят всевозможными совещаниями, переговорами, контрактами, то времени для личной жизни почти не остается, а предаваться воспоминаниям становится и вовсе непозволительной роскошью. Но вот совершенно неожиданно мне выпали эти девять свободных дней в Лондоне (подобно непредвиденной остановке в пути) между конференцией Ассоциации содействия ООН, которую наша делегация была вынуждена покинуть сегодня, и деловыми переговорами в Токио, начинающимися в следующий четверг.
Не припомню, когда еще со мной такое бывало. Ощущаю даже некоторую подавленность — вероятно, с непривычки. Каждый раз в течение последних десяти лет, когда я позволял себе взять неделю-другую отпуска, мы всем семейством, с Элизой, Ильзой и Луи, отправлялись на море. Обычно я возвращался домой чуть раньше их, чтобы наверстать упущенное в работе. Даже в ту поездку на ферму я захватил с собой Луи. Удавалось, конечно, порой урвать денек для себя — чтобы побыть с Беа, — но и это всегда было спланировано заранее. Два года назад такой «денек» обернулся целой неделей в Мозамбике — незадолго до того, как Лоренсу-Маркиш стал называться Мапуту. Песчаная дорога на юг, сады, тощие куры, туземцы, машущие и ухмыляющиеся нам вслед в тучах поднимаемой нашей машиной пыли, а затем в сумерках красно-желтые коттеджи Понто-де-Оуро. Непривычная оторванность от мира — ни радио, ни газет, рота португальских солдат на обшарпанных бурых грузовичках, хромой чернокожий мальчишка, которого солдаты повсюду возили с собой как талисман, а по ночам, когда духота выгоняла нас из дому, сон на берегу моря под натиском москитов, песчаных блох и еще бог знает кого.
Но на этот раз я в полном одиночестве. Ничего не планируя заранее, я остался совершенно один в эти будто с неба свалившиеся девять дней. Даже как-то страшно, хотя и заманчиво до головокружения. Не перед кем отчитываться, не с кем считаться. Никаких обязательств, никаких неотложных дел. Наедине с самим собой. Никому даже не известно, в каком отеле я остановился. Конечно, я мог бы уже сегодня вечером улететь вместе с нашей делегацией в Йоханнесбург; год назад я, ни минуты не колеблясь, так бы и поступил. Но это означает еще два перелета за неделю, и что-то во мне восстает против этого, сопротивляется. Может быть, старею. А может быть, я просто достиг определенного рубежа, переходить через который не следует, пока не приведешь в порядок то, что осталось позади. А нынешний неожиданный поворот событий как раз позволяет мне такую роскошь. Или это не роскошь, а необходимость? Я не вполне в ладах с самим собой, пожалуй, мне стоит попробовать изложить все на бумаге. Это считается эффективным средством аутотерапии.
Действительно ли в событиях тех дней было нечто нереальное, не решаюсь сказать, апокалипсическое, или мне так кажется только теперь? В юности, когда я был человеком весьма романтического склада и серьезно подумывал о писательстве, я назвал бы их «крушением привычного мира… последними днями…» или как-нибудь еще в том же мелодраматическом духе. Но романтика подувяла, и даже сохраненное мною чувство юмора, по словам Беа, всего лишь единственный положительный аспект моего цинизма.
Тогда была поставлена на карту ферма. Разумеется, не просто как участок земли. Отказ от фермы стал необходим и неизбежен. Бывает, все разом кончается, хотя, сам еще не понимаешь, что это уже конец. Четырехкратный отказ. Друг, отец, сын, любимая женщина. Не исключено, что в будущем придется отказаться еще от многого.
Впрочем, не хочу ничего предсказывать. (Что отнюдь не легко, когда уже столько лет постоянно имеешь дело с цифрами, статистикой, проектами и прогнозами — неотъемлемыми составными свободного предпринимательства.) Но сейчас мне нужно пробиться к чему-то существенному, скрытому за поверхностным многообразием фактов. Только без самокопания и самообнажения, модных нынче в некоторых кругах, — моя кальвинистская натура не вытерпела бы такого стриптиза.
Мне просто хочется — лишь для себя самого, а не для кого-то другого — разобраться в том, кто я таков, и посмотреть, к чему это приведет. Интеллектуальное упражнение вроде шахмат. (Моя «фотографическая» память многих удивляет и нередко дает мне в переговорах преимущество над оппонентами.) Или давайте назовем это разновидностью духовного массажа. Массаж расслабляет мышцы, успокаивает нервные окончания и в конце концов благодаря правильному ритму опытных рук приводит к полному расслаблению, которое, не причиняя вреда, обусловливает возможность нового старта.
серо-голубому ковру и продолжал лежать на спине, удовлетворенный, с закрытыми глазами. Я лежал голый, лишь с маленьким белым полотенцем на том месте, которое моя мать называла когда-то «хозяйством».
Интересно, запоминает ли такая массажистка клиентов? Возможно, эта оказалась наблюдательной: мужчина средних лет, крепкого сложения — как они обычно выражаются? — с благородной внешностью, темные волосы с сединой на висках, «римский» нос, чуть располневшая талия. Люди сильно проигрывают без одежды.
Имея дело с этими девицами, часто сталкиваешься с враньем: они уверяют тебя, что служат секретаршами или продавщицами, или даже учатся в колледжах и просто подрабатывают таким образом. Девушки с Востока более старательные, честные, да и симпатичные, поэтому я обычно требую именно их. У сегодняшней — я не спросил, как ее зовут, — навыки профессиональной массажистки. Я не люблю разговаривать, когда мной занимаются (да и о чем тут говорить?), хотя некоторые из них, по-видимому, считают болтовню включенной в прейскурант. Но не эта. Я лежал сначала на животе, потом на спине, а она занималась мной молча, спокойно и добросовестно. А под конец с должной нечаянностью провела где нужно рукой, и продолжение было оговорено улыбкой, кивком и минимумом слов по поводу тарифа. Она сразу же вышла в ванную, и я услышал шум воды. Минут через пять она появилась голая, выглядя еще более хрупкой, чем в одежде. Изящная девушка с тонкими запястьями и лодыжками, узкими бедрами и едва наметившейся грудью, как у четырнадцатилетней. Я долго лежал, лениво поглаживая ее.
Что это, изнеженность в духе восточного паши или высокомерие крайнего мужского шовинизма? Или просто наиболее удобный способ для сердечника моих лет? (После того свидания с Беа у меня еще ничего в этом роде не было.) Однако могу совершенно определенно сказать, что предпочитаю именно такую пассивную готовность женщины, не ждущей от вас ничего, кроме денежного вознаграждения, и ничего не требующей от вас по истечении спокойного часа вашей близости (замечательный, чисто романтический эвфемизм). Эта ситуация — одна из немногих, в которых остаешься совершенно свободным, не берешь на себя никакой ответственности и не возлагаешь ее на партнера. Ничего не нужно доказывать или подтверждать, завоевывать или завершать, не нужно прилагать усилий, чтобы из разговоров о прошлом выведать ее сегодняшние намерения, — сама ситуация исключает все это как не имеющее никакого значения. Такая связь не грозит вашему статусу, вашей независимости и неприкосновенности. Эта женщина ничего не требует и не ждет. С ней нет нужды ломать комедию, стараться понравиться, добиваться ответа на свои чувства. Она полностью в вашем распоряжении и, если вы ей хорошо заплатите, согласна буквально на все.
Если бы я спросил, как ее зовут, она, скорее всего, назвала бы вымышленное имя. Солгала бы, спроси я что-нибудь о ее жизни. Впрочем, точно так же поступил бы и я, вздумай она меня расспрашивать. И все же в такой ситуации есть мера абсолютной честности, куда более существенной, чем биографические данные. В самом характере нашей сделки, в природе нашего контакта нет никакой двусмысленности — спрос и предложение находятся в полном равновесии. А поэтому исключается обман, или предательство, или возможность разочарования. Но все это отнюдь не значит, что мы презираем друг друга. Напротив, я готов утверждать, что чувство, которое мы испытывали в нашей обоюдной наготе и анонимности, было уважением. Я подметил, что в такие часы случается порой ощутить большую близость, чем в ходе долгого романа. Потому что в любой роман вмешивается слишком много постороннего, вас никогда не оставляют в покое, на вас возлагают обязательства и лишают свободы. Говоря так, я вовсе не пытаюсь бросить тень на мои отношения с Беа. Вероятно, мне все же следует признать, что, как это ни странно, ее я никогда до конца не понимал. Из всех вовлеченных в те памятные события она так и осталась самой загадочной, самой непостижимой.
* * *
В бумажнике я всегда ношу фотографию Элизы и Ильзы, жены и дочери (в деловых переговорах с чадолюбивыми латинянами это не раз помогало мне успешно заключить контракт), но именно Беа я вспоминаю яснее всех. Беа — в свободном свитере и юбке из толстой хлопчатобумажной ткани, в простых туфлях или сандалиях, короткие черные волосы, узкое лицо с высокими скулами, большие глаза, тлеющие за темными очками, призванными скрыть близорукость, прямой нос, широкий рот, твердый подбородок, руки с длинными пальцами и обкусанными ногтями. Не красивая в общепринятом смысле (как-то раз я входил в состав жюри, избиравшего Мисс Южная Африка), но наделенная силой и незаурядностью, пожалуй более притягательными, чем просто красота.
Пылкая Беа. Ей бы впору командовать армией, думал я иногда еще до тех событий. Она могла бы вести народ на баррикады или бросать бомбы в Белфасте — если б только нашла то, во что смогла бы безоговорочно поверить. Но при этом слишком интеллигентная, чтобы слепо поклоняться чему-то одному, чтобы отдаться этому всей душой. Страстная, мятежная, не терпящая компромиссов и, увы, обреченная.
Не потому ли я постоянно старался оберечь ее? Безнадежная затея. Ведь в глубине души она всегда оставалась абсолютно независимой: «И ради бога, оставь свои попытки захватить меня. Вы, африканеры, во всем империалисты. Вам всегда нужно быть хозяевами, даже в любви».
Вы, африканеры. Сколько раз я слышал это от нее. Иногда это произносилось раздраженно, иногда с насмешливым пожатием плеч, часто она язвила совершенно намеренно. Но порой я спрашивал себя: не завидует ли она мне? Я африканер, а кто она? У нее был такой же зеленый паспорт с этой ужасной фотографией. Но мать ее была итальянка, а отец, по-видимому, немецкий солдат, прибывший в некий момент в Перуджу и вскоре двинувшийся дальше. После войны семья перебралась к двоюродным братьям матери в Америку, а когда Беа исполнилось семь — ее мать к этому времени уже умерла — она вместе с отчимом-венгром переселилась в Южную Африку. Единственной опорой ее юности была католическая вера. До тех пор, пока Беа не обошлась с религией по-своему, сознательно искоренив ее в себе: «Надо научиться стоять на собственных ногах. Мне не нужны костыли. Я хочу смотреть миру прямо в глаза». И при этом всегда носила темные очки.
Тот же страх перед слепотой, одурманенностью, легким выходом, «костылями» во многом определил и наши отношения. Секс, например, никогда не играл в них решающей роли. В то время как в моих прочих мимолетных увлечениях тех лет он всегда был главным. Я часто размышлял, не пришли бы наши отношения сами собой к концу гораздо раньше, будь в них больше секса, как бывало у меня со всеми другими женщинами? Нет, конечно, мы спали, но не в этом дело. И отнюдь не потому, что так хотелось мне. У Беа хватало собственной воли и собственных неврозов. И все же я не встречал более страстной женщины — в те несколько раз, когда она позволила себе расслабиться. Она, по-видимому, хорошо знала необузданность своей натуры и боялась закусить удила. Может быть, она опасалась, что тогда секс захватит ее целиком и, следовательно, подчинит мужчине. А она хотела всегда оставаться хозяйкой положения.
Если не считать тех нескольких раз. Наша первая ночь после вечеринки у тетушки Ринни: попойка, шум голосов и запах пота доброй сотни гостей, опрокинутые стулья, падающие на пол бутылки, красивая старуха, невозмутимо стоящая посреди всего этого и декламирующая Блейка со слезами на глазах, — а затем шум ветра в листве платана под открытым окном и сознание того, что в соседней комнате находится Бернард. Надо же, сколь легко я орудую фразами. Может быть, стоит превратить эти записки в роман? Роман, который мне так хотелось написать в юности. Тогда у меня находили талант.
И конечно, день, когда мы назначили свидание на Дуллаб-Корнер. Мы часто поджидали там друг друга, заранее сговорившись пойти куда-нибудь: в закусочную по соседству, в дешевый ресторанчик в Хилброу или поехать за город. Я уже не помню, как и почему Дуллаб-Корнер стал «нашим» местом. Вероятно, из-за шума и пестроты этого квартала, оживленности, которой так легко заражалась Беа (вспомни Диагональ-стрит). Перед этой встречей мы не виделись месяц или два. Ничего чрезвычайного. Я некоторое время был в отъезде — Нью-Йорк, затем Бразилия, — а потом набежали другие дела, и, когда в тот день я подъехал, как мы и договаривались, к полудню на Дуллаб-Корнер, на месте, где раньше стоял дом, были одни развалины. После минутного замешательства я вспомнил газетное сообщение, промелькнувшее несколько недель назад: правительство решило переселить торговцев-индийцев из этого квартала в другой — там для них были построены дома. Торговцы единодушно воспротивились, и их пришлось переселять насильно (к счастью, ничего серьезного, всего несколько раненых и двое детей покусаны полицейскими собаками).
По правде говоря, меня все это не слишком занимало, с годами кожа грубеет, но Беа была совершенно потрясена. Ее реакция поразила меня, я едва мог поверить, что это та самая женщина, которую я, казалось бы, прекрасно знаю. Хотя, конечно, военное детство. Не следует забывать об этом. Ей было всего три года, когда мать увезла ее в Америку, но кто знает, что остается в подсознании ребенка. А ведь в Италии к концу войны было много бомбежек.
Когда я приехал на Дуллаб-Корнер, Беа еще не было. Из-за сноса здания места для парковки оказалось сколько угодно. Я вышел из машины и через щель в заборе стал смотреть на ревущие бульдозеры и на рабочих в оранжевых касках, снующих между грудами кирпича. Такие работы с самого детства привлекали мое внимание. Я был настолько поглощен этим зрелищем, что заметил Беа, лишь когда она тронула меня за руку.
Она сказала что-то вроде: «Ты здесь. А я думала, ты не приедешь».
Я: «Как это я мог не приехать? Мы же договаривались». Я хотел поцеловать ее, но она отвернулась.
Конечно, я не помню наш разговор дословно, только в самых общих чертах. Но может быть, стоит потренироваться для будущего романа? Попытаюсь.
— Я боялась, что ты проедешь мимо. — И в ответ на мое отрицательное покачивание головой: — А я проехала и через несколько кварталов вдруг поняла. Повернула назад и опять проскочила… Даже не верится. Как они посмели!
— Об этом сообщалось в газетах.
— Я все равно думала, что не посмеют. Мартин, это же было наше место.
Я невольно улыбнулся:
— Думаешь, им следовало спросить разрешения у нас?
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. — Ее глаза горели за толстыми линзами очков. — Они словно обокрали нас. Словно отняли частицу нас самих.
— Ну, с нами-то ничего не случилось.
— Не случилось? Ты уверен? — Она смотрела на забор и сразу же отвернулась. — Мы заглядывали сюда ненадолго, мимоходом и тут же уезжали. Дуллаб-Корнер… Может быть, тебе это и смешно, но он всегда оставался на месте, неизменный ориентир, такой надежный при всем своем уродстве, такой незыблемый. Я порой думала: когда-нибудь нас уже не будет, но что-то от нас сохранится. Останется Дуллаб-Корнер. И вот эти развалины…
— Нужно научиться принимать и развалины, — легкомысленно пошутил я. — Ведь они символ бренности.
Как странно, что я это сказал. (Да и сказал ли? А может, придумал только сейчас?) Особенно в связи с тем, что произошло чуть позже в тот же день, когда мои слова о бренности едва ли не стали реальностью.
Но, возвращаясь к нашему разговору:
— Пойдем отсюда, — сказала она. — Не хочется здесь оставаться. Я поеду с тобой.
— А твоя машина?
— Потом заберу. Сейчас я слишком не в себе.
— Может быть, пойдем в закусочную?
— Нет, давай уедем отсюда как можно дальше… За город.
В машине она закурила и долго сидела молча. Улицы были забиты транспортом, и мы очень медленно продвигались вперед, пока наконец не выехали за пределы города.
— Поразительно, — сказала она уже более спокойно, — всегда ищешь чего-нибудь, за что можно уцепиться. Соучастников прекрасного мгновения. Свидетелей. И забываешь о том, что отражение в зеркале исчезнет, чуть отойдешь в сторону. Нелепо, правда?
— А стоит ли глядеться в зеркало, если сам знаешь, кто ты на самом деле?
— А ты уверен, что знаешь, кто ты?
— Уверен.
— А я не уверена. — Она с улыбкой выпустила дым. — Это еще одно из твоих заблуждений, следствие твоего высокомерия. Как раз то, что так угнетает меня в тебе. А может быть, то, за что я тебя люблю.
— По крайней мере у меня нет такой каши в голове, как у тебя.
— Нет, — согласилась она и поглядела мне прямо в глаза. — Но ты африканер. А это, наверное, еще хуже.
весь остальной мир, подобно одержимым бесами свиньям, устремится в пропасть расовой терпимости и беспринципности. Мы не дадим сбить себя с избранного нами пути. Таковы в свободном пересказе слова министра Калица, произнесенные им на встрече с журналистами после того, как нашей делегации пришлось покинуть конференцию.
С его превосходительством не соскучишься. Все могло бы сложиться иначе, явись он вчера на прием для делегатов конференции: там можно было кое о чем договориться. Но в посольстве перед приемом он, несмотря на все наши попытки удержать его, основательно перебрал спиртного и раньше времени удалился к себе в отель. Откуда вслед за тем отправился в ночной клуб «Ревю Раймонды», что, к сожалению, не осталось незамеченным. Так сорвалось наше участие в конференции.
Расскажу немного о цели этой поездки. Ассоциация содействия ООН организовала конференцию по вопросу экономического развития стран «третьего мира» с акцентом на использование минеральных ресурсов. Это давало нашему Африканскому институту торговли прекрасную возможность для захвата ведущей роли в данной отрасли, а также для заключения ряда выгодных сделок и привлечения дополнительных капиталовложений. Как председатель Горной палаты АИТ я полностью поддержал эту идею и заранее условился о переговорах в Стокгольме с несколькими крупными импортерами. Но Калиц, едва прознав о конференции, весьма недвусмысленно дал понять, что намерен присоединиться к делегации и под прикрытием экономики заключить парочку политических сделок. И разумеется, президент АИТ уступил ему место руководителя делегации.
Но когда мы уже вылетели из Йоханнесбурга, этот факт приобрел широкую огласку и вызвал резкую реакцию в Лондоне: нас обвинили в том, что мы хотим превратить конференцию в политическую акцию. Дальнейший ход событий можно было предсказать наперед. У Калица не было приглашения на конференцию, но он не сомневался, что посольство быстро все уладит. Когда же выяснилось, что послу ничего не удалось сделать и Калиц не получил разрешения присутствовать на заседаниях, наша делегация в знак «солидарности» вынуждена была бойкотировать конференцию. Подобные неувязки нередко провоцируются людьми типа Калица; им в отличие от нас на все наплевать.
Да и чего еще ожидать от такого субъекта? Когда он стал министром, единственной примечательной его чертой были гитлеровские усики, которые с годами седели и как-то все уменьшались и уменьшались, пока не превратились, на взгляд не знакомого с их предысторией человека, в две серебристые сопли над верхней губой.
Его превосходительство, без сомнения, стремился содействовать экономическому развитию ЮАР и потому сразу же вошел во всевозможные акционерные общества, стал совладельцем скотоводческой фермы в Оранжевой провинции, винодельческой фермы и охотничьего хозяйства на юго-западе и наложил лапу на несколько стратегически важных участков земли в Восточном Капе.
Когда Калиц удалился в ночной клуб, мы совместно с послом составили деликатное заявление, которое надлежало обнародовать после того, как наша делегация покинет конференцию. И в соответствующий момент я вручил бумагу его превосходительству. Вероятно, это следовало сделать кому-нибудь другому; мы с министром недолюбливаем друг друга (чуть позже я расскажу о нашей восточнокапской конфронтации, ибо с практической точки зрения именно она была причиной и подоплекой всех тех апокалипсических событий). Он же полностью отказался от наших обтекаемых формулировок и в поисках дешевой популярности в африканерских кругах экспромтом объявил на пресс-конференции, что «мы не позволим этим сукиным детям командовать нами».
Но я не собираюсь сводить счеты с Калицем открыто — такие дела не по мне. Я расквитаюсь с ним позже, каким-нибудь другим способом. Хотя, должен признаться, он сильно испортил мне игру. Реферат, который я собирался представить на конференции («Месторождения полезных ископаемых в ЮАР и их стратегическое значение для свободного мира»), был рассчитан на такой резонанс — и здесь, и на родине, — который позволил бы мне в течение ближайших двух лет стать президентом АИТ. Вот уже почти двадцать лет, с тех пор как мы с Элизой вернулись из-за границы, я рассчитываю каждый свой шаг, как ходы в шахматной партии. Юрисконсульт, потом советник в горнопромышленной фирме. И когда подвернулся случай быстро выдвинуться и стать самостоятельным предпринимателем (детали в данных обстоятельствах не играют роли), я был к этому готов. С того времени я год за годом неуклонно продвигался вперед: покупка истощенных рудников, ставших неприбыльными для больших компаний, до той поры пока я не смог послать собственную геологоразведочную партию, акции, консорциумы, скупка и перепродажа недвижимости — каждый раз не без помощи связей в кабинете министров, хоть на шажок, но продвигаясь дальше. Я рассчитал точно: в горном деле африканеры еще слабы, конкуренция незначительная, — поэтому и сделал ставку именно на него — появлялся на ежегодных заседаниях АИТ, был замечен, поддерживал дельные проекты, помогал нужным людям, со временем стал выдвигать собственные предложения, пока не был выбран в правление. Как полководец, планирующий решающее сражение. И вот я стал тем, кто я есть сейчас. Моя штаб-квартира на одиннадцатом и двенадцатом этажах дома на Мейн-стрит. Штаб-квартира на двух этажах, но здание все принадлежит мне. Остальную часть я сдаю в аренду. Мои владения. Большая современная контора, производящая самое приятное впечатление благодаря обилию ковров, плексигласа и цветочных горшков, под неусыпной охраной секретарши с соколиным взором (сорокалетней и чрезвычайно опытной — после истории с Марлен я предпочитаю нанимать дам средних лет). Остальной персонал тут же — управляющий компании, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, геолог-консультант, инженер-консультант, младшие сотрудники — от клерков и чертежников до машинисток (эти молоды, привлекательны и податливы). И все это отнюдь не упало с неба. И ничто не произошло по воле слепого случая. Все было рассчитано заранее. И конференция должна была дать мне новый мощный импульс для движения вперед и вверх, не будь Калиц столь преступно глуп (преступно, ибо в накладе остался не только я, но и вся страна).
Ну ладно, на публике останемся друг с другом вежливы. У нас, африканеров, правило — не выносить сор из избы. В глазах мировой общественности будем с ним солидарны. Сразу же после ухода с конференции вся наша делегация во главе с его превосходительством отбыла самолетом в Йоханнесбург.
* * *
А я переехал в этот отель. И не потому, что я был против фешенебельного «Мейфэр», который покинул, хотя там за двадцать пять фунтов в день плюс чаевые нет даже бесплатного утреннего чая — в число бесплатных услуг входят только тараканы. Но, ощутив внезапно то, что в свой раннеромантический период я назвал бы «озарением», я решил до отъезда в Токио пожить в полном одиночестве и инкогнито.
Непривычно возбужденный неожиданной свободой, я тут же телеграфировал секретарше, что отправляюсь в короткий отпуск и появлюсь в конторе после переговоров в Токио. Затем позвонил жене и сказал, что на несколько дней уезжаю в Озерный край. Она вопреки ожиданиям оказалась несговорчива:
— А не лучше ли тебе приехать домой?
— Дом слишком близко от конторы. Меня не оставят в покое. Ты же знаешь.
— Мы могли бы уехать на несколько дней. — С неожиданным волнением в голосе: — Мы так давно никуда…
— Подумай хорошенько, Элиза. В конце следующей недели мне нужно быть в Токио.
— Если ты вылетишь сегодня вечером, то утром будешь дома.
Я вздохнул.
— У меня нет сил еще для одного перелета. Я устал. Я ведь, видишь ли, не молодею.
— Чепуха, Мартин. Тебе всего сорок пять. Что это на тебя нашло?
— Ты же знаешь диагноз.
— Как будто ты когда-нибудь слушал докторов. — И неожиданно: — Или кого-нибудь другого.
— Вот это уже чересчур, — резко возразил я.
— Прости, я не хотела. Но мне здесь тоже не сладко.
Я понял, что она имела в виду.
— Опять сложности с мамой?
— Лучше и не спрашивай. Она, конечно, не нарочно. Но она стремится взять все хозяйство в свои руки, а меня это раздражает. Я по-прежнему считаю, что ты совершил ошибку, увезя ее с фермы. Она слишком независима, чтобы жить в чужом доме.
— Мы все это уже не раз обсуждали.
— Обсуждали? Ты только сказал, что решил это сделать, и сделал. — Короткая пауза. — Послушай, Мартин, давай не будем к этому возвращаться, тем более по телефону. Это ни к чему. Я просто немного расстроена, я надеялась, что ты…
— Как Ильза? — намеренно перебил я.
— Бултыхается целыми днями с приятелями в бассейне. Никого не слушает. Знает, что ты ей все простишь.
Помолчав, я спросил:
— От Луи по-прежнему ничего?
— Конечно, ничего. — Она чуть понизила голос: — Сомневаюсь, услышим ли мы когда-нибудь еще о нем. Разве только, если… Ну ладно, пора кончать. Ты транжиришь деньги. — Теплым, но сдержанным тоном: — Береги себя, Мартин.
— Ладно. — Я помедлил и, неожиданно почувствовав угрызения совести, начал: — Элиза…
— Что?
— Да нет, ничего. Не беспокойся за меня. Не успеешь оглянуться, как я буду дома.
— Конечно. До свидания, Мартин.
В полном недоумении я продолжал сидеть у телефона, представляя, как она кладет трубку — но где она сейчас, в спальне или в кабинете? — мысленно следуя за ней по нашему дому. Отполированные, гладкие камни, которыми декорирована гостиная, сейчас, летом, даруют прохладу, а зимой подогреваются трубами отопления, ковры на полу в спальнях, керамическая плитка в остальных комнатах. Антиквариат, который благодаря превосходному вкусу Элизы удачно вписывается в современный интерьер. В нишах на полках ее поделки из глины, на окнах шерстяные портьеры крупной вязки. На стенах полотна: Пирниф, Венниг и другие южноафриканские художники, литография Пикассо, акварель Клее, приобретенная мной в Стокгольме. По обе стороны камина встроены книжные полки.
Снаружи «струящиеся линии», столь характерные для большинства проектов моего брата Тео, функциональные и радующие глаз, вероятно навеянные архитектурой Марокко. А дальше большой сад: газоны, деревья, даже три хлебных дерева — редкость в здешних краях; несколько лет назад мы потихоньку вывезли их с фермы на отцовском фургоне (тогда отец был здоров, ни намека на болезнь, и в те времена у нас еще была ферма). Теннисный корт, обрамленный тополями. Аквамариновые изгибы бассейна, в котором сейчас плещется Ильза с друзьями.
Курьезный случай на ее прошлом дне рождения, когда ей исполнилось четырнадцать. Ильза с дюжиной подружек дурачились в бассейне в своих неприлично открытых купальниках (Мать: «Они теперь вместо купальника носят фартучек и две маленькие салфетки»), а я, подобно патриарху, возлежал в шезлонге с воскресной газетой, время от времени посматривая на девочек. Неожиданно подняв глаза, я увидел, что Луи тоже разглядывает их. (Это было еще до Анголы и до всего прочего.) На секунду наши глаза встретились — он покраснел и невольно улыбнулся. И тут я впервые сообразил: о господи, моему сыну уже восемнадцать, мы с ним смотрим на девочек с одинаковым чувством. Как ни странно, меня это почти расстроило, словно я случайно выболтал ему что-то о себе.
Конец эпизода был куда менее забавен. Пока мы с Луи сидели — он с кока-колой, я с пивом — и делали вид, что не замечаем ни друг друга, ни этих гладеньких девочек, в кустах по другую сторону бассейна что-то зашевелилось. Я пригляделся и увидел там нашего садовника. Он тоже пялился на девочек, его лопата лежала забытая на земле. Наглая рожа. Мы наняли его только неделю назад. Знай я его лучше, я был бы снисходительней, но, имея в доме дочь-подростка, нельзя было рисковать. Пришлось его рассчитать. Впрочем, с двухмесячной компенсацией, так что обижаться ему не на что.
Подыскать замену оказалось нелегко, все они теперь заламывают чудовищную цену и притом не хотят работать. Раньше можно было нанимать заключенных. Это и помогло нам разбить такой сад. Бригада из двенадцати заключенных приходила раз в неделю и работала так, что сад вырастал прямо на глазах. Когда я был маленьким, мои родители тоже нанимали заключенных, но только раз в месяц — в засушливом Грикваленде с садами не развернешься. Четырнадцать дюймов осадков в год, и то лишь в хороший год. В засуху все превращается в камень и пыль. А засуха почти всегда. Растет только колючий кустарник. В его тени и укрывались от солнца заключенные, они доставали черный хлеб, нарезали ломтями и ели. Если охранник ненадолго отлучался, они просили детей принести им чего-нибудь. Обычно несколько сигарет, которые мы потихоньку таскали из отцовского ящичка. Иногда неочищенный спирт для одного из них. Он запрокидывал голову и залпом выпивал всю бутылку. После этого, говорил он, ему ничего не страшно. На все наплевать. Мы не понимали, что он имеет в виду, пока однажды он не совершил побег. Разве можно было предположить, что кому-нибудь придет в голову попытаться скрыться в этой деревушке, с ее широкими пыльными улицами, обсаженными перечными деревьями, и каменистой пустошью вокруг? Но он попробовал. Как раз в тот момент, когда он карабкался на забор, вернулся охранник, на ходу оправляя брючный ремень. Я стоял у задней двери с ломтем хлеба, намазанным патокой; Тео на кухне намазывал патоку на хлеб. Заключенный оглянулся, спрыгнул с забора и побежал. Охранник бросился за ним. Во дворе поднялась суматоха. Наши куры, черные и красные, выскочили из-под кустов, где они до этого лежали, распустив крылья и полузакрыв желтые веки. Охранник был слишком толст и неповоротлив, чтобы догнать заключенного. И он выстрелил. Старый пьянчуга рухнул в пыль, дернувшись, как овца с перерезанным горлом. Охранник рысью подбежал к нему — клок его униформы остался на колючей проволоке — и принялся пинать лежащего на земле. Он пинал его до тех пор, пока я, не в силах больше смотреть на это, не убежал в кухню. Вскоре подъехал тюремный фургон. Из окна кухни я видел, как они подняли заключенного и будто мешок с картошкой закинули в кузов — он и впрямь походил на окровавленный, покрытый пылью мешок. Отвернувшись от окна, я заметил, что липучка, свисавшая с потолка, черна от мух.
Только на следующий день я осмелился спросить:
— Зачем он его так пинал, папа? Он же не мог убежать.
— Когда имеешь дело с кафром, ни в чем нельзя быть уверенным, мой мальчик. — Его добрые глаза беспомощно голубели за стеклами очков. — Этот человек преступник, он хотел бежать. А если ты обратишься к истории…
Это было его ответом на любой вопрос. Если ты обратишься к истории. Разумеется, история была его профессией, и он был одним из немногих известных мне людей, по-настоящему удовлетворенных своей работой. Хотя трудно понять, что за радость из года в год твердить одно и то же сменяющимся поколениям школьников. Ученики считали его занудой и побаивались указки, с помощью которой он пытался укрепить свой авторитет среди подростков — черта, выпадавшая из всего его облика и всегда оставлявшая меня в сильном недоумении. В некотором смысле отец был для меня источником вдохновения, впрочем, точно не знаю, он сам или его история. Он был далек от нас — отрешенный вид, отсутствующее выражение глаз, словно он смотрел мимо тебя на давние битвы и на титанов прошлого, словно именно они открывали ему подлинный смысл жизни, причины и значение войн, традиции цивилизаций, которые благодаря своей временной удаленности казались ему более упорядоченными и разумными, чем неразбериха сегодняшних дней. Контуры прошлого представлялись ему столь же определенными, как, скажем, очертания рыбы, настоящее, напротив, оставалось диким, бесформенным и непредсказуемым. И только через историю мне удавалось иногда пробиться к нему, понять кое-что в его молчании и отчужденности, и тогда слово «отец» вновь ненадолго обретало утраченный смысл. Полагаю, что история стала для него убежищем от всего, что он был не в силах понять из творившегося вокруг. И в тот день, когда ему пришлось стать фермером, что-то в нем угасло. Он продолжал много читать, каждую неделю привозил в свою пристройку новые пачки книг, а то, чего не находил в библиотеке, выписывал из столиц. Но все в нем словно начало приходить в запустение. Ему больше нечего было делать с благоприобретенными фактами, не стало учеников, с которыми он мог бы ими поделиться. В конце концов он умер от рака. Но, думаю, дело тут не в раке. Болезнь могла называться как угодно. На самом деле его убила ферма — плодородный холмистый участок в Восточном Капе, с его темно-зелеными кущами и кроваво-красной землей. Даже странно, насколько однозначным представляется мне все это столько времени спустя.
Ферма. Наша ферма. Теперь уже не наша. Теперь у меня вместо нее красивый сад, обнесенный трехметровой каменной оградой с бутылочными осколками наверху. Железные ворота с острыми пиками. И конечно, две собаки, две восточно-европейские овчарки, кроткие как ягнята с моими детьми, но готовые волками накинуться на каждого, кто попытается проникнуть в дом. Мать их терпеть не может. А все потому, что она хотела привезти с собой трех больших дворняг, которых мне после ее отъезда с фермы пришлось усыпить.
* * *
Когда я сейчас мысленно обращаюсь к прошлому — из этого роскошного отеля с плюшем и бархатом, сероголубого с золотом, с викторианскими гравюрами на стенах, включая даже «Век невинности» сэра Джошуа, — то мне кажется, сколь бы странным и маловероятным это ни представлялось в такой обстановке, что я всю жизнь был окружен насилием. Не так, конечно, как мои предки Мейнхардты, проложившие свой кровавый путь через историю: восстание в Храфф-Рейнет, пограничная война, Великое переселение, Освободительная война, подпольное движение Оссева-Брандваг. Все они без исключения были сознательными участниками тех событий, их виновниками и нередко неизбежными жертвами — людьми, попадавшими в тюрьмы, погибавшими под туземными стрелами и английскими пулями, находившими, возвращаясь из странствий, свои дома сожженными, а фермы разграбленными, начинавшими все сначала и не расстававшимися разве что с Библией. Со мной все не так. Я окружен насилием, но не затронут им. И в отличие от наших предков, прошедших по «пути страданий», о котором так любил рассуждать отец, я с уверенностью могу сказать, что всегда оставался невредим. Кроме того единственного раза с Беа, когда меня царапнуло по-настоящему.
Это тем более странно, что я постоянно оказывался свидетелем насилия. Или, говоря несколько цинично, катализатором насилия. Да, такое свойство у меня, несомненно, есть. Мать назвала бы его «даром».
Может быть, тому заключенному удалось бы бежать, не стой я в дверях кухни? Нелепая мысль, разумеется, но ведь это не единственный случай. Увы, не единственный. Мы с Тео залезли на дерево, играя в Тарзана, я спрыгнул вниз и позвал его — он прыгнул и сломал ногу. Мы с ребятами купались возле запруды, плавали, ныряли в воду с ивы на берегу. Все, кроме Вильхельма. «Давай, не будь бабой», — крикнул я ему. Он нырнул и не выплыл. Под водой в тине оказался пень. Мы вытащили его, он был жив, но на всю жизнь остался частично парализован. Самый страшный и в своей кошмарности самый курьезный случай: на третьем курсе университета я, добираясь на попутках до Кейптауна, стоял как-то на дороге за Белвиллом. По шоссе шел грузовик, груженный булыжником, с одной стороны из кузова торчали листы рифленого железа. Какой-то мотоциклист решил обогнать грузовик — бедняга не заметил опасности. Я понял, что произошло, лишь в тот момент, когда мимо меня промчался на мотоцикле человек без головы с красным фонтаном, бившим из шеи.
Грета, моя университетская подружка, ехала на велосипеде по направлению к деревне. Вскоре после нашего разрыва. Заметив меня, она резко обернулась — может быть, хотела что-то крикнуть, — махнула мне рукой и попала под трактор с прицепом, груженный ящиками с виноградом.
Шарль Кампфер, блистательный преподаватель (история искусств), остроумный и циничный, с педерастическими наклонностями. Однажды вечером я по какому-то «необъяснимому побуждению» позвонил ему и спросил, можно ли к нему зайти. Когда я пришел, все комнаты были залиты светом, двери и окна настежь, но в доме стояла мертвая тишина: Кампфер лежал в гостиной на ковре, голый, с перерезанными венами и аккуратным синим кружком, нарисованным вокруг пупка.
На Парковой станции какая-то женщина спросила у меня, который час, и сразу вслед за тем бросилась под приближающийся поезд.
После волнений на руднике куски человеческих тел смывали с асфальта струями воды из брандспойтов, как смывают комаров с ветрового стекла машины или как дождь смывает следы засухи (но что-то всегда остается).
И вероятно, еще убийство в тот уикенд на ферме. И разумеется, в какой-то мере Бернард. И Беа. Или тут уж я возвожу на себя напраслину?
В определенном смысле тот уикенд протекал под знаком насилия. Может быть, мне уже в самом его начале следовало разглядеть апокалипсические письмена? Впрочем, лучше я опишу его. Ведь это вполне романная ситуация.
Накануне поездки я почти не спал. Обычно я отправляюсь в дорогу затемно — до фермы довольно далеко, почти восемьсот километров. На этот раз к тому же я знал, что не смогу не побывать на судебном заседании. В начале процесса у меня еще хватало выдержки не ездить туда, но к концу это оказалось свыше моих сил (кроме тех дней, когда волнения в Вестонарии заставили меня пропустить несколько заседаний). В пятницу процесс заканчивался. Я сказал Элизе, что у меня в Претории дела — почему-то я не мог назвать ей истинную причину. С Луи мы договорились встретиться в Претории на автостоянке. Он отправился туда накануне. Я даже не пытался выяснить зачем, мы начали понемногу привыкать к его угрюмой отчужденности после возвращения из Анголы в феврале этого года. Уже сам тот факт, что он согласился поехать на ферму, был приятным сюрпризом. Я-то предпочел бы поехать один, но Элизе казалось, что (в моем состоянии) мне надо быть осторожным. Кроме того, на мне лежали вполне определенные отцовские обязанности.
В такую рань мир похож на неведомые джунгли. Словно находишься на другом континенте или на другой планете. Было еще далеко до восхода и довольно холодно, порой то там, то здесь что-нибудь проглядывало из тумана: здание, светофор, ряд чахлых деревьев. А затем снова лишь широкое шоссе в густой пелене тумана, скрывавшей желтый холмистый ландшафт, да время от времени слабый свет фар, бесшумно набегающий справа и вновь исчезающий. Поворот у памятника при въезде в Преторию, Университет Южной Африки, похожий на нос гигантского черного корабля Летучего Голландца, на мгновенье вынырнувший из темноты и вновь потерявшийся во мраке. Хмурое присутствие города вокруг. Светофоры, монотонно переключающие свет на перекрестках: зеленый, желтый, красный, зеленый, желтый, красный. Грузовики. Автобусы, изрыгающие из своего чрева сотни черных фигур, шум, возгласы и сразу же снова тишина. Рано открывающиеся кафе, куда вносили ящики с провизией. Шум и бряцанье молочных тележек. Резкий чад рыбы и чипсов. Обрывки газет на обочинах.
Я остановил машину на Фермолен-стрит. Сторож на стоянке узнал меня и приковылял в своем пальто защитного цвета, чтобы подать мне карточку для отметки и поприветствовать подобострастным, но ленивым жестом. Я направился в сторону Керк-плейн к зданию Верховного суда. Ноги ныли от холода, лицо горело. По дороге купил несколько газет у старика, сидевшего возле барабана с тлеющими углями и дувшего себе на руки. Он молча уставился на меня — конечно, вчера вечером не обошлось без скокиана[1]. Дыхание его отлетало легкими белыми облачками. Кофе в маленьком кафе, грек с грязными ногтями за стойкой.
В кафе уже были посетители: бродяга, обросший щетиной, бледный юноша в неуместном здесь вечернем костюме с галстуком-бабочкой (интересно, где он провел ночь?), несколько рабочих в синих комбинезонах, с банками консервов под мышкой, чернокожий, попытавшийся было купить булку, но получивший от грека отпор:
— Откуда, ублюдок, мне взять столько сдачи?
— Из кассы.
Грек вышел из-за стойки, волосатая грудь нараспашку.
— Нарываешься на неприятности?
— Просто хочу купить хлеб.
— Раздобудь сначала подходящие деньги. А теперь проваливай.
Увидев, что тот не уходит, грек неловко рванулся вперед, потерял равновесие и грохнулся на стойку, смахнув на пол круглую бутылку с сиропом. Когда он выпрямился, чернокожий уже стоял перед ним, выжидательно пригнувшись, с ножом в руке.
Люди в синих комбинезонах мгновенно оказались рядом, словно только того и ждали. Один скрутил греку руки за спиной, двое других бросились на чернокожего. Короткая злая схватка, вовремя которой разбили несколько стаканов и высадили стекло стойки. Затем чернокожий резким неожиданным движением вырвался и пустился бежать. Грек и все остальные бросились за ним, но, когда выбежали на улицу, его уже и след простыл.
— Позвоню в полицию, — сказал грек, дыша как сердечник и размахивая татуированными руками.
— Брось, приятель, — посоветовал один из рабочих. — Тебя же и арестуют. Слово белого нынче ни в грош не ставят.
Грек начал набирать номер, скорее всего неправильно, так как от бешенства не замечал, в какие отверстия на диске сует свой толстый палец.
— Вы все видели, — бросил он через плечо. — Будете свидетелями.
— Я ухожу, — сказал я, отсчитал деньги за кофе и положил их в треснутое блюдце возле кассы.
Свидетелей и без меня было более чем достаточно. К тому же происшествие было вполне заурядным, а я предпочитаю не встревать в подобные истории.
Но настроение было испорчено. А потом еще заключительное заседание в Верховном суде.
Бернард, изможденный и бледный, каким я его еще никогда не видел (непроизвольно мне вспомнилось: мускулистая загорелая спина в каноэ прямо передо мной в пенящихся брызгах воды), но сохраняющий абсолютное спокойствие. Атмосфера в зале суда чем-то напоминала церковную: когда заговорил судья, воцарилась прямо-таки благоговейная тишина. Лишь поскрипывали перья журналистов да затрещала дверная рама, когда, переменив ногу, к ней привалился полицейский, который, скрестив руки на груди, надзирал за порядком в зале.
Но после оглашения приговора все черные, присутствовавшие в зале, внезапно поднялись с мест и как один затянули: Nkosi sikelel’ iAfrika. Их пение было прервано молотком судьи и криком судебного исполнителя:
— Очистить зал суда! Очистить зал суда!
И полицейские прыгнули в зал через перила.
Я не пошел попрощаться с ним. Наверное, мне бы и не разрешили. Да и о чем нам было говорить? И тем не менее это угнетает меня до сих пор. Может быть, все-таки следовало попытаться получить свидание? Но слова песни еще звучали у меня в ушах, я был слишком подавлен, чтобы встречаться с ним, хотя и знал, что это было последней возможностью увидеть его.
Бредя по улицам, теперь уже переполненным машинами и спешащими куда-то пешеходами, я никак не мог сосредоточиться и то и дело натыкался на кого-нибудь. Один раз даже выбил из рук какой-то женщины свертки и смущенно нагнулся, подбирая их. «Не видишь, куда прешь?..» Поэтому я не сразу сообразил, что происходит, когда был вдруг остановлен толпой, загородившей проход на стоянку. Только отчаявшись пробиться через нее, я поглядел вокруг, услышал рев полицейских машин, крики людей и понял, что происходит что-то необычное.
На девятом или десятом этаже нового здания на узком карнизе сидел чернокожий, спустив ноги вниз. Из окон сверху гроздьями свешивались люди, следившие за ним. Внизу толпа сгрудилась вокруг небольшого пустого участка, очерченного цепочкой полицейских.
— Что он там делает? — спросил я у кого-то.
— Сидит часов с одиннадцати. Вроде бы собирается броситься вниз.
Из окна прямо над карнизом высунулся офицер полиции и попытался что-то втолковать чернокожему. Снизу не было слышно, о чем они говорили. Но чернокожий подтянул ноги и встал, готовясь к прыжку.
И тут толпа, стоявшая на мостовой и на тротуаре перед зданием, заорала:
— Прыгай! А ну, прыгай!
Я видел, как он дрожал, балансируя над бездной. А затем снова отклонился назад и вжался в стену. Даже на таком расстоянии я разглядел белки его глаз, сверкающие как у испуганного животного. Должно быть, у него закружилась голова.
Полицейский снова обратился к нему, но он не отреагировал.
— Прыгай! — ревела толпа, как на стадионе. — Прыгай! Прыгай! Прыгай!
Он вновь зашевелился. Шагнул на фут или на два влево, ближе к углу здания. А под ним ревела толпа, тоже переместившаяся влево. Он высунул одну ногу за край карниза, будто пробуя воду перед купанием. Несколько девиц исступленно завизжали. Он убрал ногу.
— Прыгай! — бесновалась толпа.
Теперь он присел на корточки. Я не смог разглядеть, открыты ли у него глаза. Новый вопль толпы взметнулся кверху. Слов уже нельзя было разобрать, просто дикий рев.
И тут он прыгнул. Прямо в беснующуюся толпу, лишь несколько мгновений спустя уразумевшую, что все уже кончено. Шум тут же начал стихать, наконец все смолкло, и стал слышен крик продавца с соседней улицы:
— Бананы! Бананы!
Я стал пробираться сквозь толпу. Вдруг кто-то взял меня за руку:
— Луи? Как ты сюда попал?
Странный вопрос, ведь мы договорились встретиться именно здесь.
— Папа, ты видел?
— Да… я как раз подошел, когда…
Я посмотрел ему в глаза, словно ища в них что-то. В тот день у бассейна, когда мы поймали друг друга на подглядывании за девочками, я понял, что он стал мне чужим. Не мой сын, не ребенок, которого я вырастил, а некто, кого мне не понять и к кому мне не пробиться, противник, оппонент. С тех пор между нами пролегли месяцы отчуждения, засуха, несколько смертей. И вот вдруг мы снова стали близки, прикоснувшись к одному и тому же, отмеченные тем, что мы оба сейчас увидели. Неожиданно я почувствовал, что более всего мне хотелось бы, чтобы его здесь не было, чтобы он ничего этого не видел. (Что уж совсем нелепо, ведь он побывал на войне.) Ну а раз он все-таки видел, то чтобы видел это без меня. Чтобы я со старомодной сентиментальностью мог и дальше думать, что хоть один из нас по-прежнему невиновен и не запятнан присутствием в этой толпе.
* * *
К вопросу о невиновности мне еще придется вернуться впоследствии. В связи с Бернардом. Не так-то просто это сформулировать, но хочу сказать, что Бернард, несмотря на острый ум, бескомпромиссность мышления, заставлявшую вас в споре с ним сдавать одну позицию за другой, несмотря на то, что я назвал бы его «окультуренностью», производил впечатление прямо-таки первородное и стихийное, как, скажем, ветер или вода. (Не возвращаюсь ли я вновь к романтическим словесам юности? Похоже, что мои записки против моей воли вновь и вновь приходят к одному и тому же. Ну, что ж. Выскажем все, что рвется наружу. Даже если по временам это будет уводить меня в сторону от основной темы — не зря же я решил поиграть в писателя.)
В сером костюме и синем галстуке, он выглядел утонченным джентльменом, пожалуй, даже дипломатом; в адвокатской мантии, с копной белокурых волос, он был исполнен достоинства, заставлявшего вспомнить о величии былых эпох вроде Флоренции времен Медичи. Но и тогда в его облике сохранялось нечто дикарское. Особенно это было заметно, когда он занимался спортом или веселился: в то путешествие на каноэ, столь много определившее для нас, на теннисном корте, в бассейне, где угодно. Дикарское мальчишество. Скорее, все-таки мальчишество.
На женщин это действовало интригующе. Даже Беа, почти не придававшая значения сексу, говорила: «Не знаю, как объяснить, но, когда он смотрит на меня, внутри что-то сжимается и ноги словно становятся ватными». Бернард мог соблазнить любую. И соблазнял. Но при этом не казался дамским угодником или ловеласом, перепрыгивающим из одной постели в другую. Он никогда не хвастал своими победами. Лишь иногда, случайно, когда речь заходила о какой-нибудь женщине, вдруг становилось ясно, что он с ней уже, как говорится, «ознакомился». Врожденная учтивость была для него чем-то вроде верительной грамоты на данном поприще. К тому же он мог внушить любому — и мужчине и женщине, — что этот человек ему чрезвычайно важен и интересен и им вдвоем предстоит совершить нечто необычайное. И несмотря на это — и вопреки всему этому, — казалось, будто он навсегда остался подростком. И отнюдь не из-за его ребячливости. Просто он сохранил что-то от свободы, от необузданности подростка. Даже в зрелом возрасте он оставался enfant terrible. И прекрасно сознавал это, заявляя, например, следующее: «Единственное, чего я хочу от жизни, это никогда не стать настолько старым, чтобы побояться дать хорошего пинка священной корове».
Учитывал ли я все это, когда девятнадцать лет назад попросил Бернарда стать крестным отцом Луи? Уже с первого курса в университете он был моим героем. Тогда я благоговел перед ним, он преподавал у нас римское и голландское право. И именно он ободрил меня, едва узнав о моем желании писать. Ему, а не преподавателю литературы, например Джону Пинару, я давал на отзыв мои первые литературные опыты. Его критика бывала убийственной, но неизменно доброжелательной. Хотя однажды он и спустил в унитаз единственный экземпляр моего рассказа.
Его кредо было таково (мне не придумать сейчас соответствующего диалога): если хотите делать дело, то делайте его хорошо или не делайте вообще. Пока вы еще обучаетесь ремеслу и познаете себя, но если будете относиться к делу серьезно, то, несомненно, когда-нибудь напишете нечто стоящее.
Но я не написал. Ближе всего я подошел к этому (если не считать вороха рассказов), когда набросал ряд заметок после нашего путешествия на каноэ. Мне казалось, что в них я прикоснулся к чему-то важному о нем и о себе, о самой природе человека и творчества. Но что-то все же ускользало от меня. Я отпечатал страниц тридцать и уничтожил их. Год спустя начал снова и дошел до пятидесяти. Тут я остановился и решил передохнуть. Сделался бизнесменом. И так далее (и вот теперь, неожиданно!).
Я и сейчас не вполне уверен, что разобрался в истории с нашим путешествием. Все было так давно, а с годами теряешь и себя былого. Вероятно, лучше было бы оставить ту поездку в покое. Я и не стал бы возвращаться к ней, не выдайся мне эти свободные девять дней, сулящие возможность (не стала ли она необходимостью) все рассортировать и классифицировать. Ведь после злополучного уикенда ничто больше не кажется мне ни само собой разумеющимся, ни простым. Впрочем, я повторяюсь. (Уже поздно, я устал, даже старания массажистки стали всего лишь воспоминанием.)
Мы задумали это путешествие еще в университете, но тогда оно не состоялось. Затем Бернард уехал и завел адвокатскую практику, а меня послали за границу. Наша переписка была нерегулярной. В первый год я отправлял ему литературно безупречные письма (и сохранял копии для потомков). Потом перешел на поздравительные открытки.
Через несколько месяцев после моего возвращения из Лондона он без предупреждения приехал ко мне. С годами такие неожиданные визиты вошли у него в привычку, обычно они совпадали с его деловыми поездками в Трансвааль. Но удивительно было то, что каждый раз мы возобновляли наше общение без всяких усилий, словно расстались только вчера. Собственно, Бернард был моим единственным настоящим другом.
К его приезду мы с Элизой еще только приживались на новом месте, и с ней было непросто. Беременная (у нее случился выкидыш за год до рождения Луи), она капризничала и настаивала, чтобы я находился при ней неотлучно. А то, что предложил Бернард, и вообще выходило из ряду вон. Он начал примерно так:
— Ты еще помнишь о путешествии на каноэ?
— Конечно, — ответил я, скорее, по привычке. — Когда-нибудь мы непременно…
— Не когда-нибудь, а теперь. Ты берешь недельный отпуск, и завтра мы едем на Аливал.
— Ты спятил.
— Допустим. А ты? Стал лежебокой?
— Разумеется, нет. Но нельзя же бросаться очертя голову…
— Почему нельзя? Это единственный способ… Решить и сделать. А если начать обдумывать, да взвешивать, да рассчитывать…
— Но мне нужно сначала переговорить с Элизой.
— Скажи, ты сам хочешь поехать?
— Конечно, если бы это зависело только от меня…
— Значит, решено. Мы едем.
— Но послушай, Бернард…
— Ну вот что, Мартин, — он тряхнул головой, откинув волосы со лба; его глаза искрились веселой многозначительностью, столь хорошо мне знакомой, — через год мне тридцать. А ты скоро станешь совсем ручным. И нам обоим будет уже поздно. Или сейчас, или никогда.
Я понимал, что он прав. Мы говорили до глубокой ночи, а затем мне предстояло еще и объяснение с Элизой. На следующий день, когда мы отправились в путь, она не пожелала даже попрощаться. В последний момент я, по правде говоря, чуть не отказался от поездки. Почему же все-таки не отказался? Если пытаться найти ответ, то поневоле нужно признать следующее: и я, и Бернард жили слишком спокойно. Разумеется, он обладал едва ли не уникальной способностью превращать в приключение все, что бы он ни начинал, но если разобраться, то все события в его жизни были вполне предсказуемы и заурядны. Мы не прошли через войну. Мы знали о ней только из радиосводок и разговоров взрослых: «Германия», «Россия», «Черчилль», «бомбежки». Да еще флаги на улицах в день победы. (В тот день меня выпороли дома за то, что я бегал по улицам с маленьким английским флажком.) В нашей жизни не было необычайных событий, были лишь слухи о них. Вероятно, у человека есть врожденная потребность испытать хоть однажды свои силы (и свое ничтожество), поставив их на карту в поединке с реальной и грозной силой. Другие люди в других обстоятельствах бывают обречены на это вопреки собственному желанию. Мы же знали все из вторых рук, и нам пришлось самим пуститься на поиски этой противоборствующей действительности. В моих тогдашних записках я трактовал это как стремление к героизму, как необходимость познать нечто великое и ужасающее. Сейчас же мне кажется куда более важным другое: не наш героизм, не упоение собственным мужеством, а осознание нами нашей чудовищной ничтожности.
На пятый день путешествия нам встретилась стремнина: на расстоянии примерно в сто ярдов река из широкого медлительного потока превратилась в узкий проход между отвесными багровыми скалами, вспенивающийся белыми вихреворотами. Еще издалека мы услышали странный грохот, но сперва не поняли, что это такое. А когда поняли, нас уже несло в стремнину. И тут я впервые подумал: это не приключение, не просто опасность, здесь нам грозит смерть. Раздумывать дольше не было ни времени, ни сил. Мысли взметнулись и застыли. Страх? Разумеется. Ну и чувство, куда более похожее на упоение смертью. Упоение смертью, но не мужество. Отнюдь. Вообще было глупо и совершенно излишне бросаться в эту расселину. Мы еще могли направить каноэ к берегу, вытащить их на сушу и обойти стремнину, но ни один из нас даже не подумал об этом. Не знаю, как Бернард, а я чуть ли не желал несчастья, чтобы потом о нас говорили: господи, что за идиотская смерть!
Ярдов через пятьдесят стремнина делала крутой поворот. Бернард был впереди меня. Я успел только заметить, как его каноэ понеслось, будто подхваченное гигантской рукой. Волны поднимались футов на семь-восемь. Бернард исчез в их оранжевой массе. Наверное, я запомнил эту картину на всю жизнь и всегда буду вспоминать ее куда ярче, чем сцену в зале суда: мускулистая загорелая спина, мокрые белокурые волосы, все тело напряглось в стремлении сохранить равновесие.
Когда он исчез за поворотом, я понял: теперь моя очередь.
И тут меня тоже понесло. Ослепленный брызгами, я ничего не видел, оглушенный грохотом, ничего не слышал. А за поворотом поток выбросил нас во впадину, где мы завертелись меж скал, таких высоких, что солнечный свет не доходил сюда. Наверху закричал орел, его крик как осколок впился в барабанную перепонку.
Бернард снова был передо мной, его каноэ вертелось юлой, но вот он наконец подчинил его себе. Чуть впереди него плыла ива, с корнями вывороченная из земли. Мы увидели, как она медленно повернулась, устремилась к центру водоворота и исчезла в нем.
Я что-то кричал Бернарду, он — мне. Мы неистово гребли. Напрасные усилия. В бушующей воде наши каноэ были двумя ореховыми скорлупками. Каким-то чудом мы миновали водоворот по самому его краю. И даже не заметив, что произошло, снова попали в широкое спокойное речное русло, и само течение вынесло нас на берег. Мы сбросили с себя мокрую одежду и, дрожа, улеглись на солнце. Ни один из нас не произнес ни слова. Через полчаса мы разожгли костер, сварили сосиски и поели. Но и потом продолжали молчать: мы чувствовали, что пережитое нами невозможно выразить словами. Единственное, что мы могли делать, — сидеть молча и есть сосиски.
И вот я сейчас лежу в этой голубой с золотом комнате наедине со всей своей жизнью, попавшей в водоворот, полетевшей в ущелье тех дней, когда все было поставлено на карту. Я еще не знаю, как справлюсь с этим. Но должен справиться.
И все же, Бернард, я не могу понять, почему ты не оставляешь меня в покое? Я не имею никакого отношения к тому, что произошло. Никто не вправе возложить на меня такую ответственность.
* * *
Чарли Мофокенг:
— Конечно, на вас лежит такая ответственность. На вас и на любом белом в этой стране.
— Вы несправедливы, Чарли. Я, так же как и вы, лишь унаследовал определенный порядок вещей. Нельзя же упрекать человека за то, что делали его предки.
— Я упрекаю не за это. А за то, что история вас ничему не научила.
— История научила меня, как выжить в этой стране.
— Вы полагаете? История научила вас никому не доверять, вот и все. Вы так и не научились уживаться с другими людьми. Когда дела становятся плохи, вы грузите вещи и уезжаете или, заслонившись Библией, прицеливаетесь и стреляете. На свободных пространствах вы разбиваете лагеря, окружаете их заборами. А когда вам становится мало своей земли, забираете чужую. С оговоркой об аренде или без оной.
Столь ярая предубежденность характерна для Чарли. Я никогда не относился к его выпадам чересчур серьезно, да. и он, полагаю, не утрачивал по отношению ко мне чувства юмора. Такие перепалки стали для нас своего рода интеллектуальной разминкой. Толковый парень. Из тех, кого называют — в одних кругах с уважением, в других с досадой — башковитым кафром. Один диплом Форт Хейра, второй — Кембриджа. Маленький хрупкий человечек, с причудливым телосложением, похожий на деревце, приостановленное в росте морозами и лишь через некоторое время начавшее расти опять. С вечно голодным взглядом за слишком большими для его лица очками. С улыбкой, похожей на открытую рану.
Возможно, познакомься мы за границей, мы стали бы друзьями. Как в свое время с Велкомом Ниалузой, та дружба была обусловлена не только отсутствием социальных рогаток и препон, но и обоюдной симпатией, которая вспыхнула мгновенно — так частички железа вытягиваются из песка магнитом. Нас объединяла нелюбовь к англичанам (которую разделяет и Чарли). Но не только это (придется снова прибегнуть к романтическим словесам): в той, нордической атмосфере мы хранили друг для друга и друг в друге тепло южного мира. Там, вдали от дома, мы были прочно связаны с этой страной и в то же время, как ни странно, свободны от нее. Глубоко в нас, в генах жила память о горьковатом кустарнике Кару, нестерпимой жаре в горах, кровавых закатах и ночах, полных звезд, о садах, виноградниках и открытых всем ветрам маисовых полях, об изъеденных тысячелетиями скалах, о муравейниках больших городов, о пыльных улицах поселков, голубых фонарях возле полицейских участков, о щелканье цесарок в сухой траве, семенящих следах песчанок и дыме костров — мы оба тосковали по всему этому и часами предавались воспоминаниям, сидя ночами на тротуаре и потягивая молоко из пакетов.
Что-то от своего отношения к Велкому я перенес и на Чарли. Не знаю, потому ли, что его низкий голос был похож на голос Велкома, или просто потому, что тот был единственным чернокожим, которого я более или менее знал, так что, общаясь с Чарли, мне приходилось опираться лишь на свой скудный опыт. Но с Чарли мы по-настоящему так никогда и не сблизились. Ничего удивительного. Мы работали рука об руку, у нас бывали споры, случались и добродушные перепалки. Правда, не надо забывать и ту поездку в Соуэто. Время от времени я приглашал его к себе, когда мы принимали иностранцев, но тут всякий раз возникали сложности с прислугой.
В общем, мы с Чарли неплохо ладили. Не без оснований отмечу, что я, африканер, умел обращаться со своим чернокожим. У нас было много общего: история страны, происхождение из сельской местности; несколько столетий и его, и мои предки были один на один со здешним диким краем, осваивали его, боролись с ним, а не пришли на готовое, как англичане, — мы оба, как бы ни атрофировалось у нас племенное чувство (аргумент Чарли), не забывали о своих корнях. В каком-то смысле мы с Чарли уважали друг друга.
Какая из больших горнопромышленных компаний назначила бы в наши дни чернокожего, да еще такого, как Чарли, на столь ответственный пост? (По правде говоря, привел его ко мне Бернард и не захотел слушать никаких возражений: «Мне плевать, что скажут твои чертовы коллеги. Найди ему работу. И не рассыльным или кем-то в этом роде. Пусть-ка он осуществляет связь между белыми господами на Олимпе и копателями под землей. До тех пор, пока они не выроют яму для вас самих».) И я его послушался, потому что предложение Бернарда неожиданно совпало с моими собственными намерениями. Профсоюзы чернокожих не вызывают у меня большой симпатии. На данной стадии развития чернокожие еще не способны освоить столь сложную западную структуру, как профсоюзы. Это вопрос эволюции. Для начала им нужно понять связь между затратами сил и получаемым вознаграждением. Их нужно подготовить, их нужно сперва сделать потребителями, способствуя тем самым росту производства. Это, на мой взгляд, единственно разумная отправная точка для правильного использования экономических возможностей нашей страны. Поэтому я сразу понял, что смогу найти подходящее место для Чарли Мофокенга. Звено в цепи. Шаг в нужном направлении.
И этот шаг оправдал себя. На протяжении восемнадцати месяцев промышленной депрессии в стране мои предприятия продолжали развиваться уверенно и спокойно. До мая этого года.
События хорошо известны из газет, и я не буду их подробно пересказывать, тем более что занимаюсь сейчас частным исследованием, для которого общественные явления важны лишь в той мере, в какой они оказывают влияние на личность (я все чаще выражаюсь как писатель).
Беспорядки, связанные с выплатой зарплаты, вскоре улаженные на большинстве предприятий, переросли на Рудниках Вестонарии в настоящие волнения. Такие затруднения бывали и раньше: неизбежный конфликт между наемными рабочими и предпринимателями. Рабочие едут на рудники, чтобы вернуться домой с деньгами. Для них это вопрос покупки жены или чего-то вроде этого, для меня — вопрос развития экономики в бантустанах. Благодаря притоку денег. А что же происходит на самом деле? Рабочие оставляют все заработанные деньги здесь, промотав их на шлюх и на спиртное. Экономическое развитие заходит в тупик. Поэтому я распорядился, чтобы половину зарплаты переводили в контору по вербовке, где рабочие могли бы получить ее по возвращении домой. Ведь ради этого они и едут на заработки! Правда, несколько центов изымались на расходы по пересылке, из-за чего рабочие получали чуть меньше, но, учитывая тот факт, что раньше они проматывали вообще все, оставалось только удивляться, что такая мелочь привела к столь большим волнениям.
Скорее всего, работа агитаторов. С этим сталкиваешься повсюду. К тому же администрация в Вестонарии с самого начала повела себя неправильно. Я знаю, как важно, имея дело с чернокожими, разъяснить им все крайне обстоятельно и терпеливо, и подозреваю, что руководство рудника действовало излишне поспешно. Поэтому, когда в начале мая события стали приобретать зловещий оттенок, я отправился туда вместе с Чарли для непосредственных переговоров с рабочими.
Когда мы вышли из машины, стояла мертвая тишина. Был один из тех трансваальских зимних дней, когда при порывах ветра слышно, как трепещут сухие стебли травы. Нас встретил белый персонал рудника во главе с начальником; все выглядели угрюмыми и утомленными, словно провели без сна не одну ночь. За конторой мрачной толпой стояли, поджидая нас, несколько сотен рабочих. Когда мы с мегафоном вышли на пыльный участок перед ними, раздалось глухое гуденье как в растревоженном улье.
Я чрезвычайно подробно, не скупясь на красочные сравнения, изложил им суть дела — даже потеряв несколько центов, они сэкономят куда больше — и попросил Чарли перевести. Все это заняло почти час. Только уверившись в том, что до них дошла справедливость принятой меры, я ужесточил тон, ибо знаю, что чернокожие не уважают слабохарактерности. Слово, обращенное к ним, должно быть твердым и авторитетным, рука, указующая им, — сильной и справедливой. Это исходит из их племенных традиций, не слишком, впрочем, отличающихся от наших ветхозаветных принципов.
— Пора положить конец этим безобразиям, — говорил я. — Производительность рудника падает, а это недопустимо. В конце концов вы же сами останетесь внакладе. Тот, кто завтра не выйдет на работу, будет немедленно уволен.
Я опять попросил Чарли перевести. Несколько секунд он молча стоял, опустив голову, затем обратился к рабочим с речью, длившейся не менее четверти часа. С детских лет, проведенных на ферме, я немного понимаю язык коса, но за сото, на котором объяснялся с рабочими Чарли, я не мог уследить. Но я не тревожился, зная его дипломатические способности.
Когда он наконец закончил, я спросил:
— Они довольны?
— Нет, — ответил он. — Они хотят получать все деньги здесь.
— Скажите им, это невозможно. Перевод денег в их же интересах. Что будет с их родными, если они вернутся домой с пустыми руками?
Чарли снова заговорил в мегафон. Последовал быстрый обмен репликами с толпой, затем она, покоренная его красноречием, притихла. Когда он закончил, его приветствовали громким: «Siya vuma!»[2]
Выпив чашку чаю в конторе, я в прекрасном настроении вернулся к машине, где меня ждал Чарли. Он молчал, пока мы не выехали за ограду и не помчались по шоссе Йоханнесбург — Почефструм, и лишьтогда сказал:
— Волнения только начинаются.
— Что вы имеете в виду?
— Я не перевел им того, что вы говорили.
— Что?!
— Я решил, вам лучше выбраться оттуда живым.
— Да какое вы имели право!
— Вы даже не представляете, насколько они взбешены.
— Это не имеет значения!
— Имеет. — Никогда прежде он не говорил со мной таким тоном. — Подумайте, даже тем, кто работает в Йоханнесбурге, живется паршиво. Они сидят в своих гетто, как звери в клетках. Но они хоть могут иногда выйти в город, походить по магазинам или покривляться по воскресеньям для туристов. Но участь работающих здесь… О господи! Они живут за колючей проволокой; и куда ни глянь, только пыль да сухая трава. Им нужна выпивка, им нужны женщины. Им нужно хоть что-то.
— Что же вы им сказали?
Он улыбнулся, обнажив десны. За стеклами очков его глаза казались глазками хамелеона.
— Лучше не спрашивайте. Знаете поговорку: нашел птичье гнездо, так помалкивай, а не то птицы прознают и спрячут птенцов.
Я остановился у дорожного знака, пропуская большой мебельный фургон, потом отпустил тормоз, и «мерседес» бесшумно вывернул на другую сторону дороги.
— Что вы им сказали, Чарли?
— Что вы понимаете, как их обидели. Что их обидели незаслуженно. Что вы постараетесь все это исправить. Но сперва вам нужно встретиться с теми, кто эту глупость придумал. Они сказали — ладно. Но ответ должен быть до конца недели, а то они опять забастуют.
— О господи, Чарли!
— У большинства из них были при себе палки, — спокойно возразил он, — А у некоторых цепи и ломы. Спрятаны под куртками.
Я решил отказаться от изъятий на расходы по пересылке при условии повышения производительности труда и полного отказа от забастовок. Не поддаваться же шантажу!
В четверг решение было передано по телефону начальнику рудника. А в пятницу началась забастовка. Часть рабочих — менее десяти процентов, — решивших выйти на работу, были запуганы остальными, а двое доставлены в больницу с серьезными телесными повреждениями.
В субботу волнения усилились. В Вестонарию начали стягивать отряды полиции. Но раньше, чем они успели приступить к делу, запылала контора. К счастью, администрации удалось вовремя выбраться. Затем рабочие из разных племен — зулу, коса, басуто, свази — набросились друг на друга. Как оно обычно и бывает. И лишь к полудню в воскресенье полиция рискнула войти в лагерь.
В понедельник я послал в Вестонарию Чарли разведать положение дел, а на следующее утро поехал туда сам. Полицейские (их было около сотни) с автоматами, охранявшие лагерь, крайне неохотно согласились пропустить меня.
— Мне не впервой управляться с мятежниками, — сказал я им.
Но все же, когда, остановившись у ворот, я просигналил, на душе у меня было неспокойно. Несколько человек в синей спецодежде поливали из шлангов землю возле обгоревшего здания конторы. Главное, сохранять спокойствие, решил я. Что бы ты ни чувствовал, лишь бы они ничего не заметили. Как со злой собакой — если, не выказывая страха, смотришь ей прямо в глаза, она не бросится на тебя.
Первым к воротам подошел Чарли. За ним на некотором расстоянии следовали остальные — человек двадцать впереди и сплошная масса за ними. Все, несмотря на июньский холод, были легко одеты, некоторые вовсе полуголые. Самое поразительное, что и Чарли выглядел таким же дикарем.
Я высунулся из окна машины:
— Откройте, Чарли. Я хочу с ними поговорить.
— Нет, — крикнул он.
Авангардная группа подступила ближе.
Я выключил зажигание и вышел из машины, демонстрируя, что я безоружен и не боюсь их.
И снова послышался гул растревоженного улья.
— Они не хотят вас видеть, — сказал Чарли.
— Не могу же я удрать несолоно хлебавши. Что будет с моим авторитетом?
— Плевать им на ваш авторитет.
Я увидел его глаза за стеклами очков, опухшие и покрасневшие. Не спал всю ночь? Или пил какую-нибудь немыслимую бурду с этим сбродом?
— Откройте ворота, Чарли! — приказал я.
Он открыл замок и приотворил ворота ровно настолько, чтобы самому проскользнуть в них. Толпа за забором подошла еще ближе.
И тут Чарли преподнес мне сюрприз. Полуобернувшись к ним, он крикнул что-то, подняв сжатый кулак. Затем нагнулся и схватил кирпич. Взглянув на меня с улыбкой, похожей на гримасу, он обеими руками швырнул кирпич прямо в ветровое стекло. Толпа заревела. За спиной я услышал шум подъезжающих полицейских машин.
Больше я не медлил ни секунды. Я вскочил в машину и рванулся прочь. Между забором и машиной повисло облако пыли.
— Зачем вы это сделали? — в ярости спросил я, когда Чарли, невыспавшийся и утомленный, вернулся на следующее утро в контору. — Взбесились?
На этот раз он не улыбался.
— А что мне было делать? Не испугай я вас, толпа разорвала бы вас на части. Да и меня тоже.
— Значит, вы просто ломали комедию? — спросил я сдавленным голосом.
— Я уволюсь, — неожиданно сказал он. — Больше я так не могу. Я стал предателем. Я помогаю вам обманывать их.
— Вы просто переутомились, дружище. Разве можно называть себя предателем, когда стараешься восстановить мир и спокойствие?
— И действуешь против своих?
— Если рассуждать в расовых категориях. А сейчас речь идет о большем.
— А кто научил меня оперировать расовыми категориями?
— Образумьтесь же наконец.
— Я сыт по горло разумностью.
— Вы в самом деле способны отождествлять себя с этой толпой? — спросил я. — Вы?
Он устало посмотрел на меня своими мудрыми, похожими на хамелеоньи глазами. О господи, подумал я, он действительно на пределе.
— Вы поможете мне? — спросил он. Его голос звучал как шорох сухой травы. — Если мы сообща что-нибудь придумаем, то, может быть, сумеем к ним пробиться. Они уже приустали.
— Пробьемся. Непременно. Я вернусь в понедельник утром, и мы подумаем.
— Лучше бы поскорее все уладить.
— К сожалению, невозможно. Мне необходимо уехать на уикенд. Вы же сами говорите, что они уже приустали.
— Ну, невозможно, так невозможно, — улыбнулся он, но лишь по привычке и совершенно безрадостно. — А жаль. Очень жаль.
* * *
Поразительно, какое сопротивление пришлось мне преодолеть, чтобы поехать на ферму в тот уикенд. Словно и люди, и обстоятельства сговорились не допустить этой поездки. Чарли. Беа. Разумеется, Беа больше всех. Но даже и Элиза, вроде бы привыкшая за двадцать лет брака к моим частым отлучкам.
— Не понимаю, зачем ехать туда на уикенд? Взял бы отпуск, и поехали бы всей семьей.
— Сейчас я не могу взять отпуск.
— Ехать в такую даль всего на пару дней. Да еще в твоем состоянии.
— Ради бога, хватит о моем состоянии! Я не беременная женщина.
— Но ведь прошло всего три месяца с тех пор, как у тебя…
— С каких пор? Я не собираюсь всю оставшуюся жизнь быть инвалидом. — Тут мне в голову пришла спасительная мысль. — Кроме того, я возьму с собой Луи.
Это ее удивило.
— Луи?
— Пора уже нам с ним поговорить по душам. Он с февраля болтается без дела. Не хочет учиться в университете, да и вообще ничего не хочет. Убеждать его бесполезно, сразу прячется в панцирь, как черепаха. Но во время поездки, я думаю, мне удастся поговорить с ним серьезно.
— Обещаешь?
— Разумеется.
Она какое-то время молчала, не спуская с меня глаз. Мы сидели за столом, в углу горела лампа. Ильза, извинившись, ушла к себе готовиться к экзаменам. Луи где-то шатался. Даже не пришел домой к ужину. Непривычно было ужинать вдвоем с женой. Обычно я допоздна в конторе, а когда возвращаюсь, просто подогреваю себе что-нибудь в духовке. А если мы оба дома, значит, у нас вечеринка, прием или что-нибудь в этом роде. Но в тот день, вернувшись из Вестонарии, я поехал прямо домой, усталый, взволнованный и без малейшего желания пререкаться.
В наступившей тишине я невольно поглядел на нее повнимательнее. Может быть, именно освещение сбоку помогло мне вдруг ясно понять: она тоже постарела, она выглядит на свои сорок два. Седые пряди в темно-русых волосах, небрежно стянутых в узел. На ней был старый бесформенный свитер, в котором она работала в саду, и, хотя в доме в нем не было нужды, она не потрудилась его снять. Но ее глаза все еще были ярко-голубыми, как бог весть сколько лет назад, как в тот день на ферме. Та же голубизна, но совсем не то выражение. Снова вопрос «Песен невинности» и «Песен опыта»? А на самом деле уже вообще никаких песен нет. Думаю, именно это поразило меня в тот вечер. Раньше я, бывало, гадал, какая из двух уживающихся в ней противоположностей возьмет верх: пасторская дочка в начале пятидесятых годов — когда такое было куда труднее представить себе, чем теперь, — совершенно голой купавшаяся со мной у плотины, или та, что вечером после свадьбы сказала мне: «Давай сначала помолимся, чтобы господь благословил нашу ночь». Но в тот вечер, в непривычном уединении за большим столом, правда по разные его стороны, такие воспоминания были неправдоподобны и неуместны. С жестокой прямотой я вынужден был признать: Элиза по-прежнему остается человеком строгих убеждений, хотя и не знающим, в чем заключаются эти убеждения, человеком, не позволяющим запугать себя, хотя и не понимающим реальности угрозы, человеком, не сворачивающим со своего пути, хотя и не представляющим себе, куда этот путь ее приведет.
После паузы она задала вопрос, который рано или поздно неизбежно должен был возникнуть:
— Зачем ты все-таки едешь на ферму? Не ради же Луи?
— Нет. Мне нужно поговорить с матерью.
Она молчала, не сводя с меня глаз и ожидая дальнейших разъяснений.
— Ей нельзя больше оставаться там одной, — продолжил я. — Она уже слишком стара.
— Мы же обсуждали все это с ней несчетное число раз. Ты прекрасно знаешь, что она не желает уезжать от могил своих предков.
— Но сейчас там становится опасно. Ферма на самой границе с бантустаном.
— Она всегда была там.
— Но черные становятся с каждым днем наглее. Пора позаботиться о матери. Нужно продать ферму и перевезти мать сюда.
Снова долгая пауза, после чего она с каменным лицом спросила:
— Сколько ты получишь за ферму?
— Это не имеет значения. Дело не в этом.
— Несомненно, именно это и имеет значение. Ты продашь ферму только в том случае, если тебе хорошо заплатят.
— Я же сказал, речь идет о матери.
— Послушай, Мартин, — морщинки в уголках ее рта обозначились чуть резче, — ты полагаешь, что сумеешь заговорить мне зубы. Ты умеешь заговаривать людям зубы, и поэтому тебе всю жизнь удается поступать по-своему. — Она принялась рассеянно играть серебряным ножичком, по-прежнему глядя на меня. — Ну? Так сколько же тебе отвалят?
— Двести пятьдесят тысяч.
— Но ферма этого не стоит! — изумленно воскликнула она. — Она не стоит и четверти этих денег.
— И все же я получу именно столько.
— И ради этого ты готов… О господи, Мартин, ты не можешь так поступить. Только не ферму.
Она положила ножичек на стол. Впервые она говорила со мной столь резко.
— Все решено. Осталось только поговорить с мамой.
В дверь позвонили. Элиза раздраженно обернулась, но я почувствовал облегчение.
То был Нильс Янсен, наш церковный староста. На этот раз не по церковным делам, а просто с «визитом» — шестое чувство безошибочно подсказывало ему, когда именно я особенно нуждаюсь в отдыхе и приход постороннего будет мне неприятен. Высокий, толстый, звероподобный детина, похожий на мясника, с кротким лицом и свиной щетиной на голове. Не из тех, кто мог бы принадлежать к кругу моих друзей, но почему-то тянувшийся ко мне. В первый раз он явился к нам в дом по делам церкви в сопровождении пастора. Это было в воскресный полдень, я возился с насосом у бассейна уже более часа. Подняв глаза, я увидел Нильса в черном тесном костюме и белой рубашке, воротник которой впивался в шею.
— Дайте-ка сюда, — сказал он. — Вы сорвали нарезку винта.
С явным облегчением он скинул пиджак и жилет и взял у меня отвертку. В течение получаса я зачарованно наблюдал, как его большие мягкие руки уверенно разобрали, а затем снова собрали насос. Когда он заработал, Нильс хлопнул меня по плечу, снова облачился в свой тесный наряд и мы пошли к дому, где пастор беседовал с Элизой.
Я не принадлежу к истинно верующим. Но три-четыре раза в году воздаю богу богово и поступаю так, говоря откровенно, потому, что для моих дел полезно, чтобы меня время от времени видели в церкви. (У нас дружная община, чего нам не достает, так это некоторого разнообразия в ассортименте крови Христовой.) Но Элиза ходит в церковь регулярно и в силу своего воспитания, и в назидание детям, главным образом Ильзе.
С того дня Нильс Янсен по собственной инициативе — я никогда его в этом не поощрял — начал наведываться к нам более или менее постоянно, чтобы удостовериться, что насос работает исправно, что в бассейне нужный процент хлора и что все прочие механизмы в моем доме функционируют нормально. А также для того, чтобы неуклюже, но искренне поспособствовать спасению моей души. («Душа человеческая, как и двигатель автомобиля, должна подвергаться регулярному осмотру».)
Он оказался не мясником, а агентом тайной полиции в чине не ниже майора. Им владели две страсти — женщины и машины. Осмотрев механизмы в моем доме, он обычно принимался сообщать пикантные новости из особо доверенных источников, на секунду замолкая и подмигивая, прежде чем рассказать что-нибудь интересное. Я постепенно привык к этому добродушному олуху, как привыкаешь к большой назойливой дворняге.
Он и исполнил роль того доброго ангела, вмешательство которого прервало мое неприятное объяснение с Элизой. Она сразу же извинилась и отправилась варить кофе, в чем вовсе не было необходимости, так как обе служанки еще не ушли и мыли на кухне посуду. Нильс устроился в кресле со стаканом бренди. Как и всегда, когда он заходил не по официальному поводу, на нем был просторный красный свитер. Вскоре я догадался, что он опять пришел позаботиться о моей душе, и понял почему: в прошлое воскресенье я не был в церкви. Но он приближался к этому вопросу осторожно, я же, пытаясь отсрочить утомительную беседу, спросил, что случилось с его правой рукой, загипсованной выше запястья.
— Ах это, — прохрипел он, отпивая глоток бренди. — Сломал об одного кафра.
— Что? Вы шутите?
— Вполне серьезно.
— Вы его искалечили?
— Искалечил? Ну нет. Просто прикончил.
— Но… Нильс, — я все еще не находил нужного тона — у вас, наверное, большие неприятности?
— Да нет, — загадочно ответил он. — Не волнуйтесь. Все улажено.
Он закинул ногу на ногу. Между брючиной и парусиновой туфлей заголилась волосатая нога.
— Да будет об этом. Уверяю вас, это пустяки. Я хотел бы поговорить о другом. В прошлое воскресенье вы не пришли к причастию.
Ночью, когда Элиза уже спала, я закурил запретную сигарету и долго лежал, размышляя, как мне к этому отнестись? Следует что-то предпринимать или нет? По-видимому, нет. Меня это никоим образом не касается. К тому же мне следует заботиться о своей репутации. Я погасил сигарету. Я был рад, что Элиза в тот вечер больше не заговаривала о ферме.
* * *
Сам не пойму, устраивает ли меня столь хаотический характер моих записей. Но сначала нужно разобраться, в каком направлении пойдут мои воспоминания, а уже потом переходить к описанию уикенда. И может быть, лишь в конце расположить материал в хронологическом порядке. Так я поступаю и в своей работе, начиная какое-нибудь новое дело. Мой коммерческий успех не в последнюю очередь объясняется тем, что я не отказываюсь ни от какого предложения, пока тщательно его не взвешу. Вероятно, так же мне следует поступить и с этой рукописью.
Пора во избежание недоразумений сказать о моих политических убеждениях. Я африканер. Я националист. И у меня никогда не было причин стыдиться этого. Напротив.
Мои первые воспоминания, связанные с политикой, относятся к сорок восьмому году, когда мне было семнадцать и я сдавал экзамены в университет. Я всю ночь просидел с родителями у радиоприемника, старенького «Атвотер Кента» с кругами по обшивке и оранжевым полумесяцем, по которому двигалась стрелка настройки. Вместе с нами всю ночь сидели за кофе и многие наши соседи. Когда был объявлен результат выборов в Стан-дертоне, все радостно зашумели и запрыгали, опрокидывая стулья. Несколько досок в углу комнаты были изъедены жучком-древоточцем — столяр дядюшка Хенни, прыгая, продавил их и по пояс провалился под пол. Несколько дней спустя все наше семейство отправилось на старом, голубого цвета «меркурии-42» в Кимберли, чтобы простоять там четыре часа под палящим солнцем, ожидая прибытия поезда доктора Малана. Кругом все было забито машинами, телегами, фургонами, станция была полна народу, люди всю ночь ехали, а то и шли сюда, чтобы увидеть его. Поезд остановился всего минут на десять. Бургомистр с золотой цепью на шее и несколько советников встретили доктора Малана и проводили на возвышение. Доктор произнес небольшую речь, что именно он говорил, я не помню, да и не уверен, слушал ли его кто-нибудь толком. Всем было достаточно просто на него посмотреть. Мужчины сняли шляпы и прижали их к груди, женщины поднялись с корзин с провизией, на которых до того сидели. В моей юной душе нашлось для всего этого лишь одно сравнение: въезд Иисуса в Иерусалим. Тут были старцы с бородами и лицами мокрыми от табачного сока и слез, которые вполне могли бы воскликнуть: «Отпусти, о господи, раба твоего упокоиться с миром, ибо мы сейчас видели тебя своими глазами».
По дороге домой отец сказал:
— Дети, отныне нам, африканерам, не придется больше жить с опущенной головой. Теперь мы стали хозяевами своей страны.
Конечно, сорок восьмой год далеко позади. Мир стал теперь и стремительнее, и суровее. Да и нельзя же всю жизнь простоять с непокрытой головой под палящим солнцем на маленькой станции.
Но и четверть века спустя мы все еще там же. Там, куда мы прибыли три столетия назад. Прибыли, чтобы остаться здесь навсегда. Не стану утверждать, что все, что происходит в стране, хорошо и правильно. Многое еще нужно привести в порядок. Но просто передать все в руки черных значило бы тушить пламя бензином. Посмотрите по сторонам. Посмотрите, что творится во всем мире — и в «свободном», и в «несвободном».
Я твердо убежден, что любой политический переворот ничего не решает в судьбе отдельного человека. Всегда, при любой власти есть те, что имеют, и те, что не имеют. И решение заключается отнюдь не в том, чтобы разделить пирог между всеми поровну. Это неплохо звучит в теории, но человек с практическим опытом хорошо знает, как это бывает на самом деле: людям свойственно стремление к соревнованию, но способности различны, а следовательно, и результат неодинаков. Единственный разумный выход — увеличить размеры пирога, тогда увеличится и доля каждого, хотя и в прежней неравной пропорции.
А как увеличить пирог? При помощи обучения и поощрения; давая большее вознаграждение за большие усилия, можно повысить уровень производства и получить больше прибыли. И когда чернокожие научатся жить при нашей экономической системе, можно позволить им иметь собственные политические и расовые убеждения.
Становление политического сознания чернокожих, о котором сейчас столько твердят, это, в сущности, прививка им политического сознания белых. (Как могут черные сами освоить сложные политические концепции белых, если они за столько веков своего развития не изобрели самостоятельно даже колеса?) Главное при этой прививке — разумное сочетание строгой дисциплины и той меры образования, какую чернокожие могут воспринять при переходе с одного уровня развития на другой.
Я считаю, что это менее всего имеет отношение к стремлению к господству. Речь идет о сохранении истинных ценностей. Мир, уже столько лет царящий в ЮАР (по сравнению с хаосом на всем континенте, где белые малодушно отреклись от своей опекунской ответственности), можно объяснить лишь тем, что буры завоевали этот край с ружьем в одной руке и с Библией в другой. Одно дополняло другое. Благодаря проповеди евангелия сберегались духовные ценности (демократия, мораль, личное совершенствование — все наше западное кальвинистское наследие). И мы не можем отступить, пока эти ценности не будут признаны остальными. Именно наши ценности, в этом вопросе у меня нет сомнений. Посмотрите, как обстоят дела в других странах Африки, где была сделана попытка внедрить другую систему.
Я всегда чрезмерно увлекаюсь, стоит мне начать говорить или писать об этом (что я делаю довольно часто во всевозможных докладах и статьях), но для меня в этом суть всей проблемы. Поэтому в экономической политике на моих предприятиях я руководствуюсь тем, чтобы направлять капитал в бантустаны. Там начало всего. Именно там необходимо в первую очередь повысить уровень жизни. К тому же это единственный разумный способ понизить рождаемость: человек, находящийся на последних ступенях социальной лестницы, плодится бездумно, как кролик, достигнув же определенного экономического благополучия и надежности, начинает относиться к этому иначе.
Вот почему я не могу согласиться с Бернардом. По характеру своей деятельности я знаком со многими либералами. И некоторых из них весьма уважаю. (Я не имею в виду тех обитателей английских пригородов, которые достаточно богаты, чтобы позволить себе либеральные жесты, но которые обращаются со своими черными слугами куда хуже, чем любой государственный служащий из африканеров.) Но все они занимаются абсолютно бессмысленным делом. Они выступают против самого уклада нашей жизни. И все их усилия могут привести лишь к новым жертвам. Совершенно ненужным жертвам на задворках подлинной жизни. Одной из таких жертв стал Бернард.
И я не принимаю упрека некоторых из моих друзей-либералов в том, что я, дескать, эксплуатирую богатства этой страны. Речь в данном случае может идти лишь об обоюдовыгодной коммерческой сделке: я использую ресурсы страны, а капитал, приобретенный мною, в свою очередь способствует экономическому развитию тех слоев населения, которые пока еще не в состоянии сами о себе позаботиться. В результате выигрывает вся страна.
Я и мои соплеменники прошли долгий путь, прежде чем достигли того, что имеем сейчас — к этому вопросу я еще вернусь, — и, если понадобится, мы будем бороться за свои права. Мы слишком хорошо помним, что значит жить бесправным в собственной стране. Теперь наконец пришло время пожинать плоды наших трудов. При этом я готов пойти на любую разумную уступку или компромисс, лишь бы гарантировать сохранность того, что я заработал собственными руками.
И это не пустые слова. Я ощущаю это ежечасно. Мне до сих пор доставляет истинное наслаждение скинуть обувь и босиком расхаживать по толстому, мягкому ковру в моем номере. Или заказать ночью по телефону легкий ужин и выпивку. Или пригласить массажистку. И хотя все это мне давно не в новинку, еще слишком живы воспоминания о том, как я босоногим мальчишкой бегал зимой в школу по промерзшей земле, как однажды летом, поскользнувшись на курином помете, упал в канаву между перечными деревьями и сломал ногу. Наливая виски, я вспоминаю бабушкину лимонную настойку и вкус теплого парного молока, которое я пил прямо из коровьего вымени. Я помню испеченные в золе лепешки и хлеб с патокой. Помню, как собирал куриные яйца и как лепил из глины быка для игрушечной тележки, сделанной из консервной банки. Помню жуткие истории о привидениях и гулкий голос дедушки, читающего вечернюю молитву. Помню, как голышом купался у запруды вместе с белыми и черными мальчишками с соседних ферм.
У этой запруды я однажды оказался на волосок от смерти (вторично мне довелось испытать такое лишь в этом году). Как-то в воскресенье, пуская по воде кораблики, я отошел довольно далеко от берега. Вдруг ноги мои увязли в тине, и я начал медленно погружаться в воду. Я закричал. Мальчишки в страхе бросились врассыпную. Я продолжал кричать, не помня себя от ужаса. Когда я увяз уже почти по пояс, один из мальчишек вернулся и кинулся мне на помощь. Это был чернокожий мальчишка с нашей фермы. Его звали Мпило. Он схватил меня за руку. Я чуть было не утянул в трясину и его. Наконец ему все-таки удалось как-то вытащить меня. В благодарность за спасение я подарил ему шиллинг (хотя знал, что ему хотелось бы получить мой перочинный нож). Впрочем, по тем временам шиллинг был для нас, детей, целым состоянием.
Все эти воспоминания всегда со мной. Они как бы часть меня самого. И по ночам они нередко возвращаются ко мне в моих тревожных снах.
* * *
Мы собирались провести этот уикенд вместе. По правде говоря, нам давно пора было уехать куда-нибудь и побыть вдвоем хотя бы неделю, как тогда в Понто-де-Оуро. Но мы оба были слишком заняты, чтобы позволить себе такую роскошь. (Помимо работы в университете, Беа, непонятно зачем, взялась еще преподавать африкаанс в школе в Соуэто.) Поэтому даже два дня вместе казались нам сущим раем. Когда же стало ясно, что мне совершенно необходимо поехать на ферму и уладить все дела прежде, чем его превосходительство министр Калиц придумает, как обвести меня вокруг пальца, я позвонил Беа, чтобы отменить нашу встречу.
— Это из-за волнений в Вестонарии?
— Нет. Я уезжаю на ферму.
— Мать заболела?
— Нет, по делу.
Она долго молчала, потом сказала:
— Понятно.
— Я все тебе потом объясню.
Она не ответила.
— Я вернусь в понедельник вечером. Мы можем увидеться во вторник.
— Хорошо.
— Ты сердишься?
— Вовсе я не сержусь. Я уже привыкла всегда быть на втором месте. Такова уж моя роль.
— Перестань, Беа.
— Прости. Это не важно. Раз ты решил ехать, то о чем тут говорить?!
Она разговаривала со мной из своей маленькой квартирки в Береа в старом доме, отделенном от узкой, идущей вверх улицы рядом высоких джакаранд. Я представил себе, как она стоит у окна, спиной ко мне. Склоненная голова, узкие плечи и бедра, длинные ноги. Скорее всего, босая. И без темных очков. Тридцатилетняя женщина, прошедшая через многие весны и зимы, отбросившая иллюзорную шелуху юности, не стыдящаяся откровенности своих чувств. Открытая и радости и боли, не желающая больше ни дурачить других, ни обманывать самое себя. И все же сколь ранимой может быть такая женщина. И не детской обидчивостью юности, а зрелой бескомпромиссной готовностью к потерям. («Ты видишь, я готова страдать, я страдаю, но это не важно. Ведь я живу. Я должна жить. Но я ни от кого не хочу зависеть».)
— Мне очень жаль, Беа, — продолжал я. — Ты же знаешь, как я ждал этого уикенда. Но мы можем встретиться на следующей неделе. Когда угодно. Мы же ничем не связаны.
— Да, конечно. — Голос ее звучал устало и равнодушно.
Я представил себе ее понуро опущенные плечи на фоне окна. («Почему ты не вешаешь трубку? Нечего стараться быть добреньким со мной».)
— Ну, пожалуйста, Беа, поверь мне.
— Я же сказала, что это не важно.
— Но я слышу, ты расстроена. — Я переложил трубку в другую руку. — Что-нибудь случилось?
Короткая пауза, словно она набирается решимости.
— Мне нужно кое-что с тобой обсудить… Не по телефону.
— Мы увидимся во вторник.
Да, конечно. Тут просто… мне казалось, что это срочно… Но разумеется, это может подождать. Все может подождать.
— Береги себя. Я ведь уезжаю всего на несколько дней.
И вдруг, отбросив прежнюю сдержанность, она спросила:
— Мартин, ты действительно никак не можешь отложить поездку? Мне необходимо увидеться с тобой.
— Я же сказал тебе.
— Ну, да… конечно… все понятно. — И словно про себя добавила: — О боже.
— До свидания, Беа. До вторника.
Она повесила трубку.
Такой разговор помнишь слово в слово. Ведь он был последним.
* * *
Запруда. Посреди заводи растет лилия, которая увеличивается прямо на глазах. Я вхожу в воду, чтобы сорвать ее для Беа, стоящей на берегу. Но как только я касаюсь стебля, ноги мои увязают в трясине. Краем глаза я вижу у запруды какого-то черного человека. Это, наверное, Мпило, но он почему-то похож на Чарли. «Помогите! — кричу я. — Помогите, тону!» Но человек продолжает стоять, скрестив руки на груди и спокойно наблюдая, как я все глубже погружаюсь в воду. Слава богу, это только сон.
Пятница
1
Тучи комаров облепили ветровое стекло. Я вновь возвращаюсь к этому воспоминанию, почему-то оно кажется мне важным. Хотя, в сущности, в комарином нашествии не было ничего необычного, такое часто случается в дальних поездках, особенно перед дождем. Жужжащая зеленовато-желтая масса налипла на ветровое стекло, забрызгав его кровью, а когда я включил дворники, они не заработали. Вот это меня и встревожило. От «мерседеса» подобного подвоха никак не ждешь. Нередко люди обзаводятся дорогими автомобилями по каким-то второстепенным соображениям, но меня привлекало в этой машине ее техническое совершенство, гарантия надежности, ощущение непогрешимости, эстетика управляемости. И вдруг подводит такая мелочь, как дворники. Это ставит под вопрос не только качество машины, но и всю мою поездку. Раз вышли из строя дворники, может отказать все, что угодно. (Даже пистолет, неизменно сопутствующий мне в поездках, — а вдруг он когда-нибудь понадобится?) За что же тогда я выложил кучу денег? Сразу же наплыло тягостное воспоминание о последнем свидании с Беа три месяца назад — в полдень мы отправились в мою городскую квартиру, и мое тело, механизм, которому я привык доверять, вдруг забарахлил и вышел из строя. А теперь еще комары, да к тому же на самом гнусном участке дороги. Кто же это сказал, что когда-нибудь человек исчезнет с лица земли, а насекомые останутся?
Возможно, в дефекте виноваты механики, менявшие ветровое стекло, разбитое в Вестонарии, — эпизод, о котором не хочется вспоминать. Как и о многих других. Но вспомнить придется.
Чтобы затем навсегда вычеркнуть из памяти и жить дальше. Именно это желание было основным мотивом моей поездки на ферму и заставило меня ждать ее столь же нетерпеливо и страстно, как фермер ждет дождя в засуху. И тогда была засуха. Всюду, где мы ни проезжали, мы видели лишь песок, пыль и сухую траву. Я ехал туда убедить мать продать ферму. (Дело было слишком сложным и деликатным, чтобы обсуждать его по телефону. Да и мать слишком упряма. Я просто послал ей телеграмму, предупредив о своем приезде.) Такова цель моей поездки, во всяком случае, иначе не было бы ни ее самой, ни всего остального. И все же мой отъезд больше напоминал бегство от сумбура и неразберихи предшествующих дней к ощущению покоя и надежности, связанному для меня с фермой. Бегство от гнетущей атмосферы в семье, от суда над Бернардом. Суд над Бернардом — вот главное, что хотелось с себя стряхнуть.
Я надеялся убежать от воспоминаний о суде, но, как оказалось, повез их с собой. Грязно-желтые стены зала, деревянная обшивка за судейской трибуной, красные кожаные кресла, длинные столы, бурый потертый ковер, серые шторы, два окна с желтыми стеклами, вентилятор с тремя лопастями на длинном стержне, большая люстра со стеклянными лепестками, прикрывавшими лампочки. (Такие же стеклянные лепестки прикрывали лампочку у меня в детской. Помню, как они позвякивали в ту ночь, когда я, шатаясь, встал и потянулся к стакану с водой, а доктор вбежал в комнату и, обернувшись к матери, сказал: «Успокойтесь, кризис миновал».) И Бернард, ровным, уверенным голосом зачитывающий со скамьи подсудимых свое заявление. В ту поездку я вез в портфеле копию его заявления. Уже давно пора ее уничтожить, но я почему-то этого не делаю. Вот и сейчас она передо мной на столике, стилизованном под эпоху королевы Анны.
Когда человек предстает перед судом за свои политические убеждения и действия, перед ним открываются два пути. Он может признать ошибки и воззвать к милосердию или же может отстаивать собственные убеждения и обосновать справедливость своих поступков. Если бы я стал сейчас просить о помиловании или снисхождении, я предал бы дело, ибо я верю: то, что я делал, было правильно.
Я принимаю основной принцип, согласно которому для защиты общества необходимы законы. Но когда сами законы оказываются безнравственными и требуют от гражданина принять участие в четко разработанной системе угнетения — даже если это участие состоит лишь в пассивности и равнодушии, — тогда я признаю нечто более высокое, нежели они, тогда долг человека заключается в том, чтобы отказаться от подчинения таким законам. Поэтому я не считаю себя виновным, даже если суд и признает мою вину. Я не собираюсь ни ссылаться на смягчающие обстоятельства, ни апеллировать к великодушию. Я действую в твердом убеждении, что грядущее и сама история оправдают меня.
Как хотелось мне в ту пятницу, по дороге на ферму, опровергнуть его слова или просто забыть о них. Но разве мог я забыть, сидя рядом с Луи? Взяв с собой Луи, я взял и все остальное. Время от времени я поглядывал на него, но он сидел, уставясь в окно, хотя, конечно, чувствовал мои взгляды. Лицо как две капли воды похожее на мое, только моложе. (Что уже само по себе весьма неприятно.) И куда более упрямый, куда более дерзкий. И то же выражение замкнутости и отчуждения, что и несколько часов назад, когда мы встретились в толпе, окружившей тело самоубийцы.
Девятнадцать лет. В этом возрасте юноша должен быть таким, как его сверстники, — веселым, шумным, обеспокоенным первыми вспышками половых эмоций, помешанным на женщинах, напористым и зажатым одновременно — весь буря и натиск. Но Луи совсем другой. В его глазах что-то старческое и неопределенное. Усталость? Разочарование? Цинизм? В девятнадцать-то лет! Увы, да, но и это еще не все. Глядя на него, поневоле думаешь, что он вообще не способен испытывать ни радости, ни страха. Словно он уже через все прошел. Прошел весь тот путь, маршрут которого я готовил и хранил для него. Словно для него уже все позади и он свыкся с этим. И было наивно надеяться, что за один уикенд мне удастся преодолеть огромное расстояние, разделяющее нас. Наивно, если не абсурдно.
Я решил не останавливаться, несмотря на то что дворники не работали. Еще не стемнело, только что пробило пять, и дорогу кое-как было видно. Не люблю нарушать ритм движения, всегда старался избегать этого, даже когда дети были еще маленькие и требовали остановиться в самом неподходящем месте и не ко времени. Когда я за рулем, мне не хочется отвлекаться, пока не доеду до цели. Для меня в самом движении есть нечто полное смысла. А собьешься с ритма — и перестанешь владеть ситуацией.
— Будем пробиваться, — попытался я пошутить. — Кое-что видно.
Луи по-прежнему смотрел в окно, ничем не выдавая, что слышит меня.
2
Все пошло вкривь и вкось с самого начала. Уже отъехав от Йоханнесбурга километров сорок, я вдруг обнаружил, что свернул не на ту магистраль. Я собирался ехать по оживленной трассе через Феринихинг и Парейс, по которой езжу всегда — без особой необходимости я стараюсь не менять своих привычек, а оказался на дороге к Почефструму. Вероятно из-за того, что это направление к Вестонарии, куда я то и дело ездил на прошлой неделе и откуда возвращался в последний раз с разбитым ветровым стеклом. Но не воспоминание о волнениях на рудниках испортило мне настроение (хотя, конечно, и оно тоже), а, как и в случае с комарами, раздражающее напоминание о том, что я не могу контролировать ситуацию, что нечто не зависящее от моей воли вступило в противоречие с моими намерениями.
Ошибка в выборе дороги не слишком удлиняла путь (хотя там, скорее всего, не было бы и комаров!) — пят-надцать-двадцать минут не имеют особого значения, когда едешь более десяти часов. Кроме того, мы выехали даже раньше, чем я предполагал, потому что не стали задерживаться в Йоханнесбурге, а сразу за городом перекусили у «Дядюшки Чарли».
— Заказывай ты, — сказал я сыну в отчаянной попытке расположить его к себе. — Заказывай что хочешь.
— Я не знаю, что ты любишь.
Мой деланный энтузиазм сразу же улетучился, однако я продолжал настаивать.
Он пожал плечами и неохотно высунулся в окно; себе заказал шницель и кока-колу, а мне чай и тосты с сыром и помидорами. Может быть, я втайне надеялся, что он выберет для нас одно и то же? Что-нибудь ребячески роскошное вроде мороженого с фруктами или коктейля из сливок. Наверное, он даже не знал, что я терпеть не могу печеных помидоров, но я съел тосты, чтобы не разочаровать и не обидеть его. Не знаю, чего я этим добился, однако по-прежнему был намерен делать все возможное, чтобы поддержать хотя бы иллюзию взаимопонимания.
Каковы «естественные» взаимоотношения отца с сыном: дружба, соперничество или вражда? Да и бывают ли «естественные» взаимоотношения? Может быть, ошибка состоит в том, что люди излишне надеются на то, что принято считать «обязательным» для таких отношений? Может быть, они начинаются так же, как любые другие отношения, когда два чужих человека пытаются найти общий язык: одни находят его, другие — нет. К сожалению, само понятие «семья» создает иллюзию, что здесь речь идет о чем-то большем, иллюзию чего-то само собой разумеющегося, заранее данного, «естественного». А потом вдруг что-нибудь происходит — несчастный случай, смерть, поворот судьбы, события в Анголе, — и вы обнаруживаете, что ничего не знаете о своем ближнем. В иных обстоятельствах вы могли бы мирно разойтись в разные стороны. Но тут вы чувствуете обязанность «что-то предпринять». Отказаться от личной свободы, «смириться с несвободой», выражаясь словами Бернарда.
У нас с Бернардом, во всяком случае, была свобода выбора: мы были вольны решать, стать или не стать друзьями, узнать друг друга ближе или нет. Или это тоже иллюзия? В течение многих лет на вопрос «кого вы знаете лучше всех?» я мог ответить без колебаний: «Бернарда Франкена». Но в последние несколько недель я вынужден был признаться себе, что, в сущности, ничего не знаю о человеке на скамье подсудимых, что он мне совершенно чужой. И я даже разозлился на него за это. Словно он совершил предательство по отношению ко мне, оказавшись совсем не тем человеком, которого я знал.
Почему я все время думаю о своей разобщенности с другими: Элизой, Луи, Беа, Чарли, Бернардом? Если бы не это пребывание в Лондоне, я и дальше уживался бы с этим. Но взявшись за свое исследование, я вынужден приложить усилия и ответить на вопрос: в чем причина и смысл всего происшедшего? Приложить усилия. А ведь в моем возрасте и после пережитого мной страха я стал отчетливо сознавать, сколько приходится затрачивать усилий в определенных жизненных обстоятельствах, и стараюсь по возможности избегать их. Стараюсь, но сейчас не могу.
После его сенсационного ареста в конце февраля газеты начали систематически публиковать сообщения о ходе расследования, заботливо предоставляемые «информированными источниками». А к началу суда в Претории, к середине мая, слухи стали звучать почти истерично.
За последние несколько лет нередко случалось, что после спровоцированного прессой ожидания чего-то экстраординарного сам суд несколько разочаровывал. Но в деле Бернарда обвинительное заключение было достаточно впечатляющим: нарушение тринадцати пунктов Закона о борьбе с терроризмом и Закона о подавлении коммунизма. Речь шла о разветвленной сети подпольных организаций, саботаже и даже политических покушениях, распространении поджигательных памфлетов, хранении оружия, вербовке людей и обучении их за границей — словом, целый том. Вдобавок, ходили слухи о многочисленных сообщниках, которые будут привлечены к суду позже (не считая арестованных три года назад и уже отбывающих тюремное заключение).
Вереница свидетелей день за днем делала предписанное ей дело, сплетая паутину обвинения вокруг Бернарда: агенты тайной полиции, в том числе и те, которым удалось просочиться в организацию, соратники и сообщники, которые решили или которых принудили выступить свидетелями обвинения, и несколько узников, давших свои показания ранее и привезенных на суд повторить их, двое даже с Роббен-Айленда. (И все это на фоне сенсации, вызванной самоубийством и покушением на самоубийство при аресте.) Факты свидетельствовали о том, что Бернард был отнюдь не последней спицей в колеснице, а руководителем и вдохновителем всей подпольной деятельности. Что ж, это по крайней мере не расходилось с моим представлением о нем.
— Ты поедешь на суд? — спросила Элиза в самом начале процесса.
— Мне хватает забот и без этого.
— Но он же был твоим другом…
— И твоим тоже, — прервал я ее. — Почему бы не поехать тебе?
Она отвела глаза.
— Я просто подумала, что, может быть, для него важно увидеть там тебя.
— В моем положении это исключено.
Она больше не возвращалась к этой теме, и я надеялся, что смогу не думать о Бернарде. Но конечно, все оказалось гораздо сложнее. Газеты, радио, телевидение. Куда ни пойдешь, везде разговоры о предстоящем суде.
Я решил ограничиться радиосводками — краткими и сжатыми. Лишь в беседе с Чарли, на которой он сам настоял, я высказал свое мнение:
— Не понимаю, зачем все это было нужно такому человеку, как Бернард?
— Что значит «такому»?
— Неужели не понятно? В подобные дела обычно втягиваются люди, имеющие на то свои мотивы. Они играют в политику и в революцию, чтобы избавиться от собственных комплексов и решить свои личные проблемы. Но при чем здесь Бернард? У него было все, чего можно желать. Друзья, женщины, деньги, успех, признание, слава. Я не могу понять, как человек может отказаться от всего ради борьбы за других.
Чарли прищурил глаза за толстыми стеклами очков. С насмешкой?
— Вы кое о чем забыли, Мартин.
— О чем же?
— О морали.
— Какой еще, к дьяволу, морали?
— О вопросах совести. Я от этого столь же далек, как и вы. Но на ферме, где мы выросли, старый хозяин, — я уверен, что он намеренно так назвал отца Бернарда, — часто читал нам то место из Библии, где говорится об отказе от мира ради спасения души. Может быть, это поможет вам кое-что понять в Бернарде?
— Чепуха. Бернард первый поднял бы вас на смех.
— Ну, если вы считаете, что так хорошо его знаете, то что же вам не понятно?
— Ну вот, теперь мы еще и поссоримся.
И все же мне не удалось сохранить спокойствие. Мне хотелось остаться в стороне от суда, от всего с ним связанного, но что-то помимо воли притягивало мое внимание к нему. Я стал покупать все газеты от левых до правых, а те, что пропустил вначале, просматривал в публичной библиотеке. Я упрекал себя за то, что меня «понесло». Я обвинял Бернарда в том, что он выбил у меня почву из-под ног. Бывали дни, когда я буквально ненавидел его — самое сильное чувство, испытанное мной по отношению к кому-либо за последние годы. Но остаться в стороне я не смог. И в конце третьей недели рано утром поехал в Преторию. Но я столько времени прошатался по улицам, что не нашел в зале суда свободного места. Чему даже обрадовался. Теперь мне было легче не идти в суд и на следующий день. А потом волнения в Вестонарии дали мне прекрасный повод не ездить в Преторию. И все же под конец я снова не выдержал — на последних заседаниях я присутствовал. Речь прокурора. Взрыв удивления, когда Бернард, отказавшийся от адвоката, объявил, что не собирается вызывать свидетелей защиты. Его аргументация. Его пространное заявление со скамьи подсудимых. А в пятницу утром приговор — и отказ Бернарда просить о помиловании. Вот и все.
И теперь, проезжая по объятой засухой местности, я чувствовал только одно: я все дальше и дальше удаляюсь от Йоханнесбурга и Претории, от Керк-плейн, массивной статуи Паулуса Крюгера и здания Верховного суда.
В городе засуха не столь заметна. Введено ограничение на расходование воды, но мы продолжаем вечерами поливать даже траву в саду. (А почему бы и нет? Речь всего лишь о дополнительной плате за воду.) Но, как только попадаешь в открытую местность по дороге в Почефструм, уже за Вестонарией понимаешь, что такое засуха. А за рекой Вааль еще хуже. Дождя не было с весны, а кое-где целых два года не выпадало ни капли влаги. Даже в хорошие зимы ландшафт здесь поражает своей блеклостью, но сейчас в этой блеклости было нечто устрашающее. Трава высохла, повсюду виднелись проплешины, темно-бурые, словно кровь, запекшаяся на теле мертвеца. Ни признака жизни. И только тучи комаров, взявшихся неизвестно откуда, забастовавшие дворники, и мы двое, уставившиеся в грязное ветровое стекло.
3
Нам все же пришлось остановиться неподалеку от Брандфорта, чтобы помыть стекла. И опять меня огорчила не столько потеря времени, сколько сбой ритма. Задержка нарушила мои планы: я собирался заправиться в Реддерсбурге, но там бензоколонка закрывалась в шесть. Поэтому пришлось положить в багажник две пластмассовые канистры с горючим — излишний риск, которого я обычно стараюсь избегать. К счастью, кондиционер работал нормально, и запах бензина не ощущался.
Когда мы вышли из гаража, было уже холодно. Солнце еще стояло в бесцветном небе, нависая над грядой каменистых холмов, но холод пробирал до костей. На голой равнине негде было укрыться от ветра. Деревня представляла собой беспорядочное скопление домишек и хижин, окруженных покосившимися заборами. Железные баки для воды, изъеденные ржавчиной; птичники и уборные прямо во дворе да несколько голубей на крышах, съежившихся под порывами ветра. Обычно я объезжаю эту деревню по окружной дороге. Но теперь срыв привычного распорядка как бы вынудил меня «запнуться». Но на чем? Картина была бессмысленной и случайной. А здесь, в роскошном лондонском отеле, воспоминания о ней кажутся еще более бессмысленными и неуместными.
У гаража, на клочке земли, озаренном солнцем и кое-как защищенном от ледяного ветра, стояли несколько чернокожих молодых людей. Сбившись в кучу, чтобы было теплее, они переговаривались пронзительными голосами, а два подростка рыскали по мусорным бакам в поисках пищи. Мимо прошла чернокожая женщина, неся на голове жестянку с керосином. Не поворачивая головы, она заговорила с парнями и продолжала истошным голосом перекликаться с ними, уже миновав два квартала.
На другой стороне пыльной улицы, возле покосившегося белого забора, однообразно и монотонно скакала маленькая девочка с хмурым, сосредоточенным лицом, а с крыльца дома напротив за ней следил, прислонившись к столбу, старик; трубка безжизненно торчала у него изо рта. Он тоже «запнулся» — на чем? Бернард рассказывал мне о своем деде с северо-запада, который вот так же однажды следил за соседской девочкой, ловя мгновения, когда у нее задерется юбка. Штанишек она, очевидно, не носила. Дед Бернарда неотрывно глядел на нее, стиснув трость так, что у него побелела кожа на костяшках пальцев. Когда силы оставили его, он позвал жену из дома:
— Прогони-ка эту голозадую девчонку, пока меня не хватила кондрашка.
— Почему бы тебе просто не отвернуться? — спросила жена.
На что старый Бернард ответил воистину бессмертной фразой:
— Это бесполезно. Проклятая штуковина, как фонарь. Ее видишь, даже когда не смотришь.
Вот и я спрашиваю себя: не так ли было и со мной в тот уикенд — я старался не смотреть, но все равно видел?
Луи вышел из уборной, засунув руки в карманы джинсов.
— Холодно? — спросил я.
— Когда мы будем на ферме?
Я посмотрел на часы:
— Около одиннадцати. Устал?
— Ерунда, — усмехнулся он. — Вот в тот день за Са-да-Бандейрой…
— Знаешь, ты ничего толком не рассказывал об Анголе.
— А что рассказывать? Вам, здешним ослам, этого не понять.
Меня возмутило его «вам, здешним ослам», но я постарался не подать виду. К чему сразу настраивать его против себя. Хотя я уже чувствовал, что вся моя затея идет прахом.
Механик все еще возился с последствиями комариного нашествия. Одной рукой он поливал стекло тонкой струйкой воды из лейки, а другой яростно тер его обрывком газеты.
— Как дела?
— Все в порядке, шеф, — улыбнулся он.
Люди в синей форме, смывающие с асфальта куски человеческих тел. Чарли рассказывал, что там было после волнений: рассеченные на части тела, вывороченные языки и пустые глазницы, мертвые застывшие лица, измазанные экскрементами. Словно само это насилие таилось до поры за колючей проволокой лагеря. Для цивилизованного человека видеть такое невыносимо.
В начале нашего знакомства, когда Бернард привел ко мне Чарли, я спросил:
— О господи, старина, зачем вы вернулись в эту страну? В Англии вы могли делать все, что угодно. Вы же преподавали в университете. Почему вы не остались там?
Он улыбнулся, обнажив десны.
Вы ведь, кажется, тоже там были. Вы хотели бы остаться?
— Нет, конечно. Но…
— Что?
•До некоторой степени я, разумеется, могу его понять. Но это чисто эмоциональное отношение, абсолютно лишенное здравого смысла. И хотя я знаю многих людей, склонных относиться к Африке эмоционально, мне все же трудно было поверить, что и мотивы Чарли столь же бессмысленны.
Мне вспоминается один из дней на Гибралтаре во время медового месяца. Мы стояли на скале и смотрели через пролив на береговую линию Африки, синеющую на блеклоголубом фоне неба. Никогда в жизни я не чувствовал такой ностальгии.
Наконец я взял Элизу за руку и сказал:
— Пойдем.
Нам надо было попасть в Малагу до наступления темноты. Уже собравшись уходить, мы заметили африканца, смотревшего в ту же сторону. И вдруг с беззастенчивой гордостью, словно ребенок, объявляющий совершенно незнакомым людям о своем дне рождения, он сказал, обращаясь к нам:
— Там моя страна.
— Марокко?
— Нет. Мой дом южнее, в Нигерии.
— Мы тоже из Африки.
— Тяжело быть вдали от нее.
Вот и вся беседа. Но именно благодаря ей я впервые в жизни по-настоящему понял, что такое Африка: континент бесчисленных поколений людей, древнее homo sapiens — моя земля и земля этого незнакомца.
Может быть, не стоит столь строго судить тех черномазых с рудников. Как им приспособиться к жизни за колючей проволокой, в квартирах, в отведенных им кварталах. После всего того, к чему они привыкли — равнины и холмы Лесото и Транскея, хижины, женщины, работающие в поле, тыквенные бутыли с кислым молоком, гашиш, обрезание, танцы, жертвоприношения.
Я сам не умел пользоваться лифтом, пока не попал в университет. Если бы Бернарда или меня вдруг вырвали из деревенской среды нашего детства, что сталось бы с нами? Мы бы, конечно, легче приспособились, но тоже далеко не сразу.
Я считаю своим долгом объяснить суду, почему я отстаиваю свои убеждения, как я к ним пришел и вследствие чего оказался вынужденным перейти к активным действиям.
Для начала я хочу подчеркнуть, что происхожу из семьи, доказавшей свою преданность делу африканеров участием в англо-бурской войне, в восстании 1914 года и даже в подпольной деятельности организации Оссева-Брандваг во время второй мировой войны. Примерно до двадцати пяти лет я был убежденным националистом. Подобно многим молодым африканерам моего поколения, я вырос на ферме. Подобно им, я был одинок во многих отношениях. У меня не было братьев, только четыре сестры, все гораздо старше меня. Там, где я рос, фермы велики и расположены далеко друг от друга. За исключением нескольких соседских ребят, моих одноклассников, моими товарищами были чернокожие ребятишки с нашей фермы. Одного из них я до сих пор считаю своим лучшим другом. (Вернее, много лет спустя мы снова стали друзьями.) К сожалению, я не могу назвать его имени — даже упоминание о нем причинит ему неприятности. Многие годы мы вместе проводили все время, кроме тех часов, когда я был в школе. Мы играли и дурачились, охотились за мартышками и зайцами, искали птичьи гнезда, лепили из глины зверюшек, купались. Часто я ел с его семьей путу[3] из железной миски возле их глиняной хижины. И никогда мне не приходило в голову, что разный цвет кожи может причинить нам горе или радость или как-то повлиять на наши отношения. По-моему, тогда мы даже не подозревали, что один из нас черный, а другой белый. Лишь гораздо позже, когда мне исполнилось одиннадцать лет и меня послали в городскую школу, я…
В мой последний университетский год Бернард пригласил меня к себе на ферму на пасхальные каникулы. Я не случайно так хорошо запомнил эту поездку! Мы поехали поездом, что воскресило мои впечатления раннего детства — запах зеленой кожаной обивки, стук дверей, когда мимо проходил проводник или кондуктор, откидной столик у рукомойника, дорожная трапеза: холодная баранина, яйца, помидоры, сушеное мясо. Перед отправлением у Бернарда схватило живот, и ему пришлось в последнюю минуту бежать в привокзальный туалет. Я боялся, что он опоздает на поезд. Когда буквально в последнее мгновение он все же появился, я не мог понять, чему он ухмыляется.
— В чем дело? — спросил я, протягивая ему руку и помогая вспрыгнуть на подножку.
— Облегчился на славу, — сказал он. — Но каких денег мне это стоило!
Оказывается, забежав в туалет, он не нашел там ни клочка бумаги и пустил в дело чековую книжку. Но он не был бы Бернардом, если бы не заполнил каждый из трех чеков на тысячу фунтов, прежде чем подтереться ими.
Жалобы на желудок возобновились во время поездки, в ходе нашей беседы о религии (в которой я к тому времени уже начал сомневаться). Когда разговор окончательно надоел Бернарду, он вытянулся на верхней полке и, улыбаясь, сказал:
— Говоря о религии, следует помнить слова Сартра о ситуативном мышлении и опыте. Я полагаю, что концепция загробной жизни в значительной степени зависит от состояния желудка. Когда у меня резь и я принимаюсь писать чеки, как сегодня утром, я теряю всякий интерес к посмертному бытию.
Часа в три или четыре утра нас вытряхнул из купе проводник, обещавший разбудить вовремя, но тоже проспавший. Еще не поняв, что происходит, мы уже стояли на темном перроне, в пижамах и подхватывали чемоданы, которые старик передавал нам из окна вагона; его лысина поблескивала сквозь седые редкие волосы — у него не было времени надеть форменную фуражку. Пока я ставил чемодан на землю, гудок взвыл и поезд умчался в ночь.
Это нельзя было даже назвать станцией, просто полустанок в степи. Крошечная платформа, маленькое здание из красного кирпича, несколько пустых огнетушителей вдоль боковой стены, небольшой зал ожидания с коричневыми скамьями, уборные под перечным деревом, а по другую сторону путей ветхое строение для чернокожих.
Нас никто не встречал, даже стрелочник. Мешок с почтой, сброшенный с поезда, валялся в дальнем конце платформы. Рядом с ним стояли молочные бидоны, вероятно дожидавшиеся товарного поезда.
Мы оделись в зале ожидания — не без шуток, так как оказалось, что один башмак Бернарда остался в поезде. Воздержавшись от посещения дурно пахнущей уборной, мы справили нужду под перечным деревом и уселись на ступеньки у входа в здание.
В таких ночах есть какое-то ни с чем не сравнимое спокойствие. (Я начинаю понимать, почему писателей так привлекают подобные сцены.) Мы стряхнули с себя последние остатки сна; шум поезда замер вдали. Было очень тихо, лишь порой ветер шелестел в хрупких ветвях дерева да время от времени кричали петухи и лаял пес. Звезды были необычайно большими; казалось, они опустились так низко, что их можно сорвать с неба рукой. Деревня, сказал Бернард, по меньшей мере в двух милях отсюда, за грядой холмов. Не было ни проблеска света. И вообще ничего.
Мы молчали. Не скоро, хотя, возможно, прошло не больше пятнадцати минут — но казалось куда дольше, — вдали забрезжил какой-то свет, а чуть погодя послышался далекий, приглушенный шум мотора.
— Отец едет, — сказал Бернард.
Дряхлый, старомодный «остин» затормозил возле нас, и водитель вылез, не глуша мотора. Высокий человек, гораздо старше, чем я ожидал, лет эдак семидесяти, с гривой седых волос, с трубкой, стиснутой крепкими зубами, с лицом, покрытым сетью грубых морщин, и неожиданно молодыми озорными глазами, которые будто видели тебя насквозь.
— Привет! — сказал он, молча и внимательно осмотрев меня. А ты откуда вылупился?
— Это Мартин Мейнхардт, папа, — объяснил Бернард. — Я писал тебе о нем.
— Ты писал только, что приедешь на каникулы с другом. А у тебя никогда не поймешь, мужик это будет или баба. — И повернувшись ко мне; — Парень с виду неплох, но в наше время ни на кого нельзя положиться. Ну, ладно, забирайтесь, поехали.
Он резко рванул с места. Большую часть пути мы ехали не по той стороне дороги (слава богу, было еще слишком рано для встречного транспорта). Старик, перекрикивая грохот мотора, учинил мне настоящий допрос:
— Чем зарабатываешь на жизнь?
— Последний семестр на юридическом, дядюшка Бен.
— Вот как. Еще один законник. Еще одна ферма выжата досуха.
— Простите, о чем вы?
— Уезжаете в город за деньгами, удовольствиями, удачей, а фермы бросаете ко всем чертям. Как наш сын.
— Я не бросаю ферму, — прервал его Бернард. — Ее возьмут Сис с мужем.
— Что толку? — Он сплюнул в открытое окно, брызги долетели до меня на заднее сиденье. — Неплохой парень муж Сис, но не наших кровей.
Очень скоро я понял, что старик на самом-то деле гордится своим мятежным сыном, а мать Бернарда, не умолкая, говорила об успехах сына в школе и в университете, демонстрируя мне, несмотря на его гневные протесты, грамоты, вставленные в рамки и вывешенные у нее в спальне.
Петухи кричали уже более настойчиво, когда мы въехали на ферму и, окруженные сворой лающих псов, с опасностью для жизни промчались по двору, чуть не врезавшись в старую колымагу, стоявшую возле дома. Дверь с марлевой сеткой хлопнула, как ружейный выстрел, и на пороге появилась маленькая худощавая женщина с лампой в руке. Она поцеловала супруга, а затем Бернард подхватил ее на руки будто девочку.
— Не на людях же, — смущенно запротестовала она.
— Какие тут люди, мама, это Мартин.
— Привет, Мартин. Нам давно хотелось познакомиться с парнем, о котором Бернард столько писал. Вы, наверное, пить хотите. Кофе готов.
Мы пили кофе с сухарями за обшарпанным кухонным столом возле черной плиты, которая даже в этот ранний час была раскалена, как наковальня, стараниями четырех черных служанок, бесшумно, словно кошки, сновавших босиком по кухне, то раздувая огонь, то ставя или снимая кастрюли. Старик настаивал на немедленной прогулке по ферме, но его жена воспротивилась. Какой бы хрупкой и кроткой она ни казалась, я вскоре заметил, что она железной рукой правит хозяйством и самим хозяином. В непривычной темноте она провела меня, еще не вполне очнувшегося после пробуждения в поезде, в комнату Бернарда, где для нас уже были приготовлены постели. Странно, как живо я все это помню. Две железные кровати, покрытые вышитыми покрывалами, фарфоровый кувшин и таз для умывания на столике у входа, мыльница с узором из фиалок, прохлада пола, у двери липучка для мух. Стены увешаны моделями самолетов и машин, искусно изготовленными из проволоки, на полке коллекция камней и черепов (птиц, зайцев, обезьян, овцы, лошади) — комната мальчика Бернарда, не тронутая все эти годы. Холодный ночной воздух сквозил из затянутого марлей окна и широко распахнутой двери, на пороге с глубокими вздохами дремала старая неуклюжая дворняга, а снаружи, нарушая тишину, все кричали петухи.
И что мне особенно запомнилось: прямо на моих глазах Бернард будто превратился в прежнего подростка. Блестящий лектор, прекрасный оратор, искусный танцор, неотразимый мужчина — все это вдруг куда-то пропало и осталось лишь: «да, папа», «да, мама», «ладно, папа».
Все каникулы меня это очень удивляло и даже несколько тревожило. В университете я привык видеть в нем решительного противника религии, церкви и всего так или иначе связанного с традицией. Именно он заронил сомнение и в мою душу. Но здесь, на ферме, Бернард безоговорочно подчинился родительскому укладу: утренняя молитва, вечерняя молитва, чтение вслух Библии на голландском, пение псалмов, благодарение за хлеб насущный, — казалось, он превратился в полную свою противоположность — в святошу. В конце недели мы были втянуты в бесконечную цепь богослужений. В четверг пополудни мы поехали в город (по-прежнему не по той стороне дороги, но жители округи вроде бы привыкли к этому и, завидев старика, давали хороший крюк, иногда съезжая с дороги прямо в поле). Еще утром вперед был выслан управляющий с трейлером, полным продуктов на продажу, и с отрядом слуг, чтобы привести в порядок городской дом. Когда мы приехали, все уже было готово. К вечеру большую часть слуг отослали обратно, оставив двоих, которые должны были вести хозяйство. На следующий день начались богослужения. Утреня в страстную пятницу. Две службы в субботу. Утренняя и вечерняя службы в воскресенье (пропустили только детскую обедню). А в понедельник утром национальные спортивные игры. В понедельник днем, сытые по горло религией, мы наконец вернулись на ферму. И Бернард проделал все это без всякого раздражения или сопротивления. Когда я поглядывал на него в церкви, он казался мне не менее набожным, чем сам пастор.
Для меня же этот уикенд означал начало целой истории. Девушку я заметил только в воскресенье утром и сразу же упрекнул себя за то, что был невнимателен в предыдущие дни. Высокая, темно-русая, с гордо поднятой головой. Пока я глазел на нее, она посмотрела на меня без всякого интереса, таким холодным и прямым взглядом, что я уронил свой псалтырь, а когда поднял его, то увидел, что она все еще смотрит на меня чистыми, спокойными глазами, в которых теперь сквозила ирония. В толчее после службы я потерял ее из виду и был так расстроен, что просто зарычал на Бернарда, когда он заговорил со мной. Зато, вновь увидев ее на спортивном празднике, я обрадовался сверх всякой меры. Вместо строгого костюма, перчаток и широкополой белой шляпы, как накануне в церкви, на ней было легкое летнее платье. Она стояла босиком на бревне, установленном для игр, и побивала одного соперника за другим сильными и точными ударами, до нас доносился ее хохот. Не успел я опомниться, как Бернард направился к ней и вызвал на соревнование. В следующее мгновение он уже стоял рядом с ней на бревне, а затем тут же опрокинул ее наземь в кучу пыли; платье ее задралось, оголив длинные загорелые ноги.
Столь быстрой победы и следовало ожидать от Бернарда. В играх и поединках он не уступил бы любому ковбою с Дикого Запада. И сразу же я подумал, что рядом с ним у меня нет ни малейшего шанса. Но тут я ошибся. Его не интересовала эта девушка, во всяком случае в опасном для меня смысле.
Он помог ей подняться и подвел ко мне. Лицо у нее было слегка запачкано, волосы растрепались.
— Это Мартин, — представил он меня. — А это Элиза.
— Я видел вас вчера в церкви.
— Да, вы уронили свой псаЛтырь. Я высматривала Бернарда и заметила вас.
Бернарда. Ну конечно. А я-то надеялся…
Пытаясь скрыть свое разочарование, я пробормотал что-то вроде:
— Никогда не думал встретить в этой глуши такую девушку.
— Ты мог бы встретить ее и в Стелленбосе, — заметил Бернард.
— Вы учитесь в Стелленбосе? — удивился я.
— Да, на учительницу. Мне не так повезло, как вам.
Она объяснила, что хотела поступать в университет, но ее отец, тот самый пастор, который командовал нами весь уикенд, воспротивился: Стелленбос слишком далеко, да и опасен для юной и невинной девушки. (Плохо же он знал свою невинную дочку!) Каждый из них настаивал на своем, наконец он уступил, но было решено, что она ограничится колледжем.
— Вы не заглянете к нам? — спросила она. Было совершенно ясно, что «вы» сказано из вежливости, а интересует ее только Бернард.
— Мы сегодня днем уезжаем на ферму. Ты же знаешь, я приезжаю редко и мои предки вправе получить свое.
— Так скучно сидеть здесь одной, — пожаловалась она с явным разочарованием, — Даже поговорить не с кем.
— Со мной тебе было бы еще скучней, — уверил он. — С таким стариком, как я…
— Какой же ты старик?! Тебе нет и тридцати.
— Тебе я должен казаться древним стариком, — ответил он и, обратись ко мне: — Когда они приехали сюда, ей было лет двенадцать. А мне двадцать. Она называла меня дядей.
— Мне уже не двенадцать.
— Выглядишь ты не намного старше.
— Мне девятнадцать.
Он шутливо поцеловал ее в кончик носа. Мы поболтали еще несколько минут. Прощаясь, она торопливо сказала:
— Отец собирается в следующее воскресенье читать у вас проповедь. Ты не будешь против, если я тоже приеду?
— Ладно, — сказал Бернард, — мы расстелем к твоему приезду ковер. А ты вымоешь ноги. — Он указал на ее босые пыльные ступни.
Шутка была грубовата, но он делал это намеренно. Слишком уж бросалось в глаза, как фермерши со всей округи норовили под любым предлогом привезти своих незамужних дочерей на ферму, пока там был Бернард. Большинство девиц никуда не годилось: даже я, моложе и влюбчивей Бернарда, не позарился бы на них. Но были и иные: не только привлекательные, но и вполне зрелые и готовые к тому, чтобы их сорвали. Однако Бернард с исключительным дипломатическим искусством ухитрялся проходить через эти испытания, оставаясь в стороне и никого не обижая.
Элиза приехала в следующее воскресенье. Пастор произносил проповедь в большом помещении, где собралось человек сорок фермеров из отдаленных частей округа. Затем все пили кофе на веранде и в саду, а дети, разбежавшись по всей ферме, гонялись за цыплятами, поросятами и щенками. Большинство гостей разъехались сразу после кофе, а когда отбыли и те, что оставались на обед, родители Бернарда и священник с женой решили немного отдохнуть. Мы втроем сидели на веранде, хотя и без религиозных книжек, которыми нас мучили по воскресеньям в детские годы, но с тем же ощущением сонливости и скуки.
Наконец Бернард предложил прогуляться. Мы сбросили пиджаки и галстуки на веранде. Элиза осталась в шляпе и даже не сняла перчаток — ее родители возмутились бы, увидев ее на людях без них. Лениво беседуя о пустяках, мы шли по ферме под апрельским солнцем. Мимо поломанных машин, ржавых плугов, неузнаваемых частей каких-то механизмов, ящиков для хранения мяса, опрокинутых тачек. В амбаре мы сидели на ворохе люцерны, слушая воркованье голубей, занимавшихся любовью на верхних балках. Снаружи под кустом кудахтала курица, в грязной луже у двери плескались и крякали утки. Я не переставая думал об Элизе, выглядевшей здесь довольно курьезно в своем строгом воскресном наряде.
Мы вышли из амбара и обогнули конюшню — рыжая лошадь с жалобным ржанием проводила нас взглядом из-за низкой двери, — миновали коровник, пустой в это время дня и пахнущий навозом и сеном, и ряд опрокинутых бидонов у двери, дожидавшихся вечерней дойки. Через сухой сад — то был засушливый год, — мимо гранатовых деревьев мы вышли к плотине, неприглядному бетонному сооружению сразу за ветряной мельницей. Мы сели и стали есть гранаты, подставив лица яркому солнцу.
— А черт, — сказал Бернард, — как мы не догадались взять плавки?
— Сегодня воскресенье, — напомнил я.
— Ну и что? — спросила Элиза.
— Но ваш отец…
— Мой отец видит сейчас прекрасный сон. А я не думаю, что купанье в жаркий день может привести человека в ад.
Наклонившись, она зачерпнула пригоршню воды и засмотрелась на струйки, сбегавшие между пальцев. Я глядел на ее руку, гладкую и мокрую, с длинными пальцами и еле заметными голубоватыми жилками на тыльной стороне.
— Ты всегда здесь купаешься? — спросила она Бернарда.
— С детства. Мы с друзьями все лето не вылезали отсюда.
— Тебе повезло, — сказала она с некоторой горечью. — А мне пришлось расти совсем одной, выслушивая вечные наставления о том, что хорошо, а что плохо. — Она слизнула с ладони капельки гранатового сока. — Даже убедить отца отпустить меня в колледж было великим подвигом. А что здесь делать девушке с образованием и вообще со всей этой фигней.
Слово резануло меня — из уст такой примерной юной прихожанки!
Улыбнувшись, Бернард выколупнул несколько гранатовых зерен и протянул ей:
— Освежи рот.
Элиза засмеялась, щеки ее заалели, и, обхватив ладонями его сложенную лодочкой руку, она выпила красный сок, запачкав им губы. Затем, встав, сбросила туфли. Грациозным движением, столь естественным для женщин, она сунула руки под юбку и спустила чулки. Мне было стыдно смотреть (но я видел и не глядя). Без суетливости и спешки она сняла шляпу, браслет, часы и прочие украшения и повернулась ко мне спиной.
— Расстегни меня, дружок.
Мои руки задрожали и онемели. Стоя спиной к нам, Элиза скинула платье и бросила его к ногам, затем на землю упали нижняя юбка и подвязки (господи, чего только не носили девушки в те времена). Я думал, да и Бернард, я уверен, тоже, что она останется в нижнем белье. Но все с той же непринужденностью, словно она находилась в собственной ванной, Элиза закинула руки за спину и расстегнула лифчик. Потом шагнула из своих маленьких белых трусиков. Внезапно она оказалась совсем голой.
Поднявшись на плотину, она поглядела на нас. Солнечные блики играли на ее высоких грудях.
Мы последовали ее примеру. Я держался в стороне, пытаясь скрыть возбуждение. Брызгаясь как дети, мы плескались добрый час, затем поплыли: мысль о выходе на берег пугала меня. И снова Элиза взяла над нами верх. Она не выбежала на берег, чтобы поскорее одеться, как я втайне надеялся. Мокрая и голая, она уселась на плотине, откинув голову, чтобы высушить волосы, и наслаждаясь бьющим в лицо солнцем. Мы с Бернардом вылезли около другого конца плотины и схватили одежду. Бернард быстро скрылся в кустах. Я остался возле плотины, не зная, что делать дальше.
Через некоторое время она позвала меня:
— Мартин, ты где?
— Вы уже оделись? — Но, приблизившись, запнулся. — Ох, простите. Я думал, вы уже…
— Хочешь граната?
— Спасибо.
Я подсел к ней, ее согнутые ноги уперлись коленями мне в грудь. Она протянула мне пригоршню зерен — точно так же, как Бернард чуть раньше ей. (Может быть, она ему просто мстила?) Капли красного сока сбегали с ее руки и падали на грудь. Я ел зерна с ее ладони, затем, поддавшись порыву, начал целовать ей пальцы. Когда я наконец поднял глаза, она смотрела на меня столь же невозмутимо, как в церкви. Только, пожалуй, чуть более дерзко и вызывающе. Я стал жадно разглядывать ее: лицо, груди, живот.
— Никогда не видел девушек?
Из горла у меня вырвался хриплый звук, означавший: таких, как ты, нет.
Она откинула на плечи влажные волосы и с тем же невозмутимым и безучастным видом подставила лицо солнцу.
— Я не понимаю вас, Элиза.
— Здесь нечего понимать. — И почти раздраженно добавила: — А теперь иди, я хочу одеться.
Она ждала, пока я уйду. Отойдя немного, я обернулся и увидел, что она все еще сидит на плотине. С деланной беззаботностью я махнул ей рукой, но она не ответила.
Когда она оделась, мы отыскали в саду Бернарда и пошли на ферму. Он провел нас в дом с черного хода, чтобы Элиза перед встречей с родителями могла причесаться в ванной. После беседы за кофе они отправились в город, с багажником, битком набитым дынями, кабачками и прочими дарами природы и с несколькими цыплятами и полутушей парной овцы в придачу. Элиза поцеловала меня на прощание, и ожог ее холодных губ еще долго ощущался моими губами уже после того, как они уехали.
Сейчас, в номере лондонского отеля, тот давний день кажется мне далеким невероятным миражем: высокая темно-русая девушка сидит голая на плотине и кормит меня с ладони зернами граната. А теперь это — моя жена. Где же, когда и куда она исчезла? Кто из нас так изменился, она или я?
— Влюбился? — спросил меня Бернард той же ночью в нашей комнате, откуда никогда не выветривался тяжелый запах восковых свечей.
— Это она влюбилась в тебя, — попытался возразить я.
— Говорю тебе, я помню ее костлявой девчонкой с цыпками и с щербатым ртом.
— Теперь-то она совсем другая! — Глаза, груди, манящие губы. — Она же красавица. Я просто глаза вытаращил.
— Это я заметил, — фыркнул он. — Да, наша старая плотина могла бы многое порассказать. Она знает обо мне больше, чем мои старики. По воскресеньям да по праздникам, когда бывали проповеди вроде сегодняшней и приезжали соседи, мне было вольготнее всего. Особенно я люблю День Дингаана, тогда я впервые узнал, с какого конца баб едят.
— А почему ты, собственно, равнодушен к Элизе? Будь я на твоем месте, я бы ей проходу не дал.
Он промолчал.
— Ну конечно, — продолжал я, борясь со стыдом и завистью, — ты избалован: любая женщина, которую ты захочешь, твоя. Верно?
— Не совсем. Все-таки не совсем. Вообще-то я никогда не против легкой интрижки, если никто не обманут. Но я прекрасно знаю, что, затей я что-нибудь с Элизой, она отнесется к этому слишком серьезно. Решит, что я влюбился и все прочее. Получилось бы нечто вроде предумышленного убийства. А на это я пойти не могу.
— Ты что, вообще не собираешься жениться?
— Ну почему же. Но я не хочу попадать под башмак слишком рано.
— Только в этом дело?
Он помолчал, а потом сказал:
— Знаешь, брак хорош для того, кто уже готов попасть в зависимость от другого. Кто готов, чтобы партнер стал как бы ключом к его собственному существованию. Но я слишком ценю то, что я есть сам по себе. И не хочу лишаться свободы или возможности выбора так рано.
— Ну, свобода выбора у тебя шире, чем у любого из наших знакомых.
Он засмеялся:
— Я говорю о другом. Не о свободе выбора женщины. Я хочу быть свободным, чтобы самому выбирать свой путь. Иметь ту свободу, которая позволяет жить, зная, что можешь обойтись без кого угодно.
— А к браку это какое имеет отношение?
— Ну, если женишься, то сразу лишишься массы возможностей. Хотя бы потому, что от тебя будет зависеть счастье другого. Зато станет слишком просто избегать любой другой ответственности, говоря: извините, но я женат, у меня семья, дети, я просто не вправе делать то-то и то-то.
— А если я скажу тебе, — вырвалось у меня, — что решил жениться на Элизе?
— Ты уверен, что хочешь жениться? Может быть, тебе просто нужна баба?
— Бернард! Как ты можешь!
— Ты юн и восторжен. В твоем возрасте многим свойственно принимать за любовь физиологические потребности.
— Я говорю серьезно.
— Эта крошка — дикарка.
— Надеюсь, я в силах укротить ее.
— Конечно, в силах. Но с ними — как с лошадьми. Объездишь самую горячую, усмиришь ее и тут-то поймешь, что тебе чего-то не хватает — может, как раз того норова, который ты из нее выбивал. А его уже не вернешь.
— Ты пессимист.
— Или реалист, — ответил он, — идеалистически настроенный реалист.
* * *
В таком же духе он ответил мне, когда во время одной из наших ежедневных прогулок по ферме — поиск разбежавшихся овец, укрепление плетня или просто променад — я спросил его о причине столь покорного следования родительской воле: почему он, убежденный атеист, разыгрывает при них эту комедию, участвует в богослужении, лишенном для него малейшего смысла.
Он отмахнулся:
— А почему бы и нет? Тебе мое отношение к этому известно. Я никогда не скрываю своего мнения от людей, способных внять доводам разума. Но зачем напрасно расстраивать тех, кому это не дано? Они мои родители, они старики, я люблю их и уважаю.
Когда речь заходила о политике, он при случае пускался с отцом в спор, но обычно отступал, если дело касалось чего-нибудь слишком серьезного. Основные споры велись вокруг вопроса об избирательном праве для цветных.
— Это чистое надувательство, — говорил Бернард. — Разве Малан не призывал цветных в тридцатые годы голосовать за националистов, говоря, что они такие же африканеры, как и мы. А теперь объявляет, что якобы вершит божью волю!
Старик бывал смущен, он не мог вникнуть в обвинения, предъявляемые сыном.
— Я признаю, что наш народ очень грешен, — сказал он как-то после вечерней молитвы (Библия еще лежала на столе, а на ней очки с золотыми дужками). — Мы, знаешь ли, вроде евреев. Я часто замечал, что, когда все идет хорошо, тут-то у нас и начинается всякое. Африканер силен в пустыне, а не в роскоши египетской.
— Значит, ты согласен, что с существующим положением вещей мириться нельзя?
— Конечно, нельзя. Но в каждом случае можно поступить либо верно, либо неверно. И неверно было бы восставать против своих пастырей, вершащих волю господню. Господь поможет тем, кто усердно молится.
— Ты, однако, восстал против политики правительства во время войны и даже угодил за это в тюрьму.
— Тогда Ян Смэтс сошел с правого пути, предназначенного бурам, и затеял шашни с Англией.
— А если Малан тоже сошел с правого пути?
— Не мели чепухи, — оскорбленно оборвал его старик. Повернувшись ко мне, он подмигнул: — Ума не приложу, где этот парень набрался всякого вздора. Вообще-то он такой с самого детства. Как-то раз, когда ему было лет восемь-девять, он убежал купаться и сиганул с плотины, не зная, что там стало совсем мелко. Он стукнулся головой о дно, черномазые мальчишки вытащили его из воды полумертвого. Он болел несколько месяцев — был наполовину парализован, да и с башкой не все в порядке. Но вот однажды я попросил его о чем-то, а он повернулся ко мне и говорит: «Не хочу». Ну я пошел к жене и говорю: «Старуха, можешь не волноваться. С парнем все в порядке, он опять закочевряжился».
Бернард ухмыльнулся. Но он был вроде бульдога: если уж вцепился во что-нибудь, челюстей не разожмет.
— Не уходи от темы, отец. Если в войну было правильно бороться против правительства, то это и сейчас правильно.
Старик долго сидел молча, уставившись на свои большие, натруженные руки. Затем, не поднимая головы, произнес:
— Не скажу ни «да», ни «нет». Это вещь сложная, и такими ответами здесь не отделаешься.
— Даже если видишь, на чьей стороне правда?! — выкрикнул Бернард.
— Почему бы вам не оставить этот спор? — сказала, не прекращая вязать, мать Бернарда с другого конца стола. — Мы даже Библию не убрали.
— Я хочу, чтоб отец мне ответил.
Дядюшка Бен поднял голову, его длинные седые волосы напоминали гриву старого льва.
— Единственный мой ответ: никто не знает, какова будет дорога. Одно можно сказать наверняка: какую дорогу ни выбери — идти по ней надо осторожно. И что ты ни делай, хоть езжай, куда хочешь, хоть не отрывай задницу от стула, все в руце божьей.
Его жена всегда чувствовала, когда спор заходил слишком далеко. По-прежнему не отрываясь от вязания и даже не поднимая головы, она закричала громким голосом, слишком громким для ее тщедушного тела:
— Рашель!
Одна из чернокожих служанок появилась на пороге.
— Принеси нам кофе, — сказала тетушка Ленни.
Но Бернард уже закусил удила. Теперь он перенес свою атаку на мать.
— Почему ты не отпускаешь слуг по вечерам? — сердито спросил он, пристально глядя на нее.
— Им нравится ужинать горячим, прямо с плиты, — невозмутимо ответила она.
— А в пять утра им надо снова быть здесь?
— Кто же приготовит тебе утренний кофе?
— Могу приготовить сам.
— Что это на тебя нашло сегодня? — сказал отец, вычищая трубку горелой спичкой.
— Есть вещи, которых лучше не касаться, — сказала тетушка Ленни. — Господь даровал нам суровую землю, и мы должны трудиться в поте лица своего. Поэтому он и дал нам чернокожих в помощь.
— Суровая земля, это верно, — согласился старик, перестав продувать трубку. — Сейчас-то нам нечего жаловаться. — Его мальчишеские глаза поглядели на меня из-под косматых бровей. — А вот на северо-западе, где я вырос, мы буквально «разбрасывали камни». Помню, как в один засушливый год овцы сожрали даже землю на пастбищах, только камни остались.
— Будет тебе, — меланхолически сказала тетушка Ленни.
— А сейчас мы живем хорошо, — продолжал он, — Единственно, о чем следует помнить каждому, — принимай господа таким, каков он есть. Он не из тех, кем можно командовать. Если ему заблагорассудится дать тебе помереть, ты помрешь. А если ему захочется стереть тебя с лица земли, начнется потоп, как во времена праотца Ноя.
Но и тот год был по-настоящему тяжелым. Нередко мы с Бернардом находили в вельде овец, таких слабых, что они не могли подняться. Обычно чернокожие работники подбирали их, клали на тележку и отвозили на ферму, чтобы напоить и накормить, но иногда было уже слишком поздно, и приходилось перерезать им глотки.
Но в целом мы провели время приятно. Наши отношения были спокойными и дружелюбными. Мы ели, спали, плавали, гуляли. Иногда ездили в город. Время от времени приезжали соседи обсудить дела с дядюшкой Беном или просто посидеть за кофе. Широким кругом мужчины располагались на веранде, покуривая и громко переговариваясь, женщины скрывались в прохладу гостиной, болтали или прислушивались, хихикая, к шуткам, доносившимся из мужской компании, а босоногие служанки разносили кофе, сливки, пирожные.
Каникулы проходили в бесконечных разговорах. Особенно часто мы беседовали по ночам, после того как задували свечи. Шли споры о религии, сексе, политике, фермерском деле, университете, стране и целом мире, часто касались они и наших планов на будущее.
— Ну хорошо, в следующем году ты поедешь в Англию. А что будешь делать, когда вернешься? — спрашивал Бернард.
— Я еще даже не знаю, сколько там пробуду.
— Неважно. Ведь рано или поздно ты все равно вернешься?
— Разумеется. Может быть, тоже попробую заняться научной работой.
— Не дури. Это искусственное затворническое существование.
— Зачем же ты ведешь его?
— Я ухожу в конце года.
— Ты ничего не говорил об этом!
— Окончательно я решил это всего несколько дней тому назад.
— И что ты собираешься делать?
— Буду адвокатом. Ты ведь знаешь, я провел несколько защит в последнее время. Теперь займусь этим на всю катушку.
— Но тогда ты лишаешься прочного положения.
— Обойдусь и без него. Есть вещи поважнее.
— Например?
— Например, принимать участие в том, что делается в стране. Прежде чем все закончится фатально и будет уже поздно что-либо менять.
— Все как-нибудь образуется само собой, — сказал я.
Кровать его заскрипела, должно быть, он сел.
— Хотелось бы надеяться, — сказал он. — Но этой стране нужны коренные перемены. Я жду их так, как мы все ждем сейчас дождя. Но пока только слухи о нем да вокруг него — а дождя-то и нет. — Он помолчал. — Хотя, конечно, когда дождь наконец хлынет, то это будет, как выражается мой отец, потоп, смывающий все и вся.
Лишь позднее, на двенадцатом году жизни, начав посещать городскую школу, я по-настоящему ощутил разницу между белыми и черными. И когда я во время каникул возвратился на ферму, прежняя дружба с чернокожими сверстниками сама собой переродилась в отношения слуг и хозяина. Единственным исключением был тот друг, о котором я упоминал раньше. Но даже к нему я стал относиться иначе. Мы больше не играли и не купались вместе. Когда мы шли на охоту, он был моим егерем. А главное, я вел себя с ним как учитель с учеником, добросовестно пересказывая ему все, что узнал за это время в школе. Позже мои родители отправили его в миссионерскую школу, а потом в университет. Но в то время он безоговорочно воспринимал меня как хозяина, а мои поучения как щедрую милостыню. В университете я увлекся теорией расовой сегрегации, которая на том этапе представлялась мне идеальным средством для решения проблем в Южной Африке. Стал руководителем местного отделения молодежной организации Националистической партии. По окончании юридического курса меня послали в Голландию для научной работы в Лейденском университете. Там я впервые в жизни столкнулся с чернокожими на базе социального равенства. Мне приходилось сидеть с ними за одним столом, что, по правде говоря, требовало от меня предельных волевых усилий. Действительно, в эмоциональном смысле это был самый сильный шок, пережитый мною в жизни.
Мне пришлось потратить немало времени на осмысление моих переживаний. Я помнил, как легко общался с чернокожими ребятишками на ферме. Я никогда не чувствовал в их компании ни неудобства, ни стеснения. Значит, изменился я, а не чернокожие, я проникся к ним антипатией, которой не мог найти разумного объяснения. Не хочу излишне обременять суд личными воспоминаниями. Но итогом моих европейских размышлений было начало процесса, который мне пришлось довести до конца — как с философской и моральной, так и с практической точки зрения.
4
Ветровое стекло вымыто, можно ехать дальше. От Брандфорта до Блумфонтейна всего полчаса езды. Оттуда до фермы еще пять часов, но, зная, что ровно полпути позади, ехать как-то легче. За окнами ветер пригибал к земле белесую траву, а в машине было тепло и уютно. Солнце медленно опускалось, предвещая бесконечную ночь. Сработают ли фары? На секунду я запаниковал и включил их. Было еще слишком светло, чтобы увидеть, загорелись ли они, но вспыхнувший синим светом индикатор убедил меня, что все в порядке. Все-таки все в порядке.
Ближе к Блумфонтейну машин на шоссе прибавилось. А сразу за развилкой на Винбург — на той дороге, по которой мы поехали бы, не отвлеки меня воспоминания о Вестонарии, — случилось дорожное происшествие.
На подъеме, вскоре после того как движение стало двухрядным, большой черный «крайслер» устаревшей модели поехал прямо на нас не по своей полосе. Как уже не раз случалось в моей жизни, я видел приближение несчастья, но был не в силах предотвратить его. Перед нами шла зеленая спортивная машина. Она буквально на дюймы разминулась с «крайслером», дико завертелась и, петляя из стороны в сторону, скрылась за холмом. Но водитель «крайслера», вероятно совершенно потеряв контроль, заскользил по дороге, въехал на полосу песка между двух рядов, перескочил через нее и устремился навстречу идущему по своей полосе «фольксвагену». После столкновения человеческие тела со странной медлительностью вылетели из «крайслера» и в нелепых позах распластались на дороге.
— Господи, — сказал Луи, — как в тот день, когда мы подорвались на мине… — Он запнулся.
— Поганые черномазые, — процедил я сквозь зубы. — Чего еще от них ожидать.
— Ты не собираешься остановиться?
— Здесь полно других машин. Если мы остановимся, то потеряем по крайней мере еще полчаса.
Когда обломки машин остались за холмом, происшествие показалось мне столь же невероятным и далеким, как и то самоубийство, свидетелем которого я был утром.
Конечно, следовало бы испугаться. Сейчас, столько месяцев спустя, я испытываю больший страх, чем тогда. Тогда я не «запсиховал», говоря словами Луи, лишь потому, что был слишком занят мыслями о том, как расположить его к себе, и подобный инцидент просто не мог отвлечь меня.
Помню только, я сказал ему:
— Видишь ли, у меня есть своя теория относительно дорожных происшествий. — Хотя он и не поинтересовался какая, я продолжал: — Это своего рода синдром нашего общества, в котором разные расы, находящиеся на различной стадии развития, вынуждены обретаться в одном и том же пространстве.
Солнце уже почти зашло, водянистое и блеклое, движение все нарастало.
— Едва ли твоя теория способна воскресить тех парней, — неожиданно сказал он.
Я внимательно поглядел на сына, но ничего не смог прочесть у него на лице.
— Может быть, ты объяснишь мне, чего ради было останавливаться? — раздраженно спросил я. — Я не умею воскрешать мертвых и не умею оказывать первую помощь раненым. Я не имею никакого отношения к этой кровавой историйке, и у меня нет ни малейшего желания в нее встревать. Мы бы только помешали там, и не более того.
— Я ни в чем тебя не обвиняю.
Впереди показался огромный светофор, обозначавший въезд в Блумфонтейн.
— Бернард бы остановился, — сказал Луи, не глядя в мою сторону.
И хотя я понимал, что он вовсе не дразнит меня, а просто констатирует факт, я на этот раз по-настоящему рассердился. Не столько из-за самого замечания (я могу сделать скидку на юношеский антагонизм), сколько из-за фамильярного упоминания крестного отца. Я привык относиться к старшим с уважением и хотел бы, чтобы мои дети поступали так же. Я знал, что в последние годы он сблизился с Бернардом. Вероятно, Бернард был так привязан к нему потому, что не имел собственных детей. Раза два в году Луи непременно проводил с ним каникулы. И все же это не давало моему сыну права называть его просто Бернардом.
Но сказал он правду. Конечно, Бернард остановился бы. Он никогда не упускал случая вмешаться в чужую жизнь. Да и чем была его адвокатская деятельность, как не постоянным вмешательством в дела других людей? Не то чтобы я сомневался в благородстве его побуждений, но что из этого в конце концов вышло?
Впрочем, именно благодаря этому его свойству мы и стали друзьями. (Можно говорить в данном случае о свойстве характера Бернарда, и оно было таким же бросающимся в глаза, как у других людей, скажем, большие уши, кривые ноги или веснушки.) Это произошло в начале четвертого курса, вскоре после того, как я провел с одной своей сокурсницей уикенд в горах. Ее звали Грета, и для нее секс был столь же естествен и необходим, как еда и питье. Она была у меня первой. С энтузиазмом первооткрывателя я втянулся в это так, как другие втягиваются в пьянство или наркотики. Весь уикенд мы только и делали, что занимались любовью — в ночной прохладе и в дневной зной, в дождь, пронизывающий нас до костей, и под солнцем, обжигавшим наши переплетенные тела. Мы вернулись выжатые досуха, но дело того стоило. Но неделю спустя начались неприятности: нам грозило временное, если не окончательное, исключение из университета.
Охваченный смятением, раскаянием и страхом (что я скажу родителям? Что будет с моими планами на будущее? Какого черта эта нимфоманка трепалась на всех углах?), я не мог заниматься и не сдал Бернарду курсовую работу. После лекции он попросил меня задержаться.
— Что на вас нашло, Мейнхардт? С вами такого еще не бывало.
— Крайне сожалею, сэр, — К тому времени мы уже были достаточно хорошо знакомы, но соблюдали все формальности. — У меня были важные причины, vis major[4]. — Я ухмыльнулся.
— Звучит интересно. Однако сомневаюсь, что суд примет во внимание подобное заявление.
Ни на что не надеясь, я рассказал ему всю историю, или почти всю, чтобы объяснить, как сильно я влип.
— Вижу-вижу, — сказал он, — Дело скверное. Вот что я вам скажу: если вы сдадите мне завтра курсовую работу, я попробую похлопотать за вас, а там посмотрим, что из этого выйдет.
— Черт возьми, сэр! То есть благодарю вас, сэр!
Когда я уже стоял в дверях, он мягко сказал:
— Послушайте, Мейнхардт, я не намного старше вас. Меня зовут Бернард.
Я мало верил в успех его ходатайства. Однако ему удалось все уладить с головокружительной легкостью, восхитившей меня. Я так никогда и не узнал, о чем он говорил с ректором, но я отделался выговором, а Грета — исключением всего на месяц.
Помимо всего прочего, эта история излечила меня от Греты. Я прервал связь, прежде чем она успела обернуться для меня новыми неприятностями. Зато уверенность в себе и любовная техника, приобретенные благодаря ей, упростили мне последующие приключения.
Мы с Бернардом всегда считали, что тот случай был началом нашей дружбы на всю — или почти на всю — жизнь. Сколь часто он встревал в подобные передряги ради других людей в последующие двадцать лет, я точно не знаю. Отчетливо мне запомнился лишь один весьма характерный случай четыре года назад, во время одного из его периодических наездов к нам. Мы сидели за ужином, примерно в половине десятого, было еще несколько гостей, которые пришли к нам, чтобы повидаться с Бернардом. Внезапно я с раздражением услышал, как захлопали двери черного хода, затем раздались крики, плач, ругань. Тогда у нас еще не было овчарок.
Выйдя во двор, я увидел полицейских. Фургон и легковая машина стояли у входа, ворота были распахнуты. Из помещения для прислуги появились два полицейских, волоча какого-то чернокожего. Одна из наших кухарок с визгом бросилась к ним, чернокожий полицейский ударом сбил ее с ног. Вокруг стояло еще несколько полицейских.
— Добрый вечер, — сказал я, подойдя ближе. — Что тут происходит?
— Вы хозяин? — спросил молодой белый офицер, теребя кобуру на поясе.
— Да.
— Вы знаете этого кафра? — Он подтолкнул ко мне задержанного.
— Нет.
— Мы поймали его у вас в доме.
Ко мне подбежала кухарка и, истерически всхлипывая, схватила за руку:
— Это мой муж, баас. Он просто пришел переспать со мной.
— Ты же знаешь, Дора, что это нарушение закона.
— Он мой муж, баас, — упрямо повторила она. — Нас повенчал морути[5].
— Но это нарушение закона, Дора. Он ведь не работает в нашем районе. — Я вздохнул и повернулся к офицеру. — По-видимому, все так и есть.
— Давайте его в фургон, — приказал офицер.
Когда они втолкнули его в фургон и захлопнули дверцу, я вдруг заметил, что рядом со мной стоит Бернард.
— Погодите-ка минутку, — сказал он, — В том, что вы делаете, нет никакой необходимости, вы не находите?
— Закон есть закон, — возразил лейтенант.
— Но ведь нет нужды соблюдать его таким образом, верно? Человек не совершил никакого преступления. Он даже не оказал сопротивления при аресте. Зачем же так грубо?
— Заткнитесь! — взорвался офицер, снова хватаясь за кобуру. — Если вы не уберетесь отсюда, я арестую вас за вмешательство при аресте.
— И это будет вашей последней возможностью отличиться на служебном поприще, — процедил Бернард. — Полагаю, что я знаю законы лучше вас.
Я чувствовал, что сейчас разразится скандал. Белые полицейские, все не старше двадцати лет, подошли ближе.
— Лейтенант, — поспешно вмешался я, — это мой друг, адвокат. Он просто хочет всем нам помочь.
— Если желаете что-то сообщить, обращайтесь завтра в участок, — пренебрежительно бросил лейтенант, не глядя на нас. — Мы уезжаем.
— Какой участок? — спросил Бернард.
Офицер немного помедлил.
— Рандбург, — сказал он наконец и включил зажигание.
— Там и увидимся, — пообещал Бернард и повернулся ко мне, — Возьмем твою машину, ладно? Дора, вы поедете с нами.
Загудев и заскрежетав колесами, полицейские машины уехали, едва не сбив столб в воротах. Внезапно снова стало тихо. Было слышно, как стрекочут сверчки в саду.
— Какой смысл ехать сейчас, Бернард? — сказал я. — Мы все равно ничего не сможем предпринять до завтра. Так или иначе, но он следовал инструкции.
— Почему бы не попробовать освободить человека сегодня?
Гости высыпали во двор узнать, что произошло. Мужчины стояли впереди, за ними испуганной кучкой жались женщины, кое-кто нацепил очки.
— Не можем же мы взять и исчезнуть с вечеринки, — запротестовал я. — Ведь они пришли ради тебя.
— Они могут и подождать, — Он прошел на кухню, переговорил с Элизой, шутливо чмокнул ее и вернулся ко мне. — Мы не надолго, — крикнул он гостям.
Когда мы подъехали к участку, у входа не было ни машины, ни фургона. Бернард, запомнивший номер машины, вошел в здание, чтобы удостовериться, что она действительно приписана к данному участку. Потом я сидел в «мерседесе», слушая всхлипывания Доры, а он расхаживал по двору, под синим фонарем: десять шагов вправо, десять шагов влево. Прошло полчаса, а машин все еще не было.
— Поехали, — сказал я. — Смотри, как уже поздно.
Но если Бернард что-то задумывал, никакая сила не могла его остановить. Он снова прошел в участок. Как я потом узнал, он настоял на телефонном разговоре с начальником участка и получил разрешение связаться по рации с полицейским фургоном. Когда фургон наконец приехал и задержанного вывели, было ясно, что за это время его основательно избили. Бернард пришел в ярость. А если он действительно взбешен, как той ночью, то владеет собой особенно хорошо. С холодной, ненавязчивой деловитостью он еще раз позвонил домой начальнику участка и описал случившееся. Через пятнадцать минут тот был в участке. Задержанного отпустили под залог, а против лейтенанта и его подчиненных было возбуждено дело. Кроме того, Бернард настоял, чтобы Дориного мужа отвезли к врачу для осмотра и составления медицинского заключения.
Домой мы вернулись за полночь. Гости уже разъехались. Элиза ждала нас, сидя за столом, уставленным пустыми рюмками, переполненными пепельницами и тарелками с объедками. Она ни словом не упрекнула меня и даже подставила щеку для поцелуя, а губы ее растянулись в деланной улыбке. Но я видел, что она вне себя. Не будь тут Бернарда, она закатила бы мне многочасовой скандал. (Впрочем, не будь тут его, для скандала не было бы и повода.)
— Увы, дорогая, — сказал он. — Я страшно виноват перед тобой. Но случаются вещи и поважнее.
Он принес себе из бара коньяк и удобно устроился в большом кресле. Я вспомнил, что ему, по его же словам, надо еще подготовиться к завтрашнему выступлению в суде, но был слишком сердит, чтобы думать об этом.
— К чертям собачьим все твои дела поважнее, — сказал я, наливая себе виски. — Из-за какой-то дурацкой истории ты испортил вечер и себе, и другим.
— Зато добился освобождения этого малого прежде, чем его исколошматили еще раз.
— Думаешь, его стали бы бить, не разозли ты их? Тебе лишь бы настоять на своем. И успокоить свою душеньку.
Он не ответил. Он просто сидел и смотрел на меня, тень улыбки играла на его лице, склоненном над стаканом; мы оба слишком устали, чтобы препираться. Не помню, как события развивались дальше. Кажется, он добился своего. Но чего ради? Я-то сделал из этого практические выводы: в конце месяца рассчитал Дору, устранив тем самым повод для подобных инцидентов, и купил двух овчарок.
* * *
Скверная погода зимой в Лондоне. Идти мне некуда, заниматься нечем, ничто не мешает писать. Даже странно, сколь незначительные события вспоминаются при подобном занятии, — события, о которых никогда не думал, что запомнишь их. Что ж, тем интереснее играть с самим собой в эту игру, циничную и в то же время забавную, — считать свою писанину романом, за который я давно грозился приняться. Кроме того, это позволяет взглянуть на себя как бы со стороны, более объективно. Пока я стараюсь избегать каких-либо оценок и толкований. Значит ли это, что я, подобно Пилату, умываю руки? Возможно. По крайней мере я не питаю на этот счет никаких иллюзий. В свое время мы часто спорили по этому поводу с отцом Элизы. Вообще-то я уважал старика, хотя он бывал порой консервативен и прямолинеен. («В сих стенах, с помощью Кальвина и господа я чувствую себя в безопасности».) Но он наделен был природной неподдельной гуманностью и смирением. Его вполне можно назвать олицетворением любви к ближнему.
Что касается Пилата, то отец Элизы исходил из традиционного представления о неискупимой виновности этого человека, которое я решительно не разделяю. Я только что снова пролистал гостиничную Библию (от Матфея 27, от Марка 15, от Луки 23, от Иоанна 18 и 19) и хотел бы спросить: разве можно обвинять Пилата, учитывая те обстоятельства, в которых он оказался?
Каковы же эти обстоятельства? Толпа хотела смерти Иисусовой, ее вожди хотели смерти Иисусовой, да и сам Иисус хотел умереть во исполнение пророчества. Пилат, прекрасно понимая, что этот человек невиновен, делал все возможное, чтобы спасти его. Он говорил с толпой, говорил с обвиняемым. Тот заявил, что рожден «свидетельствовать о Истине». Но когда Пилат спросил: «Что такое Истина?» — обвиняемый отвечать отказался.
Тогда Пилат пришел к весьма разумному решению. Он недвусмысленно дал понять, что убежден в невиновности обвиняемого. Но под давлением обстоятельств и подчинившись требованиям толпы, которая предоставила ему возможность снять с себя ответственность за участь обвиняемого, он холодно умыл руки и выдал узника.
На мой взгляд, это поступок человека, осознавшего требования времени и не подверженного иррациональным воздействиям. Попробуем представить себе, что получилось бы, если бы Пилат решил во чтобы то ни стало спасти Иисуса. Совершенно очевидно, это означало бы лишь его собственное падение. Более того, он никого бы не спас и никому бы не помог: ведь сам Иисус хотел быть казненным. И Пилат подчинился обстоятельствам; нет сомнения, что он презирал толпу и верил в невиновность Иисуса. Он был достаточно разумен, чтобы открыто осудить создавшуюся ситуацию, но не позволить ей раздавить себя. В таком человеке я вижу определенное величие.
Тем не менее я могу сказать, что и на том этапе, за границей, и еще долгое время после моего возвращения на родину я не сомневался ни в нашей системе как таковой, ни в ее основополагающем принципе — философии апартеида. Я по-прежнему рассматривал волнения как результат сомнительных умонастроений или издержек бюрократической системы.
Процесс постепенного изменения моих взглядов был вызван многими факторами и различными отдельными случаями; и хотя я не собираюсь оглашать здесь полный их перечень, я все же должен просить у суда прощения за необходимость упомянуть по крайней мере некоторые из них, те, которые я считаю чрезвычайно важными для объяснения мотивов, обусловивших мои действия.
Возвращаясь в Южную Африку, я уже на пароходе столкнулся с некоторыми спорными ситуациями. В связи с ними следует упомянуть двух моих друзей, которых я приобрел во время этого путешествия. Первый — молодой индийский доктор, возвращавшийся с семьей в Дурбан после нескольких лет стажировки в Эдинбурге. Его звали Мева Патель, и он был одним из самых образованных людей, с которыми мне выпало счастье быть знакомым. Разумеется, он известен и суду. На пароходе мы почти все время проводили вместе. Мы много беседовали о музыке, которую оба страстно любили, но иногда речь заходила и о нашей стране, которую мы любили столь же страстно. Что меня особенно привлекало в наших отношениях, так это деликатная, даже чуть сентиментальная, предупредительность. Однако после прибытия в Кейптаун мы уже не имели права выпить вместе чашку чая или пообедать в ресторане. Более того, если бы у меня был сын и если бы он влюбился в дочь Мевы (одну из самых очаровательных девчушек, каких я когда-либо видел), его посадили бы за это в тюрьму. Подобные обстоятельства, на первый взгляд несущественные и сугубо личные, могут тем не менее существенно изменить воззрения человека.
Вторым моим другом был молодой историк Деннис Хант, ехавший преподавать в Кейптаун после защиты докторской в Оксфорде. Несмотря на англосаксонское происхождение, он был ярым националистом и даже упрекал меня за недостаточно твердые позиции в определенных вопросах. Вскоре после возвращения я вновь встретил его, сломленного и раздавленного реальностью апартеида. Находясь в Англии, он многое идеализировал, но действительность развеяла иллюзии. Все же он еще слишком любил эту страну, чтобы покинуть ее. Через два года он был уже на грани нервного срыва. Однажды он пришел ко мне и сообщил, что решил примкнуть к подпольной организации, хотя отрицал, как и прежде, любые формы насилия. Последнее обстоятельство наряду со всеми прочими заставило его чувствовать себя предателем и белых и черных и привело к глубочайшему кризису.
Вероятно, из-за связей с «нежелательными элементами» он вскоре подвергся репрессиям, и его паспорт был конфискован. Я пытался подбодрить его, но он был в слишком глубоком отчаянии, чтобы прислушаться к голосу разума. Несколько месяцев спустя он бежал в Лесото, называвшееся тогда Басутоленд, где его нервный кризис еще более усилился. Однажды стечение, казалось бы, незначительных обстоятельств — разбились очки, без которых он почти ничего не видел, в Масеру не оказалось врача-окулиста, не было денег на билет в Лондон, а вернуться в Блумфонтейн он не мог из-за угрозы ареста — привело к трагедии. Как только я узнал о его положении, я послал ему телеграфом деньги на билет в Лондон. Но они опоздали. В то самое утро он покончил с собой, бросившись с утеса. Он всю жизнь боялся высоты и стыдился этой своей слабости.
Было множество и других инцидентов, повлиявших на мое решение. Особенно после того, как я начал адвокатскую практику в Кейптауне, мне пришлось столкнуться с силами, подспудно действующими в нашем обществе. И они возмутили меня. В годы сомнений тем немногим, что подбадривало меня в моей работе, была вера в независимость и непредвзятость нашей юстиции. Не хочу оскорблять сегодняшний суд, но должен сказать, что крушение этой веры было одним из тягостнейших переживаний в моей жизни. И дело тут не в отдельных, частных случаях. Уже несколько лет тому назад мне стало ясно, совершенно ясно, что, несмотря на незыблемость наших законов, юриспруденция в этой стране является не механизмом правосудия, а механизмом для применения насилия. Я ужасался не только практике апартеида, но и всей нашей системе и тем принципам, на которых эта система базируется.
Я припоминаю несколько дел, которые имел в виду Бернард, когда писал эти строки, и его реакцию на них. То, что это были чисто уголовные дела, с четкими границами добра и зла, вины и невиновности, определяемыми фактической стороной вопроса, — дела, не имеющие никакого отношения к политике и политическим убеждениям, — произвело на него тем более удручающее впечатление. Я должен заявить, что во многих случаях разделял, да и по-прежнему разделяю его негодование. Разница между нами — в выводах, сделанных из всего этого. Для Бернарда неправедный суд стал, как он сам объяснил, одним из факторов, побудивших его встать на путь активного сопротивления. Я же продолжаю верить, что существуют и другие пути, ведущие к мирной эволюции в рамках существующей системы, прямо противоположные драматической конфронтации, которая может вызвать лишь опасную поляризацию общественных сил и разрушительный конфликт.
Были, например, случаи изнасилований и аморального поведения; некоторые из них я могу изложить в общих чертах, отобрав из огромного количества дел, о которых он мне рассказывал за долгие годы. В самом начале своей карьеры он защищал цветного, напавшего на молодую белую пару, занимавшуюся любовью в автомобиле. Насколько я помню, он ударил мужчину обрезком железной трубы или чем-то вроде этого, а девушку затащил в кусты и изнасиловал. Бернард привлек медицинскую и имущественную экспертизы для подтверждения ужасных условий существования обвиняемого, кроме того, если не ошибаюсь, он привел мотив мести — отец потерпевшей за неделю до происшествия избил и уволил обвиняемого. Несмотря на это, цветной был приговорен к высшей мере (и я не считаю подобный приговор неправильным; Бернард был принципиальным противником смертной казни, но сейчас это к делу не относится).
Год спустя или чуть позже Бернарда попросили взять на себя защиту белого, винодела из Парла, который в отсутствие жены заманил к себе десятилетнюю цветную девочку и изнасиловал ее. Когда она начала кричать, он сломал ей челюсть. Суд не раз откладывался, потому что девочке пришлось пролежать несколько месяцев в больнице. Окончательный приговор гласил: несколько лет заключения условно и пара сотен рандов компенсации.
— Это говорит лишь о росте твоего профессионального мастерства, — сказал я тогда Бернарду. — Ты теперь знаешь все лазейки в законах.
— А как ты объяснишь тот факт, что ни один белый не был повешен за изнасилование негритянки, зато с неграми, покушавшимися на честь белой женщины, это случается постоянно?
— В каждом отдельном случае следует учитывать культурные и социальные различия, — напомнил я ему. — Для чернокожего год тюрьмы — это не наказание, а каникулы с обеспеченным кровом и пищей. Белого же травмируют и несколько недель в заключении.
— Я говорю о жизни и о смерти! — воскликнул он. — Но если ты настаиваешь на социальных факторах, то вот тебе другой пример. Я защищал пару, обвиняемую в аморальном поведении. Без всяких там игр в гараже или в кустах. Это был чернокожий учитель, его связь с белой секретаршей длилась больше года. Если бы закон позволял, они, конечно, поженились бы.
— Почему же они не эмигрировали?
— Сначала они и хотели так поступить, но потом поняли, что нигде в другом месте не смогут заработать на хлеб. И конечно же, они любили ту единственную страну, в которой родились и которую знали.
— В таком случае они знали, на что идут, и жаловаться им нечего.
— Они и не жаловались. И не стыдились признаться в суде, что любят друг друга. Но его приговорили к шести месяцам тюрьмы, а ее — условно. Судья посчитал, что она и так уже достаточно наказана самой оглаской своей постыдной связи с чернокожим. — Он помолчал, чтобы успокоиться, потом добавил: — А полгода спустя, когда он вышел из тюрьмы, они покончили с собой в автомобиле, отравившись выхлопными газами.
— Нельзя же считать суд ответственным за это!
— Я просто упомянул сей факт как пикантную развязку. Рассказать еще что-нибудь?
— Пожалуй, не стоит.
— Умываешь руки?
Много позже его глубоко потряс один процесс в Йоханнесбурге. Должен признаться, что я тоже считаю то дело нелепой и совершенно бессмысленной ошибкой. (Но разумеется, отнюдь не достаточным поводом, чтобы ввергать страну в хаос революции!) Там был замешан иностранец, кажется итальянец, приехавший в Трансвааль но окончании англо-бурской войны и женившийся на чернокожей женщине в тысяча девятьсот десятом году, приблизительно через несколько месяцев после образования государства. В то время подобные браки считались абсолютно законными. Как и многие другие такие же пары, они обосновались в Софиатауне. Когда его жена умерла, он переехал к своей единственной дочери в другой пригород, кажется в Албертсвиль. В то время старик был уже беспомощным инвалидом. Несколько лет спустя, в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, Албертсвиль тоже передали белым, и его дочь как цветная была изгнана из собственного дома. Однако власти запретили старику, которому было за восемьдесят, переехать вместе с ней, поскольку он был белый. А он уже не мог сам вставать!
Бернард взялся за дело с присущей ему решительностью. Но незадолго до окончания процесса старик умер.
— И все твои усилия оказались напрасны, — сказал я Бернарду.
— О господи, Мартин! Они же знали, что он стар и беспомощен. Неужели нельзя было подождать несколько месяцев и дать ему спокойно умереть?
— Я согласен, что все это было ненужно и нелепо. Но нельзя же ожидать от юстиции оговорок на каждый отдельный случай.
— А сколько сотен и даже тысяч таких отдельных случаев можно отнести сюда? — спросил он сердито. — Целые общины сгоняются с места и переселяются в другие районы. В этом деле мы хоть имели поддержку прессы, потому что старик был белый. Но разве ты не замечал гнетущего молчания о тех, кто имеет несчастье быть черным и потому неинтересен для газетчиков?
В то время я еще думал, что мы расходимся с ним лишь в методе аргументации и в терминологии. Однако впоследствии, когда он сам предстал перед судом, я задним числом обнаружил, что зло казалось ему постоянно растущим и непобедимым. Лично я убежден, что все могло пойти иначе и с куда большей пользой, если бы он остепенился, примирился с собой и с миром, отказавшись от излишних крайностей. Если бы, например, прельстился стабильностью, дисциплиной и определенностью семейной жизни.
Ну да, в конце концов он женился. Но развелся меньше чем через год. Это совпало с делом старого итальянца. Брак, длившийся несколько месяцев, никак не назовешь остепенением. А жаль. Потому что, раздумывая над его судьбой, ясно видишь, что все в его жизни было лишь ненужной трагедией и бессмысленной потерей.
Может быть, стоит вспомнить еще одно дело, из самых сенсационных в его адвокатской практике. Оно касалось сына одного из министров, обвиняемого в «засаливании» новой шахты на юго-западе. Я слышал об этом задолго до шумихи в прессе, потому что слежу за всем, что происходит в горном деле. Знал я и о чудовищном давлении, пущенном в ход, чтобы избежать суда. Но после целого года проволочек и скрытых интриг бомба все же разорвалась (что, не правда ли, доказывает независимость нашей юстиции, столь несправедливо порицаемую Бернардом). Когда стало ясно, что дело не замять, Бернарду предложили взяться за защиту. Его первой реакцией был безоговорочный отказ. Я горжусь, что перемена решения произошла не без моего участия.
— Подонок, безусловно, виновен, — сказал он мне как-то, когда мы заговорили об этом деле.
Это было поздно вечером, Элиза и дети уже спали.
— Тебе ведь и прежде приходилось защищать виновных подонков.
— Обычно по зову души.
— А винодела насильника тоже по зову души?
— В те дни мне необходимо было набить руку. Нет ничего более подходящего для этой цели, чем безнадежные дела. А может быть, я пытался найти хоть что-нибудь хорошее в человеке столь явно дурном. Вопрос морали.
— Что общего у морали с законом? Твой долг адвоката добиваться успеха в любом деле, за которое берешься. Это интеллектуальное упражнение вроде шахмат.
— В таком случае у меня тем более есть право браться за дело или отказываться от него.
— А если ты представишь на суде это дело так, что оно поможет другим невинным жертвам или обратит существующий закон на предупреждение возможных преступлений? Разве этого мало?
Каковы бы ни были в итоге его мотивы, но за дело он взялся и провел одну из самых блистательных защит в истории нашей юстиции. Казалось, уже ничто не могло помочь обвиняемому. Бернард сделал не просто что-то — блестящим анализом, своего рода юридической гимнастикой он добился сведения проступков обвиняемого к нескольким, не доступным пониманию неспециалиста техническим ошибкам, а только это и требовалось.
Встретив Бернарда через месяц произведенным в старшие советники (что, конечно, было косвенным гонораром за успешную защиту), я нашел его в глубочайшей депрессии.
— Что случилось? — спросил я. — Ты должен быть на седьмом небе.
— Нет, скорее, в преисподней. — На мгновение в его глазах вспыхнули знакомые мне злые огоньки. Затем он покачал головой: — Нет, Мартин, я замарал руки, участвуя в этой грязной истории. Я чувствую себя предателем.
— Ты был великолепен!
— Тем более это лишь подтверждает твои же слова: судопроизводство у нас — это игра в шахматы. К сожалению, подобные упражнения мне не по нутру. — Пристально глядя мне в глаза, он продолжал: — Самое неприятное то, что, похоже, даже провали я защиту, этот сукин сын все равно вышел бы сухим из воды.
— Но ты не провалил ее.
— Именно для этого меня и наняли. Мне удалось найти кое-какие технические зацепки, и они сыграли на них. Взявшись за эту защиту, я расписался в том, что готов проституировать. — Он подался вперед, глаза его сверкнули. — Но клянусь господом богом, больше такое не повторится!
— С каких это пор ты стал верующим?
На мгновение он смутился, а потом по-мальчишески улыбнулся и сказал:
— Ладно, клянусь кем и чем угодно, что каждое дело, за которое я отныне возьмусь, будет служить одному: дать хорошего пинка их чертовой системе.
— Их системе?
— Да, их. Я больше не могу считать эту систему своей. Я отказываюсь иметь что-либо общее с нацией, поставившей своей целью принуждение и насилие.
— Значит, теперь ты умываешь руки?
— Вовсе нет. — Он улыбнулся. — Я сжимаю кулаки.
События в Шарпевиле и их последствия также оказали влияние на мои убеждения. Моя первая реакция на применение насилия была чисто эмоциональной: режим, для «выживания» которого необходимо безжалостное убиение мирных демонстрантов, в том числе женщин и детей, не имеет права на существование. К тому времени я уже был твердо убежден, что ни африканеры, ни любой другой народ не могут считать «выживание» своим исконным правом на основании лишь того факта, что они существуют. Выживание следует заслужить достойным существованием. После долгих размышлений я все же решил, что должен взглянуть на вещи объективней: может быть, все эти ужасы будут устранены с появлением в обществе новых сил, или, может быть, власти научатся правильно оценивать реальную ситуацию и раскаются в том, что случилось в этой стране. Но нет, вскоре после событий было введено чрезвычайное положение, АНК объявлен вне закона, свыше двух тысяч его активистов брошены в тюрьмы и десятки тысяч членов подверглись превентивному заключению.
И вот лидеры АНК собрались в Питермарицбурге, чтобы сделать последнее предупреждение властям — призвать правительство начать публичное обсуждение нового проекта конституции. В протйвном случае они намеревались объявить в конце мая трехдневную забастовку черного населения по всей стране. И вновь они взывали к глухим. Ответом на их призыв были новые репрессии, на период с девятнадцатого по двадцать шестое июня запрещены все собрания, по всей стране прошли полицейские облавы, еще около десяти тысяч африканцев было арестовано, воинские подразделения разогнали демонстрации в негритянских гетто. Тогда и началась новая эра борьбы — эра вооруженного сопротивления.
Я тоже мог бы многое сказать о Шарпевиле. Эти события произвели на меня столь же гнетущее впечатление, еще более усугубленное тем, что я узнал о них, находясь в длительной европейской поездке. Когда все это произошло, я был в Лондоне. Я видел толпы протестующих демонстрантов на Трафальгар-сквер. В каждом новом выпуске газет сообщалось об ухудшении ситуации. Казалось, что вся Южная Африка объята пламенем.
Некоторые из моих английских знакомых говорили:
— Вам повезло, что вы не там, не на бойне.
Но я прервал деловые переговоры и первым же самолетом улетел на родину. Даже если всем нам суждено погибнуть, думал я, я хочу погибнуть вместе с моим народом. Это было, пожалуй, самое нелогичное решение в моей жизни. Тем не менее полагаю, что в подобных обстоятельствах я и сейчас поступил бы так же. Хочу в это верить.
Я не собираюсь отрицать наличие серьезных недостатков в нашей системе. Но я считаю, что правительство, поддающееся в таких обстоятельствах шантажу, неизбежно обрекает себя на поражение. Я не могу понять людей, которые, как только что-то случается, принимаются утверждать, будто вся вина лежит на нас, белых. Если мы пойдем на уступки без всяких ограничений и не задумываясь о последствиях, то лишь подтвердим эту точку зрения. Предположим, что требования демонстрантов будут удовлетворены, — где гарантия, что они не запросят еще большего? Прежде чем приступить к каким-то изменениям, следует восстановить законность и порядок, без которых невозможно движение вперед. А в тот момент единственным средством восстановления законности и порядка были насильственные Действия.
Мне очень больно, что Бернард не хотел трезво посмотреть на положение дел. По-моему, ему так и не удалось излечиться от юношеского романтизма. А в подобной ситуации романтизм неуместен.
В конце затяжного процесса в Йоханнесбурге я как-то вечером подвозил одного старого негритянского лидера АНК к нему домой в Александра-тауншип. По дороге я изложил ему все ту же теорию, согласно которой разделение рас уменьшает трение между ними и вероятность конфликта. Его ответ был чрезвычайно прост. Если разделить народ на два лагеря, сказал он, и прервать контакты между ними, в каждом лагере скоро забудут, что в другом живут такие же люди, что они так же радуются и горюют, веселятся и печалятся — и по одним и тем же причинам. В каждом лагере будут расти подозрительность и страх, а они — основа расизма. И он добавил: «Как повели бы себя африканеры, если бы мои люди сказали им: с сегодняшнего дня вы можете жить только в Оранжевой провинции, но не добывая там ни угля, ни золота. А если вы захотите поехать в другую часть страны, вам придется обзавестись специальным пропуском. Вы не имеете права посещать наши школы, университеты, рестораны и театры. Вам разрешат работать на наших предприятиях при условии, что семью вы оставите дома, а жить будете в лагерях; вас не поставят на квалифицированную работу, и за все это вы еще должны считать себя облагодетельствованными и помнить, что вас могут изгнать отсюда, стоит нам сказать слово…»
5
Как только мы отъехали от Блумфонтейна, солнце зашло и сразу стало совершенно темно, без всякого перехода от сумерек к ночи.
— Проголодался? — спросил я Луи.
— Не слишком.
— Может быть, остановимся в кафе у Аливала?
Он кивнул.
— Тебе, наверное, частенько приходилось голодать в Анголе?
— Бывало.
Мне захотелось как следует встряхнуть его, чтобы вывести из состояния замкнутости. Но разве это поможет? Сначала нужно как-то расположить его к себе. Может быть, обнять за плечи? (Последний раз такое желание возникло у меня той дождливой ночью, когда в мою машину сел Бернард.) Но с Луи эффект будет, скорее, отрицательным. Кажется, я не дотрагивался до него даже случайно многие годы. Мне почему-то неприятен физический контакт с людьми. Женщины, разумеется, исключение. И то до известной степени. Пока мы в постели, все в порядке, у меня нет никаких ограничений. Но как только мы покинули постель, все эти поцелуи, объятия, держание за руку мне невыносимы.
— Все-таки мы проехали уже больше половины пути.
— Да.
Стиснув зубы, я посмотрел на часы на приборном щитке. Без трех шесть. Я включил радио. Какая-то дурацкая музыка. Но и она прекратилась. Сигнал времени. Часы идут секунда в секунду, отметил я с удовлетворением. Новости читал молодой диктор с оттенком самодовольства в голосе, весьма неуместным. Новые волнения в Бейруте. Фунт по-прежнему падает. Верховный суд в Претории признал Бернарда Франкена виновным в тринадцати нарушениях Закона о борьбе с терроризмом и Закона о подавлении коммунизма и приговорил его к пожизненному заключению. Судья Россау, оглашая приговор, отметил, что и смертная казнь была бы вполне оправдана в виду тяжести совершенных преступлений.
Зачем я включил радио? Пожалуй, чтобы удостовериться. Иногда отказывает чувство реальности. Но здесь не может быть никаких сомнений. Я выключил радио и включил магнитофон. Моцарт в исполнении Ингрид Хеблер.
После приговора в зале зазвучало Nkosi sikelel’ iAfrika. Странное мгновение полного оцепенения, и только Бернард стоял улыбаясь, удивительно спокойный, словно его одного это ничуть не касалось или одного его совершенно устраивало. Потом полиция стала очищать зал от публики. Но и тогда пение не смолкло: пели в вестибюле, у входа, на площади, где большая толпа окружила памятник Крюгеру, пели Nkosi sikelel’ iAfrika.
Что же касается тех, кто свидетельствовал против меня, включая моих прежних клиентов и друзей, то я не собираюсь ни стыдить, ни упрекать их. Я не знаю, при каких обстоятельствах они согласились выступить. Могли быть компрометирующие их факты, известные властям, есть, кроме того, определенные методы давления, применяемые тайной полицией, — методы, посредством которых человеческая личность унижается и уничтожается. Это общеизвестно, и это позор для нашей страны. В свете всего этого настоящий суд может предположить, насколько правдивы такие показания. Достаточно напомнить суду о самоубийстве одного лица, принуждавшегося к даче показаний против меня, человека, о котором никто из знавших его не мог подумать, что он когда-нибудь лишит себя жизни, и о двух покушениях на самоубийство среди тех лиц, которые в итоге предстали здесь свидетелями обвинения. В подобных обстоятельствах можно утверждать, что юстиция утратила свое предназначение, что правосудие подменено инквизиторскими методами следствия, приводящими к полному закабалению человека.
Даже если вы приговорите меня к смерти, я не стану просить о помиловании. Я действовал, полностью осознавая возможные последствия и во имя свободы большей, чем свобода отдельного индивидуума. Я отдаю себя в ваши руки. Я не боюсь ни тюрьмы, ни смерти. Теперь уже ничто не в силах отнять у меня мою свободу.
Действительно, на этом суде было достаточно «драматических» коллизий, на которые падки журналисты. Для правильной расстановки акцентов, вероятно, следует изложить здесь официальную часть биографии Бернарда, которая общеизвестна.
Когда Бернард сказал мне в те давние времена, что он сжимает кулаки, это не было пустой фразой. В 1965 году он взялся за свое первое политическое дело: защиту четырнадцати человек, обвиняемых в антигосударственной деятельности, организации саботажа и направленной против белых агитации. Это был один из тех судейских марафонов, которые тянутся больше года. (В начале процесса Бернард жил у нас, но затем, несмотря на все наши уговоры, не захотел «обременять» нас и снял квартиру, хозяин которой, университетский преподаватель, находился в то время на стажировке за границей.) В конце концов всех обвиняемых оправдали. В юридических кругах это считалось триумфом Бернарда. (За пределами этих кругов реакция на его успех была куда менее приятной. Со дня вынесения приговора он то и дело находил свою машину с проколотыми шинами или разбитыми стеклами, его дом на Тамбурклоф неоднократно подвергался нападению, на дверях кто-то рисовал серп и молот, а однажды ночью в окно его спальни бросили зажигательную бомбу, по счастью не причинившую никакого вреда. И конечно же, ни одного из хулиганов не поймали.)
Но и сам триумф длился недолго: через две недели все заговорщики были снова арестованы, на этот раз по «Девяностодневному акту» (лишь двоим из них, по-видимому предупрежденным, удалось ускользнуть в Англию), и после бесчисленных проволочек вновь предстали перед судом, обвиненные в десятках новых преступлений.
Возрастающее число дополнений и поправок к законам делало все менее возможным оправдание лиц, обвиняемых в политических преступлениях, но Бернард с прежней яростью и решимостью бросался их защищать, часто, как я полагаю, получая лишь символический гонорар. Самым сенсационным был так называемый «процесс террористов» в начале 1973 года; тогда всех семерых подзащитных Бернарда, включая уже упомянутого доктора Меву Пателя, осудили на пожизненное заключение. Тот факт, что им удалось избежать смерти, можно объяснить как уже почти легендарным профессионализмом Бернарда, так и (хоть он бы со мной и не согласился) терпимостью южноафриканского правосудия.
В то время всю парадоксальность ситуации на суде понимал лишь сам Бернард. Дело в том, что он был не только защитником обвиняемых, но и их сообщником. Более того, он был их главарем. Это стало ясно, лишь когда он сам предстал перед судом, хотя слухи об этом ходили уже с того момента, как в декабре 1974 года по радио было сообщено об аресте Бернарда и еще трех кейптаунцев по обвинению в нарушении параграфа шестого Закона о борьбе с терроризмом.
Защищать на суде людей, участвующих в подпольной антигосударственной деятельности, — это одно, но самому быть замешанным в подобную деятельность — совсем другое. (А может быть, я всегда ожидал от него чего-то такого? Во время своего первого политического дела он как-то раз сказал мне: «Знаешь, что я считаю самым примечательным в этом деле? То, что среди четырнадцати обвиняемых — черных, цветных и даже белых — нет ни одного африканера, хотя именно африканеры первыми начали бороться за свободу и справедливость в этой стране. Я только тогда вновь почувствую уважение к нашему народу, когда на таком вот суде среди англичан, евреев, индийцев, зулусов появится африканер». И когда такой африканер наконец появился, им был сам Франкен).
Но первое потрясение, вызванное известием об аресте Бернарда, оказалось отнюдь не последним. Месяц спустя, в январе 1975 года, последовало сообщение о побеге Бернарда и одного из его сообщников, цветного по имени Онтонг. До этого момента я все еще надеялся, что его арест был следствием административной ошибки. Но я понимал, что Бернард не стал бы бежать, не имея на то серьезных причин.
Двое других продолжали находиться под арестом, несмотря на протесты НССЮА[6], Христианского общества и научных кругов в связи с превышением допустимого срока заключения под следствием. В конце концов причина столь долгого расследования стала известна: от них требовали показаний против Бернарда. По сравнению с ним они были птицами невысокого полета.
Через тринадцать месяцев, в феврале нынешнего года, Бернарда снова арестовали. Некоторое время, как выяснилось впоследствии, он находился за границей. Я был потрясен. Если человеку приходится уносить ноги из собственной страны, пусть уносит. Это уже само по себе тяжело. Но вернуться, зная наверняка, что тебя арестуют, — такое выше моего разумения. По-моему, это просто безумие.
С Бернардом арестовали еще троих, в том числе и бежавшего вместе с ним Онтонга. Теперь все стало на свои места, следствие закончено, и суд назначен на середину мая. Но тут-то и началась «драма» с побочными сюжетными линиями, хотя, казалось бы, и основной было вполне достаточно.
За два дня до начала суда объявили, что Онтонг (главный свидетель обвинения, показания которого о деятельности Бернарда после побега были особенно важны) предпринял попытку самоубийства в тюремной камере. А в конце первой недели заседаний еще один свидетель попытался вскрыть себе вены. Суд, однако, не прервали. Из тюрьмы были доставлены несколько бывших «клиентов» Бернарда для дачи показаний государственной важности, главным образом о руководящей роли Бернарда в заговоре 1973 года, что вызвало настоящую сенсацию. Правда один из них сбился в показаниях и зарыдал в голос. Заседание пришлось прервать. На следующий день свидетель держался более спокойно. Но когда судья стал расспрашивать его о личном отношении к Бернарду, он совершенно сорвался. Отвратительный спектакль.
«Я ненавижу этот суд! — заорал он. — Ненавижу вас всех! Ненавижу вашу вонючую систему, принуждающую человека губить собственного друга! — Затем, повернувшись к Бернарду (как сообщали газеты — меня, к счастью, в тот день на суде не было), он надрывно продолжал: — Я уважал этого человека, я работал с ним, я любил его, я и сейчас чту его в душе своей. Но меня просто сломали. Мне обещали смягчение приговора, если я дам против него показания. Я не хотел, но, если бы я не согласился, они довели бы меня до сумасшествия. Я два года просидел в одиночке. Они знают, как сломать человека, это они умеют. Они нагадят на твою пищу и заставят съесть ее. Они посадят в соседнюю камеру смертника и заставят тебя слушать его крики…» И еще множество сенсационного вздора в том же духе.
И конечно, доктор Мева Патель, также призванный свидетельствовать против Бернарда. Газеты обещали новую сенсацию. Но произошла новая драма. Утром в день своего вызова в суд Патель бросился с десятого этажа из окна здания управления тайной полиции в Претории. Это и само по себе было достаточно скверно, но возникли и дополнительные осложнения. Журналист, утверждавший, что видел тело сразу после факта установления смерти (как это ему удалось?), заявил, что на теле Пателя было множество ран и следов ожогов, которые не могли быть вызваны падением. А затем крайне таинственно исчезло медицинское заключение о смерти, составленное районным врачом. И так далее.
Из-за всех этих осложнений суд в скором времени стал предметом международной шумихи и совершенно уникальным явлением в истории нашей юстиции. Можно только надеяться, что пресса, в том числе и зарубежная, рано или поздно осознает, насколько исключительным событием был этот процесс, и не станет судить по нему о политическом климате в нашей стране. Самому же Бернарду, виртуозному юристу, на мой взгляд, вся эта шумиха была ни к чему. Он заслуживал более серьезного к себе отношения.
Итак, господин судья, в один прекрасный день я понял, что не могу более терпеть смирительную рубаху, накинутую на нашу страну и ее прошлое. Это означало, что мне придется бороться против своего народа, против тех самых африканеров, которые в прошлом сами боролись за свободу, а теперь взяли на себя миссию распоряжаться судьбами других народов.
Для того чтобы выжить в Южной Африке, сейчас, как никогда ранее, необходимо открыть глаза и прислушаться к собственной совести. А нас учат ничего не чувствовать и ни над чем не задумываться, иначе ты станешь нежелателен. Другими словами, парадокс заключается в следующем: чтобы выжить, нужно отказаться от самой жизни. А стоит ли такая игра свеч?
Конечно, для нормального гражданина нелегко пойти против закона. Человек инстинктивно стремится следовать предписаниям своего общества. А если он к тому же и представитель закона, то инстинкт усилен его познаниями. Лишь глубокие и всеобъемлющие истины, открывающиеся ему, могут заставить его избрать иной путь. Я никогда не считал достаточным поводом для такого решения простую неудовлетворенность собственной жизнью. Чтобы принять такое решение, нужно тщательно проанализировать диагноз и методы лечения. Именно это я и собираюсь сейчас сделать.
Холодная, сверкающая мелодия Моцарта движется своим замысловатым ходом. Соната ми-бемоль мажор. В жизни человека, столь занятого, как я, музыка — единственное прибежище для чистого отдохновения. Если я возвращаюсь домой поздно ночью, слишком усталый, чтобы думать или даже спать, лучшее средство расслабиться — это уединиться в кабинете и слушать Моцарта. Когда Бернард приезжал к нам, мы проводили хотя бы один вечер, слушая музыку. Это было подобно разговору без слов. Погружаясь в музыку, мы, казалось, вступали в общение, более интимное и тесное, нежели то, которое допускает человеческий язык. Возможно, и это было иллюзией, но, во всяком случае, иллюзию питали мы оба, судя по чувству полнейшего расслабления и следовавшей за ним особой доверительности. В мире организованного звучания все остальное утрачивало реальность: дом, в котором мы находились, темный сад за окнами, бассейн в саду, кусты и деревья, обнесенные стеной, город в отдалении, страна — все концентрические круги внешнего мира. Музыка возрождала утраченную упорядоченность и уверенность — и тысячи естественных страхов постепенно оставляли нас. Нечто схожее с тем состоянием я испытываю сейчас в Лондоне.
Моя любимая вещь у Моцарта — Концерт для фортепьяно си-бемоль К. 595 в исполнении Шнабеля. И самая любимая его часть — ларгетто. К сожалению, у меня нет кассеты с этой записью. Может быть, попросить Луи переписать ларгетто с пластинки? В конце концов, возня с дурацкой звукозаписывающей аппаратурой была чуть ли не единственным его занятием. Элиза часто жаловалась, что шум не дает ей покоя. Я был склонен считать ее жалобы обычным ворчаньем матери, пока однажды, несколько месяцев назад, не понял, сколь далеко все зашло. Он занимался со своей аппаратурой — с наушниками и без них — с утра (что для него означало часов с десяти-одиннадцати) и до глубокой ночи. Уже сама по себе музыка была достаточно чудовищна (не от меня он унаследовал столь дурной вкус), но еще хуже было то, что он даже не слушал ничего толком, каждые несколько минут переставлял пластинки, и момент ужасающего взрыва, какофонического оргазма, варварского ритма мог в равной мере быть как концом одной пластинки, так и началом другой. Вероятно, он пытался систематизировать свою коллекцию, изо дня в день меняя принцип каталогизации и каждый раз начиная все сначала. А длилось это уже не день и не два, а недели и месяцы.
Пока я не решил, что с меня довольно, и не поставил его перед выбором: или он отправляет меня в могилу с новым инфарктом, или кончает это безобразие. Именно тогда он и начал куда-то исчезать из дому. Пропадал, бывало, по нескольку дней. Расспрашивать было бесполезно. Он только пожимал плечами. С чем родителям довольно трудно смириться, когда речь идет о девятнадцатилетнем юноше.
Попросить его записать для меня Моцарта — пожалуй, это весьма удачный ход. Может, и вкус ему исправит. До Анголы он был очень восприимчив к серьезной музыке. Я уверен, ларгетто на него подействует.
Я хорошо помню, как впервые услышал Концерт си-бемоль минор. (Не перестаю удивляться своей способности вспоминать, казалось бы, давно забытое — процесс, подобный движению пузырьков, всплывающих со дна моря и внезапно взрывающихся на поверхности с пугающей, ослепительной реальностью.) Это было тем вечером в мой последний университетский год, когда я обнаружил тело Шарля Кампфера на ковре в его гостиной с синим кругом, нарисованным вокруг пупка, — последний вызов, абсурдное и нерасшифрованное послание.
Я знал его не очень хорошо (Бернард представил меня ему за год до того), но достаточно, чтобы испытывать юношескую симпатию к одинокому и чрезвычайно одаренному художнику. Быть может, мне нравился именно его цинизм, ведь нас всегда тянет к своеобразным личностям. На мой наивный взгляд, он был «блистательным» художником. Но после нескольких нашумевших вернисажей в Кейптауне и Йоханнесбурге он вдруг пресытился успехом и упаковал свои кисти. Теперь он проводил время исключительно за книгой или за бутылкой, лишь иногда делая иллюстрации для журналов.
— Что это за бред о поисках смысла? — спрашивал он меня в своей обычной насмешливой и вызывающей манере. — Любой поиск смысла в такой стране, как эта, — чистейшей воды эскапизм. Что такое смысл? Чушь. Бывают всякие дела: можно сложить книги в портфель, съесть бутерброд, купить бутылку, убить комара, — а при чем здесь смысл?
— Но нельзя же рассуждать обо всем, принимая во внимание только частности, — горячо протестовал я. — Должно быть и нечто большее. Нужно стремиться к чему-то.
— О господи, ты все еще начинен пустыми идеалами. Что значит стремиться? Вот что я тебе скажу, парень, все, что мы делаем, мы делаем лишь для того, чтобы убить время. Нет никакой существенной разницы между поеданием банана и половым актом.
В его отношении ко мне был, несомненно, гомосексуальный оттенок, что никогда, впрочем не прорывалось наружу, не говоря уже о попытке перейти к действиям. В итоге он оказал на меня одно из «ключевых» влияний в мои студенческие годы; его отрицание всего и вся, его предельный цинизм, его крайний нигилизм были необходимой противодействующей силой Бернардову энтузиазму и неискоренимому жизнелюбию.
Когда я позвонил ему в тот вечер — неделю спустя после пасхальных каникул на ферме Бернарда и спросил, можно ли мне зайти, он ответил чрезвычайно злобно:
— Что это тебя опять ко мне потянуло?
— Просто захотелось поговорить с вами.
— Я полагаю, у тебя есть с кем поговорить и без меня.
— О чем это вы, Шарль?
— Ни о чем. — Горький короткий смешок. — Я слышал, ты прогуливаешься поздно вечерком с дочерьми священников?
— Так вы это об Элизе? — изумленно спросил я.
— Вы пока еще распеваете псалмы или уже спите? Ну и какова она?
— Шарль, если вы не хотите, чтобы я приходил.
— Разумеется, приходи. Поговорить-то с тобой я всегда в состоянии.
Когда я приехал к нему, он уже умер от потери крови.
К тому времени я видел слишком много смертей, и насильственных тоже, чтобы испугаться самоубийства как такового. Но было нечто пугающее в том, как он покончил с собой — этот голубой круг и время самоубийства, явно приуроченное к моему приходу. В ужасе я бросился за помощью к Бернарду. Поздно ночью, когда полицейские с моими письменными показаниями и «скорая помощь» уехали, Бернард повез меня к себе домой. Он сварил кофе. И несколько раз в ту ночь ставил на проигрыватель пластинку с Концертом си-бемоль минор. Это была первая из наших безмолвных бесед, растянувшихся на многие годы. Может быть, именно потому эта музыка имеет для меня особый смысл. Концерт сразу стал «нашим». (Впро_ чем, все эти воспоминания относятся еще к моему раннеромантическому периоду.)
А потом была и другая ночь, та, о которой я не вспоминал до сегодняшнего дня. Пытался ли я подавить воспоминания? Нет, не думаю. Человек всегда должен иметь правильное представление обо всем, и, кроме того, само событие было не столь уж важно.
Это случилось вскоре после начала марафонского «процесса заговорщиков» в Йоханнесбурге, когда Бернард еще жил у нас. К моему особому удовольствию, ибо благодаря этому мне было легче скрывать от Элизы связь с Марлен.
О Марлен много говорить нечего (хотя она вполне подходящий типаж для романа), сама по себе она ничего не значит. У меня были женщины и до нее, уже через пару месяцев после рождения Луи, и, пожалуй, еще больше после нее. Когда заводишь первую интрижку, ей присуща сладость запретного плода. Но затем это входит в привычку, как и многое другое. С возрастом подобные связи приносят дополнительное удовлетворение — доказываешь себе свою удаль, поддерживаешь самоуважение. Но самое смешное, что с годами все становится проще и проще, и для такого доказательства не приходится прикладывать много усилий. Дело в увеличении возможностей и в совершенствовании техники. По-видимому, все это постепенно становится как бы жизненным стилем: без любовницы обходиться столь же немыслимо, как без бассейна или хорошего красного вина. И это так понятно: бизнесмен средних лет производит впечатление на молодую девушку своей солидностью, уверенностью, самообладанием, легко обеспечиваемыми гарантиями. Девушка падает в его объятия, и оба рады: она потому, что важный человек обратил внимание на ее незначительную персону, он потому, что его мужественность подтверждена триумфом над отсутствующим, но предполагаемым молодым соперником.
Итак, о Марлен. За шесть месяцев до того она начала работать в конторе секретаршей. Я не думал, что она у меня задержится: несмотря на свои двадцать пять или двадцать шесть лет, она была чересчур нежна для такой работы. Она проходила по жизни с выражением ранимости на темноглазом лице, которое как бы говорило: «Ну оскорбите же меня». Напускать невинный вид, поддерживая в себе тем самым иллюзию собственной непорочности, — обычная самозащита женщин, воспи-тайных в слишком пуританском духе, чтобы трезво воспринимать себя просто как шлюшку. Чувствительная душа Марлен процветала на ощущении постоянной обиды. На деле женщины такого типа — самые опасные хищницы.
Она вскоре стала поверять мне свои тайны, с каждым разом все более интимного характера.
На день рождения я подарил ей роскошное французское белье (одно из преимуществ моих частых поездок за границу — я всегда привожу экзотические подарки тем, кто того заслуживает). Принимая ее благодарственный поцелуй, я задержал ее в объятиях чуть дольше, чем полагалось бы при отеческом жесте. И выражение ее темных глаз подсказало мне, что дело клеится.
В тот вечер мы поужинали в ресторане, и я обильно накачал ее импортным вином. В машине она положила голову мне на плечо, а ехали мы в мою квартиру в Жубер-парке. (Собственно говоря, я снял ее для приема важных деловых клиентов, но со временем приспособил и для других нужд; Элиза, разумеется, ничего не знала.)
И в постель. Единственным осложнением было то, что Марлен вскоре начала неистовствовать: «О, Мартин, мне ни с кем не было так хорошо! У меня никогда не было такого любовника, как ты, такого внимательного. О Мартин, я люблю тебя!» Глупая маленькая потаскушка. Когда женщина говорит, что любит вас, пора сматывать удочки.
Но вернемся к сцене великого обольщения. Только около полуночи я наконец убедил ее одеться, чтобы отвезти домой, в Крайгхал-парк, что, к счастью, было по пути и мне. У себя дома она снова полезла ко мне, и я вынужден был провести еще один раунд в постели. Прошло не менее часа, прежде чем мне удалось ускользнуть от последних всплесков ее страсти и поехать домой.
Город был залит огнями и напоминал рождественскую елку. Словно в этом мире не могло быть места убийству, насилию, предательству, эксплуатации и бог знает еще чему. Мне хотелось поскорее попасть домой и провести часок, слушая Моцарта. Я был уверен, что Бернард не спит и разделит со мной это удовольствие. А потом стакан виски. И спать.
Мы тогда еще не завели собак, и ворота были открыты. Я въехал в гараж, погасил свет и посидел некоторое время в машине, опустив голову на руль. Мои пальцы слегка пахли ее телом.
Потом я запер ворота, закрыл гараж и прошел на кухню. В доме было темно, свет горел только в кабинете. Развязав галстук и накинув пиджак на плечи, я пошел туда. Войдя в кабинет, я обнаружил там Бернарда и Элизу. Оба еще не спали. И были вместе.
Я не допускаю и мысли, что между ними что-то произошло, — никакой поимки на месте преступления. И все же в этой сцене было, пожалуй, даже нечто большее.
Элиза сидела в глубоком кресле, в халате, в туфлях на босу ногу, с распущенными по плечам волосами — в таком виде она бывала в спальне, но никогда не показывалась перед посторонними. Бернард только что отошел от бара с рюмкой коньяку в руке. Так я их и застал: он подавал ей рюмку, она тянулась к ней, жестом Микеланжелова бога, творящего Адама. Ее лицо было обращено к нему, я видел только профиль. Ее губы, ее глаза. Он глядел на нее с едва заметной улыбкой. Когда она брала рюмку, их пальцы соприкоснулись — всего лишь легкое прикосновение. На проигрывателе стояла пластинка Моцарта, музыка звучала очень тихо, но ошибиться было невозможно: Концерт си-бемоль минор, ларгетто.
Бернард первым заметил меня и повернулся ко мне с улыбкой. Элиза тоже обернулась и сказала:
— Привет. Ты вернулся?
— Привет. Вернулся.
— Закончил дела?
— Не все, но большую часть. С этими отчетами всегда приходится повозиться.
Возможно потому, что тут был Бернард, я подошел к ней и поцеловал в лоб. Затем налил себе выпить. Элиза сидела не шевелясь.
Я не заметил на их лицах разочарования, у меня не возникло ощущения, что я вторгся не вовремя. И все же я чувствовал, может быть, благодаря музыке, что нечто важное случилось или должно было случиться; это было заметно даже по тому, как он передавал ей рюмку.
Я вышел за льдом. Когда я вернулся, Элиза поднялась.
— Пора ложиться, — сказала она.
— Почему бы тебе не посидеть еще немного? — машинально спросил я.
— Я устала. Даже не думала, что уже так поздно.
Когда она ушла, я увидел, что ее рюмка на подлокотнике кресла осталась невыпитой. Я подумал было отнести ее ей. Но с какой стати?
Бернард сел на край письменного стола, а я опустился в освободившееся кресло, еще хранившее тепло ее тела. Элиза. Моя жена. Было нечто странное в этой мысли. Нечто двусмысленное. Чувство обладания и отстранения, усталой отчужденности.
Мы в молчании дослушали Моцарта. Я думал об этом жесте с рюмкой, о соприкосновении рук, о лицах, обращенных друг к другу. В душе у меня, помню, росло чувство потери, опустошенности, отупения, которое я не мог понять. Но что я утратил? Чего лишился? Только не Элизы — как я мог лишиться того, чем никогда по-настоящему не владел? Бернарда? Из-за того, что он предал исключительность «нашей» музыки? Просто смешно. И все же что-то было в том, как эти милые, одинокие люди сидели вдвоем в полутемном кабинете, в том, как она протянула руку за рюмкой, словно прося чего-то большего.
Он снял пластинку и выключил проигрыватель.
— Пожалуй, и нам пора спать, — сказал он.
— Жаль, что я приехал так поздно.
— Ничего. Мы поразвлекали друг друга.
— Вот и прекрасно.
Протянув руку к выключателю настольной лампы, он вдруг спросил:
— А вы счастливы, Мартин?
— Почему ты спрашиваешь об этом?
— Не знаю. Но ты не ответил.
— Да. Полагаю, мы счастливы. Ты ведь знаешь, как это бывает. Мне приходится уделять все больше времени делам и все меньше остается для нее. Но мы хорошо ладим между собой.
— Понимаю.
— На тебя просто, видимо, произвел гнетущее впечатление твой собственный брак. — Это было вскоре после его развода. — Ты ведь никогда не рассказывал, что у вас там стряслось.
— Ничего не стряслось. — Он улыбнулся из полутемного угла, едва освещаемого настольной лампой. — Мы по-прежнему любим друг друга.
— Почему же вы развелись?
— Прежде всего потому, что мне не надо было жениться. Я не имею права навязывать женщине свой образ жизни.
— Что ты называешь «своим образом жизни»? Ты неплохо устроился.
— Я не об этом. — Некоторое время он глядел на меня, словно не решаясь что-то сказать, а потом сказал явно не то, что собирался: — Из-за своих дел я месяцами не бываю дома.
— Ты мог бы брать ее с собой.
Он не ответил. Конечно, он хотел сказать что-то другое.
— Тогда я не понимаю, почему ты все же женился.
— Поддался искушению. А может, из-за внезапного страха, который охватывает накануне сорокалетия: полжизни уже прожито, а ты все еще ищешь чего-то и все еще один. Но одиночества не преодолеть, цепляясь за другого. В конце концов понимаешь, что все одиноки. А если не признаешь этого, значит, обманываешь себя.
Не дожидаясь моего ответа, он погасил лампу и направился в темный коридор. В конце его маячил слабый свет из спальни, словно что-то пролитое на пол.
— Ну ладно, спокойной ночи, Мартин.
— Спокойной ночи, Бернард.
Элиза еще не спала, хотя я нарочно довольно долго был в ванной, надеясь, что она тем временем заснет.
— Не понимаю, как это у тебя получается работать каждый день с утра до ночи, — сказала она с неожиданным сочувствием, когда я лег в свою постель, хотя и видел, что она отодвинулась, освобождая мне место рядом с собой.
— Ты же знаешь, что у меня за работа. Ко мне постоянно приходят люди со всякими предложениями, все рассчитывают на гарантии, на кредит. И им непременно нужно получить ответ то к пятнице, то к понедельнику, а то и на следующий день. Я предпочитаю во всем разобраться сам. Никогда не известно, где выпадет наилучший шанс. Вся каждодневная работа откладывается на вечер. А ведь есть еще и всякие статьи, которые нужно прочесть.
— Я вовсе не упрекаю тебя.
— Но чувствуешь недостаток внимания.
— Да не особенно. Сейчас ведь тут Бернард.
— Элиза, — я запнулся, не зная стоит ли продолжать.
— Что?
— Нет, ничего. — Я натянул на себя одеяло. — С детьми все в порядке?
— Да. Луи говорил, что не уснет, пока ты не прочтешь ему сказку. Но ему почитал Бернард.
— Отлично.
— Это все, что ты можешь сказать?
— Я тебя не понимаю. — Я посмотрел на ее волосы, рассыпавшиеся по подушке (с вышивкой ручной работы, из Лиссабона). — Что ты, собственно, имела в виду?
— Когда?
— Нет, ничего, я просто устал. — Но через мгновение, приподнявшись на локте, я спросил: — Элиза, ты никогда не жалела?
— О чем?
— О том, что тогда… ты и я — я, а не Бернард…
— Я ведь вышла замуж за тебя, правда? И хватит об этом.
После того как она заснула, я еще долго лежал без сна. В доме все было тихо. Я слышал, как она дышит. Я думал о Марлен, прильнувшей ко мне и едва не уснувшей в моих объятиях, бормотавшей всякий вздор, когда я пытался разбудить ее. Странный страх охватывает меня, когда женщина вот так льнет ко мне, обволакивая своим влажным теплом.
И снова я видел Бернарда и Элизу, окруженных музыкой, в их невыносимом уединении. Выражение его лица, когда он смотрел на нее. Как описать его? Нежность? Сочувствие? Нет, нечто иное. Скорее, словно внушение, что она ему дорога и близка, что его заботит ее судьба, что он здесь, рядом. На миг я пожалел, что не испытываю ревности. Я попытался представить себе разнузданные банальные сцены, но это оказалось выше моих сил. И не из-за того, что я был выжат Марлен, просто я чувствовал, что это не трогает меня, абсолютно не задевает. Я даже ощутил облегчение. Такое отношение, несомненно, было наиболее достойным в данных обстоятельствах.
Тогда, много лет назад, мы осуществили свободный выбор. Тот самый, который столь высоко ценит Бернард. И если они допустили ошибку, то не меня им в этом обвинять. Не я им помешал. В этом меня никто не вправе обвинить.
На следующий день Бернард объявил, что нашел себе квартиру и что так будет удобнее для всех нас.
6
Когда мы проезжали по высокому металлическому мосту через Аливал, реки уже не было видно в темноте внизу. Вернее, того, что осталось от реки в такую засуху — несколько грязных луж с зеленой плесенью по песчаным краям да прибитые к высоким изъеденным берегам камни и остатки лесосплава. Но двадцать лет назад, когда мы с Бернардом с рюкзаками за спиной отправились отсюда на каноэ миль на триста вниз по течению, до водопада, в сторону Ауграбиса, река была быстрой и полноводной, далеко вышедшей из берегов. Мы жутко рисковали, мы лезли на рожон. Но то, что мы открыли для себя в этом путешествии, не померкло до сих пор. Загорелая мускулистая спина прямо передо мной в каноэ, которое набирает скорость на быстрине, водяные брызги вокруг белокурой головы, каноэ, проскользнувшее по краю водоворота, сосиски, которые мы варили и молча ели на берегу. Опыт такого рода не понять и не выразить никакими словами, можно только самому пережить это и навсегда сохранить в себе, где-то даже глубже памяти и сознания.
В грязном, мрачном кафе мы с Луи сели за столик и заказали еду. На улице ветер кружил обрывки старых газет. Португалец за стойкой прогнал собаку, пытавшуюся пробраться в кафе, на секунду прервав препирательства с женой, которая в грязном зеленом фартуке металась по кухне, подогревая нам еду. В глубине кафе радио изрыгало модные шлягеры, сопровождаемые пустой болтовней. Луи постукивал в такт музыке вилкой по бутылке с кетчупом.
— Бабушка приготовит нам что-нибудь повкуснее, — сказал я.
— А чем кормят в тюрьме? — совершенно неожиданно спросил он.
— Откуда я знаю? — Я решил пошутить, но шутка прозвучала нелепо. — Я там никогда не сидел.
— А сколько, собственно, длится пожизненное заключение?
— Ровно столько, сколько сумеешь выжить.
— Они отправят его на Роббен-Айленд?
— Не думаю. Мне кажется туда отправляют только черных.
— Но ведь и душевнобольных тоже?
— К чему ты клонишь? — раздраженно спросил я.
— Ни к чему.
Хозяин, грузно опершись локтями о стойку, продолжал кричать что-то, звучавшее как ругательство, из кухни доносился ответный крик хозяйки, и радио все орало с полки, заставленной пыльными коробками с сигаретами и шоколадом. Напротив стойки стояла шаткая конструкция со стопками газет и журналов, с мешками, набитыми лимонами и капустой, с ящиками с прохладительными напитками. На верхней полке была выставлена коллекция декоративных пепельниц, несколько медных кастрюль, деревянные дощечки с цветочным орнаментом, лампы, сделанные из козлиных рогов, игрушки: машины, мячи и куклы — голые мальчики и девочки с заклеенным пластырем причинным местом, чтобы не шокировать деревенских покупателей.
— Почему ты не пошел повидать его после оглашения приговора? — спросил Луи. — Тебе наверняка бы разрешили.
— Откуда ты знаешь, что я был на суде?
— Я тоже там был, — спокойно ответил он.
— Ты?
— Каждый день.
— Ни разу тебя не видел.
— Ты и не глядел по сторонам.
— Но ты ничего не говорил мне об этом.
— А ты не спрашивал.
Машинально я полез в карман за сигаретами, забыв, что по совету врача бросил курить.
— Не понимаю, зачем ты туда ходил.
— Он мой крестный.
Я вспомнил, как Бернард прилетел в Йоханнесбург на крестины. По-моему, слишком много хлопот из-за такой чепухи. Но он относился к своей роли с невероятной серьезностью. Для него весь обряд был не пустой формальностью, а чем-то очень значительным.
— Если я так никогда и не женюсь, этот жалкий, уродливый ублюдок, да к тому же вылитый папаша, останется единственным ребенком, за которого я буду нести ответственность. Только попробуйте его испортить.
— Не беспокойся. Мы воспитаем его в страхе божьем.
— Вот этого-то я и боюсь.
Хозяйка вышла из кухни с двумя тарелками в руках и поставила их на стойку возле своего сердитого мужа. Когда он занялся сервировкой нашего стола, распространяя вокруг сильный запах пота, я спросил, чтобы прервать неуютное молчание:
— Река пересохла?
— Простите?
— В реке сейчас есть вода?
Он тупо посмотрел на меня.
— Да, все в порядке, — сказал он и ушел на кухню, где снова поднялся крик.
— Почему ты спросил о реке? — удивился Луи.
— Просто так. — Испытывая странное беспокойство, я посолил малоаппетитную еду. Он, кажется, ждал ответа. Я пожал плечами. — Много лет назад, еще до твоего рождения, дядюшка Бернард и я, — я подчеркнул слово «дядюшка», — спустились отсюда по реке на двух каноэ. До Апингтона и дальше.
В таком путешествии по реке меж высокими берегами с диким, нетронутым ландшафтом есть что-то отчуждающее от времени. Порой мы видели лоскутные узоры ирригационных сооружений, но они выглядели чем-то временным, случайным, что может быть в один миг уничтожено природой. Когда и они остались позади, все кругом показалось еще более пустынным; голое пространство, в котором не было ничего, кроме первоэлементов — воздуха, воды, земли и огня, — и так до тех пор, пока наконец за Апингтоном не начались плодородные ветхозаветные долины Кеймуса и Какамаса. Эта глухая местность таила в себе нечто такое, отчего я, забывшись, опрокинул каноэ и утопил рюкзак со всей нашей едой. В глубокой, быстрой и мутной воде отыскивать его было бесполезно.
— Что же мы теперь будем делать? — спросил я, обсыхая на берегу, — Мы потеряли все припасы.
— Потерял их ты, — сказал Бернард, — ты и попробуй найти выход.
— Надо поискать какую-нибудь ферму или деревню.
Внезапно ему в голову пришла, как он полагал, блестящая идея.
— А может, это и к лучшему. Теперь нам придется обходиться без всякой поддержки, которую предоставляет цивилизация. Посмотрим, как нам удастся выжить без нянек.
— Нам не по возрасту играть в бойскаутов, — сказал я.
— Это не игра, уверяю тебя. — Было ясно, он что-то задумал, — Это испытание нашей жизнеспособности. Мы слишком изнежены, у нас слишком много средств для выживания. Это наш шанс проявить себя настоящими людьми в борьбе за существование.
В борьбе за существование мы провели остаток дня без еды. Да еще половину следующего. Потом наша затея перестала казаться забавной. Совершив несколько вылазок в глубь континента, мы нашли нечто дынеобразное, но побоялись съесть, памятуя о том, что оно может быть ядовито. Единственное, что мы раздобыли, — это мед. Вооружившись зажженными ветками, мы напали на улей и получили по дюжине укусов. Вдобавок, от меда у нас разболелись животы, что отнюдь не соответствовало моему представлению о естественной жизни. Голод и спазмы в желудке оттеснили всю философию на задний план. Увидев на исходе второго дня вдалеке ферму, мы без долгих споров бросились туда. По пути нам попалось стадо пасущихся коров. И вновь, вдохновившись идеей гармонии с природой, Бернард не смог пройти мимо. Процитировав бессмертные слова Ганди о корове как о «поэме сострадания», он подкрался к ближайшему животному с большими рогами, выглядевшему довольно устрашающе, и, ласково увещевая, постепенно стал подбираться все ближе и ближе. Но когда он уже приготовился к дойке и встал на колени, корова внезапным прыжком атаковала его, промахнувшись рогами всего на несколько дюймов, и помчалась прочь. Твердо настроенный не позволить какому-то животному перехитрить себя, Бернард побежал за ней и ухватил за хвост. После чего вышеупомянутая «поэма» принялась брыкаться и скакать, выкручивая ему руку от плеча до кисти.
Вдалеке у рощи мы заметили что-то вроде плотины и припустились туда. Я не решался заговорить, и Бернард был необычно тих, идя рядом, с рукой, вывернутой под странным углом, словно он решил взлететь и в последний момент передумал.
После того как он помылся, мы отправились на ферму в чуть более оптимистическом настроении. Фермер, возможно, и принял бы нас радушно, не будь по дороге к дому бахчи. А мы были настолько голодны, что остановились полакомиться арбузом. И пока мы жадно вгрызались в алую мякоть, на стене, окружавшей дом, появился фермер с ружьем и злобно зарычал на нас.
Как только мы подошли по тропе со стороны реки к саду, раздался первый выстрел, а за ним еще два. Мы, правда, были за деревьями, вне досягаемости. И прежде, чем фермер успел бы выбежать к реке — если бы он вдруг решил преследовать нас, — наши каноэ были уже за поворотом.
К концу дня, измученные голодом и усталостью, мы попали наконец в Апингтон и кинулись в ближайшее кафе. Я был счастлив, что наше приключение кончилось столь благополучно, но Бернард никак не мог успокоиться.
— Господи, — говорил он с полным ртом жареного мяса, — нельзя же так просто стрелять в людей.
— Это ведь Дикий Запад, не забывай.
— Я должен рассчитаться с этим фермером.
— Первым делом вы, законники, бежите в суд.
— Кто говорит о суде? — возразил Бернард.
По мере насыщения и расслабления он принялся импровизировать. Доедая вторую порцию мороженого, он разговорился с хорошенькой, но довольно вульгарной официанткой и пригласил ее подсесть к нам за столик. (В этот час в кафе больше никого не было, даже хозяина.) Эта деревенская девка, отправившаяся в город на поиски приключений и уже явно потасканная, нестерпимо благоухала кремом и одеколоном. Бернард обрабатывал ее, пока она не стала мягче воска, рассказав ему все, что нужно: человек, стрелявший в нас, — Гэви Грёневальд, один из самых богатых и самых склочных фермеров в округе, секретарь местного отделения Националистической партии и так далее. Когда Бернард переходил в наступление — будь то в его адвокатской деятельности или в частных случаях вроде нынешнего, — он не упускал ни единой возможности, чтобы усилить атаку. Как только он почувствовал себя хозяином положения, он попросил у официантки номер телефона Грёневальда и позвонил.
— Мистер Грёневальд? — услышали мы. — Говорят из полицейского участка в Апингтоне. Да, добрый вечер, мистер Грёневальд. Для вас, к сожалению, не слишком добрый. Не стреляли ли вы в кого-нибудь сегодня днем у себя на ферме? — Долгая пауза. — Нет, нет, мистер Грёневальд, этого я не знаю. Нам доставили труп человека. Что? Да, две огнестрельные раны. Да. Совершенно верно. Нет, мы подождем данных экспертизы. Но в настоящее время вынуждены возбудить против вас дело по обвинению в предумышленном убийстве, — Еще одна пауза, даже более долгая, чем предыдущая. — Да, мистер Грёневальд. Да, я могу это себе представить. Однако тут крайне серьезный случай. Так что, пожалуйста, незамедлительно приезжайте в полицейский участок. — Пауза. — Да, вещи лучше взять с собой. Нам, вероятно, придется задержать вас на весь уикенд. Договорились, мистер Грёневальд. До встречи.
Жив ли еще дядюшка Грёневальд? Сидя в грязном кафе у Аливала, я пытался представить себе, какова была бы его реакция, если бы он узнал, что человек, чье имя столь часто звучало в последнее время по радио, — тот самый, который много лет назад задал ему такую трепку? Понял бы он, что в обоих случаях силы черпались из одного и того же источника, просто направлены они теперь в другое русло? И захотел бы он хотя бы попробовать понять Бернарда и его пространное заявление со скамьи подсудимых?
Еще со времен рабства в Южной Африке существовала расовая дискриминация. Я полагаю, что она была неизбежна вначале, когда люди более развитой цивилизации сталкивались с теми, кому не так повезло. Но теперь мы уже знаем по опыту других стран, что такую ситуацию можно изменить в процессе «цивилизации» и раздела привилегий при условии, что власти предержащие готовы предоставить для этого возможность и пойти на определенные жертвы.
Но правители Южной Африки после ста пятидесяти лет размышлений выбрали путь, ведущий в направлении прямо противоположном. Для того чтобы сохранить нашу цивилизацию, надо стремиться к распространению ее в ширь, а правители нашей страны вместо этого делают все, чтобы она оставалась монополией белых. Мы выбрали путь сегрегации, который, как бы мы его ни называли, на самом деле является политикой, направленной на сохранение нынешнего положения черного населения, то есть постоянной нужды и бесправия, стратегией, обусловленной экономическими факторами.
Совершенно неизбежно это привело к сильному и все растущему движению за освобождение черного населения, — движению, которое очевидно для всех, чей взор не застит иллюзорная картина Южной Африки белых, и которое поддерживает не только вся Африка, но и страны — члены ООН, и восточные, и западные. Как бы ни была сильна наша страна в экономическом и военном отношении (а недавние события показали, что она куда уязвимее, чем полагали до сих пор), белое меньшинство не сможет навсегда оставить за собой абсолютную власть, поскольку продолжается естественное историческое развитие аборигенов. И вопрос нашего будущего заключается не в том, встанут ли черные у власти, а только в том:
а) насколько мирным и бескровным путем может это произойти; б) каково будет положение белого человека в новых условиях после стольких лет дискриминации, репрессий и унижения черных.
В обоих аспектах многое зависит от самих африканеров. Они у власти, и, следовательно, их обвиняют во всем зле и ужасе апартеида. Но это означает и то, что именно у них есть возможность подготовить почву для коренных изменений мирным путем; если они на самом деле захотят этого, они могут сами устранить те беззакония, которые впоследствии станут поводом для справедливого возмездия. В такой ситуации я, как африканер, счел себя обязанным действовать.
В сегодняшней борьбе черный человек в Южной Африке находится в примечательной ситуации. Совершенно очевидно, что эта борьба ведется за свободу — не только за свободу от политического и экономического угнетения, но и за свободу самому выбирать свой путь, — поэтому ее следует рассматривать в контексте тех ситуаций, в которых люди вдруг открывают, что их личный выбор совпадает с исторической неизбежностью. Американский раб, осознавший в девятнадцатом веке свое положение, мог сделать лишь тот выбор, что сделал, и не по принуждению, а свободно и гордо и понес всю меру ответственности за него. То же самое относится и к евреям, восстававшим против фашистов во время второй мировой войны. И такая же ситуация сложилась сейчас у нас в стране с черными. Борьба против белых угнетателей стала частью их жизни, их выбор рожден насущной необходимостью. Единственное, что им осталось сделать, — это завоевать свободу, которую они уже открыли для себя.
Для меня, белого и африканера — по цвету кожи, образованию и культуре причисляемого к правящей группе, — выборов было несколько. Я мог бы извлекать выгоду из своего положения, пока оно существует. Или же я мог встать на путь полного бездействия. Но я мог сделать и другой выбор: обрести свою свободу, свободу мыслящего и чувствующего человека, отказавшись ради свободы других от всего, что я мог бы получить не за свои личные заслуги, а лишь по праву рождения — а это и есть своего рода рабство. Ибо никто так не угнетен, как сам угнетатель.
Что же это означало на практике?
Сначала я, как профессиональный юрист и человек общающийся с политиками и с сильными мира сего, пытался использовать любой легальный путь. Я, например, не раз беседовал с министром, сына которого защищал. Единственным результатом наших бесед было мягкое и доброжелательное предложение заниматься своим делом и не лезть в политику.
Когда я понял, что своей профессиональной деятельностью не смогу достичь большего, нежели оказать помощь отдельным лицам без существенных перемен в самой системе, я сделал следующий шаг. Не оставляя адвокатской практики, я вскоре после «процесса заговорщиков» шестьдесят пятого — шестьдесят шестого годов создал организацию Инку-лулеко, о которой суду хорошо известно.
Сначала я настаивал на ненасильственной деятельности — создании у нас в стране организации для проведения кампании, аналогичной той, которая имела место в Бразилии, — понимая, что прежде всего необходимо объяснить угнетенному, что он угнетен, то есть преодолеть психологическую установку всей его жизни и жизни многих предшествующих поколений.
Вскоре это переросло в программу тщательно контролируемого саботажа, который мог бы произвести впечатление на ум и воображение, но не требовал нарушения закона и человеческих жертв.
Но я считаю, что граница, старательно проводимая между насильственными и ненасильственными действиями, носит чисто теоретический характер. Если уж человек решился на борьбу с угнетателями, он должен быть готов пройти весь путь до конца, заранее зная, что сопротивление и ярость угнетателей будут ужесточаться. То было время, когда наша организация еще допускала возможность эффективных, но ненасильственных действий, способных вызвать существенное изменение в расстановке сил в нашей стране. Но власти усиливали ответные репрессии, оставляя все меньше и меньше возможностей для существования оппозиции. В результате этого нам — в Инкулулеко — пришлось прибегнуть к терроризму.
Я прекрасно понимаю, что, убив одного полицейского, государственного строя не изменишь. Но такой акцией можно показать, что вершение правосудия не является прерогативой властей. Небольшие группы людей, трезво оценивающих ситуацию, стремились своими опасными и решительными действиями напомнить народным массам некоторые важные истины: государственная система уязвима, свобода существует, правосудие может вершиться самим народом. И я дал согласие на такие формы деятельности, благодаря которым можно утвердить свою свободу и проявить солидарность с угнетенными массами.
И я не раскаиваюсь в этом. Останься я безгласным и бездеятельным, мое молчание и бездействие означали бы согласие с тем, что делается в стране. Но я не был согласен. Не согласен я и сейчас, хотя понимаю, что победа еще какое-то время будет за вами, потому что у вас еще достаточно сил. Но система ваша все равно рухнет. Ведь для того, чтобы удержать власть, нужно иметь то, чего у вас нет, — сознание своей правоты и веры в справедливость вашей системы.
И сегодня я вижу особый смысл в словах великого вождя африканеров президента Паулуса Крюгера, произнесенных им в тысяча восемьсот восемьдесят первом году и высеченных ныне на постаменте его статуи перед зданием суда: «Мы доверяем наше дело всему человечеству. Победим мы или умрем, свобода воссияет в Африке, пробившись, как солнце из-за туч».
Я переписал всю его патетическую речь. Конечно, я понимаю, что он использовал процесс в собственных целях и отягчил тем самым свою вину, превратив зал суда в политическую трибуну. Я думал об этом, сидя с Луи в кафе у Аливала; мне хотелось поговорить с ним о Бернарде, но по его угрюмой физиономии было видно, что он не расположен к дальнейшей беседе.
— Пошли, — сказал я, отодвигая тарелку с остатками еды.
Он молча вышел, а я задержался, чтобы расплатиться. Орало радио. За стеной плакал ребенок. Мы ушли вовремя.
С тех пор как родился Луи, я не выношу детского крика.
7
Приближаясь к Куинстауну — было уже начало девятого, — мы развили скорость в сто миль; даже огни Джемстауна не смогли нарушить монотонности этой унылой дороги. Появилась луна, высветив своим замогильным светом доисторические скелеты хребтов и холмов на фоне звезд. Мир съежился до размеров участка шоссе, освещенного фарами. Остальное нас не касалось и как бы не существовало, хотя и угрожало своим смутно угадываемым присутствием.
В последний раз я ехал здесь сразу после известия о болезни отца. Узнав, что отец умирает, мы с Элизой прилетели в Ист-Лондон и наняли там машину. Я мог бы поступить так и сейчас — для краткого визита это удобнее, нежели такая утомительная поездка. Особенно в моем состоянии. Но мне нужно было время для размышлений, чтобы разобраться в том, что творилось у меня в душе.
Отец умер в час пополудни. Почти год назад. Тогда тоже стояла зима. Моя нынешняя поездка была своего рода путешествием не только в пространстве, но и во времени.
Всю жизнь едешь откуда-то и куда-то. И болезнь отца стала как бы отъездом — от нас. Я успел только на похороны. Но и в последнюю нашу встречу уже чувствовалась атмосфера расставания, вроде как на вокзале или в аэропорту; он находился в окружении самых дорогих ему людей, но ощущения близости не возникало, все сводилось к пустым, банальным разговорам. Ибо уходящий выключается из настоящего и переходит в иное измерение, о котором мы, остающиеся, не имеем ни малейшего представления.
Получив первое известие о его болезни, я нагрянул на ферму неожиданно. Я думал найти отца утомленным и слабым, но обнаружил в нем непонятное мне спокойствие, будто его взору уже открылось какое-то бесконечное пространство. На столике у кровати лежал томик Светония и стопка других книг — биографий, путешествий и даже романов. Его серые глаза светились воодушевлением. «Наконец-то у меня появилась возможность прочесть то, что я собирался всю жизнь», — сказал он. Он беспрерывно говорил, и не только о своих прежних увлечениях, но и о предметах, к которым я никогда не предполагал у него ни малейшего интереса. Он говорил даже о своей болезни, и без тени жалости к себе. Прощаясь, он взял меня за руку и спокойно сказал: «Ладно, Мартин, удачи тебе, на случай если мы больше не увидимся».
Но когда я приехал в следующий раз, все было иначе. В то время он был уже настолько измотан болезнью, что не мог думать ни о чем другом. После курса облучения у него выпали все волосы, после желтухи его лицо и руки стали цвета пергамента, голос звучал пронзительно и резко, речь внезапно обрывалась на середине фразы. Кожа сделалась морщинистой и сухой, как птичья.
Его интересовала только болезнь и прописанные ему лекарства. Он был совершенно сломлен болью, доведен до жалкого состояния. Жуткая униженность страдания.
И отчуждение между нами, полная изоляция. Даже наше рукопожатие было скорее символом всего разъединяющего нас, нежели связующего. Подобное же ощущение я испытывал по отношению к Бернарду в зале суда. Он тоже как бы отъезжал. В пожизненное путешествие, равнозначное смерти. Оставалась только формальность умирания, при котором я не буду присутствовать. Даже если принять его точку зрения, его поведение выглядит совершенно бессмысленным. Я не разделяю его убеждений. Но если он хотел действовать, то почему же он не остался в Англии?
Я решил бежать из тюрьмы, чтобы поддержать моих соратников. Еще многое нужно было сделать. Арест застал меня врасплох. Организация могла развалиться. Следовало поставить дело на новую основу, чтобы оно могло продолжаться и без меня. Кроме того, я был обязан совершить побег не только ради связанных со мной подпольщиков, жизни которых угрожала опасность, но и ради всех тех, кто сидел в тюрьмах, был изгнан из страны или просто вынужден молчать. Тут был важен даже не побег, а сам факт, что в этой стране можно бежать из тюрьмы. И снова меня обязывало сделать это уже то, что я африканер.
Во время одного из моих пребываний в Йоханнесбурге я ежедневно отправлялся утром в Алек-сандра-тауншип, чтобы подвозить людей, отказавшихся ездить на автобусах после подорожания за проезд. Несколько раз меня останавливали полицейские и грозили судебным преследованием. Они даже возбудили против меня дело, но прекратили его еще до суда. Так или иначе, но, подвозя на своей машине людей, которые готовы были идти пешком до работы по десять-пятнадцать миль, выходя из дому в четыре или в пять утра, я приобрел очень важный жизненный опыт — ни один из этих людей не верил тому, что я африканер. В их сознании «африканер» и «апартеид» были синонимами. После этого я еще яснее, чем ранее, осознал обязательства, налагаемые на меня моей принадлежностью к африканерам, — обязательства по отношению ко всем страдающим под игом системы, установленной моими соплеменниками.
Единственное удручающее последствие моего побега — арест двух молодых охранников, помогавших нам с Онтонгом бежать. Я могу только надеяться, что в конце концов они будут вознаграждены за свою решимость.
По сути дела, и при побеге, и при возвращении на родину в ноябре тысяча девятьсот семьдесят пятого года мной руководили одни и те же мотивы. Я мог бы остаться в Лондоне после завершения организационной работы. Многие мои соратники убеждали меня не возвращаться сюда. Но как я мог стать пассивным наблюдателем, в то время как другие страдали? Я полностью осознавал риск, на который иду. Полиция рано или поздно все равно вышла бы на мой след. И все же иного пути для меня не было. Я пришел к своим убеждениям много лет назад, и теперь оставалось одно: следовать раз и навсегда избранному курсу.
Я хочу подчеркнуть, что не верю в мученичество и не симпатизирую мазохистам. В Южной Африке хватает мучеников и без меня. Все, что я делал, я делал, почти не думая о том, что будет со мной после ареста: мне было просто все равно, что со мной будет потом. Свобода куда важнее, чем жизнь ее поборников.
Я верю в жизнь. И считаю себя счастливым человеком, ибо никогда не обделял себя ничем из того, что находил существенным, стремясь жить так полно, как только позволяли обстоятельства. И я убежден, что лучше жить ради правого дела, чем умереть за него. Но к моменту моего возвращения из Лондона вопрос о жизни и смерти утратил для меня всякое значение. Важно было одно: делать то, что я должен делать, пока у меня еще есть такая возможность. Я знал, что, даже если я буду арестован, найдутся люди, которые продолжат мое дело.
Могу пожалеть лишь о том, что не успел совершить большего. Вероятно, еще некоторое время можно было избежать повторного ареста. Но так легко ошибиться в оценке ситуации, обстоятельств или друга.
(Смотрел ли он на меня, когда говорил это? Заметил ли меня в зале? Должно быть, мне просто показалось.)
Во всяком случае, я ни на кого не сержусь и никого не обвиняю: ни друга, ни полицейского. Каждый из них поступил так, как подсказало ему его чувство долга.
Суд над Бернардом заставляет теперь по-новому взглянуть на многие события прошлого. Иначе я не стал бы вспоминать о том вечере. Некоторые воспоминания кажутся мне даже излишне назойливыми.
Я никогда не мог толком понять, как отношусь к профессору Джону Пинару. В студенческие годы я восхищался им, что было нормальной реакцией начинающего писателя на встреченного впервые в жизни живого поэта. Но уже и тогда меня несколько отпугивала властность его натуры, а еще более подозрение, что они с женой выбрали меня в супруги для своей очкастой интеллектуальной дочери по имени Пиппа (в честь героини драматической поэмы Браунинга). Чувствуя себя польщенным постоянными приглашениями в дом великого человека, я по-прежнему настороженно относился к их подлинным мотивам и к его дочери с плоской грудью и сногсшибательным остроумием. После того как «Пиппа ушла», погибнув во время экскурсии в горы (мы все отговаривали ее от этого путешествия, но она настояла на своем: «Ты же всегда протянешь мне руку, правда, Мартин?»), профессорская чета осталась ко мне по-прежнему ласкова, а со всех стен на меня продолжала взирать бедная очкастая Пиппа.
Постепенно, становясь значительной литературной фигурой — составителем антологий, членом всевозможных жюри и комитетов, — Пинар терял свою лирическую оригинальность, якшаясь вместо муз с министрами, заседая в комиссиях и даже в комитете по делам цензуры. После его ухода из университета и переезда в Преторию пошли слухи о назначении его культурным атташе и даже о выборе в сенат. При всем при том он оставался очаровательным собеседником, любителем хорошо пожить, меценатом и радушным хозяином.
Мы с Элизой со смешанными чувствами приняли его приглашение на «дружеский ужин», приуроченный к выходу в свет его «Избранных стихотворений», в январе прошлого года.
На таких «дружеских» вечеринках профессор любил щегольнуть эксцентричной небрежностью туалета и нарядился на этот раз в алое кимоно поверх вечернего костюма, бархатный галстук и черные домашние туфли, подбитые овечьей шерстью. (Бернард называл его господином Журденом и никогда не появлялся на его вечеринках. Но как ни странно, Пинар был от него в восторге. Не исключено, что в глубине души он был гомосексуалистом.)
Похожий в своем черно-красном одеянии на священнослужителя какого-то эзотерического культа, великий человек сам распахнул нам массивную тиковую дверь своего дома в ответ на наш осторожный стук. Рядом с ним стояла Мамаша, внушительных размеров дама в сиреневом платье с кружевами, с орхидеей, трепещущей на груди, с жемчугами в ушах и на шее, вся благоухающая пудрой и духами.
— Мартин, Элиза! Как славно, что вы пришли.
Мягкой белой рукой с унизанными перстнями пальцами и с наманикюренными ногтями Пинар взял Элизу под локоть и повел через холл и коридор, увешанный гравюрами и фотографиями, первыми напоминаниями о бедной Пиппе, в залу с тусклой серебряной люстрой и фарфором за стеклянными дверцами шкафчика из Дорогого пахучего дерева. Пол был устлан двумя афганскими коврами необычайных размеров, окруженными Целым созвездием персидских ковров поменьше; глядя на стены, можно было восхищаться местными знаменитостями, портретом в натуральную величину дражайшей Пиппы, подлинным Браком, литографией Матисса, рисунками Дега, Ренуара и Энсора, а искусно подсвеченные полки в нишах демонстрировали поделки африканских резчиков по дереву и древние китайские вазы.
Гости были подобраны с неменьшей тщательностью. Председатель церковного совета доктор Кос Миннар (более известный под прозвищем Старый Козел из-за одной из своих неофициальных привычек), ректор университета, отставной судья, несколько членов парламента и литературных критиков. Чуть выпадали из этой компании издатель прогрессивной газеты Винанд Легранж и магнат Тильман Пау. Все были с женами, кроме Тильмана, явившегося с весьма сексапильной блондинкой (став миллионером, Тильман регулярно заседал в жюри, выбирающих мисс первую шлюху того-то и того-то). Выбор партнерши — единственное, что напомнило мне того Тильмана, которого я знавал в студенческие годы. В те времена он был милым, но вполне ничтожным бездельником, известным главным образом своим успехом у женщин. Он пробыл в университете восемь лет благодаря стипендии, позволявшей ему продолжать свое безответственное существование. В последующие годы он вдруг стал, по крайней мере на людях, воплощением буржуазной респектабельности. Когда он открывал какой-нибудь митинг, глядеть на это было столь же странно, как на Старого Козла во время богослужения. Он швырял сотни тысяч на благотворительность, и особенно на нужды партии, и его уже прочили в министры экономики. Единственная проблема заключалась в том, что ему предстояло избавиться от малопочтенной привычки устранять разногласия кулаками. Словом, он был из тех, кого называют «доброй душой» и «неотшлифованным алмазом».
По всей зале с нарочитой небрежностью были разбросаны экземпляры «Избранных стихотворений» — ожидалось, что их будут листать и восхищаться. Лед молчания сломал Тильман, возгласивший:
— Я не понимаю тут ни единого слова, профессор, но, наверное, это жутко умно.
— А почему ты не пишешь стихов, милый? — спросила блондинка. — Я уверена, что у тебя получилось бы.
— Нет, сочинять — это не по моей части. Но я подумываю, не издавать ли журнал.
— Ну, периодическая печать у нас и так в достаточно широком ассортименте, — заметил Легранж.
— Вам нечего бояться конкуренции, — сказал Тильман, сопроводив свои слова шутливым шлепком по спине, заставившим издателя покачнуться. — Я ведь не газету собираюсь издавать. Еженедельник вроде «Тайм», но на африкаанс.
— Не слишком ли это трудное дело? — тактично спросил ректор.
— Не волнуйтесь, старина, — подмигнул ему Тильман. — Департамент информации обещал взять десять тысяч экземпляров.
— А что они, ради всего святого, будут делать с этими десятью тысячами?
— Не моя забота. Пусть хоть на подтирку пускают. Лишь бы тираж разошелся. — Он остановился напротив Легранжа. — Ваши газеты прогорают, а у меня все будет иначе. Вы, репортеришки, развели такое дерьмо в прессе, что нормальный африканер нос воротит.
Дамы зафыркали и запротестовали. Мамаша, к счастью, пребывала в это время на кухне, руководя поварами и официантами.
— Как ни откроешь теперь газету, — продолжал Тильман, — сплошная критика. Или секс и сенсация. Кто будет читать вашу газету, если оторвать последнюю страницу? Вы, позвольте вам заметить, подрываете наш строй посильнее, чем коммунисты.
— Подписываюсь под каждым вашим словом, — сказал Старый Козел, суровый и толстый в своем черном костюме. — Уж если наше правительство не может положиться на лояльность собственной прессы…
— С каких это пор честная критика считается проявлением нелояльности? — спросил Легранж. — Что же, мне закрыть глаза или отвернуться, когда я вижу непорядки в стране?
— Ну, критика тоже может быть лояльной.
Что-то у меня в душе запротестовало. Возможно, мое собственное чувство лояльности: Бернард был арестован всего несколько недель назад, и я еще верил в его невиновность. Взбешенный репликой Старого Козла и не без некоторого желания шокировать публику, я заявил:
— Бернард Франкен однажды сказал, что лояльная критика — это сопротивление шлюхи, набивающей себе цену.
(Кроме того, он говорил: «Лояльная критика похожа на поведение человека, желающего быть свободным и поэтому заводящего любовницу тайком от жены».)
После моих слов, вернее, как только я произнес имя Бернарда, наступила какая-то странная тишина.
— Ну, мы-то все знаем, чем кончил Бернард Франкен, — сказал Старый Козел после паузы и вылил в рот остатки коньяка из рюмки.
Легранж был единственным, кто запротестовал:
— Не стоит спешить! С ним пока ничего не ясно. Мы еще не знаем, чем кончит Франкен.
— Он арестован, — набросился на него Тильман, — и это вы называете, ничего не ясно?
— Ему пока не предъявили никакого обвинения, — настаивал Легранж.
— Ну и что? — провозгласил Старый Козел, словно на богослужении. — Он арестован и находится под стражей на законном основании. Правительство знает, что делает.
— В былые дни это не считалось законным основанием, — сказал Легранж. — Но сейчас можно держать человека в тюрьме сколько угодно, а потом просто выпустить. Разве такого не бывает?
— Вы поражаете меня, — сказал Старый Козел, прищурив глаза, — никогда не думал, что так может рассуждать африканер, да к тому же газетчик. Меня вот во время войны тоже держали в тюрьме без суда. И это было в былые дни, а?
— Тогда шла война.
— А вам не кажется, что и сейчас идет война?
— Браво, — вскричал Пинар, воздев пухлый кулак. — Я вас понимаю. Я сам готов сражаться, пока потоки крови не омоют уздечки наших коней.
— Пророческая картина, — важно произнес Старый Козел. В его голосе еще прибавилось громкости и величественности. — Идет священная война с силами зла. На карту поставлена сама суть африканерства. Что станет с этой страной, если африканер забудет о своем предназначении?
— Я не понимаю, какое отношение имеет к тому, о чем вы говорите, арест Франкена или его освобождение, — заметил один из молодых членов парламента. — Мы должны трезво оценивать положение дел в стране.
Вы не осмелитесь повторить свои слова публично, — заявил Тильман, приняв уже было боксерскую стойку, но блондиночка его удержала.
— Возможно, и не осмелюсь. Но сейчас-то мы в кругу друзей, и, смею вас уверить, есть немало африканеров, считающих, что арест Франкена может только повредить нам.
Повредить? Каким образом? — подхватил Старый Козел. — Разве что за границей. Но какое нам дело до заграницы? Мы уж как-нибудь разберемся сами. Поскольку господь за нас…
— Вы в самом деле так уверены в поддержке господа, господин Миннар? — неожиданно вмешалась Элиза. — Это звучит как катехизис.
Ее голубовато-стальные глаза были устремлены прямо на него. Он отвернулся. Все ждали его ответа, но он пробормотал:
— Пора выпить, — взял пустую рюмку и отошел.
Я один понял, на что намекала Элиза. Это был удар ниже пояса. Еще в те времена, когда он преподавал ей закон божий в Блумфонтейне, произошла неприятная история. Как-то вечером он призвал ее к себе, чтобы поговорить «о душе», убедиться, что она действительно верует и знает своего исконного врага — дьявола, — выяснить, нет ли у нее грехов, и поведать о святости храма божьего на земле. В ходе беседы он стал ее лапать. Она отшила его, пригрозив пожаловаться в церковный совет.
— Мы слишком отошли от Бернарда Франкена, — пытался я прервать недоуменное молчание.
— Это Франкен отошел от нас, — огрызнулся Тильман. — Мне уже в университетские годы было ясно, по какой дорожке он пойдет.
— Еще бы! Вы провели там достаточно времени, чтобы понять массу всего, — кратко заметил я.
Назревал скандал, но тут вмешался хозяин:
— В самом деле, чувствуешь глубочайшее сожаление, когда думаешь, как бессмысленно растрачен такой талант. Стоит только представить, сколько Бернард мог бы внести в дело африканеров…
— Он больше не имеет права даже называться африканером, — важно сказал ректор.
— Но обратимся к фактам, — настаивал я, — Что, собственно, он сделал? Он арестован, вот и все, что нам известно. Обвинение ему не предъявлено.
Старый Козел вернулся с наполненной рюмкой и молча стоял в стороне, стараясь ухватить нить разговора.
— Следовало быть осторожнее, — пояснил Пинар с озабоченной улыбкой на дряблом, мучнисто-белом лице (правда, на щеках горел румянец). — Я хочу сказать, что не стоит возиться со всякими типами, не будучи уверенным, что…
— Если вы верите в дружбу, профессор, — сказал я подхлестываемый горящим взором Элизы, — то могу вас заверить, что, как друг Бернарда, я знаю его лучше, нежели любой из присутствующих. Да, он никогда не молчал, если считал себя обязанным высказать свое мнение, не заботясь, разделяют его другие или нет. Но он никогда не преступал закона. Я отказываюсь даже допустить мысль о том, что он был замешан в преступлении.
— Не уверен, что этот человек заслуживает подобного внимания к своей персоне, — сказал Старый Козел.
— Не пора ли нам задуматься над положением дел и попытаться понять, какие умонастроения вызывают подобные акции властей, — сказал Легранж.
— Задумываться тут не над чем, — ответил священник. — Этот человек позор для всех нас. Чем скорее мы о нем забудем, тем лучше.
— Не слишком милосердная позиция для служителя церкви, — едко заметила Элиза.
На этот раз он был готов к обороне.
— Дитя мое, — начал он голосом, исполненным терпимости и благожелательности, — если женщины начинают на людях вмешиваться в мужской разговор, это уже само по себе знамение порока. Полагаю, вам следовало бы прислушаться к голосу собственной совести.
Раздался звон серебряного колокольчика. Гостей приглашали «освежиться» перед началом трапезы. Пинар уселся во главе стола, а Мамаша напротив, на другом конце, где на полу была кнопка звонка для тайного заклинания джиннов-официантов. Настал час ее торжества. С самого рассвета, скромно объяснила она, активно подбадриваемая мужем, она хлопотала на кухне, следя за приготовлением блюд, в полном убеждении, что столь благородная задача для слуг непосильна. Да и разве отменно приготовленное яство не столь же совершенное творение искусства, как, скажем, поэтический шедевр? И разве то, что говорится о равновесии интеллекта и интуиции у поэта, не может быть с тем же правом отнесено и к настоящему кулинару?
Ужин и в самом деле был впечатляющим, словно богослужение.
Kyrie[7]: домашний паштет («Элизабет Дэвид бывает порой такой вульгарной, правда? По-моему, Эскофир единственный, кто…») и шампанское «Дом Периньон» в ознаменование выхода «Избранных стихотворений».
Credo: суп по-гречески из лимонов и сухое «Дос Кортагос» от Уильямса и Гумберта. («Папочка, ты помнишь отель в Херес-де-ла-Фронтера, такой изысканный и такой земной?»)
Затем с легким изменением обычной очередности грянул Agnus Dei: жареный барашек из Кару, специально заказанный братьям Сибранж, разумно приправленный тимьяном и розмарином, с зеленым горошком и «Родебергом» шестьдесят пятого года. («Вам не кажется, что простор и изящество ландшафтов Кару находят адекватное выражение в таком вот барашке? Да и поедание его — своего рода африканерский ритуал. Где еще вы…»)
Sanctus: Мамашины Pêches au vin[8], целую ночь выдержанные в «шабли». И как тонко со стороны профессора сочетать это блюдо с «Зватберг Аристат», «великолепным винцом из Ледисмита», которое он самолично открыл два года назад, причем всего по пятьдесят центов за бутылку!
Короткая пауза, пока убирали со стола. Мерцание свечей. Тихое, блаженное урчание в чьем-то желудке. Одобрительные смешки после предложения «о деловом перекуре». И общий переход в гостиную к Gloria: кофе, торту, коньякам и портвейнам из коллекции Джона Пинара.
Издатель Легранж оказался настолько безвкусен, что выбрал этот момент для разговора о сносе домов и недоедании населения.
— Ах, нет, — с улыбкой сказала Мамаша. — Недоедание давно перестало быть мало-мальски значимой проблемой. Мы с Папочкой говорили об этом как раз вчера вечером — о том, что у банту поднялся уровень жизни. — Пауза, — Если в наши дни кто-то и недоедает, — сказала она, откусив кусок торта, — то лишь потому, что неправильно питается.
На этой фразе гастрономический оргазм достиг апогея. В его затухающих судорогах профессор Пинар начал читать свои стихотворения глубоким, проникновенным голосом, заставлявшим влюбляться в него многие поколения первокурсниц. Вслед за этим пошли ахи и охи (Мамаша: «У него такой могучий орган для поэтических излияний, не правда ли?») и более компетентные восторги профессионалов. Мы протомились еще долгое время, прежде чем нам удалось улучить одну из случайных пауз, извиниться, поблагодарить и попрощаться, не портя никому удовольствия.
Наконец мы вышли в мутную летнюю ночь. Было около одиннадцати.
На обратном пути я включил в машине радио, чтобы послушать выпуск вечерних новостей. Новости оказались неожиданными и ужасными, резко изменившими всю тональность этого вечера:
«Начальник полиции Кейптаунского округа сообщил, что Бернард Йоханнес Франкен, задержанный полицией четыре недели назад, сегодня утром бежал из тюрьмы. Вместе с ним бежал один из его сообщников, цветной по имени Корнелис Онтонг. Еще не выяснено, как им удалось бежать…»
* * *
Об аресте Бернарда я узнал за четыре недели до этого от Чарли Мофокенга. Это произошло в День Дингаана, в день победы буров над зулусами более ста лет тому назад. Я провел день с Беа, а вечером у нас с Элизой были гости; все засиделись за полночь. Я не сразу понял, в чем дело, когда в половине третьего ночи вдруг зазвонил телефон.
— Чарли? — Я еще никак не мог проснуться. — Что стряслось? Почему вы звоните в такое время?
— Бернард… — Он сказал что-то, но я в своем полубессознательном состоянии просто не понял.
— Что Бернард?
— Арестован. Тайной полицией.
— Почему? Как? Когда?
— Ничего не известно. Я решил немедленно сообщить вам.
Голова постепенно прояснялась.
— Откуда вы узнали об этом?
Запнулся ли он тогда хоть на мгновение? Нет.
— Мне сказал репортер «Стар».
— Этого не может быть!
— Я вас уверяю. Я пытался дозвониться к нему на квартиру в Кейптаун, но безрезультатно.
— Может, он спит?
— Господи, милейший! Чего ради я стал бы вам звонить? Вы должны что-нибудь предпринять.
— Что я могу предпринять?
— Вы ведь знакомы со всеми министрами и знаете, как это делается.
— Но я не могу звонить им в три ночи. Кроме того, это, возможно, просто нелепый слух. Насколько мне известно…
— О господи, — крикнул он, — кончайте тянуть резину.
— Ну подумайте, Чарли. Слухи такого рода распространяются с невероятной быстротой. Утром все выяснится.
Я не спал всю ночь. Я не мог поверить в это. С восьми утра я начал регулярно набирать номер Бернарда в Кейптауне. Никто не отвечал. Секретарь Бернарда тоже ничего не знал. Но это было накануне рождества. Верховный суд распустили на рождественские каникулы, и Бернард мог быть где угодно. Я не хотел выставлять себя на посмешище, запрашивая на самом высоком уровне о том, что вполне могло быть просто слухом.
Однако вскоре начались угрызения совести. Я был раздражен. В конторе я сорвался, когда Чарли снова потребовал, чтобы я что-нибудь предпринял. Дома поссорился с Элизой. Ей я решил ничего не говорить, пока не выясню что-либо определенное.
Только через три дня министр сделал официальное заявление: несколько человек задержаны в Кейптаунском округе по обвинению в нарушении Закона о борьбе с терроризмом, в их числе видный адвокат Бернард Франкен.
И вновь я узнал это от Чарли, поджидавшего меня в конторе, когда я вернулся после обеда. Мне не сразу Удалось взять себя в руки.
Чарли молчал. Я ждал, что он скажет: я же говорил вам. Клянусь, я бы ударил его. Но он молчал. Когда я взглянул на него — о господи, разве можно быть таким невыдержанным! — он уже стоял в дверях, и слезы текли У него из-под очков по ставшему пепельным лицу.
Я отвел глаза и поднял телефонную трубку.
— Сейчас позвоню министру.
— Стоит ли беспокоиться, — буркнул он, повернулся и выбежал из конторы. Я был слишком потрясен, чтобы рассердиться.
До министра я дозвонился только во второй половине дня. Мы несколько раз встречались с ним во время официальных мероприятий, и он казался мне человеком чрезвычайно любезным, но на этот раз отвечал сухо и скупо:
— Я понимаю вашу тревогу, господин Мейнхардт, но, к несчастью, в настоящее время мы ничего не можем сделать. Я не вправе вмешиваться в дела юстиции. Но смею вас заверить, что мои парни ни за что не решились бы на это, не имея серьезнейших причин. Дело будет предано гласности при первой же возможности.
Все это прозвучало как заранее подготовленное заявление.
У меня заскребло в животе. Конечно, следовало бы знать, что они не схватят столь известную фигуру без серьезных причин. Но как раз в существование таких причин я и не верил. Он мой друг. Я готов был ручаться за него. Это чудовищная ошибка, и не более.
Я еще должен сообщить Элизе об этом. И Луи тоже. («Вот что я скажу тебе, отец: они просто не понимают, что, если люди вроде Бернарда восстают против них, значит, их дни сочтены».) Наступившие праздники превратились в сплошной кошмар. В сочельник, уже лежа в постели, я услышал в темноте голос Элизы:
— Мартин, я просто не могу поверить. Бернард не мог.
— Я думал, ты спишь.
— Как я могу спокойно спать, зная, что он там, может быть… что они там делают с ним?
— Мы должны верить в него. Мы достаточно хорошо его знаем, правда? Мы не имеем права менять к нему нашего отношения.
Забавно, что утешая друг друга, мы решили предаться любви. Пока он…
— Просто нужно подождать, — убеждал я ее. — В ближайшие дни его выпустят. Да еще попросят прощения! Идиоты несчастные!
Но несчастным идиотом оказался в итоге я, веривший в невиновность Бернарда. Не легко мне было с этим примириться.
* * *
Люди тоже имеют рыночную стоимость. Когда я встречаю человека, желающего продать себя, я решаю, покупать его или нет, в зависимости от его пригодности. Что касается Бернарда, в нем у меня не было ни малейших сомнений до той поры, пока уже не стало слишком поздно. Однако у меня никогда не было такой уверенности в отношении Чарли. Если я и купил его в конце концов, то не слишком ли высокой была цена?
Задним числом наша первая встреча выглядит довольно забавно. Тем утром Бернард позвонил мне и сказал:
— Ты будешь сегодня вечером дома? Я хочу зайти к тебе с одним давним другом. С другом детства.
— Буду очень рад, — ответил я. — Если хочешь, можно пригласить еще кого-нибудь.
— Нет, давай обойдемся без посторонних. Никаких вечеринок а-ля Пинар, ладно?
— Я сам сыт ими по горло. Он не меняется.
— Договоримся на восемь?
Как всегда, когда Элиза знала, что будет Бернард, она приготовила изысканный ужин (артишоки, утка с апельсинами) и надела вечернее платье, высоко зачесав волосы. И вдруг — угадайте, кто пришел?
Лично для меня лед был сломан много лет назад; в Лондоне, да и после возвращения оттуда мне постоянно приходилось иметь дело с чернокожими, в том числе с бизнесменами из-за границы. Но это был первый раз, когда чернокожий пришел ко мне в гости. На мгновение я оцепенел.
Бернард не заметил моего смущения или же сделал вид, что не заметил.
— Чарли Мофокенг, Мартин Мейнхардт, — представил он нас друг другу и обнял Чарли за плечи. — Мой старый друг. Вместе росли на ферме.
— Ты говорил мне об этом по телефону. — Я подал руку. — Рад познакомиться.
— Ха! — Чарли улыбнулся, обнажив десны. — Так вы Мартин, о котором Бернард столько рассказывал.
— Посмотри на него хорошенько и скажи, не безнадежен ли он. Надо решить, стоит ли иметь с ним дело.
— Не знаю, — с серьезным видом ответил Чарли. — Он нам даже выпить не предложил.
Я рассмеялся чуть громче, чем следовало.
— Ладно, что вам налить?
И тут вошла Элиза.
Бернард поцеловал ее, чуть отошел, чтобы оценить, как она выглядит, затем снова привлек и еще раз поцеловал и наконец подтолкнул к Чарли. Я заметил на ее искусно подкрашенном лице выражение ужаса, но Элиза была слишком хорошо воспитана, чтобы оно могло длиться больше одного мгновения. Она пожала Чарли руку. И тут же вышла на кухню.
Когда мы сели за стол, она сама принесла ужин.
— А что с Эвелин? — спросил я.
— Помолчи, — оборвала она.
Чарли захотел пойти в ванную, и Бернард предложил показать ему дорогу. В те несколько минут, пока мы оставались одни, она сердито сказала:
— Ради бога не задавай больше дурацких вопросов.
— Но что с Эвелин?
— Я, разумеется, отпустила ее. Нельзя же, чтобы она прислуживала, пока этот здесь.
— А чтобы ты прислуживала этому?
— Не я его приглашала.
— И не я. Это была затея Бернарда.
— За что тут меня распекают? — воскликнул Бернард, появляясь в дверях.
— Тебе следовало предупредить нас, — сказал я.
— О чем?
— А куда он запропастился? — спросила Элиза.
— Чарли? Я зашел поздороваться с детьми, а Ильза захотела сказку, и она не отпускает его. Про Луну и жука-богомола. Знаете такую? Его мать часто рассказывала нам ее в детстве.
— Но как ты допустил его… гм… я хочу сказать, как ты допустил, чтобы Чарли остался там, когда мы уже садимся за стол?
— Ничего, он не задержится. Он умеет обращаться с детьми.
Бернард невозмутимо развернул салфетку.
Спустя пять минут, после неоднократных толчков Элизы, я извинился и пошел взглянуть, как дела. Чарли сидел на постели Ильзы, девочка заходилась от хохота.
— Ужин стынет, — сказал я, боюсь, чуть резче, чем следовало.
Он сразу вскочил:
— Доскажу в другой раз, ладно? — и взял девочку за руку.
Она лежала под цветным одеялом в своей белокурой невинности и восторженно смотрела на него.
— Приходите поскорее, — потребовала она.
— Ладно, обещаю.
Когда мы уже выходили, она вдруг спросила:
— Папа, а как мне его называть: дядя Чарли или аута[9] Чарли?
На мгновение я лишился дара речи.
Чарли расхохотался и вытер набежавшие от смеха слезы.
Вот ведь проблема, правда? — сказал он, — Я думаю, лучше всего называть меня просто Чарли? Договорились?
— Ладно, — согласилась она, послав нам обоим воздушный поцелуй.
Он сам пересказал за столом эту историю. Элиза потупилась. Бернард быстро взглянул на меня, потом оглушительно захохотал.
— Когда я впервые пожал руку чернокожему, — сказал он, — мне казалось, что я не смогу брать этой рукой пищу.
— Не волнуйся, — ответил Чарли. — Аналогичный случай. В Кембридже, после того как белый первый раз пожал мне руку, я купил флакон «деттола»[10] и долго тер ее.
— А вот когда мы голозадыми купались и дрались у запруды, мы даже не знали, что есть такая штука, как «деттол», — заметил Бернард.
Напряжение каким-то образом спало. Вскоре мы уже разговаривали и смеялись так громко и весело, что Луи пришел узнать, в чем дело. С ним было не так просто, как с Ильзой, но к полуночи они с Чарли уже стали закадычными друзьями.
В тот вечер мы не только смеялись и дурачились.
— Почему же вы вернулись в Южную Африку, если у вас все так хорошо складывалось за границей? — задал я ему вопрос, который в последующие годы мне пришлось задавать очень часто и очень многим.
— Потому что здесь осталась часть меня. — Он засмеялся, но его глаза за толстыми стеклами очков были серьезны. — Понимаете, с тех пор как я пошел в школу, вся моя жизнь была своего рода отказом: от моего народа, от моей культуры, от моего языка и так далее. Мне хотелось обрести способность взглянуть на себя как бы глазами белого. Ваша цивилизация превратила меня в нечто иное, чем я был по рождению. Даже по сравнению с тем, чем я был в университете. Но раньше или позже я должен был вернуться. Чтобы найти и вернуть ту часть самого себя, от которой я отказывался все эти годы.
— И вы думаете, что вам удастся ее вернуть?
— О, я знаю, это не легко. Но я добьюсь своего, будьте уверены. Я должен добиться — иначе к чему тянуть всю эту канитель?
— Мы все тянем канитель, — сказал я. — Если вдуматься, Сизиф — это символ нашего века.
— Но не забывайте — для черных Сизиф означает нечто другое.
— Не в экзистенциальном смысле.
— Именно в экзистенциальном. Скажем так: белый Сизиф — это нечто метафизическое. Черный — нечто социальное.
— Боюсь, я вас не понял.
— Социальные причины обусловили наше нынешнее положение, выбрали нам камень. Спускаясь вниз, чтобы потом снова толкать в гору этот абсурдный камень, я ощущаю не метафизический, а социальный гнет… Вы можете размышлять в категориях самоубийства, если принимать толкование мифа о Сизифе, данное Камю. А я мыслю в совершенно других. Мне надо перейти от самоубийства к убийству. Думаю, что песня неведения уже спета. К черту Уильяма Блейка.
— Папа, а что значит «в экзистенциальном смысле»? — спросил Луи.
— Тебе давно пора спать, — угрюмо ответил я.
Когда он ушел, Чарли сказал:
— Вы не сможете всю жизнь удерживать его в стороне от таких проблем.
— Разве я его от чего-то удерживаю?
— Вы не ответили на его вопрос.
— Господи, да ему всего четырнадцать. Что он может понять в экзистенциализме?
— А что можем понять я или вы?
Я с улыбкой прервал наш спор:
— По-моему, нам просто необходимо еще выпить.
— Именно, — согласился Чарли. — Поскольку мы сейчас совершаем Великое отступление, — он улыбнулся, — новейший вариант Великого исхода.
— Ну, ты опять полез в метафизику, — осадил его Бернард. Он подмигнул мне: — Такое неизбежно в полночь. Как визит Франкенштейна.
— Но вы ведь не собираетесь убивать нас в наших постелях? — спросила Элиза.
Уже светало, когда мы вышли проводить их. Я пожал руку Чарли. Бернард с шутливой пылкостью обнял и поцеловал Элизу. Затем, словно это было совершенно естественно, Чарли тоже подошел, чтобы поцеловать ее на прощание. Я заметил, как она напряглась, и затаил дыхание. Но она спокойно подставила ему щеку, и вот уже Чарли с Бернардом сели в машину. Хлопнула дверца, заметался свет фар. В ночи исчезли и задние огни машины. Все смолкло, кроме стука тяжелых, больших капель, медленно падавших с веток деревьев. Элиза первой направилась к дому. Вокруг крыльца, в свете из окон, дрожали мелкие капельки дождя. Я пошел закрыть ворота. Положив руки на холодный металл, я постоял там некоторое время, угрюмо глядя вдаль и чувствуя себя более усталым, чем предполагал.
Даже сейчас весь тот вечер кажется мне балансированием на краю пропасти, на волне возбуждения. Но сейчас все размыто временем, и кругом лишь плещет черная вода.
Было холодно, зябко и очень тихо. Я чувствовал себя подавленно, так бывало со мной много лет назад, когда на меня обрушивалось одиночество после долгой и бессмысленной атаки на выбранную девушку, когда, победив ее сопротивление и затащив в постель, потом возвращаешься домой, чтобы хоть немного поспать, идешь один, в темноте, глубоко засунув руки в карманы и посвистывая, как на кладбище. Я «победил». Я «добился цели». Но добился ли? Или просто приглушил нечто непереносимое, нечто, что опять нужно подавлять в себе, как можно скорее отыскивая новую девушку, начиная атаку на нее, ломая и ее сопротивление?
Кто упомянул о Сизифе? А кто сказал: ничто не вызывает такой жизненной усталости, как повторение любовной страсти.
Пора было идти в дом. Становилось все холоднее и промозглее. В полутьме холла Элиза сказала:
— А он оказался очень милым, правда?
— Выходит, он тебе понравился?
— А тебе?
— Конечно.
Мне хотелось, чтобы она сказала что-то другое. Мне самому хотелось сказать что-то другое. Но, собственно, что?
— Ты, знаешь сказку о Луне и жуке-богомоле?
— Нет. А что?
— Просто спросил. Я тоже не знаю.
Она засмеялась:
— Какую чепуху ты иногда говоришь! — Она пошла по темному коридору в спальню.
Я захлопнул тяжелую входную дверь, словно пытаясь прогнать эту ночь.
8
Куинстаун. Огни вдоль улиц, лишь подчеркивающие пустынность города в этот час. Гаражи, витрины, то тут, то там еще открытые кафе, группа людей, выходящих из отеля и прощающихся на тротуаре. Широкий мост на другом конце города. Теперь огней чуть меньше. По пути они мерцали на лице у Луи, как блестки чешуи у змеи, меняющей кожу. Он сидел нога на ногу, по-прежнему глядя прямо перед собой. Промелькнули огоньки поезда и исчезли у нас за спиной. Дорога была дрянной. Один раз нам пришлось проехать несколько сот метров по песку. Черный водитель впереди не уступал дорогу. Подонок. Наверное, рад хоть как-то показать свое превосходство над белым. В конце концов, дав внезапно полный газ и круто вырулив, я обогнал его. Настала моя очередь помаячить у него перед носом, прежде чем оставить далеко позади.
— Теперь еще только проехать Каткарт.
Луи не ответил.
Местность, очень красивая и днем — широкие желтые равнины и в отдалении синие плоские холмы, — в лунном свете казалась фантастической. Пожалуй, в темноте она даже красивее — не так заметны следы засухи. В последнем письме мать писала: «У нас еще не бывало такой засухи, даже алоэ стали вянуть, никогда не думала, что господь так накажет нас». Она писала мне каждую неделю, из года в год, даже когда она болела — правда, такое случалось не часто: у матери крепкий организм, да к тому же несгибаемая воля, унаследованная от французских и голландских предков.
Если она вбила себе в голову помешать продаже фермы, будет очень хлопотно. Но я постарался успокоить себя: раньше мне всегда удавалось добиться от нее того, чего я хотел, может быть, потому, что мы с ней похожи. Тео был совсем другим — слабак вроде отца. Конечно, если бы отец был жив, вопрос о продаже фермы решился бы гораздо проще. Он был бы только рад от нее избавиться. Рад? Ведь когда незадолго до его смерти об этом зашла речь, он вдруг проявил неожиданную и бессмысленную привязанность к этим местам и настаивал, чтобы его похоронили именно здесь.
Родителей Бернарда уже давно нет на свете. Его мать мирно умерла во сне лет десять назад. А отец, этот могучий старик, хозяин фермы, не побежденный ни засухой, ни холодами, не смог пережить смерти своей хрупкой супруги и через полгода последовал за ней — с разбитым сердцем, как сказал врач.
Наверное, и к лучшему, что они не дожили до этого суда. Едва ли они смогли бы пережить такое. Но их тоже нельзя недооценивать. Бернард часто высказывал мысли и совершал поступки, пугавшие их, но они никогда не упрекали его, не теряли веры в него и любви к нему — они и теперь бы молились за него, но не осуждали. И все же суд был бы для них непосилен.
Бессмысленные рассуждения. Столь же бессмысленные, как и мои размышления о том, мог ли я изменить ход событий.
Правда, был один странный вечер во время суда над «террористами» в тысяча девятьсот семьдесят третьем году (когда, как выяснилось потом, он защищал своих же сообщников и подчиненных). Я не понял тогда, что в нашей беседе прозвучало нечто особенное, а он объяснил мне все лишь гораздо позже, слишком поздно.
Во время своей болезни в детстве — в ту ночь с абажуром, позвякивающим о стену, и словами врача «кризис миновал» — я тоже не подозревал, в какой опасности находился. А когда понял, все было позади. Наверное, так бывает всегда. В таком случае и ночь семьдесят третьего года тоже можно назвать кризисной.
То, что случилось, было предопределено цепочкой совершенно незначительных обстоятельств. Например, все было бы иначе, если бы Бернард жил у нас, как он обычно и делал. Но в это время у нас гостили родители Элизы. Хватило бы места и для него, но он не хотел никого стеснять, и поэтому я поселил его в своей городской квартирке.
Или же — если бы в ту роковую ночь я не пошел на день рождения к тетушке Ринни. Или — если бы Бернард пошел со мной, как и собирался вначале. Или — если бы там не оказалось Беа. Столько всяких «или» и «если».
Это было вскоре после начала суда, и виделись мы не часто. В тот понедельник я до вечера задержался в конторе (у меня шла ревизия), устал и был не в настроении сразу отправляться на вечеринку. Итак, я решил сперва заглянуть к Бернарду и распить с ним по рюмочке. Может быть, мне удастся уговорить его поехать со мной. Он хорошо относился к этой старушке еще с тех пор, как на последнем курсе я снимал комнату в ее доме восемнадцатого столетия на Дорп-стрит. Тетушка Ринни была не только родом, но и корнями из Стелленбоса: пять поколений ее предков жили в том же доме, никто не мог даже представить себе, что она уедет оттуда. Но обе ее дочери обосновались в Йоханнесбурге, и, чтобы быть поближе к внукам, ей пришлось продать старый дом и переехать на север. В небольшой квартирке одного из старинных зданий в Парктауне она всеми силами старалась занять себя тем, что называла жизнью: музыкой, людьми, шутками, стихами. Медленно дряхлея в тоске по горам, по дубам, по шуму воды в каналах и смеху молодежи, она пыталась организовать нечто вроде салона. Пожалуй, не было случая, чтобы, придя к ней, я не застал там кого-то совершенно незнакомого: кого-нибудь из людей, которых она подцепляла в автобусе, в музее, на выставке или в ресторане и приводила к себе, чтобы окружить заботой и вниманием. Скромная и деликатная, она порой бывала чрезвычайно требовательной. Она обожала сводничать и женить друг на друге своих молодых друзей. Бернард был единственным, кто не поддавался, хотя его искушали сильней, чем кого бы то ни было.
Апогеем ее светской жизни было ежегодное торжество в апреле по случаю дня рождения. Все друзья и знакомые собирались в ее небольшой квартирке, чтобы повеселиться, попьянствовать, и побуянить до рассвета, и на протяжении всей этой оргии она неизменно восседала в центре комнаты с тщательно уложенными седыми волосами, с жемчугами в ушах и на жилистой шее, глядя на гостей живыми и яркими, как васильки, глазами и читая им время от времени какие-нибудь стихи.
Именно в такой день я и поехал вечером к себе на квартиру, чтобы повидать Бернарда. Тихая и мирная квартира в современном здании, обставленная по моему вкусу, где по ночам можно было лежать на широкой, двуспальной кровати и слушать шелест платановых листьев за окном. Город чувствовался и здесь — со своим движением, динамикой, трепещущим присутствием на пороге сознания, — но не как угроза или назойливое вторжение, а родной и близкий, будто сама жизнь.
Когда я позвонил, Бернард только что принял душ и вышел ко мне голый, с полотенцем, обмотанным вокруг бедер.
— Я не вовремя? Ты куда-нибудь собираешься?
— Да нет. Заходи.
По пути в спальню он снял полотенце и стал вытираться им. Я, помнится, подумал, что хотя он на пять лет старше меня, но сохранился лучше.
— Как тебе удается поддерживать форму? — спросил я не без зависти.
— Играю в теннис. Раз в неделю хожу в гимнастический зал. Вот и все, — Он бросил полотенце и начал одеваться. — Если не следить за своим механизмом, — добавил он со знакомой мне улыбкой, — можно потерять самоуважение и уважение других, так ведь?
— Я заехал пригласить тебя на вечеринку.
— Хорошо. Куда?
— К тетушке Ринни на день рождения.
— О господи, я и забыл.
— Она знает, что ты в городе, и требует, чтобы я тебя привел.
— Наверное, нашла для меня несравненную невесту.
— Откуда ты знаешь?
— Она каждый год находит девушку, «самой судьбой предназначенную для меня». Бедная старушка, я ее уже столько раз разочаровывал, но она не отчаивается, — Взяв башмаки и носки, он направился к двери. — Давай сперва выпьем. Время у нас еще есть.
— Безусловно, есть. Не стоит появляться там раньше восьми. Все равно гости не разойдутся до утра.
— Сам нальешь или я? — Он стоял возле старинного шкафчика, который я приспособил под бар.
— Наливай. Ты же здесь дома.
— Богатый выбор. — Он открыл бутылку. — Ты просто Гарун-аль-Рашид.
— Пока не совсем.
— Ну, не скромничай. Ты заставляешь своих девиц рассказывать сказки?
— Нет, обычно я сам плету всякие байки.
Он передал мне стакан с виски и сел на стул, все еще босой.
— За твое.
— За твое.
— Я хотел бы, чтобы ты снова начал рассказывать сказки, — неожиданно сказал он. — Я еще помню ту вещь, которую ты показал мне много лет назад.
— Ты же спустил ее в унитаз.
— Ну и что? Все равно у тебя есть талант.
— Но теперь, когда я стал солидным человеком — как это говорится, — я оставил детские забавы.
— Детские забавы вроде веры, надежды, любви?
— Нет, о любви я пока еще не забыл.
— Я не говорю о твоих шлюхах.
— Что это ты сегодня изображаешь из себя такого проповедника? Можно подумать, что не у меня тесть священник, а у тебя.
Не смейся над ним, он хороший человек.
— Грустишь? — спросил я с наигранной легкостью. — О прошлогоднем снеге?
— Нет, не о снеге. Скорее, о засухе. — Внезапно он стал очень серьезен. — Эти дивные, ужасающие засухи, когда поля обнажены до самой кости земной. Как овечий скелет. Пока не достигнешь предела отчаяния и страха и не очутишься в тишине, какой до тех пор не ведал. Я хорошо помню это ясное и чистое чувство. И только тогда, помнится, начинал идти дождь.
— Ты сегодня сентиментально настроен.
— Да, пожалуй.
За окном смеркалось. В комнате становилось темно, очертания мебели и картин на стенах расплывались. Ни один из нас не пошевелился, чтобы зажечь свет. Спустя некоторое время Бернард поднялся, наполнил наши стаканы, потом подошел к проигрывателю и включил его. Пластинка там уже стояла. Разумеется, Моцарт.
Мы вновь вступили в одну из наших безмолвных бесед, когда слова заменяются музыкальными метафорами, ясными и точными звуками рояля, не страшащимися изрекать простейшие из истин.
Минувших лет как не бывало. Я отбросил на время заботы солидного человека. Очищенный музыкой, я испытывал чувство, подобное тому, о котором недавно говорил Бернард, упомянув о засухе. Музыка действовала более мягко и деликатно, но в конечном счете не менее неумолимо. Она возвращала к вере, надежде, любви, к истине о солнце и камне в той стране, где дождь — это не более чем слух или символ бренности. Те каникулы на ферме. Элиза. («Никогда не видел девушек?») Ночи в комнате, во тьме, пропитанной запахом воска после того, как мы гасили свечи, и защищенной от звуков, просачивающихся с улицы: кваканья, стрекота, уханья, пофыркивания или лая пса, жуткого воя и смеха шакалов, голосов из хижин, шума ветряных мельниц и скрипа цепей на ветру.
— Извини, — сказал Бернард, когда музыка кончилась. — По-видимому, дело, в котором я участвую, угнетает меня.
— Не понимаю, зачем ты ввязываешься в дела такого рода.
— Какого?
— Защищаешь людей, таких как эти.
— А что ты знаешь о «людях таких как эти»?
— Зато я хорошо знаю тебя.
— Ой ли? — Он поглядел на меня из полутьмы.
— Даже слишком хорошо, — настаивал я. — Я знаю, что ты стараешься освободиться от бремени африканер-ства, но это тебе никак не удается.
— Думаешь?
— Ты ведь движим именно этими мотивами.
— Что ты имеешь в виду?
— Видишь ли, ты часто говорил о «мазохистском экстазе» африканерства, о способности африканера вдохновляться чувством собственного героизма в одиночном противостоянии всему миру. Но разве тебе самому это не свойственно? Ты одиночкой выступаешь против миропорядка, в котором существуешь. Тот же самый «экстаз». И тот же «мазохизм». Твоя позиция предопределена той самой группой людей, с которой ты стремишься порвать. И своими действиями ты лишь доказываешь свою связь с тем, от чего стремишься убежать.
— Это что, диагноз?
— Да. Все остальные симптомы тоже подтверждают его.
— Назовите же мне их, доктор.
— Я не шучу, Бернард. Тебя уже давно привлекает роль мятежника. Очень хорошо. Но кое-что ты упустил из виду: мятежники, добивавшиеся успеха, всегда были, если верить истории, молодыми людьми. Юнцу, примкнувшему к мятежникам, нечего терять, он может идти до конца. Но в нашей стране большинству мятежников за тридцать, если не за сорок. Эти люди рискуют многим. А значит, никогда не зайдут слишком далеко. Понимаешь, о чем я?
— Согласен. Но если, предположим, ты встретишь человека за тридцать или за сорок, готового пожертвовать многим? Вроде одного из тех, кого я сейчас защищаю: человека, готового рискнуть всем, что обычно называется хорошей жизнью.
— Этого просто не может быть. Это противоестественно.
— Думаешь, не может быть?
— Если такое и бывает, то это абсурд. Или извращение.
Чуть погодя он встал. В комнате было уже совсем темно. Я видел лишь его силуэт на фоне окна, озаренного городскими огнями.
— Мартин, люди, о которых я говорю, тоже не прочь расслабиться в такой вот квартирке за выпивкой. У некоторых из них есть жена и дети.
— Значит, они крайне безответственны.
— Неужели ты не можешь представить себе человека, очень умного и тонко чувствующего, доведенного до той грани, за которой единственным средством решения проблемы, которое он может принять, становится насилие?
— Это еще не оправдание для того, чтобы становиться таким, как те, кого ты защищаешь. Твой герой должен бы предвидеть и ответную реакцию противника. А это уже базис для терроризма. Цель оправдывает средства, так что ли? Как может революция победить без крайнего террора, без насилия ради насилия? И как можно принимать такое «во имя гуманности»? Ты славишь неблагородное дело, Бернард.
— А еще говоришь, что хорошо знаешь меня, — сказал он, стоя у окна. Он смотрел на меня, но было слишком темно, и я не мог разглядеть выражение его глаз. — Мартин, мне нужно поговорить с тобой. Я уже давно собирался, но мы так редко бываем одни.
— Что случилось?
— Хорошо бы нам проговорить всю ночь, как в былые времена, — Его голос вдруг зазвучал грустно, плечи поникли. Он поднял голову и посмотрел на меня. — Оказывается, ты мне очень нужен. Чтобы вернуть трезвость взгляда. Чтобы восстановить веру. В какой-то момент наступает период…
Я хотел было подойти к нему, но его отчаяние удержало меня. Я не знал, чем ему помочь. В былые времена в помощи всегда нуждался я — и шел к нему. Я даже почувствовал какое-то беспокойство оттого, что теперь ему понадобилась моя помощь.
— Не унывай, — сказал я. — Поедем к тетушке Ринни. Ты отвлечешься немного.
— Я не могу являться на вечеринку в таком настроении.
— Но ты же собирался.
— Да, когда ты только пришел. — Он отошел от окна и приблизился ко мне, — Останься и давай поговорим. Пожалуйста, Мартин.
— Но она ждет меня. — Я двинулся к двери: — Поедем вместе.
— Нет, я останусь. Может быть, так и лучше: остаться и обдумать все как следует самому.
Я открыл дверь. Слепящий свет с лестничной площадки озарил комнату. Бернард вздрогнул и поднял голову.
— Пожалуйста, возвращайся поскорее. Скажи тетушке Ринни, что я ее обожаю, развлекись немного и возвращайся. Я буду ждать тебя.
— Ладно. — Я улыбнулся. — Поговорим, когда вернусь. И не расклеивайся. Мы во всем разберемся.
Но разумеется, тогда все сорвалось, этот разговор так никогда и не состоялся. Бессмысленно, повторяю, вздыхать обо всех этих «если бы да кабы». Все бывает лишь так, как бывает, потому что и должно быть именно так. И если мы начнем противиться этому, то неизбежно кончим жизнь с синим кругом, нарисованным вокруг пупка.
Я хочу добавить, что есть некоторые вещи, кажущиеся противоестественными, то есть противоречащими естественному стремлению каждого человека жить в безопасности, продвигаться по службе, иметь дом, жену, детей. Но если ты вдруг сделал для себя открытие, что миллионы других людей в твоей стране живут, дискриминируемые в тех же правах законами, созданными твоим народом, твой образ жизни перестает казаться тебе правильным. И тебе приходится вырываться из этой безопасности и блаженного неведения. В моем случае, если в последний раз прибегнуть к моему примеру, пришлось пожертвовать даже браком, прежде чем он превратился в нерасторжимые узы для меня и женщины, которую я люблю, и который мог бы существовать лишь за счет жизни и счастья других людей.
Мне все это было непонятно, как я ни старался разобраться, и мое непонимание еще более усугублялось тем, что я никогда не видел его жены; я не мог себе представить Бернарда женатым. Не было зрительного контекста, в который можно было бы ввести этот образ для уяснения ситуации. Вероятно, поэтому ни его брак, ни развод не задели меня. До того дня, когда она появилась у меня в конторе.
Они поженились, никого не поставив в известность. Как и следовало ожидать от Бернарда, я узнал об этом, лишь когда он позвонил мне по телефону и сказал:
— Думаю, тебе будет приятно узнать, что сегодня утром я женился.
— Да что ты! Не может быть!
— Я вполне нормальный самец.
— Нисколько не сомневаюсь. Но так вдруг?
— Я никогда не любил проволочек. Пришел, увидел, победил. Но только на этот раз не победил, а побежден. Так или иначе, мы оба чрезвычайно счастливы и твердо решили прожить вдвоем до старости.
Но уже через несколько месяцев, незадолго до его приезда в Йоханнесбург по делу «заговорщиков», они развелись. Он явно не хотел распространяться на эту тему, и я при встрече не стал лезть ему в душу. И все же меня не покидало ощущение, что теперь впервые между нами возникло отчуждение: в его жизни произошло нечто, чего он не стал делить со мной и доступа к чему у меня не было. Не этот ли случай положил начало и последующим его умолчаниям о том, как и чем он живет?
В моей конторе она появилась лишь более года спустя, когда процесс уже подходил к концу. Имя, Реньета Франкен, ничего не сказало мне, но ее отказ назвать секретарше цель своего визита заинтриговал меня. Она сразу же произвела на меня сильное впечатление, не только потому, что была по-настоящему красива — высокая, стройная, белокурая, загорелая, с огромными синими глазами, — но и из-за своей явной витальности. Ей было не больше двадцати — двадцати одного года, но ничто в ней не наводило на мысль о девичестве и невинности: она, несомненно, была женщиной в полном смысле слова.
— Добрый день, — сказал я. — Садитесь, пожалуйста.
Она чуть помедлила.
— Вы Мартин Мейнхардт?
— Разумеется. Чем могу служить?
— А разве Бернард…
— Бернард?
— Вы ведь тот Мейнхардт, с которым он дружил в университете. Он много рассказывал о вас.
— Да, это я. Но… — Внезапно меня как током ударило. — Господи, так вы его жена?
— Бывшая жена, — печально улыбнулась она уголками рта.
— Извините.
— За что? Вы тут ни при чем.
— Мы с ним всегда были так дружны, и я страшно обрадовался, узнав, что он женился. А потом вдруг…
— Вы очень заняты?
— Нет, нет. Мне приятно наконец познакомиться с вами. Не хотите ли чаю?
— Спасибо, не надо.
Теперь, когда я узнал, кто она, она словно потеряла уверенность в себе. С явной растерянностью она объявила мне, что пришла поговорить о нем. Все это произошло так неожиданно. Может быть, он еще передумает. Может, им еще удастся… Но она ни в коем случае не хочет быть назойливой. Сначала она хотела просто приехать к нему, но потом подумала, что такой сюрприз будет слишком детским. Поэтому она решила посоветоваться со мной.
— Извините меня, пожалуйста, — сказала она. — Я не стану больше вам надоедать. Я уже поняла, сколь глупо с моей стороны было думать, что кто-то третий…
— Я не кто-то третий. У нас с Бернардом нет тайн друг от друга.
— Он вам что-нибудь рассказывал? Сейчас, в Йоханнесбурге?
— Нет. Ваш брак — единственное, что он со мной не обсуждал.
— Значит, я его сильно обидела, — сказала она без всяких эмоций, просто констатируя факт.
Она достала сигарету. Я щелкнул зажигалкой.
— Спасибо.
В том, как она повернула голову, выпуская дым, было что-то чрезвычайно знакомое, словно я знал ее уже многие годы.
— Он никогда ни в чем вас не обвинял.
— Хотелось бы в это верить. — Она затянулась и задержала дым во рту. — Понимаете, мне казалось, что мы были счастливы. Он никогда не выглядел несчастным. Он был весел и полон жизни. И вдруг совершенно неожиданно он просто сказал… — Она вновь овладела собой и продолжала с твердостью, тоже показавшейся мне крайне знакомой: — Я не хочу обременять вас всем этим. Если б вы могли просто честно сказать мне: стоит ли мне, на ваш взгляд, пойти к нему и поговорить или же это будет слишком тяжело для него? Сейчас, после стольких месяцев этого процесса. Как вы думаете?
— Если бы я знал, что вам ответить! Вы застали меня врасплох.
— Я не спешу. — И затем со спокойным и холодным нажимом в голосе: — У меня ведь вся жизнь впереди, верно? Не хотелось бы пустить ее псу под хвост из-за дурацкой спешки.
Грубое выражение резануло меня — как то, другое, много лет назад. И вдруг я понял, почему кое-что в ней кажется мне знакомым. Она была похожа на Элизу. Не на нынешнюю Элизу, а на ту дерзкую и самоуверенную девицу былых времен, которая могла в воскресный полдень спокойно снять с себя шляпу, перчатки и все остальное и голой купаться у плотины вместе с незнакомым человеком. От этого открытия у меня перехватило дыхание.
— Я позвоню вам завтра, — сказала она. — Или когда вы скажете.
— А почему бы нам не поужинать вместе сегодня? — спросил я, гадая, заметила ли она во мне что-нибудь, — Мы могли бы спокойно все обсудить.
Она немного помедлила.
— Хорошо. Когда?
— В восемь. Где вы остановились?
— В «Карлтоне»
— Я заеду за вами.
— Большое спасибо, Мартин.
— Это я должен сказать вам спасибо.
— За что?
— Ну, просто, — я взял ее за руку, — за то, что вы пришли.
— До свидания.
— До вечера, Реньета.
Закрыв за ней дверь, я обнаружил, что у меня вспотели руки. Не чувствуя ни малейшего желания работать, я подошел к окну и стал смотреть на дымный город.
* * *
— Единственное, чего я хотела, — сказала она после ужина, когда около полуночи мы пили по последней на террасе ресторана, — это сделать все, чтобы он почувствовал, что у него есть дом, покой. Ну а потом, конечно, и дети… Он такой беспокойный, вечно ищет чего-то. И мне казалось…
— Может, он слишком затянул с женитьбой. Слишком привык быть один. Быть самому себе хозяином.
— Многие вступают в брак еще позже, и все же счастливы.
— Бернард алчет большей независимости, чем другие.
(Мне хотелось сказать: «Если бы вы были меньше похожи на Элизу, может быть, все было бы и лучше». Но я сдержался.)
— Значит, вы думаете, что мне нужно вернуться домой, даже не повидавшись с ним?
— Почему вы ждете от меня столь категорического ответа? Почему вы думаете, что я имею право решать вашу судьбу?
Она сидела потупясь.
— Может быть, я с самого начала совершила ошибку, позволив ему взять на себя ответственность за нас обоих.
— Давайте я поговорю с ним. Я не скажу, что вы здесь. Просто попытаюсь выяснить, как он на самом деле на все это смотрит.
— Вы это сделаете?
Когда мы прощались, она импульсивно поцеловала меня.
Но я все откладывал и откладывал беседу с ним.
хотя мы и виделись каждый вечер. В те последние недели процесса он был слишком издерган, и я не хотел губить дело, выбрав неподходящий момент для разговора. Я решился заговорить с ним об этом только через неделю. В тот день он очень устал. И может быть, поэтому был более беззащитен и более откровенен.
— Ты не уставал бы так, если бы за тобой приглядывала жена, — начал я, стараясь, чтобы это прозвучало как бы невзначай.
— Наверно, уставал бы еще больше. Воевать на два фронта куда тяжелее.
— Мне кажется, что ты даже не успел разобраться, что такое брак.
— С чего ты это взял? — мгновенно отозвался он.
— Просто доверяюсь собственному опыту. Год слишком малый срок, чтобы проверить, удачен ли брак.
— Не думаю, что это зависит от срока. Достаточно вовремя сообразить, что совершил ошибку. У одних на это уходит вся жизнь, другие понимают быстрее.
— Ты любил ее?
— Конечно, любил.
— Ты тогда сказал, что хочешь прожить с ней до старости.
Он поглядел на меня.
— Мне и сейчас ничего не хотелось бы так сильно, как этого, — ответил он, — Но для человека в моем положении, уже сделавшего свой выбор, брак — это эгоизм. Это бегство. На меня нашло временное затмение. Господи, неужели мне не хочется иметь дом и вести нормальную семейную жизнь? Но я не могу думать только о себе.
— А ты когда-нибудь думал о Реньете?
Он снова поглядел на меня.
— Я о ней в основном и думал.
Я не мог больше мучить его. Было видно, как расстроил его этот разговор. Мне хотелось все узнать поподробнее, но я был не в силах причинять ему страдание.
Не менее тяжело было сообщить о нашем разговоре Реньете. (Да и что тут было сообщать? Что я мог сказать ей? Разве я был вправе решать их судьбы?)
Я старался говорить как можно уклончивей.
— Давайте повременим, — предложил я в конце разговора. — Он сейчас очень издерган.
— Вы что-то скрываете от меня. Вы меня жалеете.
— Не в том дело, Реньета.
Я налил ей еще рюмку из заказанной ранее бутылки. Мы сидели у нее в номере. После ужина мы пошли прогуляться, но было слишком холодно, она устала и не протестовала, когда я поднялся вместе с ней. К этому времени между нами возникла странная, даже несколько опасная интимность, словно Бернард самим своим отсутствием пропустил сквозь нас электрический ток. И потом эти жесты, интонации, столь напоминающие Элизины, но исходившие от другой женщины, оказывали на меня чрезвычайно сильное воздействие. Будто я снова ухаживал за собственной женой, будто чудом испарились куда-то почти пятнадцать лет и я вернулся к кому-то, кого давно утратил, — к девушке, в тот жаркий полдень купавшейся в холодной воде.
Вдруг она начала плакать. Это произошло неожиданно, она казалась совершенно потерянной, ее отрешенный вид пугал меня. Я не мог видеть, как она плачет. Я сел рядом и обнял ее, успокаивая как маленького ребенка, как Ильзу. Обнимая ее крепче и крепче, утешая и лаская, я почувствовал нарастание желания, все более и более бесконтрольного. Раскачиваясь из стороны в сторону и в отчаянии прижимаясь ко мне, она тоже как-то переменилась. Наше объятие стало мучительной судорогой любви. Казалось, мы готовы задушить, разорвать на части, убить друг друга в нашем безудержном стремлении уничтожить самих себя.
Были мгновения, когда все у меня в голове мешалось, когда я в самом деле думал, что сжимаю в объятиях Элизу первых дней нашей любви, еще до женитьбы. Но со странным чувством — словно не я обладаю ею более полно, но она более полно принадлежит мне.
Поздно ночью, помню, я сидел на краю постели, уронив голову на руки. Реньета лежала неподвижно, ее смятое и разорванное платье задралось.
Хотелось сказать: мне очень жаль. Но чего? Мы никого не обидели. Мы согрешили, и оба несли за это ответственность. Мы совершили это вместе. И все же я был подавлен непоправимостью происшедшего.
Я прикрыл ее простыней. Она не пошевелилась. Вдруг я с ужасом подумал: господи, а если она умерла?
Но она открыла глаза и спросила:
— Собираешься уходить?
— Уже очень поздно.
— Да, конечно.
— Реньета, завтра я непременно…
Она помотала головой и закрыла глаза.
— Нет, не надо.
— Я имею в виду…
— Я поняла. Но это уже не нужно. Завтра я уеду домой.
— Но, Реньета, ведь ты еще…
На ее губах с размазавшейся помадой появилась усталая усмешка.
— Может, ты мне в самом деле помог. Так или иначе, теперь все кончено.
Я хотел возразить, но, поглядев на ее закрытые глаза, промолчал. Выключив свет, словно надеясь вычеркнуть эту картину из своего сознания, я вышел и пешком спустился с пятого этажа, по какой-то маловразумительной причине не воспользовавшись лифтом.
Может быть, так и в самом деле лучше, думал я на обратном пути в машине. Я уберег Бернарда от лишнего тура объяснений и необходимости принимать решение, ее — тоже. Действительно, так лучше для нас всех. И ни о какой вине не может быть и речи. Разве я несу хоть какую-то ответственность за них?
Самым странным было, выйдя из ванной, увидеть Элизу, мирно спящую в постели. Было нечто необъяснимое в том, какой нетронутой и непорочной она казалась. Лишь засыпая, я понял в чем дело: все в порядке. Никто не насиловал моей жены. Даже я сам.
9
Позади нас, отражаясь в зеркале заднего обзора, вспыхнули огни Каткарта. Над шоссе поплыл, сгущаясь, туман. Выехав на прямую за несколько миль до Статтерхайма, я сбавил скорость до сорока миль. Время от времени, когда мы поднимались на вершину холма, из тумана выплывал участок голой дороги, а внизу под нами ползли серебристые облака в невероятном, магическом освещении. Но я не был расположен любоваться пейзажем. Моими мыслями владела ферма, навязывая воспоминания.
Я остановился у ворот, за которыми начиналась территория фермы. Луи вышел из машины, растаял в темноте и некоторое время провозился с воротами. Ему пришлось открывать их вручную, приводного механизма почему-то не было. Скорее всего, украден черномазыми мальчишками. Только не уследи, растащат все.
Когда Луи наконец справился с воротами, послышался собачий лай и голоса из хижин, расположенных за домом. Кое-где виднелись огни костров. Два года назад они спалили своими кострами все сено. Нам пришлось покупать корм для скота. Кроме того, во время пожара сгорел ребенок. Дорога к дому была в жалком состоянии, сплошные рытвины и камни. Я вздрогнул и забеспокоился, когда в тело «мерседеса» врезался здоровенный камень. Что бы ни говорила мать, но на ферме без мужской руки не обойтись. Там, где дорога круто сворачивала вправо, огни терялись в темноте. Оттуда слышались голоса. Расселина, прорезавшая кишки земли задолго до появления здесь человека. Возможно, этот сдвиг обнажил более глубокие и плодородные слои почвы, а может быть, края расселины обвалились, открыв дорогу для воды. Ибо в былые дни долина была воистину цветущей и райской, заросшей девственным лесом, с родниками и источниками: здесь росли даже пальмы и папоротник, хлебное дерево и дикие фиговые деревья, кустарник и неприхотливые алоэ.
У ограды, увитой зеленью, я остановился и хотел снова послать Луи открыть ворота, но кто-то уже открыл их. Три огромные дворняги мчались к машине, заливисто лая и размахивая хвостами, в свете фар они казались молодыми львами. Я проехал мимо сарая, в котором стояли разбитый фургон и трактор. Рядом валялась сломанная борона, под деревом пара старых шин, чуть подальше виднелись птичник и низкая стена свинарника.
Выключив фары, я увидел мать, поджидавшую нас у дверей кухни, возле цистерны с водой: высокая, прямая, жилистая, седые волосы собраны в тугой узел. На ней был грязный белый передник поверх рабочего комбинезона. Спокойная, практичная, не управляемая другими женщина, какой я знал ее всегда, женщина, никогда не делавшая скидок на свой возраст, даже теперь, в семьдесят лет. И все же, лишь темным силуэтом просматриваясь сейчас на фоне освещенной кухни, она казалась очень одинокой — тем одиночеством, которое присуще людям, никому не позволяющим заглянуть себе в душу, за деятельный или гордый фасад, и о котором, может быть, они сами не подозревают.
В руках у нее было что-то похожее на младенца. Подойдя ближе, я разглядел, что это и в самом деле был ребенок, спокойно и уютно лежавший у нее на руках. Так она меня и поджидала.
Я поцеловал ее. Одной рукой — в другой у нее был ребенок — она обняла меня и прижала к себе с порывистостью, сильно контрастирующей с ее гордой осанкой. Когда она отпустила меня, на глазах у нее были слезы. Чтобы не смущать ее, я сделал вид, будто ничего не заметил.
— Ты поздно, сынок. — Даже в шестьдесят я останусь для нее сынком. — Что-нибудь случилось?
— Да нет. Просто не смогли выехать раньше из Претории.
— А что ты делал в Претории?
— Были дела, — коротко ответил я и позвал Луи: — Принесешь вещи, хорошо?
— С тобой только Луи? Ты ничего не сообщил в телеграмме, и я все гадала.
Я не понял, разочарована она или обрадована.
— Приехать всем семейством не удалось.
— Элиза не захотела? — подозрительно спросила она.
— Ильзе нужно в школу, мама.
Она отвернулась и поглядела на подошедшего Луи.
— Боже мой, ты стал настоящим мужчиной за то время, пока мы не виделись.
Он нахмурился и, проходя в дом, наклонился, чтобы она могла поцеловать его.
— С ним стало трудновато после Анголы, — сказал я, понизив голос.
— Его дед гордился бы им. Они ведь задали перцу этим террористам, правда? Он помогал делать историю.
— Я не очень уверен в этом. — Я прошел следом за нею на кухню. — А чей это ребенок?
Она повернулась ко мне и откинула край одеяльца, приоткрыв черную головку с огромными глазами.
— Мать принесла его сегодня днем. Желудочный грипп. Пытаюсь подлечить его. Эти люди, знаешь, всегда ждут до последнего.
— Добрый вечер, баас, — послышалось из угла кухни.
Я увидел чернокожую старуху.
— Добрый вечер, Кристина. Как живешь-можешь?
— Хорошо, баас. Спасибо, баас.
— Давай, поторапливайся, — сказала ей мать. — Ставь ужин на стол. Нечего стоять, будто на тебя столбняк нашел.
В кухне была еще одна чернокожая женщина. Я разглядел лишь молодое лицо с высокими скулами и блеск глаз. Она опустила голову, когда заметила, что я смотрю на нее.
Мать отдала ей ребенка.
— Держи его, Токозиль. — Она говорила на коса. — Если проснется ночью, дай ему лекарство. Утром можешь снова принести его ко мне.
Она прошла вслед за мной через столовую в комнату для гостей.
— Я приготовила постель в моей комнате, думая, что ты приедешь с Элизой. Но вам с Луи, наверное, будет лучше здесь.
Белые, туго накрахмаленные покрывала на постелях, тусклое поблескивание медных шариков на спинках кроватей. В комнате пахло мастикой и мылом. Около умывальника висели чистые полотенца.
— Располагайся, сынок. А потом приходите ужинать.
— Я не хочу есть, — сказал Луи, когда она вышла.
— Ну что-нибудь проглотить тебе придется. Ты же знаешь бабушку.
Он все же пошел ужинать. В столовой, освещаемой газовой лампой, нас ожидал обильно уставленный стол.
— Вы долго ехали, нужно подкрепиться, — сказала мать. — Помолимся, сынок?
Я машинально прочел молитву:
— «Хлеб наш насущный…»
Мать принесла копченую баранью ногу, копчением она занималась еще при жизни отца. Потом стала наполнять наши тарелки. Жареный картофель, сладкий картофель, рис с изюмом, компот из персиков, всевозможные овощи. Одному богу известно, где она раздобыла все это среди зимы.
В кухне заплакал ребенок.
— Закрой среднюю дверь, Кристина, — громко крикнула мать, не отрываясь от своего занятия.
Тускло горела газовая лампа.
— Что с генератором? — спросил я. — Ты сидишь без электричества?
— Вышел из строя позавчера. А этот Мандизи когда хочет, тогда и делает. Говорить с ним бесполезно, он просто смотрит на тебя и молчит.
— Я завтра разберусь.
Она засмеялась:
— А что ты в этом понимаешь? Пусть уж лучше Луи попробует. У него руки ловкие.
— Я разберусь с Мандизи.
— Если он тебя послушает.
— Как ты можешь жить здесь одна, полагаясь только на свои силы? Так долго не может продолжаться.
— А, не начинай все сначала, сынок. Здесь могила твоего отца, здесь должны похоронить и меня.
Сейчас мне не хотелось углубляться в эту тему. Мы ели в молчании. Луи только ковырял еду на тарелке.
— Ты так и не сказал, зачем приехал, — обратилась ко мне мать, когда Кристина унесла посуду. — Так вдруг, всего на несколько дней.
В коридоре часы пробили половину чего-то. Должно быть, половину двенадцатого.
— Поговорим завтра. Сегодня мы все устали.
— С твоим сердцем опасно ездить так далеко.
— Я прекрасно себя чувствую.
— По-моему, ты похудел.
Кристина принесла кофейник, три большие белые чашки и сахарницу.
— Мне без сахара. Спасибо, мама.
Ночь тяжело навалилась на нас. За дверью снова заплакал ребенок. Мать вышла. Я попытался разглядеть выражение лица Луи.
— Устал, Луи?
— Не слишком.
— Пора спать. Завтра будет трудный день.
— Что я должен делать?
— На ферме дел достаточно. А начать можно с хорошей прогулки.
— Зачем ты привез меня сюда?
— Я думал, тебе будет полезно развеяться.
Он не ответил.
Спустя несколько минут я встал, прошел по коридору и вышел во двор. Черные очертания холмов, отчетливо видимые в свете луны, обступали меня со всех сторон. Там, где долина переходила в темное узкое ущелье между двумя рядами холмов, серебристый туман смягчал очертания. Завыл шакал. Слушая пение цикад, я расстегнул брюки и стал смотреть на игру лунного света в тонкой струе. Луи вышел из дому и, остановившись неподалеку, последовал моему примеру. В темноте благодаря такой вот ерунде мы вдруг снова сделались союзниками.
За маслобойней находилось наше фамильное кладбище. Чувствуя странный порыв спуститься туда, я подавил его и направился вместе с Луи к дому. Дом смотрел на нас черными, слепыми окнами.
— Я принесла вам лампу, — объяснила мать, поджидавшая нас в комнате.
— Я предпочитаю свечи, — сказал я. — С ними как-то уютней.
— Как хочешь. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, мама. Спи и ни о чем не беспокойся.
— О чем мне беспокоиться? — невозмутимо возразила она.
Высоко держа седую голову, она пошла по коридору к себе; ее тень двигалась впереди нее. Мы погасили свечи, и в комнате остался знакомый тяжелый запах воска. Ночь постепенно овладевала домом, словно огромный черный мужчина, овладевающий покорной женщиной.
Я слишком переутомился, чтобы заснуть. Слишком много воспоминаний нахлынуло на меня. Всего, что связано с запахом воска. Каникулы на ферме у моего друга детства Гейса, каникулы здесь, на этой ферме, куда мы приезжали с отцом, матерью и Тео, чтобы навестить дедушку с бабушкой. Тогда я спал в этой самой комнате или же на веранде; а иногда, если дом был переполнен гостями, тетушками, дядюшками, двоюродными братьями и сестрами, я спал на матрасе, набитом сухими листьями, на полу в углу дедушкиной комнаты. Уютный шорох, когда повернешься с боку на бок в волнующей, безопасной темноте. Свечи возле постели с балдахином, две фигуры, коленопреклоненные в молитве, словно две опары, прикрытые сверху и поставленные на ночь возле огня.
Комната Бернарда в пристройке и наши бесконечные разговоры. Воскресная ночь после визита Элизы. А если я скажу тебе, что решил жениться на Элизе? — Эта крошка — дикарка. — Надеюсь, я в силах укротить ее. Молодой преподаватель, спасший нас с Гретой от исключения после уикенда в горах просто потому, что он не мог устоять перед искушением вмешаться в чужие дела. Так же как он затеял спор из-за мужа служанки на заднем дворе. Разговор о самоубийце с синим кругом вокруг пупка (и толстый ковер, залитый кровью). Музыка: Моцарт, ларгетто, Шнабель. Настойчивость в его голосе, когда он говорил на прощание: Пожалуйста, возвращайся поскорее. Скажи тетушке Ринни, что я ее обожаю. Развлекись немного и возвращайся. Я буду ждать тебя.
Загорелая мускулистая спина и белокурая шевелюра в каноэ передо мной, медленно затягивающее кружение водоворота, костер на берегу, дымок, поднимающийся вверх в прозрачном воздухе. Выстрелы разъяренного фермера, маленькое кафе, разбитная официантка, телефон на стойке.
Глубокой ночью мужчина и женщина в полутемной комнате, символическое соприкосновение рук вокруг рюмки, обращенные друг к другу лица, выражение невосполнимой потери. Воспоминания длиной в полжизни. Человек, преследующий меня как совесть, даже на этой глухой, далекой ферме, где я надеялся спастись от него. Умываешь руки? — Вовсе нет. Я сжимаю кулаки.
Потеря, утрата, растрата. Все постепенно уменьшается, сжимается, съеживается. (А сколько, собственно, длится пожизненное заключение?)
Перебирая воспоминания, я просто отодвигал неизбежное — то, что мне не хотелось вспоминать, но сопротивляться чему в моем усталом беззащитном состоянии не было сил.
Было бы легче, если бы он не произнес тех слов в суде. Но он хотел сказать, что мне тоже придется разобраться во всем. Вероятно, еще некоторое время можно было избежать повторного ареста. Но так легко ошибиться в оценке ситуации, обстоятельств или друга.
В ту ночь, когда на моем столе зазвонил телефон — это был приватный номер, известный лишь Элизе, Беа и нескольким моим подчиненным, — я был занят закупочным контрактом. Потянувшись за трубкой, я машинально взглянул на часы. Двадцать минут двенадцатого.
— Мартин? Слава богу, что ты еще здесь. Я пыталась найти тебя дома.
— Что случилось, Беа?
— Не заедешь ли за мной к шаману?
— К шаману?
— Забыл? Я водила тебя туда однажды.
— А что ты там делаешь в такое время?
— Приезжай немедленно, ладно?
Не дожидаясь ответа, она повесила трубку.
За все годы жизни в Йоханнесбурге я ни разу не ходил пешком по Диагональ-стрит, пока Беа не повела меня туда. Это было на нее похоже. Лавка шамана с яйцами грифов, шкурами, мехом, когтями, рогами и экскрементами животных, бесполезными благовониями и хозяином-индийцем, взиравшим на пришельцев с невозмутимостью темной деревянной маски; снаружи крики уличных торговцев, жутковатые типы, дремлющие, прислонившись к столбам, покрытым исцарапанной и облупившейся краской. Все выглядело довольно скверно даже при свете дня. Ночью же это означало скорую и верную смерть.
Раздраженный и озабоченный, я отложил работу — еще полчаса, и я бы с ней управился — и спустился в гараж на первом этаже. Выйдя как тень из-за колонны, ночной сторож скинул с двери цепь.
— Спасибо, Георг. Я, возможно, еще вернусь.
Улицы были теплые и сырые. Не тот дождь, которым кончается засуха, а грязная морось, от которой чувствуешь себя зябко и неуютно. Заплесневелая февральская жара прилипла к темным домам, вокруг фонарей висело мрачное шарообразное сияние.
Диагональ-стрит. Я затормозил, проверяя, заперты ли дверцы машины. На другой стороне улицы стояли под чехлами несколько пустых тележек для фруктов. Все витрины закрыты решетками и ставнями, за которыми виднелись груды таинственных и наверняка дурно пахнущих товаров. Слава богу, что вскоре всю улицу будут сносить.
Я остановился на некотором расстоянии от тротуара, не решаясь выйти из машины. Что-то шевельнулось за колонной. Я держал ногу на акселераторе, чтобы при необходимости рвануться с места. Из тумана вынырнула фигура. Женщина, слегка прихрамывающая. Не Беа, незнакомка была старой и приземистой.
Неужели ловушка? Не сымитировал ли кто-то голос Беа по телефону? Нет, ошибиться я не мог: в нем была ее итальянская округленность гласных, легкий нажим на двойных согласных. По крайней мере в том, что звонила именно она, сомнений не было.
Опустив стекло на несколько дюймов, я спросил:
— Где Беа?
— Я отведу вас к ней, — ответила женщина странным фальцетом.
Я еще больше насторожился. Но беспокойство за Беа заставило меня открыть дверцу. От женщины пахло мокрыми тряпками.
— Может, вы все-таки скажете мне…
— Сначала уберемся отсюда, — раздался мужской голос.
Я онемел.
— Не пугайся, Мартин, — сказал незнакомец. — Все в порядке.
Я отказывался верить своим ушам. В такое время, в таком месте можно ожидать чего угодно, хоть колдовства.
— Ты что, и вправду не узнал меня?
Мы уже проехали несколько кварталов, женщина сняла шляпу, а потом и парик.
— Бернард!
Его смех я не спутаю ни с чьим.
— Сначала выедем за город.
Ничего не понимая, я проезжал улицу за улицей, пока не пришел немного в себя. Мы ехали по старой заброшенной дороге к шахте. По обеим сторонам стояли деревья, потрепанные и жалкие в ночном тумане. Дворники ходили туда-сюда, размеренно и монотонно. Наконец мы остановились. Капли дождя, стекавшие по стеклам, отделяли нас от внешнего мира, словно рыб в аквариуме.
— Откуда ты, Бернард? Где ты был все это время? Где Беа?
— Беа у себя дома. Она не хотела объяснять тебе все по телефону. Ее телефон может прослушиваться. Ты должен мне помочь.
— Как? Чем?
— Для начала дай-ка сигарету.
— Ты раньше не курил.
— Дурные привычки приходят с годами.
Он взял сигарету, я щелкнул зажигалкой и подождал, пока он прикурит.
— А теперь рассказывай все по порядку.
— Ну, не все. — Он подержал дым во рту и, не затягиваясь, выпустил его.
— Почему ты бежал из тюрьмы?
— У меня не было выхода. Надо было закончить то, что начал.
— А что ты начал?
— Так, одно дело. — В темноте мне показалось, что он улыбнулся. — Не задавай ненужных вопросов, Мартин. Лучше просто выслушай меня. Я не хочу лишать тебя сна на всю ночь.
— Ну ладно, давай о деле.
— Ты должен помочь мне скрыться на некоторое время. Они за мной гонятся.
— Не понимаю.
— Тайная полиция внедрила своего человека в нашу организацию.
— Значит, организация все-таки существует?
— Разумеется. — Он снова сунул в рот сигарету. — Я никогда не доверял этому подлецу, но придраться было не к чему. А в прошлом месяце мы получили неопровержимые доказательства, что он агент. Но я сделал вид, что ничего не подозреваю. Понимаешь? Он считал, что мы работаем в определенном направлении, а мы работали в прямо противоположном. Но это война нервов. И теперь, мне кажется, он все понял. Они взяли на заметку нашу явку в Претории. Я и близко не могу туда подойти. Но если я исчезну на неделю-другую, я собью их со следа. Жизненно важно запутать их.
— Но как я…
— Тебе не надо ничего знать. Я не хочу втягивать тебя в это дело. Ты просто дашь мне ключ от своей квартиры, и я поживу там две недели. После этого, обещаю, я исчезну с лица земли.
— Но почему ты просишь меня?
— А кого же еще?
— Господи, Бернард! — Я не знал, что сказать.
— Помнишь тот вечер, три года назад, во время суда над «террористами»? — неожиданно спросил он. — Когда мы начали разговор у тебя на квартире, а потом ты уехал на вечеринку к тетушке Ринни?
— Да, и что же?
— Что-то было в нашей беседе в тот вечер, может, я и ошибался, но мне хотелось поговорить с тобой. Я хотел рассказать тебе все начистоту, чтобы ты помог мне. У меня тогда возникли сомнения. Казалось, все пошло псу под хвост. Я боялся, не совершил ли я ошибку. — Он запнулся. — Впрочем, это не важно. К чему обременять тебя ненужными воспоминаниями.
— Потому ты так и просил меня поскорее вернуться с вечеринки?
— Да.
Я сразу все вспомнил. Мне стало тошно.
— Ладно, забудь, столько времени прошло. Тот факт, что мы оказались не в состоянии поговорить откровенно, помог мне собраться с мыслями. На счастье или на горе. В конце концов, той ночью у меня хватило времени, чтобы разобраться во всем самому.
— А теперь ты просишь…
— Ключ, и ничего более. Тебе даже не нужно там появляться. Если что, я просто взломал дверь.
— Почему же ты не сделал этого?
— Кажется, это слишком опасно. А кроме того, — из темноты на меня снова смотрела незнакомая старуха, — кроме того, я хочу быть честным с тобой. Ты сам должен принять решение, я не хочу морочить тебе голову.
— Лучше бы ты мне ничего не говорил.
— Я сказал тебе не более, чем нужно для того, чтобы принять решение.
— А если я откажусь?
Он пожал плечами.
— Бернард, ты не представляешь, на какой риск я пойду, если…
— У каждого в жизни бывает момент, когда нужно решать все самому и с открытыми глазами. А потом наступает день или ночь, когда уже поздно. — В своем прежнем задиристом тоне он спросил: — Ну, так как?
— Бернард, если бы я был свободен, как ты…
— Разве каждый не сам отмеряет меру своей свободы?
— Я женат. У меня дети. У меня ответственная работа. Неужели ты не понимаешь…
Он ничего не ответил.
— Господи, дружище, ты же знаешь, если я действительно могу для тебя что-то сделать…
— Ты можешь дать мне ключ и забыть об этом. Больше я ничего не прошу.
— А если они тебя выследят?
— Ты будешь отрицать свою причастность к этому. Всю ответственность я беру на себя.
— Ввязываясь в такое дело, ты должен был предполагать, что рано или поздно тебя поймают.
— Не читай мне мораль. Я пришел сюда не для того, чтобы на коленях просить у тебя прощения.
— Зато я на коленях прошу тебя. Ну подумай, Бернард, почему бы тебе не бросить всю эту дурацкую затею?
— Не будь наивным.
— Если ты сдашься сам, ты сможешь уломать присяжных, я уверен.
— Хорошего же ты обо мне мнения, Мартин. И это после всего, что мы вместе пережили.
— Ну, если такова твоя позиция, ты не вправе требовать, чтобы и я тоже…
— Больше я от тебя ничего не требую. — Он опустил стекло, в машине стало прохладнее. Выбросив окурок, он снова закрыл окно. — Поехали.
— Я не могу просто отвезти тебя обратно.
— Тогда я выйду здесь.
— Не будь идиотом, я не это имел в виду.
— Мне плевать, что ты имел в виду. Поехали.
Никогда в жизни я не испытывал столь настоятельного желания говорить и говорить, но сказать было нечего.
На подъезде к городу он сказал, чтобы я остановился.
— Я могу еще тебя подвезти.
— Нет, не хочу, чтобы ты рисковал.
Я не понял, издевается он или говорит серьезно. Я остановился и помимо воли сунул руку в карман, где тотчас же нащупал холодный металл ключей. Но он уже хлопнул дверцей и вышел, не сказав ни слова. В зеркале заднего обзора я увидел его в последний раз: усталая старая женщина с понурыми плечами, в широкополой шляпе, идущая под изморосью, падающей на гнусный мир.
Два дня спустя его арестовали.
Во всяком случае, я ни на кого не сержусь и никого не обвиняю: ни друга, ни полицейского. Каждый из них поступил так, как подсказало ему его чувство долга. Это его собственные слова. Так почему же я продолжаю думать об этом? Все уже позади. Никто не вправе был ожидать, что я позволю втянуть себя в такое. У меня своя жизнь и свои обязательства. Смешно даже предполагать, что я хоть в малейшей степени ответствен за то, что произошло. Когда-то давно он сам сделал свой выбор. Меня он тогда не спрашивал.
* * *
Еще о многом нужно написать. Мне предстоит рассказать, как было дело с отцом, с Луи, с Беа. Но с Бернардом я наконец разобрался. Слава богу. Теперь с этим покончено. Отныне его имя не должно больше всплывать в моей рукописи.
* * *
Ночь стояла холодная, но под пуховым одеялом было тепло и уютно. Я слышал, как скребутся мыши на чердаке, за тяжелыми сводами потолка. На пороге, рыча и храпя, спала собака. Время от времени стрекотали сверчки. А снаружи доносился знакомый с детства таинственный звук: что-то вроде поскребывания черпаком по камню. Ночная птица или какое-то животное? Я никогда не мог узнать. Что-то было в нем странное, ночное.
Я снова на ферме, в окружении знакомых с детства, удобных и добротных вещей; мои родичи спят; одни на кровати, другие на кладбище — целая история. Я должен чувствовать себя в безопасности и под защитой. И все же я знал — или, вернее, знаю сейчас, задним числом, когда пишу эти строки в Лондоне, — что подобно тому, как все двери и окна дома были беззащитно открыты ночи, я был слишком встревожен и уязвим, чтобы убежать от всего ожидавшего меня. И погружение в сон напоминало погружение в воду и тину — и я беззвучно звал на помощь, но никто не бросался с берега, чтобы помочь мне.
Суббота
1
А любви не имею… Я только что нашел эти слова в Библии, но они показались мне какими-то вялыми и ничего не значащими по сравнению с их торжественным звучанием в детстве. Да и все в нынешнем зыбком пребывании здесь, в Лондоне, представляется блеклым и незначительным по сравнению с моими жгучими воспоминаниями. Я пишу это сочинение, пробуя на нем руку, не без некоторого цинизма. И теперь мне не остается ничего другого, как продолжать, хотя дается это нелегко и сам процесс писания, записывания всего подряд, стал уже почти принудительным.
А любви не имею… гулкий рокочущий голос дедушки, очки на носу, настольная лампа возле Библии на голландском, с медными застежками (теперь это украшение на дверце бара в моей гостиной), каждый слог произносится отдельно и с выражением. Когда мы с братом были маленькими, вечерняя молитва означала для нас приобщение к ритуалу взрослых, состоявшему из чтения, молитв и песнопений. Я не понимал ни слова, да и не пытался понять. Но было нечто успокаивающее и умиротворяющее в самом соприсутствии великим словам, тяжко грохотавшим над тобой и защищавшим тебя могучей стеной от звуков из мрака снаружи. Но как только нам стукнуло шесть — сперва мне, а потом Тео, — от нас потребовали повторять что-нибудь, что мы запомнили из дедушкиного чтения. С этого времени религия перестала быть для меня темной, но приятной и сделалась пугающей. Охваченные паникой, мы пытались выхватить что-нибудь из размеренного и непрерывного потока дедушкиной рецитации, ужас парализовал нас, когда выяснялось, что слово ускользнуло и придется хвататься за что-то новое. И пусть это был всего-навсего перечень имен — Адам, Сиф, Енос, Каин, Малелеил, Иаред. Понимать было не обязательно, только запоминать. Нам постоянно внушалось различие между раем и адом, а на стене столовой, за головой дедушки, висело как подтверждение и предупреждение аллегорическое изображение «Правого пути», огненный глаз господа, горящий над нами.
Первый раз, когда это случилось, дедушка обрушился на меня без предупреждения. Как всегда по воскресеньям, я сидел за столом, погрузившись в медленное течение его громкой речи, в предвосхищении теплой постели, и вдруг, все еще держа книгу открытой, он поглядел на меня поверх очков и строго спросил:
— Ну, Мартин, ты что-нибудь запомнил?
— Что, дедушка?
— Расскажи мне, что ты сегодня услышал.
Отец попробовал было вмешаться:
— Ты же не предупредил его.
— А тебя не спрашивают. Ну так как, Мартин?
Я поднял голову и увидел ровно горящую лампу и взирающий на меня сверху глаз господень.
— Ты ничего не запомнил?
Я задрожал. Впервые в жизни я ощутил, что меня вовлекают в мир взрослых, безжалостный и страшный, и вся прежняя уверенность внезапно покинула меня.
— Ты прогневил господа, Мартин.
Я судорожно сглотнул.
— Надеюсь, завтра у тебя получится лучше. А теперь помолимся.
Мы отодвинули стулья. Я прижал лицо к кожаной обивке сиденья, и на меня покатились мощные волны дедушкиной молитвы. Но в этом не было больше ничего умиротворяющего, то был голос судьи, приговаривавшего меня к вечным мукам.
На следующий вечер я почти не притронулся к еде. Едва дедушка взял Библию, как я покрылся потом, пытаясь запомнить то одну фразу, то другую, но они ускользали от меня, словно обломки Ноева ковчега, уносимые волнами. Одна за другой они шли ко дну прежде, чем я успевал схватиться за них, пока я наконец не вцепился в одну строчку и уже не выпускал ее. И когда он отложил Библию и взглянул на меня, я, запинаясь, проговорил:
— А любви не имею… дедушка.
Я был спасен. Но в ту ночь мне снились кошмары, сменявшие друг друга, я то и дело просыпался, выкрикивая эти слова, огнем горевшие в моем сознании.
И именно эта фраза среди всех моих мрачных воспоминаний всплыла у меня в голове, когда в то утро я услышал сильный, но неглубокий голос матери, как обычно поющей свой утренний псалом. А любви не имею… Слова были столь явственны, что все мертвецы сразу же вернулись ко мне: дедушка, бабушка, да и отец.
Я плохо спал из-за усталости. К тому же мне не удавалось отделаться от мыслей о Бернарде. Да и ровное, спокойное дыхание Луи мешало. Было еще темно, когда я услышал первые шаги слуг в кухне, а на дворе закричали петухи. Я повернулся на бок и попытался заснуть. До завтрака оставалось еще часа два или даже больше. Но, услышав голос матери, я понял, что спать уже не смогу.
В мрачном звучании ее голоса из темноты было нечто мучительно ликующее и одновременно глубоко утешающее — уверенностью и неуязвимостью, возвещавшими о ее способности выстоять, несмотря на болезни и одиночество, да и на самое смерть. Я слушал, опершись на подушку, и думал о матери — о том, как она многие годы поддерживала единство семьи, ни словом не выказав ни озлобления, ни упрека по поводу милого, но непрактичного образа жизни отца. Она всегда была крепкой, сильной и более уверенной в себе, чем он, но заботливо старалась держаться в тени и скрывать свое превосходство. Она брала верх над ним незаметно, хотя он и не раз повергал ее в отчаяние. Мать верховодила столь ненавязчиво, что это стало ясно лишь после отцовской смерти, когда она, как дерево, внезапно обретшее новые ветви и листья, вдруг начала расти и цвести, словно добравшись мощными корнями до глубинных, плодородных слоев почвы.
После похорон я предложил ей переехать к нам, думая, что она охотно расстанется с фермой, устав от долгих лет бесплодной борьбы. Но я не принял в расчет ее упорства. Вначале она ответила довольно уклончиво.
— Дай мне немного прийти в себя, — сказала она. — Думаю, я справлюсь.
Я оставил ее в покое, полагая, что речь идет о нескольких месяцах. Но она все упрямилась и упрямилась, и наконец я понял, что одинокая жизнь на ферме стала для нее необходима.
В общем, мать расцвела. Мать, но не ферма. Дела на ферме уже много лет шли все хуже и хуже, и несколько раз мне приходилось вкладывать значительную сумму, чтобы избежать разорения. Малоприятная обязанность, тем более что мать сама ни о чем не просила. Пока был жив отец, она всегда обращалась ко мне, если требовалась помощь. («Ты не думай, сынок, ему вовсе не стыдно попросить у тебя. Просто он сам не понимает, когда и что нужно».) Теперь же, во время засухи, помощь была особенно нужна, но она ни разу не заикнулась об этом. Если бы я сам время от времени не интересовался, как обстоят дела, бог весть что с нею было бы.
Как-то раз в субботу на ферме случилось происшествие, едва не закончившееся трагически (я узнал об этом лишь несколько месяцев спустя, и то случайно): все работники напились и не вышли на работу. Но вместо того, чтобы смириться с неизбежным, как поступил бы на ее месте едва ли не каждый, мать взяла из конюшни плеть и направилась к хижинам, на полмили вверх по склону холма. Придя туда, она принялась хлестать всех, кто подвернулся ей под руку. Один из работников ухватился за плеть и вырвал ее у матери. Затем потянулся к ножу. Внезапно вокруг наступила мертвая тишина, даже женщины в хижинах перестали выть и орать. Он подошел ближе.
Мать подождала, пока он не оказался прямо перед ней, и, глядя ему в глаза, спокойно сказала:
— Брось нож и ступай доить коров.
Затем она повернулась и пошла прочь. И он пошел за ней — доить коров.
Как ни странно, именно после этого она окончательно решила остаться на ферме, словно ей удалось одержать верх не над пьяными батраками, а над самой землей.
Ее родители (по фамилии Нетлинг) в свое время славились умением укрощать и землю, и диких животных, и бушменов. В раннем детстве я бывал у них, когда они уже осели в Малмсбери; мы обычно ездили туда по праздникам.
Из тех визитов мне запомнилось, как по воскресеньям после обеда, попив кофе, мы все, соответствующим образом приодевшись, шли на кладбище. Старики уже давным-давно выбрали себе место для могил, даже ямы были выкопаны и держались в постоянной готовности под листами жести. И каждое воскресенье к «ямам» совершалось семейное паломничество, чтобы убедиться, что там по-прежнему все в порядке. А на чердаке старого дома на Хилл-стрит стариков дожидались гробы, до поры до времени наполненные сушеными абрикосами и фигами. Старики готовились к смерти едва ли не со сладострастием.
* * *
Все это живо вспомнилось мне, пока я слушал пение матери. Луи еще спал. Я почти не видел его в полутьме, только слышал ровное дыхание. Голоса слуг из кухни звучали все громче. Вскоре голоса послышались уже со двора и со стороны коровника. Жалобно замычал теленок. А в столовой сидела мать. Мне вдруг захотелось побыть рядом с ней. В годы моего детства она всегда вставала первой, приносила отцу кофе в постель и, стремительно двигаясь по кухне, готовила нам всем завтрак. Тогда я часто по утрам пил кофе вместе с нею, летом сидя на подоконнике или за столом, а зимой — в углу у печки, возле опары, поставленной накануне вечером. В наших утренних разговорах была ни с чем не сравнимая задушевность, между нами возникала особая близость, непосредственная и хрупкая, — близость, невозможная в другие часы, когда мы оба бывали втянуты в рутину повседневных дел.
Я встал, поеживаясь от холода, и дрожащими руками потянулся за одеждой. Вода в ванной была такой холодной, что у меня перехватило дыхание. Когда я вошел в столовую, мать уже отложила Библию. Кристина, подавая ей кофе, спросила:
— И баасу чашечку?
— Да, пожалуйста.
— Я ждала тебя, — с удовлетворением сказала мать. — Но боялась, что ты слишком устал с дороги.
— По правде говоря, я слишком устал, чтобы спать.
Первый тусклый свет уже просачивался в окна, но на дворе было еще темно. Лампа высвечивала небольшую часть стола возле нас. Кристина принесла мне кофе, от нее повеяло теплом кухни.
— Почему ты не встаешь позже? — спросил я, — Тебе, наверно, тяжело.
— А что тогда будет с фермой?
— Я уверен, работники справятся и сами.
— Станут они уважать меня, если я буду валяться в постели до полудня.
— Такая жизнь не для женщины, мама.
Она пожала плечами:
— Конечно, в такую засуху, как сейчас, непросто. Но всегда как-то удавалось выкарабкаться. Мы к этому привыкли. Вот англичанам такое не по плечу, они только и говорят, что о распродаже и отъезде. Она не сводила с меня глаз, будто читала мои мысли. — Ты же знаешь.
сынок, что за люди англичане. Для них ферма — это просто клочок земли, на котором можно нажиться. Они ничего не знают о самой земле.
— Ты говоришь, начали продавать? — перебил я.
— Да, все вокруг. Даже наш сосед, старик Лоренс.
— Он ведь всегда поддерживал тебя.
— Да, верно. Христианская душа, хоть и англичанин. Жаль, что он такой оголтелый коммунист.
— Лоренс? Да что ты?
— Увы, так. Послушал бы ты, что он говорит. Ругает правительство почем зря: мол, оно мало делает для черных. — Она нахмурилась. — А знаешь, сколько он платит своим работникам? Меньше всех в округе. Но не хочу говорить дурно о ближнем.
— Они продают фермы из-за засухи? — Я отчаянно изображал из себя простака.
— А из-за чего же еще?! Вот пойдешь прогуляться, сам все поймешь. Ты, наверно, никогда еще не видел ферму в таком состоянии. Даже река пересохла.
— Здесь, в долине?
— Да. И в колодцах напор поубавился. Сегодня придет один человек искать воду. Может быть, удастся пробурить новую скважину.
— Неужели все так плохо?
— Я же говорю тебе. Но голову терять нельзя только потому, что засуха. Бог взял, бог даст. — И прежде чем мне удалось вмешаться, она пустилась в пространные воспоминания. — В Сандфельде, когда я была маленькой, стояла точно такая засуха. И тоже длилась целые годы. Отец тогда чуть не разорился. А потом начался град. Тучи пришли сначала с юга, потом с севера. А потом уж с востока и с запада тоже. Под конец казалось, что град идет не только с неба, но и извергается из самой земли. От отцовского сада ничего не осталось. Ты ведь знаешь господа нашего: ему наплевать на человеческое добро.
Мне нужно было не упустить благоприятную возможность, пока не наступил день и мать была не так упряма.
— Вероятно, для распродажи ферм есть причины и посерьезнее засухи. — Заметив, как у нее углубились складки возле рта, я продолжал: — Насколько мне известно, правительство скупает земли, чтобы присоединить их к бантустану.
— Потому ты и приехал?
За окном светлело. Коровы мычали все громче, утреннее доение заканчивалось. Когда светает по-настоящему, круг света от лампы кажется куда менее надежной защитой.
— Ты же знаешь, мама, я часто получаю информацию, не подлежащую огласке. И уверяю тебя, она вполне достоверна. Эти земли решили консолидировать.
— Пусть делают что хотят, лишь бы не трогали нашу ферму. Надеюсь, ты им так и сказал.
— Продав ее сейчас, мы можем получить приличную цену. Но если станем дожидаться, пока объявят о национализации, сумму компенсации будут определять они сами.
— А что ты называешь приличной ценой?
— Двести пятьдесят тысяч.
— Такого не может быть.
— Это правда, мама.
Она долго смотрела на меня, а потом вкрадчиво спросила:
— У каждого человека тоже есть своя цена?
Я почувствовал, что краснею.
— Глупости, — резко оборвал я. — Я думаю только о тебе. Я знаю, что тебе нравится жить на ферме, но пора и образумиться. Ты уже немолода, и тебе так долго не вытянуть. Кроме того, женщине становится опасно оставаться здесь одной.
— Никогда этого не замечала.
— Тебе будет хорошо с нами.
— Не в том дело, — сказала она, не повышая голоса. — Просто я не того сорта человек, чтобы пересаживать меня на другое место в моем возрасте.
— Подумай хотя бы о том, во что нам обходится эта ферма, — попробовал я зайти с другого боку. — Дохода с нее никогда не хватало даже на жизнь.
— Тебе больше не по карману нести расходы?
— Мне-то по карману, но…
— Ладно, если дело не в этом, то и говорить не о чем. Мы не раз выстаивали и в худшие годы, выстоим и сейчас.
— Ты не поняла меня. А если правительство…
— Ты человек влиятельный. Тебе достаточно поговорить с кем надо.
— Не будь же такой упрямой, мама!
Она отодвинула кресло и направилась к шкафу, чтобы убрать Библию. У окна она остановилась и выглянула наружу.
— Это ведь не просто кусок земли, который можно выгодно продать, — сказала она, помолчав. — Здесь могилы твоего отца, твоих предков. Уже столько лет эта земля принадлежит нашей семье.
— Я так же привязан к ферме, как и ты, мама. Но взгляни на вещи трезво: ни я, ни Тео не собираемся становиться фермерами. Наша жизнь сложилась иначе. И глупо просто швырять деньги на ветер.
— Может быть, Луи когда-нибудь захочет поселиться здесь.
— Чепуха. — Я деланно засмеялся. — Его вообще ничто не интересует. После Анголы он совершенно переменился.
— Никогда нельзя знать наверняка. — Ее спина была по-прежнему прямой, плечи не сутулились. — С фермой и раньше бывало трудно. Но в нашем роду всегда находился кто-нибудь, кто возвращался сюда. Так будет и впредь. Здесь наши корни. — Она отвернулась, поправляя пряди волос, упавшие на уши. — А теперь забудь обо всем и отдыхай. И давай больше не будем говорить об этом.
И она ушла на кухню.
2
Карла Янсена, сотрудника министерства, возглавляемого теперь Калицем, я знал со студенческих лет, хотя близкими друзьями мы не были. Пожалуй, мы оба были слишком высокого мнения о себе (в университете, например, мы рвались участвовать в ежегодных соревнованиях по ораторскому искусству, стремясь завоевать кубок). Но после того, как наши карьеры пошли разными путями и возможность дальнейшего соперничества была исключена, наши отношения возобновились на более прочной основе. Он извлекал выгоду из моих конфиденциальных сообщений о котировке акций и тому подобном, предоставляя мне в свою очередь различные разрешения и льготы. Мы основательно поддерживали интересы друг друга.
С предшественником Калица Питом Лоренсом у Карла с самого начала установилось полное взаимопонимание. Лоренс был представителем старой гвардии, потратившим много лет на ожесточенную борьбу вместе со своей партией; награжденный в итоге министерским постом, он не собирался делать ничего, кроме как оттяпывать то, что плыло в руки, предоставляя всю министерскую работу Янсену, что вполне соответствовало честолюбивым стремлениям и инициативности Карла. И в результате министерство процветало.
Затем старик ушел в отставку (после неудачной истории с цветной уборщицей в его кабинете), а Калиц оказался хозяином совсем иного склада. В день назначения на пост он объявил (его седоватые усики а-ля Гитлер трепыхались при этом от волнения), что намерен самым решительным образом наложить на министерство «печать своей личности». Свобода маневра, которой обладал до того Карл, была сильно урезана, а вдобавок вскоре начались и личные трения. Так обстояли дела в мае этого года, когда Карл позвонил мне.
Говорить по телефону он не захотел. Мне пришлось отложить свидание с Беа и пообедать с ним, однако, как оказалось, дело того стоило. Он начал с главного:
— У меня к тебе дело. Сигарету?
— Нет, спасибо. Рассказывай.
Он закурил.
— Я сыт по горло своим шефом.
— Знаю. Но чем я могу тебе помочь?
— Конечно, все в руце божьей.
И он рассказал мне о намерении правительства передать новые территории бантустану. Проект одобрили, хотя выбор земель еще не был сделан. Но Калиц решил не терять времени и, воспользовавшись засухой, приобрести через посредников большие участки земли по смехотворно низким ценам. Почти в самом центре закупочных земель находилась наша ферма. Именно то обстоятельство, что ферма принадлежит мне, и побудило Калица выбрать эти земли: не раз имев со мной дело, он полагал, что я буду склонен и к дальнейшему сотрудничеству. Пять ферм уже были куплены по цене сорок тысяч рандов в среднем, но мне, как сообщил Карл, Калиц собирался предложить пятьдесят. Он уже подписал контракт с администрацией бантустана, согласно которому она откупала всю землю за полмиллиона, что сулило его превосходительству солидный куш в четверть миллиона (частью которого, правда, ему следовало поступиться в пользу ответственного чиновника из администрации бантустана).
Все было на мази. Оставалось только, чтобы я подписал документы о продаже, детали которых не предназначались для сведения чиновников бантустана.
— Думаю, я предупредил тебя вовремя, — подмигнул мне Карл. — У тебя есть время все взвесить.
Он ничего не хотел за свои хлопоты, но я настоял на десяти тысячах комиссионных. Получив через неделю от его превосходительства приглашение пообедать, я был уже готов к разговору. Во время трапезы и сопутствующей вежливой беседы я держался совершенно спокойно и выказал величайшее удивление, когда за кофе он, как бы между прочим, сказал, что готов предложить мне хорошую цену (сорок тысяч) за мою ферму.
— Но, господин министр, я не собираюсь продавать ее. Она принадлежит нашей семье на протяжении многих поколений.
— Пятьдесят, — невозмутимо сказал он.
Я покачал головой.
— Господин Мейнхардт, вы сами знаете, как пострадал от засухи этот район. Многие были бы счастливы продать свои фермы и за половину этой суммы.
— Это их дело, ваше превосходительство.
— Вот что я вам скажу, господин Мейнхардт, — доверительно наклонился он ко мне, — я готов предложить шестьдесят тысяч наличными.
— Но почему вы заинтересованы в покупке фермы в районе, столь пострадавшем от засухи? — спросил я и, не давая ему времени ответить, продолжал: — Или это составная часть плана консолидации земель?
Он побледнел, но выражение лица у него не изменилось. Ему даже удалось выдавить из себя смешок.
— Во время экономического спада, господин Мейнхардт?
Я посмотрел ему прямо в глаза.
— Буду откровенен с вами, господин министр. Ваше предложение не было для меня неожиданным.
— Вот как?
— Да. Мой друг, издатель газеты, рассказал мне вчера о решении правительства. Кажется, они готовят публикацию на эту тему.
— Невероятно! — В блекло-голубом мерцании его глаз сквозили бешенство и страх. — Что за газета?
— Вы понимаете, ваше превосходительство, это было сообщено мне строго конфиденциально. Боюсь, я не вправе сообщить вам что-либо еще. Возможно, конечно, у них ложная информация.
— О, вне всякого сомнения.
— В таком случае пусть все останется как есть. — Я на мгновение замолчал. — Но если вы действительно заинтересованы в покупке фермы, моя цена — четверть миллиона.
— Абсурдная цифра!
Я пожал плечами.
Мы одновременно подняли чашки с кофе. Несколько минут спустя он сказал:
— Я уверен, что так или иначе мы придем к соглашению, господин Мейнхардт. Вы ведь серьезный человек.
Я понял, что одержал победу.
Коммерсанту, как и спортсмену высокого класса, необходимо качество, которое боксеры называют «инстинктом убийцы». Если его у вас нет, значит, это не ваше дело, и вам надо как можно скорее менять профессию. Вы должны обладать азартом теннисиста, иначе вам не выиграть. Победа, выигрыш — вот настоящая цель этой игры. Ничто иное. Никаких красивых ярлыков. Выигрыш. Мне кажется, я унаследовал этот инстинкт от матери, правда, у нее он проявляется в иной — старомодной — форме. Но мое поколение обходится без эвфемизмов. Все следует называть своими именами.
Его превосходительство слишком хорошо понимал, что для спасения своей репутации, поставленной на карту заключением контракта с администрацией бантустана прежде, чем все козыри оказались у него на руках, ему не остается ничего иного, как купить ферму — даже по моей цене. Это принесет ему прибыль в пятьдесят тысяч, половину которой нужно отдать чиновнику из администрации бантустана. Семечки. Но в полном проигрыше он все же не останется. Это, кстати говоря, тоже входит в условия игры.
Он дал понять, что разговор исчерпан — столь абсурдное предложение он не желал даже обсуждать. Я в свою очередь уверил его, что буду только счастлив сохранить ферму за собой. На том мы и расстались.
Я ждал его звонка, зная, что у него нет выхода. Без моей фермы вся сделка расстраивалась и вдобавок получала неблаговидную огласку. Правительство, конечно, вышло бы сухим из воды, купив новые участки где-нибудь в другом месте, но тогда Калиц остался бы с пятью купленными фермами и без двухсот тысяч, а он не тот человек, чтобы с этим примириться.
На той же неделе мы еще раз пообедали с ним, а затем через три дня подписали контракт. Криво улыбаясь, он заявил, что вообще-то для него самого лучше иметь на этом деле минимальную выгоду, чтобы избежать возможных толков в прессе и в парламенте.
Когда после подписания контракта мы пожимали друг другу руки, я прекрасно понимал, что приобрел нового врага — и не такого, который когда-нибудь забудет о случившемся.
Но Калиц не знал, что прежде чем будет официально объявлено о передаче земель, мне предстоит утрясти этот вопрос с матерью. Отец в завещании отказал ферму мне, однако мать имела право на пожизненное пользование доходами с нее, и была там еще одна оговорка, согласно которой я не мог продать ферму без ее письменного разрешения. Вот почему я должен был немедленно мчаться на ферму. И если мать не даст разрешения, министр Ян Калиц разделается со мной решительно и злорадно.
3
Зайдя на кухню, я увидел там мать, возившуюся с черным малышом. Ребенок орал, а она, тихонько мурлыкая, занималась привычным делом — лечением, умыванием, сменой пеленок. Наконец он успокоился и уснул у нее на руках. До замужества она работала няней.
— Доброе утро, баас, — сказала Кристина, стоя у печи.
Молодая женщина, как и накануне вечером, сидела в углу кухни. Она поглядела на меня, но не произнесла ни слова. В выражении ее лица не было ни вызова, ни тупой пассивности. Невозмутимое — вот, пожалуй, уместное для него определение. Теперь, когда я смог разглядеть ее, она поразила меня, напомнив черных женщин на картинах Тречикова. Но еще более меня заставила приглядеться к ней — обычно я не обращаю на чернокожих женщин никакого внимания — рана у нее на щеке, почти обнажавшая мясо.
— Что с ней стряслось? — спросил я у матери после того, как она вернула молодой женщине ребенка.
— Это ее муж. Тот управляющий, Мандизи. Она вчера приходила ко мне за лекарствами, вот он и избил ее.
— Как же она снова решилась прийти?
— Подождала, пока он уйдет в коровник. Ночью ребенку было очень плохо.
— А чего он на нее так взъелся?
— Ну, ты же знаешь этих людей. Он не верит в лекарства белых. Хотел отнести ребенка к шаману. — Она вздохнула. — Видел бы ты, как он исколошматил ее в прошлом году, вскоре после смерти отца. И все из-за того, что я отдала ей свой старый бюстгальтер, а она его надела. Она приползла ко мне среди ночи со сломанной рукой и ключицей. Я боялась тогда, что ей не выжить.
— А почему она не уйдет от него?
— По-моему, любит его. — Взяв у Кристины кочергу, мать принялась помешивать угли в очаге. — Я много раз говорила ей. А она только посмеивается. Однажды даже заявила: «Я знаю, что рано или поздно он меня убьет, но ведь он мой муж». Представляешь?
— А почему ты не прогонишь его? Такой человек опасен.
— Без него на ферме все давным-давно бы развалилось. С ним трудно: ведь это он грозил мне тогда ножом, — но работник он отличный. Его наглость меня бесит. К тому же он моя правая рука, и приходится принимать его таким, каков он есть.
— Не понимаю, как тебе все это не надоело.
— Мы ведь, кажется, покончили с этим, сынок? — спокойно ответила она и, отвернувшись, продолжала помешивать угли.
Открыв заднюю дверь, я вздрогнул от холода. Откровенного, настойчивого холода, пронизывавшего до костей. Изо рта у меня валил пар. Я прошел по заднему двору мимо водокачки и сараев. Цыплята выбежали из курятника и жадно клевали насыпанные для них зерна. Несколько озябших гусей и уток столпились возле струйки воды, бежавшей из крана и замерзавшей на ходу.
За домом высилось гигантское фиговое дерево, под могучей кроной которого на протяжении многих лет устраивались семейные празднества. Несколько канатов и истлевших досок осталось от качелей, которые отец когда-то построил для Луи и Ильзы (он тогда свалился с дерева, повредил спину и пролежал весь декабрь в постели). Сломанный плуг, старые шины, автомобильная ось. Особенного порядка на ферме никогда не было, но сейчас все буквально разваливалось на глазах.
Я обогнул дом, вышел к парадному входу и поглядел на долину. И в первый раз увидел то, о чем говорила мать. Я помнил ферму и в другие засушливые годы, но никогда еще картина не была столь удручающей. От газона остались лишь пучки сухой травы, покрытые инеем, между ними виднелась бурая голая земля. Холм за кустами полого спускался к маслобойне и отцовской пристройке. Подножие холма, всегда, даже в разгар зимы, покрытое зеленью, теперь казалось сухим и изборожденным шрамами, редкие кустики были похожи на кляксы на грязном листе бумаги. В конце узкой долины, там, где сближались две гряды холмов, по берегам реки еще чуть зеленел кустарник, но и он выглядел угрюмо и безжизненно по сравнению с роскошными дикими зарослями, которые я помнил.
Спускаясь к коровнику, я чувствовал, как сухая колючая трава и ветки царапают тонкие подметки моих башмаков. Звенел колокольчик сепаратора, несколько батраков мыли подойники, другие сливали молоко в корыта для телят. Я сделал глубокий вдох, вбирая в себя запах молока и навоза, теплый запах самой жизни. Когда я подошел ближе, батраки заметили меня и пробормотали приветствие, их зубы ярко сверкнули на черных лицах.
Из коровника стали выводить коров, и я с трудом увернулся от одной из них. Я узнал человека, гнавшего их, это был Мандизи.
— Добрый день, Мандизи!
— Добрый день, баас.
Он не улыбнулся мне, как остальные, а просто без всякого угодничества поглядел мне прямо в глаза.
Мучительно подбирая слова, которые я знал в детстве, я спросил на коса:
— На ферме все в порядке?
— Да.
Я подумал было, не отчитать ли его за жену, но решил, что случай неподходящий: слишком много людей могут услышать нас.
— Хозяйка говорит, что сломался движок. — Я указал рукой на сарай на заднем дворе. — Сможешь починить?
— Да.
Не дожидаясь моих дальнейших вопросов, он пошел за коровами, гоня их по склону куда быстрей, чем следовало. Внизу он обернулся и что-то крикнул остальным работникам, те расхохотались, двое или трое при этом поглядели на меня. Я не разобрал, что он сказал. Не про меня ли?
— Чего встали как бараны?! — накинулся я на них. — Живо за работу!
Они мгновенно замолчали. Снова зазвенел колокольчик сепаратора. Уже издалека донесся голос Мандизи, прикрикивавшего на стадо. Несмотря на все раздражение, я вынужден был признать, что в этом человеке было нечто особенное. Он ведь даже и не дерзил. Просто в его поведении было явное и неприятное проявление независимости, что-то царственное и самоуверенное чувствовалось в его поступи, в широких плечах и могучей груди. Он держался так, словно весь мир принадлежал ему, словно ничто не могло ему воспрепятствовать, словно внутри его горело пламя.
Повинуясь внезапному порыву, я пошел к отцовской пристройке. Дверь оказалась заперта, окна были занавешены выцветшими зелеными шторами.
Следующий мой поступок был предопределен с самого начала. По едва заметной тропе я спустился к каменной ограде небольшого кладбища. Кожаные подошвы скользили по земле; я не догадался взять охотничьи сапоги, а мои итальянские туфли были очень неудобны, камни поострей так и впивались в подошвы.
Стайка птиц пролетела у меня над головой, огласив долину дикими, леденящими душу криками. Солнце медленно вставало из-за холма.
Деревянная дверь в ограде не поддавалась. Ржавая петля сломалась, и, чтобы открыть дверь, нужно было ее приподнять. Тут и случилась неприятность. Навалившись на дверь, я наступил на камень, потерял равновесие и ударился головой о стену. Очки упали на землю. Нагибаясь за ними, я услышал хруст стекла под ногой. Одна из линз треснула, оправа сломалась.
Ну что ж. Еще одна из непредсказуемых гнусностей, но на этот раз посерьезнее, чем предыдущие. Стоя на коленях со сломанными очками в руках, я зачем-то пытался соединить их, и в это время осколок стекла вонзился мне в кисть, пронизав острой иглой боли всю руку до плеча. В приступе слепого бешенства я отшвырнул бесполезные обломки и поднялся.
Вместо зыбких очертаний холмов вдали я различал теперь незамысловатой формы пятна охры, коричневого и зелени. Ландшафт утратил всякую определенность. К черту! Я вдруг ощутил себя чужаком на своей собственной ферме. Я видел достаточно, чтобы найти дорогу, но все знакомые детали куда-то пропали, приметы расплылись, привычность исчезла. Я чувствовал себя одиноким и затерянным в окружающем меня хаосе.
Поразительно, с какой ошеломляющей ясностью встает все это передо мной сейчас, когда пишу эти строки. Я почти вижу себя в той местности — на ферме, у кладбища. Но тогда все казалось мне туманным и зыбким.
Сначала я решил было повернуть назад. Но раз уж мне почему-то захотелось прийти сюда, то лучше остаться, пока не восстановится способность воспринимать мир. Ощупью бредя мимо старых могил, я наткнулся на сверкающее новое надгробие. Было нетрудно разобрать надпись, высеченную большими буквами: ВИЛЛЕМ ЯКОБ МЕЙНХАРДТ (5.9.1908 — 11.5.1975). Гравий, стеклянный контейнер с неизбежными искусственными цветами, пустая лейка.
Виллем Якоб Мейнхардт. Мне никак не удавалось соотнести это полное имя с отцом. Да и вся помпезная могила словно не имела к нему никакого отношения. Я поглядел через стену вдаль, в дымчатый отдаленный мир, а затем снова на надгробие. Неужели только из-за утраты очков появилось это чувство поразительного одиночества, полного отчуждения? Я совершенно ничего не чувствовал. И хотя я давным-давно привык обходиться без излишних эмоций, тем не менее я ожидал, что здесь во мне что-то пробудится, что я хоть на шаг приближусь к заветной тайне отца.
Может быть, мне удастся точнее описать свое ощущение, сравнив его с тем, что испытывала Элиза к нашим детям: она всегда относилась к Луи совершенно иначе, чем к Ильзе. Не только потому, что после первого выкидыша она буквально тряслась над Луи, но и потому — и, возможно, именно потому, что это были мучительные роды: двое суток почти невыносимых схваток и вслед за тем послеродовые осложнения, мучившие ее более года. Что напугало нас обоих, привыкших считать ее прекрасное тело неуязвимым. Когда четыре года спустя доктор объяснил, что второй ребенок будет таким же крупным, он посоветовал кесарево сечение. Элизе утром сделали операцию, и она увидела ребенка лишь несколько часов спустя. Из-за этого у нее потом возникло чувство, словно Ильза не ее дочь, ведь она как бы не присутствовала при ее рождении.
Может быть, и я отнесся бы к смерти отца по-другому, если бы присутствовал при этом. Чисто умозрительное рассуждение. Или наша связь прервалась гораздо раньше, в те долгие месяцы, когда клешни рака уже вырвали его из нашей жизни? В то время он был совершенно отчужден от нас, смерть вытеснила из его сознания всякий интерес к нам задолго до того, как он испустил последний вздох. Но и это рассуждение строится на том, что такая связь когда-то существовала, а я не уверен, понимал ли я когда-нибудь отца. Кем был тот человек, которого я называл отцом? И в чем подлинный смысл отношений отца и сына? Не в чувстве ли традиции, передачи чего-то из поколения в поколение?
Еще несколько слов о его смерти. Я находился тогда в Северном Трансваале, инспектируя небольшие хромовые рудники, которые прикупил неподалеку от Цанена. Я предупредил Элизу и своих служащих, что вернусь в четверг утром. На самом же деле я вернулся в среду вечером и провел ночь с Беа у себя на квартире. Такое я проделывал довольно регулярно — это удобнее всего, ведь я не хочу сознательно ранить Элизу. Она достаточно умна и, по-видимому, догадывается, что у меня, как у любого другого мужчины, время от времени бывают интрижки на стороне, но, пока о них нет речи и они никого не задевают, их можно игнорировать. Я с чистой совестью могу назвать себя хорошим мужем: я даю Элизе больше денег на расходы, чем кто-либо из моих знакомых, я предоставил ей полную свободу во всех ее занятиях и затеях — живопись, садоводство, керамика, ткачество и все прочее. Единственное, чего я не могу понять: каждый раз, когда она добивается в избранном деле определенных успехов, она утрачивает к нему интерес и бросает его — впрочем, это ее забота, а не моя, хотя она и знает, что мне не по душе такое непостоянство.
Так вот, возвращаясь к отцовской смерти. (Столько лет придерживаясь предельной лаконичности во всевозможных докладах и отчетах, я могу позволить себе в этих записках некоторую свободу.) Когда я прибыл домой в четверг часов в десять утра — «из Цанена», — Элиза поджидала меня с известием, что мать регулярно звонит с середины вчерашнего дня. Отец умирает. Мы вылетели первым же рейсом, взяли в Ист-Лондоне напрокат машину и помчались на ферму, но, когда приехали, он уже умер. Если бы мы прибыли накануне или хотя бы в тот же день утром, мы еще успели бы, но на побережье аэросервис оставляет желать лучшего. Как бы то ни было, я не могу упрекать себя за ночь с Беа. Если бы я не провел ту ночь с ней, я все равно вернулся бы в город не раньше четверга. Говорить о чувстве ответственности здесь неуместно.
В последние часы он, по рассказу матери, был тих и спокоен, и у него ничего не болело. Они сидели вдвоем, держась за руки и беседуя о годах, прожитых вместе. Она была няней в Парле, где он получил диплом, а после свадьбы они поселились в Калвинии, пока ему не предложили место учителя истории в Западном Грикваленде.
Эти последние часы они провели как двое влюбленных; старость и болезнь чудодейственным образом улетучились с его лица, словно слиняла старая кожа. И пока они смеялись над чем-то из прошлого — как вскоре после свадьбы отец, стоя на четвереньках, искал на полу запонку, а мать наступила ему на руку, — он вдруг издал короткий странный звук, и, когда она поглядела на него, он был мертв. Может, это и к лучшему, что мы опоздали и не нарушили их идиллию.
Когда в тот вечер мы приехали на ферму, тело уже увезли в похоронное бюро. На следующий день мы с матерью отправились в город, чтобы «попрощаться» с ним. И там тоже у меня возникло ощущение какой-то отчужденности. Я с трудом узнал его, лицо казалось совершенно незнакомым и расслабленным, под гримом оно было похоже на маску, да еще этот нелепый саван с оборками.
Но не смерть сама по себе столь отдалила меня от отца. Даже ребенком я воспринимал смерть, как нечто естественное. Наш деревенский парикмахер дядюшка Коот занимался и похоронными делами, и порой случалось, что пришедший постричься находил цирюльню пустой; тогда следовало пойти на задний двор, окруженный высокой оградой из рифленого железа, настоящую свалку, где можно было увидеть части старых машин, ржавые токарные станки, куски гнилой кожи, ветошь, бревна, жесть, проволоку. Цыплята. Дикие птицы в клетках. Дядюшка Коот собрал самую большую коллекцию птиц, какую я когда-либо видел, и на заднем дворе вас встречало их заливистое пение, кудахтанье кур за перечными деревьями, в ветвях которых стрекотали цикады. Из одного из полуразва-лившихся сарайчиков раздавались удары молотка. Там вы и находили дядюшку Коота. Он вспоминается мне в неизменных черных штанах, жилетке и засаленном галстуке с золотой булавкой, ворот рубашки всегда расстегнут. Путь к нему лежал мимо ряда гробов — роскошных черных с серебряными ручками или просто крашеных, или совсем дешевых для чернокожих. Тело покоилось на верстаке, за которым работал дядюшка Коот, посвистывая или напевая с видом полного блаженства.
— Постричься пришел? Подожди минутку. Подай-ка мне молоток. Нет, вон тот, возле левой руки дядюшки Дирка. — Он всегда именовал умерших так, словно они были живехоньки. Порой он обращался непосредственно к покойнику и вел с ним долгую беседу.
Обычно я ждал, стоя на пороге, пока он закончит работу и наденет белый халат брадобрея. Притягивало меня сюда однако не его панибратское обращение с трупами, а коллекция картинок, развешанных по стенам, среди гробов и инструментов его жутковатого ремесла. В те времена в нашей деревне порнографии было днем с огнем не сыскать, долгие часы отнимал поиск хотя бы фривольной картинки в журналах по сельскому хозяйству или в маминой «Фемине» — легкого заголения выше колена было вполне достаточно для возбуждения фантазии подростка, обнаженная талия, бюстгальтер или трусики приводили в неописуемое волнение. Моим единственным контактом с миром запретных услад был сарайчик дядюшки Коота с вырезками из старых календарей и заграничных журналов, украшавшими невзрачные стены с прислоненными к ним гробами.
И теперь, много лет спустя, возле отцовской могилы, мне вдруг показалось, что ночь с Беа курьезным образом вписалась в ситуацию, найдя место среди тогдашних настенных картинок.
Но даже воспоминания не вызывали ощущения близости к отцу. Меж ним и мною зияла пропасть, и мостика не было. Если я не мог приблизиться к человеку, который был моим отцом, что уж говорить о более давних предках. И все же следовало попробовать. Я должен разобраться и уяснить, что же я продаю вместе с родовой фермой.
4
Основатель нашего рода Мартин Вильхельм Мейнхардт прибыл на мыс Доброй Надежды в 1732 году знаменосцем роты Голландской Ост-Индской компании. Человек, несомненно, импульсивный, он год спустя дезертировал и, бросив молодую беременную жену, присоединился к экспедиции, отправившейся в глубь материка на поиск Моно-мотапы — мифического древнего эльдорадо в самом сердце Африки. О его смерти ничего не известно, он просто исчез. Может быть, он и нашел свою золотую страну. Однако, скорее всего, нет. Но он пустил корни в эту землю. И оставил нам в наследство свою мечту.
Его единственный сын Мартин, ставший Нимвродом нашей семьи, был свыше двух метров роста и дожил до девяноста лет. В его молодые годы Кейптаун слыл диким и привольным городком — маленьким Парижем огромной коммерческой империи, неотвратимо дрейфовавшей навстречу собственному банкротству, пока ее подданные наслаждались каждым мгновением этого плавания. Мартин же по своим наклонностям не был горожанином. Прихватив с собой девицу, считавшуюся самой хорошенькой в городе, он двинулся к границе обжитых земель и стал фермером-животноводом, перегоняющим скот с одного места на другое в зависимости от наличия пастбищ, слухов о нападении бушменов и диких зверей, а также от всевозможных толков о дожде, которые влекли его в глубь страны с не меньшей силой, чем его отца легенда о Мономотапе. После смерти жены он уже стариком вернулся в Кейптаун со своими двенадцатью или тринадцатью детьми, но вскоре разругался с британскими властями и удалился оттуда, отмерив себе большой участок земли на голом пространстве в северо-западной части Намакваленда. Дошедшие до нас рассказы о нем рисуют глухого и почти слепого гиганта, сидящего с Библией на коленях у порога своего дома. Время от времени он хватается за ружье, прицеливается наугад и палит во что попало. После выстрела, всполошившего кур и коз, снова наступает мертвая тишина, нарушаемая лишь пением цикад да мурлыканьем в кухне черной служанки — единственного человека, присматривавшего за ним.
Тем временем два его старших сына отправились в Храфф-Рейнет основать фермы в Брёйнкьисхухте, самой оживленной части пограничного района. Старший брат был вскоре убит в экспедиции против бушменов. Второй, Вильхельм, женился на кузине ван Ярсвельда, ставшего впоследствии известным вожаком восстания. Небезынтересен тот факт, что на свадебных приглашениях было написано не «господин и госпожа», а «гражданин и гражданка такие-то» — воистину неисповедимы пути, которыми семена Французской революции попадали на этот край света. Вильхельм играл заметную роль в восстании следующего года, и потому нет ничего удивительного в том, что в 1801 или 1802 году он просидел год в тюрьме в Кейптауне. После освобождения, неукротимый, как и прежде, он отправился к вождю племени коса Нгика, чтобы договориться с ним о совместных действиях против британских властей.
Однако, вернувшись домой, он увидел, что его ферма разорена, скот уведен, дом и строения сожжены, а семья вырезана разбойничьими туземными племенами Цурфель-да. Лишь трое из его сыновей были спасены соседями. Над могилой жены и детей Вильхельм поклялся отомстить и, не дожидаясь тризны, вскочил на коня и помчался в Цурфельд, где его тело, исколотое копьями, и было найдено неделю спустя.
Трое его сыновей воспитывались у соседей, пока не вошли в возраст и не основали собственную ферму неподалеку от Эйтенхахе. Средний брат, Левис, как раз находился по торговым делам в Алгоа-Бей, когда на берег в 1820 году высадились первые английские поселенцы. Его фургон наряду с прочими был отряжен для их перевозки на фермы в глубь страны. И хотя он повиновался весьма неохотно, это путешествие стало поворотным пунктом в его жизни, потому что в семье, которую он перевозил, была девица по имени Мелани Харрис. Впервые он обратил на нее внимание, когда из фургона вывалилось и сломалось — казалось, непоправимо — старое кресло. Кресло с роскошной резьбой и золочеными ножками было собственностью девицы, унаследованной ею от бабушки, и Мелани сильно горевала. Но Левис решительно взялся за дело и, ловко орудуя охотничьим ножом, починил кресло столь искусно, что невозможно было разглядеть следов повреждений. По ходу дела он, естественно, завоевал сердце юной Мелани. Это кресло, долгие годы стоявшее у моего отца, теперь занимает почетное место в моем кабинете.
Через год Мелани и Левис поженились. Некоторое время они вполне преуспевали, но указы 49 и 50 все изменили: кафров и готтентотов выпустили из резерваций и разрешили им свободно передвигаться по колонии. После того как братья дважды теряли все нажитое в результате разбойничьих налетов, а Сибранд был убит готтентотом, забравшимся в его крааль, двое оставшихся в живых братьев вместе с семьями перебрались через границу. Там они купили участок земли у миролюбиво настроенного племени коса и основали ферму, принадлежащую нашей семье уже полтораста лет.
Но Левис не желал угомониться. В одну из поездок в Грейамстаун он встретил Пита Ретифа, и, когда Ретиф решил отправиться на поиски земли обетованной, то бишь собственной, Левис и Мелани присоединились к нему. В конце концов он и трое из его четверых детей разделили судьбу Ретифа в массовой резне, учиненной первопроходцам зулусами Дингаана.
После аннексии Наталя Англией в 1843 году Мелани была в числе женщин, объявивших, что они скорее перейдут босиком через Драконовы горы, нежели вновь станут жить под английским владычеством. Вместе с единственным оставшимся в живых сыном Германом, мальчиком лет двенадцати, она снова погрузила весь скарб в фургоны и отправилась в Трансвааль. Но по дороге она заболела и вскоре после прибытия в Почефструм умерла.
Верный обычаям предков, Герман стал искать собственный путь в жизни. Долгие годы он промышлял охотой на диких зверей в Матабелеленде и Машоналенде и, как говорили, добирался даже до Килиманджаро. Наконец он осел вместе с женой, приобретенной во время странствий, — как ни странно, отец никогда о ней ничего не рассказывал. Некоторое время Герман принимал участие в бурной общественной жизни молодой Трансваальской республики, но вскоре, разочарованный, отошел от политической деятельности, а после смерти жены упаковал свои скудные пожитки, посадил двоих детей на тележку, в которую был впряжен мул, и пустился в путь, привлеченный невероятными россказнями об алмазных приисках неподалеку от Кимберли.
Там дела у него шли неровно. Несколько небольших алмазов, а потом месяцами вообще ничего. После ссоры с помощником-греком, закончившейся загадочной смертью последнего, Герману пришлось бежать от правосудия, чем он не слишком огорчился, так как уже шли разговоры о новом присоединении земель к британской короне.
Однажды, в году 1880 или около того, он с сыновьями вернулся на ферму, которую его отец оставил так много лет назад. Его дядя давным-давно умер, и ферма принадлежала дядиному сыну Герту. То было радостное возвращение блудного кузена, который, не чинясь, принял приглашение остаться жить. Но новообретенный покой длился менее года. Затем произошел несчастный случай на охоте. Уйдя со старшим сыном в буш на поиски льва, убившего двух чернокожих ребятишек с соседней фермы, Герман вернулся домой к вечеру, неся на спине тело сына. Спотыкаясь, он дошел до порога и рухнул, разбитый ударом. Несколько недель спустя он умер, не проронив ни слова.
Второй сын, Карел, не слишком засиделся на ферме после смерти отца. Соблазнившись слухами о золоте в Трансваале, где, кроме того, можно было свободно вздохнуть после первой Освободительной войны, он погрузил вещи и двинулся в путь.
В Почефструме он задержался на несколько месяцев, чего оказалось вполне достаточно для знакомства и женитьбы на Хелене Вепенер, дочери богатого фермера; после этого он продолжил свое паломничество, повинуясь древнему зову Мономотапы.
Жизнь в золотом краю оказалась трудной, изнуряющей и неприбыльной, и вскоре Карел, следуя примеру большинства старателей, стал проводить все больше времени в крытой брезентом таверне под названием «Собор Стента». Однако смерть их первого ребенка отрезвила Карела. Местный врач, по совместительству парикмахер, был вечно пьян и едва не отправил на тот свет и Хелену.
И все же Карел не спешил внять мольбам жены о возвращении к размеренной фермерской жизни. Услышав о новых золотых приисках возле Барбертона — это было в 1884 году, — он решил еще раз отправиться на поиски удачи с женой и всем своим имуществом, поместившимся в железном сундучке на ослиной повозке.
На этот раз удача привалила. И в конце года, как раз к рождению сына, они смогли покинуть палатку и перебраться в домик из рифленого железа.
Меньше чем за три года прииск был выжат досуха. Тучи золотоискательской саранчи, упаковав добро, кто с фургоном или тележкой, а кто на своих двоих с рюкзаком за плечами, двинулись дальше; вино перестало течь рекой, проститутки переметнулись в Витватерсранд, и молчание вновь опустилось на маленький призрачный городок в Восточном Трансваале.
Хелена наконец добилась своего: они вернулись в Западный Трансвааль, где жили ее родители, чтобы купить ферму возле Боскопа. Казалось, их странствия подошли к концу. Но октябрьской ночью 1899 года в окно их спальни постучался сосед и сообщил, что началась война с Англией.
Вначале все шло хорошо. Однако через несколько месяцев после побед у Магерсфонтейна, Коленсо и Спионкопа чаша весов качнулась в другую сторону. Был сдан Кимберли. Затем без единого выстрела Претория. Казалось, близилось светопреставление. Целыми днями они скакали в седле по замерзшим зимним полям, атаковали и немедленно отходили, дождливыми ночами дрожали от холода, сутками обходились без еды. Но упрямцы не складывали оружия, распевали по утрам и вечерам свои смутные гимны надежды и отчаяния, слушали командиров, читавших отрывки из Библии, молились с упрямой и мрачной верой. И снова на коней.
В конце девятисотого года, когда отряд Карела вернулся в Западный Трансвааль, ему было разрешено на ночь заехать домой. Но своей фермы он не нашел. От дома остались почерневшие, выжженные руины, поля были вытоптаны; при его появлении коршуны, словно рой мух, взлетели с заколотых английскими штыками кур, свиней и овец, брошенных гнить на земле. Лишь много позже он узнал, что Хелена и пятеро его детей живы и находятся в концентрационном лагере в Хейдельбурге. В нем вспыхнула жажда мщения. Может быть, он утратил осторожность. Во всяком случае, сразу после рождества он был застигнут со своим отрядом врасплох и взят в плен. В открытых повозках, под палящим солнцем их повезли в Дурбан, а оттуда на лодках переправили на Бермуды.
На голом, скалистом острове, где они томились в плену, он коротал время, записывая в обтянутую кожей тетрадь историю своей жизни и историю жизни отца и деда — все, что мог вспомнить. После войны его друзья привезли тетрадь и отдали ее родным, а сам он умер прежде, чем дописал свою повесть.
Трое из сыновей Хелены вошли в число тех двадцати шести тысяч, которые, согласно статистике, умерли в концлагерях во время войны. Те двое, что вместе с нею вышли из лагеря после заключения мира, были живыми трупами, но Хелене удалось их выходить. Время было страшное. Хелена хотела, чтобы ее дети получили образование, но в школе их дразнили грязными бурами и запрещали говорить на родном языке. Чашу страдания Хелены переполнила смерть ее матери.
В отчаянии Хелена решила вернуться на фамильную ферму, где теперь заправлял делами холостой сын Герта Йоханнес. Он принял ее с распростертыми объятиями, а когда Хелена, которой так и не удалось оправиться от ужасов лагеря, умерла в 1904 году, усыновил ее детей: к этому времени Куну было восемнадцать, а Ленни только семь. Два года спустя, вскоре после женитьбы Куна, дядя предложил ему взять дела на ферме в свои руки. Так ферма и отошла к нашей линии, ибо Кун был моим дедом.
Он вполне преуспевал как фермер, но в 1914 году началась война, вспыхнуло восстание против решения правительства о поддержке Англии, и в нем возгорелось древнее пламя. Оставив жену с четырьмя малолетними детьми, он сел в поезд и поехал на север, чтобы присоединиться к генералу Бейерсу.
Разумеется, все кончилось очень быстро, и ему даже не пришлось принять участие в настоящем сражении. Командование было дезорганизовано, в войсках разброд, и после пары незначительных стычек отряд дедушки был взят в плен. Отбыв годичное заключение, он вернулся на ферму. Однако он так и не утихомирился. Как бы ни удерживали его заботы о семье, раз в десять лет, когда старая фамильная страсть охватывала его и толкала неизвестно куда, он просто паковал вещи и исчезал. Бабушка научилась не обращать на это внимания. Он всегда возвращался через несколько месяцев или самое большее через год. Однажды, правда, он пропадал целых два года, но тот раз был последним. Это случилось во время второй мировой войны, и, где он тогда был и что делал, мы так никогда и не узнали. Скорее всего, он был связан с подпольной деятельностью организации Оссева-Брандваг, но когда мы спрашивали его, он только посмеивался в ответ.
Он всю жизнь оставался в некотором роде славным дикарем. В укромном местечке гнал самогон из персиков, диких груш и даже лука, напиток покрепче серной кислоты. Однако он был не чужд и духовным интересам и приобрел известную популярность как вдумчивый интерпретатор Библии. Когда он умер в тысяча девятьсот сорок девятом году, многие из грозных библейских пророчеств, казалось, готовы были исполниться, и перед смертью его явно утешала мысль, что ему не слишком долго придется лежать в земле, дожидаясь Страшного суда.
Сам он не получил порядочного образования, но стремился дать его своим сыновьям. Старший сын Альвин был послан в сельскохозяйственный колледж в Эльзен-бурге, ибо было решено, что в дальнейшем дела на ферме должен вести он. Второй сын, мой отец, предназначался в пасторы, но после ожесточенных споров ему разрешили поступить в педагогический колледж.
В отцовском учительстве всегда было нечто странное. Хотя при первом же взгляде на него становилось ясно, что фермера из него не выйдет, он без конца твердил о своем желании фермерствовать. Он, должно быть, чувствовал себя в безопасности, ведь ферма отходила к Альвину. Было нечто удручающее и раздражающее в том, как он говорил о неосуществленном призвании, а свое учительство называл не иначе как запасным путем.
И вдруг грянул гром: через год после смерти деда Альвин попал под трактор и погиб. Обе сестры отца давно уже обосновались в других местах. Для спасения фермы был лишь один выход: отцу следовало бросить учительство и взять ферму в свои руки. Все радовались за него: ведь он всегда мечтал об этом. Однако для него самого это стало равносильно пожизненному заключению. Ему нравилось мечтать о земле, а не возделывать ее. Он сделался не хозяином, а рабом фермы. Год от года он все сникал и сникал, пока не окончил свой путь в этой могиле, на камне которой начертано:
ВИЛЛЕМ ЯКОБ МЕЙНХАРДТ
5
Оглядываясь назад, я думаю: испугало меня не то, что без очков я потерял способность ясно видеть и ощутил отчужденность от всего меня окружавшего. Гораздо неприятнее было то, что я оказался беззащитным перед обступившими меня невидимыми предметами. Чуть ли не в панике я начал лихорадочно искать отброшенные очки, пока не нашел их правую половину с уцелевшим стеклом, а через некоторое время среди буйных сорняков и пустую левую. Понимая всю бесполезность своих действий, я все же снова попытался соединить их, словно надеясь, что это возвратит мне способность воспринимать мир целостно.
На этот раз я обращался с воротами крайне осторожно. Возвращаться сюда я больше не собирался. Да и зачем я приходил? Неважно, все равно я здесь ничего не нашел. Раньше или позже человеку приходится избавляться от родового романтизма. Одна из форм освобождения. как сказала бы Беа.
Кем же все они были? Неудачниками, все без исключения. И каждый на свой лад стал жертвой этой земли.
Я укрепил ворота проволокой, чтобы они не открылись.
Солнце уже довольно высоко поднялось над серыми холмами. От этого все вокруг казалось еще мрачнее, а ветер так и врезался в тело.
Когда я подошел к коровнику, собаки выбежали из дому и с лаем запрыгали возле меня.
— Хватит, пошли к черту, фу!
На шум вышла мать.
— А, это ты. — Она рассмеялась моей беспомощности и растерянности перед этими беснующимися тварями, — А я все гадала, куда ты запропастился. Эй, собачки, на место. Оставьте бааса в покое!
Высунув языки и виляя хвостами, они тут же подбежали к ней. Она погладила их уши, потрепала их гигантские морды.
— Ладно, ладно. Хорошие вы собаки, марш на место.
— В один прекрасный день они кого-нибудь убьют, — сердито бросил я.
Мать расхохоталась:
— Не знаю, что бы я без них делала. Они обожают свою хозяйку. — Она еще раз приласкала их, а потом взглянула на меня: — Что с тобой, сынок? Где твои очки?
Вынув руку из кармана, я показал ей обломки.
— Какая жалость, — добродушно сказала она. — Но ничего, здесь ты можешь обойтись и без них.
— А как прикажешь возвращаться? Я же не могу вести машину без очков.
— Давай, я попробую их починить.
— Одно стекло вдребезги.
— Ах ты, бедный. Ничего, пусть поведет Луи. Он ведь умеет?
— «Мерседес» он еще не водил.
— Ну, ладно, не расстраивайся. Пора завтракать. Где ты был все это время?
Я снова положил обломки очков в карман.
— На кладбище.
Она пристально посмотрела на меня, по-видимому ожидая услышать еще что-то, но я ничего не сказал.
— Я рад, что ты не начала копать себе яму, вроде дедушки Нетлинга, — попытался я отвлечь ее.
— Земля слишком затвердела в засуху, — ответила она с таинственной усмешкой.
Кристина возилась у печи. Молодой женщины с ребенком не было. Мы прошли в столовую.
— Луи еще не встал, — сказала мать, заметив, что я выжидательно смотрю на дверь.
— Пойду разбужу его.
— Оставь его в покое. Пусть чувствует себя как на каникулах.
— У него сплошные каникулы с тех пор, как он вернулся из Анголы.
— Ну, не так уж все плохо.
— Хуже, чем ты думаешь. Он отказывается ходить в университет и вообще куда бы то ни было. А ведь раньше он хотел стать инженером.
— Что же он собирается делать?
— По-моему, ничего. Спит до десяти, а то и до одиннадцати. По нескольку дней не вылезает из дому.
А когда выходит, то пропадает дня на три или даже больше.
— А что у него за друзья?
— Понятия не имею. Из него ничего не выжмешь. Проще добиться ответа от стены. По правде говоря, он стал просто невынрсим.
— Кристина, неси кашу, — крикнула она, а затем мягко сказала: — Ты тоже был трудным пареньком в его возрасте.
— Ну, не таким, как он.
— Прочтешь молитву?
Машинально читая молитву, я с испугом услышал в своем голосе отцовские интонации. Словно не было тяжелого могильного камня там, на кладбище. На мгновение мне почудилось, будто отец по-прежнему жив. Интересно, заметила ли что-нибудь мать? Я почувствовал раздражение.
Отец часто пребывал за столом в рассеянности, особенно когда работал над каким-нибудь новым «исследованием». Тогда мать напоминала ему о молитве, которую он произносил быстрее, чем мы успевали моргнуть глазом. Но нередко случалось, что несколькими минутами позже он снова принимался читать молитву, забыв или не заметив, что уже сделал это. Он вдруг начинал все сначала, внезапно обрушиваясь на сидящих за столом с вилками в руках или в самый разгар беседы. При этом нам следовало делать вид, будто ничего не произошло. А если кто-то хихикал или осмеливался напомнить ему, что он молится во второй раз, он буквально взрывался — то было одно из редких обстоятельств, когда он проявлял бешеный темперамент, гневно упрекая нас в утрате почтения и к нему лично, и к господу, а затем переходил к неминуемой гибели общества, в котором пришла в упадок религия: Если вы обратитесь к истории…
В те времена мы находили его причуды просто забавными и милыми. Но сейчас, когда я пишу о нем, меня охватывает глубокая печаль. Он был странником в этом мире, где для него существовало так мало ценностей и опор. Первые месяцы после возвращения на ферму, вероятно, показались ему сущим адом. И нас не было поблизости, чтобы помочь ему, — я как раз поступил в университет, а Тео кончал колледж в Западном Грик-валенде. Мать много рассказывала нам о том времени. Отец не мог дотронуться до заболевшей коровы, не говоря уже о тех, что должны были отелиться; матери пришлось самой заниматься всеми делами. Он обладал редкой способностью ломать вещи, но всегда брался чинить их сам, доламывая окончательно, и вещи, нередко довольно дорогие, приходилось покупать снова.
Как-то ночью их разбудил яростный лай собак.
Мать толкнула его локтем:
— Вставай!
— Что? В чем дело?
— Послушай, как лают собаки.
— Ничего особенного.
— Они лают как бешеные.
— Они всегда так лают.
— Что-то случилось со скотиной. Пойди посмотри.
— Почему я?
— А кто же?
Ворча, он встал. Мать не разрешила ему зажечь свечу, чтобы свет не спугнул воров. Он сильно ударился головой о край кровати, пытаясь нашарить в темноте ботинки. Прошло немало времени, прежде чем он смог продолжить свои сборы. Наконец он достал из шкафа ружье. Собаки продолжали неистовствовать.
Мать провела его через заднюю дверь и вокруг дома. Было новолуние и так темно, что не разглядеть даже холмов на горизонте. После того как отец с грохотом налетел на бочку во дворе, мать поняла, что дальнейшая маскировка не имеет смысла и сходила в дом за фонарем. Держа фонарь как можно выше, она возглавила шествие.
Отец опять споткнулся о камень и, налетев на мать, выбил у нее из рук фонарь, который тут же погас. Они были уже на полпути к краалю, собаки лаяли по-прежнему. Неожиданно ощутив опасность, мать плашмя упала на землю, и отнюдь не напрасно, ибо в то же мгновение грохнул выстрел — пуля пролетела всего в нескольких дюймах.
— О господи, ты же меня убьешь!
Собаки окончательно ошалели. Коровы сорвали ворота крааля и помчались в ночь. Лишь назавтра, далеко за полдень удалось загнать их обратно. Что произошло той ночью, так никто и не узнал. К счастью, урон, если не считать сломанных ворот, был невелик. Но с той ночи на шум всегда выходила мать с ружьем или без него. А отец оборудовал пристройку за маслобойней, настроил полки, заставил их книгами и проводил там почти все время, постепенно отстраняясь от внешнего мира.
И это не было просто эксцентричностью. Порой он пытался объяснить мне свои мысли и чувства. Это давалось ему не легко; мы были слишком далеки друг от друга, — но он все же пытался. Помню, однажды за полдень мы сидели в его пристройке. По двору бродили, ища желуди, поросята, в ветвях деревьев пели птицы.
— Если ты обратишься к истории, — сказал отец (Я попытаюсь восстановить общий ход его рассуждений, отдельные детали я не помню — впрочем, почти все его монологи были об одном и том же), — ты найдешь в ней людей двух типов: деятелей вроде Цезаря, Аттилы, Наполеона и так далее и тех, что приходили после них и пытались разобраться в сделанном ими. Деяние не есть нечто определенное и однозначное, как, скажем, камень, который ты подбираешь с земли. А посмотрев на нашу страну, — (Все его рассуждения неизбежно сводились к нашей стране), — ты увидишь то же самое. С тех пор как первый Мартин Вильхельм Мейнхардт прибыл сюда — помнишь, я рассказывал тебе о его путешествиях и поисках? Я только что получил новую книгу об исследованиях мыса Доброй Надежды в семнадцатом веке, напомни, чтобы я показал ее тебе, — с той самой поры, как он сюда прибыл, наш народ постоянно был занят тем, что старался выжить. Подумай сам, ни один из них не был образованным человеком. Они едва умели читать и писать. Страна была настолько дикой, что ее надо было объезжать, как лошадь, ее надо было сломить. Каждое поколение занималось этим по-своему. Но нельзя без конца действовать вслепую. Рано или поздно кому-то надо сесть за стол, подумать и попытаться понять: чего они на самом деле добились? Ведь если посмотреть на них под определенным углом, все они неудачники. Но действительно ли неудачники? Или каждый хоть на пядь продвигался вперед, укрощая эту страну? Вот потому-то я и надеюсь, что моя работа может оказаться небесполезной.
Вся эта пространнейшая речь имела лишь одну цель — самооправдание.
— Конечно, папа. — С ним было лучше не спорить.
— Я знаю, с фермой у нас не все в порядке. Не так, как надо. Но не потому, что я плохой фермер. А просто потому, что у меня есть более высокое призвание. Понимаешь?
— Прекрасно понимаю, папа.
— Собственно говоря, я даже люблю фермерское дело. Думаю, во мне есть все задатки настоящего фермера. Но тут вопрос истинного призвания. Оглянись на историю, и ты увидишь, что так было всегда. Каждый человек прежде всего должен осознать свое настоящее призвание, создать свою шкалу ценностей.
— Конечно, папа.
— Надо, сынок, открыть свою душу истории, чтобы понять, что же она хочет тебе поведать. Этого не вычитаешь из книг. Хотя это и содержится в книгах. Но у тебя должен быть код, чтобы расшифровать сказанное. Вопрос интерпретации. И быть может, потомки решат, что сделанное мною было не напрасно. В смысле формулировок и определений. Что значит быть одним из Мейнхардтов? Или одним из африканеров? Таковы вопросы. Если ты обратишься…
— Ты абсолютно прав, папа. Это — самое существенное.
Вспоминая об этом, я вдруг понял, единственное, что он тогда хотел внушить мне, — это помоги мне. Но чем я мог помочь ему? Чего он от меня ждал? Я не мог бы зажечь фонарь, как поступила мать, или смазать винтовку, или помочь отелиться корове. Думаю, что и от нее он ждал не только этого. Но я-то что мог сделать для него?
В тот вечер я дал ему чек, чтобы покрыть значительные расходы по ферме. Он подчеркнуто поблагодарил меня и в своей обычной педантичной манере спрятал чек в карман рубашки и застегнул пуговку. Я выручал его не в первый раз, да и не в последний. С самого начала, как только у меня появились приличные заработки, я жертвовал определенные суммы на ферму, когда мать сообщала мне, что дела идут скверно. Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять рандов, если быть точным, — я помечал это в своих бумагах. Я давал деньги, отчетливо сознавая, что швыряю их на ветер, потому что отец все равно не умел с ними обращаться. Но я никогда не жаловался. Только в тот уикенд в свете последних событий я ощутил, что больше не могу давать, ничего не получая взамен.
Возможно, стоит упомянуть еще и о том, что чек, выданный мною отцу тогда, не был погашен. Отец не использовал его. Я просто еще раз хочу подчеркнуть его абсолютную некомпетентность в финансовых делах. Ведь сумма была немалой: несколько сотен рандов.
Я не могу ручаться, таков ли был ход моих мыслей в то утро за завтраком, но точно помню, что я думал об отце и его неудаче с фермерством. Но мне не хотелось вновь заговаривать о продаже. Хорошо зная мать, я понимал: нужно дать ей время свыкнуться с этой мыслью.
Чтобы поддержать разговор, я сказал:
— Знаешь, я в самом деле ужаснулся сегодня во время прогулки. Никогда не думал, что бывает такая засуха.
— Я же тебе говорила. — Она чуть ли не обрадовалась. — В последний раз дождь шел в тот день, когда хоронили отца.
— Да, настоящий ливень.
— Чуть не смыло дом и пристройки. Старый Лоренс понес убытки в пять тысяч. — Она улыбнулась. — Знаешь, как это бывает. Если фермер говорит об убытках, он непременно включает в них и своих утонувших работников.
— А кто-нибудь утонул?
— Конечно. Трое у него. И двое у нас. Правда, не совсем наши. Просто они на время прибились к ферме и кормились у меня.
— Ты всегда была излишне добра к ним.
— Ты же помнишь, что господь говорил о любви к ближнему.
— А если в ближайшее время дождя так и не будет? У твоих несчастных коров бока будто из рифленого железа.
— Выдюжу. — Она словно читала мои мысли. — Буду молиться.
— А если бог не услышит?
— Услышит, когда пробьет час. — Настроение у нее явно улучшилось. — Помнишь то время в Западном Грикваленде, когда дождя не было три года? Мы решили все вместе помолиться, и я взяла в церковь плащ и зонтик. Все смотрели на меня как на сумасшедшую — стояла такая жара. Даже священник посмеялся надо мной. Но я сказала ему: «Мы ведь собираемся просить господа о дожде? Или вы не верите?» И как только мы вышли из церкви, начался дождь. Я единственная не промокла.
— А запускать ракеты в облака не пытались?
— Нет. Да и зачем? Это дурное дело: выкручивать руку божью. — Она жевала мясо крепкими белыми зубами, — Потому-то сейчас и стало так худо. Раньше о дожде молились, а стреляли во врага. А теперь стреляют в облака и молятся за врагов. Не значит ли это самим накликать на себя беду?
— Но ты же не считаешь грехом бурение колодцев?
— Конечно, нет. Ведь вода уже в земле. Просто она ждет, чтобы ее достали.
Когда мы поднялись из-за стола, Кристина сообщила, что пришел водяной мастер.
6
Большой грузный мужчина с печальным лицом, одетый в черный долгополый сюртук, словно он собрался в церковь, поджидал нас возле дома, держа обеими руками шляпу и прижимая ее к объемистому животу. За ним стоял его чернокожий помощник, пожилой человек с сединой на висках. Возле него на земле стоял небольшой железный сундучок.
— Доброе утро, миссис Мейнхардт, — сказал мастер таким тоном, словно выражал нам соболезнование по случаю смерти близкого родственника. — Меня зовут Шольц. Я насчет воды.
У него был высокий, хриплый голос, и говорил он так тихо, что почти невозможно было ничего разобрать.
— Здравствуйте, мистер Шольц. Вы пришли сегодня довольно рано. Это мой сын.
— Да, я пришел рано, — грустно согласился он. — После полудня воду не ищут, вы же знаете.
Он протянул мне руку. Она легла в мою, холодная и липкая, будто в предсмертной испарине.
Казалось, он обладал способностью угадывать не только наличие подземных вод, но и ход ваших мыслей, так как сразу же с обиженным видом отдернул руку.
— Потею, — пояснил он. — Верный признак, что вода близко. — Он неторопливо огляделся. — Не удивлюсь, если окажется, что дом стоит прямо на подземном источнике. А теперь миссис, если вы не будете возражать, я надену шляпу. Сильно печет.
— Хорошо бы найти воду неподалеку от дома, — сказала мать. — Проще будет орошать поля. В нашем колодце на самом донышке, и то в такую засуху того и гляди высохнет.
— Нет ли поблизости ивы? — спросил он, явно не слушая ее. — Ясень тоже подойдет, но моим рукам привычней ивовый сук.
— Там, за сараем, — сказала мать.
— Не срежете ли вы мне суковатую палку? — спросил он, с улыбкой посмотрев на меня.
Я направился было на кухню за ножом, но он остановил меня нетерпеливым жестом, словно и не ожидал от меня ничего другого, и протянул мне свой нож.
Они с матерью остались беседовать у дома, а я направился к сараю. Без очков я чувствовал себя стесненно и непривычно, с каждым шагом земля словно отодвигалась от меня все дальше и дальше.
— Ты мне больше нравишься без очков, — сказала Беа.
— И ты мне тоже без твоих темных.
Поразительная ясность, с которой она вдруг вспомнилась мне. Моя невосполнимая потеря. Так часто в наших отношениях бывали моменты почти невыносимой близости, вызывавшей ощущение предельной напряженности существования. Тот день, когда мы встретились у развалин, где раньше был Дуллаб-Корнер. Неделя в красной хижине в Понто-де-Оуро. Ночь, когда я вернулся из Северного Трансвааля накануне смерти отца. Может быть, она стала бы нашей последней ночью, если бы он не умер тогда? Все всплывает с обостренной, почти неприличной точностью.
Я могу представить ее себе во всех чувственных подробностях. Та ночь в моей городской квартире. Короткие черные волосы, продолговатое лицо с большим ртом, ямки, образовавшиеся возле ключиц, когда она нагибалась, чтобы наполнить мою рюмку. Груди конической формы в открытой муслиновой блузке — самая уязвимая часть ее фигуры, ибо они уже чуть обвисли: тридцать лет!
Ее слова по телефону во время нашего последнего разговора перед моим отъездом на ферму:
— Мартин, ты действительно никак не можешь отложить поездку? Мне необходимо увидеться с тобой.
— Я же сказал тебе.
— Ну, да… конечно… все понятно. О боже!
— До свидания, Беа. До вторника.
Мне хотелось бы пропустить описание уикенда и поскорее перейти к Беа. Но в попытке воссоздать всю сложность происходившего тогда, я не могу идти иначе как по ходу событий. Суббота была всего лишь субботой, без предчувствия того, что случится сегодня, в воскресенье или в понедельник. События нужно излагать последовательно, иначе все расплывется, как акварель на мокром листе бумаги.
Возможно, я и в самом деле вспоминал Беа, стоя возле ивы и вырезая суковатую палку. Я наверняка о чем-то тогда задумался, ибо нож соскользнул и я порезал руку между большим пальцем и указательным. На коже выступили капли крови. Машинально слизывая их, я направился с палкой к дому.
— Ну ладно, — сказал мужчина с понурыми плечами, взяв у меня палку и тщательно осмотрев ее. — Сойдет.
Он принялся сдирать с палки кору, обнажая белую древесину.
— Вы не пойдете с нами, миссис? Воду лучше чуешь, когда рядом кто-нибудь из хозяев.
— У меня сегодня прием больных, мистер Шольц. Но с вами может пойти мой сын.
Мне не хотелось сопровождать его, но и никакой отговорки у меня не нашлось. Он повернулся ко мне, словно покоряясь неизбежному.
— Как насчет кофе? — спросила мать.
— Нет, что вы. Работать можно только на пустой желудок.
Мать обошла вокруг дома, направляясь к парадному входу. Маленькая комната, в которой мы с Тео спали в детстве, давно уже была превращена в примитивную амбулаторию, и по субботам мать принимала там всех местных чернокожих, нуждавшихся в лечении. Человек двенадцать уже ждали ее, стоя под скудным солнцем у парадной двери дома. Среди них были и грудные младенцы, и полуслепые старцы. Заболевших серьезно в любой день недели доставляли в город на небольшом фургоне. Бывали случаи, когда мать вставала часа в три утра, чтобы отвезти больного к доктору. Я не раз пытался отговорить ее от этой бессмысленной траты времени, от добровольно взятой на себя обузы, но тщетно. Вероятно, это удовлетворяло какую-то ее внутреннюю потребность, ту, которая в молодости побудила ее стать няней.
— Ну что ж, пошли, — торжественно сказал старик, словно священник, возвещающий начало литургии. — Бери сундук, Филемон.
Я пошел вслед за ним вверх по холму, за грязные хижины работников. Филемон замыкал шествие, таща сундучок. Ручек у сундучка не было, и Филемон нес его на вытянутых руках, будто детский гробик.
— Не слишком ли высоко мы поднялись? — поинтересовался я некоторое время спустя.
— Никогда не бывает слишком высоко, — таинственно ответил водоискатель, тяжело дыша, словно астматик.
Сзади, вероятно из-за своего черного облачения, он выглядел как-то странно знакомо, он казался похожим на Элизиного отца. Придерживающийся широких взглядов, благожелательный старик, с которым я не раз дискутировал о предназначении и о Пилате, о церкви и пророчествах, о слове, ставшем плотью. Помню, как он говаривал: «Никогда не следует забывать, что у господа бога, несомненно, чрезвычайно обостренное чувство юмора, иначе он никогда бы не сотворил человека». В прошлом они с Бернардом были большими друзьями. Его супруга держалась весьма настороженно, но мужчины испытывали друг к другу глубокую симпатию. Единственное, чего я хочу от жизни, это никогда не стать настолько старым, чтобы побояться дать хорошего пинка священной корове, прежде чем она наложит мне на голову. Старик обычно смеялся в ответ на такие речи, возможно втайне одобряя их. Для его жены Бернард был слишком «суетен» и слишком опасен для чистоты помыслов и непорочности их дочери. Она хорошо относилась ко мне как к зятю не столько потому, что я ей нравился, сколько потому, что благодаря мне Элиза избежала худшей участи. Преподобный отец, напротив, был скорее разочарован выбором дочери, хотя и слишком хорошо воспитан, чтобы показать это.
А как бы его жена стала относиться ко мне, если бы узнала о ночах, проведенных мною с Элизой в доме тетушки Ринни в мой последний университетский год? О том первом воскресном полдне? Тогда после долгой страстной возни Элиза завела руки за спину, чтобы расстегнуть лифчик, и прошептала влажными губами:
— Ради бога, Мартин, чего ты ждешь?
После моего посвящения в мир страстей во время уикенда, проведенного в горах с Гретой, я считал себя человеком искушенным, а Элиза была девственницей. Но девственность печалила и тяготила ее, и в конце концов именно она меня и соблазнила. И я безумно полюбил ее тело, ее упругий плоский живот, гладкую загорелую кожу. Поразительно, как такая кожа, открытая солнцу и ветру, может с годами высохнуть и заморщи-ниться, какими тяжелыми и отвислыми могут стать груди. Безобразное искажение ее лона после рождения ребенка, бесцветный шрам кесарева сечения. Странно, как человек может быть опьянен молодым телом просто потому, что оно тело, и какое потом испытывает к нему отвращение по той же самой причине. Тело с изъянами и шрамами, тело, подверженное недугам и увядающее с каждым часом.
Родители ее с годами тоже сильно переменились. Даже отец показал себя куда более ортодоксальным в последний раз, когда они гостили у нас; Бернард жил в то время в моей городской квартире. Тогда мы как раз спорили о Пилате, и Элизин отец разочаровал меня традиционностью своих взглядов. Я помню наш разговор особенно хорошо потому, что он происходил вечером накануне их отъезда. На следующий день на обратном пути домой оба они погибли в автомобильной катастрофе. Он был слишком стар, чтобы водить машину, его реакция ухудшалась, но он не желал слушать моих предупреждений. Смерть была мгновенной.
Почти на самой вершине холма старый мастер остановился, его бледное, нездорового цвета лицо покрылось потом.
— Ставь, Филемон.
— Что у вас там, в сундучке? — поинтересовался я.
Он покачал головой, угрюмо разглядывая выжженную солнцем долину.
— Так я слышу, как она течет, — сказал он, — Понимаете?
Я ничего не понял, но предпочел сделать вид, что мне все ясно.
— Эту ферму спасают только подземные воды. Вы не видите их, но они есть. — Он словно произносил речь на панихиде. — Если бы их не было, здесь ничего бы не росло. Это надо знать, чтобы находить их.
— Понятно, — серьезно сказал я.
Мои слова, похоже, не удовлетворили его.
— Ставь здесь, Филемон.
— Вы из здешних мест? — спросил я, чтобы прервать гнетущее молчание.
— Да, эта способность всегда у меня была, — тяжело дыша, ответил он, словно я спрашивал его именно об этом.
Он опять застыл. Филемон поставил сундучок наземь, но не открыл его. Старик принялся ходить взад и вперед по ровной полоске земли вдоль склона, держа палку в вытянутых руках. С сосредоточенным видом он прошел размашистыми шагами птицы-секретаря метров десять вправо, на мгновение остановился, посмотрел под ноги и вернулся обратно. Так он расхаживал минут пятнадцать, а его помощник довольно равнодушно стоял возле сундучка.
Через некоторое время старик начал задыхаться. Его глаза расширились. Шея и руки покрылись каплями пота. Было странно видеть, как палка в его руках ожила, словно соприкоснувшись со скрытым в самой земле источником энергии. Я боялся, как бы он не залепил ею себе по голове. Он задержал дыхание, лицо его побагровело, шея набухла. Затем он внезапно сник, будто проколотая камера шины, отбросил палку и стал жадно глотать воздух.
— Нашли что-нибудь? — спросил я, невольно заинтригованный.
— Нет, — ответил он, впервые за все утро выглядя счастливым.
На мгновение я ощутил совершенно бессмысленное сожаление, что всего этого не видел Бернард.
Но к чему снова вспоминать Бернарда? С ним я уже разобрался. Излагая события, следует держать отдельные линии порознь, иначе не удастся систематизировать материал. У меня целая жизнь впереди, чтобы разобраться в последствиях тех мучительных дней. А без системы все снова превратится в хаос.
— Я иду домой, — объявил я, когда старик с усилием нагнулся, чтобы поднять с земли свое орудие производства.
Он поглядел на меня с изумлением и печалью.
Не дожидаясь ответа, я повернулся и стал спускаться с холма так быстро, как только может человек, потерявший очки. У подножия холма я остановился и поглядел вверх и по сторонам. Все слилось в темную дымку. Да и сам старик вполне мог быть всего лишь призраком.
7
Подойдя к дому, я увидел, что Луи моет машину. Он подогнал ее к дверям кухни и поливал из шланга. В грязи возле него крякали и гоготали утки и гуси.
— Ты что, не понимаешь, как сейчас плохо с водой? — разозлился я. — Здесь не город, водопровода нет.
— Доброе утро, папа.
— Доброе утро. Ты слышал, что я сказал?
— Да, хорошо. — Он подошел к цистерне и закрыл кран. — Я же хотел…
— Беда в том, что ты никогда не думаешь о других, — сердито продолжал я. — Берешься за все с бухты-барахты.
— Откуда мне было знать?
— Если бы ты потрудился посмотреть по сторонам, то увидел бы какая стоит засуха.
— Я ведь закрыл кран.
Сняв с плеча кусок замши, он принялся протирать «мерседес». Мне не понравилось его собственническое отношение к моей машине.
— Как машина попала на задний двор?
— Я пригнал ее, а как же еще?
— А если бы ты врезался в ворота?
— Я же не врезался.
— Ну, а если бы…
— О господи, папа, ведь это всего лишь машина, а не женщина или что-нибудь такое…
— Думай, прежде чем говорить!
— Пора тебе понять, что я уже не ребенок.
— Ведешь ты себя как ребенок. У тебя нет ни малейшего чувства ответственности.
Он не ответил, но я заметил, как заходили желваки у него на лице.
— Дома целыми днями валяешься, пальцем не шевельнешь. Думаешь, мы вечно будем терпеть это? С какой стати?
Из-за сверкающей светло-серой машины он с улыбкой и, как мне показалось, презрительно поглядел на меня.
— Не один ты побывал на войне, — бросил я ему.
— А что ты вообще знаешь о войне? — с косой усмешкой спросил он.
— Это не. имеет отношения к нашему разговору.
— Если б ты знал…
— Сотни, тысячи молодых парней тоже были в Анголе. И не вздумай уверять меня, что все они вернулись оттуда такими же разочарованными бездельниками.
Мне следовало остановиться, пока не поздно. Если уже не было поздно. Я все разрушал. Я взял его с собой, чтобы как-то пробиться к нему, а теперь сам все губил лишь оттого, что был выведен из себя упрямством матери, поломкой очков и бессмысленным обрядом старого шута, искавшего уже ненужную нам теперь воду. Все эти месяцы после возвращения Луи мы старались относиться к нему терпеливо и с пониманием: он пережил какое-то потрясение и надо было помочь ему вернуться к жизни, чего бы нам это ни стоило. Уже не раз я готов был взорваться, но ради Элизы и Ильзы сдерживал себя. Но сейчас мое терпение лопнуло. К черту. Я и сам недавно был на волосок от смерти и не меньше его нуждаюсь в чуткости и внимании.
— Другие солдаты, вернувшись домой, вновь стали полезными гражданами. Но конечно, не ты.
— А чего ради мне становиться полезным гражданином этой чертовой страны? — взбешенно спросил он.
— Нечего чертыхаться, — холодно заметил я.
— Хочу и чертыхаюсь. Ты тоже несешь ответственность за тот бардак, что творится у нас.
— Ну уж нет. И ради бога, не предъявляй мне этого наивного обвинения.
— Я говорю обо всем твоем поколении!
— Ия тоже. Не перекладывай с больной головы на здоровую.
— Я не просил отправлять меня в Анголу!
Его агрессивность вернула мне чувство уверенного превосходства.
— Послушай, Луи, я всегда считал эти дела с Анголой сплошным идиотизмом. Нам нечего было лезть туда. Это не наше дело. Тут я с тобой согласен. Но как бы то ни было, мы оказались вовлечены в это. А когда попадаешь в такую мясорубку, единственный выход — выстоять. Пытаться переждать в стороне бессмысленно.
— А я и не пытался. Я воевал, — гневно возразил он. — Но тебе легко говорить. А когда сам попадаешь в это месиво, поневоле начинаешь задумываться, почему так случилось. Начинаешь задумываться, за что воюешь, во имя чего убиваешь и во имя чего убьют тебя. Кому охота, чтобы его голова разлетелась на куски только ради того, чтобы это дерьмовое государство не пошатнулось.
— То, что ты называешь дерьмовым государством, — твоя родина. Твоя страна. Чем бы ты был без нее?
— Не ораторствуй, отец. Мы не на митинге.
— Луи!
Я чуть было не ударил его. Думаю, что хорошая порка пошла бы ему только на пользу. Но даже ослепленный яростью, я понимал, что он вполне способен оказать сопротивление и не известно, чем бы это закончилось для меня (мое сердце). В бессильном гневе я глядел на него. Впервые в жизни я вынужден был признать, что не имею над ним физического превосходства. Мне стоило большого труда взять себя в руки.
— Если тебе не нравится наша страна, — заговорил я как можно спокойнее, — ты можешь покинуть ее и поискать лучшую. А не просиживать штаны, ничего не делая.
— А что бывает с теми, кто пытается не сменить страну, а изменить положение дел в ней? Что стало с Бернардом?
— Хватит о нем! Не впутывай его в наш разговор!
— Почему же? Он здесь весьма к месту.
— Нет никакой необходимости провоцировать конфликты, как делал он. Есть и другие методы.
— Выборы? Расшатывание устоев изнутри? Неужели ты еще веришь, что в наше время можно чего-нибудь этим добиться?
— Этим всегда можно добиться многого. — Я полностью восстановил контроль и над собой, и над ситуацией. — Я знаю, как воспринимаешь мир смолоду. Было время, Луи, когда и у меня возникали подобные мысли.
— Ну, и что ты делал?
— Я говорю тебе: есть много других путей. Там, в Анголе, ты ведь и сам понял, к чему приводит насилие. Верно? Вы оставили после себя еще худший ад, чем был до того.
— Отец, я спрашиваю не об этом.
— А я не уверен, что тебе в самом деле нужен мой ответ.
— Ты не понимаешь, о чем я говорю?
Я спокойно глядел на него, чувствуя, что уже вполне владею собой.
— Домывай машину, — бросил я ему и пошел прочь.
— Что с твоими очками? — неожиданно окликнул он меня.
Я резко обернулся, но уже не смог разглядеть выражение его лица. Я так и не понял: хотел он продолжить перепалку или помириться со мной.
— Сломались, — коротко ответил я.
— А как же ты поведешь машину?
— Ничего, как-нибудь.
— Но ты ведь без них почти ничего не видишь.
— Чепуха, я все прекрасно вижу. А кому еще ее вести?
— Могу я.
Я поглядел на его туманную фигуру за сверкающим контуром «мерседеса» и, ничего не ответив, пошел к двери.
Несколько чернокожих еще сидели у парадного входа, дожидаясь своей очереди. Я нерешительно подошел ближе, и они расступились, пропуская меня. Пахло от них ужасно, но мать, казалось, ничего не замечала. Она занималась со своими пациентами, расспрашивала и осматривала их, пускаясь в долгие беседы на коса, которые я понимал с трудом. Я принялся помогать ей, подавая медикаменты из шкафа в углу комнаты: порошки, таблетки, пилюли, средства от поноса и судорог, микстуру против кашля, пластырь, а время от времени ампулы и шприц.
— По-моему, это отнимает у тебя целое утро, — заметил я чуть погодя.
— Да, их с каждым разом все больше.
— Плодятся как микробы.
— Из-за этого я веду с ними настоящую войну. Через неделю опять соберу женщин для уколов. Таблетки давать им бесполезно. Они или просто выбрасывают их, или, наоборот, складывают в мешочек и носят его на шее как талисман.
— Здесь нужно более кардинальное решение.
— Вся загвоздка в мужчинах. Они считают позором, если у жены нет кучи детей. Вот и запрещают им любые средства. Из-за этого уже не раз чуть до убийства не доходило.
Конечно, противозачаточными средствами проблему не решишь. Мать подходила к этому вопросу не с той стороны. Дело было в уровне их жизни. В отсутствии у них чувства ответственности. Да и откуда ему взяться у тех, кто живет за счет моей матушки на ферме? Нужно начать жить в собственном доме, медленно, но неуклонно повышая жизненный уровень, — сколько же раз повторять одно и то же.
Меня раздражало обилие черных тел и тупых лиц вокруг нас.
— Давай-ка попьем чаю, — предложил я. — Тебе надо передохнуть.
— Я не устала.
Но когда я вышел, она последовала за мной, велев терпеливому человеческому стаду ждать ее.
Я пошел мыть руки, даже одежда казалась мне грязной. Но мать отправилась прямо на кухню. Кристина сняла с плиты котел с кипящим чаем.
— А что Луи? — спросила мать.
— Пусть Кристина отнесет ему. Не думаю, чтобы он захотел пить вместе с нами.
— Почему?
Я пожал плечами.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего особенного. Мы немного повздорили.
— Из-за чего?
— Он понапрасну тратил воду. — Я поднес чашку ко рту. — Кажется, я несколько перенапряжен. А волноваться мне сейчас вредно. — (Нечестный ход, не спорю, но пора было переходить к делу.)
— А о чем тебе волноваться?
— Да все из-за фермы. Я так переживаю, а это, конечно, плохо для сердца. Пока ты не согласишься…
— Чего зря переживать? Мы ведь уже обо всем поговорили утром. Больше вроде бы и говорить не о чем.
— Ты прекрасно понимаешь, что мы не можем на этом закончить.
Она глотнула горячий чай и не подняла глаз, пока не допила всю чашку.
— А что думает по этому поводу Тео?
Неужели она что-то знала о нашем разговоре с Тео во время болезни отца? Не побывал ли он у нее тайком от меня? По ее лицу ни о чем нельзя было догадаться.
— Я не обсуждал с ним этого, — сказал я как можно равнодушнее.
— Его мнение тоже имеет значение.
— Тео тут ни при чем. Ты же знаешь, его не интересует ничего, кроме сноса старых домов, постройки новых небоскребов и денег.
— Он твой брат.
— Но отец завещал ферму мне. Это дело касается только нас с тобой.
Она пожала плечами.
Я понимал, что нужно сдерживаться и не выходить из себя, как случилось в споре с Луи. Обстоятельства начали складываться невыигрышно для меня, а если еще и мать рассердится, все будет проиграно. Я молча допивал чай, руки у меня дрожали.
Давай действуй, внушал я себе. Ты привык решать деликатные вопросы. Ты знаешь все правила игры и даже умеешь вовремя изменить их по своему усмотрению. В «Финансовой почте» тебя особо отмечали как умелого и талантливого предпринимателя. Ты знаешь, когда нужно отступить и сделать вид, что выложил все карты, оставив, однако, последний козырь про запас, в рукаве. Сложность заключалась в том, что мои деловые способности не имели того эффекта в рамках семьи. Вступая в отношения с посторонними, я мог оставаться холодным и рассудочным, для матери же требовались не доводы разума, а чувство. Не только потому, что она знала меня слишком хорошо и могла предугадать логику моих действий, но и потому, что по самой природе наших отношений мне следовало постоянно демонстрировать ей глубочайшее почтение к ее мнению, сколь бы противным моему оно ни было. А после болезни я стал куда более нервным и несдержанным, чем раньше.
— Теперь все в твоих руках, — сказал я, ставя на стол пустую чашку. — Согласившись продать ферму сейчас, мы сохраним за собой инициативу и получим хорошую прибыль. А затянув дело, упустим шанс и понесем колоссальные убытки.
— Мне пора к больным, — сказала она. — Они меня ждут.
Я промолчал.
Выходя из кухни, она сказала:
— Может быть, ты съездишь вместо меня в лавку к старому Лоренсу? Нужно забрать почту. И отвезти им яйца. Кристина даст их тебе.
Я не был уверен, что это так срочно и необходимо. Скорее всего, она просто хотела замять возникшую неловкость или сохранить за собой последнее слово.
— Хорошо, мама. Допью чай и поеду.
В игре за независимость теперь был мой ход, и я налил себе еще чашку.
— Возьми мой фургон. Ключ в кабине, — Она вышла.
Пока я стоял во дворе с корзиной яиц, появился Луи из гаража, куда он перегнал «мерседес». Он остановился, словно ожидая чего-то.
— Я еду в лавку, — сказал я, изо всех сил стараясь держаться дружелюбно. — Хочешь со мной?
— Но ведь я только что вымыл машину.
— Мы поедем в фургоне.
— Ты же не можешь вести без очков. Я поведу, ладно?
— Я пока еще не инвалид.
Как ему удавалось каждый раз сказать именно то, что мгновенно выводило меня из себя?
Он на секунду заколебался, затем покачал головой.
— Нет, я лучше займусь движком. — Он махнул рукой в сторону нашей маленькой электростанции.
Я не стал возражать. Уже то, что он по собственной инициативе решил заняться чем-то, было весьма приятно. Возможно, наша перепалка все-таки пошла ему на пользу.
Мотор фургона пришлось прогреть. Пока я вел машину по холму, мотор барахлил и два раза заглох. Я посмотрел в зеркало заднего обзора, но не смог разглядеть, следит ли за мной Луи. С ревом машина снова рванулась вперед, буксуя задними колесами по крупному гравию. Узкая дорога круто вилась между серыми эвфорбиями и ярко-красными пятнами алоэ. Руль приходилось крепко держать обеими руками, чтобы старая колымага не полетела в канаву. Пожалуй, все же следовало поехать вместе с Луи, но теперь уже поздно было возвращаться.
После того как я выехал на плоское плато, вести машину стало легче. Когда я подъехал к воротам, несколько оборванцев кинулись открывать их. Один был одет в то, что раньше, вероятно, служило пиджаком его отцу. Рукава волочились по земле, штанов на нем вообще не было. Двое других были в разодранных свитерах, ничуть не прикрывавших тела, и в огромных трусах до колен. Четвертый был совершенно гол и пепельно-сер от холода. Пока те трое возились с воротами, он стоял в стороне, слизывая с верхней губы сопли и глотая их и, конечно же, протягивая ко мне руку.
— Цент, баас! Цент, баас! — ныл он без особого, впрочем, усердия.
Я отпихнул его ногой. Совсем не из отвращения. Но что толку давать ему деньги? Он или купит на них сладостей, которые сейчас ему нужны менее всего, или отдаст отцу на выпивку. Но главное — я хочу еще раз подчеркнуть свою точку зрения, — здоровую нацию не построишь на принципе нищенства и подаяния. Мы лишь укрепим уверенность чернокожих в том, что для получения желаемой вещи нужно просто попросить ее у белых, не прилагая при этом никаких усилий. И тем самым лишим их побудительных импульсов к достижению чего бы то ни было. Не может быть двух мнений о том, что человек по своей сути животное, склонное к соревнованию. Награда ни за что столь же пагубна, как и работа без вознаграждения. (Я повторяюсь, но эта мысль чрезвычайно важна.)
Я заявляю совершенно определенно, что не имею ничего против передачи чернокожим тех или иных ответственных постов при условии, если они заслужат это право не одним только цветом кожи. На данной стадии их развития ответственный пост означает, в частности, и возможность подняться на более высокий уровень жизни. Однако чересчур спешить тут тоже не следует. В горном деле я сталкиваюсь с этой проблемой ежедневно: бесполезно ждать математического мышления от человека, не знающего, что такое прямой угол. Я не покупаю современный дорогостоящий бульдозер просто потому, что при первой же неполадке водитель потеряет голову. Надо начинать с элементарных знаний и с элементарной ответственности. И прежде всего в их собственных регионах и в однородном окружении.
Как признают мои рабочие, я хорошо плачу им за хорошую работу. Они мои служащие, и я несу за них ответственность. Но сентиментальная благотворительность есть не что иное, как экономическая близорукость. Надеюсь, я высказался достаточно ясно.
Зимнее солнце уже чуть-чуть пригревало, но худосочная блеклая трава дрожала на ветру. По дороге я опять подумал о матери. Ей придется стиснуть зубы и покориться неизбежному. Одна из причин ее упорного сопротивления — это, конечно, нежелание жить у меня или у Тео. Но не можем же мы допустить, чтобы она отправилась в приют для престарелых. Человек должен помнить о своих обязательствах по отношению к родителям. К тому же Элиза почувствует себя свободнее, зная, что мать всегда присмотрит за хозяйством, слугами и собаками.
Если б только мать и Элиза были в лучших отношениях. С самого начала между ними кошка пробежала: ничего особенного, просто обычное напряжение, которое возникает между двумя женщинами с сильными характерами, понимающими, что им предстоит делить любовь одного мужчины. Тем более, если одна из них привыкла за двадцать с лишним лет считать его своим и не склонна уступать без боя юной и неопытной девице.
Когда я впервые привез Элизу к своим родителям в июльские каникулы после нашей встречи на ферме у Бернарда, мать держалась чрезвычайно сердечно и дружелюбно. Элиза, несомненно, самая милая, хорошенькая и воспитанная девушка изо всех, с кем она меня видела. Но с того момента, как прозвучало слово «брак», начались нелады. Ничего из ряда вон выходящего. Мать всегда гордилась своей интуицией и тактом, хотя это был такт слепца, задевающего прохожих палкой. Мать отнюдь не возражала против брака, пока перспектива его была далека и туманна. Но как только была объявлена дата, она начала свою яростную «тактичную» кампанию: «Знаешь, Элиза, больше всего мне нравится в тебе, что ты такая разумная. Другие девицы ни о чем, кроме замужества и думать не могут, но я вижу, что ты не собираешься поступать столь же безрассудно. Ты ведь уважаешь стремление Мартина сперва добиться чего-нибудь в жизни. Я вижу, что ты его действительно любишь и не станешь слишком рано садиться ему на шею». И прочее в том же духе.
Прожив несколько месяцев в Лондоне, я уговорил Элизу приехать туда. Не то чтобы у меня плохо обстояли дела с англичанками (как раз наоборот), но я боялся, что в мое отсутствие намерения Бернарда могут измениться. И я не сомневался в том, что Элиза выйдет за него, не задумываясь. Несмотря на предложение, сделанное мною на пасху, несмотря на проведенные вместе ночи, несмотря на дерзновенные планы на будущее, я чувствовал, что все еще не укротил ее. Один уголок ее души по-прежнему оставался заповедным. Для Бернарда. И я понимал это. Но мне хотелось завоевать и его. Как можно сжимать женщину в объятиях, зная, что перед ее мысленным взором всплывает не твое лицо? Итак, я настоял, чтобы она приехала ко мне. Когда она окажется в Лондоне, мне будет проще выиграть кампанию и не отпустить ее домой, не обвенчавшись с ней.
Ее родители были не очень довольны, считая, что в двадцать один год рановато выходить замуж, но в конце концов согласились и приехали в Лондон, где ее отец и обвенчал нас в посольстве. Но затруднения в отношениях с моей матерью остались. Не у меня (после первых, полных упреков писем она признала со свойственной ей прямотой: «Это твое дело, сынок, сам решай, как тебе лучше»), а у Элизы. Мать продолжала свое «тактичное» наступление, весьма опечалившее меня, когда три года спустя Элиза показала наконец мне ее письма: ничего оскорбительного, резкого или сварливого, просто бесконечный поток «тактичных» напоминаний о том, как легко погубить карьеру молодого человека, слишком рано связав его по рукам и ногам, и так далее. («Я знаю своего сына. Знаю, что он глубоко любит тебя и что ты его любишь. Но я знаю и то, что он из породы людей, которые бывают ослеплены любовью, поэтому именно тебе придется не терять головы и помогать ему поступать так, как будет лучше для вас обоих».)
Разумеется, поняв, насколько серьезны наши отношения, мать смирилась. Но и по возвращении из Англии постоянно ощущались подводные течения взаимоисключающих интересов. Простые намеки выводили Элизу из себя, особенно во время беременности. Например, мать приходила посмотреть, как она стряпает обед: «Ты готовишь боботи без изюма? Я всегда добавляю изюм. Мартин его очень любит». Наблюдая, как Элиза вяжет, вышивает или лепит, мать говорила: «Ты такая искусница, Элиза. Понятно, почему ты предпочитаешь не тратить много времени на уборку и готовку».
Рождение Луи привело к первому конфликту. Я пригласил тещу пожить у нас, но она незадолго перед этим заболела, и я попросил мать заменить ее, что оказалось весьма кстати, учитывая состояние Элизы после родов. Я просто не знаю, что было бы с ребенком без ее помощи. Мне уже тогда приходилось часто задерживаться на службе. Но мать чересчур засучила рукава и совершенно перестроила весь наш домашний уклад. Элиза, слишком слабая, чтобы обращать на это внимание, покорилась без слов. Но затем мать захотела заполучить в свои руки и ребенка. Объяснив Элизе, что ей необходимо по ночам спать, она перевела младенца к себе в комнату. Кормила его, следуя строжайшим предписаниям поры моего собственного младенчества. «Нельзя кормить ребенка каждый раз, когда он плачет. Это перегружает желудок. Еще хуже, это балует его. Надо с самого начала приучить его к четырехчасовым интервалам».
В своем изможденном состоянии Элиза была тогда куда ранимее, чем обычно. Так или иначе, однажды, когда мать в очередной раз настаивала на том, чтобы младенец наплакался в колыбели до времени кормления, Элиза встала с постели, подошла к шкафу и начала складывать одежду в чемодан. Я прекрасно представляю себе эту сцену.
— Что ты делаешь, Элиза?
— Собираю вещи. Я ухожу отсюда.
— Что это на тебя нашло?
— Вы ведь во всем разбираетесь лучше меня, верно? Вот и прекрасно. Забирайте моего сына и делайте с ним, что хотите. А я ухожу. Сыта по горло. Я здесь лишняя.
Мне пришлось сломя голову мчаться домой из конторы, чтобы помирить их. Для поддержания мира я — хотя втайне и упрекая Элизу — вынужден был на следующий день отправить мать на ферму и заменить ее платной няней. Именно тогда Элиза, находясь на грани нервного срыва, показала мне старые письма, выговорив все, что накипело у нее на душе. Я, как мог, старался убедить ее, что матерью руководили наилучшие побуждения, но она была не в том состоянии, чтобы внять голосу разума.
С годами скандал забылся, эмоции поостыли, Элиза стала взрослее, и, хотя в их отношениях навсегда сохранилась некая натужная предупредительность и строгое разграничение сфер влияния, они все же научились ладить друг с другом. Именно поэтому в тот уикенд я все-таки надеялся, что, позабыв о прошлом, мать согласится переехать к нам.
Зато с моим отцом Элиза подружилась буквально с первого же дня. Думаю, что это дало матери еще один повод невзлюбить ее. Слишком гордая, чтобы хоть как-то выказать свои чувства, она, конечно, ревновала отца к Элизе, которая понимала его куда лучше, чем она сама. В первый день нашего приезда на ферму отец, как обычно, держался несколько отчужденно, при малейшей возможности удаляясь в свою пристройку. В полдень, помогая матери по хозяйству, я заметил, как Элиза направилась в сторону маслобойни, а час спустя нигде не мог ее найти. Кто-то из работников сказал, что видел, как она входила в отцовскую пристройку. У меня сердце упало, я слишком хорошо знал, что его кабинет — святилище, куда никто не имеет права входить. Он, разумеется, никого не прогонял, но человек, посягнувший на его уединение, был навсегда вычеркнут из его сердца. Отец умел тактично, но последовательно уклоняться от общения с неприятными ему людьми.
Решившись наконец заглянуть в окно, я был совершенно потрясен увиденным. С той же целомудренной бесстыдностью, как в тот воскресный день на плотине, Элиза сидела на столе среди стопок книг и бумаг, болтая ногами, а отец что-то говорил. Не часто удавалось заставить его разговориться, но, когда это случалось, остановить его было просто невозможно. Все наше семейство давно привыкло с некоторым огорчением переключаться на собственные мысли, если он пускался в очередное бесконечное рассуждение на излюбленную тему. А у Элизы было общее с Бернардом свойство слушать чужой рассказ с восторженным вниманием, давая говорящему понять, что его слова — самое интересное, что им доводилось в жизни слышать. И это отнюдь не было притворством. Ее действительно увлекали отцовские рассуждения.
В последующие дни я часто не без труда извлекал ее из отцовской пристройки. Проходя мимо, я нередко слышал их смех. А когда отец уже настолько разошелся, что решил ставить новый стеллаж — замысел, откладывавшийся многие годы, — Элиза не только поддержала его, но и принялась активно помогать. Она более умело, чем он, обращалась с пилой и рубанком, что всегда удивляло меня. Те полки, что он сам изготовил много лет назад, были уродливы и грозили в любой момент рухнуть. Элиза позаботилась, чтобы новые были надежно скреплены и привинчены, и вдвоем они смастерили стеллаж на славу. Я никогда не видел отца столь откровенно счастливым, как в те дни, когда Элиза была на ферме.
Помню, как вскоре после нашего первого визита на ферму она неожиданно сказала мне:
— Знаешь, твой отец настоящее сокровище.
Я добродушно ухмыльнулся, как любой в нашей семье, когда с ним заговаривали об отце.
— Он просто милый старый болтун. К нему быстро привыкаешь.
Она долго и внимательно смотрела на меня, словно была поражена и оскорблена моим ответом, и наконец сказала:
— По-моему, ты не понимаешь его. Он весьма примечательная личность.
После рождения детей Элиза помогла нам всем открыть в отце еще одну привлекательную черту — ибо я убежден, что он с ними возился только ради нее. Он проводил с детьми долгие часы, рассказывая им всякие истории, таская их на спине, мастеря для них игрушки. И хотя ни разу в жизни ему не удалось вбить гвоздь, не поранив пальцы, он делал им маленькие машинки из консервных банок, крошечные тракторы из пустых катушек и свечного воска, дома из спичечных коробков и лепил из глины коров, быков, свиней, которых Элиза потом обжигала в своей печи. Он всегда чрезвычайно интересовался всеми ее увлечениями. В период вязания он снабжал ее мохером — в то время он как раз занялся разведением ангорских коз, которые вскоре погибли в холодную зиму. Когда ей взбрело в голову заняться гончарным делом, он пригнал с фермы полный фургон глины и помог очистить и размять ее. Порой он ночь напролет поддерживал огонь в печи для обжига глины или целый день жег дрова, чтобы набрать пепел для глазури. Смущаясь и робея, он дарил ей новые инструменты, глиномеситель, просеиватель и прочее. Чаще всего его подношения оказывались излишними или ни на что не годными, но Элиза всегда встречала их с огромной радостью, и, хохоча, они сообща тут же пробовали пристроить их к делу.
Стоит ли удивляться, что его смерть была для нее таким ударом и что ее так опечалило мое запоздалое появление, не позволившее нам проститься с отцом. Мне кажется, что вместе с ним что-то умерло в наших отношениях. Общаясь с ним, она словно прикасалась к чему-то ускользающему и непонятному ей во мне. Потеря оказалась невосполнимой. И как теперь мне представляется — роковой.
* * *
Лавка Лоренсов была неказистым домиком прямо у грязной дороги за развилкой (сейчас, в лондонском отеле, я вижу все до мельчайших подробностей). У боковой стены две бензоколонки и телефонная будка с выбитыми стеклами. Над крыльцом огромная реклама чая «Джокко». Когда-то давно и само крыльцо приспособили под ящики с овощами и мясом, консервами и прочими товарами, вокруг которых постоянно крутились черномазые, но потом, опасаясь воров, все снова втащили внутрь. Помещение, тускло освещаемое голой, запыленной двадцатипятисвечевой лампочкой, было битком набито товарами, наваленными на прилавках, на полках и прямо на полу. Рулоны немецкого обивочного ситца, ящики с фасолью и маисовой крупой, сушеный табачный лист, велосипеды, транзисторы, кофе, мыло, кожаные ремни и жир для смазывания кожи, чай, прохладительные напитки, нюхательный табак и сигареты, медикаменты (таблетки и бутылочки, хорошо знакомые мне по амбулатории матери), специальный отдел дамского платья с несколькими парами старомодных ярких женских бриджей, свисавших с гвоздя, стопка старых выкроек, шерсть для вязания, иглы и спицы — далее все терялось в глубине полутемного помещения. Здесь, в этой самой полутьме, за ящиками с кофе и мылом я подростком обнимался с дочкой Лоренса, пока ее отец, равнодушный ко всему на свете, стоял, читая «Диспэч», в дальнем конце прилавка. Однажды дело зашло так далеко, что мы не смогли отыскать ее трусики в кучах тамошнего хлама, и тогда она, с полным пониманием дела одернув яркий, цветастый подол мятого платьица, незаметно выскользнула из лавки, а я еще некоторое время оставался в темноте, пока мое возбуждение не улеглось. Страстная возня в полутьме, шорох мышей под полом, запах пряностей и ваксы, пыль, теплое дыхание, когда она шептала мокрыми губами что-то мне в ухо, запах ее тела — все это вдруг вернулось ко мне через годы и континенты. Милая, милая Кэти!
Миссис Лоренс занималась с несколькими чернокожими женщинами в огромных шалях, передававшими друг другу кусок ткани. Они долго ощупывали и разглядывали его, затем наконец сняли свои высокие тюрбаны, размотали их и вытащили оттуда маленькие пачечки мятых денег. После совершения покупки тюрбаны снова туго завязывались вокруг головы, и новое приобретение совершалось с тем же утомительным церемониалом.
Я поздоровался с миссис Лоренс, и мы немного поболтали. Она взяла у меня яйца, которые каким-то образом входили в запутанные деловые отношения между ней и матерью, и передала мне почту: несколько счетов, извещение «Ридерс-дайджест» («Ваш лотерейный купон вложен»), журналы по сельскому хозяйству, письмо авиапочтой из Претории, вероятно от жены Тео.
— Как дела? — машинально спросил я.
— Ох, спасибо, ничего. — Миссис Лоренс была тощей уродливой женщиной с громадным крючковатым носом и пронзительным взглядом мартышки. Я никогда не мог понять, каким образом ей удалось породить хорошенькую и веселую Кэти. — Вы, наверное, слышали, что мы продаем ферму?
— Да, мать сказала мне. Засуха действительно ужасная.
— Не только из-за этого. Мы стареем, и хочется быть поближе к детям. Кэти и Дуг теперь живут в Кейптауне.
— Не следовало мне отпускать Кэти так далеко, — пошутил я, улыбаясь и подмигивая. Еще два года назад я нередко видел ее по праздникам, когда она играла в теннис у себя на ферме или загорала; у нее был приятный муж, похожий на коммивояжера; однажды под Новый год, когда мы все несколько перепили, мы с ней изчезли за сараями, чтобы после долгого перерыва вспомнить забавы нашего отрочества.
— А Дуг не хочет взять ферму в свои руки?
Бессмысленный вопрос. Как однажды выразилась мать:
«Бедный Дуг. Господь даровал ему лишь один талант — игрока в регби. А теперь он для этого стар, у него болит спина, и ему остается только пить». В наивысший момент своей карьеры он чуть было не попал в команду Спрингбока. А теперь старику Лоренсу регулярно приходится вызволять его из кутузки.
— Жить здесь стало не просто, Мартин, — призналась миссис Лоренс, — Вы же знаете, я люблю работать в лавке. Мы всегда прекрасно ладили с черномазыми. Ну конечно, случалось, что они побузят или что-нибудь такое, но в общем свое место знали. А теперь они так обнаглели, что просто голову теряешь. Мне пришлось купить оружие и держать его на всякий случай в лавке. — Она открыла ящик и показала пистолет. — Хлопот с ними теперь не оберешься. Они чувствуют себя слишком белыми, так я это называю.
— Мне пора, миссис Лоренс. До свидания. Передайте привет Кэти, когда будете писать ей. — И для приличия добавил: — И Дугу тоже.
* * *
Я ехал обратно, сощурив глаза, чтобы лучше видеть; маленький фургон подпрыгивал и плясал по паршивой дороге, оставляя позади облака пыли. Наконец я въехал на плато и затормозил у ворот. Оборванцы уже готовы были подбежать, но, разглядев меня, в нерешительности остановились, хорошо помня, что в прошлый раз я не дал им денег. Я громко просигналил. Они продолжали о чем-то совещаться. Наконец я открыл дверцу, и это решило их сомнения.
Миссис Лоренс права, подумал я. Они чересчур обнаглели, даже такие маленькие сорванцы. Я бросил им горсть монет и с улыбкой глядел, как они дерутся и катаются в пыли, деля добычу. Я не подал им милостыню, а просто поблагодарил за маленькую услугу, оказанную на этот раз без всякого требования награды.
Напрягая зрение, я разглядывал глубокие, ржавого цвета трещины по обе стороны дороги. Если засуха продлится, у матери не останется другого выхода, как уехать отсюда. Не только у нее, но и у всех здешних фермеров. Казалось, засуха взялась избавить землю от нас. Кроме купли и продажи, экономики и политики, белой и черной расы есть еще сама земля, и в такие времена, как нынче, становится ясно, что она терпит нас только из-за своей снисходительности.
Неприятно было думать о том, как просто с нами управиться. Когда, завершив учение в Стелленбосе, я покидал дом тетушки Ринни, мне понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать вещи и привести в порядок комнату. Тот, кто поселился в этой комнате после меня, наверняка так никогда и не узнал о моем существовании — настолько тщательно я уничтожил все следы своего пребывания там. То же самое было в Лондоне, когда мы с Элизой покинули квартиру, отправляясь домой после Двухлетнего пребывания в Англии. Два года нашей жизни протекли в этой крошечной квартирке, но уже в день отъезда, когда вещи были собраны и унесены, от нас там буквально ничего не осталось. Насколько же страшнее все это будет, когда однажды сама земля возьмется стирать следы нашего присутствия на ней. Никто не знает, когда это может случиться. Самое неприятное в том, что все это, возможно, уже давным-давно, миллионы лет назад, предопределено в самой земной коре. Ведь, к примеру, падучую звезду мы видим лишь вечность спустя, после того как она сгорела.
Два года назад на шахте возле Карлтонвилла случилась авария: во время работ затронули какой-то пласт и рухнула скала; ошибка геологов всего, может быть, на микрон привела к катастрофе, уничтожившей всю шахту. Катаклизм, предуготованный миллионы лет назад, который, разумеется, нельзя было предугадать (эту мысль высказывал еще Кальвин). Когда мы поняли, что, собственно, произошло, земля уже тряслась, опоры рушились, своды в штольнях обваливались. Было погребено заживо более двухсот человек, четверо из них — белые. Никогда не забуду этого зрелища. Толпа в туче красной пыли, четыре белые женщины, коленопреклоненные в молитве, сотни черных женщин, стоящих с другой стороны, сперва в гробовом молчании, а затем с горестными завываниями, не смолкавшими всю ночь. Прожекторы, бульдозеры и краны, женщины, разносящие кофе. Прибыла даже Армия спасения и организовала два молитвенных собрания — для белых и для черных отдельно. Маленький хор мужественно пел на пронизывающем ветру, щеки стариков, дувших в трубы, покраснели от холода. И журналисты. Бесчисленные интервью с четырьмя белыми женщинами. Когда из земли наконец были извлечены около тридцати трупов — все чернокожие, — работы по спасению прекратили. Остальные остались лежать под тоннами камня и праха. Продолжать раскопки было бессмысленно и чрезвычайно опасно. Шахту пришлось списать в расход. Потеря нескольких сотен тысяч.
Подъезжая к дому, я подумал: когда это повторится снова, теперь уже с нами со всеми? Когда земля решит окончательно избавиться от нас, подобно собаке, стряхивающей с себя блох?
Я расстроился. Пора было образумить мать. Ферма уже ни на что не годилась.
Сколько времени уйдет на сборы? Самое большее неделя. И останутся только могилы.
На заднем дворе я увидел старого водоискателя и его помощника, грузившего в пикап свой сундучок. К несчастью, я прибыл как раз вовремя, чтобы еще раз пожать вялую липкую руку мистера Шольца.
— Нашли воду? — насмешливо спросил я.
— Да, — ответил он по-прежнему угрюмо, словно упрекая меня. — Да, как я и думал. Течет как раз здесь, под домом. — На секунду в его безжизненных глазах вспыхнули злорадные огоньки. — Но очень глубоко. И твердый камень. Почти невозможно к ней пробиться.
8
Обед начался довольно мирно, даже с некоторым дружелюбным юмором. Но подводные течения ощущались весьма отчетливо. Мы доплыли уже до середины субботы, а мать все еще упрямилась. Вероятно, мне следовало надавить на нее раньше и посильнее. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы церемониться. И все же нужно выбрать подходящий момент, иначе все будет проиграно.
Я заметил, что Луи сел за стол с перепачканными маслом руками, но, встретившись с молчаливым предостережением в глазах матери, ничего не сказал ему, хотя не сомневался, что он сделал это нарочно. То ли на него подействовало мое молчание, то ли он чувствовал себя виноватым за утреннюю сцену, а может, возня с движком успокоила его, но, так или иначе, он был расслаблен и дружелюбен, таким я его уже давно не видел.
— Как ты думаешь, Луи, тебе удастся починить движок? — спросила мать, передавая ему полную тарелку.
— Не знаю, бабушка. Его придется полностью перебрать. Но думаю, все будет в порядке. Просто нужно хорошенько смазать.
— А не прислать ли тебе кого-нибудь в помощь?
— Хорошо бы.
— Я скажу Мандизи. Сегодня суббота и до вечернего доения он не занят.
— А разве у него это не свободное время?
— Да, но приработок ему будет весьма кстати.
Она позвала Кристину и передала ей распоряжение Для Мандизи.
— Я заметил, что некоторые мальчишки разгуливают совсем нагишом, — сказал я, когда Кристина вышла.
— Ничего не могу с ними поделать, — вздохнула мать. — Я раздаю их родителям старые вещи, а они выменивают их на выпивку. Что тут скажешь? Я делаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить их мясной пищей и одеждой, но буквально каждый месяц неизвестно откуда появляются новые бродяги, и их становится все больше.
Этого момента я и ждал.
— А стоит ли тратить на них силы? Дела с каждым днем идут все хуже и хуже. Скажи честно, не лучше ли расстаться с фермой, пока это еще можно сделать, не роняя собственного достоинства?
— Разве бегством можно решить проблему?
— Это не бегство. Просто разумная оценка обстоятельств.
— Ты сегодня настырен, сынок.
— А ты не хочешь ничего понимать.
— Я все прекрасно понимаю, но я не хочу продавать ферму.
— Что это за разговоры о продаже фермы? — спросил Луи.
— Твой отец хочет продать нашу ферму.
— В первый раз слышу, — с удивлением сказал он.
— Если бы ты чаще бывал дома, то давно бы уже услышал, — холодно заметил я, раздосадованный его вмешательством. — Тебя целыми днями не видно.
— А когда видно, то ты велишь, чтобы меня не было слышно.
Я не желал вновь попадаться на его удочку. И, обращаясь только к матери, спросил:
— Ну, а ты можешь привести хоть один разумный довод против продажи?
— Я тебе уже говорила. Здесь похоронен твой отец.
— Послушай, мама. — Я знал, что сейчас нужно выбирать слова особенно осторожно, но говорить следует весьма жестко. — Отец мертв. А нам нужно жить, вернее, выжить. Что такое могила, если подумать серьезно? Яма и горсть костей.
На мгновение стало совсем тихо. Было слышно, как на кухне моют посуду.
— Нельзя же перемолоть все кости на удобрение, — сказала мать. Она подняла на меня глаза: — В кого мы превратимся, если будем бросать кости наших ближних? Это все равно, что отказаться от своей родины. Это гордыня того рода, за которую господь низвергает в ад.
— Оставь в покое господа!
— Не начинай все сначала, сынок. — Ее голос был спокоен, но я чувствовал, как в ней закипает гнев. — Что станет с этой фермой, если мы отсюда уедем?!
— Мы говорим, словно двое глухих. Дело не в том, что будет с фермой после продажи, а в том, что будет с нами, если мы ее не продадим.
— Да нет. Тебе просто хочется огрести побольше денег.
— А не кажется тебе, что я имею на это право? Сколько я вкладывал сюда все эти годы, чтобы вы с отцом не разорились! И что же? Да эта ферма просто бездонная яма, куда я попусту все время кидаю деньги.
Она побелела.
— Значит, для тебя это всего лишь яма?
— Какой смысл продолжать держаться за ферму, если здесь все разваливается?
— Я не прошу у тебя помощи. Я прошу только, чтобы меня оставили в покое. Я вполне в силах справиться сама.
Я понял, что пришло время поставить ее перед свершившимся фактом.
— Я, как мог, старался убедить тебя. Но ты не хочешь понять. Ладно, хватит разговоров. Скажу тебе прямо — документы о продаже уже подписаны.
Нарочито медленно она взяла нож и поскребла им по дну своей пустой тарелки, потом вытерла рот большой салфеткой.
— Что ж, тогда тебе придется все переиграть. Я остаюсь здесь. А без моего письменного согласия, ты не сможешь продать ферму.
Настало время для решительной атаки. Резко встав, я оттолкнул кресло с такой силой, что оно с грохотом отъехало назад.
— Хватит! — закричал я. — Глупое мелкое себялюбие, и ничего больше. Тебе наплевать на то, сколько я помогал вам. Ты не хочешь наконец освободить меня от этого бремени. Обо мне подумать ты не желаешь. Я знаю, отец понял бы, а вот ты не хочешь.
— Подожди, еще будет кофе, — мягко сказала мать, когда я направился к двери.
Но я решил больше не церемониться. Это опять привело бы нас к тому, с чего мы начали, а пора было решить вопрос окончательно. Я хлопнул дверью. На кухне я заметил настороженный вопросительный взгляд Кристины, стоящей у раковины, но ничего не сказал ей. Выйдя во двор, я постоял немного под фиговым деревом. Было очень холодно.
Некоторое время спустя я вернулся в дом через парадный вход и снял с крючка в коридоре связку ключей. Распахнув двойную дверь с проволочной сеткой, я пошел в сторону маслобойни, к отцовской пристройке. К святилищу. Дверь была тугой, словно ее не открывали многие месяцы, мне пришлось надавить на нее плечом.
На пороге я секунду помедлил. Здесь был затхлый запах, все вещи покрыты толстым слоем пыли. Было ясно, что сюда давно уже никто не входил. Я отодвинул занавески, чтобы впустить в комнату зимнее водянистое солнце. Комната выглядела нежилой и запущенной. На стене висел календарь двухлетней давности. То тут, то там какие-то картинки. Занавески, обивка кресел, мохеровое покрывало на диване, когда-то связанное Элизой, — все выцвело и поблекло.
Шаткие полки были заставлены книгами вперемежку с глиняными горшками Элизы, из одного торчало несколько засохших травинок. Небольшая коллекция полудрагоценных камней с юго-запада. Полки у двери выглядели прочнее: их отец делал с Элизой. Все вещи в комнате утратили всякую связь между собой — набор случайных предметов, следы жизни, не имевшей к моей никакого отношения. Вроде связки старых ключей, ни один из которых уже не подходит ни к какому замку.
Когда отец еще учительствовал, полки для него делал наш деревенский плотник. Старый дядюшка Хенни, в мешковатых шортах и клетчатой кепке, с щетинистыми усиками и яркими бусинками глаз. Ему помогал чернокожий Фредди, седой и высохший от старости. Я мог часами следить за их работой, мне нравился запах стружки, звук пилы и вгрызающейся в дерево дрели. Хенни был жалким человечком, которого все презирали за угодничество. Но работая с деревом, он совершенно преображался. Он любовно поглаживал каждую доску, словно хорошо знал и уважал ее. Я в жизни не видел, чтобы планки подгоняли друг к другу плотнее — ногтя не засунешь. Как только он принимался строгать, пилить или забивать гвозди, он, казалось, становился выше, спина распрямлялась, а глаза горели, будто им открывалось в древесине нечто сокровенное. Его грубые руки с черными ногтями нежно прикасались к дереву, как бы лаская его. И дерево слушалось его, покоряясь магическому действию его инструментов.
У них с Фредди была отличная бригада. Работая в четыре руки, они никогда не мешали друг другу. Каждый предугадывал движения другого и подлаживался к ним без малейших усилий. Хенни был весьма заурядный старый бур. Когда он на несколько минут откладывал инструмент, чтобы выпить с родителями чашку чаю, он сразу же принимался нудно жаловаться на бестолковость и ненадежность черномазых. Но за работой они с Фредди казались близнецами.
Незадолго до окончания работы у нас Фредди упал со стремянки и сильно повредил спину. Родители помогли дядюшке Хенни посадить его в машину, чтобы отвезти к доктору. Фредди предписали месяц в постели. И каждый день дядюшка Хенни навещал его, приносил еду и подолгу болтал с ним. При нас он, разумеется, по-прежнему последними словами ругал проклятого черномазого, но сколь беспомощным выглядел он без своего помощника! И когда они наконец вернулись, чтобы закончить полки, было просто приятно смотреть на них, словно оба они родились заново.
То было много лет назад. Их обоих уже давно нет на свете, и вот сейчас, в субботний день, я стою в отцовском кабинете, глядя на уродливые полки его собственного изготовления, сделанные с великим тщанием, но без малейшего умения. Он гордился этими шаткими детищами. Они поддерживали его в крошечном мирке.
Сам не зная, чего ищу, я подошел поближе, чтобы рассмотреть названия. Все книги были основательно зачитаны. Тил, Кори, Уокер, Преллер, архивные ежегодники, собрание сочинений Ван Рибека. Далее история Европы: Фишер, Робинсон, Тойнби. И более старые книги в кожаных переплетах. «Французская революция» Карлейля в трех черных томиках. Темно-коричневые тома Гиббона. Без особого интереса я принялся перебирать и листать книги, Поля были сплошь исписаны изящным мелким отцовским почерком. Поднеся книгу поближе к глазам, я попытался разобрать написанное — он вел с авторами живую беседу: соглашался, протестовал, спрашивал, спорил. И вновь, как во время застольной молитвы, у меня вдруг возникло чувство, что он здесь, что я слышу его голос. Если вы обратитесь к истории… Но даже это не помогло мне понять его.
Ставя на место томик Гиббона, я услышал, как что-то свалилось в щель у стены и упало на нижнюю полку. Присев на корточки, я отодвинул несколько книг и извлек старую коричневую папку с поблекшими зелеными тесемками. И старую запыленную указку со стершимся концом. Должно быть, ту самую, которой отец наказывал своих учеников. И учениц. Они получали удары по рукам и по голым ногам, тогда как мальчикам приходилось ложиться на скамью. Один удар за каждый невыученный вопрос. Я никогда не понимал, как он мог быть с ними таким жестоким, ни разу не выпоров дома собственных детей. (Это было обязанностью матери, и она отлично справлялась с ней.) И как эта указка оказалась здесь, на ферме? Сувенир? В память о чем?
Я положил указку на стол и сдул пыль с папки, прежде чем открыть ее. Старые документы организации Оссева-Брандваг. Тысяча девятьсот сороковой год. Заинтересовавшись, я начал перелистывать пожелтевшие страницы, но не нашел ничего действительно интересного. Циркуляры. Скучные ходатайства. Повестки дня заседаний. Присяга.
Когда наступаю, ступай за мной.
Когда отступаю, стреляй в меня.
Когда умираю, мсти за меня.
И да поможет мне бог.
С чувством непонятного сожаления я отложил папку и снова взял старую указку. Она интриговала меня куда больше, чем напыщенное содержимое папки. Как она попала за книги на полку? Случайно свалилась, или отец умышленно спрятал ее туда? Мысль была довольно нелепой. А если он чувствовал в связи с ней какую-то вину? Но какую? Что с ней было связано? Призрачное ощущение власти, которое ему удавалось получать благодаря ей? Некое извращенное удовольствие? Угнетающее чувство «греховности» из-за того, что она приносила ему радость? Наше кальвинистское наследие?
В дверь постучали. Я замер, словно застигнутый на месте преступления.
— Баас! — окликнули снаружи.
Я быстро спрятал указку за томик Гиббона. Это был отцовский секрет, и его надлежало сохранить. Полки задрожали от моего неловкого прикосновения, несколько шурупов отошли от стены, на пол посыпалась штукатурка.
— Баас!
Сейчас я испытал, по-видимому, то же чувство, что и отец, когда ему здесь мешали. Раздраженно открыв дверь, я увидел Кристину с чашкой кофе на подносе.
— Госпожа прислала меня, баас.
— Я не просил кофе.
Она растерянно глядела на меня.
— Ладно, давай сюда.
Взяв у нее чашку, я захлопнул дверь, вернулся к столу и сел в красивое кресло ручной работы, которое наш предок когда-то починил для своей Мелани. Оно прошло долгий путь, это старое кресло, в нем когда-то сидели многие мои предки. И прежде всего отец.
Я рассеянно посмотрел на книги у задней стены, слишком далекой, чтобы я мог разобрать названия. И вдруг подумал: а сколь близорук был отец? Не в буквальном смысле, а в своем истолковании всего, что читал. История страны, людей, нашей нации. Что из всего этого ему удалось передать мне и что мне предстоит передать когда-нибудь Луи? И что отцу на самом деле удалось понять и ухватить?
И смогу ли я когда-нибудь понять его самого?
У отца были постоянные нелады с совестью. Не из-за указки (хотя и из-за нее тоже), а куда более существенные, некие приступы, повторявшиеся через определенные интервалы. Вполне определенные. Нечто вроде духовных менструаций.
В детстве я не мог, да и не пытался этого понять, но много позже, когда я спросил об этом у матери, она ответила удивительно просто:
— Это все «Брудербонд», сынок, Союз братьев, тайная организация, о которой все всё знают.
— А при чем здесь «Брудербонд»?
— О, это длится уже многие годы. Ты ведь знаешь, кроме того короткого периода во время войны, отец никогда почти не общался с людьми. Предпочитал собственное общество. Таким уж он уродился. Ну а тут этот «Брудербонд» с их ежемесячными конгрессами. И каждый месяц с того дня, как приходит повестка, и до окончания конгресса он просто невменяем. Всем недоволен. Мы-де плохие африканеры, мы предаем Дело и прочая ерунда. Как только конгресс заканчивается, он снова приходит в себя, и так до следующей повестки.
Я вполне понимал весь юмор ситуации и, подобно матери, научился спокойно принимать его. (Милый старый болтун.) И мы знали, что прежде, чем заговорить с ним о чем-то важном, следовало посоветоваться с матерью. Если она говорила: «Нет, сынок, у отца дурные деньки», — разговор лучше было отложить. Одна из его милых причуд.
Но было ли все действительно столь просто? Я сидел за кофе в кресле в его комнате, где он прятал указку, и чувствовал, что сейчас он ближе мне, чем когда-либо прежде. Впервые я, кажется, понял, вернее, догадался о его страхе оказаться вне общего русла, в стороне от своих соплеменников. При нормальных условиях это его вполне устраивало. Но через регулярные интервалы приходило напоминание о том, что далеко не все так хорошо. Он не мог понять, что именно. Не зря же он потратил всю жизнь на поиск — чего? Но он знал, что где-то существует нечто, оно есть и оно может оказаться чрезвычайно важным.
Машинально я снова принялся листать старые документы. Они относились к тому короткому периоду во время войны, о котором говорила мать. Я никак не мог поверить, что он был втянут во что-то действительно серьезное, его ни разу не арестовывали, а ведь в войну учителя были под особым надзором. Самое большее, вероятно, что он делал, это составлял документы вроде этих лежавших в папке да переводил что-нибудь с немецкого. Он довольно скоро вышел из организации, так как стал активно поддерживать Малана, а Малан, конечно, не одобрял подпольной деятельности.
Но может быть, тогда у него и возникло чувство утраты. Будучи членом организации, он, по-видимому, ощущал себя сопричастным чему-то великому: он, Вим Мейнхардт, оказался в силах подняться над собственной заурядностью во имя благородного общенационального дела. А затем, отойдя от этого, он вернулся к своему блеклому одинокому существованию, и только эта папка напоминала ему о том, что могло бы свершиться. И его страсть к истории была лишь суррогатом политической деятельности.
Пожалуй, эту мысль стоит развить. Может быть, хотя бы раз в месяц у отца бывало предчувствие некоего апокалипсиса, грандиозной всеобщей гибели, во время которой он опять окажется вместе со своим народом? Всеобъемлющая жажда смерти? И эта всеобщая гибель, должно быть, предуготована роком на протяжении всех предшествующих поколений, подобно землетрясениям, предопределенным в земной коре тысячелетия назад. Гибель и торжество одновременно. Торжество именно в силу самой гибели, ибо это будет всеобщий, коллективный опыт, сплавляющий все отдельные и ничего не значащие частицы в великую массу — кусок глины в гневливой руке творца.
Тогда понятна и его одержимость в занятиях историей, его усилия разобраться в том, что случалось в прошлом и что может произойти в будущем. Чтобы быть готовым к грядущему Суду. Он не раз говорил мне о том, как порой целые нации внезапно исчезали с лица земли, не оставив никаких следов. Например, авары. И что такое может случиться вновь.
Странная и устрашающая мысль: если такой апокалипсис действительно неизбежен и предопределен, то каждый день, каждое незначительное деяние все ближе и ближе подводит нас к нему. И значит, пока я бродил по ферме, поднимался на вершину холма, пил с матерью кофе, болтал с хозяйкой лавки, вспоминал маленькую Кэти, повторял в темноте слова из Библии А любви не имею… или сидел в отцовском кресле, все это время вокруг меня, подо мной и в глубине меня существовало сильное и мощное течение, влекущее в определенном направлении. Столь же неизбежное, как ливень, который рано или поздно придет на смену засухе. И внезапно даже позвякивание ложечки о пустую чашку показалось мне сакральным звуком.
* * *
Во всех нас есть нечто болезненно угрюмое. Не только в нашей семье, но и во всей нации. Даже наш государственный гимн звучит как похоронный. Дядюшка Коот, деревенский парикмахер и гробовщик, так изложил мне однажды свою жизненную философию:
— Знаешь, Мартин, на свете все непрерывно меняется: дома, повозки, церкви — все. Не к чему по-настоящему прилепиться. Кроме смерти. Смерть — самое надежное, что дано человеку, она приближает его к господу. Вот почему я и занимаюсь похоронами.
Полагаю, что эта мысль приходила в голову не только ему. Недаром такие непохожие друг на друга женщины, как мать и Элиза, были одинаково потрясены моим отсутствием при кончине отца. Но какая, собственно, разница? Я простился с ним гораздо раньше, еще до того, как болезнь увела его из реальной жизни. А теперь я слишком хорошо понимаю, каким благом оказалась для него смерть. Не только избавлением от страданий, но и примирением с самим собой. В смерти одного человека он был готов увидеть гибель всего рода.
На похороны съехалась вся семья. Я с Элизой, Тео с женой, отцовские сестры с мужьями и брат матери из Сандфельда. Подобные съезды бывали и прежде, когда умерли старший брат отца и дедушка Мейнхардт. Только смерть сводила нас всех вместе. Старый родовой дом опять, как в дни моего детства, наполнился людьми. Тогда по праздникам многочисленные родственники спали во всех комнатах, даже в столовой и на веранде. Только на этот раз все было мрачно и без ребячьей веселой возни.
Прибыл пастор и множество знакомых из деревни. С полудня накануне лил дождь, земля напилась, трава была зелена, как в разгар лета, а глина красна как кровь. В черных одеждах под черными зонтиками мы собрались на грязном кладбище на последнюю молитву и опускание гроба. От имени семьи говорил я, а от имени друзей и соседей — старый Лоренс. Затем вперед неожиданно протиснулся старик Данциле — долгие годы он был вроде управляющего на ферме, пока его не сменил Мандизи, — и пустился в пространнейшие рассуждения о том, какой замечательный был у них баас и как они оплакивают его смерть, и все это на жуткой смеси коса и африкаанс, что особенно раздражает, когда стоишь под дождем. Он говорил, припоминаю, и о дожде, называя его благословением господним, «там, где Он погребает. Он рождает новую жизнь» или нечто в том же роде. В конце концов мне пришлось прервать его и попросить пастора начать отпевание, иначе мы простояли бы под дождем до ночи.
После похорон все направились в дом на воистину королевские поминки, устроенные матерью, хлопотавшей с самой зари. Она по-прежнему была верна традиционной очередности блюд: баранья нога, рис с приправой, сладкий картофель и в самом конце сливочный торт и кофе для всех присутствующих, включая и работников, толпившихся у задней двери.
Элиза была безутешна. На кладбище, когда она бросала горсть земли в могилу, мне пришлось поддержать ее. Такое проявление горя на виду у всех даже неприлично, подумал я тогда. Мать, напротив, за те два дня, что мы провели с ней, не уронила ни слезинки. Вечером, сразу после того, как гости уехали, она пошла навести порядок в отцовском кабинете, не позволив никому помочь ей, даже Кристине. Когда около полуночи я зашел взглянуть, как у нее идут дела, она все еще ползала на коленях, моя и доводя до блеска пол и мебель, расставляя на полках книги. Я предложил свою помощь, но она молча отмахнулась, и я просто сидел на диване почти до двух ночи, ожидая, пока она кончит уборку. Наконец она опустила занавески, проверила все ли на месте, погасила свет и заперла за нами дверь. На улице было очень холодно. И тут я впервые понял, что теперь отец для нее действительно умер.
— Ну, вот и все, — сказала она. Голос ее был усталым, но в нем слышалась глубокая удовлетворенность, словно она почувствовала облегчение, избавившись наконец от непосильного бремени.
* * *
Ближе к вечеру, когда точно — не помню, в пристройку заглянула мать. Она вошла так тихо, а я был столь глубоко погружен в собственные мысли, что поднял глаза, лишь когда она уже закрыла за собой дверь.
— Что ты тут делаешь столько времени? — спросила мать.
Она украдкой огляделась, проверяя все ли на своих местах. Я был рад, что спрятал указку, хотя, может быть, она и не обратила бы на нее никакого внимания.
— Просто зашел посмотреть.
— Понятно.
— И нашел вот это, — Я протянул ей коричневую папку.
— Что это? — Она открыла папку и, нахмурившись, начала листать.
— Старые отцовские бумаги, некоторые документы организации Оссева-Брандваг.
— Я думала, он их давно уничтожил.
— Ничего интересного.
— Ну ты же знаешь, что он был за человек.
Она захлопнула папку и завязала зеленые тесемки.
— Ты сюда с тех пор не заглядывала?
Она посмотрела на меня, но ответила не сразу.
— Нет. У меня и без того дел по горло.
— Вы были счастливы друг с другом? — сам себе удивляясь, спросил я.
— Счастливы? — Привычным движением она откинула назад выбившиеся пряди волос. — Что за вопрос? Мы, знаешь ли, были женаты больше сорока лет.
Она села в кресло с прямой спинкой.
— Мы все так мало знали о нем.
— Да ладно, разве в этом дело? — Она, казалось, искала объяснение или извинение. — Кто о ком что знает? — Она поглядела на меня. — Даже о собственных детях.
Пропустив мимо ушей намек, я спросил:
— Он всегда был таким скрытным? Или стал с годами?
С минуту она подумала.
— Когда мы были молоды, с ним было как-то проще. Мы часто подолгу беседовали, говоря о будущем, у него были такие честолюбивые планы.
— Честолюбивые планы?
Мать засмеялась. Я подумал, что она не расслышала меня.
— Знаешь, — заговорила она, — во время войны отец как-то раз поехал поохотиться с друзьями на ферму. Тогда он очень любил охотиться и ездил, куда бы его ни приглашали. А когда вернулся, рассказал мне обо всем. Он был весь красный, когда рассказывал.
— А что там случилось?
— Он был в вельде, когда почувствовал, ну, скажем, зов природы. Сидя на корточках в кустах, он написал пальцем на песке большими буквами: ГЕНЕРАЛ ВИМ МЕЙНХАРДТ. И потом просто забыл об этом. Но когда они вернулись на ферму, один из его друзей — он тоже состоял в организации — подошел к нему и говорит: «Слушай, Вим, пора похоронить этого генерала, а то он уже пахнет».
— Думаешь, его честолюбие целилось в ту сторону? — спросил я. — Оссева-Брандваг?
— Ну, я не знаю, собирался он стать генералом или кем еще. Как бы тебе сказать, по-моему, ему просто хотелось признания. Хоть от кого-нибудь. Он вышел из организации очень давно, кажется, еще в сорок первом, но с тех пор жизни в нем было мало. — Она встала, чтобы зачем-то заправить нитку, вылезшую из шва на покрывале. — Его всегда недооценивали, — с неожиданной грустью продолжала она. — В нем было нечто большее, чем казалось на первый взгляд, можешь мне поверить.
— Что именно?
Она походила по комнате, выравнивая ряды книг и сметая рукой пыль с краев полок. Затем, как бы между прочим, начала рассказывать про случай с полицейскими. В тот день отец как раз должен был идти на собрание. Неожиданно в дверь постучали. Это оказались два сержанта из тайной полиции.
Отец пригласил их войти. Затем посмотрел на часы. Когда стало ясно, что зашли они не на минутку, он приступил прямо к делу.
— Не могли бы вы зайти завтра? — спросил он с обезоруживающим дружелюбием. — Сегодня я, к сожалению, очень занят.
— Вот как? — сказали они. — А чем?
— Видите ли, я еду на собрание.
— Серьезно? На какое собрание?
— У нас регулярные молитвенные собрания каждый вторник, — не моргнув глазом ответил отец. — Обсуждаем библейские тексты.
Найдя это чрезвычайно интересным, они предложили составить ему компанию. Он попытался увернуться, намекая, что им там будет скучно, но, когда они продемонстрировали свою непреклонность, он спокойно достал Библию и поехал вместе с ними в полицейской машине.
У дома, где собирались заговорщики, он попросил их остановиться, вместе со своим эскортом прошел прямо в помещение и представил собравшимся полицейских.
— Друзья! — сказал он. — На нашем молитвенном собрании сегодня присутствуют два новичка. Сержант Гроблер и сержант Хендерсон из тайной полиции. Позвольте мне от имени всех приветствовать их.
И прежде, чем кто-нибудь успел вставить хоть слово, он открыл собрание молитвой, длившейся не менее получаса. Кто-то принес из спальни Библию и завел разговор не то о римлянах, не то о коринфянах по четырем или пяти главам. Затем началось обсуждение со всей серьезностью. Во время первого часа сержанты начали ерзать на своих местах, но братья-заговорщики так разошлись, что визитерам не удавалось вставить ни слова. Через два часа с лишним, когда конца этому еще не предвиделось, сержант Гроблер встал и пробормотал с выражением отчаяния на лице:
— Господин председатель, вы должны простить нас, нам надо…
На что отец сурово спросил его:
— Сержант, вы родились заново?
— Я что?
— Родились заново волею господа нашего Иисуса Христа?
— Я, я думаю, да…
— Братья, — обратился к присутствующим отец, — давайте помолимся за душу нашего нового друга.
И прежде, чем сержант успел запротестовать, они с воодушевлением затянули новую бесконечную аллилуйю.
На дворе уже стемнело, когда отец наконец сказал:
— Сержанты, если вы дадите нам свои адреса, мы с радостью посетим вас, чтобы продолжить божье дело.
Если верить отцовскому рассказу, эта перспектива так ужаснула полицейских, что они навсегда оставили группу в покое.
— Но конечно, — продолжала мать, — с тех пор, как мы переехали на ферму, он ко всему утратил интерес. Видит бог, я всегда пыталась помочь ему.
— Я знаю, мама.
— И когда он наконец отошел к предкам здесь, на родной земле…
Я сидел, поглаживая резной подлокотник кресла.
— Мы всю жизнь были во всем новичками, — печально сказала она. — Никогда ничему не могли научиться. И каждый раз все начинали с нуля.
Я не хотел встречаться с ней глазами.
— В тот день, когда его хоронили, сынок, я впервые почувствовала у себя под ногами твердую почву. Как будто мы с ним наконец угомонились. Пустили корни.
Залаяла собака. В дальнем конце двора послышался шум мотора, затем снова смолк, потом опять загудел. Луи возился с движком.
Этот звук вернул мать к действительности.
— Я не собиралась мешать тебе. Просто захотелось немного поболтать.
— Спасибо, мама.
— Мне надо идти.
— Посиди еще, если хочешь.
— Нет, пора за работу. А тебе, по-моему, надо еще о многом подумать. Пожалуйста, положи папку на место, когда будешь уходить. Ладно?
* * *
Казалось бы чего проще: послушаться мать, поехать в Йоханнесбург и расторгнуть контракт. Я всегда могу извиниться, рассказав Калицу об оговорке в отцовском завещании. Мне будет приятно сознавать, что мать спокойно доживает свои дни на ферме. И, что, может быть, еще важнее, ферма останется за нашей семьей и на будущее. Хотя у нее и нет практической ценности, сам факт обладания ею действует как-то успокаивающе — словно некая моральная гарантия или страховка.
Но конечно, на самом деле все было гораздо сложней. Ни мне, ни министру так просто не выпутаться из этой истории. Ему надо было завершить свои манипуляции с администрацией бантустана, иначе все выплыло бы наружу, а я был вынужден продавать, иначе Калиц не успокоился бы, пока не разорил бы меня.
Рассуждать и спорить было уже поздно — решение принято, и я прибыл на ферму объявить его.
А если бы выбор еще и существовал, то все равно ситуация была далеко не простой. Ибо требовалось сбалансировать не две сопоставимые величины, а две принципиально различные, две совершенно разные системы ценностей. Ферма имела отвлеченную, моральную значимость с включением сюда, если угодно, нашей истории, нашего патриархального прошлого, наших национальных традиций и, возможно, нашей свободы. Другими словами, она олицетворяла собой все то, с чем я давно отвык обращаться. Ибо на практике я всю жизнь имею дело с прямо противоположными категориями: компромиссами, рассчитанным риском, выигрышем, победой. Просто, для того чтобы выжить, мне нужно всегда оставаться на коне. Выбора у меня нет. Или быть на коне, или — в пропасть. Тот же выбор, с которым из поколения в поколение сталкивались мои предки, только в ином измерении. А я не собираюсь бросаться в пропасть.
Вопрос стоит так: сколько сентиментальности, идеализма и атавистического романтизма я могу себе позволить, не утрачивая вкуса к борьбе за существование? Сколько я могу на это бросить? Ибо это действительно было для меня роскошью. В моем случае истинная роскошь — это не дом, спроектированный для нас Тео, не «мерседес», не дорогая мебель, не хорошее красное вино или хлебные деревья в саду. Все это для меня стало почти привычным. Подлинной роскошью были свобода мечтать, свобода быть непрактичным. Да и свобода как таковая стала романтическим понятием.
У меня нет нужды верить в правильность жизни, которую я веду. Достаточно просто жить ею.
А для того, чтобы выжить, я должен считать все элементы жизни относительными и взаимозаменяемыми.
Не будучи циником, теряешь способность воспринимать реальность реально.
Конечно, я устал. Почему бы не признать это? Я выбрал изнурительный и опустошающий образ жизни. Уже поэтому было крайне соблазнительно принять то, что предлагала мать: покой и мир иллюзий. Но, понимая, что иллюзия — это только иллюзия, я не мог поддаться ее искушению.
Ох, как славно было бы поверить в свободу, надежду, веру и любовь. Но главное, надо выжить. А чтобы выжить, нужно всегда быть в стане победителей, надо быть сильнее соперника. Во мне есть воля к успеху, «инстинкт убийцы». А вот в отце ее не было. (И в Бернарде тоже.)
* * *
На пороге показался Луи.
— Привет!
— Ты здесь весь день?
— Да, пожалуй.
— А чем ты занимаешься?
— Просматриваю отцовские бумаги. Проверяю, все ли в порядке.
Я заметил его недоверчивый иронический взгляд, брошенный на одну-единственную папку на столе, но не стал пускаться в объяснения.
— Чем-нибудь помочь тебе?
— Скучаешь?
— Конечно.
— Недавно я слышал движок. Починил его?
Он улыбнулся и на миг снова стал мальчиком.
— Да, работает хорошо, — сказал он. Затем добавил: — Правда, мне очень помог Мандизи. Руки у парня нормальные.
— А тебе не хочется вернуться на инженерный факультет?
На секунду его глаза загорелись, но тут же потухли, он пожал плечами.
— Почему ты решил продать ферму? — внезапно спросил он.
— Потому что она стала нежизнеспособна. — Мне хотелось быть с ним по возможности откровенным. — Подумай сам. Рыночная цена ее, скажем, сорок тысяч. Это означает, что нормальная десятипроцентная прибыль от капиталовложения должна составлять четыре тысячи. А что происходит? Здесь не только не пахнет этими четырьмя тысячами, а, наоборот, ферма стоит мне несколько тысяч ежегодно. Ладно, честно говоря, я могу удержать их из суммы подоходного налога. Но все равно эта ферма — скверное капиталовложение. А я деловой человек.
— И что же? Ты деловой человек, и только?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты ведь должен считаться и с бабушкой. Здесь вся ее жизнь.
— Как раз о ней я и забочусь в первую очередь, — возразил я. — Ты заметил, как она постарела за последний год? И все соседи продают свои фермы. Ей просто опасно оставаться одной здесь, так близко от границы с бантустаном.
— Выходит, что первопроходцы теперь снова становятся пограничными жителями? — то ли шутливо, то ли серьезно спросил он. — Не многовато ли у нас становится новых границ?
— Только не вздумай уверять меня, что ты заинтересован в ферме, — прервал я его идиотский вопрос. — Мы здесь и дня не пробыли, а тебе уже скучно.
Он обошел стол и взглянул в окно на долину. Стадо коров с мычанием возвращалось на ферму.
— Как странно темнеет, — сказал он не оборачиваясь. — Дома этого не замечаешь. Но здесь вдруг чувствуешь, словно ты один на целом свете.
В его годы я был столь же чувствителен. В наступивших сумерках между нами снова возникла мимолетная близость.
— Мы уже давно не здешние, — сказал я.
Он резко обернулся, словно взволнованный чем-то увиденным за окном: возвращающимся стадом, сгущающейся темнотой или чем-то еще.
— Думаю, ты прав, — неожиданно согласился он. — Лучше всего избавиться от этой фермы. Но бабушка, кажется, против?
— Она упряма как мул.
— Я могу поговорить с ней, если хочешь.
— Не надо, я сам разберусь.
— Она обсуждала это со мной. Я думаю, она чувствует…
— Что она тебе сказала? — подозрительно спросил я. Мне не хотелось, чтобы мать впутывала в это дело Луи.
— Да так, ничего особенного, — уклончиво ответил он. — Но думаю, я смог бы ее уговорить.
— Не стоит тебе вмешиваться в это.
Он помолчал с минуту, затем вышел, не закрыв за собой дверь. Я хотел было крикнуть ему, чтобы он закрыл ее, но передумал. Пора и мне уходить. Я придвинул старое кресло к столу и постоял немного, положив руки на его спинку. Кресло заберу с собой, оно будет хорошо смотреться в моем кабинете.
Я убрал папку в пыльный ящик стола, потом задернул шторы. За окном сгущалась тьма. Чувствовался запах навоза с конюшни. Уже на пороге я вдруг остановился, вернулся к полкам и вынул указку из-за томика Гиббона. Надо забросить ее куда-нибудь подальше. Нехорошо, если мать найдет ее, когда начнет паковаться.
9
На этот раз я застал Мандизи в коровнике одного. Я не люблю вмешиваться в их жизнь, но в данном случае я чувствовал себя обязанным поговорить с ним.
— Мандизи, что это за история с вашей женой?
— Nkosi? Что, господин? — угрюмо переспросил он.
— Мужчина не должен бить жену.
Он слил молоко в бидон, не утруждая себя ответом.
— Ваш ребенок был очень болен. Ему нужны лекарства.
— Ewe. Да.
— Тогда почему же вы ее так избили?
Он ничего не ответил.
— Мандизи, чтобы больше этого не было, вы меня поняли?
Он поднял ведро и повернулся ко мне, по-прежнему не говоря ни слова. Он был на голову выше меня, с бицепсами гладиатора — я видел, как они ходят под его дырявой рубахой.
— Если вы хоть раз еще ударите ее, вам придется покинуть ферму. Вы слышите меня?
Он молча пошел к сараям.
— Отвечай, когда с тобой разговаривают!
Полуобернувшись, он ухмыльнулся и двинулся дальше.
Вообще-то ни его поведение, ни его наглость, ни его тупость меня не касались. Но я не мог закрывать глаза, когда под угрозой находилась жизнь ребенка. К тому же, если он решил работать на белых и жить здесь, ему следует приспособиться. Для собственной же пользы.
Куда проще иметь дело с человеком вроде Чарли. Наши судьбы во многом были похожи. Он первый указал на это. Я, как ни смешно, возражал тогда ему. То был странный и неприятный денек, примерно месяц назад. Утром по поручению Южноафриканского фонда я возил по городу канадских бизнесменов, двух чрезвычайно приятных, интеллигентных джентльменов, готовых бросить благосклонный взгляд на наши национальные проблемы, и, разумеется, мне надо было показать им деревню ндебеле под Преторией.
Машину вел Чарли, так как после инфаркта мне следовало беречь себя. По пути мы вели дружественную и полезную беседу, в которой участвовал и он.
Посещение деревни прошло успешно. Нас никто не встречал, так что мы все осматривали сами, восхищаясь прелестными домиками с геометрическими узорами. Весьма картинное зрелище, всегда производящее неизгладимое впечатление на иностранных гостей: кучка старух, сидящих под деревом и нанизывающих бусы, несколько мужчин, подталкивающих не желающую заводиться машину, дети, гурьбой следующие за нами, девушки, играющие в мяч. Заметив нас, они побежали в ближайший дом раздеться, а затем, улыбаясь, обступили нашу машину: «Фотографируйте, фотографируйте!» Канадцы весьма охотно сфотографировали их голые груди и безропотно заплатили положенную сумму, после чего девицы побежали одеваться, а затем продолжили игру в мяч.
Чарли ждал нас в машине и, когда мы вернулись, был мрачен. На обратном пути он не проронил ни слова. Он не хотел и обедать с нами в «Карлтоне», но я убедил его, что это в интересах фирмы — такое всегда производит на иностранцев хорошее впечатление. Наконец мы попрощались с канадцами и поехали домой, и тут я заметил, что он по-настоящему взбешен.
— Что случилось, Чарли? — спросил я, поняв, что сам он не намерен пускаться в разговоры.
— Ничего.
— Ну, перестаньте же дуться. Не валяйте дурака.
— Я не валяю дурака, баас Мартин. — Он прекрасно знал, как раздражает меня это обращение. — Ну что, вашим гостям пришлось по вкусу созерцание достопримечательностей? — спросил он.
— Разумеется.
— Хорошие слайды они сделают, чтобы показать дома друзьям. Первозданные дикарочки. Вы, наверное, повезете их и на воскресные шахтерские пляски?
— При чем здесь первозданные дикарочки? Никто не заставлял девушек раздеваться.
— Я не об этом.
— Так что же с вами?
— Достаточно скверно дурачить иностранцев, — сердито ответил он. — Но как вам удается дурачить самого себя?
— В каком смысле я дурачу себя?
— Почему бы вам не показать им хоть раз, как выглядит страна на самом деле? Увидев Южную Африку, можно и умирать.
— А куда бы вы посоветовали их везти?
— Вы когда-нибудь бывали в Соуэто?
— Конечно, нет. Что мне там делать?
Он внезапно переключил скорость, рванулся на желтый свет и проехал мимо нужного нам поворота.
— Куда это вы собрались, Чарли?
— Сегодня вы посетите Соуэто, — с косой усмешкой сказал он.
— Что за странная причуда?
— Считайте эту поездку своим посвящением. Вы узнаете, как живет половина страны. Вернее, восемьдесят процентов.
Я на секунду пришел в замешательство.
— Неплохо придумано. Но я не могу ехать туда без пропуска.
— К черту пропуск, — ответил он, широко ухмыльнувшись. — Сколько народу каждый день разгуливает там без пропуска!
— Я все-таки не понимаю, что вы хотите мне показать.
— Назовем это картинкой из прошлого.
— Но это не прошлое. Это сегодняшний день.
Чарли засмеялся, его глаза сузились за толстыми стеклами очков.
— Это наш образ прошлого, дорогой Мартин. Вы и ваши соплеменники думаете, что у вас монополия и на историю. А я вижу свою историю каждый день.
— Я никогда не отрицал вашего права на собственные традиции.
— Конечно. Но только между строк. И ничего открытым текстом. — Обгоняя тяжело нагруженный грузовик, он спросил: — Вы знаете, что мой прадед был moeletsi — главным советником короля Мошеша?
— В самом деле?
— Честное слово. О своих более ранних предках я ничего не знаю. Но прадед был главным советником короля во времена президента Бранда, если считать по-вашему. Устраивал сущий ад белым фермерам.
— А что же случилось потом?
— Началасьпостепеннаядеградация. Егосын, мой дед, был molaodi — солдатом, вернее сказать, офицером, но его ранили в битве под Фиксбургом. Миссионеры подобрали его и вылечили. Это и было концом всего. На склоне лет он нанялся работником к белому фермеру. Там и родился мой отец. А потом и я сам.
— Но вы снова поднялись наверх.
— Да, поднялся. Так же как и вы, приятель. — Он поглядел на меня. Блики света играли на толстых линзах его очков. — Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько у нас общего?
— Вы преувеличиваете, Чарли.
— Вы полагаете? Мы оба выросли на ферме. Потом были в Англии. И оба вернулись, — с грустью продолжал он. — На кой черт? Что мы, собственно, надеялись здесь найти? Мы оба уже лишились своих корней. Вы такой же изгой, как и я.
— Нет, я по-прежнему африканер.
— Да, на этом кончается сходство и начинаются различия. — Он расхохотался.
— Наверняка у вас нет ни малейшего желания возвращаться на тот уровень, с которого вы поднялись.
— Конечно, нет.
— Так на что же вы жалуетесь?
— Вы считаете, что я жалуюсь? — Он поудобнее устроился за рулем, — Я просто констатирую факты. А сейчас мне хочется кое-что вам показать.
— А что, собственно, вы хотите показать?
Он улыбнулся:
— Как выглядит ад.
* * *
После ужина и вечерней молитвы мы коротали время у камина. Луи играл с собакой на полу, мы с матерью сидели в больших удобных креслах. Разговор был непринужденным. Разгулявшийся снаружи ветер на все лады завывал в дымоходе. Мы уютно сидели перед пляшущим пламенем, в котором время от времени взрывались головешки, испуская в дымоход пучки искр; на каминной полке стоял чайник с горячим чаем. Мать отключила движок сразу после ужина, и единственным источником света было теперь вкрадчивое мерцание пламени. День с его суровой зимней требовательностью отхлынул, как море, оставив нас в тишине и покое. Все наши распри казались сейчас пустячными.
Чуть позже Луи, выбрав несколько журналов, чтобы посмотреть перед сном, отправился наверх; мы с матерью остались вдвоем. Она вязала. Даже в минуты отдыха ей надо было чем-то занять руки. Мы сидели молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами, да время от времени рычала собака.
В голубовато-красном пламени камина передо мной всплывало лицо отца, пожелтевшее и сморщенное. Таким я видел отца, когда в последний раз навещал его во время болезни: в старой вязаной кепочке на облысевшей голове, с непропорционально большим носом, выдававшимся как клюв на усохшем лице, с ввалившимися глазами. Я заходил к нему в комнату раза два в день и, исполняя долг, сидел с ним по нескольку минут. Говорить нам было уже не о чем. По ночам возле него попеременно дежурили мать и Элиза. Мать, несмотря на усталость, весьма неохотно уступала Элизе место у постели отца. Но однажды ночью отец, отослав обеих женщин, потребовал, чтобы возле него остался только я. Я провел ночь в кресле, большую часть в полусне, лишь иногда выходя, чтобы освежиться или пропустить рюмку. Отец, казалось, спал, но, когда я вставал, открывал глаза. Порой он что-то пытался сказать резким свистящим шепотом, но все звучало несвязно и даже бессмысленно. И вот часа в три утра у него наступило неожиданное просветление, впервые за ночь я без труда понимал его медленную речь.
— Это ты, Мартин?
— Да, я все время с тобой. Не волнуйся. Спи.
— Я не хочу спать. Скоро у меня будет достаточно времени, чтобы выспаться.
— Ты боишься, отец?
— Нет, не боюсь. — Долгая пауза. — Не боюсь. Я обрел покой. — Снова пауза. — Мне просто грустно. Как жаль.
— Чего?
— Всего. Из меня ничего не вышло, Мартин.
— Это не так, отец.
Я хотел утешить и подбодрить его. Однако он настаивал, устало, но упрямо.
— Нечего отрицать. Когда стоишь у этой черты, надо быть честным. Из меня ничего не вышло, это так. Во всех отношениях.
Мне хотелось взять его за руку, но что-то меня удержало.
— Был только тот короткий период во время войны, ты знаешь, Мартин. Всего несколько месяцев. Когда мне казалось, когда я чувствовал, что из меня что-то получается. Но потом я струсил. Да, именно так. Просто струсил. Я мог лишиться работы. У меня была жена и маленькие дети. И я отстранился. Я был трусом.
— Все это в прошлом, отец.
— Это никогда не бывает в прошлом. Об этом я и хотел потолковать с тобой. Но я так устал.
Я подал ему воды. Казалось, он забыл, о чем только что говорил. Но через некоторое время вернулся к той же теме:
— Теперь твой ход. Я свой проиграл.
— Не беспокойся, отец, я…
— Ты должен пробиться, Мартин. Я хочу, чтобы тебе это удалось. И ради меня тоже.
— Так и будет, отец, — сказал я, не представляя даже, о чем именно он говорит.
— Ты знаешь, когда я окажусь там, господь призовет меня к ответу. Я не хочу молить о милосердии. Но есть один грех, которого он мне никогда не простит.
Я приготовился выслушать предсмертное покаяние, понятия не имея, в чем заключается этот грех, но полагая, что он в любом случае тяжек.
После долгой паузы он наконец выдавил из себя:
— Я не был истинным африканером, Мартин. Из меня ничего не вышло. Я бросил свой народ в беде.
— Но что ты сделал, отец?
— Ничего. В том-то и дело. Я ничего не сделал.
Последовала еще одна долгая пауза. Я решил, что он уже заснул, но он вдруг снова заговорил:
— И я воспротивился своему предназначению. Когда мне пришлось заняться фермой, я в душе воспротивился и этому.
— Каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью.
— Нет, Мартин. Нами распоряжается история. А через историю нам демонстрирует свою волю господь. — Он протянул руку, словно хотел коснуться меня, но рука упала. — Как бы ни сложилась дальше твоя жизнь, Мартин, не бросай эту ферму. Она наша. Она наш грех и наше покаяние. Ты должен поклясться мне.
— Клянусь, отец.
В конце концов, нас никто не слышал, а в его мыслях уже не было прежней ясности.
Он отказался лечь в больницу. В последние месяцы жизни он был не в силах покинуть ферму, которую никогда не любил. Неспособный здесь жить, он твердо положил себе здесь умереть. Сидя у камина рядом со спокойно вяжущей матерью и слушая завывания ветра в трубе, я, кажется, впервые начал понимать отца: для него, вечного неудачника, сломленного жизнью, в которой он был лишь странником, смерть означала окончательное единение с народом и страной. Это был единственный доступный ему способ хоть как-то выполнить свои обязательства по отношению к прошлому.
Но его желание передать все это мне было само по себе достаточно безрассудным: как он мог надеяться, что я выполню то, чего он не сделал, или исправлю его ошибки.
У меня своя жизнь и свои обязательства. И в его завещании нет ничего, что мешало бы мне продать ферму, кроме оговорки насчет материнского согласия. Юридически имело значение только это.
* * *
Позже, направляясь к себе, я занес матери бутыль с горячей водой. Ее прическа была в беспорядке, седые волосы рассыпались по плечам.
— Спасибо, сынок. — Она взяла у меня бутыль. — Ты всегда был таким заботливым мальчиком.
Дверца шкафа у нее за спиной была полураскрыта. Внутри я увидел одну из отцовских курток и изношенные бриджи, в которых он всегда расхаживал по ферме. Меня поразило то, что, даже стиснутый другими одеждами, материал сохранил очертания его тела, форму плеч, закругления на локтях, легкий отвис сзади.
Луи уже спал. Я разделся, лег и задул свечу.
И впервые почувствовал, насколько устал. Долгая вчерашняя поездка, почти бессонная ночь, бесконечный субботний день с его нервными встрясками — все это обрушилось на меня своей накопившейся тяжестью. Я начал медленно погружаться в волны сна. Но тут же внезапно вспыхнул страх: ведь я погружался в тину и никого не было поблизости. Меня обступили мириады ничтожных дневных происшествий: старик, ищущий воду, мычание коров, сломанные очки, скандал за столом во время обеда, отцовский кабинет, припрятанная указка. Все это было теперь лишь знаменьями страха, глубину которого я не в силах измерить. А за этими картинами всплывали другие: Элиза, кесарево сечение, Кэти, уверенно выходящая из лавки, ее трусики, потерянные среди вещей в полутьме, девушки народа ндебеле с голыми грудями, Чарли, предлагающий провести меня сквозь ад, Бернард. (Нет, Бернарда мы отсюда исключим.)
Я пытался разобраться в своих дневных мыслях, так же как сейчас пытаюсь разобраться в том, что я сам снова вызвал к жизни в своих записках. Упрямые старики, марширующие через вельд истории: родоначальник многих поколений, отправившийся в джунгли на поиски Моно-мотапы; глухой, полуслепой патриарх с Библией на коленях и ружьем в руке, нацеленным в невидимых врагов на горизонте; мятежник, поклявшийся отомстить на могилах близких и умерший с копьем в груди; первопроходец, ищущий новую землю обетованную и убитый в глухой ночи; охотник, возвращающийся из леса с телом сына на плечах; старатель, упрямо записывающий в изгнании историю своей жизни и умирающий раньше, чем понял ее смысл; неисправимый мечтатель, без предупреждения исчезающий и неизменно возвращающийся к себе на ферму; мой отец, иссохший и сморщенный, на смертном ложе.
Действительно ли все они были только неудачниками? Или же каждый на свой лад преуспел в укрощении хоть небольшой доли дикости, заплатив за это жизнью, и так постепенно они отвоевывали эту страну для тех, кто пришел после них? Хозяева фермы, кусочка Африки. Не имеющей цены и потому бесценной.
В конце концов я погрузился в беспокойный сон, из которого был внезапно вырван какой-то помехой, голосом, звавшим кого-то. Некоторое время я не мог понять, что случилось и где я. Во дворе лаяли собаки. Кто-то низким голосом уговаривал их замолчать. Я не мог разобрать, чей это голос. Лишь несколько минут спустя мне удалось окончательно проснуться, правда с дикой болью во всем черепе. На ступеньках крыльца кто-то звал вежливо, но настойчиво:
— Nkosikazi! Nkosikazi! Nkosikazi! Госпожа!
Наконец послышался сонный и удивленный голос матери:
— Yintoni, Mandisi? Что случилось, Мандизи?
Мандизи. Значит, что-то стряслось. Я сел в постели, чтобы лучше слышать.
— Kukho inkathazo enkulu ekhaya. У нас большая беда.
Спокойные вопросы матери доносились словно из-под земли.
— Umlibazile na umfazi wakho? Ты опять бил жену?
— Ewe. Да.
— Сильно?
— Ufile, nkosikazi. Насмерть.
Я быстро вскочил. Когда я был уже у двери, Луи сонно спросил:
— Что происходит, отец?
— Неприятности с одним из работников.
Мы с матерью столкнулись в коридоре. Она держала в руке керосиновую лампу. Я пошел было за ней, но холод заставил меня вернуться, чтобы одеться потеплее. Я зажег свечу. Луи тоже встал. Ветер по-прежнему завывал в дымоходе.
Когда я снова вышел в коридор, мать уже крутила ручку телефона, стоявшего возле двери в гостиную.
— Где Мандизи? — спросил я.
— Я отослала его домой. Он будет ждать нас в хижине. Я сказала ему, что вызову полицию.
— Пока суд да дело, он может прикончить еще уйму народу.
— Нет, он будет ждать. Не беспокойся.
Еще несколько поворотов ручки, и коммутатор ответил. Мать попросила полицию. Через минуту в трубке послышался заспанный голос полицейского.
Мы снова разожгли огонь в камине. Мать сварила кофе, и мы втроем сидели у огня, дожидаясь полиции. Мы сидели молча. Нас со всех сторон тяжело обступила темнота. Темнота была и в доме, и снаружи, под слабым мерцанием звезд.
Вскоре после того, как часы в коридоре пробили три, мы услышали шум мотора. Полицейский фургон остановился на заднем дворе. Резкий звук открывающихся металлических дверей. Голоса.
В дверях показались белый сержант и черный полицейский.
— Это на холме за домом, — сказала мать. — Первая хижина. Покажи им дорогу, сынок.
Ведя их туда, я заблудился в темноте и дважды сбивался с тропы.
Я ожидал паники в хижинах, но все было тихо. Когда сержант ярким фонарем осветил хижину, мы на мгновение замерли. Тело лежало на земле, покрытое одеялом, одна лишь рука высовывалась из-под него. Возле покойницы лежали четверо детей, среди них и младенец. Все они крепко спали. А рядом с ними так же спокойно спал Мандизи.
Полицейский сорвал одеяло. Это была Токозиль, которую я видел у нас в доме, молодая женщина с высокими скулами и тонкими чертами лица. Она была совершенно обнажена, тело ее походило на темную статую; кровь была смыта, только рана на щеке и маленькие ножевые раны на груди, на руке и в животе.
Наклонившись, сержант взял Мандизи за плечо и легонько потряс его. Казалось, ему было неловко будить спящего. Мандизи, моргая, сел и удивленно поглядел на полицейского. Затем кивнул.
— Все правильно, nkosi.
Мы с Луи помогали нести вниз тело, завернутое в серое одеяло и перетянутое белыми веревками. Мандизи нес младенца. Остальных детей будить не стали. В нашей маленькой процессии, спускавшейся вниз, в бесконечность ночи, было нечто воистину нереальное: сержант с фонарем возглавлял шествие, вслед за ним шел высоченный гладиатор со спящим младенцем на руках, за ним полицейский, затем Луи и я. Нереальное: не только из-за моей близорукости, но и из-за торжественности и тихого величия происходящего, словно мы все играли в немом фильме.
Когда мы подошли к воротам, из кухни вышла мать и взяла у Мандизи младенца.
— Не тревожься о нем. Я за ним пригляжу.
— Спасибо.
Полицейский открыл заднюю дверцу фургона для Мандизи. Он сел в фургон, дверь захлопнулась, и послышался лязг железной цепи. Мотор заработал. Минутой позже машина исчезла за поворотом.
Мать уже унесла младенца в дом. Мы с Луи стояли в глухой темноте двора. Ветер стих. Было очень холодно.
И вдруг Луи странно изменившимся голосом, почти благоговейно, произнес:
— Nkosi sikelel’ iAfrika.
Воскресенье
1
Все случившееся в тот уикенд, даже убийство, само по себе было не столь уж важно. Я все яснее понимаю это. Существенны были не сами события, а то, что вовлекалось ими в общий водоворот. И если я ощущаю потребность описать все это, то отнюдь не из желания просто довести повествование до конца (это не та цель, к которой я стремлюсь, мне совсем не хочется встречаться с тем, что меня там поджидает). Мною движет совершенно иное: стремление к основательному прояснению всех событий с отчетливым пониманием того, что этого нельзя делать в спешке. А время идет, я пишу уже пять дней.
Я никогда особенно не прислушивался к прогнозам «Римского клуба», однако в их первом докладе был образ, прекрасно передающий мое нынешнее состояние. Это детская загадка, демонстрирующая внезапность, с какой данная величина достигает внутри определенной системы фиксированного предела. Водяная лилия, растущая в пруду и ежедневно удваивающая свои размеры. Если позволить ей расти свободно, она за тридцать дней покроет весь пруд и убьет в нем все живое. Долгое время растение кажется маленьким, и вы не беспокоитесь, не подрезая его. Наконец оно занимает полпруда. На который день это случится? Разумеется, на двадцать девятый. И тогда на спасение пруда у вас останется всего один день.
* * *
В ту ночь на ферме было страшно тихо. Не скрипели половицы и балки на потолке, не вздыхали во сне собаки, не стрекотали сверчки. Я даже не слышал дыхания Луи. Должно быть, какое-то время я спал и видел кошмары, но потом проснулся. Усталость тяжелой рукой придавила меня к постели, но снова заснуть не удавалось.
Несколько часов назад в этой же самой тьме произошло убийство, но сейчас оно казалось почти нереальным, просто частью долгих ночных кошмаров. И все же я вместе с остальными переносил тело с холма.
Рядом со спящим мужчиной и спящими малышами эта обнаженная молодая женщина с крепкими грудями, плоским животом, волнующей линией бедер и длинных ног. И раны на теле, словно маленькие мокрые губы. В той сцене была простота, потрясшая меня. Назовем ее невинностью.
Даже в глубине моих мыслей не было похоти. Мое отношение к красивому неподвижному лицу и прекрасному телу было достаточно отстраненным, «эстетическим». Но меня поразило то, что чернокожая женщина может быть столь красива. Лежа в постели, я вспоминал ее тело и отказывался верить своей памяти.
Из комнаты матери порой доносился сердитый плач младенца, а затем слышался ее голос, убаюкивающий ребенка. Ее голос будил нечто атавистическое в моем подсознании и в то же время словно подтверждал реальность того, что произошло сегодня ночью. Да, это действительно произошло, женщина была мертва.
А случилось бы это, если бы я не устроил нагоняй Мандизи? Бессмысленный и нелепый вопрос.
Но особенно заинтриговала меня той ночью (да интригует и сейчас) неожиданная вспышка первобытной дикости всего в нескольких сотнях ярдов от нашего дома. Словно весь примитивный невидимый мир на мгновение приоткрылся мне благодаря этому варварскому поступку. И не просто «их» мир, «их» образ жизни. Приоткрылось нечто более темное и значительное, нечто относящееся к самому нутру фермы, столь же таинственное и опасное, как подземные источники под домом, о которых мы никогда не подозревали. Мне трудно определить это точнее. Помню только, что все это чрезвычайно взволновало меня. До сих пор я был поглощен воспоминаниями об отце и нашей историей. Но где-то таились иные силы, чуждые отцу, — силы, быть может, более родственные тому юноше, что спал сейчас напротив меня в темной комнате.
Мое детство. Каникулы на нашей ферме, долгие уикенды на ферме моего друга Гейса в десяти милях от города среди скалистых хребтов и голых холмов. В моем жизненном опыте уже тогда было много жестокости, той жестокости, которую и осуждать-то невозможно. Более примитивной. Бродя по вельду, там, откуда можно было наблюдать полет ястребов, я порой натыкался на мертвую газель, уже наполовину съеденную, с зелеными экскрементами в развороченных кишках, с измазанной грязью шкурой. Или на отбившуюся от стада овечку с выклеванными глазами, с кровавыми дырами в обезображенной голове, с языком, вывороченным из еще блеющей пасти. Рождество в деревне, когда фермеры приводили на убой овец для Женского благотворительного общества. Мясо, аккуратно завернутое в коричневую бумагу и упакованное в провощенные коробки вместе с мукой, сахаром, кофе, свечами, сгущенным молоком, сладостями и маслом, рассылалось потом беднякам. Почему-то — мать была не то председателем, не то секретарем общества — овец всегда резали у нас на заднем дворе. Этим занимался работник с фермы, но я стоял поблизости, и порой он позволял мне держать овцу за голову, чтобы оттянуть ее назад и обнажить овечью шею для быстрого и острого как бритва ножа. Теплая красная кровь заливала мне руки и одежду. Но в самом этом ужасе таилось нечто притягательное. Запах крови, навоза, мочи — запах смерти. Во встрече со смертью было и подлинное открытие жизни, обогащающее и придающее сил. Примитивная невинность. (Опять это слово.)
Тот день, когда я чуть не утонул у запруды, увязнув в тине, и меня спас Мпило. Под вечер на закате я отправился вверх по холму, осторожно прокравшись мимо дома, чтобы меня не заметили. Мне хотелось отблагодарить кого-то за спасение от смерти. Бога Ветхого завета, дарующего и лишающего, горящего кустом терновника и принимающего жертвы в огне на алтаре. Бог — такое имя я дал ему, ибо иных не знал. Но само желание отблагодарить кого-нибудь исходило из какого-то глубинного таинственного источника.
На узкой тропке, образованной руслом пересохшего ручья, я построил из камней алтарь и положил на него хворост. Решиться на жертвоприношение было нелегко. Я поглядел на фокстерьера, небольшую собачку с разинутой пастью и обрубленным хвостом, которая прибежала следом за мною. Но мне было жаль приносить в жертву свою собаку. Наконец я решил пожертвовать новый перочинный нож, тот самый, который обещал Мпило. Открыв оба лезвия, чтобы показать господу, что нож не какой-ни-будь завалящий, я возложил его на алтарь, упал на колени и начал молиться, ожидая, что хворост вот-вот загорится от молнии небесной. Я даже отполз подальше от алтаря на тот случай, если господь чуть промахнется своей молнией.
Каждые несколько минут я открывал глаза, чтобы убедиться, что хворост еще не загорелся, в полной уверенности, однако, что это произойдет. Видя небо по-прежнему безоблачным, я лишь принимался молиться с еще большим рвением.
Я повторил все молитвы, когда-либо слышанные от отца и деда: о бедных и страждущих, о властях предержащих и так далее. Но ничего не происходило. Уменьшилась ли от этого моя вера? Разумеется, нет. Я вновь и вновь начинал все сначала, пока у меня не заболели колени. «Отче наш», десять заповедей, А любви не имею… — все, что я запомнил за свою недолгую жизнь, в том числе и несколько мирских стихов. Ничего. На землю спускалась темнота.
Я засомневался в воспоминаниях отцов церкви, но все же решил не лишать бога его шанса в том случае, если он оказался в данный момент занят чем-то другим. Я оставил нож на алтаре, чтобы бог мог принять жертву ночью. Может быть, он не хотел делать это у меня на глазах. В более или менее ультимативной форме я еще раз описал богу всю ситуацию, а затем шмыгнул в становящиеся тревожными сумерки.
Ночью разразилась одна из обычных для здешних мест гроз: небо над фермой пламенело и грохотало, ветер с корнями вырывал деревья, земля содрогалась, бешеные потоки бурой воды сбегали вниз по холмам. Утром гроза прекратилась, лишь ветер продолжал неистовствовать. Я выскользнул из дому на разведку. Русло ручья было завалено камнями, обломками скал, вывороченными деревьями. Ни алтаря, ни ножа я, конечно, не нашел.
Я так и остался в тревожной неуверенности: услышал ли бог мою молитву и принял ли мою жертву, хотя и не так, как мне хотелось бы, а собственным, непостижимым способом. Или он обрушил свой гнев на меня и мой алтарь, как поступил когда-то с Каином? Или он был здесь вообще ни при чем — может, буря разразилась сама по себе? Или же любовь и гнев настолько сродни между собой, что я просто не в силах различить их?
Лишь одно я знал наверняка: никогда более моя вера не будет столь трепетна и огненна, как в тот день. Словно потом во мне иссяк какой-то источник. И думая сейчас об этом, я понимаю: что-то непоправимо изменилось на пути от тогдашнего мальчика к сегодняшнему мужчине. Где-то я потерял дикарскую невинность. Где и когда? И была ли эта потеря неизбежной?
Первая призрачная заря уже брезжила в окнах. Кричали петухи. В комнате матери снова заплакал ребенок, она принялась успокаивать его. Я встал и налил себе воды из глиняного кувшина, стоявшего на умывальнике. Стакан звякнул о горлышко кувшина.
— Ты тоже не спишь? — спросил Луи.
Я обернулся, но не смог разглядеть его в темноте.
— А я думал, ты спишь.
— Нет, не могу.
— Скверная история, верно?
— Какая она была красавица, отец!
Под покровом тьмы согласиться было легче.
— Да. Просто потрясающая.
Было очень холодно, и я опять забрался в постель. Меня почему-то разозлило, что Луи тоже нашел ее красивой. Но мое нынешнее раздражение отличалось от того чувства, что я испытал в день рождения Ильзы у бассейна или когда стоял в толпе, криками подстрекавшей сидящего на карнизе человека.
Непонятно, почему я вдруг вспомнил, как однажды Луи — ему было тогда лет пять или шесть — прибежал домой из сада с растрепавшимися волосами и закричал: «Папа, папа, знаешь что?» — «Что?» — «Я стоял у дерева. У груши. И вдруг услышал, как стучит мое сердце!» Он тоже изменился с тех пор. И не желал говорить об этом. Но может быть, сейчас, в интимной темноте, он сбросит наконец свой панцирь?
— Ты, наверное, порядком насмотрелся на мертвецов в Анголе? — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно небрежней.
Он ответил не сразу. Я, признаться, уже отчаялся услышать ответ, как вдруг он сказал:
— Да, до фига. Но едва ли это имеет значение. Пока не видел трупы, думаешь, что это страшное зрелище. А потом видишь и понимаешь, что самое обыкновенное. Довольно банальное. — Он помолчал. — Вот чего я действительно не понимаю. Почему все выглядит таким обыкновенным?
— Ты сильно переменился, — сказал я.
— Конечно. — В его голосе вновь послышались горькие отчужденные нотки. — Ведь не зря же говорят, что война делает человека мужчиной.
— А что там на самом деле произошло?
— Трудно сказать. Что-то вроде крещения. Или посвящения. Или что-то такое.
— Женщины?
Он нервно засмеялся:
— Какой ты викторианец, отец… Неужели ты не можешь вообразить ничего, кроме сексуального посвящения?
Я не ответил. Разговор балансировал на такой грани, что я боялся подталкивать его.
Но он снова заговорил:
— Женщины, конечно, тоже. — И после долгой паузы, словно желая сначала хорошенько все продумать, продолжал: — В тот день мы вошли в Са-да-Бандейра. Мы ехали двадцать часов без остановки. Перед нами уже поработали, так что настоящей опасности не было. Только случайная мина или снайпер. Мы въехали в какую-то деревушку. От нее почти ничего не осталось, все разнесли в щепки. Мы устроились в полуразрушенном здании муниципалитета. Кругом были разбросаны бумаги, разодранные папки, вещи, все вверх дном. Мы трупами валились на пол и засыпали. Ночью послышался какой-то шум. Это чернокожие солдаты из унитовцев приволокли женщину. Молодую португалочку. Ей было не больше четырнадцати. Я слышал, как кто-то сказал, что ее поймали, когда она со своим семейством пыталась удрать из Луанды. Мы в те дни повсюду наталкивались на беженцев. Она не плакала и не кричала. Даже не просила, чтобы ее не трогали. По-моему, она немного свихнулась. Ее глаза все время были широко раскрыты. Она, кажется, даже не моргала. Они пустили ее по кругу. На ней не было ничего, только обрывок воротничка на шее. И маленький золотой крестик между грудей. Жалкие такие груди, меньше яблока. Ляжки у нее были запачканы кровью, не слишком сильно, так, чуть-чуть.
— Ну и что? — спросил я, когда он опять надолго погрузился в молчание.
— Знаешь, отец, мне хотелось снять что-нибудь с себя и прикрыть ее. Но что толку? Когда столько позади, уже больше ни о чем не думаешь.
— Вероятно, это необходимо, чтобы выжить, — мягко сказал я.
— К черту, — продолжал он, словно не слыша, — какая она была кроха без платья. Некоторые кажутся такими крепкими, а снимешь с них платье… но эта малышка, о господи!
Я молча ждал. Через некоторое время он снова заговорил:
— Так бывало и в других местах. Не особенно часто, потому что за нами следили. Но время от времени кто-нибудь что-нибудь учинял. Нам было наплевать, что будет потом. Мы всюду ухитрялись раздобыть выпивку и женщин. — Внезапно в его голосе снова послышалось раздражение: — Но это не важно. Дело-то не в этом.
— А в чем?
— Хотелось бы мне понять. Едва ли это можно выразить двумя словами. Нет, все не так просто. — Он вздохнул. — Все это было каким-то кровавым фарсом. Нас надули. С того самого дня, когда уговорили туда отправиться.
— Почему?
— Понимаешь, нас вовсе не заставляли. Но в армии, черт побери, на все есть только два ответа: «Так точно» и «Никак нет». А не отправиться в Анголу означало: «Никак нет». Знаешь, они говорят: «Покажите, парни, на что вы годитесь. А те, что не подпишут, будут хуже поганого акульего дерьма на дне самого распоганого моря». А думаешь, кому-то хочется осрамиться перед товарищами? Вот мы и согласились, большинство из нас. Господи, да разве мы знали, что нас ждет? Ведь речь шла о защите границы. Все казалось просто веселым приключением.
— Но тебе вроде бы даже нравилось в военном лагере? Приезжая домой, ты только о нем и говорил.
— А что знаешь о войне, сидя в лагере? Тебе «дают прикурить», ведь ты салага-новобранец и раб старших, но это армия, там это нормально, и ты постепенно привыкаешь. Но Ангола… — Снова пауза. — Знаешь, что чувствуешь в этих богом забытых джунглях, на приличном расстоянии от Луанды, когда сидишь у костра и слышишь, как по радио какой-нибудь ублюдок из правительства убеждает не беспокоиться, говорит, что наши войска просто защищают границу у Руаканы и Калуэки, что мы вовсе не заинтересованы в оккупации других стран? Сидишь так и думаешь: господи, да он же говорит, что нас здесь нет, что мы вообще не существуем на свете. Даже если мы все подохнем в этих джунглях, они объявят, что этого не было. И тогда начинаешь спрашивать себя, какого черта тебя сюда принесло.
Я подавил желание отчитать его за грубые слова. Да он и не услышал бы меня, он говорил не умолкая, его словно прорвало.
— Однажды прибыло начальство осмотреть район операций. Мы все вылизали и надраили, и тут они прилетели на вертолетах. Все улыбались: какая славная война, и прочая чертовщина. Но позже, вечером, когда мне приказали принести еще выпивки нашим начальничкам, я услышал, как один — он был уже сильно пьян — сказал другому: «Послушай, генерал, такое дело. Хорошо бы избавляться от этих чертовых трупов на месте, а не отсылать их домой. Мне надоело устраивать каждую неделю эти дерьмовые похороны героев».
Стало уже светлее; я увидел, как Луи сел в постели.
— Знаешь, отец, от такого кишки выворачивает. Опять начинаешь думать: из-за этих ублюдков в Претории мы здесь все подохнем. Это ваша дерьмовая война, а не наша. Нам плевать на все это. Но убивают нас. я вы умываете свои жирные ручки.
— Я, пожалуй, понимаю тебя, Луи, — сказал я, не зная, как утихомирить его.
— Что ты понимаешь? Я тебе еще ничего не рассказал. Ни черта ты не понимаешь.
Больше не требовалось вовлекать его в разговор, теперь его было не остановить. Словно в душе у него прорвалась плотина, и мне оставалось только молча наблюдать, как неудержимый поток выплескивается наружу.
— Пойми меня правильно, отец. Я не жалею, что побывал там. Всегда, знаешь ли, гадаешь, особенно в лагере: а если начнется настоящая заваруха? Не сдрейфлю ли? Не наложу ли полные штаны? Выдержу ли?
— Ну, ты-то выдержал нормально.
— Да, нормально. Я ни разу не наложил в штаны. Я не был трусом. Другому и этого вполне довольно. Но не мне. Как бы тебе объяснить? Понимаешь, когда я попал туда и стали рваться гранаты, падать бомбы, а над головой погаными мухами свистели пули, думать о трусости стало просто нелепо. И дело тут не в храбрости и подобной ерунде. Единственное, о чем думаешь, — как бы получше прицелиться. Не то чтобы я вообще перестал думать. Если бы я мог. Но мне было наплевать, что происходит. Я ничего не чувствовал. И когда я выдюжил, я понял, что уже ничто не сможет потрясти меня. Ничто. Ни смерть, ни раны, ни грязь, ни жестокость. Я стал мужчиной, так, по-видимому? Но потом приходит и кое-что другое. Начинаешь понимать, что порядок в этой стране держится только потому, что нам всем плевать на нашу совесть. Иначе он давно бы уже полетел ко всем чертям. И я сам своей жестокостью и безразличием помогаю этой поганой стране процветать.
— По-моему, это вполне естественная реакция. Ты еще не оправился от потрясения. Время все залечит.
— К потрясению это не имеет никакого отношения. Как раз наоборот. Меня уже ничто не может потрясти. Можешь ты это понять?
— Но что так на тебя подействовало?
— Я уже сказал, это не сведешь к отдельному случаю. Весь этот бардак в целом. Некоторые из моих дружков вышли оттуда с улыбочкой. На них ни царапины. Они такие же хорошие и надежные парни, как и раньше. Просто потому, что им удалось не думать.
— Не думать о чем?
— Обо всем. Просто не думать. Я же тебе говорил: с эмоциями я управился, но с мыслями, господи, тут дело другое. Однажды, сразу после того, как мы прошли Перейра-д’Эка, я убил своего первого. Всегда чувствуешь тот момент, когда попадаешь в цель. И даже получаешь какое-то удовлетворение. Как-никак ты солдат, а солдат имеет право убивать, и, если ты не убьешь его, он раскроит тебе череп. И как-то не думаешь, что он тоже человек. Для тебя он просто враг. Так что все в порядке. Даже важничаешь чуть-чуть, и бывалые вояки хлопают тебя по плечу — молодчина! Но от мыслей не избавиться. И скоро начинаешь спрашивать себя: а почему у солдат есть право убивать? Кто его дал? А если начал, то уже не остановиться. Никак не остановиться.
За окном все светлело. Луи продолжал свой рассказ. Я не мешал ему, ожидая чего-то. Чего? Я сам не знал, и все-таки надеялся, что когда-нибудь дождусь.
В комнате матери опять заплакал малыш, но его тут же успокоили. Я слышал, как она встала, оделась и пошла в ванную. На кухне тоже все пришло в движение. Лилась вода, трещал хворост, звякали чашки и блюдца. А потом из столовой послышался голос матери. Она молилась, как и вчера, как каждый день; она пела свой утренний гимн, с болезненной искренностью выводя каждую ноту. Затем все надолго смолкло. Я знал, что она ждет меня. Но я лежал, слушая Луи, следуя за ним сквозь все передряги этой злополучной кампании — короткие стычки и ожесточенные бои после недолгих привалов в лагерях и деревнях, — слушал, объятый суровым дыханием смерти, по-прежнему ожидая того таинственного мига, когда части мозаики сложатся в единый узор. Я знал, что услышанное не отпустит меня весь день. Мне придется вернуться к отдельным эпизодам, прокрутить их заново в поисках их значения, в поисках Луи, а быть может, и самого себя. Где-то позади был тот поворотный пункт, который изменил нас обоих. Может быть, мы оба что-то утратили при этом? Или, наоборот, приобрели? Надо ли радоваться этому или огорчаться? И в чем подлинный смысл столь часто повторяющегося слова «невинность»?
— Сомневаюсь, что ты что-нибудь понял, — сказал он под конец, поглядев на меня.
Солнце уже освещало крыльцо. В хлеву громко мычали коровы. Луи покачал головой:
— Ни черта ты не понял.
* * *
«Неужели ты не можешь вообразить ничего, кроме сексуального посвящения?» Не знаю, по-моему, это особенность всего нашего поколения. Почему-то мне вспомнилась вечеринка в доме Тильмана Пау, когда его жена уехала на уикенд. Мы все скинулись по десятке на выпивку и стриптизерку. Явная мастерица своего дела, она раздевалась и танцевала с максимальным эффектом. Змейкой вертясь между нами, она предложила нам обмазать ее маслом, все ее небольшое тело. Странно было чувствовать, втирая в нее масло, как она дрожит под руками. Глаза ее блуждали где-то, не видя нас, губы были сложены в неподвижную профессиональную улыбку. Казалось, будто она боится нас. Что уж совсем напрасно: мы все приличные люди, никто из нас ее бы не обидел. Ну а если она решила зарабатывать на жизнь подобным образом, то это ее дело, об эксплуатации здесь не могло быть и речи. На самом деле мы лишь помогали ей.
2
Когда я вышел на кухню, там не было никого, кроме старой Кристины, готовившей на плите кашу. За спиной У нее был привязан ребенок Токозили.
— Доброе утро, Кристина, — сказал я. — Теперь ты стала нянькой?
— Ах, баас, — она налила мне горячего кофе, — Токозиль ведь даже не плакала. И никогда ничего нам не говорила. Все эти годы она позволяла Мандизи делать с ней что угодно. Это ведь уже давно началось.
— Что теперь будет с детьми?
— Их заберет мать Токозили. Госпожа звонила туда сегодня утром.
— А где сейчас госпожа?
— Она пошла в коровник, баас. На ферме сегодня никто не работает. Только Мдоко.
— Почему же она не сказала мне?
Я пошел в ванную, чтобы позвать Луи. Он мылся, согнувшись над раковиной, голый по пояс. Гладкое худощавое тело подростка, но мускулы уже тугие и отчетливо заметные.
— Луи, сегодня некому доить коров. Пойдем поможем бабушке. Кристина даст кофе, а потом присоединяйся к нам.
Во дворе у задней двери грелись на солнце трое малышей. Должно быть, дети Токозили.
— Идите на кухню к печке, — сказал я им.
Они молча смотрели на меня большими темными глазами. Я показал рукой в сторону кухни, но они даже не пошевелились. Ну ладно. Им, наверное, к холоду не привыкать.
Собаки с приветственным лаем примчались ко мне, и я с трудом отогнал их. Войдя в коровник, я увидел там мать и молодого чернокожего работника. Он широко улыбнулся мне, но не поздоровался.
Четкими, размеренными движениями мать доила корову, молоко лилось в подойник, пена выплескивалась через край.
— Почему ты не разбудила меня, мама?
— Сказано же, не буди дремлющих псов, — улыбнулась она.
— Будь я на твоем месте, вся эта ночная история оказалась бы последней каплей.
— Вот поэтому ты и не на моем месте.
— С тобой становится трудно.
— Ты пришел помогать или ругаться? — спросила она и затем неожиданно перешла на коса: — Мдоко, пойди привяжи корову для бааса. Хочу посмотреть, не разучился ли он доить.
Отодвинув ведро, помощник привязал корову в соседнем стойле. Он принес подойник, скамеечку и протянул мне банку с жиром, чтобы смазать вымя. К моему неудовольствию, он не вернулся к своей корове, а остался у меня за спиной.
Поначалу мне пришлось трудновато: никак не удавалось ухватить тугое вымя, и корова несколько раз взбрыкивала и грозила мне рогами. Но когда первая струйка молока брызнула мимо ведра мне на брюки, она начала успокаиваться, а я постепенно вошел в знакомый с детства ритм.
— Неплохо, — заметила мать. — Если и дальше так пойдет, ты еще сможешь когда-нибудь стать настоящим фермером.
Я уже почти не мерз. Из ведра, крепко зажатого между колен, шел пар, я вдыхал теплый запах коровы, молока и навоза. Погрузившись в совершенно особое состояние покоя, я чувствовал, как усталость уходит из души и из тела. (В детстве мы с Тео часто пили молоко прямо из вымени.)
Подоив свою корову, мать поднялась:
— Раз уж ты взялся за дело, пойду посмотрю, что в доме. Вон и Луи идет тебе в помощь. Не возись сегодня с сепаратором, телята могут для разнообразия попить и парного.
— Да ты настоящий дояр, — сказал Луи, входя в коровник. — Привет, Мдоко.
Юноша что-то ответил ему, и они разговорились. Я с удивлением слушал, как бойко Луи болтает на коса. Хотя, конечно, он молод и не успел забыть то, чему научился в детстве.
— Откуда ты знаешь, как его зовут? — спросил я, когда Луи уселся на место матери.
— А ты его не помнишь? Мы всегда вместе играли, когда я был маленьким. Потом он куда-то исчез.
— И ты узнал его?
— Он приходил вчера в сарай, когда я возился с движком. Я был рад снова повидать его. Он говорит, что у него тогда умер отец и ему пришлось жить у родственников матери.
Мне это было совершенно неинтересно, но я делал вид, что внимательно слушаю его. Он был все еще разговорчив после своей ночной исповеди.
— В прошлом году он стал мужчиной, — сказал Луи. Молоко тонкой струйкой лилось в подойник. — Это нешуточное дело. Тебе что-нибудь известно об их обряде посвящения?
— Обрезание и все прочее? Да, я знаю.
Я вспомнил легкий ужас, с каким мы в детстве следили за амаквета — прошедшими обряд инициации молодыми людьми, — которые возвращались на ферму, с головы до ног измазанные белой глиной и совершенно голые, если не считать узкой набедренной повязки. Завидев нас, они обычно скрывались в кустах. А что там творилось, мы могли только догадываться. В такие ночи из крааля доносились музыка и пение, но днем все шло своим чередом, словно ничего и не было.
— Тебе рассказал Мдоко? — спросил я, помолчав.
— Да. Он говорит, что хотел дождаться нынешнего года, но пришлось пройти через это в прошлом году, когда явился инкиби. Потому что было время перед засухой. Он говорит, что в засуху не разрешается делать обрезание.
— А кто такой инкиби?
— Старик, который приходит из джунглей и занимается обрезанием. Кажется, в новолуние. Для чего-то тут нужно новолуние.
Как и несколько часов назад, я сидел, слушая его и радуясь его юношескому воодушевлению, которое так надолго пропадало. Хотя в том, что он рассказывал, для меня не было ничего особенно нового, я не прерывал его непринужденное повествование.
Он рассказывал о хижине амаквета, построенной в пустынном месте, где никто до сих пор не жил, и выстланной внутри мягкой травой, словно птичье гнездо. О первом козле, принесенном в жертву в краале, о бритье, после которого тело и голова становятся гладкими как у новорожденного, о захоронении волос в вельде. Вслед за этим надлежало подвергнуться насмешкам и ругани стариков, и, если ты хоть глазом моргнешь, тебя отстранят от дальнейшего испытания. Когда выдержишь первое испытание, получаешь ритуальный пояс, сплетенный из волос хвоста стельной коровы. И тогда тебя ведут в тайную хижину в джунглях, где в молчании сидят старики.
Затем наступает черед ритуального купания, очищающего от всякой скверны; вернувшись после купания чистым и голым, лишь с кароссой[11] на плечах, садишься наземь, широко расставив колени, и инкиби приступает к своим обязанностям. Зажав пальцами левой руки крайнюю плоть, он молниеносно отрезает ее. Но если на твоем лице появится хоть малейший признак боли, ты навеки опозорен. Обтерев ассегай о твою кароссу, инкиби вручает тебе отрезанную кожу, чтобы ты бросил ее в муравейник. Как только ее съедят муравьи, ты должен выпить воду, в которую намешана земля из муравейника. Раненую принадлежность оборачивают листьями, а на следующий день твое тело обмазывают ритуальной белой глиной. Теперь ты вправе охотиться и добывать себе пропитание вдали от человеческого жилья. Так проходит несколько недель, пока в краале не принесут в жертву второго козла. Тогда раздается ночное пение, и амаквета переходят из крааля в крааль. А когда все наконец завершится, ты возвращаешься, чтобы вновь омыться в водах. Каждый юноша получает от отца повязку, свидетельствующую о его взрослости. Тайную хижину сжигают вместе со всеми предметами, нужными для посвящения. И ты чувствуешь себя родившимся заново, можно даже взять себе новое имя. В краале устраивается пышное празднество — Пляска Большого Быка. Обмазанные красной глиной юноши могут до зари веселиться с девушками, ибо теперь они посвящены, теперь они мужчины. А вокруг сидят их родичи, хлопая в ладоши и громко крича: «Так тому и быть!»
Слушая рассказ Луи, я вдруг подумал, что в таком посвящении есть нечто крайне разумное, не оставляющее человеку ни выбора, ни сомнений. Такое посвящение куда проще, чем то, что было у Луи, да и у меня тоже. Разве знал Луи, что его ждет в Анголе?
Вместе с Мдоко они выгнали стадо через задние ворота в вельд, хотя сейчас там совсем не было травы. К вечеру коровы вернутся, и их покормят.
Я смотрел, как коровы в разные стороны разбредаются по вельду. Но мысли мои по-прежнему были заняты тем, что под утро рассказал мне Луи.
Мы перешли границу у Ошиканго после недельного пребывания в Гротфонтейне. Господи, видел бы ты, какая там грязь. Мы измазались с головы до ног. Так или иначе, мы перешли границу. Странное чувство. Все вдруг стало совершенно другим. Мы несколько раз за последнюю неделю форсировали Кунене. Уже это само по себе было необычно: крошечный мостик через гигантскую реку. Внезапное чувство, что здесь-то и начинается настоящая Африка. Но это далеко не так. В Руакане и Калуэке еще чувствуешь себя среди своих. Но с того дня у Ошиканго все пошло иначе. По эту сторону границы многое выглядит привычно. Бензоколонки, маленькие неказистые домишки, полицейский участок и перед ним мешки с песком. А на другой стороне, у Санта-Клары, о господи! Там, понимаешь, ничего почти не осталось. Дома без крыш, сорванные двери, дыры вместо окон. Даже бензоколонка у гаража взорвана. Улицы завалены бутылками, жестянками и всякой дрянью. И кругом надписи на португальском языке: долой то-то или да здравствует тот-то. На всех стенах и даже на асфальте среди рытвин.
Мы продвигались вперед. Никому не хотелось разговаривать. Снова начался вельд, но и он выглядел как-то странно, что-то пугающее и угрюмое чувствовалось даже в самом воздухе. Было очень жарко и тихо, зелень травы, кустов и деревьев казалась какой-то ядовитой. То тут, то там нам попадались фермы, полуразрушенные дома: двери и рамы выломаны, стены почернели от дыма.
Кое-где во дворах мы видели цыплят. Если бы мы знали, каково будет дальше, мы бы поймали их и взяли с собой, хоть они и были такие тощие. Один раз мы даже свинью видели. И пятнистую корову с огромными рогами.
И вот мы пришли в Перейра-д’Эка. Разграбленные лавчонки, заколоченные окна. Жалкие домишки с разрушенными верандами. Здание банка, у которого был снесен весь фронтон. Улицы по лодыжку в грязи. И ресторан с чудом уцелевшей вывеской: «Ресторан Руакана», или что-то такое, раскрашенные стены и обвалившиеся арки. И опять, куда ни глянь, всюду надписи: Viva MPLA! Viva FNLA! Abaixo neocolonialismo! Viva Roberto![12] И посреди всего этого бардака гигантская церковь с рухнувшей крышей, будто обломки какого-то корабля, выброшенного на берег.
Здесь мы и остановились. Уже тогда, хотя мы еще не побывали в бою, в нас словно что-то оборвалось. И все же пока во всем был, как бы это сказать, оттенок приключения, что ли. «Оперативное пространство» вдруг стало совершенно конкретным. Это была страна с полями и деревнями. Мы действительно переступили через какую-то границу.
Но было и нечто другое. Предчувствие, что предстоит пересечь и не такие границы. Границы другого сорта.
Мы все были напичканы баснями о том, как зададим им жару, нам не терпелось встретить «врага». Но право, там было неподходящее место для такой встречи. На следующий день мы увидели беженцев. Вдоль обочин стояли машины, брошенные, когда кончился бензин. Мы встречали стариков, детей, глазевших на нас. Но мы не падали духом. Мы думали: «Не бойтесь, ребята, мы пришли помочь вам, пришли навести здесь порядок. Мы вышвырнем поганого врага из вашей страны».
Но постепенно все меньше веришь подобной болтовне. Тем более после того, как столкнешься с врагом лицом к лицу. Я имею в виду не то, когда лежишь в траншее, а он прячется в буше или когда вовремя обнаружишь мину и обезвредишь ее. А когда действительно столкнешься с ним лицом к лицу. Это совсем другое дело.
Сразу после Бенгелы мы впервые повстречали кубинцев. К этому времени их уже порядочно поколотили, но кое-где они еще держались. Однажды неподалеку от железной дороги они остановили нас на целых три дня. На подмогу к нам никто не спешил. Под конец у нас и еды-то почти не осталось. Мы ели в траншеях консервы и пили сырую воду, и то и другое было на исходе. Но мы вышибли их из нор, и они побежали, побросав оружие. Тогда я и увидел своего первого убитого — наш джип наехал на него. Я попал ему прямо в грудь. Его рубашка намокла от крови, а все же казалось, что он просто спит.
Он был очень молод. Моих лет, я думаю. Наверняка не старше девятнадцати. У него в кармане наikи фотографию девушки. Не особенно красивая, но довольно миленькая. Думаешь, я распустил сопли? Ничего подобного. Я не был ни испуган, ни потрясен. Но помню, как подумал: «Ах ты черт, кто же ей теперь об этом расскажет?»
Потом мы до вечера ставили палатки и укрепляли траншеи. Я был в команде, разбивавшей походный сортир — ряд зеленых пластиковых стульчаков, которые мы повсюду таскали с собой. И тут мы заметили между деревьев несколько длиннорогих коров с телятами. Мы бросились к ним и стали пить молоко из вымени. Дерьмовая работенка, но дело того стоило. Двое или трое держали корову, пока один пил. Мы все перепачкались, одежда была в молоке. Это выглядело так, словно мы сдуру решили выкупаться в молоке.
В ту ночь, лежа в спальном мешке, я думал о «своем» кубинце. Я не мог заснуть, хотя за три дня был совершенно измотан. Я думал, какого черта этот молокосос приехал сюда, за тридевять земель? Может, он тоже поначалу не знал, в какой жестокой войне будет участвовать? Нам-то ведь ничего не сказали. Мы знали только, что ангольцы дерут друг друга в хвост и в гриву и что нам пора вмешаться, пока коммунисты не взяли верх. Хотя нас это совершенно не касалось. Мы участвовали в чужой войне.
Той ночью я и понял: теперь мы действительно перешли границу. Границу поважнее, чем Кунене. Теперь мы действительно были в чужой стране. И даже искупавшись в молоке, невозможно было отмыться дочиста.
3
Чернокожие рыли могилу за хижинами, где склон холма чуть скруглялся, неподалеку от того места, где Шольцу показалось, что он почуял воду. Там росли алоэ, склонившиеся к земле и пламенеющие цветами даже в такую засуху. Кирки и лопаты с громким металлическим звоном отскакивали от твердой как камень красной засохшей глины. Несмотря на утреннюю прохладу, они работали голые по пояс, тела их были покрыты потом. При каждом ударе они громко выкрикивали что-то. Между алоэ то там, то тут виднелись могильные надгробия.
На ферме моего друга Гейса тоже были такие могилы — в вельде под кустами терновника, вдалеке от жилья — маленькие холмики из камней, выветрившихся под солнцем и ветром. Однажды на заячьей травле мы наткнулись на эти могилы. Чуть не падая с ног от усталости, я уже хотел опуститься на один из этих холмиков, как вдруг Гейс испуганно закричал:
— Постой, Мартин. Не надо! Это же могила!
— Ну и что?
— Если ты сядешь на нее, дух покойника вырвется оттуда и будет преследовать тебя по ночам.
— Чепуха.
Я слишком устал и потому не долго думая сел на холмик. Гейс и Тео переминались с ноги на ногу в тени терновника, испуганно глядя на меня. При свете дня угроза Гейса казалась совершенно нелепой. Я решил выказать свое презрение к суевериям и, прежде чем уйти оттуда, даже помочился на могилу, весело посмеиваясь над страхами моих спутников.
Но тем же вечером все это неприятной тяжестью легло на мою душу, хотя я и не желал ни в чем признаться себе. После того как Тео и Гейс заснули, я еще долго лежал без сна, с головой укрывшись одеялом. В конце концов я все-таки заснул. Но когда посреди ночи я вдруг проснулся, мне показалось, что я очутился в аду: немыслимый шум во дворе, а главное, кто-то сидит на мне верхом и душит меня.
Вскоре, однако, все разъяснилось. Несколько шакалов пробрались в курятник, и собаки набросились на них. Этот шум разбудил Гейса и Тео. Гейс сразу догадался, в чем дело, а Тео в страхе решил, что обиженный мною покойник явился отомстить за поругание могилы, и, видя, как я лежу без движения, прыгнул ко мне на кровать, чтобы узнать, жив я или нет.
Когда мы разобрались, что произошло, мы закатились таким хохотом, что мать Гейса прибежала посмотреть, в чем дело (отец его вышел в это время с ружьем во двор). Потом она повела нас на кухню и напоила сладким кофе. Но мне было жутковато до самого рассвета. Как ни абсурдно, но я пронес через все эти годы чувство почтительного трепета перед таинственными силами, таящимися в земле и готовыми в любой момент без предупреждения ворваться в жизнь живущих.
Когда тебе восемнадцать, считаешь себя бессмертным. И неважно, что ты в армии, что стреляешь с утра до вечера, что под каждым кустом находишь трупы. Просто трудно поверить, что такое случится и с тобой.
Но потом вдруг все меняется. Однажды смерть подходит так близко, что понимаешь: она возможна. Ты можешь погибнуть в любую минуту. Твоя жизнь ломаного гроша не стоит. И это уже совсем другое дело.
Тогда мы прошли Бенгелу и двигались к Ново-Редондо. На открытом участке дороги один из наших бронетранспортеров подорвался на мине. Не авангардный. Кажется, два или три проехали, не задев ее. И вдруг мы услышали взрыв и увидели трупы, раскиданные в разные стороны. Как только мы остановились, застрочили пулеметы и полетели гранаты. Засада. Мы попрыгали с джипов и бронетранспортеров и бросились в кусты, как крысы. Еще десять минут назад было так тихо, что мы слышали насекомых в траве, пение птиц и крики обезьян на деревьях. А теперь словно налетела адская буря. Вступили пушки и минометы, пытаясь подавить наши восьмидесятивосьмимиллиметровые. Господи, они были так близко, что попадали прямо в наши боеприпасы, и те взрывались.
Командир решил послать небольшой отряд в обход, чтобы атаковать противника с левого фланга. Старину Гауси и дюжину парней. Идти надо было по открытому полю, кругом ни кустика, ни камня. Единственная надежда была на то, что оставшиеся отвлекут противника на себя. Гауси пошел первым. Прошел. Затем двое других. Теперь настал черед идти нам с Ронни. Ты помнишь Ронни? Он был со мной еще в лагере. Мы были неразлучны все время. Потрясающий парень, ни бога, ни черта не боялся.
Как только мы вышли на открытое место, они принялись палить. Наверно, заметили первых. Мне не верилось, что я пройду. Но я прошел. А Ронни не повезло. Когда, уже добежав до кустов, я оглянулся, он лежал на земле.
Мы с Гауси пошли за ним. Забавно, что в самом пекле как раз ничего и не боишься. Только потом понимаешь, какого свалял дурака. Мы просто побежали по полю и принесли его. Мы думали, что он, может быть, еще жив. Но конечно, он был мертв. Когда мы бежали обратно, Гауси ранило в плечо. В это время наши восьмидесятивосьмимиллиметровые нашли цель и подавили огонь противника. Через час все было кончено. Наш обходной маневр оказался совершенно ненужным. А Ронни был мертв.
И вот что хуже всего. Винить некого, ответственность возложить не на кого. Это противник. Но кто именно? Видишь его танки и джипы, взрываешь его бронетранспортеры, иногда наезжаешь на его труп, как с тем кубинцем. Но всегда знаешь, что это не тот противник. Тот — другой, у него нет имени, с тем не сквитаешься.
А старина Ронни был мертв. Я помогал нести его тело. Ничего в этом такого нет, несешь, как тюк белья, ничего не чувствуешь. Но знаешь, что Ронни убит. Старина Ронни, умевший обвести вокруг пальца начальство. Старина Ронни, который накануне вечером чуть не наступил на змею, моясь под манговым деревом. Старина Ронни, умевший порассказать о своих бабах. Сладкоежка Ронни, всегда делившийся со мной посылками из дому. Дружище Ронни, который читал мне письма своей девушки. Старина Ронни, в ту ночь в Перейра-д’Эка подпиливший стульчак в клозете, перед тем как наш старшина отправился туда. Старина Ронни был мертв.
Я знал, что его тело отошлют на родину. Ему устроят пышные похороны, и ублюдки из начальства будут злиться, что им приходится тратить свое драгоценное время на это. О нем напишут в газетах, и его матери, может быть, выдадут медаль — его отец давно умер. Я знал, под каким соусом все это подадут. Они скажут, что он погиб в «оперативной зоне, на границе». Никто не заикнется, что он был здесь. Официально нас здесь не было. Мы гибли ни за что. Его жизнь ничего не стоила, как и жизнь всех нас. Они налгали бы то же самое и про всех остальных. Именно это и стало для меня настоящей гибелью Ронни, настоящим убийством.
Я не знал, что он идет следом за мной. Я заметил его, когда он уже вошел в рощу. Остановившись рядом, он некоторое время смотрел, как роют могилу. Кирки по-прежнему вгрызались в землю, каждый раз дюйм за дюймом погружаясь глубже и глубже, но могила все равно не будет вырыта раньше, чем через несколько часов. Они сопровождали работу гипнотически действующей, ритмичной, монотонной песней:
Ndiboleken’ inipeki ndigaule Nobaselitshisa ndigaule. Goduka kwedini. Goduka kwedini. Goduka![13]— Вот почему сегодня никто не работает, — сказал я сыну.
— А что им еще делать?
— Все случившееся совершенно бессмысленно.
— А тебе не кажется, что вообще все на свете совершенно бессмысленно? — угрюмо спросил он.
— Этого можно было избежать. Если бы Мандизи не был таким дикарем, если бы он был более цивилизованным человеком.
— При чем здесь цивилизованность? — В его голосе снова послышались бунтарские нотки, теперь уже относящиеся непосредственно ко мне.
— При том. Три столетия мы пытаемся цивилизовать эту страну, но они сами каждый раз губят все на корню.
— А Анголу мы тоже пытались цивилизовать? Пушками и минометами?
— Ангольцы уже дрались между собой еще до того, как пришли вы, — сказал я и, не давая ему возможности ответить, перешел в атаку: — Говори что хочешь, Луи, но наша страна всегда была самым спокойным местом в Африке. Одно из немногих мест на свете, где еще чтут законы.
— Ты считаешь нашу страну спокойным местом? — спросил он, глядя мне в глаза. — Чему я всегда удивляюсь, так это тому, как тебе удается жить, не замечая, что происходит вокруг.
— Я полагаю, что мы в силах контролировать то, что происходит. — (А повторил бы я это во вторник или в среду? Но тогда было еще только воскресенье.) — Несмотря на случившееся в Анголе, у нас пока еще все в порядке. Конечно, многое нужно изменить, не спорю, но это будет непременно сделано.
— Мы слишком долго ждем этого.
— Не надо все упрощать, Луи. Ты готов бунтовать против всего на свете.
— В этой стране слишком мало того, что можно было бы защищать.
— Ты уверен? Если бы ты сам зарабатывал на жизнь, ты вряд ли говорил бы так. Тебе все кажется слишком простым, потому что все дается тебе слишком легко. Теперь, когда мы укротили эту страну для тебя и таких, как ты…
— Что значит «укротили»? — с бешенством спросил он. Его глаза горели. — Вы разбогатели на этой стране. Вы брали у нее все, что хотели. А пытались вы дать ей хоть что-то взамен?
— Подожди-ка минутку. — Я не мог сдержать улыбки, видя, что он повел атаку в неправильном направлении; я знал ответ куда раньше, чем ему в голову пришел вопрос. — Все, чем я владею, нажито в условиях свободного предпринимательства путем известного риска. И теперь я возвращаю свой капитал, свои знания, умение. Я работаю не покладая рук. Вся наша система базируется на труде людей, готовых давать другим работу, руководить ими и нести за них ответственность. Откуда бы взялся капитал на общественные нужды, если бы я и мне подобные не наживали его?
— А чей труд вы используете?
— А чего бы стоил их труд без моего капитала и руководства?
— Но ты отнюдь не готов делиться с ними!
— О господи, Луи! Ты полагаешь, что банк нужно делить так, чтобы проигравший получал прибыль? На скачках не могут победить все участники. Это бред, черт побери! — (Его язык был заразителен.) — Если лишить человека возможности получать вознаграждение за свои усилия, наш а цивилизация рухнет. А успех основывается на соревновании, на конкуренции. Вот и все.
— Значит, выживание сильнейшего? — возмущенно спросил он.
— Нет. Я не живу за счет других. Я использую знания и капитал, чтобы научить и их добиваться успеха.
— Каждый успокаивает свою совесть по-своему.
— Ты считаешь богатство позором?
Все это время наш спор сопровождался монотонным пением и стуком кирок о землю.
— А тебе никогда не бывает страшно? — неожиданно спросил он, нанося мне удар ниже пояса.
— Страшно? Чего?
— Того, что все это вдруг кончится. Взлетит на воздух.
— В таком случае они потеряют куда больше, чем мы. Они слишком хорошо знают, что их экономическое развитие целиком зависит от нас. Если ты вспомнишь, например, сколько моя фирма для них уже сделала…
— В Вестонарии был довольно тревожный звоночек.
— Мы быстро пресекли волнения.
— Надолго ли? Когда они повторятся? И где? Это тебя не пугает? Тебя и все твое поколение. О господи, отец, вы все продумали, вы на каждый случай придумали свой закон. Но вы чувствуете, что все это недолговечно. Стихийные вспышки гнева, подобные той, что случилась сегодня ночью, угрожают и вам. Вы не в силах понять этого. Но вам страшно. И чем страшнее, тем больше вам хочется иметь власти, чтобы удержаться наверху. Это постепенно становится пагубной привычкой.
Я постарался ответить как можно спокойнее:
— Ты молод, тебе нечего терять. Поэтому тебе легко критиковать и нападать.
— А тебе есть что терять, и ты боишься. По-твоему, лучше держаться обеими руками за то, что имеешь, не важно, что все это в дерьме и в крови. И для вас не важно, в какой ад вы превратили эту страну для своих сыновей.
— Ты считаешь, что будет лучше, если мы от всего отстранимся? Подумай, ведь главная задача цивилизованного общества — контроль мира и покоя в мире. Посмотри, как устроена природа: она, конечно, красива в своем диком, примитивном, первозданном, называй его как хочешь, виде. Но как только мы утратим над ней контроль, она станет сущим проклятием.
— А тебе не кажется, что законы тоже могут выйти из-под контроля? Превратившись из средства в самоцель.
— Ах, Луи, — вздохнул я, — как ты еще наивен.
— Я вовсе не хочу злить тебя. Я просто спрашиваю. Пока я молчал, ты считал меня хамом. А теперь отказываешься отвечать на мои вопросы. — Некоторое время он, ничего не говоря, смотрел на меня, не вызывающе, но с какой-то новой странной уверенностью. — Я не хочу молчать. Я хочу получить ответ, мне необходимо знать.
— Хорошо. Но только в том случае, если ты будешь задавать не случайные вопросы.
— Неужели ты действительно не понимаешь, о чем я говорю?
— Нет, пока ты ограничиваешься только поверхностными сентенциями.
— Ты имеешь в виду мои слова о законах? Но я не выдумал их. Я вижу, что происходит вокруг. А что ты сделал с Ильзой и со мной? Все эти годы мы были обязаны быть лучшими в классе, по всем предметам. Я должен был выбрать карьеру, которая льстила бы твоему самолюбию, не важно, нравится она мне или нет. Ильза должна заниматься балетом, музыкой, языками и еще бог знает чем. Чего ради?
— Ради вашего же блага, разумеется. Чтобы развить ваши способности.
— Да нет. Просто потому, что это тоже должно было быть достижением. Только поэтому. Не ради какой-либо иной цели. Просто достижение ради достижения.
— Видишь ли, если не трудиться в поте лица, погибнешь. Что же ты думаешь, мы сразу завоевали свое место в обществе? Чтобы удержать завоеванное, нужно работать по двадцать четыре часа в сутки. Нас окружают англичане и евреи, готовые при первой же возможности подставить нам ножку. Они никогда не простят нам, что мы обыграли их в ими же придуманной игре.
— Почему ты все время говоришь с позиции «нашего народа», этого крошечного племени?
— Потому что условия не позволяют нам говорить с других позиций.
Внезапно, как и накануне во время молитвы, мне почудилось, будто я слышу голос отца: «.Мартин, нам, африканерам, пришлось много хлебнуть в жизни. Даже сейчас находятся люди, косо смотрящие на нас лишь потому, что мы — африканеры. Мы должны доказать им, на что мы способны. И будем доказывать это изо дня в день, пока они не научатся уважать нас».
Луи глядел в сторону, словно утратив всякий интерес к разговору.
— Понадобилось триста лет, чтобы мы завоевали право на жизнь в собственной стране. И пусть не думают, что мы без сопротивления что-то отдадим.
— Разве дело в том, отдадим или не отдадим? — с вызовом спросил он. — Это лишь вопрос времени, когда у нас отберут все. Если мы не научимся делиться с другими.
— Пусть попробуют. Посмотрим, чей корабль быстрее пойдет ко дну.
— О господи, отец. Кто из нас наивней?
— У тебя просто нет обыкновенного уважения к старшим, — воскликнул я, на мгновение утратив выдержку. — Ты повторяешь то, что все эти годы твердил Бернард. А к чему это привело?
— Когда они заставляют замолчать такого, как Бернард, на его место приходят десятки новых.
— Надеюсь, ты не балуешься мыслишкой стать одним из них? Мне казалось, что у тебя больше здравого смысла.
— Высказывания Бернарда не кажутся мне лишенными здравого смысла.
— Ради бога, думай, прежде чем говорить! — предостерег я. — Вот уж не предполагал, что мои дети восстанут против меня.
Его упрямству не было предела.
— Я просто настоящий африканер. Ведь они всегда восставали против своих правителей.
— Но не против родителей. Ты сам не понимаешь, что несешь.
— А по-моему, это ты не вполне понимаешь, что именно пытаешься защищать.
Некоторое время мы молча стояли, глядя друг на друга. Только кирки по-прежнему вгрызались в твердую красную землю да звучало протяжное:
Goduka kwedini.
Goduka.
Я почувствовал, как у меня сдавило грудь. Мне следовало быть осторожнее, замыкался порочный круг: из-за болезни я стал более раздражителен, а раздражение плохо сказывалось на сердце.
— Луи, — сказал я наконец, пытаясь сохранить самообладание, — надеюсь, ты не хочешь сказать, что одобряешь действия Бернарда?
— Вины за ним я тоже не вижу.
— Ты ведь был на суде. Ты слышал все эти ужасные обвинения. Он ничего не отрицал. Он виновен. Он виновен, как любой другой убийца.
Он пожал плечами и отвернулся, затем молча пошел прочь. С неожиданным страхом я смотрел ему вслед. А я-то думал, что разделался с Бернардом.
Словно надзирая за работой, я глядел на могильщиков, бившихся с землей, и слушал глухие грохочущие удары.
4
Мать в одиночестве сидела в столовой у большого ненакрытого стола. Перед ней стоял транзистор с выдвинутой антенной. Она привела в порядок волосы, надела черную шляпу и воскресное синее платье с белым узором.
— Ждешь гостей? — спросил я.
— Нет, просто приготовилась к службе. — Она кивнула на транзистор. Оттуда доносилась церковная музыка.
— А где Луи?
— Уехал в деревню за газетами.
— На «мерседесе»? — мгновенно насторожился я.
— Нет, в фургоне, — спокойно улыбнулась она. — Посиди со мной. Мы еще успеем выпить по чашке чаю. Кристина!
Мы молча пили чай в полутемной столовой. Из транзистора по-прежнему доносилось приглушенное пение.
На стене за спиной матери я различал очертания двух картин. Сейчас я не мог разглядеть, что на них нарисовано, но я хорошо их помнил. Слева висело аллегорическое изображение «Правого пути». Даже не глядя туда, я знал, что на меня взирает сверху всевидящее Око. Справа висела желтовато-голубая любительская мазня: алоэ на закате. Женское общество подарило эту картину матери много лет назад, когда они с отцом перебирались на ферму.
На какое-то время события минувшей ночи отошли на задний план, забылось и монотонное пение на склоне холма. Мне не хотелось сейчас напоминать матери о продаже фермы, еще успею поговорить с ней об этом. А пока мы словно заключили молчаливое соглашение, как часто бывало между нами, — привычная сцена, повторявшаяся уже столько раз. В спокойной атмосфере семейной близости я на несколько минут отрешился от всяких забот, чувствуя, как ослабевает неприятное давление в груди. Надо научиться жить с ним. Это не более чем обычное профессиональное заболевание, вроде язвы.
Музыка смолкла. Послышался голос. Мать прибавила громкость.
— Начинается служба, — сказал она.
Я предпочел бы посидеть на солнце, а не слушать службу. Но я знал, что мать обиделась бы. А если я сейчас проявлю понимание, мне легче будет потом добиться от нее ответного понимания.
Священник вел службу из Претории, явно наслаждаясь возможностью произвести впечатление модуляциями своего голоса не только на собственную паству, но и на всю страну. Я узнал первое послание апостола Павла к коринфянам, глава тринадцатая, любимое дедушкино «А любви не имею…» в несколько модернизированной форме («Но если во мне нет любви…»). Свою длинную проповедь он произносил глубоко взволнованным голосом с искусным использованием тремоло.
Мать слушала с закрытыми глазами, готовая покорно внимать всему, что будет сказано. И глядя на ее благородное лицо с обострившимися от внутреннего напряжения чертами, я почувствовал странную зависть к ее глубокой, темной и простой вере, которая поддерживала ее все эти годы и помогает держаться теперь.
Снаружи донесся шум притормозившей машины. Хлопнула дверца. Должно быть, Луи вернулся. На мгновение мать раздраженно открыла глаза, но тут же снова погрузилась в прежнее состояние.
В дверь постучали.
Она нахмурилась и, не открывая глаз, кивнула. Я пошел к входной двери. На крыльце стоял сержант полиции, но не тот, что приезжал к нам ночью. Его короткие рыжие волосы торчали, как щетина.
— Доброе утро, господин Мейнхардт, — сказал он, снимая фуражку и протягивая мне большую, усеянную веснушками руку. — Мы приехали составить протокол о том, что произошло ночью.
— Входите.
Он махнул рукой молодому белокурому полицейскому, дожидавшемуся у крыльца.
— Мама, — сказал я, входя в комнату, — это полиция. Они приехали…
— Садитесь, — предложила она. — Сначала дослушаем проповедь.
— Мы ненадолго, — извинился сержант.
— Садитесь, — повторила мать, указывая на кресла у стола. — Мирские дела могут и подождать.
Полицейские переглянулись и зашептались, но ее решительный жест заставил их подчиниться. Они сели в кресла, положив фуражки на сверкающую поверхность стола. Мы все молча стали слушать священника.
Я невольно вспомнил о том, как во время войны отец провел полицейских. Но матери нечего было скрывать. С закрытыми глазами и высоко поднятой головой она неподвижно сидела до конца службы. Описывая это сейчас, я припоминаю тусклый свет из окна, придававший особую значительность ее облику и освещавший ее лицо: нос, подбородок, паутину морщин вокруг глаз и рта, аккуратную прическу.
Что-то в ее внешности напомнило мне отца Элизы. В нем тоже было нечто сильное и благородное, для него столь же много значили церковные формальности, хотя нередко он бывал поразительно терпим и вольнодумен.
В те последние праздники перед гибелью они гостили у нас. Старший викарий нашего прихода временно отсутствовал, и отец Элизы согласился провести несколько служб и молитвенных собраний. Тогда и завязалась его дружба с одним из священников прихода — преподобным Клуте. Нередко они засиживались за беседой до полуночи или даже позже, иногда Элиза приглашала Клуте к обеду. Он казался нам симпатичным, несмотря на свою нервную и несколько напряженную манеру держаться. Он был молод, ему едва исполнилось тридцать. Чрезвычайно умный, в полном осознании своей «призванности», очень бледный молодой человек с яркими черными глазами, слишком большими для его узкого лица. По слухам, в юности он был замечательным теннисистом, но в его прежнем небольшом приходе деревенским жителям едва ли понравилось бы столь мирское развлечение, так что теннис пришлось оставить. На мой взгляд, у него были и свои слабые места, например он слишком догматично настаивал на том, что обоснование апартеида содержится в Библии. (К чему обосновывать ссылками на Священное писание систему, построенную на разумных экономических принципах?) Так или иначе, в целом он был приятным человеком, начиненным честолюбием — из такого вещества и делают священнослужителей.
Куда меньше нам нравилась его жена. Конечно, она была красива, пожалуй, даже слишком красива для жены священника, но при этом гнетуще холодна и чопорна. Чуть ли не за неделю до катастрофы Элиза пожаловалась мне на ее поведение во время дамского собрания общины, устроенного для того, чтобы помочь падшей юной девице. («Стоит ли быть добрыми и снисходительными только потому, что она одна из нас? Африканер обязан подавать пример другим» и тому подобное.)
В тот вечер я поздно вернулся домой. Неожиданно зазвонил телефон. Все уже спали.
— Говорят из рандбургского полицейского участка, — услышал я. — Сержант Ван Вейк. Мне нужен преподобный Раутенбах.
— Он у нас, — ответил я, — но он уже спит. Что вам угодно?
— А вы не могли бы разбудить его? — устало спросил сержант.
— Конечно, если это важно. Но в чем дело?
— Здесь у нас Клуте. Он утверждает, что он тоже священник.
— Да, я его знаю. Но…
— Он просит преподобного Раутенбаха приехать в участок.
— Конечно, он приедет. Но что случилось?
— Если вы не против, потолкуем об этом на месте.
К счастью, старик легко просыпался, мне было достаточно коснуться его плеча. Выходя из комнаты, я услышал, как он что-то ласково объяснял жене. Вскоре он появился в халате и тапочках. Минут через десять он оделся, и мы выехали в участок.
Некоторые зрительные впечатления остаются в памяти на всю жизнь. И сейчас, в разгар лондонской зимы, я прекрасно помню мельчайшие подробности той летней ночи. Синяя лампа на фронтоне здания, облицованного кирпичом. Резкий свет люминесцентных ламп в участке. Коричневая конторка, столы, маркированные белыми номерками, папки, перетянутые цветной тесьмой. Несколько деревянных шкафов и железных сейфов. Доска с картой округа и образцами официальных бумаг, пришпиленных к зеленому сукну. Преподобный Клуте на деревянной скамье. Он был в своем обычном черном облачении, но выглядел так, словно его пропустили через мясорубку. Без галстука, волосы в беспорядке, рубашка не заправлена в брюки. Когда мы вошли, он быстро взглянул на нас, но тут же опустил голову. Отец Элизы присел возле него, положив руку ему на плечо, а я подошел к конторке. За перегородкой полицейский записывал показания под диктовку аккуратно одетого чернокожего. Полицейский, по-видимому, был не в ладах с грамотой, он останавливался на каждом третьем слове, шепча записываемое по складам. За перегородкой расположилась группа полицейских. Один из них был в черной спортивной куртке.
— Мейнхард, — коротко представился я. — Я привез преподобного Раутенбаха.
Высокий мужчина в спортивной куртке подошел к перегородке и протянул мне руку.
— Добрый вечер, господин Мейнхардт. Сержант Ван Вейк. Это я вам звонил. Простите, что побеспокоил так поздно.
У него было открытое, дружелюбное мальчишеское лицо, одного из передних зубов не хватало. Ворот рубахи был расстегнут. На груди под темными волосами виднелась красно-синяя татуировка. Он держался приветливо и доброжелательно, словно судья во время спортивного состязания.
— Что случилось? — снова спросил я.
Он пригласил меня подойти поближе, вероятно не желая, чтобы нас слышали священники.
— Аморальное поведение, — сказал он.
— О господи! — в ужасе воскликнул я. — Это невозможно.
Сержант пожал плечами:
— Хотелось бы и мне думать так же, господин Мейнхардт. Но на такой работенке, как наша, скоро понимаешь, что ничего невозможного не бывает.
— Но что именно?
Я по-прежнему не верил своим ушам. Непроизвольно обернувшись, я встретился взглядом с Клуте, который в этот момент тоже посмотрел на меня. Его черные глаза горели на бледном лице. Он сразу отвернулся, но мне навсегда запомнилось выражение затравленности у него на лице, словно у собаки, ожидающей, что ее сейчас побьют.
— Мы уже давно подозревали его, — продолжал сержант тоном, каким обычно говорят: «Ну, ну, не смущайтесь, располагайтесь поудобнее». Облокотившись на конторку, он склонился ко мне: — Месяц, как я слежу за ним — раз или два в неделю регулярно. И вот каждую неделю, как только совершит обход. Всякий раз какая-нибудь служаночка. Впускает ее через задние ворота в дом своих родителей.
— И что теперь будет?
— Он просил вызвать преподобного Раутенбаха. Настаивал на этом. Пусть поговорят, чтобы он немного утихомирился. А потом мы его запрем. Слишком поздно оформлять залог. Займемся этим с утра.
Оглядевшись в растерянности по сторонам, я заметил своего тестя, направляющегося к конторке. Клуте сидел, опустив голову.
— Ну, что? — спросил я. — Он вам все сказал?
Тесть кивнул. Он тоже был очень бледен.
— Сержант Ван Вейк говорит, что освободить его под залог они могут только завтра утром. Сегодня ему придется переночевать в участке.
— Нет, нет, ни в коем случае. Это исключено. — Он подошел к конторке, его седые волосы серебрились под резким светом. — Сержант, его нужно освободить сейчас же.
— Подумайте, мистер Раутенбах, который час!
Дружелюбное лицо сержанта несколько посуровело, намекая и на иные стороны его характера.
— Я все понимаю, сержант. И мне не хотелось бы причинять вам излишнее беспокойство. Но его необходимо освободить сегодня. Сейчас же.
Я достаточно хорошо изучил своего тестя, чтобы поручиться, что он не покинет участок, пока не добьется своего. В этом отношении он не уступал Бернарду. Я не считаю себя бесчувственным, но, по-моему, если занимаешься подобными вещами, нужно помнить и о возможных последствиях. Он занимался этим, прекрасно зная, что такое запрещено. В подобных обстоятельствах жалость неуместна. Но я понимал, что спорить с тестем бесполезно.
Несмотря на явное неудовольствие, сержант вынужден был согласиться. Формуляры были заполнены и подписаны. Но старику этого оказалось мало.
— Ну, а как насчет женщины, которая была с ним? — холодно спросил он.
— Что насчет нее, мистер Раутенбах?
— Мы же не можем его взять под залог, а ее оставить. В конце концов, они были там вместе.
— Ну знаете ли!
— Пожалуйста, сержант! Мы ведь должны любить ближнего своего, не так ли?
На залог за обоих у нас не хватило денег, пришлось съездить за ними домой. К дому Клуте мы подъехали уже в третьем часу ночи.
И тут настал самый тяжелый момент: было чрезвычайно неприятно увидеть обычно столь сдержанную и чопорную женщину вышедшей нам навстречу в заношенном халате и с бигуди в волосах. Ужас на ее лице, когда она узнала нас. Сперва она решила, что произошел несчастный случай. Но когда она заметила выходившего вслед за нами из машины супруга, ее красивое лицо стало жестким, на нем появилось выражение брезгливости и презрения.
Мой тесть положил руку ей на плечо. Она попыталась стряхнуть ее, но он удержал.
— А теперь, девочка моя, напоите-ка нас чайком. Мы спокойно потолкуем и испросим помощи господней.
— Что случилось? — спросила она мужа. — Что ты натворил, Хендрик?
— Не волнуйтесь, — твердо сказал тесть. — Мы во всем разберемся. А чего не сможем понять сами, в том положимся на господа.
Следующие час-другой я помню гораздо хуже. Помню спокойный, невозмутимый голос тестя. Истеричные тирады женщины. Бледного молодого человека, разражающегося постыдными слезами. Я смертельно устал. Мне казалось, что лучше всего было бы предоставить им разобраться во всем вдвоем. Старик мог приехать к ним и утром. Но он упрямо оставался там до тех пор, пока из-за общей усталости не воцарился относительный мир.
Мы возвращались домой под утро. Я был крайне раздражен.
— Пустая трата времени. Беда уже грянула. Ничего себе священник! Как вы себя чувствуете, побеседовав с ним?
— Это очень помогло мне, — к моему величайшему удивлению, спокойно ответил он. — Знаешь, поневоле постоянно создаешь себе какой-то абстрактный образ священника, образ африканера. А история вроде нынешней помогает отказаться от выдуманных формулировок и дает надежду когда-нибудь понять нечто большее. Это великое благо, ибо слишком сильно искушение считать себя всепонимающим и непогрешимым. Ты не согласен?
Интересно, был ли он того же мнения два дня спустя, когда Клуте покончил с собой.
Разумеется, все зависит от того, далеко ли противник. Если идут бои, воюешь и в воскресенье. Но когда все спокойно, в воскресенье проводится церковная служба и кажется, что ты опять дома. Если, конечно, забыть о разрушенных деревнях, джунглях, взорванных машинах на дороге. Церковная церемония как-то бодрит и успокаивает.
Но только до поры до времени. Потом все меняется. Где-то после первых сражений, после первых мин. В тот день, когда я почувствовал это, Ронни был уже убит.
Мы расположились на выселках опустевшей деревни в тропическом лесу. Стояла жара, мы насквозь пропотели, вокруг вились тучи мух, москитов и прочей дряни. В ветвях деревьев заливались птицы.
Накануне два наших джипа подорвались на минах. А в воскресенье у нас устроили обычную церковную службу, словно ничего не случилось. Мне казалось, что внутри У меня вот-вот что-то взорвется. К нам прибыл новый душеспаситель. Знаешь, мы звали механиков «машиноспас», поваров «брюхоспас», а священника «душеспас». Так вот, приехал этот новый «душеспас», пожилой дядечка в очках, с приклеенной к лицу улыбкой, словно он хотел показать каждому, что Христос спас его поганую душонку. Во время проповеди он то басил, то пускал петуха, точно решил продемонстрировать нам весь свой регистр. Молитвы, будь он неладен, выпевал аж на тирольский манер. Он не говорил ничего особенного: обычная болтовня о том, что мы в языческой стране сражаемся за нашу веру и культуру, и что все бездельники в Претории гордятся нами, и что все в руце божьей и все такое. И просил господа благословить нас на бой с врагом, слугой сатаны. Он молился «за молодых людей, в самом расцвете сил ответивших на Твой призыв и взявших в руки оружие, чтобы сразиться с силами зла». Обычное скучное дерьмо. Мы не отвечали ни на чей дерьмовый призыв, нас просто погнали сюда. Я сидел и думал о Ронни и о том мертвом кубинце с его дурацкой фотокарточкой. Может, у них тоже была в тот день служба, и они просили господа благословить их на бой с врагом, слугой сатаны. На бой с нами. Под конец эту дерьмовую трепотню стало совсем невозможно слушать. Старый «душеспас» со своей поганой улыбочкой заявил: «Мы здесь потому, что господь повелел нам установить его царство в пустыне». Тут я подумал: ничего себе! Убивая людей, как, например, вчера тех чернокожих, что попались нам? Взрывая мосты и дома? Ничего себе царство! Ты знаешь, до Анголы меня никогда особенно не интересовала религия. То есть с ней было все в порядке, просто она меня почти не трогала. Но там, в Анголе, господь бог начал смущать меня. Я перешел границу нормальным лояльным националистом. Но когда я увидел, что за войну мы ведем на самом деле и что за всем этим кроется, тут уже прости, отец. Клал я на все, во что верил раньше.
Люди вроде Луи превращают собственную жизнь в сущий ад. Правда, может быть, это просто этап, через который нужно пройти. И оставить его позади, если хочешь выжить. Зато такие, как мой братец Тео, вообще никогда не сталкиваются с подобными проблемами. В детстве Тео не был ни капризным, ни упрямым. Никогда не проявлял никакой инициативы. Он был рад повсюду следовать за мной и делать, что я велел, иногда с весьма плачевными последствиями (когда я приказал ему спрыгнуть с дерева), часто во вред себе (бедняга, в колледже я вечно отбивал у него подружек). Может быть, именно поэтому они с матерью не особенно ладили. Однажды она даже назвала его инвалидом. Со своим напористым характером, она не в силах была понять его мягкую, податливую натуру, его кротость и доброту. Он был для нее таким же чужаком, как и отец.
Не то чтобы Тео был слабак, не поймите меня превратно. Он для этого слишком изобретателен. А если он и слабак, то он прекрасно умеет прикрывать это организованностью, точным расчетом и удачами в делах. Порой мне кажется, что он стал архитектором только для того, чтобы превратить свою врожденную вялость в жажду силы, выразившуюся в разрушении старых зданий и возведении новых колоссальных сооружений. Отец нередко упрекал его в отсутствии «чувства истории» из-за его непочтительного отношения к старым постройкам. Но Тео без труда опровергал это обвинение: «Какое может быть чувство истории в стране вроде нашей? Это точка зрения колонизатора. Меня не трогают уродливые лачуги, воздвигнутые предками в духе третьесортных подражаний старым европейским стилям. Наше величайшее преимущество в том, что у нас нет истории. Мы люди сегодняшнего дня. Наша область — будущее». И я не могу отрицать определенного величия в планируемых им небоскребах с их стальными и бетонными конструкциями, ясными очертаниями, стремительными линиями, бесконечным нагнетанием этажей, хотя порой они удручают своей неспособностью внушить вам чувство более глубокое, чем просто восхищение их функциональным совершенством. («А зачем нам такое внушение? Мы не католики, нам чужд мистицизм. Мы кальвинисты. Нас интересует только то, что существует на самом деле, то, что можно организовать и структурировать».) Его слова вполне убеждают, и все же не следует принимать их слишком всерьез. Таков его официальный фасад. Но в том, что не касается работы, он куда менее уверен в себе. Как и отец.
У Тео привлекательная, хотя и со скверным характером жена и двое детей. Дом в изысканном пригороде Ватерклоф. Тео уравновешенный семьянин. Ему никогда не придет в голову завести интрижку на стороне или пропустить воскресную службу. («Я не особенно ревностно верую, но это и не важно. Это вопрос порядка и самодисциплины. Традиция. А что в ней дурного? Без нее не на что было бы опереться».)
Не понимаю, с какой стати я вдруг взялся писать о Тео. К моей истории он не имеет отношения. Ни малейшего.
* * *
Служба завершилась органной музыкой. Мать выключила транзистор.
— Доброе утро, сержант, — сказала она. — Теперь можно и поговорить. Чаю, Кристина!
— Простите, что побеспокоил вас в воскресенье. Но нам нужны ваши показания. Это не отнимет много времени.
Худощавый белокурый полицейский уютно сидел в кресле, барабаня по столу пальцами, пока рыжеволосый сержант записывал наши немногословные показания. Кончив писать, он зачитал нам свой безукоризненный протокол и дал подписать. Сначала матери, потом мне.
— Когда можно взять тело, чтобы похоронить? — спросила мать. — Я уже известила родственников.
— Доктор сегодня сделает вскрытие. Вы можете забрать тело завтра утром.
— Спасибо. Надеюсь, Мандизи ведет себя хорошо?
— Да, с ним никаких хлопот.
— Его казнят? — спросил я.
Сержант рассмеялся:
— Нет, ну что вы! Если судья услышит, что все дело в племенных традициях и обычаях, он будет весьма снисходителен. Год, самое большее полтора.
— Придется искать нового управляющего, — вздохнула мать.
— Да, на этих людишек нельзя положиться. — Сержант встал и надел фуражку, явно радуясь, что покончил с делами. — Ладно, поехали.
Я проводил их до машины. На холме поднялось облачко пыли: Луи возвращался домой. Прежде чем отъехать, полицейский снова вышел из машины, открыл багажник и вынул серое одеяло, в которое мы завернули тело.
— Вот, привезли, — смущенно сказал он. — Зима стоит. Мы подумали, что ребятишкам ночью понадобится.
5
Вскоре после того, как уехали полицейские, прибыли гости: Вейдеманы с соседней фермы, Герт и Луки, оба моложавые, на четвертом десятке. У Герта была мощная осанка, мускулистые ноги футбольного форварда и большие мясистые уши. В его самоуверенной манере держаться чувствовалась какая-то раздражавшая меня напористость. Луки, напротив, была тихая и бесцветная. Ее тело быстро сдавало после трех родов и напоминало под мрачным платьем большой гнилой гриб. Вспоминаю, какой она была сразу после замужества: бойкая девица, полная энтузиазма и готовая ввязаться в любой спор. Не особенно хорошенькая, но привлекательная вызывающей оригинальностью. Она, кажется, была преподавательницей иностранных языков и довольно одаренной пианисткой. Но с годами поблекла, стала вялой, пассивной и унылой.
— Добрый день, — сказал Герт, крепко пожимая мне руку. — Дай, думаем, заедем. По воскресеньям на ферме так скучно. Готов общаться даже с незнакомыми.
— Надо бы предложить гостям что-нибудь, — сказал я матери.
— Думаете, у нее есть пиво? — захохотал Герт.
— Чаю или кофе? — не улыбнувшись, спросила мать.
— Что хотите, — сказала Луки. — Не беспокойтесь, пожалуйста.
— Пусть будет кофе, — распорядился Герт, усаживаясь и раскинув ноги так, что джинсы обтянули его ляжки.
— Кристина!
— Я слышал, у вас тут ночью поразвлеклись немного? — игриво спросил Герт. — Не правда ли, такое для них весьма типично? Я тоже припоминаю один забавный случай. Я возвращался из Куинстауна. Играл там в регби, а потом надрался, — он вызывающе ухмыльнулся в адрес Луки, она потупилась, — Мы возвращались после полуночи, да еще в тумане. Едем мы в автобусе и вдруг видим целую ораву черномазых. Странные создания, вечно идут прямо посередине дороги. Нам пришлось так тормознуть, что мы едва не угодили в канаву. — Он засмеялся, его грудь ходуном заходила под рубашкой с короткими рукавами, которую он носил круглый год. — Но потом мы вышли из автобуса и немного проучили их, тут же, посередине дороги. Когда мы поехали дальше, ни один из них не мог стоять на своих черных ножках. Думаю, с тех пор они больше не мешают движению на дороге.
Из отдаленного прошлого всплыло неприятное воспоминание: наша университетская команда регбистов субботними вечерами возвращалась в Стелленбос, пьяно горланя песни. Я тогда играл нападающим во втором составе. И кто-нибудь неизменно говорил: «Ну что, ребята, не отделать ли нам парочку готтентотов?» Автобус останавливался каждый раз, когда мы замечали на дороге чернокожих. Дикарское упоение насилием, потные тела, налетавшие на людей, как огромный пчелиный рой. Я никогда не участвовал в этом. Конечно, я не мог оставаться в автобусе, я выскакивал вместе с остальными, но держался в стороне. В этом возрасте нельзя быть «белой вороной», но, повторяю, я никогда не участвовал в избиениях. Да и остальные парни не были слишком жестоки. Это просто помогало сбросить лишнюю энергию. Впоследствии, я уверен, все они переросли это. А вот Герт меня раздражал. В конце концов, он уже давно не подросток.
Я невольно поглядел на Луи, но он сидел, закрыв лицо газетой, костяшки его пальцев побелели. Подъехала еще одна машина. Вытянув шею, я выглянул в окно.
— Держу пари, это старик Лоренс, — сказал Герт.
— Да, это Лоренсы.
— Тоже, наверное, прослышали про вчерашнее.
Я пошел открыть дверь. По цементным ступеням в дом поднялась похожая на мышонка женщина, за нею следовал ее супруг, огромный и тучный, в бесформенном зеленом свитере и болтающихся потрепанных кордироевых штанах. Старый Лоренс был на редкость волосат: длинная грива, густые брови, усы и борода, закрывавшие пол-лица. Больше всего он походил на подмышку, в которую воткнута трубка.
Трубку он вынул. В буйной растительности на его лице ярко поблескивали глаза.
— Привет, Мартин. Как дела, мой мальчик?
— Ничего, мистер Лоренс.
— Скверная история, а? С этими людьми вечно что-нибудь случается. И что теперь собирается делать ваша матушка?
— Ей будет непросто, — уклончиво ответил я, не желая, чтобы соседи что-нибудь заподозрили. — Я слышал, вы продали ферму?
— Да, старый бездельник, — прокомментировала мать из глубины комнаты. — И Герт тоже. Все они сматывают удочки.
— Полегче, тетушка, — возразил Герт. — Мы вовсе не сматываем удочки.
— Неужели? — В ее насмешливом тоне слышалось осуждение. — Я еще могла ожидать этого от мистера Лоренса. Но вы, африканер! Луки, почему ты его не отговорила?
— Ах, тетушка, вы же знаете, как трудно с мужчинами. И потом, Герт лучше меня во всем разбирается.
— Нельзя всегда уступать мужу, — упрямо сказала мать. — В старые времена, если мужчина поджимал хвост, всеми делами управляла женщина.
— Луи, — сказал я, пытаясь сменить тему разговора, — ты, кажется, не поздоровался с гостями. Ты что, разучился вести себя, старина?
Он с явной неохотой отложил газету и пожал им руки.
— Ну, как в армии? — спросил мистер Лоренс.
— Он демобилизован, — поспешно вставил я.
— Задали им жару? — продолжал допытываться старик. — Вот и хорошо. Будут знать, с кем имеют дело.
— Надо бы стереть этот сучий сброд с лица земли, — сказал Герт.
— Что же вы не присоединились к нам? — спросил Луи со сдержанной агрессивностью. — Вместо того чтобы отсиживаться на ферме.
— Ну, не всем же воевать, — ответил Герт, на мгновение растерявшись. — Кто-то и пахать должен.
— А разве вы не продали ферму? — спросил Луи с насторожившим меня выражением лица.
— Вот-вот, задай ему, — сказала мать. — Удирают отсюда, оголяют наши границы.
— Ну и что с того, — возразил Луи. — Мы все время создаем новые границы. Ангола, Родезия, Мозамбик, Юго-Западная Африка. А теперь и здесь за это взялись.
— Погоди-ка, — сказал Герт. — Не стоит судить так поспешно. Мы хорошо все обдумали, прежде чем решили уезжать. Жизнь в здешних местах больше ни черта не стоит. Вкалываешь до полусмерти, а не можешь купить и гвоздя, чтобы почесать затылок. Не успеешь моргнуть глазом, а черные тут как тут. Что им дали три века цивилизации? Они такие же дикари, как и раньше. Подумай о том, что случилось у вас сегодня ночью.
— Удираете в город, — сказала мать.
— При чем тут «удираете»? Но надо же внять голосу разума. Если хочешь чего-то добиться, то сделать это можно только в городе. Не так ли, Мартин?
— Совершенно с вами согласен.
— Герт собирается открыть фабрику, — преодолев смущение, с гордостью пояснила Луки. — Сельскохозяйственное оборудование.
— Все помешались на машинах, — презрительно фыркнул Луи со всем ожесточением юношеского романтизма. — Скоро для людей места не останется.
— А кто собирался стать инженером? — спросил я.
— Ты же знаешь, что я послал все это.
— Так что, назад к двуколке?
В дни моего детства многие фермеры в нашей округе еще разъезжали на двуколках. По воскресеньям не меньше дюжины их стояло под перечными деревьями вокруг церкви. Даже тот, кто ездил в город на автомобиле, отправляясь в гости к соседу, по-прежнему садился в двуколку.
Все, что прежде казалось неуклюжим и примитивным, приобрело романтическую патину, когда мне пришлось уехать за границу. (Так же я потом романтизировал свое пребывание в Англии. А разве сейчас, когда пишу эти строки, я бессознательно не искажаю события того уикенда? Не это ли происходит со мной все время, хотя я и убежден в абсолютной правдивости своих воспоминаний?)
Моя ностальгия в те два года в Англии была смягчена дружбой с Велкомом Ниалузой. Ночь в Ламбете, шумная вечеринка. Стояла зима, было холодно. Первый снег выпал за неделю до этого и превратился в мокрую грязь. Я чувствовал себя погано. В кармане у меня было довольно пусто после чрезмерных трат с целью произвести впечатление на мою первую заграничную подружку, которая, несмотря на это, все же сбежала от меня к кенийскому скульптору. Вот дьявол, а я-то думал, что у нее есть вкус. Я пытался успокоить себя, ругая всех англичанок: корчат интеллектуалок, а на самом деле им нужно совсем другое, а тут, уж конечно, не обойтись без черномазых.
Перспектива приятной вечеринки несколько развеселила меня. Спиртного там было более чем достаточно. Скверного и дешевого, но вдосталь. Скопление тел в захламленной квартирке. Как годы спустя на днях рождения у тетушки Ринни. Беа. Нет, в тот вечер был Велком. Среди гостей были англичане, американцы, французы, скандинавы, немцы, греки, японцы и даже несколько поляков и русских. Как мне удалось найти Велкома в этом вавилонском столпотворении? Или в этом не было ничего особенного? Не раз за два года в Англии я бывал поражен одним и тем же: двое людей, уединяющихся на вечеринке, непременно окажутся африканером и африканцем. Странно.
В начале вечера под действием спиртного мое настроение только ухудшилось. Я мрачно сидел в углу, полускрытый занавесом. И тут я услышал:
— Вам, кажется, одиноко?
Сквозь дымку я увидел узкое тощее черное лицо в больших очках, похожее на лицо Чарли, но гораздо моложе.
— Как вы догадались?
— Потому что одинокий человек всегда узнает другого такого же. — Он уселся на пол возле меня. — Давайте выпьем, — Мы говорили по-английски, но, подняв рюмку, он воскликнул на африкаанс: — Ваше здоровье!
— Только не рассказывайте мне, что вы из Южной Африки, — сказал я, бесцеремонно уставившись на него.
— Разумеется, из Южной Африки. А вы тоже? Ах, приятель! — Он расхохотался, и мы перешли на африкаанс.
— Побудь здесь с мое, тогда поймешь, что значит быть одиноким, — сказал он.
— А сколько ты уже здесь?
— Десять лет.
— Чего ради?
— Эмиграция. Без права на возвращение.
— Замешан в политике?
— Был в АНК. Ничего особенного. Ты знаешь, как это бывает. Буры не любят образованных кафров.
Мы наполнили рюмки и вернулись в наше убежище, продолжая говорить без умолку. Все эти «а помнишь», характерные для земляков, встретившихся в чужом краю. Перечные деревья, двуколки, тишина по воскресеньям, гудение базаров, запах горелой древесины зимой, вкус зеленых абрикосов, локвы, сладкого винограда и дынь. Мальчишки, купающиеся нагишом в грязных прудах. Птичьи гнезда, сползающие по склонившимся ветвям ивы и падающие в воду. Черепаха, запеченная в собственном панцире. Драки глиняными комьями. Флюгера на плоских железных крышах. Сладкий картофель. Грязь между пальцами босых ног. Иней на хрупкой зимней траве. Говоришь о том, о чем больше всего тоскуешь. Я рассказал ему о своих самых ранних воспоминаниях: как мать, когда не могла со мной справиться, перепоручала меня заботам старой Айи, нашей черной няни, и та носила меня в одеяле, привязанном к спине, и, завернутый в одеяло, я покоился на ее огромном заду — мое первое и самое отчетливое ощущение безопасности. И как мы с Тео, когда чуть подросли, завтракали вместе со слугами, сидя возле котла и хватая путу прямо руками.
Позже тем же вечером, надравшись до полусмерти, я поведал ему о Жанет, бросившей меня ради кенийского скульптора, а он рассказал мне о Нозивзе, которая осталась дома, хотя он полностью выплатил за нее лобола; он думал, что она последует за ним при первой же возможности, но почему-то этого не случилось. Да, решили мы с ним, мужчине нелегко обходиться без женщины.
Когда он заметил, что я уже очень пьян, он обнял меня за плечи и вывел на улицу. Ледяной ветер валил с ног. Он взял такси и настоял на том, чтобы отвезти меня домой. Что оказалось нелишним, ибо, как выяснилось, я забыл свой адрес. Остаток ночи я помню весьма смутно. Не знаю, сколько времени мы колесили по Лондону в поисках дома с черными колоннами. В конце концов Велком велел водителю остановиться, так как сумма на счетчике совпала с той, что была у него в кармане; что случилось с моими деньгами, неизвестно, мой бумажник бесследно исчез. И нам пришлось брести пешком откуда-то из северной части города, где мы вылезли из такси, в его обитель в Степни. Зимняя заря уже занималась, когда мы наконец добрались до его жалкого жилища. Как он, такой тощий, ухитрился протащить меня всю дорогу почти что на себе, уму непостижимо. Едва мы вошли в его комнатенку, я грохнулся на пол. Он, должно быть, уложил меня на кровать; проснувшись, я увидел сквозь грязное окно тусклое зимнее солнце, а Велком сидел в ногах развороченной постели с чашкой чая на коленях.
Мы стали неразлучны. Мой друг по имени Белком Ниалуза. Что-то я очень расчувствовался насчет него: по-видимому, теперь его очередь быть идеализированным моей памятью. Но мы действительно были друзьями. Одно время, когда меня вышибли из моей квартиры, я делил с ним его клетушку, пока не подыскал себе жилье. К тому же он был моим ментором, заставляя читать то, к чему бы я сам и не притронулся: не только книги по экономике и политике, но романы и даже стихи — последний раз в жизни, когда я этими занимался. Белком уже получил степень доктора и преподавал. Мне вспоминается невероятно широкий круг его знакомств: от бродяг до ядерных физиков, от скульпторов и художников до палеонтологов, от банковских клерков и мусорщиков до владельцев «мерседесов».
Узнав об Элизе и о моих опасениях насчет нее и Бернарда, он был тверд: «Ничего раздумывать. Ты должен вызвать ее сюда. Хватит того, что один из нас уже потерял женщину в такой передряге».
Я в свою очередь изо всех сил старался помочь ему получить разрешение возвратиться на родину. Но по случайному совпадению в тот самый день, когда от Элизы пришла телеграмма, извещавшая о ее приезде, ему окончательно отказали в нашем посольстве. И так получилось, что он никогда не встретился с Элизой. Он был приглашен в Станфорд (он всегда был завален приглашениями со всех концов света) и за неделю до ее прибытия покинул Англию. В день его отъезда я во второй — и в последний — раз за все время за границей напился до бесчувствия. И снова Велком был со мной. Мне было так плохо, что он едва не опоздал на самолет.
Мы пообещали друг другу, что он прилетит на мою свадьбу, а потом мы с Элизой навестим его в Штатах. Но ни то, ни другое не состоялось. Наша переписка постепенно увяла и умерла. Со мной происходило нечто странное: за все месяцы нашего общения я ни разу не задумался о том, что он черный. Единственный случай в моей жизни, когда это действительно не имело никакого значения. Но, как только приехала Элиза, я почувствовал в себе какое-то предубеждение. Порой, начав рассказывать ей о нем, я сам прерывал свой рассказ, прежде чем она начинала проявлять к нему интерес. Они почему-то для меня не сочетались.
Помню его последнее письмо через три месяца после нашей свадьбы. Он напоминал о моем обещании приехать вместе с нею в Штаты. Я чувствовал себя виноватым, не из-за того, что нарушил обещание, а просто из-за самой необходимости знакомить их. Я ничего не сказал Элизе об этом письме. Я так и не ответил на него. Впрочем, это не имело значения, ибо несколько месяцев спустя я прочел небольшую заметку где-то в середине газеты о южноафриканце Велкоме Ниалузе, упавшем с верхнего этажа здания в Нью-Йорке и разбившемся насмерть. Предполагали самоубийство. Как уж тут надеяться понять душу ближнего своего?
* * *
В гостиной продолжалась беседа, внешне спокойная, но с каким-то подспудным напряжением. Женщины образовали свой маленький кружок, беседуя о слугах, ценах, воровстве и растущей дороговизне. Луки начинала каждую свою фразу словами: «Герт считает, что…», «Герт говорит, что…» или «Я спрошу Герта».
В какой-то момент мистер Лоренс обратил взор на пейзаж с алоэ, который он терпеть не мог, и сказал:
— Этот шедевр еще здесь? — Он хихикнул. — Славные штуки, картины. Красиво закрывают стену. Знаете, в молодости я порядком поколесил по Европе. И вместо борделей посещал музеи. На всю жизнь объелся этим. По-моему, ажиотаж вокруг искусства сильно преувеличен. Просто отвлекают людей от настоящих дел. В стране вроде нашей можно обойтись и без искусства.
— Ну уж не вам об этом говорить! — сказала мать. — А кто упаковал вещички и сматывается от настоящих дел?
— Подождите-ка, тетушка, — упрямо сказал Герт, снова переходя в атаку. — Отъезд с фермы не означает отъезд из страны. Мы никогда не покинем последний плацдарм.
— В Анголе были люди, говорившие так же, — заметил Луи, не глядя на Герта. — Мы видели их фермы. Огромные поместья. Многие богачи вкладывали деньги в землю. А потом грянула война.
— Не сравнивай нас с этими идиотами португальцами, дружище.
Но Луи не слушал его.
— Помню одну ферму. Не очень большая. Красивый голубой коттедж. И поля, похоже, были неплохи, пока по ним не прошла война. Сначала были партизаны МПЛА. Потом УНИТА. А потом мы. И все же нам пришлось разбить окно, чтобы попасть в дом. Внутри было чисто. Не то что в других попадавшихся нам домах, взломанных и изгаженных дерьмом и навозом. Этот коттедж был пока не тронут. Ни морщинки на покрывалах. Только несколько подтеков на обоях, потому что каждый день шел дождь. В столовой в нише стояла дешевая раскрашенная статуэтка мадонны с милым, скучным лицом. И множество фотографий. Свадебное фото: жених с усиками и гладко зачесанными волосами и невеста, довольно некрасивая девица в вышитом подвенечном наряде. Фотография мужчины с двумя маленькими детьми. И опять она, с пожилой четой, по-видимому с родителями, приехавшими навестить ее из Португалии. И все было брошено, когда они бежали.
— Трусы они, вот и все, — сказал Герт.
Луки вздрогнула, быстро поднялась, словно ощутив, как по спине у нее пробежали мурашки, и подошла к окну, чтобы убедиться, что трое ее бойких детей по-прежнему резвятся на газоне.
— Всюду, куда бы мы ни попадали, мы видели беженцев, — продолжал Луи. — Сотни, тысячи беженцев. Черные, коричневые, белые, всех дерьмовых цветов радуги. Одни шагали на своих двоих, толкая перед собой тележки и волоча рюкзаки. Другие ехали на старых фургонах с деревянными кузовами для цыплят, свиней, постелей, пожиток и бабушек с дедушками. Богатые, с маслянистыми глазками козлы в роскошных автомобилях. Фургоны для перевозки мебели. Детские коляски. Одни машины ломались по дороге, у других кончался бензин. Они предлагали все, что угодно, лишь бы мы помогли им. Была там одна хорошенькая леди с золотыми сережками. Так вот она тут же начала раздеваться, предлагая переспать хоть со всеми нами за несколько литров бензина. Мы видели их каждый день, начиная с самой границы и до Луанды. Когда наглядишься на такое, в тебе словно что-то умирает. Потому что понимаешь: когда-нибудь и нам придется выйти на дорогу такими же беженцами с нашими фургончиками, чемоданчиками, скатанными одеялами и запасами воды. А кто нам поможет?
— Кровавый то будет день, — сказал Герт. — Я буду стрелять до последнего патрона, а потом накинусь на них с кулаками.
(Профессор Пинар: «Я сам готов сражаться, пока потоки крови не омоют уздечки наших коней».)
— Ну, Луи, ты слишком молод, чтобы разговаривать в таком тоне, — сказала мать недовольно. — Уж не стал ли ты трусом в Анголе?
— Дело не в трусости, бабушка. Просто я видел, что там случилось.
— Не думай об этом, — сказал мистер Лоренс. — У нас такого случиться не может. Не говори глупости.
— Но вы уже сматываетесь отсюда.
— Ради бога, при чем тут «сматываетесь»? Мы свободные люди в свободной стране.
— Как все это страшно, — пожаловалась миссис Лоренс. — Что это мы о таком заговорили?
— Этой ночью произошло убийство, — напомнил ей Луи.
— Пусть они убивают друг друга, если хотят, — выпалил Герт. — Нас они и пальцем тронуть не посмеют.
— Верно, — согласился старый Лоренс, процеживая слова через заляпанную кофе и табаком бороду. — Таковы их племенные обычаи. К нам это не имеет никакого отношения. С ними нужно быть очень терпеливым. Несмотря ни на что, они сущие дети.
— Вы думаете, что долго будете чувствовать себя спокойно в городе? — продолжал Луи. — Это всего лишь вопрос времени. А потом наши границы начнут сжиматься, и наш лагерь будет становиться все меньше и меньше. И что тогда?
— Глупости, — сказал Лоренс, засовывая длинный чубук своей трубки в мокрую дыру посреди волосатого лица.
— Вы думаете, вам удастся удержать их с помощью апартеида? — настаивал на своем Луи, словно муха, упрямо бьющаяся о стекло. — Белые здесь, черные там. Но это не шахматы. Это люди.
— Я не знаю другого пути, каким можно разрешить наши проблемы, — твердо сказал я, — Это было довольно легко для Англии, Франции и других стран: их колонии лежали за морем, и, когда там становилось жарко, можно было просто бросить все на произвол судьбы. А мы живем в самом сердце нашей колониальной империи. И если мы не отделим друг от друга конфликтующие стороны…
— Конечно, что же вам еще остается, как не защищать систему, благодаря которой вы стали богатыми и могущественными, — возмущенно сказал Луи.
— Твое «богатые и могущественные» не более чем ходульное выражение, — сказал я. — Ты слишком упрощенно на все смотришь. Ты готов немедленно переходить к решительным действиям. А у меня побольше опыта. И я знаю, к чему могут привести поспешные решения.
— А я знаю, что случается с людьми, которые отказываются от перемен!
— В юности мы тоже стремились в первую очередь решить вечные вопросы, — с важностью заметил Лоренс, словно цитируя кого-то.
— Я считаю, что защищать свои интересы мы можем только живя в городах, — сказал Герт, — Только там белые и должны жить. Здесь, на границе, мы беззащитны перед чернокожими. Если начнется заваруха, будьте уверены, правительство пожертвует нами не моргнув глазом. В наше время они заботятся только о своих уютных гнездышках.
— Да и для чернокожих им следовало бы сделать побольше, — устало добавил Лоренс.
— Для нас им следовало бы сделать побольше! — воскликнул Герт.
— А я знаю только, — продолжал Лоренс, выпуская дым, — что такого не было бы, если бы был жив Ян Смэтс.
— Мне хорошо заплатили за ферму, — сказал Герт. — Гораздо больше, чем она стоит. Такой шанс нельзя было упускать.
— Да, Герт говорил это с самого начала, — покраснев, добавила Луки.
— Вот это в самом деле важно, — сказал я, стараясь не встречаться взглядом с Луи, — Совершать каждую сделку на максимально выгодных условиях.
* * *
Как только гости уехали, мать поспешила на кухню, чтобы убедиться, что обед уже готов. Она беспокоилась, потому что было уже половина первого, а по воскресеньям мы всегда обедали ровно в полдень.
— Ну вот, мама, — сказал я, усаживаясь за стол, — ты слышала, что они говорят. Почему бы и тебе не призадуматься и не поступить разумно?
Она некоторое время внимательно разглядывала меня. Затем сказала:
— Призадуматься нужно не мне, сынок. И я даю тебе на это время.
— Время на что?
— Открыть глаза и увидеть, что ты затеял. А теперь прочти, пожалуйста, молитву.
6
Но когда после обеда она пошла к себе в комнату «прилечь», чего обычно не делала, я понял, что она волнуется куда больше, нежели я думал.
— Выходит, возраст все же дает о себе знать? — Дружелюбно заметил я, но прозвучало это все-таки жестоко.
— Я не слишком хорошо спала сегодня ночью, — сухо ответила она.
На пороге она остановилась и поглядела на меня:
— Иногда, знаешь ли, сон вроде молитвы. Возможность испросить помощи у того, к кому иначе и не обратишься.
И не успел я ответить, как она уже закрыла за собой дверь.
Луи валялся на постели и листал комиксы. Я снял ботинки и брюки и лег под одеяло. Покой объял меня как тепло. Но помимо физического удовлетворения, он вызвал во мне нечто более давнее и знакомое. Отвернувшись от Луи, я без труда представил себе, что на его месте лежит Тео (хотя я и не люблю вспоминать о Тео) и что мы снова стали детьми.
В детстве по воскресеньям возникало неприятное ощущение, словно тебя сажали в клетку, этим воскресенья и выделялись среди прочих дней недели. Особенно после обеда. Эти бесконечные летние полдни с солнцем, выжигающим долину, безветренные и жаркие. Дед и бабка после обеда ложились спать, отец тоже, а мать удалялась куда-нибудь, взяв Библию. А нам следовало оставаться в комнате с зашторенными окнами до четырех часов. Малейший шум из нашей комнаты в это время неизбежно приводил к наказанию старым ремнем, который мать всегда носила с собой даже по воскресеньям. Вероятно, это и было моим первым представлением о добре и зле: «грех» значило шуметь по воскресеньям после полудня, а «добром» было неподвижное лежание на постели в изнурительный зной, с каплями пота, проступавшими по всему телу.
Когда мы чуть подросли, нас в качестве поощрения стали оделять на это время чтением: религиозными журналами, которые выписывала бабушка, или коричневыми томиками Фанни Иден. Святость была неотделима от скуки. Но и покоряясь — а ни один из нас в отличие от нынешних детей не допускал и мысли о возможности воспротивиться родительской воле, — я ощущал в этих полуднях нечто беспокоившее меня задолго до того, как я смог сформулировать свое ощущение. Чувство противоестественной изолированности двух мальчиков, запертых в душной мрачной комнате, от фантастического мира снаружи: запруды и реки, влажной земли, девственного леса и тенистых фиговых деревьев, запаха листвы, криков оборванцев у реки и нещадно палящего солнца. Дело было не только в мрачности нашей комнатенки, а и в пугающем открытии, что тебя лишили мирского великолепия, которое мы впитывали тогда с чувственным, почти сексуальным трепетом.
Воскресенье за воскресеньем мы лежали в нашей жаркой как печь комнате, прислушиваясь к бою часов в коридоре: час, четверть второго, половина второго, без четверти два, два, затем три часа и наконец — слава богу! — звук четырех внушительных ударов и вслед за тем голос бабушки, кофе, сливочный торт, зеленый фиговый джем и свобода бродить по ферме. Лишь однажды за все эти годы я осмелился выскользнуть из постели в такое время и убежать вместе с Тео к мальчишкам на реке. Это было именно в тот раз, когда я чуть не утонул и был спасен Мпило. Господь наказал меня за ослушание. А потом, конечно, и мать своим ремнем.
Таковы были мои представления о воскресных днях, столь неожиданно перечеркнутые в тот день на ферме у Бернарда, когда Элиза сбросила одежду и голая купалась у плотины. Символический акт, церемониальное освобождение от всех предписаний кальвинистской морали, мимолетный, но незабываемый миг абсолютно свободного существования в раю, где нет места греху, отмеренным воскресным часам и гневу божью. Она осуществила то, что прежде было для меня только предположением и надеждой. Она научила меня быть свободным. Она утвердила в моем юношеском сознании мысль о невиновности.
И все это попусту. Ее слова в тот вечер после свадьбы «Давай сначала помолимся, чтобы господь благословил нашу ночь» отрицали все, что я надеялся обрести благодаря ей. Не было ли это лишь иллюзией? Может быть, я несправедлив к ней? Может быть, она и не догадывалась, что именно в тот магический и эфемерный миг я увидел и полюбил в ней? Она была завершением моего раннеромантического периода, моей мечты о писательстве, моей прежней веры в счастье. Вероятно, я так и не смог простить ей этого.
* * *
Не хотелось читать сегодняшние газеты. Не хотелось знать, что пишут о волнениях в Вестонарии и тем более о суде над Бернардом. Итак, я пролистал новости, лишь мимоходом заглянув в политический комментарий. Но в коммерческой части «Недели бизнесмена» мне вдруг бросилась в глаза моя фотография. Я внимательно изучил заметку, пытаясь отыскать ошибки, зная, сколь мало можно доверять журналистам, но все было на редкость правильно. Несколько подобных статей обо мне было уже опубликовано раньше, обычно под рубрикой «Африканеры — лидеры делового мира», но иногда и более личного характера, вроде «Человек, знающий секрет успеха». Постепенно привыкаешь относиться к этому как к части повседневной рутины, и все же такие статьи помогают жить, служат барометром успеха, так же как интрижки с женщинами.
В статье был упомянут и Тео, «младший брат господина Мейнхардта, известный архитектор». В разговоре с репортером я настоял на упоминании Тео, считая, что я в некотором долгу перед ним.
Может быть, до сих пор я поступал не вполне честно, почти ничего не говоря о Тео. Но я был искренне убежден, что он в моем рассказе ни к чему. Теперь же понимаю, что придется написать и о нем. Странно, сколь принудительным может стать подобное повествование.
Я был весьма удивлен, когда Тео позвонил мне и спросил, может ли он заехать ко мне в контору.
— Почему бы вам с Марией не приехать к нам поужинать? Мы могли бы выпить и поговорить. Мы так давно не виделись.
— Хорошая мысль, — сказал он. — Но сейчас мне нужно поговорить с тобой наедине.
Я полистал настольный календарь.
— Как насчет вторника на следующей неделе? Мы уже вернемся к тому времени с фермы.
— Мне, собственно, хотелось бы поговорить с тобой до поездки. Дело довольно важное.
— Когда ты приедешь в Йоханнесбург?
— Я здесь.
— А, тогда давай сегодня во второй половине дня? У меня договоренность на обед, но я могу ее отменить.
— Мне не хотелось бы идти в ресторан. Я предпочел бы поговорить в конторе.
— Что за таинственность?
— Да нет, ничего особенного. Это просто… ну, ладно, увидимся в три.
Дело было в марте, вскоре после того, как отцу поставили окончательный диагноз, за пятнадцать месяцев до его смерти; в то время он, несмотря на плохое самочувствие и сильные боли, все еще много читал и занимался.
Подобно отцу, когда тот бывал чем-то смущен, Тео проговорил полчаса о пустяках, ничем не намекнув на подлинную цель своего визита. У меня было много работы, а я собирался заехать вечером к Беа, но я прекрасно знал, что подгонять его бесполезно.
Я, почти не слушая, с отсутствующим видом смотрел на него: он моложе и выше меня, волосы у него гуще и красивее, фигура более тренированная и без моего жирка, он довольно хорош собой, «даже слишком смазлив для мужчины» как однажды с неодобрением выразилась мать. У него вид бабника, хотя, по-моему, он им никогда не был. Вдруг я подумал, как плохо знаю его. После окончания колледжа мы почти не общались. В ту пору я имел обыкновение отбивать у него девиц — я делал это не всерьез, скорее, ради забавы и чтобы позлить его, что мне, правда, ни разу не удалось. Бедняга Тео. За редкими исключениями, это были весьма привлекательные девицы. К несчастью, его жена оказалась стервой. Впрочем, она меня тоже недолюбливает. У меня есть одно довольно странное предположение, почему именно, но сейчас не время объяснять это.
Тео продолжал болтать: о каком-то только что построенном по его проекту административном здании, о статуях в холле, которые пришлось убрать из-за общественного протеста против их наготы, о недавней поездке в Скандинавию с Марией и детьми, о болезни отца.
И затем без всякого перехода вдруг спросил:
— Мартин, ты считаешь себя счастливым человеком?
— Что за странный вопрос! Да, пожалуй. А что?
— Просто хотел узнать. В работе, в личной жизни. Понимаешь?
— Ну, моя жизнь постоянная борьба. Но я обычно побеждаю.
— Я говорю не об успехе. Ты сам чувствуешь себя счастливым?
— Честно говоря, я так устаю за день, что мне некогда об этом думать.
— Ты не хочешь ответить.
Я задумался. Было время, когда я, не колеблясь ни секунды, ответил бы на этот вопрос утвердительно. Вернувшись из Англии, я начал работать юрисконсультом. То были нелегкие времена. Я еще не расплатился за обучение, а жалованье у меня было отнюдь не королевское. И все же тогда я, без сомнения, был тем, кого Тео назвал бы счастливым человеком. Но долго так продолжаться, конечно, не могло. Я вскоре обнаружил все ограничения подобной жизни. Это заставило меня серьезно задуматься. Будущее страны, развивающейся в столь быстром темпе, решил я, таится в экономике, в промышленности. А главное в нашей экономике — горное дело. После того как я это понял, все остальное было если и не простым, то вполне предсказуемым.
Опыт, который я приобрел на фондовой бирже. Я всегда все схватывал на лету. Передача акций «Англо-Американ корпорейшн». Особые преимущества человека, имеющего доступ к неофициальной информации, часто включающей в себя проекты, слишком мелкие для огромной компании, но идеальные для начинающего предпринимателя. Если ты терпеливо ждешь подходящего момента, а потом действуешь не теряя времени. Порой все решает час-другой.
И вот когда я открыл то частное досье, я понял, что мой час настал. Данные геологов о новых исследованиях в Северном Трансваале. У меня не хватало капитала, чтобы освоить подобный проект, но я знал, что второго такого случая, возможно, придется ждать годы. Я должен был прибрать это к рукам, прежде чем отчет попадется на глаза членам правления биржи.
Я не стал ничего обсуждать с Элизой, наперед зная ее реакцию. Буквально за одну ночь я объездил нужных людей, рискуя не только каждым принадлежавшим мне грошом, но и капиталом моих компаньонов. И прежде, чем «Англо-Американ корпорейшн» начала действовать, сделка была совершена.
Кое-кто до сих пор не простил мне этого. И с Элизой у меня было несколько жесточайших стычек, самых серьезных за все время супружества. Но в нашем деле нет места жалости. Убей сам или будешь убит. А если и приходится порой идти по трупам, ну что ж, это тоже входит в правила игры. Либо у тебя есть «инстинкт», либо нет; либо ты принимаешь участие в игре, либо выходишь из нее. Вот главный и единственный выбор, который приходится делать. Потом остается только продолжать борьбу. Занятие в некотором роде не менее захватывающее, чем охота на крупных зверей. А выгода несравненно большая. Но и угроза поражения — вроде угрозы смерти, подстерегающей в буше. Ни секунды промедления, ни минуты отдыха. Только вперед и вперед. Потерять хватку хоть на мгновение означает потерпеть крах.
— Но ведь счастье это всего лишь сентиментальное понятие, ты не согласен? — сказал я. — Впрочем, в той степени, в какой оно имеет отношение к делу, я могу ответить: мне не на что жаловаться. Моей жене тоже. И моим детям. Моему сыну не придется ходить босиком, как мне.
Он молча неприязненно глядел на меня.
— А почему ты спрашиваешь? Ты сам-то счастлив?
— Нет.
Я не ожидал столь честного ответа.
— А в чем дело?
— Знаешь, Мартин, я мирился многие годы. С этим можно жить. Но теперь, когда отец болен… ты ведь понимаешь, что это лишь вопрос времени.
— Да, ну и что? Какое отношение имеет его болезнь к твоему несчастью?
— В детстве, ты помнишь, я был готов повсюду следовать за тобой. Во всем подчиняться тебе. — Он криво усмехнулся. — Я не виню тебя. Но в школе для меня было сущим адом постоянно слышать о том, что я должен во всем брать пример со своего старшего брата. Ты помнишь, как отец с матерью хотели, чтобы мы всегда были первыми. И я думал, я вам всем еще покажу. Всему миру. Я стану архитектором и буду строить совершенно новую страну. Я заставлю вас признать, что я тоже кое-что значу. Даже если моя душа к этому не лежит.
— Но я не понимаю, к чему ты клонишь?
— Я хочу быть фермером.
— Фермером?!
— Не смейся, пожалуйста. Я всегда хотел быть фермером. Но еще в детстве нам твердили, что ферму унаследуешь ты. Хотя все знали, что фермером ты не станешь, она все равно предназначалась тебе. Что ж, это нормально, ты старший. Но теперь, когда отец заболел… — Он поглядел мне прямо в глаза, я выдержал его взгляд, — Мартин, тебе ведь не нужна ферма, правда?
Я пожал плечами.
— Я хочу, чтобы ты поговорил с отцом. Спроси его. Скажи ему. Может быть, ему от этого даже станет легче на душе. Я, конечно, возмещу тебе все до последнего цента.
— А почему бы тебе самому не поговорить с ним?
— Ты прекрасно знаешь, что они никогда не обращали на меня особого внимания: все ты да ты. Если ты скажешь им, они тебя послушают.
— Но если тебе так хочется копаться в земле, ты можешь купить ферму где угодно. Денег у тебя достаточно.
— Конечно. Но дело не только в этом. Это ферма нашей семьи. Я хочу стать фермером не просто потому, что мне надоела эта мышиная возня. Я хочу жить именно там. Я хочу, чтобы мои дети бегали там босиком, чтобы они плавали у нашей запруды.
Я сидел потупившись.
— Сделаешь это для меня, Мартин? Ради бога, пойми меня правильно: я вовсе не хочу лишать тебя наследства. Но я знаю, что тебе в самом деле плевать на ферму.
— Ладно, я поговорю с ними, — пообещал я, чувствуя неудовольствие и раздражение.
И начал листать бумаги, чтобы показать ему, что у меня много работы.
Разумеется, я никому не сказал ни слова в тот уикенд на ферме. Я знал, что это лишь напрасно взволнует отца. Да и стоило ли принимать всерьез новый сентиментальный всплеск моего братца? Он всегда казался человеком, которого интересует только будущее. Откуда же этот внезапный зуд к прошлому? Может, он слегка свихнулся? Или это один из нормальных приступов меланхолии, охватывающей человека, которому перевалило за сорок? Как бы то ни было, его следовало защитить от него самого.
После возвращения в город я позвонил ему. И как можно мягче сказал:
— Слушай, я поговорил с ними. Они и слышать не хотят. Особенно мать. Ты же знаешь, каково с ней, когда она заупрямится. А отца в его состоянии лучше не волновать.
— Да, конечно, — спокойно и безразлично ответил он. — Я понимаю. Все равно спасибо тебе, Мартин.
В виде компенсации он вскоре получил заказ на проектирование нового коммерческого центра, в котором я имел долю. Это был один из самых больших заказов в жизни Тео, за честь получить его боролись ведущие архитекторы страны. И мне пришлось приложить немало дипломатических усилий, чтобы убедить коллег, ибо, как мне известно, несколько других проектов были лучше. Но я хотел помочь ему развеять сентиментальный дурман, и это удалось — работа захватила его. Никто не вправе был бы требовать от меня большего.
* * *
Почему я все чаще и чаще пишу о том, о чем мне вообще не хотелось бы упоминать? Самое неприятное, что мои записки все более становятся похожими на роман, продиктованный мне чувствами, от которых я многие годы старался избавиться. И все же мне не остается ничего другого, как внимательно поглядеть не только на тот уикенд, но и сквозь него, как сквозь ветровое стекло, сплошь облепленное комарами, — на весь ландшафт моей жизни. Вероятно, это и будет для меня настоящим адом.
Странно, что Чарли тогда тоже говорил об аде. Словно этого навязчивого образа невозможно избежать.
Мы выехали из города на юго-запад. В Соуэто. Я никогда не бывал там прежде (и потом тоже). У меня довольно смутные воспоминания о той поездке не только из-за сумбура впечатлений, но и из-за раздражения на Чарли. И еще из-за страха. Признаюсь в этом. То был, пожалуй, единственный случай в моей взрослой жизни, по-настоящему испугавший меня, хотя, казалось бы, причин для этого не было. Ибо ничего не случилось. Но это было ужасно. Ничего не случилось, но в любой момент могло случиться что угодно. Например, если бы нас остановила полиция. Человека с моим положением. Этому немедленно придали бы политическую окраску. Что делал господин Мейнхардт в Соуэто? Меня могли бы уничтожить за это, если бы захотели: у нас уничтожают и не за такое.
Бесконечные ряды домов. Не коробки из железа, дерева и дранки, какие я смутно помнил из своей давнишней поездки по стране, а абсолютно одинаковые продолговатые домики, с крошечными дверями и окнами — сотни, тысячи домиков. Сама одинаковость угнетала. Господи, как тут отыскать свой дом, если заблудишься? Например, высади меня Чарли из машины и заяви, ступай домой на своих двоих? Что тогда?.. И дым. Еще едва перевалило за полдень, но дым с прошлой ночи лежал тяжелой завесой над кварталами, и уже начал скапливаться новый. Прыгающие через скакалку дети. Ямы и рытвины на пыльной дороге. Кучи мусора. Тощие собаки, ищущие пищу и кидающиеся к каждому, кого увидят. Женщины в чахлых палисадниках: одни в длинных юбках и головных платках деревенских жительниц, другие в мини-юбках, ярких городских платьях, брюках и в туфлях на высоких каблуках. Беременные, с выпирающими животами, молодые матери, кормящие детей или таскающие их на спине, стройные как тростинки девушки с высокой грудью. Подростки, играющие в карты прямо посреди дороги. То там, то тут старик, сидящий на ящике из-под помидоров у порога своего дома. Пустыри между кварталами. Канавы, рухлядь, кузова автомобилей, дети, ползающие, как тараканы, по кучам мусора. И высохшие старухи, разгуливающие по свалке, словно черные вороны или стервятники. Мальчишечьи команды, гоняющие футбольные и теннисные мячи или набитые тряпками носки. Заборы из проволочной сетки с болтающимися на них вещами, словно пародия на рождество: бумага, пластиковые мешки, мотки шерсти, клочья разноцветной ткани. Церкви, танцзалы, школы с голыми площадками для игр, окруженными чахлыми деревьями. Магазины пластинок. Бензоколонки. Кирпичное здание полицейского участка за забором из колючей проволоки. И свалки вдоль пыльных улиц — всевозможные отбросы человеческого существования: разбитые ванны, жестянки, барабаны, картонные коробки, дверцы автомобилей, ветровые стекла, покрышки, проволока, дырявые кастрюли, ночные горшки, пластиковые мешки, котлы, алюминиевые миски, клочья старой одежды, дохлые кошки, обрывки ковров и занавесок. В это время дня автомобилей у домиков было немного, но среди тех, что попадались нам, мы видели и старые американские развалюхи, и потрепанные «фольксвагены», и сверкающие новые «мерседесы», «ягуары», и «ситроены».
— Вам следовало бы проехаться и на автобусе, — сказал Чарли. — Вы знаете, что организуют специальные экскурсии по этим кварталам — как по джунглям? Посмотреть на аборигенов в натуральном виде. Кормить животных воспрещается.
— Хватит, Чарли. Я видел все, что вы хотели мне показать. Поехали.
— Откуда вы знаете, что я хотел показать? Не торопитесь. Сперва заедем ко мне домой. Или вы думаете, что я плохой хозяин?
Он не обращал внимания на мои протесты. Где-то среди одинаковых домиков он отыскал свой и затормозил. Со всех сторон к «мерседесу» помчались мальчишки. «Если машину повредят, — сердито подумал я, — ремонт влетит в копеечку».
Дверь открыла дородная, со вкусом одетая женщина.
— Познакомься с моим другом, господином Мейн-хардтом, — сказал Чарли. (Я так до сих пор и не знаю, кто она такая.)
Мы прошли в небольшую, скромно обставленную гостиную. Чарли уселся в кресло с высокой прямой спинкой, а я на мягкий диван с цветастой обивкой. Цементный пол был покрыт голубым линолеумом. Искусственные цветы в вазе на столике. Календарь на стене.
— Чарли, вы уверены, что мое пребывание здесь не противозаконно?
— Конечно, противозаконно. Но не беспокойтесь. А вот и чай.
Он взял у женщины поднос и передал чашку, сначала ей, а потом мне.
— Как поживаете, господин Мейнхардт? — спокойно спросила она.
Что мне было на это ответить? Я сказал что-то ни к чему не обязывающее. Она улыбнулась. Тон для беседы был найден. Мне казалось, что Чарли посмеивается про себя, наблюдая за мной. Я старался вести себя непринужденно, как бы невзначай поглядывая время от времени через окно на улицу, где в любой момент могла появиться полиция.
Нашу беседу сопровождал какой-то звуковой фон — не то радио, не то проигрыватель, — джазовая музыка, но доносившаяся издалека, так что уловить мелодию было невозможно. Впрочем, у большинства этих песенок, по-моему, вообще нет никакой мелодии. Этот фон пульсировал на пороге сознания как аккомпанемент к нашей беседе. Кричали, визжали и плакали дети. На улице женщины переговаривались громкими голосами через три, четыре, а то и пять блоков. Слышался непрерывный вой собаки, сопровождаемый ритмичными ударами плетки или железного прута.
Чарли поднялся с места не раньше чем через час. Я до неприличия поспешно последовал за ним, чуть не забыв попрощаться с таинственной женщиной. Ее рука была холодна и суха.
— Рада была с вами познакомиться, господин Мейнхардт.
Но как выяснилось, это было только начало. Едва ли Чарли задумал все заранее, он был мастер импровизаций. Я все еще пребывал в полной уверенности, что мы находимся на обратном пути из лабиринта похожих на детские кубики домиков, как вдруг он резко затормозил.
— В чем дело? — удивленно спросил я.
— Давайте зайдем к одному моему приятелю.
— Но послушайте, Чарли…
— Отдыхайте, дружище, расслабьтесь. Не каждый день мне случается руководить вами.
Хотел он развлечь меня или напугать? Я не мог понять. Прошел еще час, прежде чем наконец я догадался, что он не отпустит меня домой раньше вечера. Стали опускаться сумерки, а мы все посещали одного «приятеля» за другим. Звучание кварталов постепенно менялось. Все чаще раздавались пронзительные гудки поездов, следовавших друг за другом, на улицах прибавилось машин, поднимавших тучи пыли, издалека докатилась глухая волна звуков, гулкий топот возвращавшейся с работы толпы: тысяч, сотен тысяч рабочих, выблеванных заводами Йоханнесбурга. Шум стал более понятным и более интимным. С наступлением темноты непристойный спектакль человеческой жизни превратился в радиоспектакль. В часы, проведенные там, я понял, не обращаясь ни к каким статистическим данным, а лишь благодаря теплому биологическому страху в животе, что где-то совсем рядом рождаются дети, а старики умирают, что людей убивают и насилуют, что парочки занимаются любовью или дерутся, что отцы напиваются и колотят детей. Все, что случается каждую минуту во всем мире, ощущается здесь с какой-то особой, неведомой мне прежде непосредственностью и всепобеждающей интенсивностью.
Возгласы подростков, играющих на улице в футбол, не смолкали до тех пор, пока не стало совсем темно. Игроков подбадривали низкими голосами вернувшиеся с работы родители. И постепенно уличный шум перешел в шум из домов. Все больше и больше орущих приемников. Люди, разговаривающие громкими голосами. Жуткие скандалы, крики, стоны. Короткие мгновения тишины. Из-за тесного скопления огромного количества домов ощущение присутствия всего сразу стало просто невыносимым. На него реагируешь не только ушами, глазами и ноздрями, но и всей кожей.
В дом приятеля Чарли один за другим — как мотыльки на свет — заявлялись какие-то люди. Хотя я бы не сказал, что там было светло. Ни в одном из домов, в которых мы побывали, электричества не было. Лишь на перекрестках улиц стояли высокие столбы с обтянутыми защитной сеткой фонарями, самодовольно озарявшими небольшие участки вокруг себя. А в отдалении, обозначая ход изгороди из колючей проволоки вокруг резервации, виднелись мощные прожекторы, что вызывало ассоциации с концлагерями, виденными на фотографиях.
В конце концов в маленькую гостиную набилось не менее двадцати человек. Женщины время от времени исчезали и затем возвращались с едой, приготовленной на своих и соседских кухнях. Тарелки, ножи и вилки передавались из рук в руки. Мы ели, держа тарелки на коленях. Что именно, я так и не понял, а спрашивать не хотелось. Черные тела в неровном свете свечей и газовых ламп, запах пота, духов, пудры — все это придавало происходившему оттенок нереальности. Я не в силах припомнить тему беседы, слишком много разговоров велось вокруг меня одновременно. Никто, казалось, не обращал на меня особого внимания, я был просто одним из случайных гостей. Познакомься с приятелем Чарли господином Мейнхардтом. Вот и все.
Настроение у меня становилось хуже и хуже. Удрученный тяжелой духотой в комнате, я подошел к окну, чтобы глотнуть свежего ночного воздуха. Но через несколько минут отошел, боясь, как бы меня не заметил с улицы полицейский автопатруль. Наконец Чарли поднялся и объявил:
— Ладно, ребята, пока. Нам пора.
Я поспешно последовал за ним.
— Послушайте, Чарли, теперь уж действительно хватит.
— Но мы еще только начали отдыхать.
— Хватит говорить глупости. Мне пора домой.
— Нет, сперва заедем в один притончик.
— Вы с ума сошли!
Громко расхохотавшись, он вынул ключ зажигания.
— Верните ключ, — приказал я. — Я сам поведу.
К моему удивлению, он безропотно повиновался, и мы поменялись местами. Но я понимал, что не пройдет и пяти минут, как я заблужусь. Делая вид, будто не замечает моей растерянности, Чарли что-то мурлыкал себе под нос, барабаня пальцами по стеклу.
— Хватит, Чарли. Объясните мне, как отсюда выбраться.
— Ладно, старина, не волнуйтесь.
Он начал давать мне подробные указания, которым я покорно следовал, отнюдь не будучи уверен, что могу положиться на него.
— Стоп! — внезапно закричал он.
Я резко затормозил.
— В чем дело?
— Приехали. — Он вышел из машины.
— Чарли, вернитесь!
— Сперва заглянем сюда.
— Идите к черту! Я сам отсюда выберусь.
— Ну, тогда до свидания.
Я рванулся с места, но тут же затормозил, поняв, что без него я окажусь в еще более плачевном положении. Как я объясню свое присутствие здесь, если меня остановит полицейский патруль? Не говоря уже о вполне реальной угрозе подвергнуться нападению местной банды.
В беспомощном бешенстве я вышел из машины и запер ее. Я не знал, что еще меня ожидает. Но притон оказался похожим на любой другой, в зале сидело множество мужчин и женщин. Напитки разносила невероятно толстая женщина, которую все называли Мамашей. После того как Чарли представил меня, никто больше не обращал на меня внимания. Чарли как ни в чем не бывало распорядился принести мне виски.
В ту ночь мы побывали и в других «притончиках». Один из них оказался весьма роскошным заведением: двухэтажный дом с мягкими коврами и современной дорогой обстановкой. Разговоры здесь велись приглушенно, компания распадалась на небольшие группки. Врачи, бизнесмены, журналисты, если верить небрежным аттестациям Чарли.
— Как вы могли привезти меня сюда? — спросил я. — А если кто-нибудь из ваших журналистов меня узнает?
— Успокойтесь. Они не на службе.
Под конец мы посетили еще одно заведение: маленький мрачный подвал, дрожащий от шума и душераздирающей музыки, темный водоворот двигающихся в ритмическом танце тел: все помещение было затянуто дымом, не только табачным, но и опиумным. К этому времени я потерял всякую сопротивляемость и во всем покорялся Чарли. Я был слишком измотан, даже чтобы сердиться. Бог знает, чего он только не подливал в мою рюмку. Должно быть, скокиан. Все кругом было пропитано отвратительным кислым запахом пива. Мквомботи, назвал мне Чарли этот напиток, тщательно артикулируя каждый слог.
Уже ближе к рассвету мы наконец выползли наружу в полную неведомых опасностей ночь. Голова раскалывалась от боли. Я ничего не видел и едва стоял на ногах, опершись на машину, пока Чарли отпирал ее. И тут меня стало рвать. Он продолжал болтать и успокаивать меня, поддерживая под руки, как когда-то давным-давно Белком. Еще ни разу я не опускался так при Чарли, ни разу я не был столь беспомощен. Но он делал вид, будто ничего не замечает.
Плюхнувшись на заднее сиденье и высунув голову в открытое окно, я едва ли понимал, что, собственно, происходит. Но одно меня все же поразило: хотя было еще совсем темно, никак не более четырех утра, улицы были полны людей, бесконечным потоком движущихся на работу.
— Ну, что? — засмеялся Чарли. — Приятный вечерок?
В его голосе не было ни тени усталости. Я даже не пытался отвечать. Весь мой гнев, недовольство и сопротивление были сломлены. Он вытряс из меня всю уверенность и самоуважение. Чем беспомощнее я становился по ходу ночи, тем больше это распаляло его.
Он затормозил у подъезда дома в Жубер-парке. Я даже не подозревал, что он знает об этой квартире, я никогда не упоминал ему о ней. Но я был слишком усталым, чтобы любопытствовать. Он с трудом дотащил меня до лифта, обняв за плечи. В квартире он приготовил ванну. Наверное, он бы помог мне и раздеться, если бы я не остановил его. После ванны он уложил меня в постель. Должно быть, он тоже немного поспал. Когда в девять утра я, спотыкаясь, выбрался из спальни, он уже сидел в кресле в гостиной, свежий как огурчик.
Я не в первый раз не ночевал дома, так что Элиза, скорее всего, и не волновалась. Но я все же позвонил ей из конторы. Женщинам нравятся такие небольшие знаки внимания. Днем Чарли позаботился, чтобы мой запачканный костюм был вычищен, и я смог вернуться домой в той же одежде, что и ушел накануне. Ни единым словом он никогда не напомнил мне о той ночи. Я ему тоже.
Но мне хотелось бы найти его поведению хоть какое-то объяснение. Не было ли все это намеренным оскорблением с его стороны? Старался он развлечь меня или играл со мной в кошки-мышки? Одно мне ясно: с Чарли все было не так, как когда-то с Велкомом. Хотя они и очень походили друг на друга. Но не во всем. С Велкомом мы были друзьями. А с Чарли мне всегда приходилось что-то защищать и отстаивать. Так же вел себя и он (из-за Бернарда?). Нам никогда не удавалось преступить определенную черту в наших отношениях. Кроме той не поддающейся объяснению ночи.
Или все просто можно свести к тому, что со времени моей дружбы с Велкомом прошло много лет, и я стал старше? Между двумя этими встречами что-то произошло со мной, что-то я в себе утратил. Может быть. А может быть, и нет. Не стоит все чересчур драматизировать.
* * *
Отложив газету, я поглядел на Луи, спавшего спиной ко мне. Нечто чрезвычайно знакомое было во всей ситуации: кровать у противоположной стены, потертый зеленый ковер на полу, умывальник, марлевая занавеска на окне. Комната Бернарда в пристройке. Наши долгие ночные беседы. Белокурая голова Луи была как удар в солнечное сплетение. И не потому, что он был похож на Бернарда. Просто в это мгновение он и был Бернардом. Новым, неведомым Бернардом.
Я поспешно встал. Когда я клал газету на ночной столик, мои наручные часы звякнули о темный стеклянный абажур лампы. Звук был настолько знакомым, что у меня внутри все замерло. Однако пришлось основательно порыться в памяти, чтобы припомнить его. Да, конечно: позвякивание стеклянных лепестков абажура в моей детской, когда я во время болезни потянулся к стакану с водой. В ту минуту, когда, как сказал доктор, кризис уже миновал.
7
Хотя было пять минут пятого, в доме стояла тишина. Лишь из кухни доносились какие-то приглушенные звуки. Дверь в комнату матери была закрыта. Я на секунду задержался возле отцовской двустволки, висевшей в коридоре, и погладил полированный приклад. Может быть, удастся подстрелить что-нибудь в вельде? Но не без очков же! Чертыхнувшись, я вышел из дома, осторожно прикрыв за собой дверь. Тускло светило водянистое зимнее солнце.
Я бесцельно побрел по двору мимо фигового дерева. С вершины холма по-прежнему доносились ритмичные удары кирок, вгрызавшихся в землю:
Goduka kwediniМне не хотелось идти туда. Почти машинально я пошел мимо сараев, мимо отцовской пристройки, мимо каменной ограды кладбища к высохшей речке на дне долины. По обе стороны тропы поля превратились в голую землю, вычерненную солнцем. Водоем у запруды был пуст, на дне замысловатым узором растрескалась глина. А ведь здесь я едва не утонул когда-то.
Я брел как лунатик, не решаясь ни переменить направление, ни остановиться и проклиная свои роскошные итальянские ботинки, в которых я спотыкался через каждые несколько шагов. Надо было привезти старые охотничьи сапоги. Правда, я не собирался в этот уикенд совершать долгие пешие прогулки.
Охота, единственная из забав моего раннеромантического периода, которой я остался верен. Сейчас я охочусь не чаще раза в год. Обычно зимой, когда открыт сезон. В лесах Северного Трансвааля или в Юго-Западной Африке где я могу совместить это с деловой поездкой на одну из моих шахт. Эти несколько дней в кругу близких друзей помогают мне освободиться от давления внешнего мира куда лучше, чем все остальное (если не считать той недели в Мозамбике с Беа). На охоте ничто, кроме нее самой, не имеет никакого значения, мир далек и не интересен. Есть только ежедневные походы в буш втроем или вчетвером, в старой одежде, охотничьих сапогах, в шапке защитного цвета и со своим надежным ружьем триста восьмого калибра. Выбираешься из палатки с первым проблеском зари, когда мороз еще стелется белым инеем по земле, варишь кофе на костре, разожженном головешками, тлеющими со вчерашнего вечера, слушаешь поскрипывание сапогов по жесткой траве. Все чувства в тебе напряжены, глаза и уши ловят малейший звук или движение в буше. Медленно поднимается солнце. Жуки в траве. Паутина, сверкающая в утренних лучах. Птицы-носороги в терновнике. Если не повезет, крикливая птица увяжется за тобой, перелетая с дерева на дерево, и спугнет дичь. Куропатки, вспархивающие прямо из-под ног. К полудню — уже подстреленные антилопа или сернобык. Печень, зажаренная на углях, — слишком дикарское и обильное блюдо, на мой вкус, но это обязательная часть ритуала.
Мгновение, когда видишь, как антилопа дергает головой. Попал. Последний прыжок. Ты подходишь к ней: она еще в агонии, тонкая шея дергается и бьется в траве, большие черные глаза застланы голубоватой пеленой, из ноздрей бегут струйки крови.
Несколько раз мне случалось охотиться и на крупных зверей, однажды даже на льва. Тогда ощущения еще более сильные, ибо в условия игры входит и возможность собственной гибели. Опасность, страх. Рискуешь жизнью только для того, чтобы подстрелить животное. И не более. Но может быть, именно простота игры и придает ей какое-то дикарское обаяние. Жизнь и смерть, не замутненные ничем иным. Словно возвращаешься к первоосновам бытия.
Но не всегда на охоте ощущаешь только приятное возбуждение. Бывают и разочарования, как в тот день, когда я подстрелил сернобыка: я видел, что попал ему под лопатку, но все стадо, двадцать или даже тридцать животных, быстро помчалось прочь, мгновенно скрывшись за красными муравейниками и темно-зеленым терновником. Мы не нашли и следа крови. Я потратил несколько часов, разыскивая тушу, пока не стало слишком темно и не пришлось возвращаться в лагерь под добродушные насмешки приятелей. Лишь на следующий день мы обнаружили подстреленное животное по кружению стервятников. Он упал ярдах в ста от того места, где я стоял. Я попал прямо в сердце. Такое часто бывает, когда попадаешь в сердце: животное на всем бегу останавливается и, незамеченное, падает в траву. Туша была разодрана на части и перемазана кровью, слизью и экскрементами. Только длинные изящные рога говорили о том, что это был за зверь. Не имело смысла вырубать их. Я так и ушел, испытывая странное двойственное чувство: удовлетворение, что не ударил в грязь лицом перед друзьями, и разочарование из-за потери. Это было даже не просто разочарование. Глубокая, неприятно саднящая печаль о чем-то прекрасном, пропавшем столь нелепо.
Впрочем, когда охотишься, это тоже входит в условия игры. Никогда не знаешь, удастся ли что-нибудь добыть или вернешься с пустыми руками. Смерть непредсказуема. Все сводится к простейшим первоосновам.
И потом, вечера в лагере, мясо, подвешенное на ветвях деревьев, поленья, горящие высоким пламенем. Еда, выпивка, приятная мужская компания. А позже, ночью, жутковатый смех шакалов и вой гиен. Ты погружаешься в мир простейших измерений. Смерть день и ночь витает в воздухе, и ты привыкаешь жить рядом с ней. Через несколько дней можно возвращаться домой. Но пережитое продолжает жить в тебе, где-то глубже самих снов, коренясь в крови и костях. Африка — простая и пугающая истина.
* * *
На другой стороне долины кустарник был зеленее. Терновник, эвфорбии. Тут брал начало ручей, бежавший прежде между двумя грядами холмов. Где-то здесь дед прятал змеевик и гнал свою адскую самогонку. Ручей пересох, но, должно быть, в глубине протекали подземные воды, ибо заросли становились все гуще. Мне по-прежнему было трудно идти в моих ботинках, а без очков я едва видел тропинку. И все же было что-то бодрящее в самом вторжении в заросли и в мысли о подземных источниках. Мне вдруг стала понятна одержимость старого водоискателя, его связь с потаенными силами земли, заставлявшими палку плясать в его жирных руках.
По мере продвижения вперед лес становился все гуще. Высокие деревья, увитые диким виноградом. Папоротники. Пальмы. Прелый запах гниющих растений, опавшие листья, лежащие на земле таким толстым и упругим слоем, что я не слышал собственных шагов, лишь иногда под ногой трещала сухая ветка. Лес был полон жизни: шорохи в траве, шепот в листве, легкий топот вдали, колыхание веток. Обезьяны, ящерицы, зайцы. То были самые недра фермы. Я прикасался к ним, нюхал, пробовал на вкус, а надо мной зеленой волной колыхались деревья, навевая тишину в уши.
Плутая по лесу, я снова вышел к ручью. Здесь, в тени, еще стояли большие лужи, грязные и затянутые зеленью, над которыми клубились тучи комаров и стрекоз. Полусгнившее бревно лежало в грязи, как туша животного. Казалось, если ступить в эту грязь, она схватит тебя и начнет засасывать, словно большой мокрый рот, все глубже и глубже проталкивая в скользкую глотку через слои тины и глины вниз, к мощным источникам, питающим землю.
Цепляясь за лианы, я медленно продвигался вперед, перепрыгивая с камня на камень. Один раз я оступился, но волосатая ветвь винограда удержала меня. Я остановился, переводя дыхание и не зная, куда идти дальше.
Старик сидел на камне так тихо, что вначале я принял его за полусгнивший пень. Но тут он пошевелился. Слава богу, со мной не было ружья, иначе я бы непременно выстрелил. Разве можно предположить, что встретишь человека в такой чаще.
Это был чернокожий старик, морщинистый и скрюченный, как обезьяна, с волосами, похожими на серую плесень, и с длинной трубкой в беззубом рту. Он сидел молча, но его маленькие глазки не выпускали меня ни на мгновение.
— Molo, — поздоровался я с ним.
— Molo.
Он по-прежнему не шевелился.
— Что вы здесь делаете?
Он спокойно глядел на меня, ничего не отвечая.
Чуть погодя я повторил свой вопрос на коса.
Помолчав еще немного, он вынул трубку. Во рту не было ни единого зуба. Только несколько гнилых пеньков.
— Я пришел к больному ребенку. Но теперь его мать умерла.
— Кто вам сказал, что она умерла?
— Никто. Я сам знаю.
— Вы не можете знать это просто так.
— Я знаю.
— Откуда вы пришли?
— Издалека.
Он сделал неопределенный жест рукой, похожей на сухую палку. Его накидка из шкур мускусной кошки распахнулась, обнажив высохшую грудь с обвисшей кожей.
— Я бреду своей дорогой как ветер.
— Значит, вам надо идти дальше.
— Кто вы? — с любопытством спросил он.
— Я хозяин фермы.
— Никогда вас не видел.
— Я не живу здесь. Я просто иногда приезжаю сюда.
— Понятно.
— А где вы живете?
— Нигде.
Не зная, о чем еще говорить, я пошел было прочь. Он не удерживал меня. Но когда я уже отошел на несколько шагов, что-то заставило меня обернуться. Он по-прежнему смотрел на меня, улыбаясь беззубым ртом.
— Над чем вы смеетесь?
— Ни над чем.
В растерянности я вернулся и сел на камень на другом берегу пересохшего ручья. В иных обстоятельствах я никогда не стал бы беседовать с ним, но сейчас в этой глуши я чувствовал странное желание говорить. Может быть, нас обоих мучило одно и то же любопытство.
— Как это вы нигде не живете?
— Я следую за Момламбо.
— Что?
— Вот, посмотрите.
Он извлек из-под накидки палку. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть ее. Она была похожа на посох, только гораздо короче, не более фута в длину, с изящной резьбой на одном конце. Нагнувшись ниже, я увидел на ней замысловатый узор из ракушек.
— Откуда она у вас?
— От Момламбо.
— А кто это Момламбо?
— Разве вы ее не знаете?
— Нет.
Он усмехнулся.
— Если собрать воедино всю красу земных женщин, получится Момламбо.
— А где вы нашли ее?
— Никто не может найти Момламбо. Она сама вас находит. — Он долго молчал, посасывая трубку. Потом, не глядя на меня, снова заговорил: — Когда вы молоды и бредете один по вельду или когда вы спите и вам снится женщина, а просыпаясь, вы чувствуете желание — это все проделки Момламбо.
— А эта палка?
— Это ее палка.
— Но вы говорите…
— Когда я был молод, — прервал он меня, — я жил в Транскее, возле Умтата. Мой отец был вождем, и я должен был стать вождем после его смерти. Но вот однажды я отправился в Баттеруэрт. Пешком. Я шел с тоской по женщине. И когда идешь с такой тоской, твоя голова как кувшин с водой, который носят женщины. И хотя покрываешь его листьями, вода выплескивается наземь. А на кого попадет хоть капля, того опоила Момламбо. И вот когда я поднял глаза, я увидел Момламбо.
— Как? — спросил я, поневоле захваченный его рассказом. Я снова чувствовал себя ребенком, сидящим у хижин и жадно впитывающим каждое слово чернокожих старух.
— Сперва все было тихо, — сказал старик. — Потом поднялся ветер. Настоящий вихрь, круживший и круживший вокруг меня. И сквозь вихрь я услышал женский смех. Как журчание воды. Ветер становился все сильнее, он поднимал тучи песка и листьев, а потом вдруг все стихло. И передо мной стояла Момламбо.
— А как она выглядела?
— Вся в бусах. И медные браслеты на запястьях и на лодыжках, и поясок. Вот и все. Самая красивая женщина из всех живших на свете.
— Она говорила с вами?
— Она просто поманила меня. Но когда я бросился, чтобы схватить ее, она исчезла. И снова поднялся ветер, и снова закружились листья. И ее смех сквозь ветер. — Он несколько раз затянулся. — А когда все стихло, я увидел перед собой эту палку. И я понял, что это знак Момламбо. Знак, что я ей понравился.
— И все?
— И все. Моя голова была так полна ею, что я забыл, зачем иду в Баттеруэрт. Я повернулся и пошел домой. И сердце антилопой скакало у меня в груди. Но оно было тяжелое, как одеяло, в которое завернут мертвец.
— Почему?
— Потому что теперь я знал. Палка была ее знаком. Это означало, что она вернется, если я буду хотеть ее. Но она вернется, только если я сотворю ужасное дело.
— Какое ужасное дело?
— Если ты на самом деле хочешь, чтобы Момламбо пришла к тебе, если ты хочешь, чтобы она легла с тобой и сняла для тебя свой поясок, ты должен убить отца в сердце своем.
— Неужели вы это сделали?
— А как можно противиться зову Момламбо? Она не из тех, кому говорят «нет».
— Значит, вы убили его?
— Я пошел к шаману. И он говорил с духами усопших предков. И тогда мой отец умер. Это я убил его в сердце своем. Но я не мог иначе.
— С того дня вы следуете за Момламбо?
— Всегда и всюду.
— А она приходит, когда вы ее зовете?
Он, улыбаясь, кивнул.
— Почему бы вам не позвать ее сейчас? — спросил я, подзадоривая его. — Чтобы я тоже на нее посмотрел.
Он долго молча глядел на меня.
— У каждого человека есть своя Момламбо, — сказал он наконец. — Дождись своего вихреворота.
Теперь я не ответил ему. Напрягая глаза, я разглядывал его. Маленький и скрюченный, он сидел напротив меня, закутавшись в накидку из шкур мускусной кошки. Мне невольно вспомнилось, как в детстве, когда мы капризничали, нас пугали кафром: «Кушай хорошенько, а то придет кафр. Не пойдешь спать, тебя заберет кафр».
И вот всего в ярде от меня сидел кафр, уродливый, похожий на обезьянку человечек с длинной трубкой и красивой маленькой палочкой. И я не боялся его. Я улыбался.
Но когда я открыл глаза, его уже не было. И это показалось мне самым страшным. Ни малейший шорох не предупредил меня об этом. Когда я поднял голову, оказалось, что он просто исчез. Бесследно исчез в лесу. Словно его никогда и не было.
* * *
С этого мгновения лес стал страшен. Роскошная растительность, окружавшая меня всего несколько минут назад — папоротники, хлебные деревья, ольха, кустарник, — стала непроходимыми джунглями. Пересохшее русло ручья с зелеными лужами запахло гнилью. В гуще веток, сучьев и виноградных лоз таился зловещий мрак. Надо было выбираться отсюда. Но от страха я потерял ориентацию. Вместо того чтобы спуститься по ручью или отыскать охотничью тропу, я, не разбирая дороги, ломился в заросли. Через пару минут я окончательно заблудился. А где-то рядом невидимой тенью за мною крался старый колдун. Кафр. Я чувствовал, что он следит за мной своими обезьяньими глазками из-за какого-нибудь дерева или пня. Я знал, что он сочинил свою сказку только для того, чтобы поймать меня, как зайца, в капкан.
В бешенстве я продирался сквозь заросли, чувствуя, как колючки вцепляются в мою одежду. На ветках оставались нитки и клочья ткани.
Дюйм за дюймом я продвигался вперед. В лесу было сумрачно, вот-вот зайдет солнце. Как я перенесу холод и ужас зимней ночи?
Близился ли я к цели или с каждым шагом все дальше забирался в лес? Я беспомощно остановился, гадая, куда повернуть. Куда бы я ни повернул, я все равно скоро выйду на опушку. Ущелье совсем не велико. Всего несколько сотен метров. Так я пытался успокоить себя. Мне только нужно продержаться. Пробиться.
Чуть успокоившись, я двинулся дальше. Раздирая в кровь руки, я медленно полз на четвереньках под нависшими надо мной ветвями по прелым листьям. Когда чаща редела и я решался подняться на ноги, лианы и лозы обвивали меня. Я спотыкался и падал через каждые несколько шагов. То и дело я в испуге оглядывался по сторонам. Мне казалось, что я только что видел его то справа, то слева. Согнувшегося пополам в приступе беззвучного хохота. Колдуна, уверенного, что рано или поздно я все равно попаду ему в руки. Кафра.
В груди у меня все горело. Дыхание судорожно вырывалось из воспаленного горла. Господи, если у меня сейчас случится приступ, никто вовремя меня не найдет. Только через недели, а то и через месяцы, может быть, случайно наткнутся на мой труп. Ведь никто ничего не знает. Кроме него одного. Но передохнуть времени не было. Наступала ночь. Я должен был идти вперед.
В первый раз я остановился, вдруг заметив что-то в ветвях терновника. Клочок ткани. Я отказывался верить собственным глазам: наверное, это что-нибудь другое. Но клок, без сомнения, был вырван из моего роскошного импортного пиджака. Он накладывался на дыру у меня на плече. Какого черта я начал бродить по кругу? Если это так, я действительно пропал. Ночь застигнет меня в лесу, и это будет конец. Я даже не увижу, как он подкрадется, чтобы убить меня.
Надо сохранять хладнокровие. Ведь не в первый же раз я оказался один в лесу. Сколько раз так бывало во время охоты. Но никогда ситуация не бывала столь серьезной. Я не видел даже неба сквозь густые ветви, и в этих зарослях не было никаких ориентиров. И кафр знал это.
Выбраться отсюда можно было только одним способом: мне следовало залезть на дерево и оглядеться. Несколько минут я проблуждал в поисках достаточно высокого дерева с удобными ветвями. Сперва нужно было снять ботинки. Босыми ногами я обхватил толстый ствол и полез наверх, царапая кожу об острые колючки. Наконец я прорвался сквозь паутину мелких веток и огляделся. Мне не много удалось увидеть, но все же я смог определить направление. Вон туда. Теперь следовало спешить. Солнце садилось, оно уже почти касалось вершин холмов.
Я быстро обулся и двинулся в путь. Все тело болело. Порезы и царапины на коже и отвратительная, опустошающая боль в груди. Я знал, что он по-прежнему идет следом. Я чувствовал запах его табака и грязной вонючей накидки. Должно быть, он и есть шаман, общающийся с духами усопших предков, с духами зла. Я гневно скрежетал зубами. Я ему не дамся. Я хозяин этой фермы.
Ободранный и весь в грязи, я упрямо продирался вперед, а там, где ветки стлались по земле, полз на животе. Теперь я двигался чуть медленней, потому что боялся снова потерять направление. Только бы выбраться отсюда до темноты.
Наконец, усталый и измученный, я вырвался из зарослей. Мирной и незнакомой показалась мне местность, освещаемая последними лучами солнца. Позади меня чернел лес, темно-зеленая чаща, хранящая страшные тайны. Но я ускользнул. Я был свободен.
Знаешь, мне кажется, что, даже когда позабудется все остальное, я буду помнить тех людей. Они мне постоянно снятся. Не парни из УНИТА, ФНЛА, МИЛА или кубинцы. И не португальцы. И даже не беженцы. А те, словно сросшиеся с землей. Тощие чернокожие, точно палки, воткнутые в пашни. В основном женщины и дети, потому что мужчины ушли воевать. С их деревянными плугами, допотопными молотилками и самодельными граблями. Я уверен, появись мы там через сто лет, мы нашли бы их точно такими же. Живущими, согласно времени года. Когда идет дождь, они мокнут. Когда светит солнце, оно их сушит. Им все равно. Они как растения. Они там всегда. Они не говорили с нами. Они ни с кем не говорили. Они просто были там. Армии приходили и уходили, как кровавые тучи саранчи. Их грабили, били, насиловали, убивали. Но они оставались. Как камни на земле. Вот почему я каждый день и спрашивал себя: какого черта я здесь?
Прихрамывая, я медленно брел домой. Грудь ломило так, что больно было дышать. Я покрылся потом. Холод проникал сквозь одежду и обжигал кожу. Но я шел домой. Время от времени я останавливался, чтобы передохнуть. Все вокруг было словно в тумане. Не за что ухватиться, все ускользало.
Проходя мимо маслобойни, я наступил на свежую лепешку навоза. В бессильном бешенстве я поглядел на ноги. Еще одна пакость. Когда же этому конец? Я попытался вытереть башмак о сухую землю, но ком навоза застрял возле каблука. Я взял ветку, чтобы отскрести грязь, но, неловко балансируя на одной ноге, потерял равновесие и испачкал руку. Чуть не расплакавшись от обиды, я попробовал вытереть руку о брюки. Но грязь не оттиралась. Казалось, словно кусок самой фермы пристал ко мне, грязный и вонючий.
8
С последними кроваво-красными лучами солнца на ферме появилась незнакомая женщина. Мать кормила цыплят, а я, грязный и оборванный, подходил к дому, когда на пыльной дороге показалась эта женщина, идущая широким размеренным шагом. Собаки с бешеным лаем бросились к ней. В отличие от других чернокожих, обычно теряющих голову при виде этих тварей, она спокойно ждала, пока их отгонят.
Это была мать Токозили. Как я потом узнал, она прошла в тот день около тридцати миль. Величественная женщина, более шести футов ростом, темная как скала, прямая как алоэ, с аристократической важностью, которая иногда встречается даже у самых последних бедняков.
Она заговорила с матерью на коса. Я стоял неподалеку, с интересом прислушиваясь к их беседе.
— Мое дитя мертво.
— Да, ваше дитя мертво.
— Моя дочь, Токозиль.
— Да, ваша дочь.
— Даже выкуп не был отдан полностью.
— Мы расплатимся скотом Мандизи.
Она покачала головой в высоком тюрбане, словно говоря, что это не имеет значения.
После паузы она продолжала:
— И все ее дети тоже мертвы.
— Нет, — сказала мать. — Только Токозиль. Детей он не тронул.
— Но те дети, которых она еще не родила, мертвы.
— Да, они умерли вместе с ней.
— А что с остальными четырьмя?
— Они здесь. Я распорядилась, чтобы за ними присматривали. А самый маленький всю ночь был у меня.
— Мне надо к ним.
Не дожидаясь ответа, она пошла вверх по склону холма к хижинам. Такая же прямая. Походка столь же ровная и степенная. Но теперь женщина плакала. Сначала она просто плакала, потом закричала. Медленно и торжественно шествуя по склону, она подняла голову и закричала. Звук ударялся об отдаленные холмы, возвращался и снова уходил. То не был голос человека. Казалось, словно обрела голос сама темно-красная земля, наполнив им ее тело, лопающиеся легкие и разрывающееся сердце, и рычала на окровавленное закатное небо.
9
Мать рано легла спать. Мы немного поговорили, сидя на кухне и поджидая, пока закипит вода для грелки. Несмотря на послеобеденный отдых, мать выглядела усталой и изможденной. Я сидел у стола, а она машинально ворошила угли в печи.
— Что с тобой случилось? — спросила она чуть погодя. — На тебя напали шакалы?
— Я ходил в лес, в ущелье. А на обратном пути заблудился.
— В этой рощице невозможно заблудиться, — сухо усмехнулась она.
— Ну а я заблудился.
Она переставляла с места на место горшки.
— Я встретил там странное существо, — сказал я после секундного колебания. — Старый, весь высохший. В накидке из шкур.
— Наверное, Хлатикхулу. Он иногда забредает к нам.
— Кто он такой?
— Я слышала, он занимается обрезанием. А все остальное время просто ходит туда и сюда. То он здесь, то его снова нет.
— Он сказал, что пришел к больному ребенку.
— Вполне возможно.
— Но он уже откуда-то знал о смерти Токозили.
— Они как-то узнают такие вещи, — сказала мать, пожав плечами.
— Как?
— Какими-то своими путями. Откуда мне знать? Я здесь насмотрелась всяких странных вещей.
Вода закипела. Мать наполнила грелку и собиралась закрутить пробку.
— Мама, что ты решила насчет фермы? — осторожно спросил я.
— Утро вечера мудренее.
— Но утром мы уезжаем.
— Время еще есть. — Она взяла грелку под мышку. — Ладно, спокойной ночи, сынок. Не ложись слишком поздно, завтра у тебя трудный день. Ты даже не отдохнул как следует в этот уикенд.
Чуть погодя я прошел в гостиную и сел у камина. Луи лежал на полу, опершись о спинку кресла. Вокруг него в беспорядке были разбросаны газеты. Он, не отрываясь, глядел в огонь. Я надеялся, что его раздражение уже улеглось. Я слишком устал, у меня не было сил продолжать споры.
— Куда ты ходил? — спросил он, не отводя глаз от огня.
— Гулял.
— Почему ты не разбудил меня? Я бы пошел с тобой.
— Хотелось побыть одному.
Слава богу, подумал я, что он не видел моего бесславного бегства. Впрочем, если бы он был со мной, я бы не действовал столь безрассудно. Почти извиняясь, я сказал:
— Я не думал, что тебе захочется пойти со мной. В последнее время ты избегаешь нас.
— Ничего не могу поделать.
Он долго молча смотрел на решетку камина. В углях играли маленькие синие язычки пламени.
— Понимаешь, я просто не умею выразить это, — сказал он, повернувшись ко мне, — но внутри меня словно что-то сломалось или надорвалось. Из-за всего, что там случилось.
— А что, собственно, случилось?
— Да вроде бы ничего особенного. Просто вся эта тупость и бесчеловечность, возведенные в систему, вся эта ритуальная жестокость, кровавая вульгарность и хищность. Как мне жить с этим, отец?
— Надо научиться жить и с этим. Ничего не поделаешь.
— О господи!
— Мы ведь уже говорили сегодня об этом, — спокойно напомнил я.
— Но мы ни до чего не договорились. Ты просто ушел в кусты. Как всегда.
Я ничего не ответил.
— Знаешь, я все время вспоминаю те каникулы, которые проводил с Бернардом, — сказал он, пристально глядя на угли. — Конечно, еще до того, как все это случилось. Мы подолгу гуляли. Однажды он взял меня с собой на Кедровую гору. Мы пошли с двумя старыми цветными проводниками и носильщиками, — Он помолчал. Может быть, он даже не замечал, что разговаривает со мной, — А потом мы бродили по горам. Обследовали побережье. Одно место за другим.
— Наверное, он был бы для тебя лучшим отцом, чем я, — сказал я, не в силах скрыть напряжение в голосе.
— Ты собираешься что-нибудь предпринять?
— Что предпринять?
— Попытаться помочь ему. Человек с твоими связями…
— Он уже приговорен.
— Тем более.
— Это невозможно.
— Вы столько лет дружили.
— Он опорочил нашу дружбу.
Луи взял кочергу и принялся ворошить угли в камине, вздымая пучки искр. Потом снова поглядел на меня:
— А он не пытался связаться с тобой, когда находился в подполье?
Я почувствовал, как кровь отлила у меня от лица.
— Разумеется, нет, — поспешно ответил я.
— Странно.
— Что же тут странного? Зачем ему это было?
— Я просто спросил.
Во мне родилось чудовищное подозрение.
— Луи, а ты не видел его в это время?
— Я же был в лагере. Потом в Анголе.
— А после Анголы. Его ведь арестовали только в конце февраля.
Его спина налилась молчаливым сопротивлением.
— Бернард очень любил тебя, Луи. Он очень серьезно относился к тому, что он твой крестный.
Он не шелохнулся. Но я уже и так знал. И в приступе горечи и гнева я подумал: «Этого, Бернард, я тебе не прощу. Ты, разумеется, имел право надеяться, что я стану рисковать из-за тебя своей жизнью. Но ты не смел втягивать в это моего сына. Не смел. Он мой сын».
— Я получил от него записку, — сказал он наконец. — Записка была без подписи, но по ее содержанию я понял, что она от него. Бернард предлагал мне встретиться в городе на следующее утро. Он дал мне адрес. Одной лавки.
— И ты пошел?
— Да. Но его там не было. Я прождал почти час, а потом ушел. Затем меня остановила какая-то старуха. Она раздавала на улице брошюры. Сначала я не хотел брать. Но тут она шепнула, не глядя на меня: «Привет от Бернарда». Сунула мне в руки брошюру и пошла прочь. Там на полях был написан новый адрес и время встречи.
— А когда ты пришел, старуха уже ждала тебя? — спросил я.
Он быстро поглядел на меня:
— Почему ты думаешь, что опять была старуха?
Я понял, что выдал себя, но попытался выкрутиться:
— И в газетах, и на суде говорилось, что он обычно переодевался старухой.
Он долго молча и испытующе смотрел на меня. Потом отвернулся.
— Да, конечно, — сказал он, по-моему, разочарованно.
— И он говорил с тобой? — настаивал я.
Он провел меня по узкому переходу к лавке, где в первый раз была назначена встреча. На Диагональ-стрит.
(Разумеется.)
— Мы прошли на задний двор. Там стояла машина.
— Что он хотел тебе сообщить? — спросил я, чувствуя, как у меня участилось дыхание.
— Он просто хотел поговорить со мной. Спрашивал меня об Анголе. Ну, и о чем-то другом.
— Он, вероятно, сказал тебе еще что-нибудь! Мне нужно знать, Луи.
— Не помню. — Его притворство действовало мне на нервы. — Помню, он сказал, что дела его довольно плохи. Я пытался убедить его покинуть страну, но он не хотел и слышать об этом. Тогда я посоветовал ему обратиться к тебе. Я был убежден, что ты сможешь помочь ему. — Помолчав, он поглядел мне прямо в глаза. — Ты уверен, что он не пытался связаться с тобой?
— Конечно.
— Он был арестован в конце той же недели.
Было ясно, что я больше ничего из него не выжму. Но я знал, что за этим что-то скрывалось. Они о чем-то договорились. Дрожь пробежала у меня по спине. А если бы Луи тоже схватили? Опасность была так близка. Что тогда стало бы со мной?
— Попытайся что-нибудь сделать, отец, — повторил он еще более настойчиво. — Ты знаком со всеми министрами, кто-то из них сможет помочь ему. Пожизненное заключение для него хуже смерти. Судья сказал, что хочет быть милосердным, но пожизненное заключение — это худшее, что они могли для него придумать. И они это прекрасно знали.
— Ну вот, ты просишь, чтобы я вмешался, — сказал я спокойно. — А за все время не проронил ни слова. И даже когда начал говорить об Анголе, ты только нападал на меня. А теперь просишь, чтобы я помог.
— Я не нападал на тебя. — Он с трудом сдерживался. — Неужели ты не понял? Я просто хотел пробиться к тебе. Я вовсе не. хочу оскорбить тебя или задеть. Но я не могу, чтобы и дальше так продолжалось. Я же все время ищу чего-то. Неужели ты не видишь, как мне тяжело? Я хочу найти в тебе отца, которого смогу уважать.
В комнате стало совсем тихо. Лампа была погашена, горел только слабый огонь в камине. Свет мерцал на его лице. Но глаза были в тени. Я больше не мог смотреть на него. Ситуация была слишком откровенной и болезненной.
— Ладно, — хрипло сказал я. — Попробую.
Говоря это, я не имел ни малейшего представления, как за это взяться. Но я не мог снова оттолкнуть его.
— Посмотрю, что можно сделать.
— Обещаешь?
Я взглянул на свои руки. Они дрожали.
— Обещаю. Не знаю, почему ты так уверен, что у меня что-то получится.
— Главное, попробуй. — Тени прыгали на стене. — Иногда можно что-то сделать, что-то изменить. Но если упустишь случай, другого может и не быть.
— Что ты об этом знаешь? Ты еще так молод.
— Ну нет. Это я хорошо знаю. — В гнетущей тишине его голос упал почти до шепота. — Это было в Анголе. Кубинцы отступали. Мы наседали на них. Они пытались остановить нас, взрывая мосты и минируя дороги. В тех дебрях нам приходилось продвигаться по главной дороге. Иногда мы возвращались километров на шестьдесят, чтобы срубить деревья для новых мостов. Наконец, наша рота обошла противника по окружной дороге, остальные продолжали продвигаться по главной. Это был сущий ад. Целые дни в грязи. Беспрерывный дождь. По ночам приходилось идти в кромешной тьме; мы боялись, что нас могут обнаружить. Пока не добрались туда, куда было приказано: к маленькой речке, идеальному месту для засады. Кубинцы должны были попасть нам прямо в руки.
— И получилось? — спросил я, когда он замолчал.
Он кивнул.
— Да, в конце концов получилось. Но чуть было не сорвалось.
— Из-за чего?
— Мы лежали в окопах, поджидая их. Они были не более чем в получасе от нас. И тут на дороге появился мальчик, пастушок наверное. Он шел посвистывая. Ни о чем не подозревая, он шел прямо на нас.
— И что же?
Теперь мне приходилось выдавливать из него каждое слово.
— Мы знали, что, если он подорвется на мине, все пропало. Все эти дни в грязи окажутся бесполезными. Кубинцы будут предупреждены.
— И вам пришлось остановить его?
— Да. И не только остановить. Но и заткнуть ему рот.
Я не знал, хочется ли мне слушать дальше, но потом все же спросил:
— Что вы сделали?
Он не шевельнулся.
— Двое парней подкрались и накинулись на него. И утопили в речке.
У меня свело скулы. Во рту было горько.
— Они сказали, что нам не остается ничего другого. Или он, или все мы.
— А ты? — спросил я.
— Я ничего не сделал, чтобы остановить их. Может быть, у меня ничего бы и не вышло. У меня не было авторитета. Но вдруг? Вдруг, если бы хоть кто-то запротестовал, мы бы придумали что-то другое? Но никто не протестовал. И я тоже.
* * *
Позже Луи ушел спать, а я остался у тлеющих углей.
Может быть, сейчас, записывая это, мне удастся лучше разобраться во всем. Во мне тоже существует зазор между тем, кем я был, и тем, кем стал. Это изменение не объяснить каким-нибудь одним эпизодом в жизни. Даже тем, когда я использовал секретную информацию для того, чтобы опередить «Англо-Американ корпорейшн». Скорей всего, это постепенный процесс, которого сам не замечаешь. Просто однажды обнаруживаешь, что мир изменился и ты сам тоже изменился, и все, что тебе остается, — это смириться с таким изменением, поскольку от тебя уже ничего не зависит.
Вероятно, таков же и переход от невиновности к виновности в определенные исторические моменты. (Интересно, согласился бы с этим отец?) Когда-то в истории наступает день, когда в первый раз территорию захватывают не из-за нехватки земли, а просто потому, что нация привыкла к идее экспансии как таковой. Потом наступает день, когда в первый раз насилие применяется не потому, что оно неизбежно, а потому, что так проще. Потом в первый раз вождь ставит свои интересы выше общих просто потому, что он вождь. Потом в первый раз эксплуатирует слабого не случайно, а зная, что он не окажет сопротивления. Потом в первый раз приговор в суде выносят не на основе закона, а на основе того, что выгоднее. И так далее.
Впрочем, это довольно романтическое рассуждение. Не следует позволять испугу, пережитому мною в тот день, влиять на мои мысли. Надо быть рациональным и гибким. Что толку воздавать хвалы невиновности? И разве существует невиновность сама по себе? С рождения я был наследником долгой истории насилия, мятежей и крови. В исторически экстремальной ситуации, вроде нашей, возможно только полное соучастие.
Из физики узнаешь, что тепло — это позитивный феномен, существующий по своим собственным законам. И напротив, холод как таковой не существует, он просто означает отсутствие тепла и не может быть описан в терминах, исключающих понятие тепла. То же самое, на мой взгляд, можно сказать и о невиновности.
Она не есть позитивный или реальный феномен, она просто отрицание реального феномена, каким является вина. Вина — это часть нашей государственной системы, часть нашей религии, мы все виновны по определению. Мы всё отмеряем по вине. Противоположность вине, то есть невиновность, — это антиусловие, отсутствие, отрицание.
Бернард?
Может быть, именно он-то и сбил меня с толку. Открытие того, что в мире, по-видимому, есть люди, существующие вне моральных оценок, подобно тому как, например, вода и пламя не бывают виновны или невиновны. И мой опыт в ущелье в тот день не имел никакого отношения к проблемам вины и невиновности: это просто была моя субъективная реакция на то, что под конец стало совсем иным, нежели казалось вначале. А я должен во что бы то ни стало сохранить ориентацию. Мир нейтрален. И это успокаивает.
* * *
Снова поднялся ветер, налетавший бешеными порывами, заставлявший скрипеть и скрежетать вытяжную трубу над камином. Я решил пойти спать. Как сказала мать, мне предстоял трудный день. И позади был трудный день. Я на время утратил свою хватку. Со мной случились не поддающиеся объяснению вещи, и я действовал неведомыми мне еще путями. Я больше не был уверен в том, кто же я на самом деле. И потому не мог ни изменить то, что уже произошло, ни воспрепятствовать тому, что еще может произойти.
Понедельник
1
Это становится невыносимым. Беа. Что я могу сказать о ней сейчас, когда все зашло уже так далеко? А главное по-прежнему ускользает. Даже на бумаге. Но я должен пройти через это испытание. Нырнуть в собственный водоворот. Все эти ненужные пустяки, о которых я столько говорил. И все то, о чем я вообще предпочел бы не рассказывать. Что же теперь делать?
Запретить себе писать, хотя бы на день? Но я знаю, что не смогу остановиться, пока не проделаю весь путь в обратном направлении. Как бы опасно это ни было. А сейчас я уже не сомневаюсь, что это опасно.
Может быть, поиграть в туриста? Нет, просто попытаюсь отыскать то, что когда-то было мне хорошо знакомо. Автобус в Ламбет (специально поехал на автобусе в поисках реальности, которую когда-то знал, но утратил — иначе я взял бы такси). Хотелось взглянуть на дом, где я познакомился с Велкомом. Та вечеринка, та ночь. Но я не смог найти тот дом. Может быть, его вообще больше нет, ведь прошло двадцать лет.
Бельэтаж, где мы жили с Элизой. Тогда ветхий, теперь отремонтированный. Я быстро прошел мимо, даже не остановился, чтобы рассмотреть его как следует. Чувствовал себя полным идиотом: возвращение к прошлому не в моей натуре.
Решил походить по музеям. Зашел в Британский, потом в галерею Тейта и на несколько выставок. Но быстро соскучился. Купил билет в ночной клуб на сегодняшний вечер, но у дверей повернул назад. Часок послонялся по Сохо и вернулся в отель, озябший и раздраженный, вернулся в ставший привычным номер с серо-голубыми коврами и расшитыми золотом портьерами.
По телевизору ничего интересного. Я позвонил в агентство и заказал массажистку, надеясь, что это поможет мне расслабиться и заснуть. Поджидая ее, принял ванну и надел халат. Евразиатка. Прибежала, запыхавшись, чуть было не задержанная полицией. После формальностей массажа, я попросил ее раздеться, но, когда она голая вышла из ванной и опустилась подле меня на колени, я велел ей снова одеться. Бедняжка ужасно расстроилась. Решила, что я ею недоволен. Но, увидев, сколько я даю денег, заулыбалась. Когда она ушла, я, разумеется, пожалел об этом. Не могу понять, что со мной творится.
Пора наконец собраться с силами и завершить начатое. Завтра в полдень я должен лететь в Токио. Но дело не только в этом. Просто мое пребывание в аду близится к концу, а ему пора положить конец. И остановиться на полдороге уже не могу — слишком далеко зашел.
Но только нужно быть поосторожней. В последний части я несколько раз чересчур дал волю чувствам. Я должен следить за собой. Ведь право писать или не писать о чем-то по-прежнему за мной. «Когда любишь, — говорила Беа, — забываешь о себе. Не хочется быть собой, не хочется знать, кто ты». Но такое саморазрушение чуждо моей натуре. Мне нужно выжить, во что бы то ни стало выжить. Выжить даже на Страшном суде.
2
— Ну, ладно, — сказала мать. — Раз выбора нет, то продавай. Не хочу стоять у тебя на дороге.
— Пойми, так будет лучше для всех нас. И для тебя тоже. Особенно после этого убийства.
— Я ведь, кажется, все сказала. К чему переливать из пустого в порожнее?
— Но я вижу, что у тебя душа к этому не лежит.
— А я и не говорю, что лежит. Просто я не хочу стоять у тебя на дороге.
— Тебе будет хорошо у нас, мама. Сможешь немного отдохнуть, не будешь заниматься с утра до вечера делами.
Она молча пила кофе. Горела лампа. За окнами медленно занималась заря.
— Ты скоро заведешь новые знакомства. А тетушку Ринни ты уже знаешь. Ту пожилую даму, у которой я жил в Стелленбосе. Она всегда окружена людьми. Очень милая особа.
— А что будет с моими собаками? — перебила она меня.
— Посмотрим. — Избегая ее взгляда, я глядел на отблески света в чашке с кофе. Ветер настырно стучался в окна. Несколько раз за ночь он стихал, но теперь снова разыгрался; погода была неприветливой.
— Я тебе очень благодарен, мама. Я всегда знал, что могу положиться на тебя.
— Ты всю жизнь готов полагаться на кого угодно, лишь бы добиваться своего.
— Зачем ты меня обижаешь?
— Я не обижаю тебя, сынок. Я понимаю, что ты с этим и сам ничего не можешь поделать. А может, так для тебя и лучше.
— Что ты имеешь в виду?
— Может быть, для нашего народа было необходимо создать тип человека вроде тебя. Иначе бы мы пропали.
— А я думал, ты поймешь…
— По-моему, иногда я понимаю тебя лучше, сынок, чем ты сам.
— Ты просто сегодня не с той ноги встала.
— Еще кофе?
— Да, пожалуйста.
— Кристина!
Шаркая босыми ногами, вошла старая служанка.
— Еще кофе, Кристина.
— Хорошо, мадам.
Когда она вышла, мать вздохнула:
— Бедняжка Кристина. Что с ней теперь будет?
— Они ведь останутся на ферме и после продажи.
— Часть стоимости? Вроде домашнего скота?
— Все будет в порядке, мама. Как только землю присоединят к бантустану, они все станут свободными людьми в собственной свободной стране.
— А мы все подохнем от свободы в нашей собственной стране, — мрачно заметила она.
Я решил, что в таком настроении ее лучше оставить одну.
— Прислушайся к этому ветру, — с намеком сказал я.
— Погода меняется, — ответила мать. — Что-то надвигается.
* * *
Что-то надвигается — таков был лейтмотив недели в Понто-де-Оуро, самой удачной попытки бегства, предпринятой мною с Беа. Краткое мгновение в раю, полная отрешенность от мира — и все же нас не покидало ощущение неотвратимости каких-то грядущих событий. Может, из-за этого ощущения та поездка и кажется мне наиболее характерной для наших отношений. Каждый раз, когда я думаю о нас с Беа, мне в первую очередь вспоминается именно она.
Я приехал в Лоренсу-Маркиш, как он тогда назывался, чтобы заключить контракт с мозамбикским угольным концерном. После этого мне предстояло сопровождать группу португальских бизнесменов в Бейру для заключения еще одного соглашения. Но глава группы заболел, и поездка была отменена. Вместо того чтобы вернуться домой, я послал Беа телеграмму и перевод, предлагая ей присоединиться ко мне. Разумеется, отправляя телеграмму, я рисковал, но после нескольких месяцев нашей связи у меня была определенная уверенность в успехе. Хотя и не принято так говорить о себе, но я знаю, что умею обращаться с женщинами, и понимаю, что приказ, не оставляющий свободы выбора — вроде этой телеграммы, — где-то в глубине души им нравится.
С работой у нее не могло быть затруднений. После беспокойного периода временных работ (секретарь в юридической конторе, сотрудник женского журнала, преподаватель на вечернем отделении) она снова устроилась младшим преподавателем права в университете — пост, который она занимала пару лет назад, до отъезда за границу. Но приступить к работе ей предстояло только через несколько недель. В настоящее время она была свободна.
На следующий день в одиннадцать утра она прилетела на опоздавшем на час самолете. Раньше я никогда не бывал в Понто-де-Оуро. Это местечко было рекомендовано мне моим давним компаньоном из Лоренсу-Маркиша, неким Педро де Сузой. Нам с Беа пришлось пообедать с ним и с его супругой. Признаюсь, это было ошибкой с моей стороны, ибо они решили, что Беа моя жена, и соответственно к ней обращались. Не желая ранить их мещанскую мораль, я не разубеждал их, но Беа была крайне раздражена.
Еще только начался сентябрь, но день стоял очень жаркий, и в доме было полно мух; жена Педро знала по-английски всего несколько слов, да и сам он изъяснялся с большим трудом; от терпкого красного вина у нас заболела голова, хозяева же в своей утомительной гостеприимности никак не соглашались отпустить нас раньше трех, а к этому времени нервы и у нее, и у меня были уже на пределе. Так что, когда мы в конце концов отъехали на взятой напрокат машине, ситуация стала весьма напряженной. Первые километры дороги были заасфальтированы и вполне приличны, хотя мне приходилось следить за тем, как бы не сбить беспечных велосипедистов, детей, играющих на проезжей части, тощих собак и кур. Но после того, как мы свернули к Бела-Вишта, дорога превратилась в две песчаные колеи с опасным наносом посередине. Вокруг почти ничего не было. Лишь иногда нам попадались одинокие фермы с запущенными садами, хижины да свиньи. Дорога была совершенно безлюдной. Еще через несколько километров я начал беспокоиться, правильно ли еду, так как все дорожные знаки были либо совершенно неразборчивы, либо вовсе сорваны. А по обе стороны простиралась земля, нерадушная, угрюмая и даже враждебная.
Беа неподвижно сидела рядом со мной и лишь иногда бросала взгляд на карту, лежавшую у нее на коленях. Чувствовалось, что она не в духе. Когда я поглядывал на нее, она не обращала на это внимания, продолжая с каменным лицом смотреть вперед. Но в какой-то момент, повернув голову, я заметил, что она наблюдает за мной. Это не предвещало ничего хорошего.
— Зачем ты вызвал меня сюда? — неожиданно спросила она со своей обычной раздражающей прямотой.
— Потому что вдруг выпала свободная неделя. Я же говорил тебе в аэропорту. Не знаю, когда еще нам представится такой шанс.
— А ты, разумеется, своего шанса никогда не упустишь.
— О чем ты?
Она не ответила. Затем снова перешла в наступление:
— Зачем ты сказал им, что я твоя жена?
— Я не говорил. Они сами так решили. Да и какая разница?
— Какая разница? Для тебя никакой. Но ты подумал, каково было мне?
— А что, так унизительно быть госпожой Мейнхардт?
— Нет. Просто унизительно выдавать себя за другого.
— Но это же в самом деле не имеет значения. К тому же все уже позади. Теперь мы на целую неделю предоставлены самим себе.
Ее губы задрожали. Упрямый мускул заходил на правой щеке.
— Зачем ты вызвал меня? — повторила она.
— Но я же уже объяснил.
— Нет. Я хочу знать настоящую причину.
— Мне тебя недоставало.
Я положил руку ей на колено. Она не стряхнула ее, но и никак не отреагировала.
— А если бы я не приехала?
— Я был бы очень огорчен.
— И телеграфировал бы кому-нибудь другому?
— Кому?
— Не знаю. Но у тебя наверняка есть и другие.
— Почему ты так думаешь?
— Человек вроде тебя все предусматривает. На всякий случай.
— Беа, что с тобой сегодня? Зачем мне нужен кто-то другой?
— А зачем тебе я?
— Потому что…
— Только смотри не скажи «потому что ты — это ты». Я могу и заплакать.
— Ты не веришь, что нужна мне?
— Нет.
— Постарайся поверить.
— Ты просто не любишь быть один, вот и все.
— С чего ты взяла?
— Мне кажется, Мартин, ты ужасно боишься одиночества.
— Одиночества боятся люди с нечистой совестью.
— А у тебя чистая?
— Разумеется.
— А если твоя жена узнает про эту поездку?
— Она не узнает.
— Почему ты послал телеграмму? — спросила она, помолчав. Щека у нее все еще подрагивала. — Почему не позвонил, чтобы мы могли все обсудить?
— Хотел удивить тебя.
— Может, боялся, что я откажусь?
Я смущенно улыбнулся:
— Ты права, боялся. А мне так хотелось, чтобы ты приехала. Вот я и решил не давать тебе никакой лазейки.
— Я могла и не приехать.
— Но ты же приехала.
— Знаешь, когда объявили, что рейс откладывается на час, я повернулась и вышла из аэровокзала. Я чувствовала облегчение. Казалось, все это случилось как раз для того, чтобы я успела одуматься.
— Но ведь потом ты вернулась. И это главное.
— Ты так думаешь? А если я скажу, что стыжусь этого? А если скажу, что никогда в жизни не чувствовала себя такой униженной?
Я не ответил. Но затем, протащившись еще ярдов сто по глубокому песку, остановил машину.
— Если хочешь, я отвезу тебя обратно.
Я знал, что это на нее подействует. Такое всегда действует.
— Но ведь этим уже ничего не изменишь… — растерянно сказала она. — Я ведь уже приехала. Стоит ли теперь возвращаться.
— Славно мы начинаем наши каникулы, — горько заметил я.
— Прости. Я не хотела обидеть тебя. Я думала, что сумею с собой справиться. Но этот обед у этих ужасных людей! Там было слишком много времени для мрачных мыслей. А теперь мне будто отмыться нужно.
— Наверняка ты не в первый раз решаешься на такое, — процедил я, понимая, что все рухнет, если я не буду тверд и даже резок.
К моему удивлению, она медленно согласилась.
— Конечно, — мягко ответила она, — и думаю, не в последний. Однажды, когда у нас с тобой все будет позади, кто-нибудь другой…
— Беа, ради бога! — воскликнул я. — Почему ты говоришь «позади»? Мы едва узнали друг друга.
— Ну, нам вряд ли предстоит совместная старость.
— Беа, — на мгновение я почувствовал себя беспомощным, — нельзя же думать о конце в самом начале.
— Нет, можно. И нужно, если хочешь быть честен с собой.
— Но, пока мы вместе…
— Я не могу обманывать себя, Мартин. Хотела бы, да не могу. — Она разгладила карту на коленях. — В один прекрасный день ты меня бросишь.
— Чепуха.
Она улыбнулась:
— Ты ведь не хочешь ни во что быть втянутым серьезно. Ни со мной, ни с кем другим. И когда я буду отчаянно нуждаться в тебе, ты меня бросишь. Потому что испугаешься меня. Или себя самого.
— Как ты можешь говорить такое!
— Я просто хочу, чтобы ты понял, что я ни о чем не прошу. И ничего не жду.
— Ты же знаешь, Беа, как много ты для меня значишь. С той первой ночи. И пожалуйста…
— Не пытайся унять меня своим воркованием. И не бойся меня обидеть. Просто скажи мне: что я для тебя? — И поскольку я не ответил сразу же, она продолжала:
— Вот видишь? Мы просто проводим время, и не более. И нечего делать вид, что тут что-то другое. А может, только этого и стоит ожидать друг от друга, а все остальное приводит к завоеванию и подчинению.
В приступе беспричинного раздражения я сказал:
— Ну, ладно, если все это так грязно, бесчувственно и грешно, так почему же ты тогда приехала?
— Господи, — сказала она так тихо, что я едва расслышал, — да потому, что я одинока. Или ты не знал?
Я обнял ее за плечи и прижал к себе, понимая, что нужно ее успокоить, пока она не зашла слишком далеко. Секунду она упиралась, потом опустила голову мне на плечо. Другая женщина заплакала бы, но не эта. Она почти никогда не плакала. При мне всего один раз. Казалось, что слезы слишком мелкое выражение для ее чувств, что глубинные движения ее души подчиняются каким-то более суровым законам. Мне это даже нравилось, потому что я не выношу женских слез.
Держа ее в объятиях и лаская, я случайно смахнул ее темные очки, и мы оба рассмеялись. Пропасть между нами затянулась. Можно было ехать дальше. Мы ничего не выяснили и не решили, мы лишь заключили молчаливое соглашение, хотя бы временно к этому не возвращаться. И потому стали более терпимы друг к другу, научились особому мягкому состраданию.
За Бела-Вишта, городком с широкими пыльными улицами и старинными колониального стиля особняками, окружавшими пыльную центральную площадь, буш по обе стороны дороги стал гуще. Ощущение оторванности от мира еще более усилилось. А переехав на пароме через широкую реку, мы словно оборвали с ним последнюю связь.
Я слегка нервничал из-за надвигающейся темноты: в Мозамбике почти не бывает сумерек, ночь наступает мгновенно и внезапно. Но вот прямо перед нами в лучах заходящего солнца показалась высокая ограда кемпинга, и у ворот появился сторож в военной форме.
После того как я заполнил формуляры в маленькой конторе у ворот, сторож засеменил перед нашей машиной, показывая нам дорогу к красному коттеджу вдали, отделенному от пляжа только рядом тенистых деревьев.
Была пятница. Возле некоторых коттеджей стояли машины, на площадке играли дети, а на террасе ресторана несколько отдыхающих пили пиво. На следующий день машин прибавилось. Но в воскресенье к вечеру все уехали, ибо сезон был не каникулярный и приезжали сюда только на уикенд. В понедельник в кемпинге не осталось никого, кроме старого пенсионера в конторке у ворот, сторожа, нескольких мусорщиков, да супружеской пары, обслуживавшей ресторан — мужчины с деревянной ногой и его толстой жены, коротавшей время за вязанием.
Было так пусто, что Беа выходила иногда на пляж совершенно голая. Меня это чуть шокировало, но я ничего ей не говорил, понимая, что обижу или просто удивлю ее. Она не из тех, кто относится к своему телу по-эксгибиционистски, и если она время от времени появлялась нагишом, то лишь потому, что в тот момент ей было на это наплевать. В каком-то смысле такое поведение вполне соответствовало обстановке, ибо если позволить себе некоторый романтизм, то можно сказать, что Понто-де-Оуро был нашим маленьким раем, уголком, где мы принадлежали только друг другу, местом исследования души и первооткрытий.
Кроме необходимости обедать в ресторане, мы больше ничем не были связаны. Раз в два дня в кемпинг привозили на большом зеленом грузовике мясо и овощи, но не газеты. Новости, громко звучавшие по-португальски из ресторанного репродуктора, были нам непонятны, а приемник в нашей машине оказался не способен поймать что-нибудь на известном нам языке. Целую неделю мы буквально ничего не знали о том, что происходит в мире, и в то же время, может быть, именно неестественность подобного неведения заставляла нас ни на секунду не забывать о нем. Хотя бы из-за присутствия солдат.
За оградой кемпинга в буше располагалась рота португальских солдат. По утрам мы слышали их джипы и грузовики, с ревом отъезжавшие из лагеря и редко возвращавшиеся раньше вечера. Солдаты иногда выходили поиграть в мяч на берегу или попить пива на террасе, вокруг которой кружили стаи птиц-носорогов и голубовато-стальных скворцов. Вот и все, что мы знали о них. Но они всегда были здесь, даже уезжая. Иногда они передвигались в густых зеленых зарослях буша и по ночам, совершая свои таинственные маневры. Было и еще одно обстоятельство, из-за которого мы навсегда запомнили этих солдат: при них был маленький чернокожий мальчик. В долгом путаном монологе толстая рестораторша как-то раз попыталась объяснить нам на своем неподражаемом английском, что солдаты подобрали его год или два назад в сожженной ими деревне и с тех пор держат при себе в качестве талисмана. Он присутствовал при их играх, приносил слишком далеко залетевший мяч, а когда они возвращались в лагерь, кто-нибудь из солдат нес его на плечах, Как обезьянку. С ним, кажется, обращались хорошо. Но ни разу за все время мы не слышали его смеха и не видели даже тени улыбки на его старческом, морщинистом личике.
К концу недели появились самолеты. Стало еще тревожнее. Раз в день они неожиданно с ревом проносились у нас над головой на высоте не более ста ярдов, летя с севера на юг вдоль береговой линии. Целые эскадрильи, мчавшиеся на такой скорости, что хотелось вжаться в песок. В первый раз они застигли нас врасплох: они пролетали так низко, что испуг не отпускал нас еще несколько минут спустя. (После этого Беа больше уже не выходила на пляж голой.)
Потом они летали каждый день. Не началась ли за это время война? А может быть, здесь что-нибудь произошло? Не скрываются ли в зарослях буша террористы? Мы ничего не знали, и, как это ни странно, нам не хотелось расспрашивать рестораторшу. Мы получали какое-то почти извращенное удовольствие при мысли, что знакомый, привычный мир мог в наше отсутствие пойти прахом. И были только мы двое, выжившие после потопа. Только мы двое в нашем маленьком раю, окруженном скрывающимися в буше солдатами и овеянном грохотом проносящихся самолетов. Опасная идиллия, абсолютно нереальная, но из-за этого еще более притягательная.
Время от времени Беа опять заговаривала о туманном будущем, когда между нами все будет кончено, о том, как мы будем вспоминать эти дни, и о том, что именно нам захочется вспомнить.
Я обычно давал ей выговориться, не вмешиваясь из страха вновь оказаться втянутым в разговор, подобный тому, что произошел в первый день. Но однажды все же не смог сдержаться. Мы были на плоских скалах в южном конце пляжа. Лишь гряда высоких дюн отделяла Понто-де-Оуро от границы Южно-Африканской Республики. При отливе обнажались нижние части скал, испещренные дырами, щелями, воронками и заросшие водорослями — сказочный морской сад. Беа могла проводить здесь целые дни, склонившись над воронкой и вороша палкой морские анемоны, собирая ракушки и морские звезды или ловя мелкую рыбешку. Когда она сидела на корточках, в ее узкой загорелой спине, какой-то трогательно беззащитной, было что-то детское и девическое. Но глядя на ее печальное внимательное лицо или струйку воды, сбегавшую по груди, едва прикрытой бюстгальтером, я видел в ней женщину, испытавшую в жизни много боли, разочарований и страданий.
Когда в тот день она снова заговорила о неизбежности разрыва, я не удержался. Она сказала тогда:
— Разрыв — это единственное, в чем можно быть уверенной.
И я повторил как в первый день:
— Почему ты без конца настаиваешь на неизбежности разрыва?
— Мне нужно быть хоть в чем-то уверенной.
— Беспрерывно говоря об этом, ты сама можешь накликать конец, которого могло бы и не быть.
— Ты что же, веришь в вечную любовь?
— Нет. Но я радуюсь тому, что имею в данный момент. Без мыслей о будущем, омрачающих настоящее.
— Ладно, согласна. Но только ты полагаешь, что твоя радость навсегда останется с тобой, а я не перестаю думать о том, что ей придет конец. — Она нагнулась, пытаясь поймать в ладонь небольшую рыбку, но та ускользнула. Продолжая сидеть на корточках, чтобы подстеречь рыбку, когда она вынырнет из водорослей, Беа сказала: — Каждый раз, когда я люблю мужчину, я знаю, что рано или поздно это кончится. Профессор, о котором я тебе рассказывала. Студент-еврей. Кинопродюсер в Перудже. И каждый раз я знала о неизбежности разрыва. Но я не позволяла этим мыслям омрачать мою радость. Нельзя отрицать жизнь и убегать от нее, но нельзя и бездумно отдаваться ей. — Тыльной стороной мокрой ладони она смахнула прядь волос с темных очков. — Лишь однажды я решилась забыть об этом. Лишь однажды поверила в вечную любовь. А совершив хоть раз в жизни такую ошибку, не захочешь повторить ее.
— А что тогда случилось?
— Это было после моего возвращения, после года в Перудже и нескольких месяцев в Штатах. Я ведь уже рассказывала тебе об этом. Я тогда встретила Гари. Он ничего особенного из себя не представлял. Моя бедная мать, будь она жива, ужаснулась бы: она всегда мечтала о хорошей партии для меня. Гари работал механиком. Мы познакомились, когда он чинил мой мопед. Собственно, он был совсем мальчиком, на десять лет моложе меня. Не знаю, мне трудно объяснить, но что-то в нем было, в чем-то они похожи с Бернардом. Конечно, смешно, когда так говорит женщина за тридцать, но я видела в нем что-то чрезвычайно чистое. Хоть он и был весь в масле и бензине. В первый раз, когда мы переспали, я вся пропахла бензином. Мы напоминали детей, полюбивших впервые в жизни. Ну конечно, у нас у обоих и раньше все это бывало, но нам почему-то казалось, что все происходит впервые. Мы любили друг друга так по-юношески. Мы ходили в кино. Ходили на скачки. Танцевали в дискотеках. Он приходил ко мне послушать музыку. Ему очень нравился Моцарт. Я давала ему книги, уговорила пойти на вечернее отделение. Вспоминая сейчас об этом, я вижу, что все было обречено с самого начала. Такое бездумное счастье не может длиться. Слишком многое мешает. Но мы были счастливы. В первый раз в жизни мне не хотелось задавать никаких вопросов, не хотелось ни о чем думать. Мне хотелось совершенно раствориться в нем, забыть о себе. Я понимаю, это звучит нелепо. Но наверное, хоть раз в жизни нужно так любить, иначе что-то у тебя в душе останется навсегда закрытым. Думаю, обычно такое случается в молодости, как с Гари. А мне пришлось ждать куда дольше. Я ведь всегда была чересчур разумной. Но тут мне стало на все наплевать.
— И что же было дальше? — спросил я, невольно тронутый ее рассказом, хотя и слегка обиженный.
— Мы катались на его мотоцикле. Мне это страшно нравилось. Особенно в дождь, когда улицы мокрые, скользкие, а значит, и опасные. Но не было сил сдержаться, хотелось ехать все быстрей и быстрей. И вот однажды мы упали. Как-то вечером в Хилброу, когда кончались вечерние сеансы в кино. На улице было полно народу. Он резко свернул, чтобы не наехать на пешехода, и потерял равновесие. Я просто вывалилась и покатилась. А он пролетел несколько метров и ударился головой об уличный фонарь. Толпа завизжала. Машины. Свет фар сквозь сетку дождя. Я вскочила и побежала к нему. Хотела сделать ему искусственное дыхание. Но у него не осталось рта.
Она долго молчала. Рыбка, сверкнув на солнце, вынырнула из водорослей, но Беа не обратила на нее внимания. Вечернее солнце мягко ложилось на ее плечи и голую спину.
— Когда это случилось, я была на четвертом месяце. Ребенка я потеряла. В больнице я думала: лучше бы мне тоже погибнуть. Но со мной-то ничего страшного не произошло. Но было так тяжело, так пусто. Пережив такое, уже никогда не забываешь о неизбежности конца.
* * *
Как-то вечером к нам в коттедж заполз паук. Он сидел на стене прямо над постелью, которую мы соорудили на полу, не желая спать на неудобных узких кроватях. Один из этих ужасных бабуиновых пауков. Когда я его заметил, Беа стояла у стены, стягивая через голову платье.
— Осторожней! — закричал я.
— Что случилось? — Она выглянула из-за платья, держа руки поднятыми кверху.
— За тобой паук. Отойди, я убью его.
Но она спокойно обернулась к стене и без малейшего признака страха поймала опасного стервеца в подол и выкинула за дверь.
— Ты что, не боишься их? — удивленно спросил я.
Она нервно улыбнулась и пожала плечами. Потом стала раздеваться.
— В детстве я жутко боялась всякой такой дряни, — сказала она, выбираясь из своих трусиков, — Я совершенно терялась при виде их. Это было так скверно, что мне поневоле пришлось что-то делать. И вот я начала собирать их в спичечные коробки и бутылки. Заставила себя возиться с ними. И постепенно преодолела свой страх. Точно так же я боялась темноты, пока не начала запираться каждый день в шкафу, чтобы избавиться от этого.
Лежа на матрасе под простыней, я смотрел на нее. Она стояла, наклонившись вперед, и расчесывала перед зеркалом волосы.
— Не потому ли ты все же приехала ко мне? — шутливо спросил я. — Может, просто хотела преодолеть страх передо мной?
— Кто знает? — Щетка равномерно ходила по ее коротким темным кудрям. Белый свет газовой лампы, стоявшей на полу, озарял ее подбородок, грудь, живот.
— И теперь больше не боишься?
— Тут дело не в том, чтобы вообще перестать бояться, — серьезно ответила она. — Просто нужно уметь сдерживать свой страх и жить с ним. Вот и все.
— Это относится и ко мне?
— Я должна понимать, что со мной происходит, — не ответив на мой вопрос, продолжала она. — Я должна понимать это в каждое мгновение моей жизни. — Она села на пол возле меня. — Слишком просто закрыть глаза и плыть по течению. Но я так не могу.
— Ты просто сама создаешь себе препятствия.
— Я должна понимать, — упрямо повторила она. — Порой я завидую другим женщинам. Девицам, которые заводят себе приятелей, меняют любовников, выходят замуж, только бы ни о чем не думать и не задавать себе лишних вопросов. При этом некоторые из них тешатся мыслью, что живут не сами по себе, а ради других, жертвенно. Ради тех, кто проводит с ними время, кто спит с ними, кто женится на них. Но я не могу так просто закрыть глаза на все. Мне нужны ответы. И я готова к любому ответу, сколь бы мучительным он ни был. Нет смысла делать вид, что таких вещей, как жестокость, страх, несправедливость и насилие, просто не существует.
— Ты делаешь невозможной жизнь с тобой.
— Иногда невозможно жить с самой собой, — возразила она улыбнувшись. — Наверное, ты считаешь меня невротичкой?
— Ты слишком требовательна к себе, вот и все.
— Мне нужно понимать, нужно понимать, — она поджала ноги и оперлась подбородком о колени. — Когда я полетела сюда в пятницу, я презирала себя. Я клялась себе, что никогда больше не позволю мужчине ангажировать себя подобным образом. Но я хотела поехать, я хотела быть с тобой. Я надеялась, что… впрочем, это не имеет значения. Я открыла в себе что-то новое, чего раньше не подозревала. Я сама себе казалась чужой, и я хотела понять себя.
— Я тебя понимаю.
— Нет, не понимаешь. Ты и себя-то, Мартин, не понимаешь.
— Ну, это уж чересчур!
— Нисколько. Ты все время на бегу. Ты не хочешь знать, кто ты. Это общий недостаток всех африканеров. И при этом вы постоянно твердите о верности самим себе — это все равно что горланить песни на кладбище.
Глубокой ночью мы слышали крики солдат и рев машин, уносящихся в темноту.
В комнате, как всегда, было душно. Сухой теплый ветерок лениво просеивался сквозь два маленьких затянутых сеткой окна. Мы снова вынесли нашу постель на пляж. Плавали в лунной дорожке, пытались, правда весьма безуспешно, заниматься любовью в воде, потом наконец устроились на песке. Она охотно отдавалась мне. Но где-то в глубине ее все-таки оставалась недосягаемая, абсолютная независимость, тайный центр муки, куда она никогда не допускала меня. Раз за разом повторялось одно и то же, это были неистовые, почти жестокие попытки завладеть ее тайной, но, чем настойчивей и яростней были мои покушения, тем более я заранее был уверен в их провале.
Наши каникулы подошли к концу. Как она и предсказывала! Всю эту неделю мы не ведали времени и пространства, наша жизнь определялась лишь сменой дня и ночи, приливами и отливами, ветром, тишиной и внезапными тропическими бурями. Но вокруг нас солдаты продирались через буш, а над нашими головами ревели самолеты. И вот все кончилось, пора было уезжать. Мы клялись друг другу, что непременно сюда вернемся. И знали, что этого не будет. Есть места, куда невозможно вернуться. К тому же португальцы вскоре ушли из Мозамбика, и все изменилось. Порой я думаю о том, жив ли еще тот чернокожий мальчик и принес ли он кому-нибудь удачу.
3
После завтрака мы с Луи на фургоне поехали в деревню. Я позволил ему вести — сознательный жест, как бы демонстрирующий, что у нас с ним все в порядке. На самом же деле я просто не любил править этой колымагой. У лавки я велел ему остановиться. Он остался в машине, а я зашел к миссис Лоренс.
— Мне нужен гроб, — сказал я. — Мы едем за телом.
— А, эта ужасная история, — вздохнула она. С носа у нее свисала большая прозрачная капля. — Пойду скажу ребятам, чтобы помогли вам.
Торопливой, семенящей походкой она направилась к задней двери, чтобы кликнуть подручных, гревшихся у стены на солнце. Гробы лежали в пристройке вместе с другим неходовым товаром.
— Надеюсь, Луи не слишком рассердился из-за вчерашних разговоров, — сказала она, вернувшись на свой высокий стул за стойкой. — Должно быть, тяжелое испытание участвовать в такой войне. А он еще совсем ребенок.
— Да, он реагирует на некоторые вещи чересчур болезненно.
— И ваша мать рассердилась. Что все вокруг продают фермы. Но должна же она понимать…
— Ничего, миссис Лоренс. Мы ведь тоже продаем нашу ферму.
— Что? — Она изумленно поглядела на меня, приоткрыв рот и показав вставные зубы. — Правда?
— Да, для этого, собственно я и приехал.
— Вот уж никогда бы не подумала. Интересно, что скажет муж, когда узнает.
Снаружи доносился шум: в фургон грузили гроб.
— Ну, что ж, миссис Лоренс, пора прощаться.
— Господи благослови вас, — сказала она, извлекая из рукава свитера грязную тряпицу, чтобы во внезапном порыве волнения утереть нос. — Не пропадайте из виду, Мартин. Как бежит время! Кажется только вчера вы были еще детьми.
Я помедлил мгновение, в последний раз вдохнув наполнявшие лавку запахи и ощутив ее темные глубины за полками. Может быть, при отъезде, собирая вещи, они обнаружат среди тряпья пыльные полуистлевшие девичьи трусики и удивятся, откуда они там взялись.
Луи нетерпеливо просигналил.
— Что ты там застрял? — спросил он, когда я уселся рядом с ним.
— Просто прощался. Не думаю, что мы еще встретимся. — Я засмеялся и как можно более по-свойски сказал: — А знаешь, в этой лавчонке твой отец впервые переспал с женщиной.
Он поглядел на меня так, точно я сморозил какую-то чушь — глаза его были насмешливы и непроницаемы. И я понял, что хотя мы и заключили перемирие, но отнюдь не научились понимать и прощать друг друга. Остаток Дороги мы проехали молча. За окнами пастельными пятнами мелькал выжженный засухой вельд. Голые вершины гор, жухлые деревья, унылые проплешины бурой земли, алоэ.
В полицейском участке два черных полицейских вынесли из морга во дворе тело, даже не прикрытое одеялом, голое, с длинными надрезами вскрытия, зашитыми грубыми стежками. Без всяких формальностей они опустили его в гроб, один из них пошел за отверткой, чтобы завинтить крышку.
Рыжий сержант, с которым мы виделись накануне, вышел во двор и направился ко мне.
— Когда доставить Мандизи? — спросил он.
Я не сразу понял его.
— На похороны, — пояснил он.
— Часам к одиннадцати. Нам хотелось бы управиться с этим побыстрее. Мне нужно сегодня вернуться в Йоханнесбург.
— Вы так спешите?
— Работа ждет. Я приехал только на уикенд. По делам.
— Ну хорошо. До свидания. Еще увидимся.
На обратном пути Луи вел фургон гораздо медленнее и время от времени поглядывал назад, проверяя, не опрокинулся ли гроб. Он объезжал каждую колдобину и рытвину, словно боялся причинить женщине в гробу хоть малейшее неудобство.
Тело отца везли домой на катафалке, убранном цветами и венками. Шел дождь. В похоронах под дождем есть нечто чрезвычайно гнетущее. Черные зонтики, красная мутная вода на дне могилы, грязь, хлюпающая под ногами вокруг ямы.
Что-то в отцовской смерти навсегда осталось для меня непонятным, незавершенным. Я узнал о ней слишком внезапно. Долгий путь из Цанена. Ночь с Беа. А потом это известие, торопливые сборы, самолет, мать, морг, кладбище.
Когда я вернулся в среду вечером, Беа ждала меня в моей квартире. У нее был свой ключ.
Мы редко проводили ночи у нее дома, разве что забирались туда иногда, урвав часок в полдень, когда в ветхом старом здании, скрытом за высокими джакарандами, никого не было. Милая обжитая квартирка, с вечным беспорядком в комнатах. Довольно темная из-за деревьев за окнами. Маленькая и неудобная кухня, какой-то застоявшийся кисловатый запах в ванной, протекающий клапан в клозете. И все же в этой квартире можно было расслабиться и отдохнуть. Литографии и картины без рам незнакомых художников, засохшие полевые цветы и травы в круглых глиняных горшках на полу, самодельные книжные полки из кирпичей и досок, иногда грязные чашки и тарелки на ковре, кушетка, пара уютных кресел. В спальне повсюду разбросано белье и одежда: на полуторной кровати с бронзовыми шариками (нескольких недоставало), на двух стульях с прямыми спинками, на старинном викторианском комоде и на распахнутых дверцах шкафа. Туалетный столик с маленьким средневековым изваянием мадонны, на которое Беа вешала бусы и шарфы. Стопки книг кругом, некоторые раскрыты и брошены переплетом кверху. На всех вещах в квартире был отпечаток ее личности. Ничего удивительного, ведь она жила здесь уже много лет, с тех пор как поступила на работу после получения еще одной степени по окончании университетского курса современных языков. Даже уехав за границу, она не отказалась от квартиры, а лишь пустила туда пожить своего приятеля. Это было ее самое основательное пристанище, говорила она. Иллюзия надежности. Единственное ее укрытие после беспокойных мытарств юности: Италия, Штаты, Кейптаун, одно временное жилье за другим в Йоханнесбурге. Теперь, наконец, эта квартира. И без нее было трудно понять Беа.
(Почему я так часто пускаюсь в эти подробные описания?! Чтобы уточнить то, что я хочу сказать? Убедить себя, что не утратил связи с прошлым? Или просто оттянуть неизбежный рассказ?)
Но моя квартира была более надежной и анонимной. И лучше отвечала характеру наших отношений. Здесь все и началось в ночь после вечеринки у тетушки Ринни. И ту ночь в среду мы тоже провели здесь.
Она встретила меня в дверях как хозяйка и, пока я пропускал стаканчик виски в гостиной, наполнила мне ванну. Затем я лежал в ванне, а она сидела на краю со стаканом белого вина. Легкая, ничего не значащая беседа. Она спросила меня о поездке, я — о ее работе. Без особого интереса выслушал ее рассказ; она всегда занималась десятком дел разом. Преподавание в университете. Юридическая контора, в которой она работала вместе с несколькими сотрудниками и старшекурсниками, оказывая бесплатные услуги чернокожим, не имеющим возможности заплатить за юридические консультации. Вечерние занятия в помощь чернокожим студентам-заочникам. В добавление к этому, когда она бывала свободна, она ездила по утрам на своем задрипанном «фольксвагене» в Соуэто давать уроки то в одной, то в другой школе. Она преподавала там африкаанс, один из ее основных языков — выбор, который поначалу казался мне странным для человека с ее биографией. Но, узнав ее получше, понял, что такое для нее характерно. Нечто, если можно так сказать, вроде коллекционирования пауков.
Обычная, повторяю, беседа, но в ней чувствовалось какое-то подспудное напряжение, ускользавшее от меня. Ничего определенного. Просто некая принужденность в вежливых вопросах и ответах друг другу. Я ничего не стал выяснять, понимая, что она сама все объяснит, если захочет.
Когда я вышел из ванной, она накрыла на стол: жареные цыплята, салат, хлеб, сыр. Готовить она никогда не любила. Затем она тоже удалилась принять ванну, а я поставил пластинку, тщательно стерев с нее пыль, и лег на диван послушать музыку.
Ее долго не было. Наконец она появилась в распахнутой белой муслиновой блузке, налила себе вина, поставила бутылку на полку и, отвернувшись, как бы между прочим, сказала:
— Кстати, я видела твою жену.
Я испуганно сел.
— Где? Как?
— Я была у вас дома.
Не нарочно ли она села в кресло, подальше от меня?
— Но, Беа, какого черта?
Косая усмешка, щека нервно подрагивает.
— Не беспокойся, никаких мелодраматических сцен.
— Но как ты туда попала? И зачем?
— Мне было интересно.
— Но как ты не понимаешь…
— Это получилось случайно. Я была у тетушки Ринни, и она завела разговор о тебе и Элизе. Я почему-то вдруг сказала, что хотела бы познакомиться с Элизой, и она пообещала взять меня с собой в следующий визит. Так что, как видишь, волноваться нечего.
— Но ты же знаешь, какая сплетница тетушка Ринни.
— А о чем тут сплетничать? Тетушка Ринни и не подозревает о нас с тобой. Она знает только, что мы познакомились у нее на вечеринке, вот и все.
Беа встала и взяла сигарету из коробки на столе. На щеках появился легкий румянец, длинные пальцы дрожали. Затем снова села. Ее блузка была по-прежнему распахнута. Я знал, что она, скорее всего, просто не заметила, что забыла застегнуться. Я смотрел на ее голую грудь, пока она с деланной беззаботностью рассказывала мне о визите к моей жене — и то и другое меня раздражало и волновало.
— Тетушка Ринни позвонила в понедельник утром и спросила, в настроении ли я поехать с ней. Она, наверное, специально так подстроила, чтобы я подвезла ее. Ты же знаешь, какая она прелестная старая скряга.
— И что было?
— У тебя правда милый дом. И милый сад. Все милое. Настоящее жилище магната.
— Беа, я спрашиваю не об этом.
— А Элиза милая женщина. — Короткая пауза. — Или была такой. Сейчас она, по-моему, совсем не заботится о своей внешности. — Поглядев на меня сквозь стекло своего стакана, она спросила: — Она знает о нас с тобой?
— Дурацкий вопрос! Конечно, нет.
— Она несчастна.
Я встал.
— Ладно, Беа, выкладывай все и давай закончим. Что было?
— Ничего. А ты что думал? Они с тетушкой Ринни почти все время проболтали. Элиза, правда, вежливо спросила о моей работе и прочих делах, но и все. Она, вероятно, решила, что я одна из случайных приятельниц тетушки Ринни.
— Не понимаю, чего ты хотела добиться этой идиотской авантюрой?
— Хотела посмотреть. Поневоле станешь любопытной. Ты ведь никогда ничего не рассказываешь ни про нее, ни про свой дом.
— Зачем? Я стараюсь держать разные стороны жизни порознь. Как ты думаешь, что будет, если…
— А как долго, ты думаешь, протянется твой вариант апартеида? — мягко спросила она.
Я был взбешен, но сдержал себя при помощи очередного глотка виски.
— Он протянется до тех пор, пока я смогу контролировать свою жизнь, — сказал я, усаживаясь на место. — А ты…
— А я ничего. Я просто хотела знать, вот и все.
— Никогда не ожидал от тебя такого ребячества.
Она не ответила.
— Ладно, надеюсь, теперь твое любопытство удовлетворено, — сказал я после очередной паузы. — И, надеюсь, что ты в последний раз…
Она откинулась назад, опершись на локти. Блузка сползла с ее плеча, но она не обратила на это внимания.
— Ты хотел отстранить меня от самой существенной стороны твоей жизни, — сказала она. — Мне нужно было самой увидеть. Сколько раз я уже повторяла тебе, что хочу жить, все зная и понимая. А для этого сначала нужно все выяснить.
— И что ты собираешься делать теперь, выяснив? — спросил я, глубоко вздохнув.
— О, я давно уже смирилась с ролью любовницы, — ответила она, глядя в свой стакан. — Не особенно почетная роль, конечно, но я смирилась с мыслью, что мне не следует ждать от жизни большего. Слишком часто такое повторялось, чтобы быть просто совпадением. Привыкаешь сам нести за себя ответственность. Ведь нельзя эксплуатировать человека, если он сам на это не согласен. — Горький смешок. — Положение любовницы тоже дает некоторое ощущение уверенности. Постепенно привыкаешь к своей второстепенной роли. И для нас обоих было бы проще продолжать это, не спрашивая ни о чем.
— А теперь с тебя хватит? Так? — спросил я.
— Не в этом дело. Но теперь я видела другую сторону твоей жизни. До этого ты был человеком, который приходит и уходит, делит со мной часы, которые ему удается урвать. Это было тяжело, но приучаешься быть благодарной и за такое. За любое сочувствие. Но теперь я знаю, что ты муж другой женщины. Ты считаешь, что это можно держать порознь. Но, приходя ко мне, ты приносишь с собой часть ее, а уходя, уносишь домой что-то от меня. А если мы захотим забыть об этом, то нам придется отказаться от чего-то в самих себе. Мы не сможем так продолжать наши отношения. Это не имеет смысла. Ни для тебя, ни для меня.
— И что же ты собираешься делать?
— Решать тебе. Ты один, нас двое.
Я опустил голову и долго молчал. Потом снова посмотрел на нее.
— Застегни блузку.
Она удивленно взглянула на меня и с легкой циничной усмешкой неохотно запахнула блузку.
— Застегни, я сказал.
— Не дури, Мартин.
Я больше не мог сдерживаться. Я вскочил с места и вырвал ее из кресла. Стакан упал и покатился по мягкому ковру. Когда я попытался застегнуть блузку, та порвалась. Я совершенно рассвирепел. Никогда даже не подозревал в себе такого. Ухватившись за блузку, я сорвал ее и разодрал в клочья, а затем повалил Беа на пол и изнасиловал. Я не сразу заметил, что она и не сопротивляется, покорно подчиняясь всему, что я с ней делаю. Поняв это, я распалился еще больше. Когда я отпустил ее, она заплакала. То был единственный раз, когда она при мне плакала. Негромкие отчаянные рыдания сотрясали ее тело, пока она лежала, закусив указательный палец, чтобы сдержать их.
Я поднялся и, отойдя в сторону, привел в порядок одежду. Потом пошел в ванную. У двери я оглянулся. Она лежала неподвижно. Как когда-то Реньета, жена Бернарда.
Я старательно мылся, словно желая соскоблить с себя все ее знаки и отметины. Но я знал, что это бесполезно. Я был привязан к ней сильнее, чем к любой другой женщине в моей жизни. Кроме Элизы в те давние дни до свадьбы.
Потом я повел в ванную ее. До поздней ночи мы лежали, тесно прижавшись друг к другу и разговаривая. Без вожделений. Буря улеглась. В состоянии глубокой опустошенности, наступившем вслед за ней, мы смогли спокойно все обсудить.
То был критический момент наших отношений. Она объявила об этом открыто, без горечи или настойчивости, лишь с усталым состраданием. Мне следовало выбирать. Или рассказать все Элизе и развестись с ней, или расстаться с Беа. В беззащитные краткие ночные часы все казалось простым и само собой разумеющимся. Я должен сделать решающий шаг. И тогда мы начнем все заново. Вдвоем.
Но, вернувшись на следующее утро домой, я узнал от Элизы, что отец умирает. И это известие снова изменило наши отношения с Беа. Когда я вернулся с похорон, каждый из нас ждал начала разговора. Но ни один не начинал его. Момент, когда это было возможно, уже прошел. Оставалось только продолжать все как было. Возможно, каждый из нас втайне упрекал другого за это. И все же мы были благодарны друг другу. Нельзя же играть мелодраму изо дня в день.
Сейчас, вспоминая странного старика, повстречавшегося мне в лесу в тот уикенд, я куда лучше понимаю его фантастический рассказ: как он шел за Момламбо и получил от нее украшенную ракушками палку. И ее требование. Если ты на самом деле хочешь, чтобы Момламбо пришла к тебе, если ты хочешь, чтобы она легла с тобой и сняла для тебя свой поясок, ты должен убить отца в сердце своем.
Ту ночь я провел с Беа — и отец умер.
У каждого человека есть своя Момламбо. Дождись своего вихреворота.
* * *
В самом начале двенадцатого полицейский фургон затормозил в туче пыли на заднем дворе фермы. Черный полицейский вывел из фургона Мандизи, а затем вернулся на переднее сиденье к водителю. Мандизи без наручников пошел вверх по холму, к роще алоэ. Мать, Луи и я следовали за ним на некотором расстоянии. Мать, как обычно, держалась прямо и спокойно, но, когда мы поднялись на вершину, у нее перехватило дыхание и она не могла говорить. Мне еще не случалось видеть ее такой измученной и старой.
От хижин двумя рядами шли люди. Мужчины и женщины шли порознь. Детей не было. (И девственниц тоже, пояснила мать, зрелище смерти для них табуировано.) Они с пением приближались к роще, голоса их были чисты и глубоки, как земля и вода. Ветер дул еще сильнее, чем накануне.
В роще Мандизи сел на камень возле разинутой сухой пасти свежевырытой могилы, повернувшись спиной к людям, столпившимся у другого ее края. Мы стояли в стороне, не принимая участия в происходящем. Во время всей церемонии Мандизи сидел отвернувшись, глядя на холмы, над которыми начали собираться тучи, словно и не понимая того, что происходило у него за спиной. А когда яму стали засыпать землей, он поднялся и в полном одиночестве пошел прочь, сначала к хижинам, чтобы попрощаться с детьми, затем вниз к полицейскому фургону. Пока мы спускались с холма, его уже увезли. Тучка пыли еще виднелась на дороге, но вскоре и ее развеял ветер.
4
Обед подали рано. Стол, как обычно, ломился от яств.
— Мама, невозможно же все это съесть, — запротестовал я, увидев, как она расставляет наполненные тарелки.
— Впереди долгая дорога, сынок. И кто знает, когда мы снова все вместе сядем за стол.
Как оказалось, то была наша последняя совместная трапеза на ферме. (Месяц спустя, во время переезда, у меня шли важные деловые переговоры, и я не смог вырваться. Элизе пришлось поехать на ферму, чтобы помочь матери упаковаться и перевезти ее к нам.) Конечно, в нашем обеде было нечто ритуальное, хотя я намеренно старался не придавать этому излишнего значения всякими разговорами о прошлом или будущем. Дело было сделано, и теперь следовало относиться к нему как можно спокойнее.
Ставя на стол яблоки, запеченные в тесте (мать всегда точно угадывала, что мне приготовить), она сказала:
— Если бы месяц назад я знала то, что знаю сейчас, я бы этого не пережила.
— В конечном счете все делается на благо страны, — сказал я. — Надо быть готовым к любым жертвам.
— Хорошо тебе говорить, — тихо возразила она со злым блеском в глазах. — Ты умеешь заставлять других приносить жертвы вместо себя.
— Ты так считаешь?
Посуду убрали, Кристина подала кофе.
— А когда прикажешь мне собирать манатки?
— Я дам тебе знать. Большой спешки нет. — Я попробовал кофе, он обжигал губы. — Но конечно, откладывать это надолго тоже не стоит.
Луи с грохотом отодвинул кресло.
— Пойду отнесу вещи в машину, пока ты пьешь кофе.
Мы с матерью остались одни. Теперь требовалось лишь произнести последние прощальные банальности. Но за нашими ничего не значащими словами и недоговоренностями ощущалась гнетущая тяжесть многих жизней и поколений, страх, замешательство, молчание. Все, что мы не могли упаковать и увезти с собой.
Когда Луи вернулся, намеренно шумно открыв дверь, я тоже встал.
— Господи, — сказала мать. — Мы даже не помолились.
— Неважно.
Я взял из спальни бумажник, ключи, пистолет. Неожиданно для себя я остановился в коридоре и снял с крючка ключи. Выйдя с парадного входа, чтобы меня не видела мать, я прошел к отцовской пристройке. Пока я безуспешно пытался протащить через дверь старое кресло, меня окликнул Луи:
— Давай помогу.
— Сам справлюсь.
Сделав еще одно усилие, я вытолкнул кресло наружу. Он тоже взялся за него. Я рванул кресло к себе, оно ударилось о стену. Один из подлокотников вышел из паза.
— Видишь, что ты наделал, — закричал я.
— Я просто хотел помочь тебе, — Он осмотрел кресло. — Пустяки. Дома починим. Давай я понесу.
— Говорю тебе, я справлюсь сам.
— Тебе нельзя носить такие тяжелые вещи.
— Ради бога, перестань. Я не инвалид.
Я поднял кресло. Он подхватил его с другой стороны. С секунду мы стояли, молча глядя друг на друга. Я испытывал бешеное желание отпихнуть его, меня останавливала лишь мысль о том, что он явно сильнее меня. Тяжело дыша, я пошел к машине. Мать безучастно следила, как мы с трудом водружали кресло на заднее сиденье. Она казалась еще прямей, чем всегда, высокая, сухопарая, седая.
Луи уже собирался сесть за руль — он почему-то считал это само собой разумеющимся, — когда я взял его за руку.
— Я сам поведу, — сказал я.
— Но ты же без очков!
— Я уже два дня без очков. Глаза привыкли.
— А если что-нибудь случится, сынок? — недовольно спросила мать.
— Я знаю машину и знаю дорогу.
— Отец, я вполне могу вести. Во время войны…
— Попрощайся с бабушкой и садись в машину.
Длинные, тонкие, сильные руки матери, сухие губы, прижавшиеся к моим. Даже наше прощание приобрело привкус смерти.
Мертвецы в сухой земле, свежая могила, неизбежные смерти в будущем. Из всего, что произошло в тот уикенд, я более всего запомнил наш прощальный поцелуй и знамение конца в нем — конца всего способного кончиться. И еще, пожалуй, тишину.
Во дворе все затихло. Умолкли утки и куры. Даже птицы на фиговом дереве. Собаки перестали лаять и молча стояли у цистерны с водой, разинув пасти и виляя хвостами. Ни звука из маслобойни, из хижин на холме, ниоткуда. Даже ветер на мгновение улегся. А вдали, где встречались две гряды холмов, в глубочайшем молчании лежала темная толща леса.
* * *
Ничто не определяет конец столь роковым образом, как само начало. И все же, пожалуй, не из-за этого я еще ничего не сказал о начале моей связи с Беа. Просто я надеялся, что это окажется ненужным, что я смогу достаточно рассказать о ней, не возвращаясь к событиям первой ночи и первого утра. Но теперь я понимаю, что у меня нет выбора. Это больше не зависит от моей воли. Я должен описать те события и все с ними связанное. Даже если мне и придется ради этого вернуться к Бернарду.
Прибыв в тот вечер к тетушке Ринни в очаровательный старомодный дом в Парктауне, в квартирку, высоко поднятую над стремительным движением Ян Смэтс-авеню, я застал там уже много народу. Чего, впрочем, и ожидал, помня ее предыдущие дни рождения. Толпа незнакомцев, собранных со всех концов страны и из разных слоев общества. Бог весть где и когда она их всех подцепила.
В молодости тетушка Ринни была, должно быть, красавицей и, помимо трех мужей, которых она похоронила одного за другим, имела кучу поклонников. Даже сейчас, когда ей было за семьдесят. Я знал, что однажды во время серьезной болезни она призвала к своему одру Бернарда (среди всех ее друзей и приятелей он, разумеется, был самым любимым) и заставила пообещать, что в случае ее смерти он заберет себе шляпную коробку с письмами, спрятанную в шкафу за бутылками «Родеберга». Ему разрешалось прочесть письма, но затем их следовало сжечь, чтобы они не попались на глаза никому из ее пятерых детей.
Гостиная, спальня, крошечная кухня, балкон и даже ванная — все так и кишело гостями. Дверь стояла настежь, позволяя гостям время от времени выходить на красивую лестницу старинного здания и вниз на улицу. Громкие разговоры и не менее громкая музыка, правда, совсем не того сорта, какую можно было ожидать на подобной вечеринке, а Вивальди, Скарлатти, Гайдн. Тетушка Ринни, как ни странно, сразу же заметила меня.
— Мартин! Не могла дождаться, когда ты наконец придешь.
Поцеловав ее в нарумяненную щеку, я вручил ей свой подарок, викторианскую брошь с девятью маленькими рубинами, которую она сразу приколола к голубому платью.
— А где Бернард?
— Он страшно хотел прийти. До последней минуты все надеялся вырваться. Но этот процесс отнимает у него все время, и сейчас ему надо еще готовиться к завтрашнему выступлению.
— Как жаль. — Ее разочарование было столь же непосредственно и нестойко, как и все ее ртутные настроения. — Я специально для него пригласила девицу.
— Ну, здесь она без труда найдет кого-нибудь другого.
— Не в том дело, Мартин. Я выбрала ее с величайшей тщательностью. Ну да, конечно, я так поступаю каждый год, нечего смеяться. Но на этот раз я уверена: она просто создана для Бернарда, это воля небес. И тоже правовед.
— Звучит заманчиво.
— Подожди, пока сам не увидишь ее, — И поскольку я не решался в такой толчее даже пошевелиться, она нырнула под локти гостей, исчезла и через минуту вновь появилась со своим сокровищем: — Ну, Мартин, что я говорила? Это Беатриче Фьорини. — Она произнесла имя на итальянский манер вполне правильно. — Ты можешь называть ее Беа.
Мы образовали в толпе маленький островок, омываемый и подталкиваемый со всех сторон. Ее рука была холодна и тверда. Легкая насмешливая улыбка, возможно скрывающая нервозность. Мускул, подрагивающий на щеке. Тайна глаз, скрытых за темными очками. Она была в розоватом вязаном жакете, хлопчатобумажной юбке и с шелковым шарфиком на шее.
— Мартин о тебе позаботится, — уверила ее тетушка Ринни. — Как жаль, что Бернард не смог приехать. Но я уж постараюсь, чтобы… ох, простите, там, кажется, еще гости пришли.
Она исчезла.
— Я очень рада, что ваш Бернард не появился, — с улыбкой сказала Беа. — А то я уже начала чувствовать себя коровой на случке.
Не думаю, что вы были бы разочарованы знакомством. Что вы пьете?
— У меня где-то была рюмка, но бог весть где она.
Ее африкаанс был безупречен, хотя с некоторой напевностью в интонации, необычной округленностью звуков и легким нажимом на двойных согласных.
— Вы действительно итальянка? — спросил я через плечо, пробираясь сквозь толпу и расчищая ей дорогу.
— О, я этакое ассорти.
Когда мы наконец нашли место на балконе, я спросил:
— А откуда вы знаете именинницу?
— Совершенно случайно. Мы, несколько юристов, даем нуждающимся бесплатные юридические консультации. В основном черным. У здешнего садовника были затруднения с пропуском, и по ходу дела я с ней познакомилась. — Легкая улыбка. — Вот так она и поймала меня.
— Это ее обычный метод. — Я поднял рюмку. — Ладно, за приятный вечер.
— Такие вечера, собственно, не для меня, — вздохнула она. — Если бы она так не настаивала… Вы давно ее знаете?
— Со студенческих времен. Я снимал у нее комнату.
Завязался обычный для таких вечеринок ничего не значащий разговор. И все же даже в эти первые минуты знакомства ощущались какие-то подводные течения близости, взаимопонимания (или мне просто хочется так думать задним числом?). Возможно, мы оба были рады найти собеседника в толпе чужаков. В медленном кружении людского водоворота — люди срывались с места за закуской и выпивкой — мы потеряли друг друга. Заметив нескольких знакомых, я задрейфовал в их направлении, а когда обернулся, Беа исчезла.
Вечеринка, как всегда, затянулась на всю ночь. Гости разбились на небольшие группки, то тут то там раздавались взрывы смеха. Резкие, возбужденные голоса женщин. Рюмки, передаваемые из рук в руки над головами. Споры. Легкий флирт. Дым. Обрывки бесед:
— У него не было выбора, ему нужно было взбрыкнуть…
— Я не критикую, но любому дураку ясно…
— Чего еще ждать от этой чертовой власти?
— Славная вечеринка, правда?
— Вы еще не видели ее в настоящем настроении…
— Ее отец был скульптором. То ли умер, то ли разорился, не помню…
Неожиданно я снова увидел в противоположном конце комнаты в клубах дыма ее бледное лицо и темные очки. Я помахал ей рукой, она махнула в ответ, словно моля о помощи.
Я попытался пробиться к ней, но, добравшись до места, где только что видел ее, уже никого не нашел. Со странным чувством потери я утомленно прислонился к стене. Потом это повторилось снова, что-то в ее неподвижном бледном лице притягивало меня. Мне хотелось отыскать ее, предложить свою помощь, заменить Бернарда, ради которого она была приглашена сюда. Но я нигде не мог найти ее.
Посреди ночи тетушка Ринни вышла на середину комнаты, держа в руке книжицу, переплетенную в темнокрасную кожу. Вокруг нее образовалось небольшое пространство, откуда она что-то начала читать. Было так шумно, что почти никто ничего не слышал. Но это ее ничуть не смущало. Когда я наконец протиснулся ближе, я разобрал несколько фраз. Это был Блейк, «Песни невинности», читаемые с глубоким чувством:
Но мальчик устал, От старших отстал, А из-за ветвей Свет солнца слабей[14].И тут рядом со мной разразился скандал. Не знаю, что послужило причиной, я лишь услышал, как рыжеволосая английская леди вдруг закричала с ненавистью:
— Вы просто грязные вонючие буры!
В следующее мгновение какой-то человек с внешностью таранного форварда схватил ее за платье на плоской груди, затряс и спросил по-английски с сильным акцентом:
— У тебя есть муж, стерва?
— Пусти меня, ублюдок!
— Я спрашиваю, стерва, у тебя есть муж?
— Да, есть, — на грани истерики ответила она. — Вон он.
Она показала на мужчину в дальнем конце комнаты. Глянув в ту сторону, мужик стал как бульдозер прокладывать себе путь к человеку в кресле, сидевшему спиной к жене и едва ли понимавшему, что происходит. Но тут на него обрушилась левая рука форварда, которой тот поднял его из кресла, затем нокаутировал правой и метнул в толпу гостей. В следующее мгновение все смешалось. Затрещали стулья, попадали на пол бутылки, истошно закричали женщины, все вокруг заходило ходуном.
Я принципиально никогда не вмешиваюсь в подобные стычки. Пробираясь к выходу, я заметил рядом с собой странную бледную девушку в темных очках. Беа.
— С меня довольно, — прокричал я ей в ухо, единственный способ общения в таком гаме. — Я ухожу.
— Пожалуйста, возьмите меня с собой, — испуганно попросила она, беря меня за руку.
В дверях я оглянулся. Посреди беснующейся толпы я заметил хрупкую фигурку тетушки Ринни с книгой, прижатой к груди, и безмолвными слезами на глазах.
Выйдя из квартиры, мы внезапно очутились в пугающей ночной тишине; теплый осенний воздух дохнул нам в лицо.
— О господи, — сказала Беа, помолчав, — какой мерзкий скандал. Бедная тетушка Ринни.
— Ничего, она ко всему привыкла. Какая-нибудь трагедия разыгрывается каждый год.
Мы шли по тихим ночным улицам, бесцельно бредя куда-то под уличными фонарями, просто чтобы подальше уйти от шума.
— Спасибо, что вывели меня, — сказала она. — Я бы этого больше не вынесла.
— Я весь вечер разыскивал вас, — вырвалось у меня. — Но каждый раз вы исчезали в толпе.
— Я тоже искала вас. Это было как дурной сон, когда хочешь пошевелиться, а не можешь.
Мы остановились под фонарем. Я сжал ладонями ее бледное лицо, чувствуя, как дрожат ее губы. Она внимательно поглядела на меня.
— Вы всегда носите темные очки?
Она кивнула. Я провел рукой по ее лицу и снял очки. На секунду она вся напряглась, затем снова успокоилась.
— Зачем вы это сделали? — спросила она.
— Потому, что вам нечего меня бояться.
Я положил очки в карман пиджака.
— Я и не боюсь.
Мы пошли дальше.
Я не имел представления, куда мы идем. В какой-то момент мы вышли к озеру. В голове у меня мелькнула мысль, что ночью здесь может быть небезопасно, но мне не хотелось уходить отсюда. Мы исследовали ночную географию местности, бродя по гравию и траве сквозь полосы света и обширные участки тьмы за деревьями и кустами, порой ненадолго присаживались на какую-нибудь скамью или прямо на траву. Когда стало холоднее, я снял пиджак и накинул на нее, обняв за плечи. И все время, несколько часов подряд, мы разговаривали. Это сильно отличалось от моего опыта с другими женщинами. Даже обнимая ее, я испытывал скорее некое товарищеское чувство, нежели желание.
Мне нередко случалось уводить девушек с вечеринки. Это так просто. И все последующие события вполне предсказуемы — несколько возможных вариаций и никаких сюрпризов. Но не с Беа. Нам хотелось гулять и разговаривать.
Она поведала мне запутанную историю своей жизни: связь матери с немецким солдатом в войну, переезд в США, затем, после смерти матери, эмиграция в Кейптаун с отчимом-венгром. Его гараж в Маубрей. Запах бензина, преследовавший ее всю жизнь. Иногда ночью, после того как отчим засыпал, она прокрадывалась в ванную, брала его грязную одежду и погружала в нее лицо. Шок на пятнадцатом году, когда однажды вечером, заперев гараж, он начал ее тискать в темноте. Ничего не произошло. Только шок. Пятна бензина и масла на платье, на руках и на лице. Мужчина, упавший на колени и с рыданиями просивший прощения.
Наследство, неожиданно полученное от одного из итало-американских дядюшек. Университет, который она блистательно окончила. Языки, затем правоведение. Желание продолжать учебу дальше. В поисках чего-то, что невозможно найти, ибо неизвестно, что ищешь.
— Два года назад я решила уехать за границу. Кое-что произошло. Один из моих профессоров… впрочем, не буду вам докучать.
— Вы вовсе не докучаете мне. Расскажите.
— Я еще училась, когда у нас начался роман. Он был гораздо старше меня, годился мне в отцы. Это он нашел мне место младшего преподавателя на юридическом факультете.
— Почему вы не остались с ним?
— Он был женат. — Пауза. Она сорвала травинку и принялась жевать ее. Спустя довольно долгое время продолжила: — Его жена была инвалидом. Я сначала не думала… но так получилось. А у меня не хватило сил или ума, чтобы уехать. Потом его жена умерла. И внезапно — это трудно объяснить — что-то изменилось. Все кончилось. Он хотел жениться на мне. Но смерть его жены словно показала мне, какими уродливыми и грязными были наши отношения. Я не могла забыть ее. Знаете, она часто благодарила меня за то, что я так помогаю ее мужу. — Молчание. — И вот я решила уехать за границу.
— Бежать?
— Да. Но не только бежать. Мне хотелось и найти что-то.
— Что?
— Дело в том, что я всю жизнь чувствовала себя бездомной. Я никогда не знала отца, мать тоже почти не помнила. У меня были смутные воспоминания об Италии, о нашем городе, о бомбах, выстрелах, разрушенных зданиях. — Она замолчала. Чувствуя, как она дрожит, я крепче обнял ее. — И потом Штаты, чужая страна, к которой я не могла привыкнуть. А затем еще одна чужая страна, Южная Африка. И Штефан, отчим-венгр. Чужие языки, чужие, люди, города, страны. Все время. И где-то посреди этого я словно потеряла себя. Понимаете? И этот профессор. На несколько месяцев в моей жизни появилась хоть какая-то стабильность. А потом я поняла, что и это очередной плавучий остров. И вот я подумала, что, если вернуться туда, где я родилась, я, может быть, что-то пойму о себе. Я решила вернуться в Перуджу, чтобы найти себя.
— И вам удалось?
Она покачала головой. Минуту спустя снова покачала. А потом сказала:
— Может быть, я ошибалась с самого начала. Я думала, что нужно привязать себя к какому-то месту, языку, людям. Думала, что есть места и люди, родные, так сказать, автоматически. Но если и есть такие места, своего я не нашла. Перуджа красива, это самая красивая местность из тех, что я видела. Все эти шпили, поля, там пашут на быках, красные маки в траве, Фра Анжелико и всякое такое. Но я оставалась иностранкой. Время от времени я встречала людей, которые казались мне похожими на мать или на деда с бабкой. Но что толку? В моей жизни это ничего не меняло.
— И вы вернулись?
— Не сразу. Я прожила там год, пока не кончила университетский курс. Я была на стипендии. А потом поехала в Штаты. Я думала, может, там найду свои следы. — Короткий жесткий смешок. — Я не выдержала и нескольких месяцев. Родственники матери и все друзья семьи приняли меня с распростертыми объятиями. У них невероятно сильно развито клановое чувство. Но что толку?! Я никогда бы не стала одной из них. Я всегда остаюсь собой. А вернувшись сюда, я узнала, что Штефан умер. Бедный Штефан, думаю, он по-настоящему любил меня. Но все напрасно.
В траве жужжали и стрекотали насекомые. В листве деревьев кричали козодои.
— Как ни странно, это делает меня свободной, — сказала она, — Абсолютно раскрепощенной. Ответственность я несу только за себя. — Она помолчала. — Правда, это не всегда легко выдержать. Порой хочется хоть немного отдохнуть, хоть ненадолго отдаться чему-нибудь, раствориться в чем-нибудь, тогда было бы легче жить дальше. Но конечно, это никогда не получается.
Когда она опять замолчала, я спросил:
— О чем вы думаете?
— Об игре, — улыбнулась она.
— Какой игре?
— Есть такая, принятая на вечеринках. Вы, наверное, знаете. Тебя вводят в комнату, в которой на полу навалены чемоданы, бутылки, стулья, тарелки. Затем тебе завязывают глаза и предлагают пройти по комнате. Сперва боишься наткнуться на что-то. Потом ужасно хочется коснуться чего-нибудь, найти какой-то ориентир. Но это никак не удается. Ты чувствуешь себя совершенно потерянным. А когда с тебя наконец снимают повязку, ты обнаруживаешь, что комната пуста: пока тебе завязывали глаза, из комнаты все убрали. Остальные гости прямо помирают от хохота, а ты стоишь одураченный. Вот так и у меня в жизни. Я все время пытаюсь с завязанными глазами найти дорогу в пустой комнате, ища ориентиры, которых не существует.
— Я вам помогу, — сказал я, глубоко взволнованный нарисованной ею картиной.
— Это бесполезно.
— Почему вы так думаете? Вы знали только своего профессора.
— Нет, не только.
— Что вы имеете в виду?
— Он не был единственным, кого я любила. — Казалось, она не хотела говорить дальше, но потом вдруг передумала: — Когда я только поступила в университет, я познакомилась с одним студентом-евреем. Бенджамином. Он был первым, с кем я переспала. Но потом он привел меня к своим родителям — он, правда, не хотел, но я настояла, — и я поняла, что все это иллюзия. Они были крайне ортодоксальны и никогда не позволили бы ему жениться на мне.
— И вы порвали с ним?
— А что мне оставалось? Он не мог понять, что на меня нашло. Мужчины боятся смотреть правде в глаза, хотя и прекрасно знают о ней. Верно? Я постаралась проделать это как можно легче для него. — Она пожала плечами. — Но все равно.
— А потом?
— Почему вы спрашиваете?
— Потому что вы пошли со мной сегодня.
— Мы уже возвращаемся. Нельзя же гулять всю ночь. Не забывайте, рано или поздно повязку снимут.
— Но пока мы еще не вернулись. И я намерен слушать вас дальше. — (Женщины всегда считали меня хорошим слушателем, этому я обязан своим успехом больше чем наполовину. Но сейчас мне действительно хотелось слушать ее.)
Она улыбнулась:
— Что бы сказала тетушка Ринни, если бы узнала?.. — И, не дожидаясь моего ответа, продолжала: — Она чуть ли не силой затащила меня на эту вечеринку. Я недавно прочитала книгу о бабуинах. Там описывается, как самки, сидя на солнце, все время стараются, чтобы их красные зады были обращены к самцам. Самцы, должно быть, ужасные извращенцы, если попадаются на такое, но они попадаются. И теперь, оказываясь на вечеринке, я все время думаю, глядя на женщин: господи, так вот чем они на самом деле занимаются! — Она обернулась ко мне, и я увидел ее большие незащищенные глаза. — Поэтому вы меня и уволокли?
— Мне просто было так же тошно, как и вам.
Она пожала мне руку.
— Спасибо, сир Галаад.
— Почему вы смеетесь?
— Я не смеюсь. В вас есть нечто старомодное. Вы так предупредительны. С вами чувствуешь себя почти в безопасности.
Было слишком темно, чтобы понять, сколько в этом иронии.
— Как с отцом исповедником? — спросил я.
— Почему вы так решили? — насторожилась она.
— Я не имею в виду ничего определенного. Просто вы вправе поведать мне все, что хотите.
Она повеселела.
— Однажды я исповедовалась у совершенно глухого священника. — Она засмеялась, — Страшно вспомнить. Дело было перед пасхой, и все стремились своевременно очиститься от скверны. Но он почти ничего не слышал. И каждый раз, когда я говорила ему что-то, переспрашивал громким голосом, разносившимся по всей церкви: «Что вы сделали, дочь моя?» Вся очередь помирала со смеху.
— Вы католичка?
— Нет.
— Почему же вы пошли на исповедь?
— Я была католичкой.
— А теперь?
— Первые двадцать лет моей жизни, несмотря на все что со мной происходило, когда меня передавали из рук в руки, из страны в страну, у меня все же была некая опора. Церковь. В моей привязанности к церкви было что-то невротическое. Во время мессы я порой впадала в транс и получала чуть ли не противоестественное удовольствие от причащения кровью и плотью Христовой.
Она снова повернулась ко мне, но я не видел выражения ее лица.
— Затем, когда я рассталась с Бенджамином, я поняла, что церковь — это ловушка. Она только мешает быть честной по отношению к самой себе. И я порвала с нею. — Она с минуту помолчала, я слышал ее легкое дыхание. — В каком-то смысле это было мучительнее, чем разрыв с любимым. Я понимала, что после этого у меня не останется ничего. Это был последний предмет, убранный из комнаты.
— Как вы решились на это?
— Просто я не могла иначе.
— И что же теперь?
— Теперь пытаюсь со всем справляться сама. Надо научиться стоять на собственных ногах. Мне не нужны костыли. Я хочу смотреть миру прямо в глаза.
— Мне хотелось бы помочь вам.
— Никто не в силах мне помочь.
— Я помогу. Только дайте мне шанс.
Мы в первый раз поцеловались. По этому краткому прикосновению, ибо поцелуй был легкий, почти беглый, словно мы оба боялись того, что могло за ним последовать, я понял, что дело того стоило.
Мы вернулись к дому тетушки Ринни. За время нашего отсутствия шум поулегся, часть гостей разъехалась, но вечеринка еще продолжалась. Я открыл дверь машины и попросил Беа подождать меня в ней.
— Посидите немного. Я сейчас вернусь.
От тетушки Ринни я позвонил к себе на квартиру (народу было еще так много, что на меня никто не обратил внимания). Бернард взял трубку.
— Ты уже лег? — спросил я.
— Конечно, нет. Я же сказал, что подожду тебя.
Я секунду помолчал:
— Слушай, Бернард, давай поговорим в другой раз. Завтра, когда угодно.
— А, — в его голосе послышалось разочарование, — так ты не вернешься?
— Вернусь. Но не один. Ты не мог бы перебраться в другую комнату?
Он что-то сердито пробормотал и бросил трубку.
Пройдя через забитую гостями и полную дыма гостиную, я поспешил вниз, к машине. Стрелки часов на приборном щитке показывали четверть третьего.
Когда мы свернули к Жубер-парку, Беа сказала:
— Я живу в Береа.
— Останьтесь со мной, — Я посмотрел ей прямо в глаза. — Ладно?
Она тихо вздохнула и ничего не ответила.
Стоянка машин была в квартале от моего дома. Потом мы ждали лифта в подъезде, освещенном призрачным неоновым светом. Никто из нас не проронил ни слова.
В гостиной горела только настольная лампа.
— Хотите принять ванну? — спросил я. — А я пока приготовлю кофе.
— Хорошо.
Я поставил на проигрыватель пластинку Моцарта, уменьшив громкость, чтобы не мешать Бернарду. Мне было странно думать, что он здесь, за закрытой дверью соседней комнаты. Ведь если бы он все-таки пошел на вечеринку, то с Беа познакомили бы его. И это с ним она сбежала бы в ночь. Ему она рассказала бы все, что поведала мне. Она была «предназначена» для него. Я, собственно, лишь заменил его, был его суррогатом. На время мы поменялись местами. И теперь он спал за дверью.
Через полчаса Беа вышла из ванной в моем халате, босая, с мокрыми волосами. Мы молча пили кофе и слушали Моцарта. Время от времени за окном проезжала машина. Доносился тихий, едва слышный гул ночного города. Легкий ветерок слегка колыхал занавески на окне.
Когда я вернулся из ванной, она была уже в постели.
— Выключи свет, — сказала она, когда я откинул простыню.
Я лег рядом с ней и обнял ее. И снова услышал, как она вздохнула.
— В чем дело? — спросил я.
Она не ответила. Просто взяла мою руку и положила себе на грудь. Что-то робкое было в этом жесте, какая-то деликатность, тронувшая меня. Словно она хотела сказать: что нам еще остается? Пусть так и будет.
Все время, пока мы предавались любви, я помнил о Бернарде, слышавшем ее стоны и вздохи, когда она потеряла власть над собой в неистовстве, восхитившем и взволновавшем меня.
За окном шелестели листья платана. Я заснул. Когда я проснулся, солнце еще не взошло. Рядом со мной никого не было. В полусне я машинально потянулся к ней. Затем сел. Беа уже стояла одетая возле двери. Она испуганно оглянулась.
— Куда ты собралась?
— Никуда. Я… — Она походила на загнанное животное. — Я не думала, что ты проснешься.
— Останься, пожалуйста.
Она покачала головой:
— Мне пора. Автобусы уже ходят.
— Я в любой момент отвезу тебя. Куда тебе спешить?
— Я не хотела будить тебя, — сказала она с отчаянием.
— Но почему ты решила уйти?
— Ведь все уже позади. Все кончено.
— Ты прекрасно знаешь, что ничего не кончено. Все только началось.
— Нет, нет. Не надо об этом больше.
— Не бойся, Беа. Ничего не случится. После этой ночи…
Нет. — Гневно прервала она меня. — Пожалуйста, забудь об этом. Нас ничто не связывает. Не начинай все сначала. Все кончено.
Открылась дверь соседней комнаты. Затем из ванной послышался шум воды.
Она испуганно взглянула на меня.
— Кто там?
— Мой друг. Он ночевал у меня. — Я поглядел на нее. — Тот самый Бернард, с которым тебя хотела познакомить тетушка Ринни.
— Я не хочу с ним встречаться.
— Он тебе понравится.
Я не хочу видеть его. Сейчас.
5
Моя близорукость ничуть не лучше, чем комары на ветровом стекле. Пожалуй, даже хуже: в тучах комаров есть просветы, а тут все туманно и смутно. Я знал только, что еду по шоссе, но все детали исчезли. Мои действия определялись памятью и интуицией, а не тем, что на самом деле происходило в каждый отдельный момент. У меня все сильнее и сильнее болела голова.
Каткарт, Куинстаун, Джеймстаун.
По дороге на ферму мы проезжали здесь в темноте, теперь же сияло солнце, лишь изредка закрываемое бегущими облаками, но видел я еще хуже. И, целиком сосредоточившись на дороге, я вдруг испытал странное чувство — словно еду супротив самого себя, супротив своего прошлого. Мне казалось, что если бы я мог видеть яснее, то впереди я непременно разглядел бы себя, едущего на ферму. Порой я замечал, что наклоняюсь вперед и напрягаю глаза, будто действительно ожидаю столкновения с собой.
Понедельник ехал навстречу пятнице. Ничто не было ни отделено друг от друга, ни завершено. Небольшой сдвиг во времени, и я снова оказался бы возле дома, на карнизе которого сидел человек, а из толпы ему истерически кричали: «Прыгай! Прыгай!» И он валился вниз как тюк старой одежды. И Луи подходил ко мне сзади и брал за руку, глядя на меня со скорбью познания в глазах, как и в тот куда более невинный день возле плавательного бассейна. Легкий сдвиг, и маленькая девочка опять будет скакать на мостовой, и ее платье задерется. И это видишь, не глядя. Я словно начал всю пленку прокручивать заново, несмотря на жгучее желание забыть обо всем.
Казалось, я был на обратном пути к своему прошлому: к Чарли, идущему к воротам во главе разъяренной толпы, к Чарли, разбивавшему кирпичом ветровое стекло моей машины. К мужской вечеринке с извивающейся стриптизеркой. К изысканному суаре у профессора Пинара: «Избранные стихотворения», кулинарная эстетика его супруги и изречения Старого Козла. К преподобному Клуте на бурой скамье в участке. К скандалу на заднем дворе моего дома, к человеку, заталкиваемому в полицейский фургон, к чернокожей женщине («Но, баас, это мой муж»), а за ней открытая дверь комнаты для прислуги с железной кроватью, поставленной на кирпичи.
И конечно, к Бернарду. Его белокурые волосы и загорелая спина в каноэ, с головокружительной быстротой проскальзывавшем мимо скал по самому краю опасного водоворота. (И к Элизе, неделю спустя потерявшей ребенка. «Никаких органических нарушений, — сказал доктор, — просто нервное перенапряжение. В следующий раз, господин Мейнхардт, постарайтесь быть при ней во время первых месяцев. Ее страшно угнетает одиночество». Но, господи, не меня же за это упрекать! На поездке настоял Бернард.)
И к Бернарду на ферме. К плотине в тот воскресный полдень. Колени Элизы, упершиеся мне в грудь, ее рот, полный зерен граната. И годы спустя поздней ночью в полутемной комнате женщина, протянувшая руку за рюмкой, два лица в профиль, вечное незавершенное мгновение. Мое тело, еще помнящее Марлен, и где-то в глубине души ощущение возникшего отчуждения. Между Элизой и мною, между Бернардом и мною… И далее ко всему даже столь абсурдному, как синий круг, нарисованный вокруг пупка.
Зал суда с деревянными панелями, пыльными шторами и косыми лопастями вентилятора, вращавшимися на стержне. Если бы я стал сейчас просить о помиловании или с нисхождении, я предал бы дело, ибо я верю: то, что я делал, было правильно. Люди, встающие с мест с пением Nkosi sikelel’ iAfrika. Его бледное напряженное лицо, столь не похожее на лицо приземистой старухи, севшей в мою машину на Диагональ-стрит дождливой ночью и вдруг заговорившей его голосом.
Беа привела меня на Диагональ-стрит в свой день рождения в сентябре. Зачем она это сделала? Часто ее поступки казались мне совершенно необъяснимыми. (А зачем Чарли повез меня в Соуэто?)
Узкая странная улочка с тележками для фруктов, груженными бананами, помидорами, поздними апельсинами и ранней клубникой. Чернокожие мальчишки, истошными голосами зазывавшие покупателей. Маленькие грязные лавчонки. Лавки перепродажи, колониальные товары, обломки ушедших миров (бычья упряжь, плетки из слоновьей и носорожьей кожи, горы плетеных кнутов).
— Зачем мы пришли сюда? — спросил я. — Я знаю эту улицу. Я часто проезжаю здесь.
— Нет, ты не знаешь этих мест. Ты ничего не замечаешь, когда проносишься мимо. Я хочу показать тебе кое-что в твоем собственном городе. Это мой подарок на день рождения — тебе от меня. Другого случая может не быть, здесь скоро все снесут.
— Давно пора.
— Пошли, — сказала она, беря меня под руку. — К шаману.
Невероятно темная вонючая лавчонка с травами, высушенными головами страусов и обезьяньими хвостами, кожей змей и игуан, шкурами дикобразов, клювами, клыками, когтями и какими-то внутренними органами зверей — и все это под мрачным надзором высокого безобразного индийца, стоявшего в облаке благовоний за стойкой. Я вдруг попал в мир необычный и первозданный, чем-то похожий на мир старика, встреченного мною несколько месяцев спустя в лесу, но приведший меня в куда большее замешательство, ибо это случилось в центре города, который, как я полагал, хорошо знаю.
Беа сердечно поздоровалась со стариком, словно они были давно знакомы. Увидев ее, он на мгновение оттаял, но на меня продолжал глядеть угрюмо и настороженно.
— Что мы здесь ищем? — спросил я, почувствовав тошноту от всех этих запахов.
Я собираюсь купить кое-что, чтобы подсыпать тебе в кофе.
— Ты хочешь избавиться от меня?
Нет, хочу, чтобы ты в меня влюбился.
— А тебе не кажется, что я и так влюблен?
— Сомневаюсь. — Когда мы выходили из лавки, она помахала рукой угрюмому лавочнику. — Я думаю, что ты вообще не знаешь, что такое любовь.
Снова оказавшись на освещенной солнцем улице, в паутине звуков, сотканной свистульками мальчишек на тротуаре, я спросил у нее:
— Что ты имеешь в виду?
В том же легком, насмешливом тоне она ответила:
— Ведь для тебя любить, это, значит, обладать, верно?
— Мне очень жаль, если ты действительно так думаешь.
— Ах, Мартин, ты неисправим.
Она снова водрузила на нос темные очки, которые, к моему удивлению, снимала в лавке.
— Я не понимаю тебя, — резко сказал я.
— Ты не меня не понимаешь, а себя.
— Благодарю покорно, но себя я отлично знаю.
— Злюка.
Взяв меня под руку, она принялась насвистывать мелодию, которая звучала со всех сторон.
Чуть раньше, когда я тем же утром вручил ей свой подарок, ее поведение было столь же непонятным. Это был маленький золотой медальон, простой, старинный и дорогой. Она уже давно любовалась им в ювелирной лавке. Я надеялся обрадовать ее. Она не то чтобы была разочарована, но отнеслась к подарку как-то странно.
— Тебе не следовало дарить его мне.
— Но ты же говорила, что он превосходен.
— Он и был превосходен, пока не стал моим. Понимаешь?
— А теперь он твой.
У меня, должно быть, был весьма несчастный вид, ибо она тут же обняла меня и поцеловала. Вот тогда-то она и сказала:
— Пойдем, я тоже хочу подарить тебе кое-что, — и повела меня на Диагональ-стрит.
— Ты знакома с этим шаманом? — спросил я, когда мы уже вышли на привычные улицы в центре города.
— Не слишком хорошо.
— У него вид преступника.
— Возможно, так оно и есть. Но у него очень доброе сердце. Я однажды помогла ему на суде. Его обвинили тогда в торговле краденым.
— И ты поверила в его невиновность?
— Я просто помогла ему.
— Ты все больше напоминаешь мне Бернарда.
— Бернарду он тоже нравится, — мимоходом заметила она.
— Откуда он его знает?
— Я однажды водила его туда.
— Беа. — Я остановился. — Ты часто видишься с ним?
— Иногда, когда он сюда приезжает.
Она спокойно выдержала мой настороженный взгляд.
Минута страха и подозрения. (Реньета.) Но я сердито одернул себя. Господи, я достаточно хорошо знаю Бернарда, я знаю Беа. Ни один из них не стал бы… сама мысль об этом была грязной и абсурдной. Я доверял ему. Я доверял ей. Без этого доверия жить было бы просто невыносимо.
— В чем дело, Мартин?
— Я просто спросил.
— Ты же знаешь, что мне очень нравится Бернард. И знаешь, что я достаточно редко вижусь с ним. Не думаешь же ты, что…
— Ничего я не думаю.
Яркое весеннее утро вдруг словно померкло. Но по дороге к ней домой, пока мы ехали навстречу субботнему движению на улицах, старое доброе доверие между нами было восстановлено. Она прекрасно умела обуздывать мои настроения. А погрузившись в знакомый хаос ее квартиры, я совсем успокоился. Она возилась на кухне, что-то напевая про себя.
— Ты знаешь, что я Дева? — игриво спросила она, внося поднос с едой.
— Как это тебе удалось ею стать?
— Я имею в виду знак Зодиака.
— Неужели ты веришь в этот вздор? Я думал, ты достаточно образованна и рациональна.
— Все правильно. Но это еще не превращает меня в компьютер.
— Как можно быть такой неразумной?
— Я не просто Дева. Я родилась точно на девятый день девятого месяца, представляешь?
— Ну и что? — терпеливо спросил я. Так в подобной ситуации я говорил бы с Ильзой.
— Согласно древним поверьям, я отшельница.
— Не слишком далеко от истины, — согласился я.
— И пророчица.
— А это уже немножко чересчур, не находишь?
— Может быть. Но ведь никогда не знаешь…
В беспорядке на полке она сразу нашла нужную книгу. Я, разумеется, не запомнил дословно того, что она мне прочитала. В общих словах смысл всей нелепицы сводился к тому, что девять — это число отшельников-пророков, гонимых и презираемых и являющихся накануне великих бедствий. Эту фразу я запомнил. Накануне великих бедствий. Она чуть ли не с гордостью поставила книгу на место.
— Ну, что ты теперь скажешь?
— Пока это только игра, все достаточно безобидно.
— Нет, не безобидно. Напротив, крайне опасно.
— Почему бы тебе в таком случае не бросить все это?
— По той же причине, почему я люблю Диагональ-стрит. Ты знаешь, что с наступлением темноты ходить там небезопасно? Тебе в любой момент могут всадить нож в спину. Там даже на машине небезопасно.
— Надеюсь, ты не бываешь там с наступлением темноты?
— Да нет. Тебе нечего бояться.
* * *
Точно те же слова она сказала тогда утром после знакомства с Бернардом. Тебе нечего бояться.
Когда он вышел из ванной с полотенцем, обмотанным вокруг бедер, мы пили чай. Он на мгновение остановился. Лицо его было усталым и напряженным, как будто он совсем не спал. Но, увидев Беа, он невольно улыбнулся:
— Мисс Ливингстон, если не ошибаюсь?
Она тоже улыбнулась и сказала:
— Вы должны быть благодарны Мартину. Он спас вас от опасности похуже смерти. Если верить тетушке Ринни, я предназначалась вам, а не ему. По ее словам, так было задумано на небесах.
— Гм… — забавно нахмурясь, он поглядел на меня, потом снова на нее. — Ну ладно, — сказал он наконец с несколько преувеличенным оживлением, — поезд уже ушел. Я опоздал. — Он по-мальчишески улыбнулся. — Так или иначе, рад познакомиться.
— По-моему, тебе неплохо бы одеться, — холодно сказал я, заметив ее взгляд.
Он сразу же ушел к себе и через несколько минут вернулся одетый. Пробыл он с нами недолго, так как ему еще нужно было до начала судебного заседания потолковать с адвокатами.
— Пожалуй, я как-нибудь зайду в суд, — сказала Беа, когда он собрался уходить.
— Только предупредите заранее, чтобы я для вас постарался.
Оставшись одни, мы долго молчали.
— Вот видишь, — выдавил я наконец, — я же говорил, что он тебе понравится.
— Понравился слишком слабо сказано.
— Что ты имеешь в виду?
— Я уверена, что у него много могущественных врагов. И преданных друзей. Он не из тех, к кому можно относиться равнодушно.
— Это верно.
— И женщин у него, наверное, хоть отбавляй, — сказала она потупившись.
— Да, с тех пор как я его знаю.
— Не каких же это пор?
— Уже почти двадцать лет.
— Странно, как иногда складывается впечатление о человеке. Я часто читала о нем в газетах. Но представляла его совершенно другим.
— А каким?
— Не знаю, как объяснить, но, когда он смотрит на тебя, внутри что-то сжимается и ноги словно становятся ватными. Обычно у меня не бывает столь нелепой реакции на мужчин.
— Вот видишь, тебе в самом деле следовало вчера познакомиться с ним, а не со мной, — сказал я как можно спокойнее, но в голосе все же прозвучали резкие нотки.
— Почему ты так говоришь? — оскорбленно спросила она. — Ты что, считаешь…
— Многие женщины полагают за честь…
— Значит, из-за того, что я пошла с тобой… господи, да что же ты обо мне думаешь?
Почти с испугом я вспомнил, как эта женщина, спокойно сидящая теперь напротив меня в вязаном жакете, с темными очками на прямом носу, всего несколько часов назад взяла мою руку и положила себе на грудь. В ясном утреннем свете это казалось почти абсурдным.
— Ты не жалеешь о том, что случилось? — довольно натужно спросил я.
— Нет. Я никогда ни о чем не жалею. Что толку?
— Но ты предпочла бы, чтобы этого не было?
— Прекрати свои вопросы. К чему это вскрытие трупа?
Понимая, что разговор начал искриться опасностью, я взял ее за руку.
— Беа, мне важно знать это. Чтобы мы потом…
— Я же сказала тебе, что все кончено. Даже если ты и не желаешь в это поверить.
— Но я не хочу, чтобы все было кончено.
Пожав плечами, она отодвинула чашку.
— Отвези меня, пожалуйста, домой.
По дороге, пока мы маневрировали в оживленном потоке утреннего движения, она сказала:
— Почему нельзя, чтобы все было как в первый раз? Почему потом обязательно возникают сложности? Почему всегда нужно торопить события?
Сидя рядом с ней, я чувствовал — мысль постыдная, но зато верная, — что, если бы она иначе отреагировала на Бернарда, я, возможно, смирился бы с одной ночью. Не первый случай в моей жизни и не последний. Но теперь между нами был Бернард, он незримо присутствовал и угрожал мне. В эту ночь я замещал его. А какие новые узурпации ждали меня впереди?
— Когда я тебя увижу? — спросил я, остановившись возле ее дома.
— Оставь, Мартин!
— Или ты предпочитаешь увидеться с Бернардом? — обиженно сказал я, понимая детскую нелепость своего вопроса.
Она сняла очки, протерла стекла подолом юбки и посмотрела на меня большими темными глазами.
— Бернард стал бы для меня гибелью, — сказала она. — Тебе нечего бояться.
Странные слова, не правда ли? Тебе нечего бояться.
— Ты докажешь мне это?
— Я ничего не обещаю. — Она устало улыбнулась, надела очки, наклонилась и быстро поцеловала меня. — Спасибо, Мартин.
И прежде чем я успел выйти, чтобы открыть ей дверцу, она выскочила из машины и направилась к дому.
* * *
Нелепо продолжать настаивать на своем — нельзя переоценивать свои возможности. От постоянного напряжения головная боль стала почти невыносимой. И когда мы заправлялись у Аливала, я сказал Луи:
— Если хочешь, садись за руль.
Он удивленно и обрадованно поглядел на меня. Я передал ему ключи и достал из аптечки таблетки. «Держи ключи, — думал я, глядя мимо него, — но последнее слово все равно останется за мной. И не жди, что я стану хлопотать за Бернарда. И ты, и он — оба упустили свою возможность». Правда, и сама эта мысль была весьма сентиментальной.
6
Меня не покидало ощущение, словно что-то близится к завершению, будто сходятся концы с концами. Откинувшись на сиденье, я прикрыл глаза и слушал Ингрид Хеблер. За Блумфонтейном я достал круглую коробку из-под печенья, в которую мать положила нам провизию. Как обычно, всего было слишком много. Голубоватые яйца вкрутую, куски баранины, куриное ножки, бутерброды, сыр, термос со сладким черным кофе. Луи пожевал один бутерброд, аппетит у него был не лучше моего. Покончив с едой, я выкинул остатки пищи в окно. Луи покосился на меня («Соблюдайте чистоту!»), но промолчал. Меня не волновало его неодобрение. Я почувствовал облегчение, словно выбросил за борт балласт.
Столь многое осталось уже позади. Изнуряющая болезнь и смерть отца (генерал Вим Мейнхардт был наконец погребен). Отец с одолевающими его сомнениями, книжными полками и спрятанной старой указкой. Дядюшка Хенни, в руках которого пила становилась скрипкой, когда он работал с Фредди. Парикмахер с его гробами и непристойными картинками на стенах, большие ножницы, стригущие мои волосы. Мальчик, страстно молящий огня у небес. Алтарь, смытый ливнем. Мпило у грязной запруды. Угрюмый водоискатель и его потаенные источники. Белая палка, ходуном ходящая у него в руках. Старый черный колдун в лесу с узорчатой палочкой Момламбо. Мучительный воскресный вечер. Мать, сильными уверенными руками доящая корову, подойник между ног, пена, плещущая через край. Мать, успокаивающая черного младенца и принимающая больных в своей амбулатории. Мать Токозили, явившаяся в сумерках и с воплями восходящая на холм. Миссис Лоренс, лавка, Кэти, извивающаяся у меня в руках в сладко пахнущей полутьме. Навоз на ботинках. Все со временем теряет запах, выдыхается. Запах Марлен, Кэти, Греты, Элизы. А когда-нибудь и запах Беа? Вместе с запахом моря и перегноя под деревьями в Понто-де-Оуро. Все очищается, стерилизуется памятью — все гибко и подвластно. А любви не имею… Прости, дедушка. Не могу вспомнить ни единого слова. Ничего. И, обращаясь к истории, тоже ничего.
* * *
Прошло почти два месяца, прежде чем мы переспали снова. Будь на ее месте любая другая, я давно бы все бросил. Если долго не можешь добиться своего от женщины, связь становится нерентабельной, вложения слишком велики по сравнению с возможной прибылью. Но я был не в силах порвать с Беа. И не только из-за Бернарда, но и из-за нее самой. Я не выношу интеллектуалок. Но в Беа сам интеллект был обаятелен. Часто наши разговоры перерастали в горячие споры. Но даже и споры не разъединяли нас, а наоборот, как-то фатально сближали.
Время от времени мы вместе обедали, а затем прощались у ее дверей. («Нет, я не приглашаю тебя. Я знаю, что ты не кофе хочешь, а переспать со мной». — «Ну, а почему бы и нет?» — «Я не достаточно хорошо еще знаю тебя». — «В первую ночь это тебя не остановило», — «Потому что это была первая ночь».) Как-то раз она больше недели не подавала признаков жизни. У нее никто не подходил к телефону, а когда я заехал к ней, дверь была заперта. Я уже начал беспокоиться, как вдруг однажды днем она сама появилась у меня в конторе.
Я кинулся к ней.
— Беа, что случилось?
— Ничего, просто я была занята.
— Я не мог дозвониться.
— Ты слышал о наводнениях?
— Наводнениях?
Сквозь нагромождение статистических данных и прогнозов я попытался вспомнить газетные сообщения: страшный ливень к югу от города, разрушенные дома, люди, оставшиеся без крова, — обычные перечисления последствий стихийного бедствия.
— Я помогала там.
— А что ты делала?
— Сначала там царила такая неразбериха, что понадобились просто организаторы. Нужно было раздавать палатки, одеяла, пищу, медикаменты. Я ездила туда почти каждый день.
— Это не опасно?
— Не опаснее, чем в квартире в Жубер-парке.
— Беа, сейчас не время для шуток.
— Ты прав, не время. Все это очень серьезно. Может вспыхнуть эпидемия, нужны более решительные меры.
— Я дам тебе чек.
Она поглядела на меня, ничего не ответив.
— Ну, что опять не так?
— Я бы охотно предложила тебе подавиться твоим чеком. Но он пригодится. Так что, спасибо.
— Куда его послать?
— Можешь отдать мне. Или ты хочешь проделать это в присутствии прессы?
Я чуть было не вышел из себя. Но, сдержавшись, отдал соответствующие распоряжения. Когда я снова поглядел на нее, она, сгорбившись, стояла у окна.
— У тебя измученный вид. Хочешь чаю?
— Да, пожалуй. Я не спала три ночи.
— Почему ты не позвонила мне?
— Боялась, что ты дашь мне чек.
Я подошел к ней.
— Ты действительно меня не выносишь? — спросил я с горечью. — Ты презираешь все, что со мной связано?
— Да, — задумчиво ответила она… — Но это не значит, что я презираю тебя.
— Выходит, меня все же можно уважать?
— Вероятность невелика, но возможно. — Я увидел, как за стеклами блеснули ее глаза. — Ты всегда был таким?
— Каким?
— Ты знаешь, о чем я говорю.
— Беда в том, что ты неисправимо романтична.
— А ты фанатик-материалист.
Принесли чай. Она залпом выпила чашку и сразу же налила себе еще.
— Я отнюдь не фанатик-материалист, — возразил я. — Ты знаешь, что я люблю музыку, собираю картины, ежегодно жертвую тысячи всяким музеям, литературным конкурсам и еще бог знает чему.
Меня прервал бухгалтер, принесший чек.
— Спасибо, я подпишу потом.
— Ты что, шутишь или говоришь всерьез? — спросила Беа.
— С чего ты взяла, что я шучу?
— И ты действительно надеешься спасти мир таким путем?
— Не имею ни малейшей охоты спасать мир. Я предоставляю это тебе.
Налив себе третью чашку, она тихо сказала:
— У меня нет иллюзий на свой счет, Мартин. Я ничто. Я могу лишь распределять одеяла, пристраивать детей, находить жилье. И все. Но в твоем положении, Мартин, о господи, да ты можешь делать практически что угодно.
— А тебе не кажется, что я делаю достаточно? Конечно, не с таким шумом, как тебе хотелось бы. Но я улучшаю условия труда, повышаю заработную плату — в этом люди, видишь ли, действительно нуждаются. Я поднимаю их жизненный уровень. И это не имеет ничего общего с политикой.
— И сколько тебе понадобится времени, чтобы улучшить мир таким способом?
— Все всегда почему-то сводится к вопросу о времени. На самом же деле у нас ровно столько времени, сколько мы хотим отпустить себе. Только постепенные и последовательные преобразования позволяют надеяться на успех. А стоит поспешить, как неизбежно возникнет конфликтная ситуация, и тогда все пропало.
Она встала и взяла со стола чек. Чуть погодя посмотрела на меня.
— Знаешь, Мартин, что больше всего потрясло меня во время наводнения? Не мертвые, не раненые, не больные. Хотя все это само по себе ужасно. Но было и кое-что похуже. Например, молодой мужчина, с радостной улыбкой стоявший в толпе измученных и страдающих людей. Когда я спросила, чему он радуется, он сказал: «Мадам, я успел спасти свой пропуск».
— Он, вероятно, был в шоковом состоянии. Тут удивляться нечему.
— Нет, он был вполне нормален. Если бы его пропуск пропал, он стал бы ничем. Все, что он из себя представляет, — в этом документе. Его имя, номер, адрес, вся его жизнь. Без него ему некуда деться. Что можно сказать об обществе, для которого важен не человек, а его пропуск?
— Ты опять воспринимаешь все чересчур эмоционально.
— Каждый раз, когда тебе нечего возразить, ты говоришь, что я чересчур эмоциональна. И в этом тоже проявляется твое мужское превосходство.
— В наше время это стало пороком.
— Дело не во времени. Ты африканер, значит, всегда сознаешь свое мужское превосходство.
— Не вижу причинной связи.
— Очень жаль. — Она села напротив меня на край кресла. — Это ведь мужская страна. Охота, регби, промышленность, власть, политика, расизм. У африканеров для женщин нет места. Единственное, что ей остается, это ублажать большого босса, сколько бы он ни пожелал.
— Я тоже кажусь тебе таким?
Она встала и поцеловала меня в лоб.
— Ты, мой милый бур, вправе убедить меня в обратном. Не забудь подписать чек. Мы пришлем тебе расписку.
* * *
Многие наши беседы за эти месяцы развивались совершенно одинаково, словно мы дразнили или испытывали друг друга, все ближе подходя к тому, что было предопределено с самого начала. И все же поворот в наших отношениях произошел для меня неожиданно.
Вскоре после окончания суда над «террористами», когда Бернард уже вернулся в Кейптаун, она пришла ко мне в контору. На этот раз она просила меня найти работу двум молодым чернокожим, закончившим среднюю школу, с которыми она недавно познакомилась.
— У нас нет подходящих должностей для таких людей.
— Но ведь ты можешь создать такие должности, верно? Или по крайней мере обратиться к людям, которые могут помочь.
— Ну, если их интересует работа на шахте…
— Они учатся на вечернем отделении. Им нужна соответствующая работа. В разносчики газет они не пойдут.
— Я подумаю, что можно для них сделать.
— Ты должен найти что-нибудь сейчас же, пока я здесь. Я им обещала.
— Не слишком ли многого ты требуешь от меня?
— Я думала, ты влиятельный человек, — она снова дразнила меня. — Или все твое влияние уходит на затаскивание баб в постель?
Я подхватил ее шутливый тон:
— Боюсь, в последнее время я разучился с ними обращаться.
— Бедняжка. Ты уже был у врача?
— Да. Он сказал, что есть только одно средство. Переспать с полувенгеркой-полуамериканкой итало-германского происхождения. Но такую не просто найти. Ты никого не можешь мне порекомендовать?
— Надо будет поспрашивать. А как насчет этих парней?
— Знаешь ли, — обиженно сказал я, — при каждом удобном случае ты называешь меня поганым буром и расистской свиньей. Но стоит мне понадобиться, ты мной не брезгуешь.
— Не то чтобы не брезгую, — сказала она, все еще поддразнивая меня, — я просто даю тебе возможность стать лучше.
— Спасибо огромное. А в благодарность я должен найти работу для этих типов.
— Я уверена, что ты это сделаешь. Заранее спасибо, Мартин.
Она поднялась, собираясь уйти.
— Погоди немного, — сказал я.
— Ты собираешься сначала переспать со мной на кушетке?
— А как насчет стола? Тогда мне не придется прерывать работу. Я смогу читать через твое плечо. Послушай, Беа, мне нужно обсудить с тобой кое-что поважнее этих парней.
— Что же?
— У меня есть для тебя работа.
— Какая?
— Я думаю нанять юрисконсульта, а ему понадобится помощник. Это очень ответственный пост.
Она некоторое время изучающе смотрела на меня, потом спросила:
— А при чем здесь я?
— Я знаю, что ты хочешь работать. И ты превосходно справишься.
— Думаешь, став моим боссом, ты скорее добьешься своего?
— Одно с другим совершенно не связано.
— Не обманывай себя. И ради бога, оставь свои попытки захватить меня. Вы, африканеры, во всем империалисты. Вам всегда нужно быть хозяевами, даже в любви.
(Чарли однажды выразился куда грубее: «По сути, ваша философия, Мартин, крайне проста: то, чего мне не заполучить и не купить, я пошлю к чертовой матери или разнесу ко всем чертям».)
— Ты не желаешь понять, что я просто хочу помочь тебе.
— Я приму эту должность при одном условии, — сказала она неожиданно.
— При каком?
— Что с настоящей минуты наши отношения переходят на чисто деловую основу.
— Но ты…
— Я многому научилась у своего профессора. — Подойдя ближе, она погладила меня по щеке. — Мне очень жаль, Мартин. Но ты сам понимаешь, что я не могу согласиться.
Это предложение было задумано как решающий удар. Теперь же я стоял совершенно обескураженный, глядя на нее растерянно и смущенно. Она пошла к двери. Уже взявшись за ручку, она обернулась, чтобы попрощаться.
— А как насчет того, чтобы поужинать сегодня? — неуверенно спросил я.
— Отказать.
Больше я ничего не ждал. Я снова сел за стол.
— У меня есть другое предложение, — сказала она мне в спину.
— Какое? — спросил я не оборачиваясь.
— Ты не поедешь после работы к себе на квартиру?
— Нет, не собирался. — Я посмотрел на нее. — А что?
— Да так, я просто подумала, что окажись ты там, я, вероятно, зашла бы и провела с тобой ночь.
И прежде чем, я успел ответить, она вышла и закрыла за собой дверь.
За Блумфонтейном у развилки Луи сбавил скорость.
— Поедем через Винбург? — спросил он.
Этой дорогой я обычно ездил на ферму, по ней поехал бы и два дня назад, не сверни случайно к Вестонарии. Но сейчас у меня не было сомнений.
— Нет, поедем тем же путем, что и сюда.
Само по себе это ничего не значило, но почему-то казалось важным решением. Не поверил ли я в какие-то тайные силы, как Беа в свою астрологию? Какой вздор! Смеркалось, впереди был Брандфорт, где мы останавливались, чтобы смыть комаров с ветрового стекла, и где на пыльной мостовой скакала девчушка; и где-то впереди мы неизбежно должны были натолкнуться на самих себя. Место встречи не могло быть слишком далеко И что тогда? Наступит момент прозрения или светопреставление? Ни то, ни другое. Я не был столь наивен. И все же почему-то не поехал другой дорогой. Я решил ехать навстречу тому, что меня ожидало, ни от чего не отказываясь и не уклоняясь, ничего не избегая.
(Думал ли я так в самом деле по пути домой или просто проецирую на прошлое мои нынешние мысли? Не знаю. Вся история постепенно становится вымыслом, и ничем иным. История, суженная до границ исторической прозы. И давно уже не документальная. И все же она кажется мне теперь более достоверной, нежели раньше. Остается только довести ее до конца.)
* * *
— Вчера я познакомилась с одним из твоих служащих, — заметила Беа как бы невзначай. — С Чарли Мофокенгом. Очень интересный человек.
— Что же в нем интересного?
— Так далеко пойти, начав с самых низов. Учеба за границей и все прочее.
— Я прошел тот же путь.
— Да, но все преимущества были на твоей стороне. А Чарли черный.
— Зато на его стороне был Бернард.
— Он очень помог мне в Соуэто, — сказала она, не ответив на мое замечание. — Он там как рыба в воде. Тебе бы стоило как-нибудь поехать туда с нами.
— Нет уж, спасибо. Не имею ни малейшего желания.
(Я и не знал, что против меня что-то замышляется.)
— Чарли столько о тебе рассказывал.
— Могу себе представить. Мы все время ссоримся.
— А мне показалось, что он испытывает к тебе почти отеческие чувства.
— Отеческие? — Я невольно рассмеялся, — Ко мне?
— Да. Он считает, что тебе предстоит еще многому научиться. И в этом я с ним согласна.
— А как это ты с ним повстречалась?
— Я все время встречаю новых людей.
Мне было неприятно, что они познакомились. Возможно, в этом замешан Бернард. Но Беа не захотела ничего объяснять. Когда спустя несколько дней я стал расспрашивать Чарли, он отвечал столь же уклончиво. Я едва сдержался, чтобы не нагрубить ему.
— Предупреждаю вас, Чарли, не пытайтесь влиять на Беа. Вы сами не понимаете, что делаете.
— Беа в состоянии решать все сама.
— Но она склонна к излишним эмоциям и чрезмерным реакциям.
— Слава богу, что есть еще люди, способные так реагировать, — вырвалось у него. — Посмотрите, какой бардак творится в стране только потому, что всем на все наплевать.
— Я не несу ответственность за то, что творится во всей стране.
— Разумеется, вы несете ответственность. Вы и любой белый.
— Вы несправедливы, Чарли. Я, так же как и вы, лишь унаследовал определенный порядок вещей. Нельзя же упрекать человека за то, что делали его предки.
— Я упрекаю вас не за это. А за то, что история вас ничему не научила.
— История научила меня, как выжить в этой стране.
— Вы полагаете? История научила вас никому не Доверять, вот и все. — (И так далее.)
— Это вопрос выживания, Чарли. Я не собираюсь защищать методы. Но что еще было делать моему народу, если он хотел выжить?
— Вы ждете, чтобы я признал ваше право на выживание за счет других?
— Вы, как всегда, все чересчур обобщаете.
— Господи, Мартин, ваш народ был первопроходцем. Я уважаю его за это. Но потом вы оказались не в силах отказаться от завоевательской психологии, вот в чем загвоздка.
— Что именно вы столь гневно называете «завоевательской психологией»?
— Ваш тотальный инстинкт самосохранения. О боже, даже от самих этих слов у меня в заду свербит. Вы выживаете, уничтожая мой народ.
— Но ведь положение все время улучшается. Взгляните на самого себя: еще десять лет назад вы не могли бы занимать тот пост, что занимаете сейчас.
— Ну и что? — Он поглядел на меня сквозь толстые стекла очков. — Знаете, когда я сегодня ехал на работу по Зауер-стрит, рядом со мной остановился полицейский фургон. «Черномазый, покажи пропуск». Я молча дал ему пропуск. Я не разговариваю с людьми, которые не читают ничего, кроме похабных надписей на стенах. Он поглядел мой пропуск, а потом швырнул его на мостовую. «Поднимай», — сказал он смеясь, — Чарли непроизвольно сунул руку в нагрудный карман, словно хотел проверить, на месте ли пропуск. — И какой толк мне от моей должности, о которой вы говорите? Для этого я надрывался и здесь, и в Лондоне? Для этого я сюда вернулся? Извините, дружище, я уже говорил вам и повторю снова: в моем пропуске Сизиф — понятие не метафизическое, а социальное. И в моей бездне мне грозит не самоубийство, а убийство. Вот так-то.
зулусы, силы тьмы грозят нам с наших границ. Вновь встает вопрос о нашем будущем. Но как и в тот великий день, когда господь предал врагов наших в руки наших отцов, он укажет нам путь к спасению».
Она потребовала, чтобы после окончания церемонии мы осмотрели весь мемориал сверху донизу: мраморные фризы, гобелены, гранитные саркофаги — Мы за тебя. Южная Африка! — бесконечные ступени в пустые глубины этого мрачного сооружения.
— Боюсь что-нибудь упустить, — сказала она со злой усмешкой, упрямо сжав губы. — Это ведь святая святых вашего африканерства. Может быть, это поможет мне лучше понять вас. — И когда мы наконец вышли, тихо добавила: — Знаешь, наверно, ад похож на этот монумент, и там такие же празднества.
— Ну, а Беатриче, конечно, попадет в рай, — раздраженно ответил я, — Ладно, куда мы теперь? Домой?
— Нет, сперва в зоопарк. В другой, в настоящий.
Там она веселилась как ребенок, переходя от клетки к клетке и подолгу простаивая у каждой. Ела мороженое и даже кукурузные хлопья. Дразнила ворон, корчила рожи обезьянам, искрясь тем же радостным оживлением, что и тогда на Диагональ-стрит.
— Хорошо бы жить неподалеку отсюда, — порывисто сказала она, когда мы вышли из зоопарка. — Слышать по ночам львов и гиен. Чтобы помнить, что живешь в Африке.
— У тебя представление об Африке столетней давности. Не забывай о небоскребах Найроби, Лусаки и Лагоса.
— Я не забываю. Но и про львов тоже не хочу забывать. — И, садясь в машину, сказала: — И про Соуэто тоже. Я снова ездила туда вчера.
— Зачем?
— Чарли хотел познакомить меня с одним журналистом.
— Мне не нравится твоя внезапная дружба с Чарли.
— Бернард не ошибается в людях.
Я поглядел на нее.
— Значит, тебя с ним познакомил Бернард?
— Конечно.
— Ты не сказала мне, когда я тебя спрашивал.
— Разве? Не помню. Какая разница?
Ее слова приобрели новый смысл, когда той же ночью мне позвонил Чарли и сообщил, что Бернард арестован.
* * *
Вспоминая об этом на обратном пути в Йоханнесбург, я вдруг понял, что пора повнимательней присмотреться к Чарли. Я принял его когда-то по рекомендации Бернарда. Конечно, на меня сильно повлияло то, что он напомнил мне Велкома. Я держал его потому, что он оказался отличным работником, и потому, что, несмотря на все наши споры, он мне нравился. Но теперь я больше не мог доверять ему. Нужно было разобраться, для чего Бернард привел его ко мне. Только для того, чтобы подыскать работу другу детства? Или подлинные причины лежали глубже? Случайно ли Чарли первым услышал об аресте Бернарда? Да, конечно, он все объяснил: ему сказал журналист, — а я знал, что у него полно приятелей повсюду. Но после того, что случилось с Бернардом, Чарли стал для меня опасен. Отпечаток Бернарда лежал на всех, кто был связан с ним.
Может быть, и следовало дать Чарли еще один шанс, несмотря на его сомнительное поведение в Вестонарии. Но его дружба с Беа еще более осложняла дело. Долгие годы моя способность к выживанию основывалась на умении держать порознь отдельные стороны моей жизни. Чарли, Бернард, Элиза, Беа, родители, работа, даже Луи. Теперь становилось все ясней, что между ними возникли зыбкие, но очевидные связи, угрожающие мне. У меня была ответственная работа, у меня была семья, благодаря многолетнему точному расчету и жестокой борьбе я достиг определенного положения в обществе. И я не имел права рисковать всем этим.
Извини, Чарли, подумал я. Мне в самом деле очень жаль. Но вернувшись завтра в контору, я вызову тебя и объявлю о твоем увольнении. Можешь не беспокоиться, ты получишь соответствующую компенсацию. Надеюсь, ты поймешь, что у меня не было другого выхода. Ты сам заставил меня принять это решение.
7
Легкая морось покрыла ветровое стекло сверкающей дрожащей сетью капель. Тучи, весь день плывшие по небу беспокойными массами, стянулись в единую пелену, закрывшую блеклый ландшафт. Положение было угрожающим. А дворники неисправны! Что, если дождь хлынет вовсю? Луи включил фары. И пока я мрачно раздумывал о возможных затруднениях, он неожиданно протянул руку и включил дворники. К моему удивлению, они тут же размеренно заскользили по стеклу.
Луи взглянул на меня и, удовлетворенно улыбнувшись, пояснил:
— Я починил их в субботу, когда мыл машину. Просто связь барахлила.
Я одновременно ощутил и облегчение, и какое-то унижение. Словно он взял все в свои руки. Куда решительнее, чем я, когда разрешил ему сесть за руль «мерседеса». Куда более уверенно. Пора было действовать, пока мой авторитет еще не окончательно подорван. Ему следует предъявить ультиматум. Как только мы вернемся домой. Завтра же. Пусть принимается наконец за дело или пусть катится ко всем чертям. Пока еще решаю я. Я поступлю так, как сочту необходимым. Чего бы это ни стоило. (Я представил себе реакцию Элизы.) Надо быть готовым к любым жертвам.
Дождь лил все сильнее, но дворники работали нормально. Надвигалось что-то более грозное, чем обычный ливень. Трава, едва различимая в темноте, металась под яростным ветром. Но «мерседес» был по-прежнему послушен и надежен. Хотя и не абсолютно надежен, если вспомнить случившееся в пятницу. Но пока мы продвигались вперед уверенно и спокойно.
В ту ночь, когда на Диагональ-стрит в мою машину сел Бернард, тоже шел неприятный мелкий дождь. Прихрамывающая старуха на темной улице возле лавки шамана, затем заброшенная дорога на шахту, дворники, скользящие по стеклу, мучительный разговор.
В ту ночь мне позвонила Беа. Она знала о Бернарде. По-видимому, они встречались. На следующий день после его встречи с Луи.
Она не ходила в суд. («Что мне там делать? Ему нельзя помочь. А просто ходить и смотреть на него — значит превратиться в зеваку. Я так не могу».)
Как он ухитрялся общаться с ней, находясь в подполье? Почему он выбрал именно ее? Что заставило его подвергать ее жизнь такой опасности? Господи, неужели он не ведал, что творил?
Я спросил ее об этом сразу же после его ареста. Но она была слишком потрясена и отказалась обсуждать со мной это.
— Какая разница, Мартин. Важно только, что его арестовали. Почему ты не помог ему?
— Это было невозможно. Тут нечего обсуждать. Прислушайся к голосу разума.
— Тогда нет смысла к этому возвращаться.
— Но я не понимаю, почему он обратился к тебе? А если за ним следили? Как он смел подвергать тебя такой опасности? Так с друзьями не поступают.
— Почему ты считаешь, что меня втягивали во что-то помимо воли? Неужели я отказалась бы от возможности повидаться с ним?
— Но он должен знать, что на тебя очень легко повлиять.
— Сомнительный комплимент.
— Но ты не можешь отрицать этого.
— Я никогда ни во что не бросалась сослепу.
— Даже в историю с профессором? — грубо сказал я.
— Конечно. — Я не мог разглядеть ее глаз за стеклами очков. — Или ты думаешь, что я не понимала, что делаю?
— Послушай, Беа…
— Единственное, что сейчас имеет значение, — это арест Бернарда, — резко оборвала она меня. — Надо подумать, что мы можем сделать для него.
Таковы были почти все наши разговоры в тот период. Порой мне хотелось избить ее, чтобы выдавить из нее правду. Но я слишком хорошо знал, что она не станет говорить о том, что считает не касающимся меня или слишком личным. А может быть, я и сам боялся узнать правду. Так же как после смерти отца никогда не решался вернуться к разговору о разводе. Мне не хотелось давить на пресс слишком сильно. Раньше или позже все само выплывет наружу. Лучше позже. Потому что я знал, что такой разговор станет последним. А к этому я был еще не готов.
К тому же мне предстояла деловая поездка в Штаты, а потом в Бразилию. Но и в нашем временном расставании мне чудились нервирующие меня финальные нотки. Так что я предпочитал пока ничего не менять в шатком балансе наших отношений.
На следующий день после возвращения домой я позвонил ей. Но она была крайне занята работой в университете и преподаванием в школе в Соуэто. Даже по вечерам, сказала она, работает допоздна. Мне стало обидно, что она не пожелала уделить мне хотя бы один вечер, но я знал, что она никогда бы не позволила чему-то, даже любви, помешать ее работе. Так что мне следовало подождать до пятницы, когда она будет свободна весь день. Мы договорились встретиться на «нашем» месте у Дуллаб-Корнер.
В то утро я чувствовал себя не особенно хорошо. Я решил, что подцепил какую-то хворь в Бразилии. Тошнота и боль в груди. Если бы не столь долгая разлука, я бы отменил свидание. Но я ощущал до странности сильную потребность увидеться с нею. В Нью-Йорке у меня была короткая интрижка с американкой, секретаршей нашей конференции. Она же сопровождала меня и в Бразилию. Но то была обычная короткая связь, приятная и утомительная одновременно. Этакая нимфоманочка, от которой моя тоска по Беа только возрастала.
Я привез Беа тщательно выбранный подарок, драгоценность, купленную в одном из самых дорогих магазинов Рио: там вооруженный стражник проводит вас в комнату и решетки на окнах опускаются, перед тем как выкладывается товар.
Мы встретились у развалин, где прежде стояло здание. Чтобы отвлечь Беа, я повез ее в загородный ресторан. Подарку она не особенно обрадовалась, у меня даже возникло странное подозрение, что она приняла его чуть ли не с обидой. Хотя я по-прежнему чувствовал себя неважно, я все же как мог старался развеселить ее рассказами о Рио и Нью-Йорке. Последнее оказалось не совсем удачным, так как вызвало в ней мрачные воспоминания о детстве в Штатах и злополучном возвращении туда после года в Перудже (и еще одной неудачной связи с французским кинопродюсером.)
На обратном пути в город у нас обоих было прескверное настроение.
— Может быть, ты хочешь поехать домой? — спросил я.
Она взглянула на меня почти с отчаянием.
— Нет, нет, не надо. Я хочу быть с тобой.
Когда мы вернулись ко мне, в мою спокойную, комфортабельную квартиру, я обнял ее и спросил:
— Ты уверена, что тебя так огорчили именно эти развалины? — Она покачала головой, но ничего не ответила. Как обычно, я снял ее очки и отложил их в сторону.
— Ну ладно. Дай на тебя посмотреть.
— А на что тут смотреть?
— Мне хотелось бы заглянуть тебе в душу.
— Ты не нашел бы там никакой тайны.
— Ты уверена?
— Думаю, да.
Она порывисто вырвалась и направилась в ванную, потом прошла в спальню и принялась расчесывать волосы у большого зеркала, что делала всегда, когда хотела сохранить самообладание.
— Я не видел тебя целую вечность, — сказал я, войдя вслед за нею в спальню.
— Если бы ты не уезжал…
Я лег на постель. Склонив голову, она продолжала медленно и ритмично расчесывать короткие темные волосы.
— Мне не хватало тебя, — сказала она. — Ты мне был очень нужен.
— Почему?
— Из-за Бернарда.
— А что, какие-нибудь новости?
— Нет, одни предположения. Протесты и все такое. Министр предупредил, что сумеет заткнуть рты.
— А теперь?
— Остается только ждать. — Она перестала расчесывать волосы, но еще держала щетку в руке. В зеркале я видел ее лицо. — Все катится к чертям. Каждый день что-то новое.
— Ты опять о Дуллаб-Корнер?
— Да. И о многом другом. Люди словно лишились рассудка. Какая-то всеобщая страсть к разрушению. И никто не знает, ради чего. Кого бог хочет покарать…
— Не будь такой пессимисткой.
— Но разве так может продолжаться? Скоро ничего не останется. Пустая дыра, и все.
— Они не только разрушают, но и строят.
— Просто латают дыры.
Двумя рывками она задернула шторы, словно свет причинял ей боль. Она по-прежнему была в сильном смятении. Не глядя на меня, она расстегнула сзади молнию и сняла платье. Не подвластная времени грациозность, с которой женщины снимают платье, сбрасывают туфли, спускают чулки. Она глубоко дышала, скорее от напряжения, чем от желания, — правда, оба эти чувства так связаны. И снова меня тронула ее беззащитность.
— Мне хотелось бы, чтобы ты ударил меня, — неожиданно сказала она, лежа в моих объятиях. — Чтобы хоть как-то отвлечь. Даже боль лучше, чем такое состояние.
Я чувствовал, как постепенно нарастает давление у меня в груди. Я предпочел бы просто лежать и обнимать ее. Пытаясь успокоить ее, я продолжал говорить и ощущал странное напряжение в ее прижавшемся ко мне теле.
— Тебе было одиноко? — спросил я.
— Да. Не знаю, в чем дело, но я впервые в жизни почувствовала, что не справляюсь сама с собой. Не понимаю, что со мной творится.
— Из-за Бернарда?
— Не надо о нем сейчас.
— Значит, все-таки из-за него?
Мои ласки стали более настойчивыми.
— Ты ведь тоже был потрясен этим.
— Ты часто виделась с ним? — шепнул я ей на ухо. — До того как его арестовали?
— Мы были друзьями. Ты знал об этом.
— А когда он скрывался?
— Не надо, Мартин, не спрашивай об этом.
— Беа, а вы с Бернардом когда-нибудь… — Я запнулся и замолчал.
— Если я скажу «нет», ты ведь все равно не поверишь.
— Я должен знать.
Она повернулась ко мне. Я чувствовал ее теплое дыхание на своей щеке.
— Не ты ли всегда говорил, что разные стороны жизни нужно держать порознь? Помнишь, когда я заговорила с тобой об Элизе? А почему мне это не позволено?
— Ты пытаешься скрыть что-то от меня.
— Ради бога, оставь свои ненужные вопросы. Не рушь того, что у нас есть.
— Ты была влюблена в Бернарда. Ты была влюблена в него с первой же встречи. Так?
— Я люблю тебя, Мартин. Правда. Я люблю тебя.
Она страстно прижалась ко мне. Я тоже забыл обо всем. Мне хотелось овладеть ею, потеряться в ней, никогда не возвращаться к себе. Может быть, я пытался сокрушить вовсе не ее, а нечто не достижимое в ней и вне ее? Бернарда? Самого себя? Я отчаянно прорывался к чему-то ускользавшему от меня. Я чувствовал ту же необъяснимую панику, которая потом охватила меня в лесу после встречи со стариком. Столь же бессмысленную и столь же дикую. Вдруг я потерял контроль над собой и затрясся. Как будто что-то хрустнуло во мне. Судорожно глотая воздух, я согнулся пополам. Спазмы невыносимой боли… Мне казалось, что я умираю. Затем я потерял сознание.
* * *
Не знаю, как ей удалось отстранить меня. Не знаю, как она вызвала «скорую», чтобы доставить меня в больницу, как догадалась связаться с Чарли, чтобы он известил Элизу. Не знаю, как и когда она забрала свою машину с Дуллаб-Корнер. Потом я узнал, что был близок к смерти и весь день пребывал в коматозном состоянии.
Когда ко мне начали пускать посетителей, она зашла в больницу, но пробыла очень недолго, в ней чувствовалась какая-то растерянность и отчужденность. В контору я смог вернуться только через шесть недель. Потом, конечно, мы стали встречаться довольно регулярно. Но я не мог говорить с ней о том дне или о чем-нибудь связанном с ним. Это было странное чувство. Словно мы снова издалека смотрели друг на друга и нас постепенно разносило в разные стороны. Как на вечеринке у тетушки Ринни. Все было слишком сложно и запутанно. Нам следовало быть осторожными друг с другом. И тогда, возможно…
А потом был суд. И волнения в Вестонарии. И наша попытка провести вместе уикенд: только вдвоем, как в те незапамятные времена в Понто-де-Оуро. Но дела с фермой заставили меня отказаться от встречи. Разумеется, только на время.
— Мне очень жаль, Беа, ты же знаешь, как я ждал этого уикенда. Но мы можем встретиться на следующей неделе. Когда угодно. Мы же ничем не связаны.
— Да, конечно.
— Ну пожалуйста, Беа, поверь мне.
— Я же сказала, что это не важно.
— Но я слышу, ты расстроена. Что-нибудь случилось?
Она помолчала, прежде чем ответить.
— Мне нужно кое-что с тобой обсудить… Не по телефону.
— Мы увидимся во вторник.
— Да, конечно. Тут просто… мне казалось, что это срочно… Но разумеется, это может подождать. Все может подождать.
— Береги себя. Я ведь уезжаю всего на несколько дней.
И ее неожиданный порыв:
— Мартин, ты действительно никак не можешь отложить поездку? Мне необходимо увидеться с тобой.
— Я же сказал тебе.
— Ну да… конечно… все понятно.
И затем горькое сдавленное «о боже», прежде чем она повесила трубку.
8
Вскоре после переезда через Вааль, сразу за Оркни на темной дороге к Почефструму я включил радио, чтобы прослушать вечерние последние известия. Уикенд кончился. Примерно через час мы проедем мимо Вестонарии. Пора узнать, что случилось в мире за время моего отсутствия. Но я оказался не готов к содержанию этой роковой передачи.
«Беспрецедентные вспышки волнений в Соуэто и других черных пригородах Йоханнесбурга. Причины волнений пока еще не установлены. Согласно сообщениям наших корреспондентов, большие группы школьников вышли сегодня утром на демонстрации протеста. Их действия могли быть вызваны различными причинами, в том числе и тем, что им предписано изучать ряд предметов на африкаанс. Положение вскоре стало чрезвычайно серьезным, в Соуэто были стянуты полицейские соединения из других частей города, а также из Претории. Школьники забросали полицейские машины камнями, несколько машин были подожжены. Полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы пресечь волнения и положить конец беспорядкам. Число жертв еще не установлено. Известно лишь, что в морги города доставлено множество трупов, главным образом детей. Согласно сообщениям из больницы Барагванатх, она переполнена ранеными чернокожими».
Совершенно подавленный, я молча слушал комментатора. Повернувшись к Луи, я увидел, что он горящим взором смотрит прямо перед собой в темноту. Дворники ходили взад и вперед, но теперь это уже почти не помогало, потоки дождя заливали ветровое стекло. Лишь спустя некоторое время я снова стал понимать слова диктора.
«…полиция устроила облавы во всех крупных городах страны. Еще не известно, сколько людей задержано по обвинению в нарушении закона. Среди имен, ставших известными службе радиовещания, следующие: в Йоханнесбурге — Исаак Джозеф Катцен, студент университета Витватерсранда; Генри Дадли Джонсон, фоторепортер «Стар»; Битрис Фьорини, младший преподаватель юридического факультета; Бастер Нкосана…»
Я не сразу связал с ней имя, произнесенное диктором на английский манер, что всегда раздражало ее, ибо касалось чего-то скрытого глубоко в душе. Но теперь это уже не имело значения.
Я всегда надеялся, что она нуждается во мне, что я смогу помочь ей, смогу защитить ее. Но она желала остаться независимой и самостоятельной. То, в чем она действительно нуждалась, дал ей не я, а Бернард. В этом для меня не было больше никаких сомнений. Они не арестовали бы ее, не имея на то серьезных оснований. Теперь и она попала в водоворот, вызванный его безответственными действиями.
Рядом со мной сидел Лун В отношении него у меня не было никакой уверенности Я мог только подозревать и догадываться.
(Когда они заставляют замолчать такого, как Бернард, на его место приходят десятки других.)
Но все, что касается Беа, было совершенно ясно. Она уже сделала свой выбор. И какова бы ни была цена этого выбора, я уважал его. И я был не в силах ни изменить его, ни помочь ей. Да и не имел права. (Понто-де-Оуро: И когда я буду отчаянно нуждаться в тебе… Нет, нет, не то. Дело было совсем в другом.) Если станет известно, что я хоть как-то был с ней связан, я окажусь под угрозой. Я просто не имею права рисковать. Это конец всему. Нечто вроде приговора о пожизненном заключении.
Если бы только знать, что же именно она хотела обсудить со мной во время нашего последнего телефонного разговора. Но мы были обречены на вечную незавершенность.
9
Когда старые, с позолотой шторы гостиничного номера задернуты, о дожде не думаешь. Но стоит мне оторваться от работы и подойти к окну, я вновь вижу город, лежащий передо мной в густой серой мгле, грязный и туманный, словно я смотрю на него без очков. В номере чувствуешь себя защищенным от мира, изолированным от него. Но это тоже иллюзия. Я ни от чего не защищен. Все, что я вернул к жизни в своих записках, снова обступило меня и угрожает мне. Это не стало ни интеллектуальным упражнением, ни духовным массажем. Ничуть не бывало. Все границы размыты, все разграничительные линии стерты.
Я закончил писать. Или почти закончил. Но я ни от чего не освободился.
Все по-прежнему остается незавершенным и незавершимым, как сцена в полутемной комнате: мужчина и женщина, готовые коснуться друг друга. Но не коснувшиеся, потому что вошел я.
Быть может, кто-то скажет злорадно: столько жизней погублено. Страна загублена. Чепуха.
В наше время понятие светопреставления не включает действительного разрушения и гибели. Все куда тоньше. У нас есть Соуэто, у нас есть Монумент Пионерам, есть мрачные чащи на фермах между холмов, но считается, что у нас больше нет ада.
Я выстою. Выживу. Но я потерял всех, кто мог бы помочь мне. Мать, отца, Тео, Элизу, Луи, который после предъявленного ультиматума ушел из дому, оставив нас с уверенностью о неизбежном звонке однажды ночью, Чарли, Беа. И распорядителя нашими судьбами, Бернарда.
Я всегда пытался держать разные стороны своей жизни порознь. Но теперь все смешалось и слилось воедино, словно потоки дождя, образующие ручейки, лужи и пруды. Пруды, поросшие чудовищными лилиями, ежедневно удваивающимися в размере. Запруды, в которых можно захлебнуться и утонуть. И не будет руки, ни белой, ни черной, которая протянулась бы спасти тебя. Или человек неизбежно становится жертвой собственных парадоксов? Я всегда действовал с лучшими намерениями. Я старался быть верным самому факту своего пребывания на земле и необходимости выжить. Или одного этого недостаточно?
* * *
В ту ночь, когда мы возвращались домой с фермы, тоже лил дождь. Он усиливался с каждой минутой. Что будет, если из-за ничтожной неисправности выключатся фары или заглохнет мотор? Все было непредсказуемо. На каждом метре дороги на нас обрушивался настоящий потоп. Ожидание дождя, растянувшееся на месяцы и годы, внезапно оправдалось.
Неустанно лил он с темных небес. В тупом оцепенении я вдруг решил, что дождь уже никогда не кончится. Но теперь мне было все равно. Пусть льет, думал я, пусть хлещет все сильней и сильней, пускай смоет почву, опрокинет деревья, обрушит скалы, пусть земля станет хлябью и потечет вниз по холмам бесконечным потоком красная вода, словно крик самой земли, словно сама земля захлебнулась кровавым криком: Nkosi sikelel’ iAfrika!
Сухой белый сезон
Сухой белый сезон почерневшие листья, краткий жизни миг исчерпав, тихо ложатся на землю; бескровна их смерть. В эту пору, брат в сухой белый сезон лишь деревья стоят несогбенно в черной проволоке веток, онемевшие в боли своей. Сухой, сухой белый сезон. Но сезоны приходят, чтобы уйти. Монгане Вэлли СеротеA Dry White Season
W. H. Allen. London
1979
Перевод A. Клышко
Редактор A. Файнгар
Алте, которая помогла мне выжить в сухой белый сезон
В этой книге ничего не вымышлено. Атмосфера, история и стечение обстоятельств, на которых она построена. — это Южная Африка наших с вами дней. Другое дело, что определенные события и персонажи подверглись переосмыслению в тексте повествования. Что ж, с этой точки зрения они не более, чем авторская фантазия. Но ведь важны не частности, что лежат на поверхности действительности, а стимулы и отношения, от поверхностного взгляда сокрытые. С точки же зрения частностей всякое сходство персонажей и ситуаций этой книги с людьми и обстоятельствами в реальной жизни остается чисто случайным.
Человек как человек, ничего особенного. По крайней мере до всей этой истории я воспринимал его именно так. Тихий, скромный. Из тех заурядных лиц, которых однокурсники по университету потом вообще с трудом припоминают, бросая при этом непременное: «Погоди-ка, Вен Дютуа? А, ну как же, хороший парень. А что с ним такое приключилось?» При этом никому не приходит в голову, что с этим ничем не примечательным человеком вообще что-нибудь может в жизни случиться.
Хотя бы поэтому я должен написать о нем. Ведь уж кто другой, а я пребывал в уверенности, что знаю его предостаточно. И тем горше было вдруг осознать, что ничего-то я не знаю. Ровным счетом ничего. Слишком сентиментально? Увы, я посвятил полжизни сочинению небылиц в духе чувствительных историй любви с опереточными страстями, и не так-то легко перестроиться на тягостные будни жизни. И еще, смерть этого человека перевернула все мои представления об условиях человеческого существования. Подвергла сомнению все, что я знал.
Всего-то и сообщения было несколько слов репортера на последней полосе вечерней газеты в третьей колонке об учителе из Йоханнесбурга, погибшем под колесами автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия…г-н Бен Дютуа, 53 лет, был сбит автомашиной вчера около одиннадцати часов вечера по пути на почту, куда он направлялся опустить письма. Покойный оставил после себя неутешную вдову Сюзан Дютуа, двух дочерей и несовершеннолетнего сына… Ну и все в таком духе.
Ровно столько, чтобы читатель пожал плечами, либо покачал головой. Но я-то к тому времени был завален его бумагами, посыпавшимися на меня вслед за письмом, полученным в то памятное утро, через неделю после его похорон. Так я и увяз с головой в неурядицах чужой жизни, наваленных мне на письменный стол: в его дневниках, записях, в бессвязных порой заметках, в старых счетах, оплаченных и давно просроченных, в фотографиях, — во всем этом, без разбору, казалось, собранном в кучу и зачем-то посланном мне почтовым отправлением. В студенческую пору, помнится, вот так же щедро он дарил меня сюжетами для рассказов, которые я печатал потом в журналах, а он взимал свои десять оговоренных процентов с гонорара. У него было чутье, что ли, на такого рода вещи, ну на то, что пойдет. Хотя сам он ни разу не пытался напечатать хоть строчку. Что это было — безразличие или, как это Сюзан сформулировала однажды, отсутствие честолюбия? А может, мы с ней не поняли в нем самого главного?
Пытаюсь поставить себя на его место: почему он избрал меня своим поверенным? Но тогда и вовсе все становится непостижимым. Почему меня? Если это не было, разумеется, поступком вконец отчаявшегося человека. Конечно же, не потому, что в университетские годы мы делили с ним комнату в общежитии — это нас ничуть не сблизило. Другом в обычном понимании я мог назвать кого угодно, только не Бена Дютуа. Да он, казалось, вообще не искал ничьей дружбы. Вот уж о ком можно было сказать — человек в себе. После университета мы долго не виделись; прошло несколько лет, прежде чем судьба снова свела нас. Он к тому времени уже учительствовал, я же еще пробовал силы на радио до того, как поступить в этот журнал в Кейптауне. Мы переписывались, но редко. Однажды я провел у них в Йоханнесбурге — они с Сюзан уже были женаты — две недели. А после того, как я перебрался сюда заведовать литературным отделом журнала для женщин, мы и вовсе не виделись. Не то чтобы это был какой-то сознательный разрыв, нет. Просто нас ничто больше не связывало. Вплоть до того самого дня, когда он позвонил мне в редакцию — это было недели за две до его смерти — в совершеннейшем смятении и объявил, что у него есть ко мне разговор.
Я давно смирился с этими «разговорами» как с неизбежной издержкой профессии. Хотя, признаться, мне до сих пор претит, что чужие люди бесцеремонно избирают тебя объектом для излияния своих жизненных перипетий. И все потому только, что мне довелось стать автором нашумевших романов. Какой-нибудь юный жрец содомского греха, распустив нюни после двух кружек пива, непременно норовит высказаться в том духе, что, мол, господи, да когда же сочинители коснутся жизни таких вот, как он, чем они виноваты; почтенные матери семейств, перешагнув бальзаковский возраст, непременно посвящают в свои не такие уж розово-голубые шалости, убежденные, что кому как не автору прочувствовать то, что не дано их огрубевшим душой мужьям; юные девы, подкарауливающие нас на вечеринках и затем окручивающие с помощью им одним и присущей смеси наивности и бесстыдства. И все единственно для того, чтобы потом, когда все, что было снято, надето, а молния застегнута, непременно закончить все тем же неизбежным вопросом: «Наверное, вы поместите это в какую-нибудь свою книгу?» Они для меня или я для них? Их интересую не я, а имя, за которое они хватаются в надежде пусть на ничтожное, но утверждение в бессмертии, пусть через дамский журнал.
Кто не устанет от этого. Теперь скажу: это мое неприятие, внутреннее, всех этих излияний и определило мою судьбу как писателя в самом расцвете, как принято говорить, творческих сил. Апатия — вот что сковало меня на многие месяцы. Мне знакомы периоды творческого бесплодия, они были и в прошлом, с той, однако, разницей, что я всегда находил в себе силы выкарабкаться. Но ни с чем не сравнимо состояние, которое я испытываю сейчас. Сколько угодно сюжетов, и каждый мог бы лечь на бумагу. И не из-за недостатка воображения, поверьте, я вынужден буду разочаровать Женский клуб, когда он назовет очередную Книгу месяца. Просто после того, как я написал двадцать романов в этаком духе, во мне что-то надломилось. Мне за пятьдесят. Я больше не бессмертен, как воображает молодость, да у меня и нет ни малейшего желания быть оплаканным когда-нибудь тысячей-другой домашних хозяек и чувствительных машинисток, да упокоится моя душа, закосневшая в крайнем мужском шовинизме. Ну, так что же остается? Известно ведь, что старую пряху по-новому прясть не выучишь…
Но тут я сразу понял, случилось нечто серьезное, как только он позвонил. Хотя бы потому, что была пятница, а по пятницам он с утра всегда занят в школе.
— Слушай, мы не можем встретиться? — Он начал без всякого, не дав мне даже опомниться. — Дело срочное. Понимаешь, я с вокзала и…
— Куда это ты собрался?
— Да никуда, — сказал он с раздражением. И продолжал: — У тебя найдется несколько минут?
— Ну разумеется, Бен. А может, ты заглянешь ко мне в редакцию?
— Да нет… ну, в общем, я не могу тебе сейчас объяснить. Давай встретимся в час у книжного магазина Баккера, а?
— Ну, если это так важно.
— Тогда до встречи.
— До свидания, Бен. А все же…
Но он уже повесил трубку. Какую-то минуту я пребывал в замешательстве. У меня было не меньше оснований для раздражения хотя бы потому, что от меня требуют ни с того ни с сего мчаться в центр города, от самого Окленд-парка, да еще в пятницу, когда в центре и машину-то приткнуть некуда. И все-таки победило чувство заинтригованности, что ли. Ведь мы столько времени не виделись. К тому же в среду мы сдали номер в печать, так что отговариваться, будто работы невпроворот и все такое, было бы сплошным враньем. Я и поехал.
Он ждал меня у входа в книжный магазин. Я его не сразу узнал, так он постарел и осунулся. Он всегда был худощав, а тут ну точь-в-точь огородное пугало, таким мешком висело на нем серое пальто.
— Боже мой, ты ли это, Бен…
— Рад, что ты смог вырваться.
— У тебя сегодня свободный день?
— Нет.
— Но ведь каникулы в школе вроде бы кончились.
— Какое это теперь имеет значение. Ну так что, пошли?
— Куда?
— Какая разница. — Он оглянулся. Лицо у него было бледное, с заострившимися чертами. Он так весь и подался вперед, чтобы устоять под порывами пронизывающего ветра: было сухое зимнее полугодие, — и, подхватив меня под руку, чтобы на ногах удержаться, потащил за собой.
— Ты не от полиции спасаешься? — беспечно бросил я. Помнится, меня просто потрясло, как он реагировал на эту шутку.
— Ради всего святого, сейчас не время шутить, — отвечал он раздраженно. И зло, даже с какой-то агрессивностью, добавил: — Мог бы сразу сказать, если не расположен со мной разговаривать…
Я остановился:
— Слушай, Бен, что на тебя нашло?
— Да не торчи ты здесь. — Не дожидаясь меня, он метнулся вперед. Я нагнал его только на перекрестке, где он вынужден был остановиться у светофора.
— Может, зайдем куда-нибудь, выпьем по чашечке кофе? — предложил я.
— Нет. — И снова он оглянулся, в страхе, нетерпении, какой-то затравленный взгляд. И кинулся через улицу, не дождавшись зеленого света.
— Куда? — спросил я его еще. — Да куда мы?
— Никуда. Просто обогнем квартал. Я хочу, чтобы ты просто выслушал. Тебе придется помочь мне.
— Да объясни ты толком, Бен, что такое стряслось?
— Незачем. Скажи только, могу я прислать тебе кое-что на хранение? Ну, кое-какие вещицы?
— Краденое? — ляпнул я.
— Не паясничай, глупо. И не бойся, ничего противозаконного. Просто я… — Он молча ускорил шаг, снова огляделся. — Не хочу, чтобы они нашли все это у меня.
— «Они»?
Он остановился, все тот же комок нервов.
— Знаешь, похоже мне и вправду надо рассказать тебе все, что случилось за эти месяцы. Но у меня, ей-богу, ни минуты лишней. Так ты мне поможешь?
— Что же такое я должен сохранить?
— Бумаги, ерунда всякая. В общем, все, что осталось в записях. Можешь прочесть, если хочешь. Если обещаешь, что сохранишь.
— Но…
— Пошли. — Он снова затравленно огляделся. — Мне, главное, быть уверенным, что кто-то приглядит за ними. Что кто-то знает о них. Может, все еще и обойдется. Тогда я как-нибудь подскачу и заберу их. Но если со мной что случится, — он передернул плечами, точно поправляя сползающее пальто, — тогда они переходят в твое распоряжение. — Тут он впервые засмеялся, если можно было назвать смехом этот сухой короткий выдох, вырвавшийся у него. — Помнишь, в университете я исправно подбрасывал тебе сюжеты для рассказов. И ты еще все говорил о великом романе, который напишешь? Ну вот, теперь я хочу подкинуть тебе материалец. Если сгодится, можешь даже сочинить какой-нибудь роман, дело хозяйское. Теперь понимаешь?
— Нет, Бен, ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Ты хочешь, чтобы я написал твою биографию?
— Я хочу, чтобы ты сохранил мои заметки и дневники. И воспользовался ими, если будет нужно.
— А как я узнаю, нужно это или нет?
— Не беспокойся, узнаешь. — Он хмыкнул, скривил в улыбке тонкие губы. Остановился и посмотрел на меня. Его серые глаза лихорадочно блестели. — Они все забрали у меня. Почти ничего не осталось. Но уж этого они не получат. Ты слышишь? Если они завладеют и этим, все вообще теряет всякий смысл. — Мы смешались с толпой и какое-то время шли молча. — На это они и рассчитывают, — продолжал он затем. — Они хотят стереть из памяти все, что касается меня. Будто меня вообще не существовало. Вычеркнуть меня из памяти людской. А я им такой радости не доставлю.
— Что ты натворил, Бен?
— Ничего. Уверяю тебя. Ровным счетом ничего. Но дальше я просто не выдержу, и, думаю, они это понимают. Единственное, о чем я прошу тебя, — сохрани мои бумаги.
— Но если все это действительно так безобидно…
— Что же это, и ты против меня?
Я еще подумал тогда, что он одержим манией преследования, словно человек, вконец утративший контакт с окружающим миром, забывший, что мы с ним идем по шумной улице, не замечавший ничего вокруг, даже меня. И будто он сам не имел ничего общего с подлинным Беном Дютуа, которого я некогда знал, разве что ни к чему не обязывающее внешнее сходство.
— Конечно, я сохраню все твои бумаги, — сказал я ему так, словно старался успокоить или развеселить ребенка. — Почему бы тебе сегодня же вечером и не принести их? Мы бы все и обсудили за бокалом вина, а, Бен?
Он бросил на меня еще более обеспокоенный, чем прежде, взгляд. Человек в явном упадке сил.
— Нет, нет. Этого я не могу. Я должен быть уверен, что они попадут к тебе. Я не хочу доставлять тебе никаких неприятностей.
— Ну что ж, прекрасно, — вздохнул я безропотно. А про себя подумал: очередная душераздирающая история. — Я посмотрю их и дам тебе знать.
— Мне ничего не надо знать. Держи их у себя, и все. И язык за зубами. И только если что-нибудь случится…
— Ничего не случится, — сказал я не без раздражения. — А тебе надо просто хорошо отдохнуть. Похоже, ты переутомился.
Две недели спустя его не было в живых.
К тому времени я уже успел получить объемистую бандероль, почтовый штемпель показывал, что ее отправили из Претории. После нашей памятной встречи тем утром вся эта загадочная история заинтриговала меня и разожгла любопытство. Хотя, каюсь, один вид этой кипы бумаг, в которых мне предстояло копаться, приводил меня в уныние. Почему это свалилось именно на меня? Меня ничуть не прельщала перспектива впутываться в жизнеописания. Вымысел, еще куда ни шло. Но все изменилось, едва я коснулся бумаг. Я был сбит с толку. Мне полагалось бы честно сказать ему, как я говорил многим другим: «Извини, старина, но я и вправду ничего не могу извлечь из всей этой истории». Полагалось бы. С той, однако, разницей, что ему, другу, сказать такое стократ труднее, чем кому бы то ни было. И еще трудней, если принять во внимание его состояние. Но в конце концов, не уверял ли он меня, что ему ничего и не надо было, кроме как сохранить бумаги в целости и сохранности?
Тот вечер я провел дома в тщетных попытках рассортировать всю эту кипу на ковре. Толстые записные книжки, школьные тетрадки, клочки бумаги, оторванные как попало от журнальных полос, и целые страницы машинописного текста, письма и вырезки из газет. Я принялся бегло просматривать, что здесь к чему, пытаясь вникнуть в суть, и первое, что бросилось в глаза, — это повторяющиеся имена, причем некоторые смутно знакомые — Джонатан Нгубене, Гордон Нгубене, — но пришлось просмотреть все подряд, с начала и до конца, прежде чем я смог убедиться, что память не изменяет мне. Но и тогда я не мог понять, какая может быть связь между ними и Беном. Знаете, это даже оттолкнуло меня. Все мои книги повествовали о любви и приключениях — предпочтительно на фоне милого сердцу мыса Доброй Надежды или же в романтической обстановке старого доброго Кейптауна. Политика не моя стихия. И если Бен решился завязнуть в ней, что ж, его дело, тем хуже для него. Я не хотел иметь с этим ничего общего.
Я хмуро свалил эту кипу бумаг в старую картонку, в которой они прибыли. И тут на глаза мне попались две фотографии, выпавшие из большого коричневого конверта. Одна — совсем маленькая, такие делают для паспорта. Какая-то девушка. Длинные черные волосы, перехваченные тесьмой, большие карие глаза, аккуратный нос и чувственно очерченные губы. Некрасивая, если взять за эталон героинь моих романов. Но что-то поразило меня в этих обыденных чертах. И прежде всего манера держаться: ведь она знала, что ее фотографируют, откуда же это пренебрежение к условностям? Она смотрела прямо вам в лицо. Смело, с вызовом, никак не сочетающимся с женственностью ее овального лица. «Смотри, если хочешь, — говорило ее лицо, — ты все равно не найдешь ровным счетом ничего, чего бы не было известно мне самой и с чем я не примирилась. Знать себя больше, чем знаю, не могу, кто может, пусть знает больше. При условии, что это не даст вам, разумеется, никаких прав на меня». Это или что-то подобное бросали вам в лицо эти глаза с выцветшей фотографии, по крайней мере для меня, в моих вечных поисках образа. И в то же время у меня возникло тревожное ощущение, что лицо мне знакомо. Случись это при других обстоятельствах, я бы куда быстрее вспомнил имя девушки. Но ее фотография среди бумаг Бена Дютуа? И только на следующий день, вновь разбирая и перекладывая бумаги, я вспомнил, где я видел это лицо: ну конечно же, на одной из газетных фотографий, это же Мелани Брувер. Ведь с ней была связана вся эта недавняя шумиха в прессе.
Вторая фотография была размером восемь на десять, на глянцевой бумаге. Поначалу я принял ее за обычную порнографическую картинку, которых навалом за границей. Что ж, если Бен находит удовольствие в такого рода вещах, это его дело. Снимок сделан не в фокусе или при слабом освещении. Фон: обои, тумбочка, постель со смятыми простынями — все расплылось. А на постели мужчина и молодая женщина. Я уже вложил было это фото в коричневый конверт, из которого оно выпало, когда что-то заставило меня всмотреться пристальнее.
Девушка с черными волосами. Девушка с фотокарточки, сделанной на паспорт. Даже крупнозернистая фотография не могла теперь обмануть меня. Это она, Мелани Брувер. Рядом с ней мужчина средних лет. Это Бен.
Не тот Бен, каким я знал его по университету. Не замкнутый, но сдержанный. Уравновешенный человек, живущий в мире с собой и всем, что его окружает. Не то чтобы он был этаким потупившим очи долу скромником или ханжой, с презрением воспринимавшим выходки своих однолеток. Он никогда не был заводилой. Ни разу в жизни я не видел его, например, пьяным, хотя сказать, чтобы он чуждался выпить бокал-другой, тоже никто не мог. А занимался он здорово, этого у него не отнимешь. Может, это еще и потому, что жил он единственно на скромные денежные переводы от родителей и просто не мог себе позволить огорчить их. Помнится, я как-то видел его на стадионе. Матч по регби между университетскими командами. А он с учебником! Ну таймы еще он высиживал — пел и бесновался вместе со всеми. А в перерывах сидел, уткнувшись в книгу, тут ему хоть трава не расти. И если он чего-то недоучил, так пусть в комнате хоть на головах ходят, он сидит, не оторвется от учебника. И в спортсменах никогда не ходил, хотя не раз выигрывал в теннис сет-другой, поражая соперника неожиданной скоростью и техникой. А вот когда шли отборочные матчи в университетскую команду, он неизменно проигрывал. И складывалось впечатление, что делает он это намеренно, с целью избежать всяких поступков, обязывающих, что ли; ведь в обычных товарищеских встречах он сплошь и рядом выигрывал у ведущих игроков. А в тех редких случаях, когда ему как запасному приходилось все-таки выходить на поле, он просто изумлял всех. Особенно это бросалось в глаза в матчах, когда на карту действительно ставился престиж команды, за которую он играл. Тут уж он отражал самые немыслимые удары. А когда наступала пора снова собирать команду курса или факультета, Бен Дютуа проигрывал без борьбы. Он старался всегда оставаться в тени.
По-настоящему он любил только шахматы. Было бы преувеличением называть его блестящим игроком, но в шахматы он почти всегда побеждал благодаря целеустремленности, педантичности и упорству, с которыми проводил свой план. В других, более зримых, что ли, областях студенческой жизни, на собраниях или других сборищах, его словно и видно не было, если не считать редких и никогда не предсказуемых вспышек этого странного парня. Тут дело в том, что он все принимал всерьез. Похоже, он вообще чурался всякого общества, не зря же кто неизменно отказывался от выборов в студенческий совет, так это Бен Дютуа. Но уж если он решался сказать что-нибудь на людях, то говорил искренне и убежденно, так, что его слушали. На старших курсах он и вовсе превратился в неизменного советчика по самым что ни на есть интимным делам. Даже девушки ходили к нему со своими печалями. Я до сих пор забыть не могу той зависти, что ли, к его авторитету у них. Да все мы, вместе взятые, этакие специалисты насчет дамского пола, ничего не стоили со всеми своими ухищрениями против одной этой его, как бы извиняющейся улыбки, очарования которой он и сам, казалось, не понимал. И вместо того, чтобы хватать что можно, он, подобно добродушному щенку, спокойно терпел, как у него отбирают самые лакомые куски. А разобраться, так человеку и в голову, похоже, не приходило, что он сам себя обделяет.
Только один-единственный раз на моей памяти я уловил, будто в нем промелькнуло нечто другое, что-то явно несвойственное ему, человеку, взявшему за правило держаться в тени. Это случилось на третьем курсе, на лекции по истории, когда нашего профессора, взявшего академический отпуск, целый семестр замещал какой-то тип. Мы не выносили его учительских замашек, и дисциплина скоро стала целой проблемой. В тот день он засек меня, когда я пустил бумажного голубя, и тут же — просто озверел человек — велел мне выйти вон. На том бы все и кончилось, не пробудись вдруг Бен и не заяви, — куда девалась только его вечная летаргия — что он протестует против наказания одного, виноваты все одинаково.
Когда же преподаватель наотрез отказался слушать его, Бен составил петицию и, потратив субботу и воскресенье на сбор подписей, угрожал бойкотом занятий, пока не будут принесены извинения нашему курсу. В понедельник он вручил ее историку. Тот прочел, побелел от злости и изорвал в клочки. И тут Бен доказал, что бойкот не пустая угроза, и вывел за собой из аудитории весь курс. В нынешнюю эпоху самоуправления и студенческих советов его поступок показался бы смехотворно безобидным. Но в ту пору, в годы войны, он вызвал сенсацию.
В пятницу Бена и нашего временного преподавателя вызвали к декану факультета. О чем там говорилось и как это все выглядело, мы узнали много позже, и не от Бена, а окольными путями, он на этот счет почти не распространялся.
Профессор, доброжелательно настроенный к нам старик, за что мы платили ему уважением и даже любили его, выразил сожаление по поводу злополучного происшествия и заявил, что готов счесть все случившееся недоразумением — при условии, конечно, что Бен приносит извинения за свою запальчивость. Бен в вежливых выражениях выразил признательность за благожелательное отношение к нему профессора, но твердо заявил, что настаивает на том, чтобы извинения были принесены студентам, поскольку преподаватель, как он сказал, оскорбил весь курс своим несправедливым поведением, не говоря уже о том, что он вообще профессионально беспомощен.
Это вызвало новую вспышку гнева у преподавателя, и он обрушился с обвинениями в наш адрес вообще и Бена особенно. Бен отвечал спокойно, что вот такого рода манера действовать окриком типична для его отношения к студентам, против чего они и протестуют. Положение осложнилось, казалось безвыходным. И тут наш преподаватель заявил, что подает в отставку, и вышел из кабинета декана. Профессор наказал нас, весь курс, устроив контрольную (за которую Бен получил третий или четвертый высший балл), а относительно Бена администрация, дабы сохранить лицо, решила проблему так: его тогда исключили из университета до конца семестра.
Для него это было, похоже, наказанием почище, чем для любого из нас. Ведь его родители были бедны, он остался без стипендии, и теперь пришлось искать деньги, чтобы снимать комнату в городе. Я думаю, все мы чувствовали себя неловко во всей этой истории, хотя и считали, что он сам, собственно, во всем виноват. Как бы там ни было, мы ни разу не слышали от него ни слова жалобы. С другой стороны, он ни разу, насколько я знаю, больше не пускался в подобного рода рискованные затеи. Это была вспышка. На следующий семестр он как ни в чем не бывало вернулся к своему безмятежному существованию всегда уравновешенного человека.
Несколько строк в вечерней газете извещали о похоронах. Я собирался поехать, но так и не успел. В то утро мне пришлось присутствовать на ленче в честь какой-то заезжей знаменитости, дамы-писательницы. Я еще подумал, что под предлогом похорон смогу смыться в первую же удобную минуту. Но дама принадлежала к любительницам пирожных с кремом и лиловых шляпок и еще отличалась истовой страстью к описанию крови, слез соблазненных и покинутых матерей-одиночек — писаниям, собственно, и обеспечивающим наш журнал десятками тысяч надежных подписчиков. Понятно, почему я был не в лучшем расположении духа, когда выехал со стоянки и направился в Карлтон-Центр, где была назначена встреча. К тому же я еще и опаздывал на четверть часа. Погруженный в свои мысли, я не очень-то обращал внимание на все, что творилось за окнами автомобиля, пока у здания Верховного суда до меня не дошло, что здесь происходит что-то необычное. И это заставило меня притормозить и оглядеться по сторонам. Что такое, я не сразу и понял: тишина. Привычного шума в центре города не было, стояла тишина. И люди не торопились, а стояли в тишине. И уличного движения не было. Центр города, шумный, вечно торопящийся, замер. Точно невидимая всепростирающаяся рука нащупала и сдавила ему сердце мертвой хваткой. И казалось, слышался а тишине только ни на что другое не похожий глухой звук мерного биения сердец, слишком слабый, чтобы его могло уловить ухо. И он проникал через плоть и кровь, ощущался подобно подземным толчкам, но не тем, к которым мы привыкли в Йоханнесбурге с его бесчисленными шахтами и вечными взрывами породы.
А прошло какое-то время, и люди поняли, что тишина движется. Вниз по улице от вокзала медленно надвигался людской поток, несущий перед собой тишину, — хмурая, неудержимая стена черных лиц. Ни выкриков, ни вообще шума. И тишину только усугубляли люди в переднем ряду, они шли, подняв сжатые в кулак руки. Руки напоминали сучковатые корни деревьев, что несет с собой к берегу неторопливый океанский прибой.
И из улицы, где мы стояли, и из других улиц вдруг стала надвигаться, выплывая, толпа черных лиц, такая же немая, молчаливая, она двигалась к той, что была у здания Верховного суда, точно ее притягивало туда неведомым гигантским магнитом. Мы, белые, жались к суровым и прочным стенам и к колоннадам домов, единственно и обещавшим нам безопасность. Никто словом не обмолвился, не сделал ни единого жеста. И все было как в немом кино или на экране телевизора с выключенным звуком.
И только потом я вспомнил, что ведь на этот день было назначено слушание дела, касающегося одного из бесчисленных в последние месяцы актов террора, и что эта толпа шла из самого Соуэто, чтобы присутствовать при вынесении судебного приговора.
Но впрочем, они не дошли. Пока мы стояли, раздались полицейские сирены и со всех сторон стали надвигаться полицейские фургоны и бронетранспортеры. И их рев взорвал тишину и вывел нас из этого транса. В считанные мгновения на центр города накатила вдруг волна шума. Но я не стал дожидаться, пока она захлестнет меня, отпустил тормоз и двинулся прочь.
По крайней мере это дало мне возможность объясниться, почему я опоздал тогда в Карлтон-Центр. И я все еще надеялся, что похороны будут подходящим предлогом, чтобы так же вовремя ускользнуть от этой лиловой дамы. Но когда оно настало, время, я уже не хотел участвовать в этих похоронах, я просто не смог бы, и все тут.
В книжном магазине на Коммишнер-стрит я купил и подписал открытку с выражением соболезнования и бросил ее в почтовый ящик на Джиппи-стрит на обратном пути к машине. После этого я поехал прямо домой с твердым намерением — в редакции меня по крайней мере точно не ждали — тотчас засесть, теперь уже основательно, за бумаги Бена.
Помнится, я так и не получил от Сюзан обычного ответа с выражением благодарности по поводу моих соболезнований. Хотя да, конечно, я ведь не указал обратного адреса, а Сюзан могла не знать его. Может быть, так оно было даже и лучше для всех нас.
Кое-кто считал, будто Сюзан совсем не та женщина, что нужна Бену. Я не могу с ними согласиться. Ему нужен был человек, который подгонял бы его, не давал погрязнуть в рутине, определял бы ему цель и сообщал бы энергию и упорство в ее достижении. Не будь Сюзан, он, очень может быть, так и закончил бы свои дни в какой-нибудь забытой богом глуши, спокойно обучая истории или географии одно поколение школьников за другим, а в свободное время помогал бы набираться уму-разуму тем, кому недоступна школа. А получилось все-таки, что он работал в одной из лучших школ большого города, преподававших на африкаанс. Трудно сказать, был бы он вообще счастлив, окажись в иной обстановке или в других обстоятельствах. Да и кто вообще оценит, счастлив был человек или нет? В чем я уверен: уж кто-кто, а Сюзан умела и отвратить от бредовой идеи, и вдохновить на что-то поистине созидательное.
Надо думать, она унаследовала это качество от отца, который из адвокатишки в заштатном городке сумел выбиться в члены парламента. Матушка ее, как мне кажется, так и прожила жизнь сентиментальной хранительницей очага при муже-повелителе, смиренно следовавшей всюду, куда вело честолюбив ее супруга. Конечно, то, что отец застрял в членах парламента, только придавало Сюзан решительности в характере. Сравнивая отца, человека с непомерным честолюбием, но без талантов для его реализации, и мужа — талантливого, но начисто лишенного честолюбия, она очень скоро поняла, кому верховодить в семье. Так что, пытаясь разложить по полочкам все то немногое, что я помнил о Бене, я облегчил бы свою задачу по крайней мере на том этапе, сначала поняв Сюзан.
И еще. Между Сюзан и мной было что-то — напряженность, магнитное поле, наэлектризованность какая-то, притягивающая и вместе с тем отталкивающая нас друг от друга, — в те две недели, что я провел у них когда-то. Это было как раз накануне моего отъезда из Кейптауна сюда, на север, а они тогда уже были лет двенадцать как женаты. Да, конечно, и до этого мы с ней встречались, но не настолько часто, чтобы взять в толк, что она за человек. И когда я говорю о магнитном поле между нами, я не хочу сказать, что мы позволили себе нечто предосудительное. Мы оба были скованы респектабельным воспитанием, чтобы поддаться какому бы то ни было безрассудству. И мы с ней одинаково, пусть по разным, видимо, причинам, отдавали себе отчет в том, что между нами стоит Бен. Но в то же время бывает ведь, что нежданно-негаданно человек вдруг узнает в другом близкую душу — равного, союзника, партнера, самого, как оказывается, нужного тебе. Такое происходит независимо от разума или чувства. Это интуиция, реакция организма, что ли. Назовите это беззвучным криком души. Вот это и случилось, когда я встретил Сюзан. Если, конечно, и сейчас во мне не говорит привычное писательское воображение. Не знаю, действительно, не знаю. Я не мастер анализировать такого рода вещи, вымышленные ситуации мне куда ближе, чем грубая и неприкрашенная правда жизни.
С самого начала она показала себя безупречной хозяйкой, защищенной непреодолимой стеной вежливости, благопристойности и дружелюбия. Обладая характером, явно не приспособленным ладить с прислугой, она все по дому делала сама. Ее щепетильность, хороший вкус — все обличало именно хозяйку дома. Пусть даже дело касалось мелочей, это проглядывало во всем: в том, как была заправлена постель, в заботливо оставленных рядом с графином воды кубиках льда, в букетике цветов на подносе с завтраком, который она подавала утром в мою комнату. Даже в эти ранние утренние часы она была безукоризненна: легкий мазок помады на губах, подкрашенные ресницы и веки сдержанно подчеркивали синеву ее глаз, — и самый придирчивый взгляд не нашел бы изъяна в ухоженной, волосок к волоску, модной прическе. В последние дни моего пребывания у них я узнал, что она умеет быть непринужденной. У Бена была привычка проводить время после ужина во флигеле, отдельном домике во дворе. Там, в помещении для слуг, он оборудовал себе кабинет. Может, он действительно готовился там к урокам, не знаю. Но мне казалось, что он просто испытывает потребность хоть немного побыть наедине с самим собой, в окружении любимых книг и привычных вещей, незаметно нажитых с годами. И когда он удалялся туда, Сюзан приносила мне в комнату кофе и непринужденно присаживалась на край кровати поболтать.
В пятницу предстоял школьный вечер, на котором они должны были присутствовать. Но когда мы сидели за ленчем, Сюзан вскользь обронила, что у нее нет настроения высиживать эту скучнейшую церемонию и что она предпочитает остаться дома. «В конце концов, — прибавила она, — у нас ведь есть определенные обязательства по отношению к нашему гостю».
— Наш гость не будет возражать, если мы оставим его на один вечер, — сказал тогда Бен, глядя на меня. — Он не чужой человек, которого положено изо всех сил развлекать.
— С удовольствием побуду один, — отвечал я.
— Господи, не будь вас здесь, я все равно не пошла бы, — сказала она мне, обнаруживая непреклонную волю, скрытую за этим чуть музыкальным журчанием голоса.
Так и случилось, что он отправился один, правда, лишь после того, как уложил детей в постель. У них в семье это было непременным ежевечерним ритуалом: укладывал спать двух очаровательных девочек с льняными волосами, так по-разному вобравших в себя красоту матери, отец, а не Сюзан. Сюзетте, старшей, было девять лет, а Линде, если не ошибаюсь, исполнилось тогда пять.
Как я ни настаивал, что мне не надо никакого ужина, Сюзан приготовила целое пиршество и накрыла стол по всем правилам: хрусталь, серебряные приборы, свечи. Мы просидели с ней за ужином чуть не весь вечер. Я наполнял и наполнял бокалы, и скоро пришлось взять из бара вторую бутылку вина. Потом еще ликер. Поначалу еще она раз-другой прикрывала бокал рукой, когда я предлагал ей вина, но скоро перестала церемониться и, вероятно, выпила лишнего. Бретелька ее вечернего платья соскользнула с загорелого плеча, но Сюзан даже не поправила ее. Иногда она запускала пальцы в свои белокурые волосы и к концу вечера вконец разорила свою аккуратную, с подвитыми локонами прическу и от этого стала только мягче и милее. В такие минуты замечаешь ведь любой пустяк. И след помады, алевший пятном на белоснежном полотне салфетки, и блики свечи на обручальном кольце. Изгиб шеи и обнаженное плечо, когда она поправляла прическу, и влажный блеск слегка припухшей нижней губы. О чем мы только не переговорили с ней в тот вечер.
Теперь уже и не припомнить, о чем точно, ведь тому — уже целых семнадцать лет. Помню только, засиделись мы допоздна. Щеки Сюзан от вина играли румянцем.
— А я завидую вам, — сказал я так, не знаю зачем, но от души. — Когда попадаешь вот в такую семью, как ваша, начинаешь ставить под сомнение смысл своего холостяцкого существования.
— Все счастливые семьи похожи друг на друга. — Она чуть заметно скривила губы. — Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил я удивленно.
— То же, что Толстой.
— А… ну да, конечно.
— Вы, кажется, в этом вовсе не убеждены.
— Не знаю. Просто та чушь, которую я пишу, не очень-то часто заставляет меня обращаться к Толстому.
Она пожала плечами. Узкая белая бретелька так и осталась висеть не поправленная.
— Да разве в этом дело? — Теперь она заговорила горячо. — Чушь или нет, но вы пишете и, так или иначе, находите в этом самовыражение. А что я?
Ну вот, начинается, мелькнуло у меня. Еще одна история.
— Вам-то на что жаловаться? — спросил я с вызовом. — У вас хороший муж, двое очаровательных детей. И самой талантов не занимать.
Она тяжело вздохнула:
— Боже!
Я смотрел на нее, не понимая.
А она сидела неподвижная, уставившись в одну точку. И когда заговорила, в ее звучном голосе появилась еле сдерживаемая страстность:
— И это все, что вы можете мне сказать? — И помолчав, добавила: — Через год мне будет тридцать пять. Вы понимаете?
— Лучшие годы для женщины.
— А по библии — так полжизни. А что я за это время успела? Господи боже мой! Годами сидеть и ждать, и с одной-единственной мыслью: однажды… однажды… однажды… Вы же слышали, как люди говорят о жизни. Вот и вы заговорили об этом. И ведь ждете, чтобы она состоялась, ваша жизнь, наступило это «однажды». И дальше? А дальше вы вдруг осознаете: вот он, ваш звездный день, ваш единственный день. Тот самый, который вы так ждали. И тогда оказывается, что и это не больше чем самый обычный проклятый день. И никогда — слышите! — не будет никакого другого! — Она долго сидела молча и тяжело дышала. Наконец пригубила рюмку ликера и сказала, будто специально стараясь сделать мне больно: — Знаете, я теперь очень хорошо понимаю, почему женщины становятся вдруг авантюристками. Или шлюхами. Просто затем, чтобы убедиться, что ты — живая-а-я, почувствовать это, понимаете вы, почувствовать со всей силой и страстью. И плевать мне, в конце концов, прилично это или нет.
— И что, все действительно так плохо, Сюзан?
Она смотрела на меня и не видела. Будто разговаривала еще с кем-то, не со мной.
— Меня ведь водили на помочах всю жизнь, — говорила она кому-то невидимому, — уверяли, будто я слишком необузданная и поэтому должна, ну как это, контролировать свои поступки. Девочки не должны делать то. Девочки не должны делать это. Что подумают о тебе люди?! Хоть бы скорее вырасти, мечтала я, тогда люди ничего о тебе не подумают. И вот я встретила Бена. Мы с ним преподавали в Лиденбурге. Я и не искала в нем ничего необычного. Но зы-то знаете его. И вот, когда он, бывало, сидел такой спокойный в этом нашем бедламе в учительской, где все вокруг спорят и орут кто во что горазд, я все силилась понять, о чем он думает? Ну и он стал представляться мне непохожим на других, особенным. Он и к ученикам относился не как все, и, где любой ринулся бы в спор, он только одарит человека мягкой улыбкой… Он никогда не пытался навязать мне свое мнение, как другие. Я и вообразила себе: вот человек, которого я ждала. Он понимает людей. Он поймет женщину. Он даст мне возможность жить так, как мне всегда хотелось. Я была несправедлива к нему, как я теперь понимаю. Пыталась вообразить его таким, каким хотела видеть. А потом… — Она умолкла.
— А потом?
— Я закурю, вы не возражаете? — спросила она вдруг, снова изумляя меня, потому что не выносила, когда Бен тянулся, бывало, во время ужина за своей трубкой.
— Конечно, — сказал я. — Можно и мне?
— Пожалуйста. — Она поднялась, пошла к камину, прикурила. И, присаживаясь, неожиданно сказала: — Женщине нелегко примириться с мыслью, что она вышла за неудачника.
— Я думаю, Сюзан, что вы несправедливы к Бену.
Она посмотрела на меня и промолчала. Допила ликер и тут же наполнила себе рюмку. Потом спросила:
— Кто это сказал: людям, боящимся одиночества, не следует вступать в брак?
— Должно быть, человек, который обжегся на этом, — Я старался обратить все это в шутку, но она не приняла моего тона.
— Я до сих пор не знаю его, и это после двенадцати лет совместной жизни. — Ее губы снова чуть скривились. Так, едва заметная складка горечи. — Равно как и он меня. — И, чуть помолчав: — Но самое худшее, я сама до сих пор не разобралась в себе. Я перестала себя понимать.
Она раздраженно затушила недокуренную сигарету и резко поднялась, словно искала что-то в комнате. Из пачки на каминной полке взяла новую сигарету. Тогда я встал, чтобы поднести ей огонь. Я нечаянно коснулся ее руки и почувствовал, что она дрожит. Она прошла к роялю, села, подняла крышку, и пальцы забегали по клавишам, не ударяя по ним, а чуть касаясь. Посмотрела на меня.
— Вот если б я действительно хорошо играла, как бы все могло быть по-другому. Но я дилетант и в этом. Немного бренчу на фортепьяно, участвую в радиопьесах, всякая такая ерунда. А может, я должна успокоить себя мыслью, что в один прекрасный день мои дочери достигнут того, чего не достигла я?
— Вы знаете, что вы красивы, Сюзан?
Она повернулась на табурете всем телом и теперь смотрела на меня, откинув голову и опершись локтями на клавиатуру, острые груди нацелены на меня — в этом было что-то невинно вызывающее. Она так и не подняла бретельку.
— Считается, что добродетель долговечнее красоты, — ответила она с такой злостью, что это повергло меня в недоумение. И, нервно затянувшись, сказала: — Счастливая семья, о которой вы говорили, — это все, что у меня есть. Все без остатка в ней. Ни минуты для самой себя.
— Бен старается помочь. Я заметил. Особенно с детьми.
— Да, конечно. — Она вернулась к столу. — А почему, — неожиданно спросила она, — почему человек позволяет себе опуститься до уровня домашнего животного? Вам не приходит в голову, что я тоже хочу сделать что-то, ну создавать, творить?
— У вас очаровательные дети, Сюзан. Не нужно недооценивать эту свою способность творить.
— Да любая дойная корова, черт ее подери, способна наплодить потомство. — Она вся подалась вперед, и я снова невольно уставился на ее грудь. — Вы не знали, что у меня был выкидыш?
— Но, Сюзан…
— Через два года после рождения Сюзетт. Все думали, что после этого я не смогу больше рожать. А я решила доказать себе, что это ерунда. И родила Линду. Это был какой-то ад. Все девять месяцев. Я уже примирилась, что останусь калекой на всю жизнь.
— Вы выглядите прекрасней, чем прежде.
— Откуда вы знаете? Тогда мы едва встречались.
— Я просто уверен в этом.
— А через пять лет мне будет сорок. Вы способны понять, что это такое? Почему человек должен быть приговорен именно к плоти своей? — Она замолчала, и молчание так затянулось, что я подумал было встать и откланяться. Молча выпили. А когда она наконец заговорила, в ее голосе была обычная спокойная сдержанность: — Меня всю жизнь мучила эта мысль, с тех самых пор, как я начала «развиваться». — Она посмотрела мне в глаза. — Одно время, лет в пятнадцать или в шестнадцать, я верила в умерщвление плоти, ну просто как самая настоящая средневековая монахиня. Очистить самое себя от дурных соблазнов. Бывало обвяжу себя веревкой да еще узлами перехвачу, и ношу под рубашкой вервие это для самоистязания. Пробовала даже бичевать себя. Не сильно, правда. И все в надежде освободиться от грешной плоти.
— Помогло?
Она усмехнулась:
— По крайней мере обхожусь без веревки.
— А как насчет пояса целомудрия?
Ответом мне был еще один непоколебимо спокойный взгляд, и ни слова. Был ли это отказ или приглашение, согласие или самозащита? Нас разделял стол, на котором предательски мерцали свечи.
— А Бен? — спросил я намеренно.
— А что Бен?
— Он любит вас. Вы ему нужны.
— Бен слишком погружен в себя.
— Он хотел, чтобы вы были сегодня с ним.
И снова эта ее мимолетная вспышка ярости.
— Я сделала его тем, что он есть. Хотела бы я знать, что бы с ним сталось без меня. Поди так бы и прозябал в Крюгерсдорпс, даруя милостыню бедным. Ему бы податься в миссионеры. Да только на мне и держится эта хваленая семья.
— Все-таки вы преувеличиваете.
— А как вы думаете, что будет, если я возьму и брошу все? Я вышла за него потому, что верила в него. Так как же он может… — Она запнулась. И продолжала каким-то подавленным голосом: — Не думаю, что я действительно ему нужна. Ни я, ни другая. Что я знаю о своем собственном муже? Если б вы только могли понять…
— Что?
В мерцающем свете ее голубые глаза потемнели. Рука машинально теребила давно свалившуюся с плеча бретельку платья. Затем, глядя мне прямо в глаза, она поправила ее, поднялась, отодвинула стул.
— Пойду сварю еще по чашке кофе.
— Мне — нет. Спасибо.
Ее долго не было. А когда вошла, снова стала сдержанной, далекой. Мы сели в кресла и сидели в полном молчании. Так и сидели в тишине, когда вернулся Бен. Она и ему налила кофе, но даже не поинтересовалась, как прошел вечер. Он выпил кофе, поднялся, ушел в ванную. Она собрала чашки на поднос, потом внезапно повернулась ко мне и сказала:
— Вы, пожалуйста, извините меня за эту вспышку.
— Но, Сюзан…
— Забудьте, что я тут наговорила. Я выпила лишнего. Ничего подобного со мной не бывает. Я не хочу, чтобы вы думали, будто во мне что-то затаилось против Бена. Он хороший муж и хороший отец. Наверное, я не стою его.
Она ушла на кухню. На следующий день она и виду не подала, что был такой разговор. Словно раз и навсегда вычеркнула его из памяти.
Невозмутимый и неизменно благожелательный, Бен жил своей жизнью. Он вставал на заре, совершал пробежку вокруг квартала, принимал ледяной душ, ровно в половине восьмого отбывал в школу, ко второму завтраку был дома, затем около часа готовился к урокам или проверял тетради и снова отправлялся в школу — на тренировку по теннису или что-нибудь в этом духе. В пять он возвращался, тут же удалялся в гараж, где предавался своему хобби — он столярничал, — пока не приходило время купать детей. По воскресеньям они всей семьей отправлялись в церковь: Сюзан в безупречно элегантном костюме, девочки в свободных платьях и белых шляпках на белокурых головках, с волосами зачесанными и собранными на затылке в туго-натуго стянутый пучок и Бен в черной паре, как и подобает церковному старосте. Упорядоченная и примерная жизнь, где всему свое место и время. Я вовсе не хочу сказать, будто он смиренно и кротко следовал неким предначертанным путем, нет. Просто он, казалось, жил по спокойным законам сораз-меренности и черпал в этом порядке ощущения уверенности и безопасности.
Его занимала моя, как он считал, «неустойчивая» натура — я примчался в Йоханнесбург, чтобы прощупать возможности обосноваться на Севере, где человек может рассчитывать на более быстрое продвижение по службе и успех, — и он воспринимал мое честолюбие не без иронии.
— Только не говори, будто тебе не хочется продвинуться, — язвительно заметил я ему как-то, заглянув в гараж, где он старательно сооружал кукольный домик для детишек.
— В зависимости от того, что ты под этим подразумеваешь, — спокойно ответил он и поднес к глазу только что обструганный брусок. — Я, знаешь, с подозрением отношусь к прямолинейному складу ума, со всеми этими прямыми линиями от точки А к точке Б и так далее.
— И тебе не хочется стать директором школы? Или инспектором?
— Нет. Не люблю административную работу.
— Только не уверяй меня, будто ты только и мечтаешь всю жизнь ходить по утрам в школу, а вечером строгать палочки.
— А почему бы и нет?
— В университете ты, помнится, мечтал о «счастливом обществе», о «новой эре». Что же с этими твоими мечтами?
Он усмехнулся и принялся строгать брусок.
— Очень скоро понимаешь, сколь тщетны попытки переделать мир.
— И что же, ты счастлив устраниться от него?
Он оглядел меня, и теперь его серые глаза смотрели серьезно.
— Не уверен, значит ли это устраниться. Просто, ну так мне кажется, все люди разные. Один весь на виду, другой скрытен. Одни берут мир приступом, а по мне, так не меньшего можно добиться, спокойно делая то, что у тебя под рукой. А с детишками возиться очень даже благородный труд.
— Значит, ты счастлив?
— Счастье — опасное слово. — Он принялся размечать брусок. — Скажем так: я доволен. — Минуту он продолжал тщательно размечать брусок, потом прибавил: — А может, и это не совсем точно. Ну как это выразить? У меня такое чувство, что в глубине души у каждого человека затаено то, для чего он, так сказать, предназначен. Нечто такое, что только ему одному и дано достичь. Все дело в том, чтобы открыть в себе это твое, личное. Одни чуть не сразу находят себя. Другие теряют рассудок, потому что не могут найти. А третьи терпеливо ждут, пока внезапно не откроется то, чего они искали. Как актер ждет выхода на сцену. Или это неудачное сравнение?
— И что, ты из этих, что ждут выхода на сцену?
Он принялся вырубать стамеской первый шип.
— Я просто жду. — Он откинул волосы со лба. — Самое главное, быть готовым, когда настанет твой час. Ведь, если упустишь его, он не вернется, разве нет?
— А пока строишь кукольные домики.
Он хмыкнул.
— По крайней мере испытываю удовлетворение — хоть что-то сделал собственными руками. Здорово наблюдать, как обычное полено обретает формы. А посмотришь на детские лица, когда все готово, — прибавил он каким-то извиняющимся голосом, — так и вовсе поймешь, что не такая уж это пустая трата времени.
— Слушай, ты и в самом деле решил посвятить себя своим детям?
— Не то слово. Звучит слишком легко и чересчур сентиментально. — Совершенно очевидно, он отнесся к моему вопросу гораздо серьезней, чем я. — Понимаешь, в детстве мы живем как бы вслепую. И только потом, когда у тебя самого появляются дети, ты пытаешься оглянуться и посмотреть на себя их глазами. И только тут начинаешь понимать все, что с тобой произошло и почему. — Вот тогда он и открыл мне то, что так тщательно скрывал прежде. — Поэтому мне так и хотелось, чтобы родился сын. Пусть даже это эгоизм, я знаю. Понимаешь, я чувствовал, что просто не смогу по-настоящему понять все мои прошлые «я», пока не прочувствую все это через сына. Но увы, это исключено.
— Сюзан?
Он вздохнул.
— Да, хватит того, что ей пришлось перенести с Линдой, я просто и мысли не держу, чтобы она снова прошла через все это.
Что-то жестокое было в моих вопросах, а я все расспрашивал его. Почему? Потому что его удовлетворенность, спокойствие точно укором были моей собственной душевной неустроенности, всему моему образу жизни? А может потому, что я вообще отказывался признать, чтобы кто-то на свете мог быть столь безмятежным, в ладу с самим собой? Как бы там ни было, я так напрямик ему и брякнул что-то в том духе, что, мол, это на тему моей писанины. Так ведь я-то пишу ее на потребу, чтоб непременно все было со счастливым концом.
— Да нет. — Он не сделал даже попытки уклониться от ответа. — Но зачем же издеваться над тем, что другому дано, а тебе и даром не нужно?
Теперь он маленьким кусочком наждачной бумаги шлифовал брусок. А потом сказал с этой своей виноватой улыбкой:
— Я ведь знаю, у Сюзан были другие виды на мой счет. Она по-прежнему тешит себя мечтами.
— А ты махнул рукой?
— Нет, почему же, я еще мечтаю. У меня, однако, то преимущество, что с детства научился делать поправки на грубую действительность.
— То есть?
— Ты что же, забыл? А ведь я когда-то тебе рассказывал.
Рассказывал, я вспомнил. А он еще прибавил то, что не сохранилось в моей памяти. Об отце, принявшем на руки ферму родителей жены в Оранжевом свободном государстве. И справлявшемся, не без успеха даже. Вплоть до самой великой засухи 1933 года. Бену тогда было девять, десятый пошел. И он работал на равных со всеми; они перегоняли овец до Западного Грикваленда, где, по слухам, еще оставалась трава. Это и стало их роковой ошибкой. Когда засуха настигла их в Даниелскёйле, выхода не было.
— К тому времени у меня уже были свои овцы, — рассказывал Бен, — Немного. Но каждый год отец клеймил несколько для меня. А в тот раз ягнились мои собственные овцы. — Он долго молчал, а потом отрывисто и зло спросил: — Тебе приходилось резать новорожденных ягнят? Маленький белый комочек бьется у тебя в руках. А ты одним махом ножа… И так каждого, потому что овцам нечего было есть и ягнята бы все равно пали. Под конец ни кустика не было. Терновник почернел. Земля превратилась в камень А солнце день за днем сжигало последнее. Пришлось резать отару. Коршуны так и висели над нами. Бог знает откуда они взялись. И теперь уже не отставали. Они мне по ночам снились. Одну такую засуху пережить — на всю жизнь хватит. Счастье еще, что сестренка с матерью остались на ферме. Они бы такое не вынесли. Мы с отцом вдвоем были, — У него голос стал жестким. — Когда мы погнали овец к Даниелскёйлу, их у нас было две тысячи голов. А вернулись на следующий год с полусотней.
— Это был конец?
— Да, это был конец. Отцу пришлось продать ферму. На всю жизнь запомнился мне день, когда отец сказал об этом матери. В то утро он поднялся затемно и ушел, никому ни слова не сказав. Мы потом видели, как он ходил по высохшему пастбищу. Обошел нашу землю и вернулся. Мать стоит, ждет его у входной двери, и он открывает дверь, входит, а за ним врывается солнце. А на веранде — какая только нелепица, бывает же, засядет в голову на всю жизнь, а? — как сейчас помню, застыла наша старая служанка Лиззи с ночным горшком. Как шла, так и замерла. А как услышала, отец объявил матери, что нам придется продавать ферму, так и выронила горшок. И лицо ее помню, до смерти напуганное; матери и так лучше было на глаза не попадаться в те дни, но тут она слова не сказала.
— Ну и потом? — спросил я, когда Бен замолчал.
Он посмотрел на меня непонимающе, словно забыл, о чем речь. И отвечал короткими фразами:
— Потом продали ферму. Отец устроился на железную дорогу. Дослужился до мастера. Нам, детям, моей сестренке Луизе и мне, эта жизнь была не по душе. Каждое рождество отец возил нас кататься на поезде. Однако отец уже не встал на ноги. И мать была ему плохой поддержкой. До самой смерти она все жаловалась на судьбу, плакала. Так и умерла. А отец не мог без нее. И ушел вслед за ней.
Он повернулся ко мне спиной и продолжал возиться со своими деревяшками. Больше говорить было не о чем.
И еще немногое, что осталось у меня в памяти от тех двух недель, что я гостил у них, — это последний вечер. Сюзан репетировала пьесу для южно-африканского радиовещания, Бену надо было идти на какое-то собрание, и меня оставили посидеть с детьми. Потом мы с Беном еще пошли к нему в берлогу сыграть партию в шахматы, и, помнится, я уже изнывал, так она затянулась. Когда мы попрощались и я ушел, оставив его побыть перед сном в излюбленном одиночестве, было совсем поздно. Накрапывал дождь. В мокрой траве под ногами тихо жужжали букашки. От земли пахло свежестью. В комнате на столике подле кровати мне был заботливо приготовлен поднос с кофе, свет ночника выхватывал его из темноты. Надо мне было до полуночи торчать за шахматами, вот и упустил случай в последний раз поболтать с Сюзан.
Она вошла, когда я уже лег. Едва слышный стук в дверь. И когда я ответил «войдите», не уверенный еще, не померещилось ли мне вообще, она вошла. Как обычно, оставила дверь открытой. На ней было легкое летнее платье, волосы мягкими локонами свободно падали на плечи. Чуть уловимый аромат женщины, принявшей теплую ванну. Типичная сцена из любого моего бестселлера.
Она присела, как обычно, в ногах у меня, на краешек кровати, а я прихлебывал кофе. О чем мы говорили, не знаю. Помню только, как взбудоражило меня одно присутствие ее, вот так сидевшей на моей постели.
Я допил кофе. Она поднялась, подошла взять чашку и наклонилась за ней. Рассчитанный жест или чистая случайность, а только в вырезе платья обнажилась на какой-то миг ее грудь, и перед глазами у меня мелькнули нежно-белые, такие незащищенные тени с темными ореолами.
Я потянулся к ней, и пальцы сами сжались на ее запястье.
Она замерла и посмотрела мне в глаза, а я продолжал держать ее за руку. Страх — единственное, что отражалось у нее на лице. За меня, себя самое? Выражение, которое мне не составляло труда описать в интимной сцене какой-нибудь очередной истории любви. И вот отчего-то сейчас я едва нахожу слова, когда об этом надо попытаться сказать только правду… «Открытая рана»?
Я отпустил ее руку, и она порывисто коснулась моего лба губами, чуть коснулась. И тут же ушла, закрыв за собой дверь.
Удар-то пришелся гораздо позже. Девять месяцев спустя, если быть точным, она родила сына Йоханна.
На фоне трех наших жизней — бери их вместе либо каждую в отдельности — те полмесяца кажутся не больше чем эпизодом, да и не из значительных. Но мне не из чего выбирать. Теперь, когда я должен написать о нем, любой факт обретает значение. Не уверен, что мне удалось найти хоть что-то, какой-то ключ, но я пытаюсь, я просто обязан. Что же касается всего остального, то здесь остается уповать на бумаги, ими он меня не обделил. Вырезки из газет и письма, фотокопии, журналы и наспех нацарапанные записки. Девушка с милым в своей дерзости лицом на фотографии, сделанной на паспорт, и еще фотографии. Имена, фамилии. Гордон Нгубене. Джонатан Нгубене. Капитан Штольц. Стенли Макхайя и Мелани Брувер. И варианты, предлагаемые моим услужливым и, увы, часто уводящим в сторону воображением. Я должен погрузиться во все это точно так же, как он приобщился к этому в тот самый первый, ставший роковым день. С той единственной разницей, что он не знал, да и не мог тогда знать, что его ждет, в то время как меня сдерживает именно то, что я это знаю. Под тем, что для него осталось недосказанным, я могу поставить точку; что для него было жизнью, для меня — повесть, сообщение очевидца, изложение рассказчика. Мне предстоит воссоздать по загадочным заметкам простое, что скрыто за сложностью событий; что же останется неразборчивым, равно как и недостающее, просто вообразить. Мне предстоит развить то, что он мог только предполагать: он говорит — он думает — он вспоминает — он полагает. С помощью собственных заключений, того, что подскажет мне память, и его беспорядочных свидетельств я должен пройти все с начала и до конца наперекор пустой скорби, что только мешала бы мне — а она будет мешать мне, — и попытаться создать некое подобие достоверности. И эту ношу я должен взвалить на себя, должен пойти на этот риск: это вызов, от которого я не могу уклониться. Кто же еще объяснит, как спокойный, сдержанный человек, которого я некогда знал, стал одержимым, назначившим мне в тот день встречу в центре города?
В каком-то смысле я обязан это сделать, если не в память о нем, то ради Сюзан. Поведай правду обо мне, и я успокоюсь в сердце своем. С другой стороны, я писатель и не могу отогнать от себя мысль, что смотрю на него как на способ вырваться из паралича мысли, в котором пребываю. И это только мешает.
Может, я и счел бы возможным принять ту версию, что человек сам бросился под колеса автомобиля — объяснение не хуже других. Но чего-то явно не хватало в ней. Чего, я никак не мог понять. Но все говорило о том, что такая версия попросту лишена смысла. И вот теперь, когда через неделю после похорон я получил это последнее письмо, все стало на свои места. Теперь у меня нет выбора. И нет смысла его винить — он мертв.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Началось — в том смысле, конечно, что касается Бена, — со смерти Гордона Нгубене. Впрочем, как явствует из заметок самого Бена, сделанных, правда, позднее, и из газетных вырезок, корни этого дела уходят глубже. По крайней мере еще к смерти Джонатана, сына Гордона, последовавшей в самый разгар волнений молодежи в Соуэто. И собственно, даже еще глубже, к тому самому дню, двумя годами раньше, — а на этот счет в бумагах Бена есть расписка с краткой пометкой на ней, — когда он и начал принимать участие в тогда еще пятнадцатилетием Джонатане.
Гордон служил уборщиком в той самой школе, где Бен преподавал в старших классах историю и географию. В старых классных журналах до сих пор сохранились записи насчет Гордона Н. либо просто Гордона. Время от времени в финансовых отчетах Бена, которые он вел со всей тщательностью, значится: «Гордону — 5 рандов» или «Получено от Гордона (долга) — 5 рандов» и т. п. Случалось, Бен давал ему инструкции насчет того, что надлежит записать для урока на классной доске. В других случаях это — обращение за мелкими личными услугами. Однажды, когда в одном классе пропали деньги и кто-то из учителей тут же обвинил в краже Гордона, Бен взял его под защиту, и проведенное им расследование подтвердило, что виноват не он, что деньги взяли недавно принятые в школу ребята. С того дня Гордон почитал за обязанность раз в неделю мыть его автомобиль. А после того, как Сюзан родила Линду и какое-то время не могла вести домашнее хозяйство, жена Гордона Эмилия помогала им по дому.
Постепенно Бену открывалось прошлое Гордона. Совсем маленьким он приехал с родителями из Транскея, когда отец завербовался на рудники в Сити-Дип-Майн. А поскольку мальчик с детства проявлял интерес к чтению и письму, его послали в школу — что было не так уж легко осуществить, если учесть материальное и общественное положение семьи. Гордон успевал в учебе и даже сдал экзамены за второй класс школы первой ступени. Но тут отец погиб во время обвала в шахте, и он был вынужден бросить школу и пойти работать. Мать получала, правда, какие-то крохи — она была прислугой в богатом доме, — но этого не хватало. Он перебивался как мог, сначала мальчиком на побегушках в богатой еврейской семье из Хоутона. Позже подвернулось место посыльного в одной из адвокатских контор, здесь платили больше. А потом устроился помощником продавца в книжном магазине. Каким-то образом он ухитрялся читать и прочитывал все, что попадалось в руки, и владелец магазина, растроганный тягой мальчика к знаниям, помог ему продолжить учебу. Так он смог сдать экзамены за четвертый класс.
Сдал и вернулся в Транскей, что, как оказалось, было неправильным шагом, поскольку здесь работы для него не нашлось, если не считать, что двоюродный дедушка протянул руку помощи, предложив помогать на ферме. Полол кукурузу, травил с тощей дедушкиной собакой зайцев в вельде (мясо шло к обеду), а то просто жарился на солнцепеке у дверей, пока что-нибудь прикажут. Он бежал городской неустроенности, жизни впроголодь, а здесь, на ферме, оказалось и того хуже. То ли он устои утратил, то ли характер у него испортился, но что-то в нем надломилось за эти годы, пока метался неприкаянным. Он и сам чувствовал, как внутри у него растет и разливается раздражение. Все, что удалось накопить за время его городской жизни, пошло на лобола — выкуп за невесту. Вернулся в Транскей. И чуть ли не через год, не выдержав и там, подался в единственное место, которое хорошо знал, — в свой квартал Готини в Йоханнесбурге. После недолгих мытарств он устроился на работу в школу, где преподавал Бен.
Один за другим пошли дети: Александра, затем Марока, потом Роберт. Но любимцем оставался старший — Джонатан. С самого начала Гордон решил воспитать сына в традициях своего народа. И когда Джонатану исполнилось четырнадцать, его отправили в родной Транскей пройти обряд инициации.
Через год Джонатан, нареченный именем Сипхо, которое и должен был считать «настоящим», вернулся, теперь уже не кведини[15], а настоящим мужчиной. Гордон не уставал говорить о том знаменательном дне. С тех пор его полку прибыло: двое мужчин в доме. Не обходилось, конечно, без трений, тем более что Джонатан имел теперь право на собственное мнение, но в одном, главном, они были едины: пока можно будет, Джонатан должен ходить в школу. И лишь когда он сдал экзамены за начальные шесть классов и оказалось, что средняя школа им не по карману, они обратились за помощью к Бену.
Бен навел справки в школе, где учился Джонатан, в приходской церкви, и, убедившись, что отзывы о нем сводятся к одному: развитой юноша, настойчив, подает надежды, — предложил платить за учебу, сказав, что берет на себя расходы на учебники, разумеется, до тех пор, пока тот будет так же отлично успевать.
Подросток и вправду произвел на него впечатление — худенький, вежливый, скромный мальчик, всегда опрятно одет, неизменно в свежевыстиранной, под стать своим белоснежным зубам рубашке. В оплату расходов, предложил Гордон, Джонатан согласен по субботам и воскресеньям помогать Бену в саду.
Когда он принес школьный табель за первый год, то-то радости было. Все оценки были выше среднего балла. В награду за успехи Бен отдал ему костюм Йоханна — мальчики были почти одного роста, — новые ботинки и прибавил два ранда на карманные расходы.
А на второй год его как подменили. Учился он по-прежнему ровно, но, казалось, потерял прежний интерес к школе, стал даже прогуливать уроки. Теперь он больше не приходил по субботам и воскресеньям помочь Бену в саду, стал замкнутым, в нем вдруг все чаще проявлялась строптивость. Мог даже нагрубить в ответ, а как-то, и потом это повторилось, вел себя откровенно дерзко с самим Беном. Гордон стал замечать, что сын проводит больше времени на улице, чем дома. Естественно, ни к чему хорошему это не могло привести.
Тревоги оказались не напрасны. Все началось с памятной истории в одном пивном баре. Подгулявшие цоци[16] стали задирать посетителей, людей в возрасте, а когда хозяин пытался выставить это хулиганье, они устроили дебош, принялись крушить все подряд. Вызвали полицию. Подростков забрали — кто попался под руку. Вообще-то в два полицейских фургона собрали всех, кто, оказался в баре и поблизости от этого злополучного заведения.
Мальчик доказывал, что не имел никакого отношения ко всей этой истории. Ну честное слово, ни сном ни духом. Совершенно случайно оказался на месте этой свалки. А свидетели полиции утверждали, что и этого, мол, видели среди хулиганов. Суд был скорым. По недоразумению Гордон не присутствовал на судебном разбирательстве: ему было сказано, что заседание назначено на двенадцать, а когда он вошел в зал, все было кончено. Он пытался опротестовать приговор — шесть ударов плетью. Но опоздал, приговор уже был приведен в исполнение.
Утром он потащил Джонатана к Бену. Мальчик еле передвигался.
— Сними штаны и покажи все баасу, — приказал Гордон.
Джонатан пытался протестовать, но тщетно. Гордон тут же рванул ремень и сам спустил с него перепачканные кровью шорты, обнажив ягодицы и шесть кровавых рубцов на них, зиявших, точно шесть резаных ран.
— Нет, не на это я пришел жаловаться, баас, — сказал Гордон. — Будь я уверен, что он и вправду совершил что дурное, я бы ему еще добавил. Но вот он говорит, что невиновен, а они ему не поверили.
— Суд не дал ему доказать свою невиновность?
— Что он понимает в этом деле? Да он и сообразить ничего не успел.
— Не думаю, Гордон, что теперь можно чем-нибудь помочь делу, — отвечал Бен и сам подавленный случившимся. — Можно нанять адвоката, я беру это на себя, но это, увы, не поможет тому, что случилось. — И он показал на иссеченные ягодицы подростка.
— Знаю. — Гордон молча наблюдал, как Джонатан в ярости натягивал на себя шорты. А потом поднял глаза и сказал почти извиняющимся тоном: — Ягодицы со временем зажиdут. Не об этом я тревожусь. Рубцы останутся здесь. — Он показал на сердце, едва сдерживая гнев. — А такие рубцы не заживают.
Он оказался прав. Джонатана словно отрезало от школы напрочь. По словам Гордона, подросток так возмущен был поступком этих буров, что отказался учить африкаанс. Теперь он рассуждал о таких вещах, как «Черная сила» и Африканский национальный конгресс, что приводило в уныние и просто пугало отца. На экзаменах Джонатан провалился. Его это, похоже, нисколько не трогало. День ото дня, жаловался теперь Гордон, он все меньше бывает дома. А на вопросы, где был, вообще не отвечает. Бен не пожелал более вкладывать средства в то, что представлялось теперь пустой тратой денег. Но Гордон умолял его повременить.
— Баас, если вы бросите его именно сейчас, это конец для Джонатана. И не только для него. Ведь он у меня не один, и зараза перекинется на остальных. Это очень плохая болезнь, и только школа может вылечить его.
Бен скрепя сердце согласился повременить. И к вящему его удивлению, следующий учебный год мальчик начал не в пример прошлому. Дома Джонатан по-прежнему держался замкнуто, ходил угрюмым, и порой это прорывалось в неожиданных вспышках. Но теперь он не пропускал занятий. И так было до мая, если быть точным, до шестнадцатого мая, той среды, когда в Соуэто вспыхнули волнения. Дети сновали на школьных дворах, подобно рою пчел, готовых покинуть улей. Демонстрации. Полиция. Стрельба. Увозят убитых и раненых. С этого дня Джонатан едва забегал домой. Эмили, оцепеневшая, ошеломленная, держала младших дома и все прислушивалась к доносившимся с улицы взрывам, вою сирен, рычанью бронетранспортеров. По ночам вдруг вспыхивали огнем винные лавки, пивные бары, административные здания, школы. На улицах торчали обуглившиеся остовы автобусов компании «Put».
А случилось это уже в июле, во время одной из демонстраций, к тому времени ставших почти ежедневным ритуалом: дети и юноши, собравшиеся для похода в Йоханнесбург; полиция, перекрывающая им путь на бронетранспортерах; длинные, захлебывающиеся очереди автоматов; град камней и бутылок. Перевернутый и подожженный полицейский фургон. Выстрелы, крики людей и лай собак. И вырвавшиеся из тучи дыма и пыли дети, бегущие к дому Нгубене, чтобы сообщить, задыхаясь от восторга, что они сами видели Джонатана в толпе, окруженной полицией. Ух ты, как он сражался. Но что было дальше, никто сказать не мог.
Ждали допоздна, но он так и не пришел. Гордон отправился к Стенли Макхайя, таксисту из черных, единственному человеку, который всегда знал все на свете, и кинулся тому в ноги, умоляя разузнать о Джонатане. Ведь у Стенли были связи по обе стороны баррикад: и среди полиции, и в самых потаенных уголках подполья, среди тех, кто не ладил с законом. Стенли Макхайя, говорил Гордон, единственный, кто может помочь, если хотите знать, что происходит в Соуэто.
Увы, как оказалось, даже Стенли Макхайя на этот раз был бессилен. В тот день полиция схватила столько народу, что потребовалась бы неделя, а то и больше, чтобы получить список всех арестованных.
На следующее утро Гордон и Эмили помчались в огромном белом «додже» Стенли в Барангванатхскую больницу. Они не были первыми, там оказалась толпа людей, прибывших сюда с той же целью, и им пришлось ждать до трех часов дня, пока человек в белом не провел их в холодную, выкрашенную в зеленое комнату. На металлических нарах вдоль стен — трупы детей. В изорванной и грязной одежде и обнаженные, изувеченные и целехонькие, как будто просто уснувшие, если б не аккуратное пулевое ранение, засохшее пятнышко крови на виске или на груди. У иных на шее, на запястьях или на лодыжках, висели бирки с нацарапанными фамилиями, большинство до сих пор оставались неопознанными. Джонатана среди них не было.
И снова в полицию. В те дни в Соуэто телефоны не работали, не ходили автобусы, а пригородные поезда остановились. Гордон снова вынужден был вызвать такси Стенли Макхайя, чтобы тот отвез их, как бы рискованно это ни было, на Й. Форстер-сквер. Весь день прошел в тщетных ожиданиях. Дежурные в полиции сбивались с ног и, понятно, не удостаивали даже ответом, когда к ним обращались с вопросами о судьбе арестованных.
Прошло еще два дня безрезультатных поисков, b Гордон обратился за помощью к Бену. То, что Гордон не появлялся на работе последнее время, никого не удивило. Угрозы расправиться с черными рабочими приняли такой размах, что мало кто рисковал в те дни вообще появляться в городе. Бен, как мог, старался успокоить Г ордона.
Вполне вероятно, что мальчик скрывается где-нибудь со своими друзьями. Случись что-нибудь серьезное, вы бы давно знали. Это же ясно.
Гордон, однако, не принимал утешений такого рода.
— Вы бы поговорили с ними, баас, — твердил он свое. — Меня они и слушать не станут, просто пошлют подальше. А вам они обязаны ответить.
Бен счел разумным обратиться к адвокату, чье имя мелькало тогда на страницах газет именно в связи с процессами над подростками.
Трубку подняла секретарь. Г-н Левинсон, к сожалению, занят, сказала она. Она может записать Бена на прием на послезавтра. Он настаивал, что дело не терпит отлагательств, что ему нужно пять минут и он все объяснит по телефону.
Левинсон раздраженно взял трубку, но согласился все-таки записать кое-какие детали. Спустя несколько часов его секретарь позвонила Бену и сообщила, что в полиции пока не могут ничего сказать по интересующему вопросу, но они займутся этим делом. Полиция «продолжала заниматься делом» и когда через три дня Бен посетил адвоката в его конторе.
— Но это же смешно! — запротестовал Бен — Не могут же они не знать имена лиц, задержанных ими.
Адвокат пожал плечами:
— Вы просто не знаете эту публику, господин Гетце.
— Дютуа, с вашего позволения.
— О, прошу прощения. — Он подвинул Бену через необъятный, заваленный бумагами стол серебряный портсигар. — Вы курите?
— Нет, спасибо.
Бен терпеливо ждал, пока адвокат неторопливо и со вкусом затянулся. Так курят, например, киногерои. Высокий, спортивного сложения, загорелый мужчина с гладко зачесанными набриолиненными волосами, кокетливо подстриженными бачками и тщательно выведенными в линию усиками, он напоминал Кларка Гейбла. Крупные холеные руки, два массивных золотых кольца на пальцах, запонки из тигрового глаза. Он принял Бена без пиджака, но широкий малиновый галстук на свежайшей сорочке в полоску придавал корректность строго рассчитанной небрежности манер. Все было в меру У этого человека. Бену пришлось трудно, разговор то и дело прерывали: непрерывно звонил телефон, и секретарь хорошо поставленным голосом что-то сообщала по селектору; входили и выходили помощницы — все как на подбор молодые, стройные блондинки, словно участницы конкурса красоты, — с папками и бумагами в Руках, конфиденциальным полушепотом сообщали нечто своему патрону.
В конце концов Бену удалось все-таки договориться с адвокатом, что в дополнение к телефонному разговору с полицией г-н Левинсон берется письменно затребовать от них определенную информацию.
— Итак, никаких причин для беспокойства, — сказал Левинсон с этаким покровительственным жестом, точь-в-точь футбольный тренер, доверительно сообщающий прогноз по поводу игры в ближайшую субботу, — мы им зададим жару. Да, кстати, вы оставили нам свой адрес, чтобы мы могли выслать счет? Полагаю, ведь именно вы оплачиваете расходы? Поскольку этот, — он сверился со своими записями, — этот Нгубене, надо думать, неплатежеспособен?
— Да, расходы оплачиваю я.
— Прекрасно. Я буду держать вас в курсе, господин Гетце.
— Дютуа.
— Ну конечно же, господин Дютуа. — Он с заговорщическим видом крепко пожал Бену руку. — Итак, до скорой встречи.
Через неделю, после еще одного телефонного звонка, пришло письмо с Й. Форстер-сквер: решение вопроса, говорилось в нем, передано в ведение комиссариата полиции. Выждав безрезультатно еще неделю, Левинсон направил письмо непосредственно верховному комиссару полиции. На этот раз ответ не заставил себя ждать, им кратко сообщили, что по означенному вопросу советуют обратиться к ответственному должностному лицу на Й. Форстер-сквер.
На очередное письмо по указанному адресу им просто не ответили. А когда Левинсон еще раз позвонил в полицейское управление и осведомился, не без язвительности в голосе, насчет ответа, не назвавший себя офицер резко ответил на другом конце провода, что они слышать не слышали ни о каком таком Джонатане Нгубене.
Но и после этого Гордон не терял надежды. Джонатан с успехом мог оказаться среди подростков, спасшихся бегством в соседний Свазиленд или Ботсвану. Вполне вероятно, если учесть, как он вел себя последнее время. Надо набраться терпения и ждать, смотришь, и придет от него письмо. А у Гордона на руках еще четверо детей.
Но чувство тревоги не отпускало. И почти как должное они восприняли, когда через месяц после исчезновения Джонатана к ним постучалась молодая негритянка, назвавшаяся медицинской сестрой.
Она сказала, что чуть не всю неделю разыскивает их. Она помогала какое-то время в отделении для черных в центральной больнице. Десять дней назад в отдельную палату был помещен юноша лет семнадцати-восемнадцати, похоже, в тяжелом состоянии, голова вся забинтована, боли в животе. Знаете, так стонут только от острой боли. Но никому из персонала не разрешалось входить к нему, а у дверей палаты поставили полицейского. Ну и однажды она услышала, кто-то сказал: «Нгубене». А потом она узнала от Стенли — да, она знает его, кто же его не знает? — что Гордон и Эмили разыскивают своего сына. Вот она и пришла.
Ту ночь они вообще не сомкнули глаз. И чуть свет кинулись в эту больницу, но какая-то нелюбезная особа нетерпеливо бросила им, что никаких Нгубене среди пациентов не значится, равно как и полицейских постов, что еще выдумали! И вообще у нее каждая минута на счету, так что лучше бы им убраться.
И снова к Бену. Снова к адвокату.
Директор больницы: «Что за абсурд? Неужели вы думаете, что, если бы в моей больнице и было такое, я ничего бы не знал об этом? Вечно вам видятся какие-то ужасы».
А через день эта молодая медсестра снова пришла к ним сказать, что ее уволили с работы. И не потрудились объяснить почему. А ведь несколько дней назад ее хвалили за добросовестность. И вот: мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Но она уверяла, что черного юноши в больнице теперь нет. Вчера вечером она пробралась-таки в то крыло здания, где он лежал, и самолично заглянула в полукруглое окно над дверью в палату, ей еще пришлось карабкаться черт те на какую высоту, но койка была пуста.
Следующие письма Дэна Левинсона в полицию остались без ответа, даже без подтверждения о получении.
Может, горько размышлял Гордон, все это одна болтовня. Может быть, он еще получит письмо из Мбаане в Свазиленде или из Габероне в Ботсване.
В конце концов, именно Стенли Макхайя, и никто другой, нашел-таки первую зацепку. Он водит знакомство с одним уборщиком в полицейском участке на Й. Форстер-сквер, так он сказал, и этот человек уверяет, будто Джонатан содержится в одной из подвальных камер. Ничего больше этот малый не знал. Нет-нет, сам он в глаза его не видел, если честно сказать. Но точно знает, что Джонатан там. А вернее, был там до вчерашнего утра. Потому что вчера днем ему приказали вымыть пол в этой камере, и он собственными глазами видел на полу кровь.
— Бессмысленно даже писать еще какие-то письма или звонить туда, — сказал адвокату Бен, побледнев от гнева. — На этот раз вы должны наконец что-то предпринять. Даже если потребуется судебное вмешательство.
— Положитесь на меня, господин Гетце.
— Дютуа.
— Да, да. Я, собственно, ожидал чего-то в этом роде, — произнес адвокат, вполне удовлетворенный собой. — Теперь-то мы зададим им работенку. На полную катушку. А что, если нам кое о чем намекнуть газетчикам, а?
— Это только все усложнит.
— Ну что ж, как хотите.
Но прежде, чем адвокат успел изложить разработанный им план действий, ему позвонили из специальной службы и попросили принять сообщение для его клиента Гордона Нгубене. Не откажет ли он в любезности передать означенному клиенту, что его сын Джонатан вчера скончался естественной смертью.
2
И снова Гордон и Эмили надели свои воскресные костюмы ради поездки на Й. Форстер-сквер — к тому времени в городе уже снова работал транспорт, — чтобы навести справки, когда они смогут получить тело сына для захоронения. Может быть, кто и подумал бы, чего же проще, а только оказалось, что и здесь замкнутый круг. Их отсылали из одного кабинета в другой. В службе безопасности (СБ) им велели справиться на этот счет в УСО, уголовно-следственном отделе, здесь просили обождать, зайти в следующий раз.
На этот раз Гордон, презрев свою старомодную вежливость, был непоколебим. Он отказывался двинуться с места, пока ему не ответят на вопрос, с которым он пришел. К вечеру их наконец принял очень симпатичный человек в старшем чине. Он попросил извинения за задержку с ответом, но, как он сказал, предстоит выполнить еще ряд формальностей. В том числе вскрытие тела. Но к понедельнику все обязательно будет закончено.
Когда же и в обещанный понедельник им пришлось уйти ни с чем, они направились к Бену, а с ним — к адвокату.
Как и прежде, этот высокий мужчина с внешностью Кларка Гейбла подавил их самоуверенностью, он восседал за столом, уставленным телефонами, заваленным папками, документами, пустыми чашками от кофе и затейливыми пепельницами. На загорелом лице сияли белизной зубы.
— Это переходит все границы! — воскликнул он. И тут же, с явным расчетом на эффект, набрал номер телефона полицейского управления и потребовал, чтобы его немедленно соединили с ответственным лицом. Там пообещали навести справки.
— Ну вот что, хватит морочить мне голову, — прокричал он в трубку и подмигнул своим клиентам. — Я даю вам ровно час времени. Один час. И чтоб больше никаких глупостей, договорились? — И посмотрел на свои золотые часы. — Если до половины четвертого я не получу ответа, я звоню в Преторию и во все газеты страны. — И он бросил трубку и снова ослепил их белоснежной улыбкой. — Вам давным-давно надо было обратиться в газеты.
— Господин Левинсон, нам нужен Джонатан Нгубене, — сказал Бен недовольно, — а не реклама.
— А вот без рекламы-то далеко не уедешь, господин Гетце. На этот счет положитесь на мое мнение.
К удивлению Бена, звонок из службы безопасности раздался тотчас же, в пять минут четвертого. Левинсон почти не говорил, только слушал, буквально внимал тому, что доносилось с другого конца провода. Кончив слушать, он долго сидел, разглядывая телефонную трубку, словно ожидал от нее еще чего-то.
— Вот это да!
— Что они говорят?
Адвокат посмотрел на него и почесал щеку.
— Джонатан Нгубене вообще не значится в списках задержанных. Согласно их данным, он был убит в день этих самых волнений, и, поскольку труп не был своевременно востребован, его похоронили еще месяц назад.
— Но почему же тогда они говорили на прошлой неделе, будто…
Адвокат ничего не ответил и только пожал плечами, словно возлагая всю ответственность на них, там.
— …и потом эта медсестра, — сказал Гордон. — И тот малый, ну, что уборщиком служит в полицейском участке. Они оба говорили о Джонатане.
— Послушайте-ка, — адвокат поднял руки и соединил кончики пальцев, — я напишу им официальное письмо с требованием представить копию медицинского заключения. Вот где мы добьемся своего.
Однако в коротком ответе, полученном неделю спустя из полиции, просто говорилось, что, к сожалению, медицинского заключения на этот счет не имеется.
Очень легко представить себе эту сцену. Задний дворик в доме Дютуа. Йоханн и его приятели, резвящиеся в бассейне на соседнем участке. Сюзан готовит в кухне ужин, ей еще надо успеть сегодня на собрание, так что детей стоит покормить раньше обычного. Бен у дверей черного хода. Гордон прижимает свою старую шляпу к груди обеими руками с такой силой, что вконец сплющил ее. Он в поношенном сером костюме — подарок Бена на последнее рождество — ив белой сорочке без воротничка.
— …а больше мне и сказать нечего, баас. Случись такое со мной, ну ладно. Или же с Эмили. Ладно. Мы уже не молоды. Но ведь это мой сын, баас. Джонатан — мой сын. Наше с вами время уходит. А время-то наших детей только наступает. Так для чего же нам жить, если они станут убивать наших детей?
Бен и так был подавлен. У него разламывалась голова. И не было ответа на все эти вопросы.
— Что мы можем сделать, Гордон? Ни я, ни вы ничего не можем изменить.
— Баас, в тот день, когда они отхлестали кнутом моего сына, вы тоже говорили, что мы ничего не можем сделать. Но если б мы сделали ну хоть что-нибудь в тот день, если б хоть кто-то услышал, что мы хотим сказать, так, может быть, душа его не исполнилась бы болью, и безрассудством, и отчаяньем. Нет, я не утверждаю. Я говорю «может быть». И кому дано знать?
— Это ужасно, Гордон. Я понимаю. Но у вас еще четверо детей, о которых вы должны позаботиться. И я готов помочь, если и их тоже вы пошлете учиться.
— Как он погиб, мой Джонатан?
— Об этом мы ничего не знаем.
— Я должен узнать об этом, басс. Как я смогу жить, если не узнаю, как погиб и где похоронен мой сын?
— Чему это поможет, Гордон?
— Ничему. Да. А только человек должен знать все о своих детях. — Он долго молчал. Нет, он не рыдал, а только слезы просто стекали по его впалым щекам на обтрепанный воротник серого пиджака. — Человек должен знать, а иначе он все равно что слепой.
— Будьте благоразумны, Гордон. Не надо опрометчивых поступков. Подумайте о своей семье.
Там, за высокой белой оградой, по-прежнему раздавался веселый визг детворы, когда он сказал тихо, но с непререкаемой твердостью и через силу, что если б, мол, это случилось с ним — ладно. Бог ему свидетель, он не остановится до тех пор, пока не узнает, что случилось с мальчиком и где они его похоронили. Уж он-то плоть от плоти моей, тело его хотя бы принадлежит мне?
Бен все стоял у черного хода для прислуги, когда мальчики, накупавшись, кинулись домой, кутаясь в яркие полотенца, зябко натягивая их на загорелые плечи. Йоханн весело поздоровался с Гордоном, но негр, казалось, даже не заметил его.
3
Гордон был одержим теперь одной мыслью — докопаться до истины. Для этого нужно было время, много времени, и он бросил работу в школе. Бен узнал об этом слишком поздно. Прежде всего предстояло найти следы тех, кто был в толпе в день расстрела демонстрации, — всех, кого удалось бы найти. Трудность заключалась в том, что мало кто вообще мог припомнить что-нибудь конкретное из всей суматохи того злополучного дня. Несколько человек, молодежь и пожилые уже люди, подтвердили, что действительно видели Джонатана среди других подростков в толпе, но что было после, когда открыли стрельбу, никто точно не помнит.
Гордона это не остановило. Первая зацепка была найдена, когда из больницы выписался один паренек, раненный в тот роковой день. Его ослепило залпом, задело глаза. Но он припомнил, как еще до этого Джонатана и нескольких ребят схватили и затолкали в полицейский фургон.
Одного за другим Гордон находил свидетелей, тех, кто видел, как Джонатана забрали и увезли; кто был арестован и вместе с ним побывал в Главном полицейском управлении на Й. Форстер-сквер. С того момента, однако, показания становились разноречивыми. Одних продержали под замком до утра, после чего отпустили; других перевели, кого в Моддерби, кого в Преторию или Крюгерсдорп. А остальные должны были предстать перед судом. Отыскать следы Джонатана в этой путанице было нелегко. Единственное, что удалось установить, кажется, со всей определенностью, что Джонатана не было среди убитых в самый день «мятежного сборища».
Старательно, кропотливо, как муравей, Гордон трудился над каждой уликой и возводил свой муравейник фактов в ненависти своей и своей любви. Он и сам не знал, что будет делать, когда построит это свое здание обвинения, соберет все, что ему нужно. Как вспоминала потом Эмили, она не уставала ему твердить об этом — ну а потом-то, что потом? Но только он сам не знал или не хотел отвечать. Похоже, тогда была одна цель — собрать улики, что потом — видно будет.
Затем, в декабре, целая группа арестованных, ожидавших суда, была вдруг освобождена. Среди них нашелся один юноша, Веллингтон Пхетла, он сидел в тюрьме, как оказалось, вместе с Джонатаном. И даже после того, как его перевели в другую камеру, он видел Джонатана на допросах. Веллингтон рассказывал, что люди из СБ, службы безопасности, пытались заставить их дать показания, что это они были зачинщиками «мятежного сборища», поддерживали связь с агентами АНК и получали деньги из-за границы.
Вообще-то Веллингтон неохотно отвечал на расспросы Гордона. В его манере держаться, вспоминала Эмили, было что-то дикое, затравленный человек. Стоило заговорить с ним, он начинал озираться, точно ждал нападения и не знал только с какой стороны. А изголодался он, ну точно зверь, которого долго-долго держали в клетке без еды. Со временем он стал отходить, успокоился вроде. И наконец позволил Гордону записывать, что рассказывал, а дословно следующее:
…что на следующий день после ареста у них отобрали одежду и унесли, и все остальное время их держали раздетыми донага;
…что так, раздетыми, их отвезли однажды днем в какое-то место за пределы города, где заставили ползти под заграждение из колючей проволоки, а полицейские, все чернокожие, подгоняли их дубинками и плетьми;
…что однажды его и Джонатана полицейские допрашивали, сменяя один другого, без перерыва часов двадцать подряд и что почти все это время их заставляли стоять раздвинув ноги на колодах, поставленных одна от другой на расстоянии около метра, а к половым органам привязывали по половинке кирпича;
…что его и Джонатана чуть что, ставили на колени, руки обматывали велосипедными камерами и накачивали их, пока не потеряешь сознание;
…что однажды, когда его допрашивали в камере у следователя, в соседней камере кто-то кричал на Джонатана и там слышались удары, его били; а ближе к вечеру там раздался страшный грохот, словно швыряли в разные стороны столы или стулья. И еще рыданья Джонатана. Потом они перешли в тихие стоны, и наконец все стихло. Еще он слышал, как кто-то звал Джонатана по имени. А на следующий день он узнал, что Джонатана увезли в больницу, и больше он ничего о нем не слышал.
После долгих, терпеливых уговоров Гордону удалось убедить Веллингтона повторить свои показания под присягой у чернокожего адвоката. Тогда же были взяты письменные показания и у медсестры, которую прислал Стенли Макхайя. Но уборщик, который смывал следы крови в камере Джонатана, был так запуган, что ни о каких письменных показаниях и слышать не хотел.
По крайней мере начало было положено. Гордон верил, что придет день и он будет знать все, что случилось с сыном с самого его ареста и до той среды, когда они получили извещение, что Джонатан скончался якобы своей смертью. Теперь он разыщет, где он похоронен. Но зачем? Может быть, он задумал тайно выкопать труп и похоронить, как полагалось по обычаю, в умзи вабалеле — городе мертвых, — на кладбище Доорнкоп в Соуэто, рядом с их домом.
Но ничего этого Гордон сделать не сумел. На следующий день после того, как он заполучил письменные показания Веллингтона и медсестры, он был арестован теми же людьми из СБ. А вместе с ним бесследно исчезли и все добытые показания.
4
Единственным белым человеком, к которому Эмили могла обратиться за помощью, был Бен Дютуа. Стенли Макхайя привез ее в своем большом белом «додже». Все четыре урока, которые Бен провел в тот день в школе, она терпеливо прождала у дверей перед закутком секретаря. Это было через две недели после того, как в школе закончились летние каникулы. Прозвенел звонок на большую перемену, когда секретарь в явном замешательстве, всем своим видом показывая, что это не имеет к ней никакого отношения, доложила Бену о посетительнице. Подождав, пока коллеги примутся в учительской за чай, он вышел к ней.
— Что случилось, Эмили? Что вас привело сюда?
— Гордон, баас, хозяин.
Вообще-то говоря, он сразу все понял, но настаивал почти подсознательно, прежде чем поверить, чтобы она рассказала все до конца.
— Так что с Гордоном? Что случилось?
— За ним приехала полиция, и они забрали его.
— Когда?
— Ночью. Я не заметила время. Я так перепугалась, что даже не взглянула на будильник. — Она смотрела на него и теребила черную бахрому шали, расплывшаяся, преждевременно постаревшая женщина с опухшим от слез лицом. Но держалась она прямо и здесь давать волю слезам не смела.
Бен стоял перед ней и молчал. Он не нашелся, как утешить ее, ободрить.
— Мы уже спали, — продолжала она и все теребила бахрому, — А тут грохот, ну просто умереть от страха. Гордон пошел открывать, так они уже вышибли дверь, весь дом заполонили. «Полиция», — сказали они.
— Дальше.
— Ну они так сказали: «Ну-ка, кафр, это ты Гордон Нгубене?» А тут дети от шума проснулись, и младшенький стал плакать. Они не должны были делать такое, хозяин, на глазах у детей, — проговорила она сдавленным голосом. — Не должны. Ведь когда они ушли, видели бы вы моего младшенького, Робертом его зовут. А теперь ведь, после Джонатана, он старшим стал. Я его и так, и эдак уговаривала, успокаивала, все напрасно. Он просто места себе не находит. Ребенок, у которого на глазах уводят отца, этого ни в жизнь не забудет.
Бен слушал, будто не слышал, и все молчал.
— Весь дом перевернули, хозяин, — внушала ему Эмили. — Столы, стулья, кровати — ну все вверх дном. Коврик скатали, выпотрошили матрацы, ящики из буфета повышвыривали. Ну даже Библию перелистали. Все, все вверх дном перевернули. А потом стали бить Гордона, и все требовали отвечать, где, мол, он прячет какие-то вещи. Но что ему прятать, спрашиваю я вас, хозяин, что?! А потом они вытолкнули его за дверь и сказали: «Поедешь с нами, кафр!»
— И больше ничего?
— Больше ничего, хозяин, баас. Я кинулась за ним с обоими малышами на руках. А у машины один и говорит мне: «Вот-вот, попрощайся-ка с ним, вряд ли еще придется свидеться». Такой высокий, худощавый, я его еще по шраму на лице запомнила, у него вот здесь такой шрам, на щеке. — Она показала где. — Они забрали Гордона. Ну, тут соседи пришли, помогли мне прибраться в доме. Я детей спать уложила. Что теперь с ним будет?
Бен покачал головой.
— Нет, это, должно быть, какая-то ошибка, — сказал он. — Я знаю Гордона не хуже вас. Они отпустят его. Я уверен, что все будет в порядке, и в самое ближайшее время.
— Нет-нет, из-за этих бумаг не отпустят.
— Позвольте, каких бумаг?
Так Бен узнал о расследовании, которое взялся проводить Гордон и вел все эти месяцы, и о показаниях относительно гибели Джонатана. Но даже и тогда он не придал значения этому аресту — административная ошибка, случайное недоразумение, ничего больше. Властям не понадобится много времени, чтобы убедиться — Гордон честный человек. И он пытался, как мог, успокоить женщину. Она слушала его, но только из вежливости. Он ее не убедил. А себя?
Прозвенел звонок, кончилась большая перемена.
Бен проводил ее до угла, где стояла машина Стенли Макхайя. Стенли, увидев их, пошел им навстречу. Так Бен познакомился с ним. Плотный, тучный даже мужчина, метр восемьдесят росту, не меньше, с животом, распиравшим брюки, бычьей шеей и не то что двойным, а несколькими даже подбородками. Ну точь-в-точь копия вождя зулусов Дингаана, как его показывают в традиционных представлениях из истории прошлого века. Иссиня-черный. Тем светлее казались ладони. Они особенно бросились в глаза, когда Стенли протянул ему руку со словами:
— Ну, так это и есть твой бур? А, Эмили? Стало быть, это твой белый. — Он сказал lanie — на местном жаргоне.
— Это Стенли Макхайя, — сказала она Бену. — Тот самый, что все время помогает нам.
— Ну, и что вы на это скажете? — спросил Стенли.
Его жизнерадостная толстая физиономия и вся его фигура, избыток плоти, выражали непоколебимое, несмотря ни на что на свете, присутствие духа. А когда он хохотнул еще при этом, Бен вздрогнул: вот человек, который может повергнуть смехом.
Бен отвечал лишь то, что уже сказал Эмили, что им нет причин тревожиться, все это не более как прискорбное недоразумение, и ничего больше. Конечно, ужасная ошибка. Но через день-другой Гордона отпустят. Он абсолютно в этом уверен. Стенли пропустил все это мимо ушей.
— Да что вы такое несете? Слушайте-ка, ведь Гордон из всех людей, может, один мухи не обидел, и теперь мы должны ждать, когда они откроют эту вашу ужасную ошибку? Позор, да и только. А он еще всегда, бывало, твердил…
— Не нахожу уместным разговаривать в подобном тоне, — одернул его Бен. — Что значит «был, бывало»? Через день-другой он благополучно вернется к семье.
— А я вот что вам скажу, приятель вы наш, если парня заграбастали эти из СБ, о нем только и остается говорить в прошедшем времени. — И он улыбнулся во все лицо.
Он еще махнул на прощание своей ручищей, и они уехали.
В учительской Бена ждал сам директор школы.
— Господин Дютуа, разве вы не занимаетесь, согласно расписанию, в старших классах?
— Да. Прошу извинить, сэр. Я просто должен был встретиться кое с кем.
Директор был плотный мужчина, еще более грузный, чем Стенли Макхайя, но лишенный этой могучести таксиста. Толстяк с паутинкой красно-синих прожилок на щеках и носу. Редеющие волосы. Почему-то, когда ему приходилось смотреть человеку прямо в глаза, на щеках у него начинали перекатываться желваки.
— С кем то есть?
— С Эмили Нгубене. Супругой Гордона. Вы помните, он работал у нас. — Бен поднялся на ступеньку, чтобы встать вровень с директором, взиравшим на него сверху вниз. — Он, понимаете ли, арестован полицией.
Господин Клуте побагровел.
— Это лишний раз доказывает, что никому из них нельзя верить. Особенно в наши дни, не так ли? Слава богу, мы от него вовремя избавились.
— Это ошибка. Вы не хуже моего знаете Гордона, господин Клуте.
— Тем более. И, простите за каламбур, чем менее мы будем иметь дело с этими людьми, тем лучше. Мы ведь не хотим трепать доброе имя нашей школы, не так ли?
— Но, сэр, — Бен с удивлением уставился на своего принципала, — уверяю вас, произошла досадная ошибка.
— Служба безопасности не ошибается. Уж если они арестовывают кого, то будьте уверены, у них есть для этого все основания. — Он тяжело дышал. — Полагаю, мне не придется больше делать вам замечаний. Вас ждут ученики.
А теперь он один в четырех стенах в своем убежище, и от стены до стены рукой подать, а за стенами ночь. Он не включал верхний свет, довольствуясь ярким пятном, которое бросала настольная лампа. Только-только над городом прогремела летняя гроза. Теперь гром над головой умолк, слышались лишь отдаленные раскаты. Сквозь клочья облаков на землю причудливо светила луна. Канава все еще урчала под напором обильной воды. На душе было неспокойно. Гроза прошла, а в этой тесной комнате все хранило ее отзвуки, даже темнота почти физически ощущалась в этих четырех стенах.
Бен попытался было отогнать от себя все на свете мысли и сосредоточиться на проверке тетрадей, у него ведь письменная экзаменационная работа за девятый класс. Он повесил пиджак на спинку стула, расстегнул рубашку. Но шариковая ручка так и осталась лежать на первой открытой тетради, а сам он сидел, уставившись невидящим взглядом на книжные полки напротив. Книги, книги. Сколько их. И все до единой он мог бы припомнить и сказать, где какая стоит, даже в темноте. А темноту и тишину нарушал лишь слабый шелест тюлевых занавесок о металлическую решетку, которой от всяких случайностей было забрано окно. И в этой тишине, при свете, отбрасываемом маленьким кружком абажура настольной лампы, все случившееся представлялось нереальным, если не невозможным вообще. Широкое лицо этого Стенли, блестящее от пота, утробный рокот его голоса, его смех и его глаза, которые не трогала широкая, во весь рот, улыбка. И эта его фамильярность, явно пренебрежительная ухмылка в голосе: «Ну, так это и есть твой бур? А Эмили? Стало быть, это твой белый?» Эмили на ступеньках дома из красного кирпича. В голубой косынке, в длинном старомодном ситцевом платье и черной шали с бахромой. Городская жизнь ничуть не коснулась ее. Холмы Транскея — вот что по-прежнему было всего ближе ее сердцу. Будет ли ее сын спокойно спать этой ночью? Или вместе с другими станет бить окна, поджигать школы и крушить автомобили? И все только потому, что так неладно случилось с его отцом?! Гордон, его щуплая фигура, глубоко залегшие морщины вокруг рта, темный блеск глаз, застенчивая улыбка. Да, баас. Шляпа обеими руками прижата к груди. Я все равно не смогу остановить себя, пока не узнаю, что с ним произошло и где они его похоронили. Его тело принадлежит мне. И потом, почему вы стали говорить о нем в прошедшем времени?
Сюзан вошла неслышно, и он заметил ее, когда она поставила поднос на стол. Она только что приняла ванну и все еще излучала истому плоти, разнеженной в теплой воде. Свободный домашний халат. Волосы распущены и падают на плечи. Чуть неестественная, бликами, белизна ее белокурых волос выдавала первое легкое прикосновение седины.
— Ты все еще возишься со своими тетрадями?
— Никак не могу сегодня сосредоточиться.
— Ну а спать ты собираешься?
— Еще минутку.
— Что случилось, Бен?
— Да все этот Гордон.
— Чего ради ты принимаешь это так близко к сердцу?
— Сам не знаю. Наверное, просто устал. Знаешь, ночью все кажется каким-то преувеличенным.
— Выспись по-человечески хоть раз в жизни.
— Ну да, я же говорю. Еще минутку, ладно?
— Господи, да не забивай себе голову, тебя это не касается.
Он даже не взглянул на нее. Глаза были прикованы к красной шариковой ручке, недвижной и угрожающей на нетронутой тетради.
— Читаешь о такого рода вещах, — произнес он отсутствующе, точно в пустоту, — бог знает что слышишь вокруг. И все кажется абсолютно нереальным, пока самого не коснется. Мне и в голову не приходило, что такое может случиться с кем-нибудь из тех, кого близко знаешь.
— Близко? Не понимаю. Уборщик в школе, с доски стирает. Что у тебя с ним общего? — медленно выговаривая каждое слово.
— Я понимаю. И все равно не перестаешь удивляться, правда? Вот мы с тобой спокойно разговариваем в этой комнате, а он? Где он сейчас? А может, ему нет сна. Может быть, стоит где-нибудь в камере, слепят его там светом, поставили на чурбаки и между ног груз подвесили.
— Ну, знаешь ли, избавь меня хотя бы от этих подробностей.
— Извини, Сюзан. — Он вздохнул.
— У тебя больное воображение. Идем-ка лучше спать.
Он вскинул на нее глаза, пораженный чем-то непривычным в ее голосе. И почти ощутил ласку ее тела. Халат красиво облегал ее. Не часто она так откровенно выражала свои чувства.
— Сейчас. Иду.
Она помолчала. А потом запахнула халат.
— Кофе остынет.
— Спасибо, Сюзан, я не хочу.
Она ушла. И он снова слушал неумолчную капель с крыши. Гроза ушла, оставив после себя только эти мелодичные, отрывистые удары.
Завтра он сам пойдет на Й. Форстер-сквер, решил он. Он с ними сам поговорит. Так велит ему долг перед Гордоном. Короткий разговор, чтобы устранить всякое недопонимание. Ведь все это могло случиться не иначе как по прискорбной, но, значит, легко поправимой ошибке.
5
В самом конце Коммишнер-стрит, когда центр остается позади, стоят щербатые и обшарпанные дома. Облезлые вывески с едва различимими буквами кричат с голых стен о тигровом бальзаме и китайской аптеке. Среди этих разбросанных вперемешку развалин, провалов пустырей, усеянных всяким хламом и битыми бутылками, в самом конце улицы вы упираетесь в здание, здесь совершенно неуместное, — высокую, строгих прямых линий башню из стекла и бетона — голубое и вместе с тем воздушно-прозрачное, как бы пустое внутри. Оно невольно кажется миражем. И миражами мелькают в его стенах машины, проносящиеся за ним по скоростной автостраде М1. Полицейские, слоняющиеся по тротуару с подчеркнуто праздным видом. Кипарисы и алоэ. Стерильная больничная чистота внутри. Строгие, в струнку вытянутые коридоры; открытые двери и открытые взглядам люди, что-то пишущие за столами в своих маленьких кабинетах, и тут же закрытые двери и голые стены. Стоянка машин в цокольном этаже. Здесь же пустой лифт, без кнопок и панели управления. Входите, и он тут же стремительно возносит на нужный этаж. Глаз телекамеры следит за каждым вашим движением. На верхнем этаже кабина из пуленепробиваемого стекла. Рыжий детина в форме подозрительно оглядывает вас, пока вы заполняете все необходимые графы в бланке.
— Обождите минуту.
Минута, которая тянется целую вечность. Затем эти двести фунтов мышц приглашают вас проследовать через лязгающую стальную дверь, которая тут же за вами закрывается, обрывая все узы, связывающие вас с окружающим миром.
— Полковник Вильюн, посетитель доставлен.
За столом посредине комнаты средних лет мужчина поднялся, рывком отодвинув стул.
— Прошу, господин Дютуа. Здравствуйте, — Дружелюбие на лице. Седые волосы подстрижены ежиком. — Знакомьтесь, лейтенант Вентер.
Это молодой, спортивного сложения тип с темными чуть вьющимися волосами. Он стоит у окна и листает журнал. Одаривает приветливой мальчишеской улыбкой. Форма сафари. Загорелые волосатые ноги. За резинку бледно-голубых гольфов заложена расческа.
Полковник жестом показывает на человека в дверях — капитан Штольц. Этот кивает, но без улыбки. Высокий, поджарый. На нем спортивный клетчатый пиджак, рубашка оливкового цвета, со вкусом подобранный галстук и серые фланелевые брюки. В отличие от своего коллеги он не делает вид, что занят каким-то там журналом. Стоит, привалившись к косяку, и скучающе играет апельсином: подбрасывает и ловит, монотонно подбрасывает и ловит. А поймав, всякий раз сжимает длинными белыми пальцами, крепко и сладострастно, а его немигающие глаза ощупывают ваше лицо. Он сбоку и сзади, и это нервирует, но именно так поставлен стул, на который показывает посетителю полковник. На столе бросается в глаза фото в рамке: у женщины приятное, хотя и невыразительное лицо, рядом два белокурых мальчика, улыбающихся во весь рот беззубой улыбкой.
— Итак, у вас какие-то проблемы.
— Ничего особенного, полковник. Я пришел поговорить с вами и, если хотите, обсудить дело этого Гордона, которого вы арестовали. Гордона Нгубене.
Полковник заглянул в листок бумаги на столе, тщательно разгладил бумагу рукой.
— Понятно. Что ж, если мы можем чем-нибудь быть полезны…
— Я подумал, что могу чем-нибудь помочь вам. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение.
— Почему вы решили, что произошло недоразумение?
— Потому что я знаю Гордона достаточно, чтобы заверить вас… Понимаете, он как раз из тех людей, которые просто не могут совершить что-либо незаконное. Честный, порядочный человек. Богобоязненный.
— Вы будете удивлены, господин Дютуа, узнав со сколькими честными, порядочными, богобоязненными людьми нам приходится иметь дело. — Полковник откинулся на спинку и теперь сидел, покачиваясь на задних ножках стула. — Тем не менее рад, что вы изъявляете желание помочь нам. Могу заверить, что при наличии должного желания помочь нам и с его стороны он весьма скоро будет снова со своей семьей.
— Благодарю вас, полковник. — Хотелось принять все это как должное и вздохнуть с облегчением. Но теперь нашло ощущение, тупое какое-то, смутная надежда, что можно быть откровенным с этим человеком. Глава семейства, как и ты сам. И в жизни насмотрелся всякого, и хорошего и плохого. Может, всего несколькими годами старше. Вполне вероятно встретить такого человека в церкви, в воскресенье на собрании старост. — Так что же за всем этим кроется, полковник? Должен признаться, что меня буквально потряс его арест.
— Обычная следственная процедура, господин Дютуа. Полагаю, вы правильно понимаете нас — нам приказано, и мы наводим порядок. Прикажут, камня на камне не оставим.
— Конечно. Но если б вы только могли мне рассказать…
— А это история не из приятных, уверяю вас. Нам ведь шагу не ступить, чтобы газеты не подняли крик — убивают! Особенно эти, английские. Им легко наводить критику со стороны, не правда ли? А сами первые поднимут вой, когда коммунисты возьмут верх. Я бы вам порассказал, будь моя воля, какие мы тут вещи раскрыли. Вы хоть какое-нибудь представление имеете, что бы случилось со страной, не займись мы вот так расследованием самых, кажется, незначительных вещей? Мы исполняем свой долг, обязанность перед нацией, господин Дютуа. У вас своя работа, у нас — своя.
— Я понимаю вас, полковник. — А у самого возникло странное чувство, будто его в чем-то обвиняют, неловкое ощущение, что каждое его слово звучит подозрительно, что в нем ищут тайный смысл. — Но время от времени хочешь убедиться — и именно за этим я здесь, — что в поисках действительных преступников вы не причиняете, невольно конечно же, зла ни в чем не повинным людям.
Тишина в комнате. Забранные решетками окна. Обстановка гнетущая. И тут до него наконец дошло, что дружелюбно улыбающийся курчавый малый в костюме сафари с тех самых пор, как он вошел, не перевернул ни единой страницы в своем журнале. И помимо воли вспомнил, что за спиной еще один, и почувствовал его занывшим затылком, того худощавого в клетчатом пиджаке. И обернулся. Стоит, как стоял, в дверном проеме, привалившись к косяку, и апельсин в механическом ритме прыгает вверх-вниз. Холодные и откровенные глаза. Он словно не спускал с Бена этого своего взгляда темнокарих глаз на таком бледном лице с белым глянцевым рубцом через всю щеку. И внезапно его осенило. Только бы не забыть фамилию. Капитан Штольц. Уж он-то здесь не случайно. И роль знает. Им еще предстоит встретиться.
— Господин Дютуа, — проговорил полковник, — раз уж вы все равно здесь, не откажите ответить на несколько вопросов насчет этого Гордона Нгубене.
— Разумеется.
— Давно вы его знаете?
— О, целую вечность. Лет пятнадцать, шестнадцать, я думаю. И все это время…
— Какую работу он выполнял у вас в школе?
— Нанят был уборщиком. Но поскольку он грамотный, умеет читать и писать, помогал также на складе, ну и где придется. Абсолютно за него ручаюсь. Помню, когда ему случайно выписали лишние деньги, а это было дважды, он тут же принес их…
— Встречались ли вы когда-либо с кем-нибудь из членов его семьи?
Полковник открыл блокнот, взял шариковую ручку, но пока лишь чертил что-то машинальным движением руки.
— Иногда к нам заходила его жена. И старший сын.
Почему вдруг ощущаешь, как сводит челюсти и каждое слово дается с трудом? Откуда такое чувство, словно выбалтываешь что-то самообличающее, а нечто другое скрываешь? За спиной, ты это знаешь, долговязый офицер не сводит с тебя немигающих, напряженных глаз и все играет апельсином: подбрасывает и ловит, нежно сжимает и снова подбрасывает.
— Вы имеете в виду Джонатана Нгубене?
— Да. — И почти против воли добавил, а в голосе была злость на себя: — Того, что скончался недавно.
— Что вы можете сказать о поведении Гордона Нгубене после смерти сына?
— Ничего. Я его больше не видел. Он уволился.
— И тем не менее полагаете, что знали его настолько хорошо, чтобы за него ручаться?
— Но после стольких лет…
— В разговорах с вами он когда-либо касался смерти сына?
А здесь как отвечать? Чего он от тебя ждет? И, секунду-другую помешкав, Бен ответил лаконичным:
— Нет, никогда.
— Вы абсолютно уверены, господин Дютуа? Если вы действительно так хорошо его знали…
— Не припоминаю. Я же сказал, он был человек богобоязненный. — Господи, почему «был», почему, как Стенли, все вокруг заговорили о нем в прошедшем времени? И даже он сам, Бен. — И я уверен, в конечном счете он заставил бы себя смириться с этим.
— То есть, вы хотите сказать, поначалу он не желал с этим мириться? Озлоблен был, агрессивен? Ну же, господин Дютуа.
— Полковник, а случись вот так вдруг умереть одному из ваших детей, — кивком головы он показал на фотографию на столе, — и никто вам не мог бы даже объяснить, как это произошло. Вы что же, приняли бы это со спокойной душой?
Совсем другой тон.
— Чем он так импонировал вам, этот Гордон Нгубене, господин Дютуа?
— Ничем особенно. — Чисто подсознательно он опять попытался подавить всякую откровенность. — Время от времени невольно обмениваешься какими-то фразами с человеком, если он рядом работает. Ну ссужал ему ранд-другой, когда он оказывался без денег.
— И платили за обучение его сына?
— Да. Мальчик подавал надежды. Я думал, будет лучше, если он станет посещать школу, чем слоняться по улице.
— Ну а выходит, никакой особенно разницы, а?
— Нет, я этого не думаю.
Что-то искреннее и этакая доверительность даже прозвучала в том, как полковник, покачав головой, сказал:
— Вот что я отказываюсь понимать. Посмотрите, ну сколько для них делает правительство! А что у них на уме? Как бы спалить да разрушить, что под руку попадется? Хотя в конечном счете сами же из-за этого и страдают. А вы все свое твердите: «Нет, не думаю».
Пожал плечами. Он не знал, что отвечать.
— Согласитесь, ни один белый подросток не повел бы себя таким образом, — настаивает полковник. — Как вы считаете, господин Дютуа?
— Не знаю, как сказать, бывает по-разному. — Он сдерживал негодование, теперь это давалось труднее, чем минуту назад. — Ведь вот если б вы могли выбирать, полковник, каким вам ребенком родиться у нас в стране, белым или черным, ведь выбрали бы белым? — Показалось или вправду за спиной что-то рванулось было? И снова голова сама повернулась в сторону капитана Штольца, который, по-прежнему не шелохнувшись, следил за ним, и только кисти рук заученным движением жонглировали апельсином. Зато на загорелом лице молодого человека у окна с журналом в руках — «Скоп»? — мелькнула улыбка.
— Я думаю, мы более или менее разобрались, — произнес тогда полковник Вильюн, кладя ручку на разлинованную бумагу, исчерченную закорючками. — Большое спасибо за то, что помогли нам, господин Дютуа.
Поднимался расстроенный, чувствуя себя последним дураком, и вот ведь обнадеженный, несмотря ни на что.
— Значит, Гордон будет скоро освобожден?
— Как только мы удостоверимся в его невиновности. — Полковник встал, с улыбкой протянул руку. — Поверьте, господин Дютуа, мы знаем, что делаем. Кстати, и для вашего же собственного блага. Чтобы вы и ваша семья могли спать спокойно.
Он проводил его до дверей. Лейтенант Вентер сердечно пожал ему руку; капитан Штольц кивнул, не удостоив улыбкой.
— Могу я попросить вас, полковник, еще об одном одолжении?
— Ну конечно же.
— Жена Гордона и дети очень беспокоятся о нем. Нельзя ли разрешить передачи? Ну немного еды, смену белья на то время, пока он будет здесь.
— Здесь кормят достаточно. Что касается белья на смену, то, если они так хотят… — Он пожал широченными плечами.
— Благодарю вас, полковник. Так я полагаюсь на вас.
— Вы сами найдете дорогу?
— Думаю, что да. Спасибо. До свидания.
6
Озабоченность Бена судьбой Гордона Нгубене постепенно начинала сказываться на его семье, пусть поначалу слегка, почти незаметно глазу. Но покой был нарушен.
Две белокурые его девочки к тому времени давно выросли, повзрослели и обе покинули отчий дом. Сюзетте, всегда бывшей «маминой дочкой», без особых усилий добивавшейся успехов в музыке, балете и сотне других увлечений, придуманных для нее Сюзан, к тому времени уже было двадцать пять или двадцать шесть лет. Она вышла замуж за молодого многообещающего архитектора из Претории, на которого буквально сыпались правительственные подряды провинции Трансвааль на самые престижные проекты. Муж шел в гору. Сюзетта приняла этот ритм. Получив после трехлетнего курса в университетском колледже в Претории степень бакалавра искусств, она закончила еще курс технического дизайна и два года работала в рекламной компании какой-то женской ассоциации. Затем ей предложили место одного из ведущих редакторов в новом шикарном журнале по искусству интерьера. Работа требовала вечных деловых поездок, большей частью за границу, они не оставляли времени для заботы о малыше, которого она к тому времени родила. Это огорчало Бена, и, должно быть, как раз в это время, после очередного ее делового турне по Соединенным Штатам и Бразилии, он достаточно резко выговорил ей на этот счет все, что думает. Как обычно, она только плечами повела.
— Не волнуйся, отец. У Криса столько собственных забот, всех этих конференций и консультаций, что, боюсь, он и не замечает, дома я или нет. А за ребенком есть кому смотреть, вот уж кто вниманием не обделен.
— Но, Сюзетта, когда женщина выходит замуж, она берет на себя определенные обязательства.
Улыбаясь, она состроила на лице снисходительную гримасу. Взъерошила его редеющие волосы:
— Ты безнадежно отстал от жизни, па.
— Ты недооцениваешь своего отца, — сказала Сюзан, внося поднос с чаем. — Он идет в ногу со временем. У него даже новое хобби появилось.
— Интересно какое? — Сюзетта была неподдельно заинтригована.
— Поборник прав политических заключенных. — Сюзан произнесла это холодно и резко, не то чтобы в открытую насмешку, но с точно отмеренной дозой иронии — сглаживать углы, вот уж этому она научилась за их долгую совместную жизнь.
— Ну, Сюзан, это уж ты слишком! — Он почему-то реагировал на это острее, чем можно было предположить. — Просто мне небезразлична судьба Гордона, и ты прекрасно знаешь почему…
Но Сюзетта расхохоталась, не дав ему договорить.
— Уж не собираешься ли ты мне сообщить, что решил в твои-то годы, папочка, играть в Джеймса Бонда? Или в святого?
— Не вижу в этом ничего смешного, Сюзетта.
— А я так просто со смеху умираю. — Она снова взъерошила ему волосы. — Это не твоя роль, папа. Брось ты это. Оставайся милым старым обывателем, добропорядочным и законопослушным, которого мы так обожали.
С Линдой всегда было значительно легче. Она всю жизнь была «его» ребенком, с того самого времени, как родилась. Сюзан долго хворала и не могла уделять ей материнской ласки. Линда выросла в привлекательную девушку — Лет двадцати к тому времени, — пусть не такой ослепительной красоты, как сестра, зато более сосредоточенную, самоуглубленную, что ли. А созрев — она перенесла в юности тяжелую болезнь, может быть, это сказалось, — стала глубоко религиозной. Приятная в общении, незакомплексованная, как теперь говорят, она легко ладила с людьми. В праздники, по субботам и воскресеньям, когда только была свободна от занятий в университете, она непременно сопровождала Бена в его утренних пробежках или хотя бы в послеобеденных прогулках. В университете на втором курсе познакомилась с Питером Элсом, много старше ее, он учился на факультете богословия. И вскоре Линда ушла с педагогического, хотя всю жизнь мечтала преподавать, и занялась общественными науками, чтобы, когда придет день, быть наиболее полезной своему Питеру. Бен, собственно, никогда ничего не имел против этого доброго по натуре, но довольно бесцветного юноши, хотя и чувствовал, как в его присутствии он поневоле более сдержан с Линдой, какой-то антагонизм, что ли, возникал при одной мысли, да что при мысли, сама мысль обижала, что он может ее потерять. Питер готовился стать миссионером. Год или два после университета он проповедовал под Преторией среди ндебеле. Но его мечтой было нести святое слово в самую глубь Африки или на Дальний Восток, спасая души в мире, что, «слепцу незрячему подобный, идет к бездне на стезе своей», к катастрофе. Не то чтобы Бен презирал этот его идеализм, нет. Просто ему казалось все это вычурным, что ли, при одной мысли о тех действительных страданиях, что придутся на долю его дочери. От мысли об этом сжималось сердце.
В отличие от Сюзетты Линда разделяла озабоченность Бена судьбой Гордона. Они с Линдой не вели серьезных дискуссий на эту тему — ведь девочка жила большее время в Претории и дома-то появлялась на конец недели, с женихом своим или без, — просто его воодушевляло ее сочувствие. Помимо всего, она была практична. А на что они живут, и Эмили и дети Гордона, без главы семьи? — вот как она поставила вопрос. И тут же позаботилась об их питании, одежде, плате за квартиру. И точно так же, как Бен, если только не с большей уверенностью, утверждала, сама глубоко убежденная в этом, что в ближайшее время все должно выясниться.
— В конце концов, мы-то знаем, что ничего дурного он не сделал, — сказала она в первый же вечер, как его арестовали. Они с Беном гуляли у озера в зоопарке. — И полиция обязана установить это очень быстро.
— Знаю. — Хотя, как он ни старался убедить себя в этом же, был настроен мрачно. — Только порой происходят самые неожиданные вещи.
— Они такие же люди, как и мы, отец. И всякий может ошибиться.
— Да, конечно.
— Вот увидишь, как-нибудь на днях они отпустят Гордона. И мы подыщем ему новую работу.
У ее Питера был несколько иной подход и, пожалуй, другое мнение на этот счет.
— Первое, что ему необходимо будет сделать, как только его освободят, — это перейти в лоно голландской реформатской церкви. Все эти секты — самая благодатная почва для всех и всяческих грехов, невесть на что толкающих бедных верующих. Постройте прочный храм веры своей на камне, и беда минует этих людей.
— Честное слово, не думаю, чтобы их проблемы как-то касались церкви, — съязвил тогда Бен, посасывая свою погасшую трубку.
Последним шел Йоханн, желанный сын, родившийся так неожиданно, когда Сюзан и он уже отбросили всякую мысль о том, что у них еще будут дети. Бен был готов баловать его напропалую, но Сюзан была неизменно строга к ребенку: не будь девчонкой, мужчины не плачут. Господи, ну весь в отца, за ручку води. Ну, давай же, держись, не пристало мужчине кукситься. И он рос живым, здоровым мальчиком. Подающий надежды шахматист. Отличный спортсмен. Вот только какой-то натянутый, как струна. Лошадка, готовая сорваться со старта, только не знающая пока куда.
В ту пятницу Бен и Йоханн вместе возвращались с тренировки. Йоханн набегался до изнеможения и теперь сидел расслабившись и барабанил пальцами по панели у ветрового стекла в такт мелодии, звучавшей у него в ушах.
— Это твоя лучшая тысячеметровка, какую я видел, — от всей души поздравил его Бен. — Ты метров на двадцать обошел этого Куна. И это на следующий день после того, как он у тебя выиграл. Поздравляю.
— В среду у меня было еще лучшее время, на одну и семь десятых секунды лучше. Что ж ты тогда не пришел посмотреть?
— Дела были в городе.
— Что за дела?
— В полицейское управление ездил.
— Да ты что, па? — Сын уставился на Бена — Это зачем же?
— Разузнать о Гордоне.
Йоханн смотрел на него заинтригованный.
— И они что-нибудь рассказали?!
— Нет. И вообще мне все это не нравится.
Какую-то минуту Йоханн молчал.
— Черт возьми, — воскликнул он вдруг, — как странно. Ну работал у нас в саду и все такое. Он мне даже нравился. Он еще сделал мне тележку из проволоки, помнишь? Ей богу, странно.
— А теперь они и его тоже забрали.
— И тебе хоть удалось растолковать им что про что?
— Не знаю. По крайней мере их полковник показался мне человеком разумным. Он обещал, что отпустят его, как только это представится возможным.
— Ты видел Гордона?
— Ну конечно, нет. Как это я мог видеть арестованного, это запрещено. Если уж упрячут за решетку, то… — Он затормозил у перекрестка и, пока не загорелся зеленый, все молчал. И только после того, как тронулись, продолжал: — Хорошо, что разрешили семье приносить ему белье на смену. — И еще прибавил: — Знаешь, я бы не хотел, чтобы мама знала, что я был у них там, а? Это может ей не понравиться.
Йоханн ответил с заговорщической улыбкой, что на него можно положиться.
7
С этого его посещения полицейского управления, собственно, все дело и приняло новый оборот. Дней через десять после того, как Бен передал семье Гордона слово в слово, что обещал полковник Вильюн, некий незнакомец принес Эмили новости. Она тотчас же примчалась с ними к Бену. Человек этот, как оказалось, несколько дней назад был препровожден на Й. Форстер-сквер по подозрению в попытке вооруженного нападения. Когда же было выяснено, что арестован он по ошибке, из-за сходства во внешности, его отпустили. Но он рассказал, что, пока содержался в тюрьме, видел там, мельком правда, Гордона, и был потрясен его видом; тот не в состоянии был ни слова сказать членораздельно, еле передвигался, лицо какое-то серое, распухшее, одним ухом не слышал вообще, а правая рука на перевязи. Не может ли Бен помочь?
Он тут же позвонил в СБ и потребовал, чтобы его соединили лично с полковником Вильюном. Голос на другом конце провода, корректный вначале, тут же изменился, едва Бен изложил полковнику суть дела. В конце, правда, полковник снова обрел едва ли не доверительный тон: «Боже мой, господин Дютуа! Вы что, действительно всерьез воспринимаете все эти россказни? Да поймите же одно: задержанный по обвинению в уголовном преступлении просто не может иметь никаких контактов с другими заключенными. Уверяю вас, что Гордон Нгубене пребывает в добром здравии, — И тут же, через паузу, уже несколько другим тоном: — Я понимаю вашу заинтересованность в этом деле, господин Дютуа, но поверьте, вы отнюдь не облегчаете нам работу. У нас больше чем достаточно своих проблем, и, знаете, капля доверия и доброй воли принесла бы куда больше пользы».
— Вы меня успокоили, полковник, своими заверениями. За этим я и позвонил вам. Теперь я могу передать его семье, что нет причин для тревоги.
— Мы знаем, что делаем. — И тут же почти отеческим тоном: — Господин Дютуа, не подхватывайте вы всякие сплетни, ради вашей собственной пользы послушайте меня.
Он спокойно принял бы все это за чистую монету, если б его не преследовала фигура этого капитана Штольца. Воображение подсказало, как тот слушает сейчас их разговор с непроницаемым лицом, прочерченным шрамом через всю щеку, мертвенно-белым на белой коже. И хотя Бен постарался, как мог, успокоить Эмили, у самого на душе оставалось тревожно.
А уже неделю спустя эта подсознательная тревога вдруг на голову обрушилась, когда Эмили с детьми понесла Гордону очередную смену белья. Она собралась постирать грязное, что ей вернули, и увидела на нем кровь, а в заднем кармане брюк она нашла три выбитых зуба.
Со всем этим, завернутым в мятую газету, она и примчалась на такси Стенли Макхайя прямо к Бену домой. Бен оказался в затруднительном положении. И не только потому, что Эмили была в состоянии, близком к истерике. Дютуа пригласили гостей к обеду, супружескую пару, друзей Сюзан по работе в Южно-африканской радиовещательной корпорации, нового приходского священника и кое-кого из коллег Бена, включая директора школы. Они как раз садились к столу, когда раздался стук в дверь.
— Там к тебе, — только и произнесла Сюзан, возвращаясь в столовую. А шепотом бросила: — Ради бога, постарайся их немедленно выпроводить. Пора подавать на стол, у меня все остынет.
Стенли был не в пример менее общительным, чем в прошлый раз. Он держался даже скорее вызывающе, будто обвинял во всем случившемся Бена. От него сильно попахивало спиртным.
И что вообще можно было сделать в такое время, вечером, в пятницу? Единственное, чем он мог успокоить Эмили, это заверением, что тотчас позвонит адвокату домой. Он не знал номера, а тут еще в справочнике оказалось несколько Левинсонов, и только на третий раз он дозвонился по адресу. Бен нервничал, в зловещей тишине ловя на себе взгляды Сюзан, когда беседа за столом прервалась и гости пытались понять, что происходит. Само собой, вечер в пятницу был не лучшим временем для делового звонка адвокату. «Какого черта, — заорал тот, — эго что, не терпит до понедельника?» Но когда Бен вышел к Эмили рассказать о результатах, она сказала: нет и нет. До понедельника, твердила она, Гордона, может, и в живых не будет.
Бен заикнулся было, обращаясь к Стенли, насчет того адвоката из черных, который помог тогда Гордону заполучить письменные показания.
— Не пойдет, — отрезал Стенли с ухмылкой. — Джулиусу Нгакуле три дня как запретили практику. Так-то вот. Нокаут в первом раунде.
Бен хмуро вернулся в гостиную и, избегая взглядов гостей, снова набрал номер. На этот раз Дэн Левинсон просто взорвался.
— Боже мой, я же не врач, который должен быть наготове в любое время дня и ночи. Что им от меня нужно, этим людям?!
— Они не виноваты, — жалко пролепетал Бен в совершенном замешательстве, стесненный присутствием гостей. — Их вынудили к этому. Неужели вы не понимаете, господин Левинсон, что дело идет о жизни и смерти?
— Ну ладно. Ох, господи Иисусе…
— Господин Левинсон, я прекрасно понимаю, насколько неуместно, что я беспокою вас в такое время. И если вы порекомендуете другого адвоката…
— Это еще зачем? Они что, черт подери, мне не доверяют?! Пусть назовут другого юриста, который сделал бы с мое, копаясь с этой заварухой в Соуэто. А теперь подавай им другого адвоката. И это благодарность…
Бену с трудом удалось вставить слово. В конце концов они договорились, что встретятся завтра у него в конторе. Адвокат потребовал, чтобы присутствовали все, кто может оказаться полезным: Стенли, Эмили… И этот человек, который рассказывал, что видел Гордона.
Стенли не ожидал от Бена ничего путного, это было совершенно очевидно. Он стоял, уперев руки в бока, и слушал, пока Бен излагал все это Эмили. Та сидела на ступеньке крыльца и всхлипывала так тихо, что было слышно жужжание москитов, роившихся у веранды.
— Значит, он собирается помочь нам? — сказал Стенли наконец. — Вы что же, все-таки уделали его, стало быть? — Он взорвался громовым хохотом. — Нет, поди ж ты, — красным заплетающимся языком он чуть не по буквам с наслаждением выговаривал каждое слово, — вот уделали, так уж ничего не скажешь. — Он театрально ударил себя кулаком в грудь: — Разрешите пожать вам руку, — и полез к Бену своей ручищей.
Бен нерешительно, но все же подал ему руку. Стенли долго тряс ее: подлинные ли чувства играли в нем или выпитое вино, трудно сказать. Он отпустил его руку так же внезапно, как и ухватил ее, и повернулся к Эмили, помог ей подняться.
— Поехали, тетушка Эмили. Завтра все будет по высшему классу.
Бен стоял и смотрел им вслед, пока огромная машина не укатила с ревом, сопровождаемая лаем собак со всей округи. В столовую он вернулся с тяжестью на душе.
Сюзан вскинула на него глаза и сказала с холодной сдержанностью:
— Твоя порция в духовке. Мы не стали тебя ждать.
— Конечно, конечно. Прошу прощения, господа. — И занял место во главе стола. — Да я и не голоден, к слову сказать. — Он отпил глоток вина из бокала, чувствуя на себе взгляды этих людей, пребывавших в молчаливом ожидании.
Сюзан:
— Ну и как, ты решил их проблемы? Если это, конечно, не секрет? — И не дав ему ответить, сказала, обращаясь к гостям с горькой усмешкой: — Последнее время Бен создает новейшую систему приоритетов. Надеюсь, вы простите его.
Не скрывая раздражения, он ответил ей, что, как ему кажется, он попросил гостей извинить его. И поставил бокал, чуть расплескав вино на белую скатерть. Он перехватил неодобрительный взгляд Сюзан, но оставил его без ответа.
— На днях умер один молодой человек. По крайней мере я пытаюсь не допустить еще одну смерть, — сказал он.
— Ваша супруга уже рассказала нам, — произнес один из учителей, Вивирс. Он преподавал африкаанс в шестом и седьмом классах, впечатлительный молодой человек, только что после университета. — Пора кому-то заняться всем этим, что-то надо делать. Нельзя же, право, все время просто отмалчиваться. У нас на глазах рушится вся система, и ни один из нас пальцем не желает шевельнуть.
— А что может сделать один человек против целой системы? — добродушно поинтересовался приятель Сюзан из ЮАРК.
— Отчего же, Бен вот вполне видит себя в роли рыцаря старых добрых времен. — Сюзан улыбнулась. — Разумеется, скорее в роли Дон Кихота, нежели Ланселота, тот хоть совершал подвиги в честь жены короля Артура, а не встречных кухарок.
— Не глупи, — бросил он зло. — «Один против целой системы», не в том дело. Система меня не касается. Я просто делаю, что мне по силам, и только.
— Что же, например? — поинтересовался директор Клуте сварливым тоном, обычным для человека с вечно расстроенным пищеварением. Он бесцеремонно отодвинул стул, встал и пошел к бару наполнить стакан содовой — гости пили вино, он же налегал на бренди с содовой. И, как обычно отдуваясь, вернулся к столу.
— Договорился о встрече с адвокатом на завтра, — отвечал Бен. — Попытаемся заполучить отвод Верховного суда.
— А не слишком ли вы все это драматизируете, что ли? — спросил молодой пастор преподобный Бестер, прибегая к форме добродушного упрека.
— Не думаю, учитывая, что произошло. — И Бен из вежливости, неохотно повторил им историю про кровь и выбитые зубы в заднем кармане брюк.
— Но, Бен, ты же за столом, — запротестовала Сюзан.
— Я только отвечаю на вопрос.
Вивирс, явно расстроенный, не спросив разрешения хозяйки, закурил сигарету, хотя все знали, как Сюзан строга на этот счет, и сказал:
— Как может выжить система, допускающая подобные вещи? Можете вы себе представить, ради всего святого…
— Ни о какой системе я не веду речь, — повторил Бен еще сдержанней. — Я одно знаю: в стране чрезвычайное положение, и нельзя не принимать этого в расчет. Я готов принять и то, что служба безопасности зачастую знает больше, чем мы с вами. Этого я не ставлю под сомнение. Я озабочен лишь судьбой людей, которых знал лично, только и всего. Не стану уверять, что так уж хорошо знал Джонатана. Уверять, что его не могли втянуть во всякие там незаконные дела, не стану. Но пусть даже так, я оставлю за собой право выяснить, что случилось и почему это вообще могло случиться. Что же касается Гордона Нгубене, я готов за него поручиться. Кстати, кое-кто из вас знал его не хуже меня. — Он посмотрел директору прямо в глаза, — И если уж они начинают воевать с такими, как Гордон, то ясно, что здесь что-то нечисто. Именно это я и пытаюсь выяснить.
— При условии, что вы не станете вмешивать во все это школу, — мрачно пробурчал Клуте. — Мы, педагоги, вообще вне политики.
На него тут же, подобно задиристому щенку, набросился Вивирс:
— Позвольте, а зачем же тогда партия националистов собирала собрание в школе в актовом зале ровно три недели назад? Это разве не политика?
— Это было не в рабочее время, — отрезал Клуте, глотнув как следует из своего янтарного цвета бокала. — И никакого отношения к школе это не имеет.
— Вы, лично вы, представили нам министра.
— Господин Вивирс! — Казалось, Клуте взвинчивает себя самого, так он уперся о стол обеими своими пухлыми руками. — При всем моем уважении к вам, разрешите заметить, вы ничего не смыслите в политике. И вообще, в наших школьных делах…
— Поэтому я и хотел получить кое-какие пояснения.
Сюзан тактично постаралась перевести разговор на другую тему.
— А лично я хотела бы знать, кто собирается расплачиваться за все это? Полагаю, не ты?
— Какое это имеет значение, — устало проворчал Бен. — Что положено, уплачу — в чем вопрос.
Приятель Сюзан из ЮАРК пошутил:
— Может быть, их преподобие организует сбор пожертвований?
Посмеялись. И самое опасное, таким образом, осталось позади. А еще через минуту-другую Сюзан и вовсе заставила их забыть о всех спорах, подав изысканный десерт. И когда кто-то снова упомянул в разговоре Гордона, это было принято без всякого напряжения, за столом царило самое прекрасное расположение духа.
— Может быть, полезней было бы в таком случае передать дело в суд, — сказал приходский священник. — Чрезмерная таинственность никогда до добра не доводит. Уверен, что тайная полиция сама только приветствовала бы это. Я хочу сказать, ведь это даст им возможность доказать собственную правоту, не так ли? Ибо когда все сказано и сделано, а в любом судебном разбирательстве наличествуют две стороны…
— Не тот случай, чтобы разбираться, — не дал ему закончить Вивирс, — и так все яснее ясного.
— Да и кто мы такие, чтобы судить? — вопросил Клуте, откидываясь на спинку стула в блаженном удовлетворении, белая салфетка все еще покрывала грудь и живот и хранила следы всех блюд сегодняшнего обеда. — Как там в Библии насчет того, кто первым бросит камень? А, святой отец?
— Истинно, — согласился преподобный Бестер. — Но не забудьте и то, что Иисус не поколебавшись изгнал менял из храма.
— Ибо Он знал, что нет злобы в сердце Его, — напомнил Клуте, тихонько рыгнув в руку.
Бен с отсутствующим взглядом наполнил бокал.
— Бен, — Сюзан укоряюще показала ему глазами на гостей. — Ты не один.
— Прошу прощения.
— Так что, пустим шапку по кругу? — Клуте ухмыльнулся.
— Господу одному дано постичь сердца чад Его, — сказал молодой священник.
— И чему быть, — добавил продюсер из ЮАРК, тот, что начал, — того не миновать.
Вивирс взорвался:
— А вот против этого я категорически возражаю. Слишком уж мы ретивы во всем полагаться на бога. Так и будем вечно жить в ожидании, пока все не провалится в тартарары? — Он поднял бокал. — За тебя, оом Бен, — сказал он. — Задай им жару.
И неожиданно вдруг все потянулись с бокалами, излучая доброжелательные улыбки. Ну просто мир на земле, в человецех благоволение, не то что минуту назад. Вздохнув свободно, успокоившаяся Сюзан вновь обрела пошатнувшуюся было уверенность и повела гостей к удобным креслам в холле. Кофе, прошу вас, и рюмочку мандаринового ликера.
И только через час, когда гости ушли, когда свет в доме был потушен и они остались вдвоем в спальне, она, снимая перед зеркалом косметику с лица, позволила себе сбросить и маску этой своей салонной вежливости.
— Надеюсь, ты понимаешь, что чуть было не испортил вечер? — произнесла она.
— Извини, Сюзан. — Он расшнуровывал туфли. — Ну все ведь вроде бы обошлось.
Она не удостоила его ответом. Подавшись вперед, Сюзан накладывала на щеки крем. Ночная рубашка открывала взгляду ее плечи, а в зеркале ему были видны нежные овалы ее груди. Сам того не желая, почувствовал, как в нем пробуждается нежность к ней, и тут же отогнал от себя эту мысль. Сегодня, он понимал, она ему не ответит нежностью.
— Чего ты добиваешься, Бен? — спросила она вдруг, с явной решимостью не оставлять все это так. Она бросила вату в корзинку рядом с туалетным столиком и взяла кусочек чистой. — Чего ты, в самом деле, хочешь? Скажи. Я должна знать.
— Ничего. — Он застегивал свою полосатую пижаму. — Я тебе уже говорил, просто старался помочь людям. Теперь дело за законом.
— Ты хоть соображаешь, во что ты позволил себя втянуть?
— Ох, перестань же нудеть! — Он расстегнул пуговицы на брюках, и они упали к ногам, звякнула пряжка пояса. Поднял и сложил брюки, повесил их на спинку стула. Натянул пижамные штаны.
— Помочь?! Именно таким образом? Почему ты не посоветовался сначала с кем положено в полиции? Уверена, они тут же объяснили бы тебе что к чему.
— Я там был. Опоздала с советом.
У нее безвольно упала рука, Сюзан смотрела на него в зеркало.
— Ты ничего не рассказывал мне.
Он только пожал плечами и пошел в ванную.
Она окликнула его:
— Почему ты не сказал мне об этом? Почему?
— А что, это меняет дело?
— Я твоя жена.
— Ну, не хотел тебя огорчать. — Он уже чистил зубы и отвечал из ванной.
Она пошла за ним. И теперь стояла, опершись о косяк двери. И с нехарактерной для нее настойчивостью сказала:
— Бен, все что мы создали с тобой за эти годы… Бога ради, ты убежден, что все это не пойдет прахом?
— Что, черт возьми, пойдет прахом?
— Мы хорошо живем. Пусть у нас нет всего, что могло бы быть… Мы могли бы иметь больше, будь у тебя хоть капля честолюбия. Но ладно, у нас есть какое-никакое положение в обществе.
— Послушать тебя, мне по крайней мере грозит тюрьма, не иначе.
— Просто не хочу, чтобы ты совершал опрометчивые поступки, Бен. Обещай мне.
— Обещаю. Но как я могу допустить, чтобы людей, которых я столько лет знаю…
— Да, да. — Она вздохнула. — Но только будь осторожен. Я прошу тебя. Вот уже скоро тридцать лет как мы женаты, а мне иногда кажется, что по-настоящему я тебя так и не знаю. В тебе есть что-то, к чему я просто не готова.
— За меня не беспокойся.
Он подошел к ней, взял в руки ее лицо и коснулся губами лба.
Сюзан пошла к туалетному столику, села. Вытянула шею и принялась массировать кожу на шее.
— Мы стареем, — сказала она вдруг.
— Да. — Он лег в постель, подвернул ногами одеяло. — Последнее время я все чаще и чаще думаю об этом. Как это ужасно, состариться, по сути, так и не живя.
— Так уж все плохо?
— Нет, наверное. — Он закинул руки за голову и лежал, смотрел на ее спину. — Похоже, мы просто измотались сегодня. Ладно, не сегодня завтра все наладится.
Но когда выключили свет, как он ни устал за день, сон не шел. Голова пухла от виденного, слышанного. Старое тряпье, завернутое в газету, что перед ним вывалили. Брюки в крови. Выбитые зубы. Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Перевернулся на другой бок, но стоило закрыть глаза, как все накатывалось снова. В глубине дома раздались какие-то звуки, он приподнял голову, прислушался. Дверца холодильника. Йоханн. Рыщет в поисках еды, может, пить захотел. В сознании близости к нему хотя бы сына было что-то тревожное и вместе с тем успокаивающее. Он опустил голову на подушку. Сюзан заворочалась в своей постели, вздыхая. Он прислушался к ее дыханию, но так и не понял, спит она или нет. Его окружали темнота и безмолвие ночи, беспредельной и бесконечной, — ночи с камерами в тюрьмах, тающими в сумеречном свете, залитыми светом, и с мужчинами в них, стоящими на колодах…
Апелляция по поводу судебного запрета чуть было не сорвалась, когда человек, якобы видевший Гордона в управлении полиции на Й. Форстер-сквер, отказался давать на этот счет письменные показания, убоявшись того, что может с ним произойти, если будет установлена его личность как свидетеля. Но такими уликами, как окровавленные брюки и эти выбитые зубы, адвокату удалось вооружить своего помощника довольно убедительными доводами, и апелляция была подано судье днем в ту же субботу. Последовало судебное постановление, предостерегающее службу безопасности против оскорбительных действий или плохого обращения с Гордоном Нгубене. К следующему четвергу полицейскому управлению было предписано дать письменные объяснения, опровергавшие апелляцию. И сам судья г-н Рейнольдс недвусмысленно дал понять, что относит дело к числу представляющихся ему весьма серьезными.
Однако на официальном слушании дела, состоявшемся на следующей неделе, положение коренным образом изменилось. Служба безопасности представила свои показания: одно от полковника Вильюна, категорически отвергавшего вообще какие бы то ни было попытки угроз и тем более оскорбления действием относительно задержанного; другое от мирового судьи, накануне посетившего Гордона и удостоверившего тот факт, что означенный арестованный выглядит и содержится нормально, здоров и не предъявил никаких жалоб по поводу обращения с ним; третье от окружного хирурга, показавшего, что на прошлой неделе он был приглашен в полицию осмотреть Гордона, после того как тот пожаловался на зубную боль. Он удалил три зуба, и, насколько мог судить, арестованный был в абсолютно нормальном состоянии.
Адвокат, получивший до ведения дела в суде все нужные инструкции от Дэна Левинсона, заявлял один за другим самые убедительные протесты против той обстановки секретности, в которой с самого начала велось дело, указав и на пагубные последствия в виде неизбежных и нежелательных для властей слухов. Однако судья недвусмысленно отклонил протесты, как основанные лишь на предположениях и домыслах, и, следовательно, у него не оставалось иного выбора, как отказать в судебном иске. Неудовлетворенный рядом аспектов дела, как они ему действительно представляются, заявил судья, он в свидетельствах, представленных суду, не усматривает тем не менее убедительных доказательств неподобающего обращения должностных лиц с арестованным. В судебном иске он отказывает.
Больше об Эмили не было ни слуха.
Недели через две Бен как-то оказался дома в совершенном одиночестве, Сюзан уехала в свою ЮАРК записывать очередную пьесу, Йоханн был на спортивных соревнованиях в Претории. От нечего делать он включил радио: «…Арестованный на основании Закона о преступных сборищах некто Гордон Нгубене был найден сегодня утром мертвым в своей камере… Согласно заявлению представителя службы безопасности, заключенный покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке, собственноручно сделанной им из одеяла…»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Первый раз в жизни он ехал в черный пригород Соуэто. В Софасонке-Сити, как называл его Стенли. Он сидел рядом с ним, уверенный мужчина в темных очках с огромными круглыми стеклами, сигарета, прилипшая к нижней губе, клетчатая кепка набекрень, полосатая рубашка, яркий широченный галстук, темные брюки и белые туфли. Они ехали в его громадине «додже» с наклеенной на капоте всем напоказ огромной розовой бабочкой. На руль была натянута перчатка красно-желтой лентой, а в центре вместо кнопки сигнала он смастерил из плексигласа полусферу с изображением блондинки в соблазнительной позе. С зеркала заднего вида свисала пара игрушечных боксерских перчаток. Сиденья он обтянул чехлами из овчины, но ядовито зеленого цвета. Радио было включено на полную громкость, обрывки дикой музыки перемежались отрывочными комментариями диктора из «Радио-банту».
Придорожной закусочной «У дядюшки Чарли» кончался город. Дальше, до самого горизонта, лежал местами бледно-желтый или серо-коричневый, выгоревший наголо вельд, каким он бывает на исходе лета, блеклый и унылый под таким же однообразным, скучным небом. Над пригородом висело грязно-серое облако, сплошной темной тучей заволакивавшее всю округу. Не было ни ветерка, что разогнал бы дым тысяч труб от печей и печурок, которым скармливали вонючий и дымный уголь.
— Сколько вы наездили на этой машине, Стенли? — спросил Бен, просто чтобы не молчать. Хозяин «доджа» с самого начала не одобрял эту поездку и был угрюм.
— На этой? — Стенли поерзал на сиденье с видом величайшего удовлетворения. — Три года. До этого у меня был «бубези». Ну, «форд». А только «додж» лучше. — И сладострастным жестом погладил полусферу на рулевой колонке.
— Нравится сидеть за рулем?
— Работа.
Сегодня из него с трудом приходилось слова вытягивать. Всем своим видом он давал понять: «Вы меня уговорили, а только я все равно не одобряю эту поездку».
— Вы давно в таксистах? — терпеливо допытывался Бен.
— Спокоен веку, lanie, — опять только на этот раз без умысла, употребляя это свое высокомерно-презрительное словечко. — Засиделся. — И тут же объяснил: — Жена покою не дает, все уши прожужжала: бросай, мол, пока кому-нибудь не придет в голову пришить тебя на повороте. — Резким жестом левой руки, как это принято у цоци, он показал, как это делается. «Додж» чуть вильнул в сторону.
— Почему? Разве это опасно, водить такси?
Стенли только и издал короткий свой смешок.
— Скажите лучше, белый человек, что не опасно, — На стеклах его темных очков мелькнул яркий зайчик. — Да нет, все дело в том, что это ведь не обычное такси. Понятно? Я же пират.
— А почему нельзя делать это по закону? — Бен ничего не понимал.
— Так куда выгодней. Поверьте мне на слово. И скучать некогда. Если не хочешь поститься, а хочешь, чтобы всегда хрустела кредитка-другая в заднем кармане, то и приходится рисковать. Ясно? — Он повернулся к Бену и оглядел его сквозь свои круглые темные очки. — Да что вы-то понимаете во всем этом, lanie? Белый и есть белый.
Насмешливый, агрессивный тон этого верзилы нервировал Бена; похоже, Стенли его ни во что не ставил. А может быть, это что-то вроде испытания? Тогда с какой стати?
Прозаичные краски, серый день. Они держались каждый сам по себе, не то что в прошлую их встречу тогда, поздним вечером, который теперь, по прошествии времени, казался почти нереальным.
Во-первых, в тот вечер объявили по радио эти новости. Странное ощущение от сознания того, что ты один во всем доме. Сюзан нет, Йоханна нет — никого, кроме тебя. До этого он работал у себя в «убежище» и только около девяти пошел на кухню поискать что-нибудь поесть. Он поставил чайник и сделал себе бутерброд с маслом. В буфете нашел банку сардин. И больше так, для компании, что ли, включил транзистор, программу новостей. Стоял, прислонившись спиной к буфету, когда-то собственными руками сделанному для Сюзан, прихлебывая чай и ковыряя сардину в банке маленькой десертной вилочкой. Сначала музыка. Потом новости: «…арестованный на основании Закона о преступных сборищах некто Гордон Нгубене…» Диктор давно закончил, а он так и стоял с пустой наполовину банкой сардин в руке. Такое чувство, словно тебя поймали за чем-то неприличным. Он поставил банку и долго вышагивал по дому, из комнаты в комнату, без всякой цели, включая и выключая свет. Зачем, почему? И этот ряд пустых комнат стал сам по себе целью, точно он проходил через себя самого. Вот комната его сознания, вот переходы и закоулки собственных артерий, желез и дальше через нутро… Вот в этой комнате спали Сюзетта и Линда, пока не упорхнули из дому, два милых белокурых создания, которых он купал и укладывал вечером спать. Играл в черепаху, играл в лошадок, рассказывал сказки, хохоча шуткам и чувствуя на затылке их горячее и доверчивое дыхание, на лице их мокрые детские поцелуи. А после постепенное, шаг за шагом, отчуждение, высвобождение, пока не ушли каждая своей дорогой. Комната Йоханна — сплошной беспорядок, хаос увлечений, свидетельство полного смешения вкусов: стены, обклеенные картинками гоночных автомобилей, фотографиями исполнителей поп-музыки и кинозвезд, вырезанными из журналов; полки и шкафы, уставленные моделями аэропланов и деталями каких-то механизмов, каркасами радиосхем, камнями, скелетами птиц, серьезными книгами вперемешку с комиксами и номерами «Скопа», спортивными призами; где попало брошенными грязными носовыми платками и носками, битами для крикета и теннисными ракетками, и масками для подводного плавания и бог знает еще чем. Первозданный хаос, в котором Бен чувствовал себя чужим. Спальня, его и Сюзан. Две кровати, разделенные маленькими одинаковыми тумбочками, а еще несколько лет назад тут стояла двуспальная кровать; фотографии детей; на туалетном столике Сюзан в строгом порядке ее косметика. И единственное, что против образцового порядка, — это бра, давно оторвавшееся и оставленное, как повисло, на спинке стула. Холл, столовая, кухня, ванная. Он чувствовал себя чужаком из далекой страны, прибывшим в город, все население которого вымерло от чумы. Все атрибуты жизни на своих местах, как были, не тронуты, несчастье не пощадило лишь живого, ни одной живой души. Он был один во всем непостижимом пространстве. И только потом уже, когда он вновь вернулся в свой кабинет, даже это убежище показалось чужим, принадлежащим не ему, но некоему другому, совсем чужому человеку. В комнате, где он был не хозяином, а незваным гостем, он снова вернулся к прерванным мыслям.
Завтра, подумал он, приедет Эмили просить совета или помощи. Он должен что-то предпринять. Но в голове была абсолютная пустота, ни малейшего представления, с чего начать. И когда на следующий день она не приехала, он просто вздохнул с облегчением. И в то же время не давало покоя другое чувство, точно его отстранили от чего-то важного. Хотя отлично понимал всю нелогичность таких доводов — что он мог сделать? Чего ради должен был делать? Да и что от него требовалось? Что он вообще знает, строго говоря, о жизни Гордона? Только что тот работал в школе? Ничего больше, а последние годы тот и вовсе был в стороне, и его это ничуть не тревожило. Так почему должно выбивать из колеи сейчас?
Он позвонил адвокату. Разумеется, юрист не может ничего предпринять без инструкций от членов семьи. Повесил трубку. Почувствовал себя и вовсе в идиотском положении. Помимо всего прочего, посторонний, так надо понимать?
Он даже набрал телефон службы безопасности, но, услышав голос на другом конце провода, тут же положил трубку. Похоже, Сюзан была права, когда упрекнула его за скверный характер. Вот он повздорил с Йоханном из-за того, что тот пренебрегает обязанностями по дому. На душе было неспокойно.
Затем настал вечер, когда к нему явился Стенли Макхайя. Испугавшись, Сюзан не стала даже открывать парадную дверь, когда тот постучал, а велела ему идти к черному ходу, сама бросилась в кухню и постучала в окно, как обычно, когда Бена просили к телефону или просто он был ей зачем-нибудь нужен.
Бен поднял голову на стук, а Стенли уже стоял на пороге его «убежища», непривычно тихий для такой громадины. Вечер был жаркий, и дверь оставалась распахнутой настежь. Бен вздрогнул от этого неожиданного явления и в первую минуту даже не узнал его. Давно стемнело, но тот был в темных очках. Шагнув в комнату, он, правда, вздернул их на лоб. Сюзан еще барабанила в кухонное окно: «Бен, как ты там, все в порядке?» Он раздраженно выглянул в дверь, да успокойся же! И некоторое время он и Стенли молча оглядывали друг друга, чувствуя каждый неловкость и настороженность.
— А Эмили не с вами? — спросил наконец Бен.
— Нет, она прислала меня.
— Как она?
Стенли пожал своими буйволиными плечами.
Бен неуклюже сказал что-то насчет того, как ужасно все, что случилось.
— Ну, положим, мы прекрасно знали, к чему дело идет. Разве нет?
Эта бесцеремонность не понравилась Бену.
— Как вы можете так говорить? Лично я все это время надеялся…
— Вы белый. — Словно этим все сказано. — Вам легко надеяться. По обыкновению.
— Вот уж не вижу никакой разницы, белый или черный, уверен…
— Не очень-то уверяйтесь. — И его дьявольский хохот на миг сотряс крохотное пространство комнатенки Бена.
— Когда похороны? — Бен постарался, как мог, вежливо переменить тему разговора.
— Не раньше воскресенья. Мы еще тело не получили. Говорят, завтра или послезавтра.
— Могу я чем-нибудь помочь? Ведь похороны это такие хлопоты, расходы. Прошу без церемоний.
Тот отмахнулся.
— Все сделано.
— Но ведь расходы… Все это дорого стоит.
— У него страховка была. Да и братьев оказалось довольно.
— Позвольте, я не знал ни одного.
— Да вот он я, один из них. Глядите. Мы все ему братья. — Снова он разразился вдруг неожиданным и неуместным хохотом, от которого, казалось, задрожали стены.
— Когда они сообщили Эмили все это? — спросил Бен, скорее, чтобы прекратить этот оглушающий рев.
— А никогда. — Стенли повернулся и сплюнул в открытую дверь.
— То есть вы хотите сказать, они не прислали даже извещения?
— Она по радио узнала, как и все мы.
— Что?!
— …На следующий день позвонил адвокат. Фараоны сказали, что, мол, извиняются, не знали, где ее найти.
Наступила тягостная тишина. И тут, сообразив, что они как стояли, так и стоят на ногах, он через силу заставил себя быть гостеприимным и показал гостю на одно из двух кресел, которые утащил сюда из дома, когда Сюзан купила новый гарнитур для холла.
• — Садитесь.
Стенли тут же опустился всем своим грузным телом в кресло, обитое ситцем в цветочек.
Бену снова пришлось нарушить молчание. Он встал, чтобы взять с письменного стола свою трубку.
— Прошу извинить, сигарет вам предложить не могу.
— Ладно. Свои имеются.
Потом Бен поинтересовался, зачем Эмили прислала его.
— У нее есть ко мне просьба?
— Ничего особенного. — Стенли сел, нога на ногу, одна штанина задралась, открыв красный носок. Белые туфли, красные носки. — Мне тут по дороге было, вот она и попросила заскочить. Просто сказать, чтобы вы не беспокоились.
— Боже мой, чего ради ей-то в ее положении взбрело в голову заботиться обо мне?
— А понятия не имею. — Он ухмыльнулся и пустил дым колечками.
— Стенли, как вы познакомились с Гордоном и его семьей? Вы давно дружите? Почему, когда нужна помощь, они обращаются именно к вам?
Смешок.
— У меня же машина, разве не понятно?
— Не вижу связи. При чем тут машина?
— А при том, что в ней все дело, lanie, — Снова это словечко, точно глиняный шарик, выстреленный мальчишкой из трубочки, без промаха бьющий между глаз. А Стенли уселся поудобнее. — Если у человека, как у меня, такси, он всегда к месту. Как говорится, к вашим услугам. В любое время. Ну, скажем, нарвался там на хулиганов чей-то благоверный. Вы подбираете его и везете домой или там в больницу. Или выручить кого надо, если застукают. То же самое, пожалте. Или там парень лишнего набрался в пивной. Или дама ищет себе провожатого, а без машины-то, — он сложил пальцы в кукиш, — ищи, вот найдешь! Шлюха. Понятно, что говорю? Ты на месте. Пожалте. Ну берешь их, слушаешь, как они в жилетку плачутся. Ты им и банк, когда где ссудишь до завтра, — он потер пальцем о палец, — и так всю дорогу, говорю вам. Если у тебя такси, ты первым знаешь, когда там ищейки облаву готовят, можешь предупредить своих ребят. Каждую полицейскую дубинку знаешь, а заодно и сколько ей надо заплатить. Где, как говорится, соснуть можно, а где затаиться. Все самогонщики наперечет. Нужна кому stinka, так он прямо к тебе, а?
— Stinka?
В веселом изумлении, хотя и чуть пренебрежительно, он секунду во все глаза глядел на Бена, а потом расхохотался.
— Ну удостоверение личности. Domboek. Паспорт.
— И давно вы знакомы с Гордоном?
— Да тыщу лет. Когда еще Джонатан вот таким был. — Он показал рукой на фут от пола. В его словах, громовом хохоте таилось, подобно тени, нечто недосказанное.
— Вы тоже коса?
— Иисусе Христе, за кого вы меня принимаете? — Снова рев. — Мы зулу, белый. Ужели нет различия? Мой отец привез меня из Зулуленда еще ребенком. — Он заговорщически подался к Бену, погасил окурок. — Слушайте-ка, белый. На этих днях я отправлю туда обратно детишек. Здесь, в городе, малышам не место.
— Если б я мог своих собственных детей увезти отсюда, пока они были маленькими, — с чувством произнес Бен. — Совсем по-другому сложилась бы вся их жизнь.
— Как это? — Стенли не понял, — Это ж место ваше собственное. Разве нет? Ваш город. Ваших рук. А?
Бен покачал головой, нет. И какое-то время сидел, молча разглядывая трубку в руке.
— Нет, это место не по мне. Там, где я вырос… — он усмехнулся, — мне, знаете ли, было четырнадцать лет, когда я первый раз в жизни надел башмаки. А так только в церковь разрешалось. Видели бы вы мои ступни, какие они были от вечной беготни за овцами по вельду.
— Мальчишкой я тоже смотрел за скотиной, — ухмыльнулся во весь рот Стенли, показывая свои крепкие белые зубы. — Мы такие еще сражения затевали в вельде, когда на водопой скотину гнали.
— И мы устраивали бои, стреляли из глиняных трубочек шариками.
— И лепили глиняных быков. И жарили черепах на костре.
— И грабили птичьи гнезда, змей ловили.
Они расхохотались, сами не зная чему. Что-то изменилось, и произошло то, что еще каких-нибудь несколько минут назад казалось невозможным.
— Ну по крайней мере нам обоим пока повезло. Выжили и в городе, — произнес наконец Стенли.
— Похоже, вам повезло больше моего.
— Разыгрываете?
— Ничуть, — сказал Бен. — Думаете, мне было легко приспосабливаться?
Стенли сардонически ухмыльнулся и умолк. Чтобы скрыть неловкость от сказанного, Бен спросил, не хочет ли Стенли кофе. И поднялся.
— Я пойду с вами.
— Нет-нет, не беспокойтесь. Сидите, пожалуйста. — (Про себя думал: Сюзан…) — Я на минуту. — И, не дожидаясь, тут же вышел. Шел по мягкой под ногами, пружинистой лужайке. Сегодня он стриг газоны, и в ночном воздухе стоял сочный запах свежескошенной травы. По счастью, Сюзан была в ванной. Бог миловал, подумал он.
Когда чайник закипел, он на секунду замешкался. Подать в чашке из нового сервиза, купленного Сюзан в качестве парадного, или налить в старую? Первый раз в своей жизни он принимал дома черного гостя. Раздосадованный собственной нерешительностью, он беспомощно открывал и закрывал дверцу буфета. В конце концов взял две старые чашки, первые, что под руку попались, блюдца, которыми давно никто не пользовался. В чашки отсыпал по ложке растворимого кофе, залил кипятком. Поставил на поднос молоко, сахар и, чувствуя себя почти преступником, с виноватым видом поспешил прочь из кухни.
Стенли стоял у книжного шкафа, спиной к двери.
— А вы, стало быть, историю преподаете?
— В некотором смысле, да. — Он поставил поднос на край письменного стола. — Прошу.
— Так. — И, хохотнув и не скрывая вызова, Стенли поинтересовался: — И чему же она научила вас, эта ваша история?
Бен дернул плечом.
— Пшик, — сам себе отвечал Стенли, поворачиваясь к своему креслу. — Знаете почему? А все потому, что вы, белый, воображаете, будто история творится там, где вы стоите, и больше нигде. Что бы вам прошвырнуться со мной в один прекрасный денек? Я вам как есть покажу, на что она взаправду похожа, история. Без прикрас. Дерьмовая, как эта жизнь. Сами понюхаете. Махнем ко мне в Софасонке-Сити, здесь, неподалеку. Не хотите?
— Хочу, Стенли, — мрачно отвечал Бен. — Я должен видеть Гордона, пока его не похоронили.
— Незачем это. Я ведь вообще.
— Нет-нет, вы идете на попятную. Сами только что сказали: я должен побывать там. Мне надо увидеть Г ордона.
— Не из приятных зрелище. Знаете, вскрытие там и все такое.
— Прошу вас, Стенли.
Стенли пристально поглядел на него, оценивая. Потянулся за чашкой, положил себе четыре ложки сахара.
— Благодарствуем, — произнес, прихлебнул кофе. И тут же с ухмылкой: — А ваша жена, знаете, даже дверь мне открыть не захотела.
— Ну, время позднее. И потом, она вас не знает. Вы должны понять…
— Не надо извиняться, ладно. — Стенли засмеялся и расплескал кофе на блюдце. — Думаете моя жена открыла бы кому среди ночи? — Он громко прихлебывал кофе. — Ну, исключая, конечно, gattes. Фараонов то есть.
— И вас действительно не беспокоит полиция?
— Почему же. — Он снова хохотнул. — Они скучать не дадут, поверьте мне, а только я знаю, как с ними ладить. Но это не значит, что они меня оставили с миром. Среди ночи, в любой час. Так-то. Иногда черт те чего ради лезут. Я не жалуюсь, не подумайте. Наоборот, — (с улыбкой во все лицо), — наоборот, прямо-таки все внутри полегчает всякий раз, как они наведаются. От благодарности. Я к чему, какого дьявола говорю? Ведь мы, ну я, жена, детишки, до сих пор за решетку почему не угодили? Только их заботами. — Он помолчал, долго вглядывался через открытую дверь в темноту, словно увидел там что-то интересное. Потом повернулся к Бену: — Не помню, сколько тому лет назад — я помоложе был, горячий парень. Сами понимаете, каково это, когда мать вдовая, отец умер, сестра водит компании с гангстерами, а брат… — Он сделал большой глоток. — У меня брат был самый что ни на есть отпетый, так-то. Он был моим героем, я так вам скажу. Я ему во всем подражал, Коротышке, значит, и всей его банде. За пример брал. А потом они и его взяли. Сцапали в один прекрасный денечек.
— За что?
— Скажите лучше, за что не взяли. Разбой. Вооруженное нападение. Изнасилование. Даже убийство. У нас о таких говорят roeri guluwa[17].
Бен отвел глаза и смотрел в темноту все сгущавшейся ночи. Но только там ему представлялись не картины, каким ухмылялся Стенли.
— А потом?
— Веревка, что еще.
— Вы хотите сказать?..
— Да. На шею.
— Простите.
— А вы спрашиваете «за что?», — Стенли снял очки, вытер слезы на глазах от хохота. — Да вам-то зачем это?
Бен потянулся за пустой чашкой, поставил ее на поднос.
— Я ходил навестить его, понимаете ли, — неожиданно заключил Стенли. — За неделю до того, как его вздернули. Ну просто сказать прости-прощай, да будет тебе земля пухом и все такое. Толковали о том о сем. Хорошо так поговорили. Странно все-таки. Понимаете, вот уж кого не назвать было разговорчивым, так это Коротышку. А тут ну просто генеральная уборка по всем статьям. Больше двадцати лет прошло, а я слово в слово все помню. Сопли да слезы. Про жизнь в тюрьме. И смертельный ужас. И это-то мой бандит братец, который огонь и воду прошел и ни черта в жизни не боялся… Рассказывал, как приговоренные у них молятся п ред тем, как быть повешенными. Без сна и отдыха всю последнюю неделю напролет. Даже последним утром, когда ведут на виселицу, и то с псалмами — ведь идет человек. В штаны наделал, а псалмы поет. — Стенли умолк, вроде почувствовал неловкость от того, что вдруг разоткровенничался. Грубо выругался. — А! Что прошло, то быльем поросло. А только из тюрьмы я подался к матери и все ей рассказал о нашем разговоре. Она стояла в мбавула, в хибаре нашей, будь она проклята, где мы тогда жили, овсянку варили, и все кашляла от дыма — когда примус зажжешь, так от дыма не продохнуть. Сел я, сижу и смотрю на нее, на жестянку с керосином, накрытую газетой, на примус, ведро на полу, фотографию вождя нашего крааля на стенке. Под кроватью картонки, чемоданы напиханы, не поймешь, на чем матрац держится — на кирпичах, что вместо ножек, или на скарбе нашем. Она и говорит: «Ну как там наш Коротышка, в порядке?» А я ей: «Полный порядок, ма, лучше не бывает». Ну мог я ей сказать, что его на следующей неделе повесят?
Потом они долго сидели молча.
— Еще кофе? — спросил Бен, чтобы не молчать.
Стенли поднялся.
— Нет, спасибо. Мне пора.
— Дадите мне знать, когда похороны?
— Если хотите.
— И тогда возьмете меня с собой в Соуэто?
— Я ж вам говорю, без пользы это. Неужели не понятно? Там кругом беспорядки, вы что, забыли? Не ищите себе неприятностей. Ваше тут дело сторона, так и оставайтесь в стороне.
— Как вы не можете понять, что я должен?
— Ну, мое дело предупредить, белый.
— Ничего не случится. Я ведь с вами.
Какое-то время Стенли не спускал с него жесткого взгляда, смотрел ему прямо в глаза. Затем бросил грубо:
— Тогда ладно.
А через день они поехали. Миновали старые Королевские копи, и возле электростанции Стенли свернул с автострады, и теперь они петляли по грязным проселкам, прорезывавшим пустыри на месте заброшенных рудников. «Смотри в оба за патрульными машинами, они здесь круглые сутки рыщут».
Ощущение чего-то абсолютно чужого с первого же взгляда на ряды одинаковых кирпичных строений. Не просто совсем другой город. Совсем другая страна, другие мерки, совершенно иной мир. Дети, копающиеся на грязных улочках. Машины и останки машин в тесных задних двориках. Цирюльники, предлагающие услуги на углах улиц Пустыри, лишенные признаков зелени, курящиеся кучи мусора и гоняющие среди них мяч мальчишки. То и дело на глаза попадались уродливые скелеты сожженных автобусов и сгоревших зданий. Впереди белого «доджа» мчалась стайка ребятишек, хохочущих, размахивающих руками, точно не было вовсе никаких следов побоища на каждом шагу и вообще ничего не случилось. Группы полицейских в полевой форме патрулировали улочки, магазины, пивные бары, школы.
— Куда теперь, Стенли? — спросил Бен.
— Здесь недалеко.
Они спустились разбитой гудронной дорогой вниз по холму: по обе стороны осыпавшиеся кюветы были завалены ржавыми консервными банками, картонными коробками, бутылками, тряпьем, ненужным хламом — и у длинного низкого строения, побеленного известкой, остановились. Здание походило на гараж, на вывеске было выведено в две строки:
ОТСЮДА В ВЕЧНОСТЬ
БЮРО ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
У входа старик на четвереньках натирал мастикой ступеньки, действуя щеткой и коленями, подложив под них грязную тряпку. В длинном узком желобе для стока нечистот, по лодыжки в грязной жиже, замерли, едва подкатил «додж», мальчишки, похожие на деревянные изваяния, и так и стояли, не шелохнувшись, выпучив глаза, глядя на выходивших из него мужчин. У крыльца в пыли валялись искореженные велосипедные рамы.
Стенли сказал что-то по-зулусски старику на крыльце, и тот, не отрываясь от дела, показал на дверь, забранную сеткой. Но прежде, чем они подошли, дверь отворилась, и в ней показался черный человечек с тоненькими, сложенными как для молитвы ручками, он весь походил на богомола. Безукоризненно одетый — белая сорочка, черный галстук, черные брюки и черные же туфли без шнуровки на босую ногу.
— Мои соболезнования, сударь, — просипел он без выражения, даже не подняв глаз.
После недолгого объяснения со Стенли их пригласили войти. В этих холодных, суровых, выбеленных стенах не верилось, что там, за ними, есть солнце. Козлы для гроба посредине залы, больше ничего, пусто.
— Я не все еще закончил, — произнес гробовщик своим сиплым шепотом. — Но если вы будете добры…
Он повел их на задний дворик, они зажмурились от яркого, слепящего солнца. Здесь их взору предстали уставленные в штабеля гробы, большей частью из сосновых досок, едва оструганных, наспех сколоченные; другие, полированные, более дорогие, с блестящими медными ручками, были накрыты брезентом.
— Сюда, пожалуйста.
Человечек открыл железную дверь в неоштукатуренной кирпичной стене. На них пахнуло ледяным холодом. Он пропустил их и закрыл дверь. И они сразу точно провалились в ледяной мрак. Одинокая лампочка в круглом плафоне чуть мерцала желтым светом на потолке, сквозь матовое стекло ярко-белым светилась лишь нить накаливания. Приглушенно гудел двигатель холодильной установки. Там, за стенами, оставались солнце и дети. Но это было далеко и неправдоподобно.
Перед ними проход. По обе стороны на металлических нарах трупы. Бен посчитал. Семь. Словно это было важно. Он почувствовал тошноту. Но заставил себя смотреть, не отвел глаз. Слева три и четыре справа. Изо ртов и ноздрей торчали ватные тампоны, темные от крови. Все нагие, исключая двух, обернутых коричневой бумагой. Эти, пояснил Стенли, уже опознаны родственниками.
Остальные неизвестны. Старуха с костлявым лицом, без единой морщинки на туго обтянутом кожей черепе, и груди, просто обвисшие складки кожи, только и угадывались по крупным и сморщенным на манер черепашьих головок соскам. Юноша с рваной раной на виске, глазница со стороны раны пустая, открывавшая взгляду красное нутро черепа. Слева поверх этих лежала совсем юная девушка с неправдоподобно живым лицом, словно мирно спала, закрыв рукой свою почти детскую еще грудь. А ниже, от пояса, все представляло собой сплошное месиво, осколки костей вперемешку с черной запекшейся кровью. Тучный, горообразный труп. Женщина. С топором, так и застрявшим в черепе. Хрупкий старик с нелепым каким-то пучком белой шерстки на голове, медными кольцами в ушах, с выражением задумчивой сосредоточенности на лице, словно размышлял: нет, не вынести мне, что на меня навалили.
Гроб стоял на полу. Убранный с показной роскошью, обтянутый белым атласом, с латунными узорчатыми накладками поверх. В нем лежал Гордон, несообразный, нелепый какой-то, в черном воскресном костюме, с руками, скрещенными на груди. Они почему-то напоминали птичьи лапки, не руки. Лицо серое, неузнаваемое, так изменились у него черты, левая половина и вовсе искажена, черно-фиолетовая. Череп после вскрытия сложили кое-как, он смещался рубцом. И словно выпятили высокий воротничок сорочки, а он не закрывал резаный шрам на горле, под подбородком.
Теперь поневоле поверишь. Теперь он видел собственными глазами. И все равно это оставалось непостижимым. Он должен был заставить себя даже сейчас, когда стоял над гробом, поверить, что это был Гордон, что это его усохшая круглая голова, что это он, этот жалкий прах в воскресном костюме. Он искал, за что бы ухватиться, взывал к памяти, которая подсказала бы разуму все, что не укладывалось в голове, и не мог ничего найти. И он чувствовал досаду, почти раздражение, когда пришлось опуститься над гробом, досада усугубилась тем, что он потерял равновесие в присутствии этого старика гробовщика и Стенли, покачнулся.
Солнце сияло, когда они вышли на воздух. Они не перемолвились ни словом. Стенли поблагодарил старого богомола, и они пошли по узкой улочке вокруг этого побеленного известкой строения туда, где детишки прыгали через сточную канаву. И тут же эти похоронные услуги, отсюда и в вечность, показались каким-то лишенным здравого смысла, неестественным воспоминанием, плодом больного воображения. И в то же время чем-то неотвратимым, что теперь будет преследовать, как нечистая совесть под этим буйным солнечным светом, где жизнь идет своим чередом, суетная и бесстыдная в своем плодородии. Смерти, в ярости подумал он, попросту не должно быть места. Быть побежденным ею в такой вот летний день, когда весь мир в цвету и плодах земли, абсурд.
Они сели в машину, захлопнули дверцы. Стенли поглядел на небо, промолчал. Машина рванула с места и снова понеслась замысловатым путем по едва приметным проездам между одинаковыми домами, такое было ощущение, точно они просто кружили вокруг одного и того же места. Кирпичные стены в рекламах. Доски для афиш и объявлений с облезлыми обрывками бумаги. Мальчишки, гоняющие мяч. Цирюльники. Обломки машин и обуглившиеся развалины зданий. Куры. Мусорные кучи.
Дом Эмили ничем не выделялся среди всех остальных в ее пригороде, Орландо-Уэст. Цемент, рифленая жесть, палисадник, упрямо отстаивающий свои права у пыльной улицы. Стены внутри увешены старыми календарями и картинками на библейские темы. Потолка нет, над головой рифленое железо крыши. Обеденный стол, стулья, пара керосиновых ламп, швейная машинка, транзисторный приемник. Она в окружении близких друзей, преимущественно женщин, тут же без звука расступившихся, едва вошли они со Стенли. На полу играли дети.
Она подняла глаза. Она не узнала Бена, может, от яркого света солнца, ворвавшегося в открытую дверь, а может быть, вообще думать не думала увидеть его здесь. Она смотрела на него пустыми, ничего не выражавшими глазами.
— О, мой баас, — выдохнула она наконец.
— Я был в бюро, попрощался с ним, Эмили, — сказал он, стараясь держаться прямо, это у него как-то неуклюже получалось, он не знал, что делать с руками.
— Доброе дело. — Она опустила голову, черный платок закрывал ее лицо. А потом снова посмотрела на него безжизненным взглядом. — Зачем они убили его? — спросила она. — Он ничего им не сделал. Вы же знали Гордона, баас.
Бен беспомощно обернулся, ища глазами Стенли, но этот верзила стоял, как вошел, в дверях, о чем-то шепотом переговаривался с одной из соседок Эмили.
— Они вот говорят, он, мол, сам повесился, — продолжала Эмили тихо, монотонным голосом, таким безразличным. — Но когда они утром привезли его, я пошла обмыть. Обмыла его как положено, баас, всего, я ведь жена ему. Я видела одного, что повесился, нет, не похож Гордон на того. — Молчание. — У него же изломаны все косточки, баас. Его словно грузовик переехал.
Он тупо глядел на нее, а одна из женщин сказала:
— Пусть господин не думает, что Эмили хочет его обидеть, она оттого, что душой страдает. Что мы скажем, ну, которые здесь с ней сегодня? Нам еще повезло. Они и моего мужа взяли, в прошлом году это было. Ну продержали тридцать суток и выпустили. Полиция была добра к нам. Мы не в осуждение.
И другая женщина, с телом и грудью земли-родительницы:
— У меня семь сыновей, господин, а только пятерых нет дома. Одного за другим бог прибрал. Одного цоци убили. Другого ножом пырнули на футбольном матче. Третий на поезде служил, упал, и его колесами переехало. Один умер на рудниках. Одного забрала полиция. Но у меня еще двое осталось. И вот я говорю Эмили, что она должна быть счастливой, что дети-то с ней сегодня. Смерть всегда с нами.
Зашикали на мальчика, влетевшего вдруг со двора. Он тут же замер, увидев чужих.
— Роберт, поздоровайся с господином, — приказала Эмили, не повышая голоса. — Он был у твоего отца. — И, повернувшись к Бену: — Это Роберт, он у меня старший. Сначала был Джонатан, теперь он.
Роберт попятился, на лице обида и гнев.
— Роберт, — повторила она, — скажи господину «добрый день». Поздоровайся.
— Не стану здоровья желать всякому вонючему буру, — выпалил он и метнулся в дверь.
— Роберт, — пробормотал Бен растерянно вдогонку, — мне хотелось бы помочь тебе.
— Идите к черту! Сначала убиваете, а потом хотите помочь. — Он был сейчас похож на змею, готовую ужалить, охваченный безнадежностью и весь в безудержном гневе и ярости своих шестнадцати лет.
— Но я не имею никакого отношения к его смерти.
— Какая разница?
Черный священник, старик, до того тихо несший слово мира своим прихожанам, тут бросился, отстранив женщин, к юноше и мягко взял его за руку. Но Роберт с неожиданной силой рывком высвободился, стряхнув руку пастыря, кинулся сквозь толпу людей, собравшихся на похороны, и исчез на улице. В воцарившейся неловкой тишине в комнате слышалось теперь лишь назойливое жужжание осы, бившейся в оконное стекло.
— Morena[18], — произнес старик священник и прищелкнул языком, — не держите гнева на мальчика. Наши дети не понимают. Они видят, что происходит, и стали подобны осам, когда тронешь их гнездо. Но мы, прожившие жизнь, рады, что вы пришли. Мы не отводим глаза.
У Бена звенело в ушах. Чудно все как-то. Рассудок остро воспринимал все, что происходит, а самого его словно не было здесь. Сбитый с толку, абсолютно чужой здесь, незваный гость в чужом горе, которое ему тем не менее отчаянно хотелось разделить, он стоял и не отрываясь смотрел на женщину в центре комнаты.
— Эмили, — произнес он и вздрогнул от собственного голоса в этой тишине, нарушаемой лишь жужжанием осы, отгороженной окном от родной стихии, — вы должны сказать мне, если что-нибудь будет нужно… Пожалуйста, обещайте мне, что скажете.
Она смотрела и словно не слышала.
— Morena, вы добры к нам, — сказал священник.
Сам не зная зачем, автоматически, Бен сунул руку в карман брюк и вынул бумажку в десять рандов. Положил ее на стол перед ней. На него все тут же уставились, все женщины, собравшиеся в комнате. Их взоры были обращены на него, словно нарочно, чтобы только не замечать зеленой бумажки на клеенчатой скатерти. И когда он, попрощавшись, оглянулся на них, прежде чем переступить порог, оглянулся почти с мольбой, они все так и стояли, застыв, точно на семейной фотографии.
В огромном «додже», раскалившемся на солнцепеке, было как в духовке, но Бен вряд ли вообще что-либо замечал. Даже группа подростков на углу, выкрикивавших что-то в его адрес и потрясавших кулаками, когда он выходил из дома, — даже это едва запечатлелось в сознании. Он захлопнул дверцу и сидел, уставившись в ветровое стекло на бесчисленные ряды одинаковых домишек, как мираж трепетавших в раскаленном воздухе. Стенли заерзал рядом, давая о себе знать.
— Ну белый? — прогудел он. Опять это: lanie.
Бен стиснул зубы.
— Теперь домой? — спросил Стенли. И не спросил, собственно, не было никакого вопроса в том, как он это сказал, скорее, осуждение.
Не в состоянии что-либо объяснить, в ужасе от одной мысли, что все это кончилось так неожиданно, вдруг и до такой степени бессмысленно, Бен попросил только остановиться где-нибудь, где можно просто посидеть и отдохнуть.
— Конечно, коли хотите. Только мы для верности рванем куда подальше, а то как бы вот эти недоростки камнями мне машину не забросали. — Он показал кивком головы на молчаливую и оттого еще более грозную фалангу парней на углу.
Не теряя времени, Стенли рванул с места задним ходом, свернул в первый попавшийся переулок, не снижая скорости, так что покрышки взвизгнули. Далеко за спиной вслед им что-то кричали, в зеркале заднего вида мелькали фигуры с распростертыми руками, выделывавшие в пыли движения какого-то странного танца. И еще неслось неистовое кудахтанье насмерть перепуганных кур, в последнюю секунду выпорхнувших из-под колес. Стенли с хохотом кивнул ему головой.
Снаружи дом Стенли ничем не отличался от всех остальных на его улице. Похоже, он решительно ничем не хотел привлекать к себе внимания. Внутри, однако, он был обставлен не в пример лучше, чем у Эмили, даже с претензией на вкус, хотя и ничем не примечательный. Натертый линолеум, мебель из магазина Левиса, горка с выставленными напоказ блюдами и всяким до блеска начищенным медным великолепием. На серванте большой поднос, разрисованный райскими птицами, и кассетник для портативного магнитофона, на нем пустая кассета с изображением Ареты Франклин.
— Виски?
— Для меня это слишком крепко, вообще-то говоря.
— Сейчас в самый раз будет. — Стенли, ухмыльнувшись, пошел в кухню — слышно было, как с кем-то там пошептался, — и тут же вернулся с двумя стаканами. — Льда нет, извините. Этот проклятый керосиновый холодильник опять забарахлил. Ну, будем!
От первого глотка Бена чуть передернуло, второй ничего, пошел легче.
— Вы давно… здесь… живете? — спросил он неловко, не к месту.
Стенли язвительно усмехнулся:
— Теперь вам как раз только разговоры разговаривать. Какое, к черту, это имеет значение?
— Мне интересно.
— Понял. Дай в твои козыри заглянуть, я свои после покажу. Так, что ли?
— Когда вы зашли ко мне вчера, все ведь хорошо обошлось, — отвечал Бен, виски придало ему смелости, — так почему же сегодня вы держитесь так сухо? Чего ради вы играете со мной в кошки-мышки?
— Я же говорил, лучше было вам не приезжать.
— Но я хотел. Я должен был. — Он посмотрел прямо в глаза Стенли. — И я приехал.
— И вы воображаете, что-то изменилось?
— Конечно. Не знаю что, но это было важно сделать. Необходимо.
— Не очень-то вам понравилось, по правде, что вы увидели, а?
— Я поехал не за тем, чтобы мне что-то нравилось. Я должен был увидеть Гордона. Можете вы понять?
— Ну и что же? — Стенли сидел, вглядываясь в него, как могучий, исполненный ярости орел на краю своего гнезда.
— Увидел. Собственными глазами. Теперь я знаю!
— Что знаете-то? Что он не кончал самоубийством?
— Да. И это тоже. — Бен поднял свой стакан, теперь уверенней, чем прежде.
— А что это вам дает, белый? — За вызывающим тоном, каким это было сказано, в его глухом голосе теперь слышалось что-то другое — почти откровенное нетерпеливое любопытство. — Что за заботы о Гордоне? Такого рода вещи случаются ведь сплошь и рядом.
— Потому что его я знал. И потому что… — он не знал, как выразить это, но и умалчивать ничего не хотел. Поставил стакан, посмотрел Стенли в глаза, — сомневаюсь, знал ли действительно что-нибудь вообще до этого. А если и знал, то, казалось, какое это имеет отношение ко мне лично. Все это… ну, как обратная сторона Луны, что ли. Даже если знаешь о ее существовании, нет никакой необходимости считаться с этим в реальной жизни. — Молчание. Подобие улыбки. — А теперь вот люди там высадились.
— И что, вы вправду считаете, будто теперь не сможете жить, как прежде?
— Именно это мне и надо было установить. Неужели непонятно? — Теперь был раздражен Бен.
Стенли молча разглядывал его какое-то время, словно выслеживал нечто на лице, только еще откровеннее, чем прежде, изучая. Бен оглянулся. Все было как в детской игре, кто кого переглядит, только это была не игра. Они молча подняли стаканы.
Потом Бен спросил:
— Кто-нибудь из близких присутствовал при вскрытии?
— Ну да. Я позаботился, чтоб там был их знакомый врач, ну, что их пользует. Сулиман Хассим. Целую вечность знаем его, еще с тех пор, как он приехал с дипломом из Витватерсранда. — Скривил губы, прибавил: — Хотя ничего это не гарантирует. Эти буры, они арканить мастера.
— На суде от этого никому не отвертеться, Стенли, — настойчиво произнес Бен. — Наши суды завоевали себе хорошую репутацию.
Стенли оскалился в улыбке.
— Вот увидите, — сказал Бен.
— Больше, чем покажут, не увидим. — Стенли поднялся с пустым стаканом в руке.
— Как это понять?
— А никак. — Стенли вышел. Из кухни крикнул: — Попомните мои слова! — Он вернулся в комнату со стаканом в одной руке, с бутылкой в другой. — Подлить на донышко?
— Нет-нет, спасибо.
— Слушайте, будьте мужчиной. — И, не раздумывая, щедро налил Бену в стакан.
— Нужно помочь Эмили, — сказал Бен.
— Не беспокойтесь, я за ней присмотрю. — Стенли залпом выпил половину и добавил беззаботно: — Теперь ей придется оставить жилище, а?
— Почему?
— Потому что так водится. Она теперь ведь что? Вдова.
— Но куда же ей деться?
— Чего-нибудь устроим. — И с озорной ухмылкой: — Мы на этом деле собаку съели.
Бен внимательно поглядел на него и покачал головой.
— Хотел бы я знать, Стенли, что у вас сейчас на душе.
— И-и… И не заглядывайте. — Он просто скорчился от хохота. И все в этой своей обезоруживающей манере.
— Как вы все это выносите? — спросил Бен. — Как вам удается избегать неприятностей?
— А вот я вам сейчас расскажу как.
Он вытер рот тыльной стороной руки, поглядывая выжидающе на Бена, готов ли тот слушать и понять, не отвлекают ли его невнятные, но назойливые голоса из кухни, ребячьи крики за окном и собачий лай. По улочке на бешеной скорости промчался автомобиль.
— Это еще когда они забрали моего брата, — сказал он вдруг без всякой связи, — я решил, не пойду я кривой дорожкой, вовсе не было у меня желания кончить, как он. Ну, и нанялся я садовником в Боонсенс. Неплохие люди попались, комнатенку мне дали в пристройке на дворе. И все шло распрекрасно. Я даже себе подружку подцепил. Она на соседней улице няней служила. Имя у нее было Нони, а ее все Анни звали. Прелестная девушка. Ну и стал я ночи у нее коротать. И вот однажды стук в дверь, а она и не заперта. Хозяин. Раскричался и плеткой нас, плеткой. И так он нас отделал — я на четвереньках с кровати сполз в чем мать родила. — Похоже, он вспоминал все это теперь не больше как забавное происшествие, потому что сам же и посмеивался, рассказывая. — Ну я тут же, пока он меня до черты не довел, очистил помещение, — Стенли плеснул себе в стакан, Бен свое еще не выпил. — Приятель, я что скажу: в ту ночь я усвоил кое-что, о чем до сих пор понятия не имел. Что я сам себе не хозяин. Моя жизнь не моя, а принадлежит моему белому баасу. Это он заботится, где мне работать, он велит, где мне быть, а где нет, и что я должен делать, а чего не должен — все, одним словом. Он меня в ту ночь всего по косточкам перебрал. Но не это главное, это еще куда ни шло. Другое. Сознание, что никогда я не буду человеком в своем собственном праве. А раз так, первое — это стать свободным. Вот я и начал ее искать, свободу. Нашел работенку на рынке, на подхвате поначалу. Потом прикопил денег, долю себе откупил, стал в пригороде торговать вразнос, по субботам и воскресеньям, пока собственную лавку не открыл в Диепклоофе. Но это не увлекало, пресно все это. Заполучить солидный капитал да выкарабкаться из мелюзги этой, заправилой стать. Чтоб все как у людей, вот ведь другие-то, им и работы — проверить мою приходно-расходную книгу да себе процент с прибыли взять. Это ли не свобода? Ну, в общем сложились мы, все вроде меня ребята, и купили машину. Через год я себе на собственную заработал. И назад уже не оглядывался.
— Теперь вы сам себе хозяин?
Стенли смущенно уставился на свои ботинки, стряхнул рукой пыль с носков.
— Точно, — сказал он. — А только не заблуждайтесь на этот счет, детка. Хозяин? Ровно настолько, насколько мне позволяют мои белые хозяева. Улавливаете? — Он выругался. — Ну ладно, я научился понимать что к чему и не ждать чуда: оно все равно на нас не свалится. А мои дети, с ними-то как быть? Я вас прямо спрашиваю. А как насчет детей Гордона? Как насчет этих малолеток, что шли на нас с кулаками там, по улочке? А они просто не могут больше. Это вы можете понять? Они знать не знают, чему там жизнь научила таких, как я. А может, они и знают? Может быть, они лучше нас с вами? Кто знает. Лично я одно скажу, началось что-то огромное и страшное, а чем кончится, черт подери, никто не знает.
— Вот почему я и должен был приехать, чтобы увидеть собственными глазами, — тихо сказал Бен.
— Ну, на дорожку, — сказал тогда Стенли, выпил и налил себе еще. — Пора. Пока народ с работы не повалил. Тогда я уж ничего не гарантирую. — Несмотря на грубоватый тон, весь он как-то помягчал, почти ничего не осталось от былого Стенли, вызывавшего своей бесцеремонностью неприязнь. А жест, каким он коснулся плеча Бена, когда они поднялись и пошли, говорил о вконец восстановленном товариществе и доверии.
Весь обратный путь по лабиринту домов-близнецов они проехали молча, и это молчание у обоих было исполнено — за всеми событиями этого дня, залитого солнцем, которое, казалось, никогда не зайдет, — одним: перед глазами стоял образ Гордона, высохшего и изувеченного, Гордона в этом гробу в холодном зале морга, с серыми пальцами рук, сложенных на узкой груди. Остальное спуталось, перемешалось в памяти и казалось несущественным. А то осталось. И еще ноющее, как боль, ощущение чего-то неотвратимого, надвигавшегося на них. Они промолчали всю дорогу до дома.
У изгороди из усыпанного ярко-оранжевыми ягодами боярышника Стенли затормозил. Он сказал:
— Больше я сюда не ездок. С вами. Они вас живо возьмут на прицел.
— Кто? На какой прицел?
— Неважно, — Он вынул из кармана пустую коробку от сигарет, нащупал в ящике для перчаток шариковую ручку и нацарапал номер телефона. — Вот, на случай, если понадоблюсь. Не застанете, скажите, что передать. Фамилии не называйте, просто скажите, звонил, мол, lanie. Ладно? А то напишите. — Он нацарапал и адрес, улыбнулся. — Пока. Не беспокойтесь. Нет причин.
Бен вылез из машины. «Додж» тут же рванул с места. Бен обошел дом и открыл ажурную железную калитку с почтовым ящиком на ней. И в тот же миг все это показалось ему совершенно чужим. Нет, не то, чего он успел насмотреться за весь длинный, вконец выбивший его из колеи день, а его сад, и дождевальные установки на газоне, и его дом, белые стены под крышей из оранжевой черепицы, и окна его дома, и полукруг веранды, и его жена, появившаяся в дверях. Словно он видел все это первый раз в жизни.
2
Похороны. Бен хотел непременно присутствовать, но Стенли отказал наотрез. Могут быть неприятности, отрубил он. Так оно и случилось. Гордона мало кто знал при жизни, а смерть его вызвала вспышку настоящей ярости, какой он и представить себе не смог бы. Тем более что это произошло почти вслед за историей с Джонатаном. Было такое впечатление, точно весь пригород ухватился за эти похороны, чтобы выразить все свое чувство тревоги, и замешательства, и накопившейся за эти месяцы долго сдерживаемой страсти, и стремления к полному и неизбежному очищению. Да что там черный пригород. Письма и телеграммы шли от людей, которые еще неделю назад и слышать не слышали ни о каком Гордоне Нгубене. Эмили, желавшая похоронить его тихо и без шума, оказалась в центре общественной шумихи. Фотография, где она сидит в своей кухне и смотрит невидящим взглядом на свечу, обошла все газеты и получила не одну международную премию.
«Уорлд» продолжала уделять этому особое внимание. Скоро д-р Сулиман Хассим, присутствовавший при вскрытии от имени семьи покойного, стал известен не меньше, чем сам Гордон Нгубене. И хотя, следуя инструкции службы безопасности, д-р Хассим отказался давать какие бы то ни было интервью для печати, тревожные подробности продолжали выплывать на страницы газеты «Уорлд», затем «Дейли мейл», и тут же стоустая молва передавала их в качестве достоверных фактов, несмотря на категорические опровержения со стороны самого министра. Ко всем пожелавшим принять участие в похоронах обращались с самыми настоятельными призывами всемерно содействовать тому, чтобы похороны прошли без инцидентов. Однако в то же самое время на видных местах давно публиковались и сообщения об усиленных нарядах полиции, стягивавшихся в Соуэто со всего Витватерсранда. И в воскресенье пригород напоминал военный лагерь, кишевший бронетранспортерами и танками и отрядами подразделений по охране общественного порядка, вооруженными автоматическими винтовками. Местность патрулировали вертолеты.
С раннего утра сюда потекла людская река. Впрочем, пока все было спокойно. Чувствовалось, что люди напряжены, но никаких инцидентов — если не считать того, что служба охраны общественного порядка задержала под Преторией автобус, следовавший из Мамелоди. Пассажирам было приказано выйти, их прогнали сквозь строй полицейских, обрушившихся на людей с дубинками, хлыстами, ружейными прикладами. Было что-то невозмутимо-спокойное в том, как это делалось: откровенная неподдельная ожесточенность, не искавшая ни предлога, ни извинений. Это была система, тщательно отработанная, спокойная, точная. После чего автобусу было разрешено следовать в Соуэто.
Отпевание длилось долго. Молитвы, псалмы, речи. Вопреки очевидному напряжению умов скорбная сдержанность, и только. После похорон, однако, уже к вечеру, когда с кладбища потекли толпы совершить ритуал омовения рук в доме покойного, полиция попыталась отсечь поток. Несколько молодых парней принялись швырять камни, попали в полицейский фургон. Тогда и началось. Сирены. Слезоточивый газ. Ружейные залпы. Наряды полиции пустили в ход дубинки. Собаки. Дальше больше. Едва в облаках слезоточивого газа усмирялась толпа в одном квартале, где-нибудь поблизости возникала новая стычка. Так продолжалось, пока не опустилась ночь, расцвеченная, точно иллюминацией, горящими зданиями — горели административный комплекс Управления по делам банту, винный погреб, школа в Мофоло. Не считая опрокинутых и горящих автомобилей. Всю ночь, постепенно утихая, продолжались мелкие стычки. Однако, едва рассвело, все, по утверждениям газет, было взято «под контроль». Так и осталось тайной число раненых, отправленных в больницы и приюты по всему Йоханнесбургу; часть просто исчезла в лабиринте домов. Официальное число убитых — четверо. Удивительно, если принять во внимание размеры беспорядков.
Старший сын Эмили Роберт ночью исчез. И прошло больше недели, пока он подал о себе весть. Письмо пришло из Ботсваны. Эмили с оставшимися двумя детишками перебралась в их маленькую кухню и сидела там, измученная, ошеломленная всем случившимся, перед фотографией Гордона, убранной увядшими цветами. А на кладбише в Доорнкопе гора венков покрывала холмик, под которым лежал не известный никому маленький человек, в честь которого так неожиданно разразилась эта буря.
На следующий день появилось сообщение, что д-р Сулиман Хассим арестован на основании Закона о внутренней безопасности.
3
Пример воссоздания самое себя — капля воды. Капля держится силой инерции, равновесием центробежных и центростремительных сил. Утрачены они, и, набухшая под собственной тяжестью, она отрывается; или же, по закцну поверхностного натяжения, целое не дает ей расплескать себя, когда, кажется, оно уже переполнило свои пределы и должно вылиться через край. Тогда, готовая пролиться, она не проливается и продолжает держаться, вопреки закону земного притяжения, пытается сохранить себя до последнего. И новое состояние не приходит легко и естественно, но лишь когда преодолено внутреннее ее этому противодействие.
Испытанием на прочность для Бена был арест д-ра Хассима. Но даже после этого он старался держаться в рамках благоразумия. Первое, что он сделал, это позвонил Стенли.
Таксиста дома не оказалось, но женский голос обещал передать все непременно. Как передать, кто звонил? Просто скажите ему, что звонил lanie, белый то есть.
Тот откликнулся во вторник днем. Бен копался в гараже, где единственно находил себе убежище, и, не в пример прежнему, допоздна торчал теперь там среди своих стамесок, пилочек, молотков и сверл.
— Lanie? — Стенли не назвался, но Бен сразу узнал его низкий голос. Да и никто больше не обращался к нему с этим жаргонным «lanie», одинаково означавшим «белый», а у него теперь и «дружище». — Что случилось?
— Нет, нет, ничего. Просто хотелось поговорить с вами. Найдется минутка?
— Я вечером буду у вас поблизости. Давайте в восемь вечера, годится? Могу подсадить у гаража, ну помните, где тогда у поворота на вашу улицу останавливались? До скорого.
По счастью, Сюзан собиралась куда-то на собрание, Йоханн пропадал по своим школьным делам, так что хоть с ними объясняться не надо было. Белый «додж» уже дожидался его, когда он добрался до этого гаража, Стенли поставил его неприметно за бензоколонкой. Под низким навесом от раскаленного за день асфальта удушающе пахло бензином. Красная точка, мерцавшая в водительском окне, выдавала Стенли, спокойно покуривавшего в кабине.
— Ну так что еще приключилось?
Бен устроился на заднем сиденье, оставил дверцу открытой.
— Вы слышали о докторе Хассиме?
Стенли нажал на стартер, засмеялся.
— Ну, а то. Захлопните дверцу. — Они проехали один квартал, другой, прежде чем он весело сообщил: — Эти буры знают свое дело, я же говорил.
— И что теперь?
— Если они станут играть по-грязному, мы в долгу не останемся.
— Вот поэтому-то я и хотел вас повидать, — горячо подхватил Бен. — Я не хочу, чтобы вы один расхлебывали теперь эту кашу, это несправедливо.
— А чего теперь расхлебывать? О чем вы толкуете, белый человек? Что, может, Гордон еще жив? И стоит стараться?
— Я понимаю, Стенли. Но это зашло слишком далеко.
Дерзкий смех.
— Да не дурачьте вы себя. Зашло?! Только начинается.
— Стенли. — Это прозвучало как мольба о его собственной жизни, когда он положил этому сильному человеку руку на запястье, покоившееся на рулевом колесе, точно хотел его удержать силой, — Здесь уж мы ничего не поделаем. Мы должны позволить закону исполнить свое. И кто виновен, заплатит за это.
Стенли только фыркнул.
— Да они все в подкидного играют.
Бен предпочел игнорировать это замечание.
— Одно мы можем сделать, — сказал он. — Есть одна вещь, которую мы должны сделать. А именно: заполучить лучшего в Йоханнесбурге адвоката.
— Проку-то?
— Я прошу вас поехать со мной завтра к Дэну Левинсону. Он должен немедленно проинструктировать адвоката. Такого, кто не позволил бы им улизнуть, чего бы это ни стоило.
— Деньги не проблема.
— Это как понимать? Вы миллионер?
— Не ваша забота.
— Так едете вы завтра со мной?
Стенли раздраженно вздохнул.
— Какого черта. Ладно, едем. Говорю только, что все без пользы.
Они развернулись и поехали обратно, к заправочной станции, и остановились там же, в темном тупичке за бензоколонками, где в нос тут же ударил густой, застоявшийся запах бензина.
— Единственное, что остается, Стенли, — это дать суду возможность…
Тут уж Стенли просто разразился хохотом.
— Ладно. До завтра. Встретимся в конторе вашего элегантного либерала. Поглядим, как нам удастся заполучить адвоката, который воскресил бы Гордона и Джонатана.
— Не об этом речь.
— Знаю, — точно утешая себя или Бена, сказал он. — А только вы все еще верите в чудеса. Я — нет.
4
Судебное разбирательство по делу о смерти Гордона Нгубене совпало со школьными каникулами, именно с 21 апреля по 9 мая, так что Бен мог присутствовать на всех заседаниях. К тому времени интерес общественности, подогретый событиями в день похорон, двумя месяцами ранее, заметно поубавился. Негустая толпа черных на галерее для публики, среди них шумная компания, время от времени нарушавшая ход заседания возгласами: «Amandla!» — «Сила!» — и потрясавшая при этом сжатыми кулаками, — и только. Белых, кроме непременной на любом процессе группы репортеров, можно было по пальцам перечесть — несколько студентов и преподавателей из Витватерсранда, представительницы Черных шарфов[19], Прогрессивной реформистской партии, делегат Нидерландов в Международной лиге юристов, которому случилось оказаться в Южной Африке по делам, да несколько зевак.
Многое о деле можно было узнать из исчерпывающего и объективного отчета о процессе, опубликованного Институтом расовых отношений. Отчет вскоре был запрещен цензурой, впрочем один экземпляр этого документа оказался среди бумаг Бена.
ГОРДОН НГУБЕНЕ (54 лет), неквалифицированный рабочий из Орландо-Уэст, Соуэто, во время ареста — безработный. Задержан 18 января с. г. на основании статьи 6 Закона о терроризме. Содержался на Й. Форстер-сквер. По представлению семьи арестованного 5 февраля в Верховный суд было подано заявление касательно ограничения действий тайной полиции, оскорбляющей достоинство и прибегающей к угрозам физического насилия по отношению к г-ну Нгубене, и против ведения допроса с применением незаконных мер. Однако 10 февраля заявление было отклонено за отсутствием доказательств. 25 февраля о смерти г-на Нгубене, находившегося в заключении, было объявлено по каналам ЮАРК, на следующий день было получено подтверждение полиции, при этом официально родственники об этом вообще не были уведомлены. 26 февраля официально назначенный патологоанатом д-р П. И. Янсен произвел вскрытие, ассистировал от имени семьи покойного д-р Сулиман Хассим. Похороны г-на Нгубене состоялись в воскресенье 6 марта. На следующий день д-р Хассим был арестован на основании Закона о внутренней безопасности. Таким образом, консультации с ним со стороны представителей семьи исключены. В ожидании освобождения д-ра Хассима дознание о смерти г-на Нгубене, первоначально назначенное на 13 апреля, отложено sine die[20]. Суду было сообщено, что вероятность освобождения д-ра Хассима из-под стражи в ближайшие дни проблематична, и с учетом факта, что его подпись также значится на заключении о вскрытии, составленном д-ром Янсеном, назначается новая дата дознания, и слушание начинается 2 мая в полицейском суде Йоханнесбурга.
Согласно медицинскому заключению, представленному в первый же день, д-ру Янсену для посмертного вскрытия был представлен обнаженный труп мужчины банту средних лет, опознанный как Гордон В. Нгубене. Дата: 26 февраля.
Вес 51,75 килограмма. Рост 1,77 метра. Л иловато-серые трупные пятна обозначены на нижних конечностях, мошонке, лице и спине. Остатки жидкой среды с насыщением крови из правой ноздри. Язык в вытянутом положении, прикушен.
В заключении отмечались следующие следы повреждения трупа:
1. Круговое повреждение кровеносных сосудов на шее между щитовидным хрящом и подбородком и след обширного повреждения сосудов 4 сантиметра в ширину ниже обозначенного, наиболее явный по боковым кожным поверхностям шеи. Следов повреждения либо кровоизлияния в мышечных тканях не обнаружено. Трахея сжата. Подъязычная кость не повреждена.
2. Опухоль поверх правой скуловой кости со следами повреждений подлежащих соединительных тканей и перелом самой кости.
3. Три небольших, 3 миллиметра в диаметре, кругообразных повреждения на коже внутри левой ушной раковины и большее по размерам — в правой.
4. Обширная гематома в поясничной области.
5. Седьмое правое ребро сломано в месте соединения с грудинной костью.
6. Поверхностные повреждения и следы разрывов ткани поверх обоих лучезапястных суставов.
7. Заметная опухлость низа мошонки. Предметная проба, взятая оттуда, представляет сухое образование и показывает следы меди на коже.
8. Горизонтальные разрывы ткани и повреждения на обеих лопатках, грудине и брюшной полости.
9. Правая локтевая кость сломана приблизительно в 6 сантиметрах ниже сгиба.
10. Отчетливая гиперемия в обоих полушариях мозга с небольшими кровоизлияниями, мозговое вещество с кровоподтеками. Умеренная гиперемия и жидкостные накопления в легких.
11. Так или иначе повреждены поверхностно, с отдельными разрывами тканей колени, таранная кость, брюшная полость, ягодицы и верхние конечности.
Д-р Янсен установил, что причиной летального исхода явилось физическое повреждение шейной области, наблюдаемое обычно в случаях смерти от повешения. При перекрестном допросе он, правда, допустил возможность, что такого рода повреждения не исключены, очевидно, и при иных случаях, однако решительно заявил, что гипотезы на этот счет вне его компетенции. Тем не менее он признал, что повреждения были получены в разное время, одни за четырнадцать — двадцать дней до смерти, другие за четыре дня и даже меньше. Он подтвердил, что на аутопсии присутствовал д-р Хассим и, насколько ему известно, заключение д-ра Хассима, за исключением ряда несущественных, впрочем, деталей, идентично его собственному. На вопрос адвоката Яна де Виллирса, относительно законности его, д-ра Хассима, права представлять семью покойного, д-р Янсен ответил, что понятия не имеет, зачем д-ру Хассиму понадобилось делать какое бы то ни было специальное заключение, коль скоро тот собственноручно подписал официальное.
После этого в качестве свидетелей были вызваны сотрудники службы безопасности. Капитан Штольц подтвердил, что во вторник 18 января около четырех часов дня он действительно, в соответствии с полученной информацией, был в доме покойного в сопровождении лейтенанта Б. Вентера, лейтенанта М. Бота и нескольких нижних чинов СБ из числа черных. Г-н Нгубене оказал сопротивление при аресте, и к нему были применены определенные принудительные меры. Впоследствии г-на Нгубене допрашивали, да, по ряду обстоятельств. Полиция имела основания полагать, что покойный был вовлечен в подрывную деятельность, и ряд изобличающих документов был действительно обнаружен в его, г-на Нгубене, доме. С учетом того обстоятельства, что дело касается государственной безопасности, означенные документы, к сожалению, не могут быть предъявлены суду.
По версии капитана Штольца, покойный отказался отнестись с пониманием к властям, хотя с ним обращались с неизменным уважением и корректностью. На вопрос адвоката Лоува, представлявшего защиту, капитан Штольц ответил, что по крайней мере в его присутствии к г-ну Нгубене никто никогда не применял мер физического воздействия и что тот пребывал в добром здравии, пока находился под арестом, если не считать редких жалоб на головные боли. 3 февраля он пожаловался на зубную боль, и на следующее утро его осмотрел местный хирург д-р Бернард Герцог. Насколько ему известно, доктор Герцог удалил три зуба и прописал какое-то лекарство в таблетках, но при этом подтвердил, что не находит ничего серьезного в состоянии заключенного. В соответствии с этим полиция и продолжала расследование, как обычно. На вопрос, что он имеет в виду под выражением «как обычно», капитан Штольц сказал, что заключенного в восемь утра приводили из его камеры к нему, капитану Штольцу, на допрос, где тот и пребывал до четырех или пяти часов дня. За весь период его ареста они даже еще покупали ему продукты из своего собственного кармана. Он добавил, что покойному было разрешено в любое время «сидеть или стоять, как ему нравилось».
Утром 24 февраля г-н Нгубене неожиданно стал проявлять признаки агрессивности и попытался выпрыгнуть в открытое окно в кабинете капитана Штольца. Он вел себя «как сумасшедший», и успокоить его удалось лишь с помощью шести сотрудников СБ. В качестве меры предосторожности на него тут же были надеты наручники и он был закован в кандалы, прикрепленные к стулу. В этом положении он успокоился и около полудня сказал, что готов сделать полное заявление относительно своей подпольной деятельности. По требованию капитана Штольца лейтенант Вентер представил три страницы этого заявления, написанного по форме, где г-н Нгубене сетовал на то, что устал. Затем он был препровожден в свою камеру. На следующее утро, 25 февраля, некто сержант Крог доложил капитану Штольцу, что г-н Нгубене был обнаружен мертвым в своей камере. Записка, найденная на теле покойного, была представлена суду. В ней значилось: «Й. Форстер-сквер. 25 февраля. Дорогой капитан, может, вам случится обследовать мое бренное тело, так вот, вы получите, наверное, то, что хотите. Я предпочитаю умереть, чем предавать моих друзей! Amandla! Сила! Йскренне, Гордон Нгубене».
На перекрестном допросе адвоката со стороны семьи де Виллирса капитан Штольц повторил, что покойный не мог жаловаться на обращение. На вопрос, как он расценивает тот факт, что на теле покойного обнаружены следы повреждений, он отвечал, что не имеет на этот счет ни малейшего понятия, бывает, что лица, содержащиеся под арестом, умышленно наносят себе повреждения самым разным образом. Какие-то могли быть следствием того, что произошло 24 февраля. Адвокат де Виллирс поинтересовался, не считает ли он, что было излишне вызывать шестерых физически сильных полицейских для усмирения человека хрупкого сложения, весившего около пятидесяти килограммов? На это капитан Штольц повторил, что заключенный действовал «как сумасшедший». На вопрос, почему на окне не было положенных решеток, исключающих возможные попытки заключенных выброситься из такового, капитан отвечал, что решетки накануне были временно сняты в связи с ремонтом оконных рам.
Возвращаясь к записке, якобы найденной на трупе, адвокат де Виллирс заявил, что находит странным значащуюся на ней дату 25 февраля, поскольку тело, обнаруженное в шесть часов утра этого дня, уже носило на себе следы отчетливого трупного окоченения.
Капитан Штольц: «Возможно, он помутился рассудком».
Адвокат де Виллирс: «В результате пыток?»
Капитан Штольц: «К нему не применяли пыток».
Адвокат де Виллирс: «Равно как и третьего и четвертого февраля, когда он жаловался на головную и зубную боль?»
Капитан Штольц заявил протест судье по поводу того, что адвокат пытается возвести необоснованные подозрения на службу безопасности. Судья г-н П. Клоппер попросил защитника воздерживаться от инсинуаций, однако, разрешил продолжить перекрестный допрос. Улики прочно сводились к ранее выдвинутым им доказательствам, не хватало лишь отвода относительно инкриминируемого покойному участия в деятельности АНК и «действиях, угрожающих безопасности государства». На вопрос о содержании письменных показаний, данных 24 февраля, капитан Штольц ответил, что документ содержит данные, которые не могут быть оглашены на настоящем судебном заседании, поскольку это затруднило бы действия тайной полиции в некоем важном расследовании.
Адвокат де Виллирс: «Я исхожу из положения, что единственной «подрывной деятельностью», в каковую когда-либо был вовлечен покойный, являлись его попытки установить, что произошло с его сыном Джонатаном Нгубене, якобы убитым в перестрелке во время волнений в июле прошлого года, хотя некоторые данные ведут к лицам, готовым засвидетельствовать, что фактически Джонатан умер в заключении в сентябре, то есть три месяца спустя».
Адвокат полиции г-н Лоув заявил протест против этого заявления как необоснованного и не имеющего отношения к делу.
Адвокат де Виллирс: «Ваша милость, представленное свидетельство есть намеренная попытка инкриминировать покойному нелепое обвинение в участии в «подрывной деятельности». Считаю себя вправе обратить внимание на другую сторону дела, тем более что это свидетельствует в пользу моего аргумента, — мы имеем дело с невиновным человеком, умершим в тайной полиции при обстоятельствах, которые могут быть определены как в высшей степени подозрительные. Если тайная полиция заинтересована в своей репутации, ее представителям, казалось бы, естественно, не следует отметать реальные факты, представленные суду?»
На этом судья Клоппер отложил слушание до следующего дня. По возобновлении заседания он объявил, что это — частное разбирательство причин о смерти определенного лица, а не общее судебное расследование. Соответственно он отводит просьбу адвоката де Виллирса о представлении суду каких-либо свидетельств либо заявлений относительно смерти Джонатана Нгубене как не имеющих отношения к делу.
Адвокат де Виллирс: «Ваша милость, в таком случае у меня нет больше вопросов к капитану Штольцу».
В ходе второго дня слушания были вызваны свидетели от службы безопасности для подтверждения показаний, данных капитаном Штольцем. При перекрестном допросе неожиданно выявились некоторые противоречия в свидетельских показаниях относительно решеток на окне и причин, по которым они были сняты, равно как и подробностей схватки 24 февраля. В довершение ко всему лейтенант Вентер признал на перекрестном допросе, что в том же кабинете и до этого была схватка с заключенным, а именно 3 февраля, за день до того, как к г-ну Нгубене был вызван местный хирург. На вопрос, было ли кому-либо еще разрешено свидание с заключенным, лейтенант Вентер отвечал, что, по заведенному порядку, его посетил полицейский судья, 12 февраля, в сопровождении капитана Штольца и его, лейтенанта Вентера, при этом заключенный не обращался к нему ни с какими жалобами.
Адвокат де Виллирс: «Вас удивило, что у него не было жалоб?»
Лейтенант Вентер: «Ваша милость, я не понимаю вопроса».
Г-н Клоппер: «Господин де Виллирс, я просил вас воздерживаться от подобного рода риторики».
Адвокат де Виллирс: «Как будет угодно вашей милости. Лейтенант, не можете ли вы сказать, присутствовал ли капитан Штольц также и при посещении заключенного хирургом четвертого февраля?»
Лейтенант Вентер: «Меня там не было. Но думаю, капитан присутствовал».
Следующими были вызваны сержант Крог и двое полицейских, обнаруживших мертвое тело утром 25 февраля. Одно из одеял в камере покойного, как утверждалось при этом, они нашли разрезанным с помощью лезвия для бритья на узкие полосы, сплетенные в веревку, один конец которой был привязан к решетке на окне камеры, другой обвязан вокруг шеи г-на Нгубене. Свидетели разошлись в показаниях относительно того, как именно было привязано одеяло к решетке, а также положения тела, которое они обнаружили. (Сержант Крог: «Я сказал бы, ноги у него висели дюймов этак на шесть над полом». Полицейский Вельман: «Довольно высоко висел, голова почти касалась решетки, так что ноги, похоже, были на фут, а то и больше, от пола». Полицейский Лампрехт: «Насколько я помню, ноги почти касались пола».) В одном они не расходились: никто не видел Г. Нгубене после того, как он был помещен в камеру около половины шестого накануне. Согласно показаниям сержанта Крога, все камеры в течение ночи положено посещать с интервалом в один час, с тем чтобы удостовериться, что все в порядке, однако в ту ночь по отношению к этой камере было явное упущение. «Мы были очень заняты, и я полагаю, кто-то просто не доглядел».
Адвокат де Виллирс: «Ну а если я поставлю вопрос так, что капитан Штольц либо кто-то другой из офицеров службы безопасности проинструктировал вас не входить той ночью в эту именно камеру?»
Сержант Крог судье: «Я решительно отвергаю это, ваша милость».
Затем, когда слушание было перенесено на 4 мая, адвокат от полиции г-н Лоув представил четыре письменных заявления заключенных, подтвержденные присягой и свидетельствующие, что все они видели Гордона Нгубене между 18 января и 24 февраля, что он был жив и здоров и что с ними самими должностные лица, ответственные также за расследование дела г-на Нгубене, прекрасно обращались. Тем не менее, будучи подвергнут перекрестному допросу, один из этих свидетелей, Арчибальд Тсабалала, отрицал, что когда-либо встречался в заключении с г-ном Нгубене, и заявил, что его заставили подписать свидетельские показания накануне суда. «Капитан Штольц несколько раз ударил меня резиновым шлангом и сказал, что будет бить, пока я не подпишу». При этом он задрал рубаху и показал суду собственную спину, всю в кровоподтеках. Вызванный для дачи показаний, капитан Штольц показал, что означенный Тсабалала поскользнулся и упал с лестницы несколько дней тому назад. Он утверждал, что первоначальное заявление г-на Тсабалалы было сделано им абсолютно добровольно. После ряда дополнительных вопросов капитану Штольцу было разрешено отвести г-на Тсабалалу обратно на Й. Форстер-сквер. Продолжая опрос свидетелей, адвокат Лоув заявил, что остальные три свидетеля, чьи показания, данные под присягой, были представлены суду, не могут быть вызваны для перекрестного допроса, поскольку это связано с безопасностью государства. Несмотря на решительные возражения адвоката де Виллирса, судья постановил, что суд тем не менее примет их заявления в качестве свидетельских показаний.
Доктор Бернард Герцог, окружной хирург города Йоханнесбурга, засвидетельствовал, что утром февраля четвертого дня он был вызван капитаном Штольцем для обследования некоего заключенного, представленного ему под именем Гордон Нгубене. Он не нашел никаких отклонений от нормы в этом человеке. Г-н Нгубене жаловался на зубную боль, и, поскольку три коренных зуба почти сгнили, он удалил их и дал г-ну Нгубене несколько таблеток аспирина в качестве болеутоляющего.
Следующий раз он видел покойного ранним утром 25 февраля, когда его вызвали на Й. Форстер-сквер в качестве свидетеля, где он и нашел г-на Нгубене мертвым, лежащим на полу камеры, одетым в серые брюки, белую сорочку и темно-бордовый пуловер, что и засвидетельствовал. Сержант Крог сообщил ему, что он лично обнаружил тело полчаса тому назад свисающим с оконной решетки и что, обнаружив, он вынул его из петли и положил на пол. Согласно показаниям сержанта, петля из байкового одеяла была затянута вокруг шеи настолько туго, что им пришлось перерезать ее найденным здесь же, в камере, бритвенным лезвием. По характеру rigor mortis[21], отчетливо проявившемуся к тому времени по совокупности признаков, он позволил себе сделать заключение, что смерть наступила не менее двенадцати часов тому назад.
Адвокат де Виллирс, занявший в ходе перекрестного допроса активно наступательную позицию, не преминул остановиться на том факте, что д-р Герцог не счел нужным тщательней обследовать заключенного в означенный день четвертого февраля (д-р Герцог: «Чего ради? Он жаловался только на зубную боль») и что тот не может припомнить, присутствовал ли при осмотре капитан Штольц либо кто-то еще. На обвинение адвоката де Виллирса, что тот «поддался угрозам» тайной полиции либо пошел на сознательное сотрудничество с ними «в этой разыгрываемой ими отвратительной игре», д-р Герцог заявил решительный протест и обратился к суду за защитой. Что касается предварительного осмотра трупа, он отказался высказаться сколько-нибудь определенно о предположительном времени смерти на основании степени трупного окоченения, отметив, что таковое может быть обусловлено самыми разными причинами, то есть побочными обстоятельствами. Он не может дать никаких объяснений и относительно того, как, на его взгляд, могло случиться, что, когда двадцать шестого февраля официальный патологоанатом д-р Янсен приступал к вскрытию, труп оказался обнаженным. По просьбе адвоката де Виллирса в качестве свидетеля снова был вызван капитан Штольц. Однако тот не смог ответить на вопрос, куда делась одежда, которая была на покойном в момент смерти, и почему она не была отправлена на экспертизу. Затем де Виллирс предложил официально выплатить семье компенсацию за пропажу носильных вещей покойного.
Тут же был объявлен перерыв до вызова служащего из морга при полицейской тюрьме. Однако тот не смог припомнить, была ли на поступившем к нему трупе одежда или нет.
Последним свидетелем, вызванным адвокатом Лоувом, был полицейский графолог, удостоверивший на основании сличения образцов почерков, что записка, найденная у покойного, написана Гордоном Нгубене. Этот факт был решительно оспорен специалистом, приглашенным адвокатом де Виллирсом, который привел длинный перечень расхождений между почерком на записке и почерком г-на Нгубене на других бумагах, написанных им действительно собственноручно. Г-жа Эмили Нгубене, супруга покойного, также отрицала, что это почерк ее мужа. Она сказала, что г-на Нгубене во время его ареста восемнадцатого января «избили и вытолкнули за дверь», что спустя примерно дней десять один человек, освобожденный из заключения на Й. Форстер-сквер, сообщил ей, что ее муж подвергается жестокому обращению, и что, когда она четвертого февраля передала мужу смену белья и ей возвратили грязное, она обнаружила на брюках кровь и в заднем кармане три выбитых зуба (имеются в распоряжении суда). Она показала, что в разговоре с ней их врач Сулиман Хассим, который присутствовал на вскрытии, высказал серьезные сомнения относительно того, что смерть наступила от повешения с помощью разрезанного на веревку одеяла, как ранее утверждали. Но когда она собралась продолжать, адвокатом полиции был заявлен решительный протест против свидетельств из вторых рук. Судья протест принял. Адвокат Лоув также успешно отвел свидетельства специалиста касательно того, что второй подписи на заключении официального патологоанатома, а именно подписи д-ра Хассима, вообще могло не быть. Опрос свидетелей, проведенный адвокатом де Виллирсом относительно утверждений о пытках или жестоком обращении со стороны капитана Штольца в ряде других случаев, был отведен как беспочвенный и не имеющий отношения к делу.
После дальнейших показаний преимущественно формально-юридического порядка адвокат де Виллирс буквально произвел потрясение в зале суда, вызвав в качестве свидетельницы некую Грейс Нкоси (18 лет) для показаний относительно обстоятельств ее пребывания на Й. Форстер-сквер. Она была арестована, как заявила, четырнадцатого сентября прошлого года и после того, как подверглась допросу со стороны целого ряда чинов тайной полиции (включая капитана Штольца и лейтенанта Вентера), через определенное время снова оказалась в кабинете капитана Штольца. Это было утром третьего марта. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, и всякий раз, когда она отрицала свою вину, ее избивали плетью из сыромятной кожи — sjambok, все знают, как это называется. Когда же она падала под ударами на пол, ее били по лицу и животу, а следы собственной крови приказывали вылизывать с пола. Затем капитан Штольц накинул ей на голову большое белое полотенце, обмотал концы вокруг шеи и стал душить ее. Как именно, она тут же на суде продемонстрировала. Она пыталась сопротивляться, но потеряла сознание. Согласно ее показаниям, так повторялось несколько раз. Последний раз она слышала, как капитан Штольц говорил: «Давай, давай, meid[22], что, язык прикусила? Может, хочешь кончить, как Гордон Нгубене?» После этого она снова потеряла сознание. Очнулась она в своей камере, а двадцатого марта была освобождена без предъявления какого бы то ни было обвинения.
Вопреки всем попыткам адвоката Лоува убедить ее признать, что все это либо плод ее расстроенного воображения, либо она могла просто ослышаться, что было произнесено имя Гордона Нгубене, как это бывает при головокружении, та настаивала, что говорит правду.
После того как адвокаты закончили опрос свидетелей, суд объявил перерыв до вечернего заседания для вынесения приговора. Г-ну Клопперу понадобилось для вынесения решения менее пяти минут. Хотя и не представляется возможным учесть все повреждения на теле покойного, сказал он, никаких исчерпывающих свидетельств, кроме заведомых домыслов, не представлено в доказательство виновности должностных лиц службы безопасности в применении физического насилия, равно и других нарушений законности. Налицо все свидетельства, что задержанный не раз проявлял агрессивность и, понятно, приводился в нормальное состояние с помощью физической силы. Есть все очевидные основания заключить, что смерть наступила вследствие травмы, причиненной сдавливанием в области шеи, по совокупности признаков — путем повешения. Следовательно, суд находит, что Гордон Нгубене покончил самоубийством путем повешения утром двадцать пятого февраля и что, по доступным данным, его смерть не может быть отнесена ни к какому-либо акту или упущению, могущему быть поставленным в вину кому бы то ни было.
В интересах соблюдения всех формальностей материалы дознания были препровождены министру юстиции, однако шестого июня тот объявил, что дальнейшее расследование представляется лишенным оснований из-за отсутствия prima facie[23] состава преступления со стороны какого-либо лица или группы лиц.
5
Она ждала его на ступенях, ведущих в здание суда, еще после второго или третьего заседания, после того как процесс был отложен на день, — этакая маленькая черноволосая девушка с большими карими глазами, затерявшаяся и неприметная в толпе газетчиков. Ему так и показалось, когда он увидел ее в суде, что она выглядит поразительно юной для такой серьезной работы. В окружении множества людей, старше ее по возрасту, плотных здоровяков, развязных репортеров, ее юность почти физически ранила его тогда. Юность и эта ее открытость, искренность, неподдельность. Но сейчас, столкнувшись с ней, вдруг словно выросшей перед ним, он с удивлением обнаружил, насколько она старше, чем он себе представлял. Определенно ближе к тридцати, а не восемнадцать-двадцать, как ему показалось вначале. Подведенные глаза, глубокие, а это уж не скроешь, морщинки непреклонной решимости или страданий вокруг рта. Пожалуй, в дочери ему годится, но зрелая и без иллюзий, и уж не без жизненного опыта; и никаких следов неуверенности, неверия в собственные силы. Твердая, непоколебимая и женственная. Знающая себе цену.
Бен вышел из здания суда раздраженный, недовольный собой. Вышел погруженный в собственные мысли. И не только от того, что произошло в суде, от чего-то гораздо большего: он уже свыкся с присутствием целой толпы лиц из тайной полиции в зале заседаний, откровенно разглядывавших присутствующих, перебирающих одного за другим на предмет более тщательного изучения. И каждый чувствовал себя виновным, пусть для этого и не было никаких причин. В тот день в первый раз здесь был и полковник Вильюн. И когда глаза этого, уже с проседью, слегка покровительственного в обращении офицера вдруг отыскали Бена в толпе, в них отразилось что-то: удивление? неодобрение? — не это даже. Просто констатация факта: ничто не укрыто от его взора. Вот от чего смешался Бен. Поэтому он едва заметил девушку, когда вышел из дверей. А она, загородив ему дорогу, заговорила неожиданно низким для такого создания голосом:
— Господин Дютуа?
Он с нескрываемым изумлением — не спутали ли его с кем-нибудь другим — оглядел ее.
— Да.
— Я Мелани Брувер.
Он остановился и стоял выжидательно, настороженно.
— Я так понимаю, вы были знакомы?
— С кем?
— С Гордоном Нгубене.
— Вы из газеты? — спросил он.
— Да. Я из «Мейл». Но это мой личный вопрос.
— Я предпочел бы не говорить на эту тему. — Бен сказал это тоном, не допускающим возражений, как если б разговаривал с Линдой или Сюзетт.
Но что его удивило, так это ее ответ.
— Понимаю, — сказала она. — А жаль. Мне хотелось бы узнать о нем побольше. Это, должно быть, был какой-то особенный человек.
— С чего вы взяли?
— Ну, хотя бы эта его решимость, с какой он пытался докопаться до причин смерти своего сына.
— Любой поступил бы точно так же, коснись это его ребенка.
— Чего же вы ощетинились?
— Я? Нет. Просто это был самый обычный человек. Как я, как все другие. В этом все дело. Неужели не понимаете?
Она вдруг улыбнулась всем своим полным и щедрым ртом.
— Это-то и заинтриговало меня. В наше время обычный человек — большая редкость.
— То есть как вас прикажете понимать? — Он смотрел на нее с подозрением, хотя уже обезоруженный ее улыбкой.
— А так, что очень редко встречаются люди, готовые быть просто человеком — и со всей мерой ответственности за это, знаете ли. Не согласны? Ну, за свою человечность.
— Я действительно здесь не судья. — Она удивительным образом заставила его почувствовать себя виновным. Что в конечном счете он сделал, чего добился? Выжидал, медлил, ну каких-то мелочей добился, и только-то. А может, она дурачит его?
— А как вы узнали об этом? — поинтересовался он, как бы прощупывая почву. — Ну, что я знал Гордона?
— Мне Стенли рассказал.
— Так вы и Стенли знаете?
— Кто ж его не знает.
— Ну так вряд ли он дал мне лестную характеристику, — ляпнул он и сам понял, что получилось неловко.
— О, Стенли на ваш счет удивительно деликатен, господин Дютуа. — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Но вы сказали, что предпочли бы не обсуждать эту тему, так что прошу прощения. До свидания.
Он смотрел ей вслед, пока она спускалась по широкой лестнице. Там она махнула ему рукой на прощание, маленькая невзрачная фигурка. Он тоже вздернул руку, скорее в надежде вернуть ее, чем попрощаться. Но ее уже след простыл. И когда он спускался по лестнице, чтобы влиться в запруженную толпой и залитую солнцем улицу, перед глазами у него светились ее большие искренние глаза, а в душе саднило чувство утраты, словно он потерял нечто прекрасное и непостижимое, и, только протяни руку, возможное, хотя он и сам не мог себе объяснить, что именно.
Она лишила его покоя на весь остаток дня, и уснул он, размышляя о ней: что она сказала о Стенли, о Гордоне, о нем самом. Темные глаза и такая ранимость в линии губ.
Двумя днями позже в перерыве на второй завтрак он сидел в маленьком греческом кафе поблизости от здания суда. Почти все места были заняты. Он как раз принялся за свой чай с ломтиком хлеба, подрумяненным на огне, когда у его столика, накрытого несвежей, в пятнах, полиэтиленовой скатертью, вдруг возникла невесть откуда она.
— Не возражаете, я к вам присяду? Ни одного свободного места.
Бен вскочил, неловко двинув столик, чай расплескался на блюдце.
— Конечно. — Он потянул за спинку стул напротив, предлагая ей сесть.
— Не стану вам докучать разговорами, если вы не в настроении, — сказала она, а глаза ее смеялись. — Не обращайте на меня внимания.
— Нет-нет, почему же, — поспешил он. — В суде сегодня все шло отлично.
— Вы находите?
— А вы? — Он не мог скрыть возбуждения. — Как этот Тсабалала выступил против них, да и вообще. Все их дело на ладан дышит. Де Виллирс мокрого места от них не оставит.
Она усмехнулась:
— Вы действительно полагаете, что это изменит исход дела?
— А как же. Ясней ясного. Де Виллирс на их собственной лжи их и посадит в лужу.
— Хотелось бы верить.
Официант подал ей замусоленное меню и принял заказ.
— А почему вы так скептически настроены? — спросил Бен, когда тот ушел.
Она оперлась подбородком на согнутые в локтях руки и посмотрела на него.
— Что вы намереваетесь делать, если из этого ничего не выйдет?
— Мысли такой не допускаю.
— Боитесь?
— Чего?
— Я не имею в виду ничего конкретного. Просто так, не страшно?
— Боюсь одного — я вас не понимаю.
Он вынужден был смотреть ей в глаза.
— Распрекрасно вы все понимаете, господин Дютуа. И отчаянно хотите, чтобы это удачно обернулось.
— Один я? А другие?
— Да, мы тоже. Причины только разные. Вы ведь не просто зритель.
— Так, значит, вы все-таки за материалом для газеты, — задумчиво протянул он, не скрывая горького разочарования.
— Нет. — Она смотрела на него неподвижным взглядом, не шелохнувшись. — Я же сказала. Еще в прошлый раз. Просто мне самой хочется знать. Должна знать.
— Должны?
— Да. Хотя бы потому, что я и сама не умею оставаться зрителем. Я понимаю, я журналистка, и предполагается, что должна быть объективной и не причастной ничему на свете. А только я бы сама с собой не ужилась, если б на этом и поставила точку. Это, ну… понимаете, рано или поздно каждый ведь начинает доискиваться смысла собственного существования. Вот я и подумала, может, вы мне поможете.
— Мы с вами даже не знакомы.
— Да. И все-таки я готова рискнуть.
— Такой уж большой риск?
— А вы как думаете? — Было нечто обезоруживающе щутливое в том, как важно она это произнесла, — Может, вы знаете что-нибудь более опасное для человека, чем неожиданно оказаться над пропастью?
— Ну, как сказать, — тихо промолвил он.
— Уходите от ответа? Что бы я ни спросила, только и слышу: «как сказать», «возможно» или «что я имею в виду». А я хочу знать почему? А то, что вы не такой, как все, без вас знаю.
— Откуда это?
— От Стенли, от него.
— А если он ошибается?
— Он слишком много в жизни насмотрелся, чтобы ошибаться на этот счет.
— Расскажите мне о нем, — попросил Бен, ухватившись за спасительную мысль перевести разговор на другую тему.
Мелани поняла, расхохоталась.
— Вот уж кто мне ни разу в помощи не отказал. Обращаюсь не только по газетным делам, хотя и это тоже. Я в том смысле, что на ноги мне помог стать, особенно вначале, когда я только пришла работать. Вы этот его бесшабашный вид всерьез не принимайте. Это у него напускное.
— И такси просто камуфляж?
— Конечно. Ну и потом, так свободней, всегда сам себе хозяин. Похоже, пасется на контрабанде. Может, алмазы, — Она улыбнулась. — Он и сам чем-то алмаз напоминает, правда? Большой черный необработанный алмаз. Одно я только давно установила: если уж действительно понадобится человек, на которого можно положиться, так это Стенли.
Официант принес ей чай и бутерброды.
Она подождала, пока он уйдет, и тогда сказала, возвращаясь к началу разговора:
— Вот почему я и решила: воспользуюсь-ка случаем поговорить с вами.
Он налил себе еще чаю и, забыв положить сахар, пристально смотрел на нее.
— Знаете, — признался он, — я так и не могу понять, кто вы. Верить вам, или вы просто самая коварная журналистка, какую только можно себе представить.
— Испытайте, — сказала она спокойно.
— На что бы вы там ни рассчитывали, — выпалил он, — а я действительно мало что могу рассказать о Гордоне.
Она чуть заметно повела плечом и молча жевала бутерброд, крохотные крошки прилипли к губам. Она облизала губы, и его тронуло, как это у нее по-детски получилось.
— Ну не за этим же я пришла сюда.
— Понимаю. — Он улыбнулся, почувствовал себя вдруг по-мальчишески свободно.
— Меня потрясло, когда я увидела сегодня этого Арчибальда Тсабалалу, — сказала она. — Стоять и говорить им прямо в лицо, что они с ним сделали. Зная, что через несколько минут он снова окажется в руках своих палачей. — Ее темные глаза были доверчиво устремлены на него. — Не укладывается в голове. Да и весь их народ… они единственные, кто может позволить себе такое. Им нечего терять, только жизнь. Да и можно ли это прозябание назвать жизнью? Хуже некуда. Остается надеяться только на чудо, а вдруг?.. При условии, что их не перебьют всех до единого. А что, правительство может выиграть войну против целой армии трупов?
Он ничего не ответил, понимая, что вопрос не к нему.
— Но вы, — сказала она, помолчав. — У вас есть все, что человек может потерять. Вы-то как же?
— Не говорите так. Пожалуйста. Ничего я путного не сделал.
Она не спускала с него глаз, молча покачала головой. Длинные черные волосы мягко качнулись, и лицо стало как в раме.
— Что вы такое вообразили, Мелани?
— Ничего. Нам пора. Скоро начнется заседание. А то без места останемся.
Он поднялся, рукой подозвал официанта. Расплатился за обоих. А потом они шли по улицам, людным в этот час. И до самого здания суда не сказали друг другу ни слова.
И последний день суда. Едва дослушав приговор, он, ошеломленный, с трудом передвигая ноги от нахлынувшей вдруг усталости, поспешил прочь из зала и остановился уже на тротуаре. Его обтекала толпа, большей частью черные, кричащие и размахивавшие кулаками, поющие песни о свободе. А за ним сквозь толпу пробирались те, кто, как и он, вышли из зала суда. Он мешал, и его толкали. Но и это едва доходило до сознания. Слишком неожиданно все кончилось, будто кто взял и обрубил. Приговор звучал настолько нелепо, что он тупо повторял слово за словом, чтобы собрать их во что-то осмысленное. Следовательно, суд находит, что Гордон Нгубене покончил жизнь самоубийством через повешение февраля двадцать пятого дня и что на основании имеющихся свидетельств его смерть не может быть отнесена за счет какого-либо действия либо упущения, могущего быть рассмотренным как уголовное преступление с чьей бы то ни было стороны.
Двое из толпы пробирались к нему, но он обратил на них внимание, лишь когда кто-то тронул его за руку. Стенли в своих темных очках и с вечной улыбкой, хотя сейчас это была скорее гримаса какая-то. Стенли и повисшая у него на руке Эмили.
Первое, что бросилось в глаза, это ее безобразно искривленный рот. Она пыталась что-то сказать и все не могла и просто кинулась ему на шею и принялась рыдать у него на груди. Она повисла на нем всей тяжестью могучего тела, и, чтобы сохранить равновесие, он машинально обхватил ее за плечи. Так они и стояли, будто обнявшись, пока Стенли мягко, но решительно не оторвал ее от него. А на ступенях, ведущих в зал суда, вспыхивали блицы репортеров.
Как и она, Бен слишком был переполнен чувствами, чтобы говорить и замечать, что творится вокруг.
Один Стенли не терял присутствия духа. Он положил свою ручищу Бену на плечо и пророкотал:
— Ну-ну, белый, все в порядке. Главное, мы пока живы.
И они исчезли в толпе, словно их и не было.
И почти тут же что-то нежное коснулось его руки, и голос сказал:
— Идемте.
В самое время, потому что полицейские с собаками уже разгоняли толпу, прежде чем она могла бы вылиться в демонстрацию. Так они и оказались снова в том жалком кафе, что и накануне. В этот час там было почти пусто. На потолке горела единственная лампа дневного света, остальные мерцали. Они прошли к столу за зеленым барьером из пластика и заказали кофе.
Бен, занятый собственными мыслями, меньше всего был расположен сейчас разговаривать. Ей и не нужно было ничего объяснять, и, только допив кофе, Мелани спросила:
— Бен, вы действительно ждали другого приговора?
Он поглядел на нее, уязвленный этим вопросом, и молча кивнул.
— Что теперь?
— Зачем вы спрашиваете? — взорвался он.
Она промолчала, жестом показала официанту: еще два кофе.
— А вы что-нибудь понимаете? — спросил он с вызовом.
Она спокойно ответила:
— Да, конечно, понимаю. А на что еще они могли решиться? Не признаваться же, что сами кругом не правы?
— Не верю, — упрямо твердил он. — Это же не что-нибудь, это — суд закона.
— Назовем вещи своими именами, Бен. Ведь в функции суда вовсе и не входит решать, кто прав или не прав в абсолютном смысле. Его дело применить закон, букву.
— Откуда в вас столько цинизма? — Он был ошеломлен.
— Почему цинизма? — Она покачала головой. — Просто я стараюсь не витать в облаках. — Глаза у нее потеплели. — Знаете, я до сих пор помню, как отец, когда я была совсем маленькой, изображал, бывало, деда-мороза. Он всегда баловал меня самым немыслимым образом, но любимым его развлечением было рождественское представление. Но уже лет в пять или шесть я прекрасно понимала, что все эти деды-морозы сплошной вздор. А вот решиться сказать ему об этом никак не могла, ведь ему это доставляло столько радости.
Он тупо уставился на нее.
— Мы говорили о Гордоне. Не вижу, какая тут связь?
— А такая, что мы все разыгрываем друг перед другом дедов-морозов, — сказала она. — И все боимся посмотреть правде в глаза. А зачем? Рано или поздно все равно ведь приходится.
— И «правда» в том, чтобы отринуть понятие справедливости? — спросил он гневно.
— Вовсе нет. — Она отвечала ему тоном взрослого превосходства, когда хотят успокоить ребенка. — Я никогда не перестану верить в справедливость. Просто я вынесла из жизни, что в определенных обстоятельствах тщетно искать ее.
— Какой прок в системе, где больше нет места справедливости?
Она посмотрела на него с иронией.
— Это уж точно.
Он только качал головой.
— Вы еще очень молоды, Мелани, — сказал он. — И размышляете категориями молодости — все или ничего.
— Вот уж нет, — возразила она. — Я отвергла абсолюты в тот же день, когда перестала верить в деда-мороза. Но прежде, чем бороться за справедливость, надо очень отчетливо представить себе, что это такое — справедливость. А она познается от обратного. Надо знать своего врага. С этого надо начинать.
— И вы совершенно уверены, что знаете врага?
— По крайней мере не прячу голову в песок.
Раздраженный от сознания того, что его загнали в тупик, он рывком встал, двинул стулом, даже не притронувшись к кофе, который она заказала.
— Я ухожу, — сказал он. — Здесь не место для разговоров.
Ни словом не возразив ему, она тоже поднялась. И пошла за ним следом.
Уже затих гул городского транспорта, и улицы без толпы лежали мертвыми, как пустыня. Горячий, насыщенный запахами большого города воздух висел неподвижным маревом, вяло колышущимся между громадами, зданий.
— Не очень-то забивайте себе голову всем этим, — сказала Мелани, когда они вышли и зашагали по тротуару. — Прежде всего постарайтесь выспаться. Понимаю, вам нелегко пришлось.
— Вам куда? — спросил он, испытав вдруг панический ужас при мысли, что вот сейчас она уйдет, и все.
— Я на автобус. Мне на Маркет-стрит, — Она уже повернулась, чтобы идти.
— Мелани, — позвал он, решительно не понимая, что с ним происходит. Она обернулась, резко, так что взметнулись ее тяжелые длинные волосы. — Можно я провожу вас?
— Если вам по пути.
— Где вы живете?
— Вестден.
— Рукой подать.
Какое-то мгновенье они стояли лицом друг к другу, такие оба незащищенные в безжалостных лучах заходящего солнца. («И так-то вот решается жизнь, тривиально, случайно», — запишет он потом.)
— Спасибо, — сказала она.
И больше, до автомобильной стоянки, они не проронили ни слова. И после, в машине, и когда уже проехали мост и свернули на Ян Смэтс-авеню и уже миновали Эмпайр-роуд. Может, теперь он и раскаивался в чем. Он предпочел бы ехать домой в одиночестве. А ее присутствие слепило, как яркий свет.
Дом стоял в старом районе пригорода, на улочке, скатывавшейся с холма. Просторный дом на участке вдвое против обычного, огороженном белым штакетником, кое-где в нем виднелись проломы. Уродливый старый дом двадцатых или тридцатых годов, с осевшей и покосившейся верандой и колоннами, увитыми бугенвиллеями; зеленые ставни, тоже давно перекосившиеся и кое-как висевшие на полуистлевших от времени петлях. Но что радовало глаз, так это сад. Никаких там лужаек на новый лад, фонтанчиков и экзотических уголков, просто честные ухоженные клумбы, деревья, кустарник и пышная зелень овощных грядок.
Бен вышел из машины открыть ей дверцу, но она опередила его. И теперь он стоял перед ней нерешительный, удрученный, не зная, что сказать.
— Вы… это здесь вы живете? — наконец спросил он. Никак уж не сочеталось с ней то, что было перед глазами.
— Мы с отцом.
— Ну, — сказал он, — мне, пожалуй, пора. — И никак не мог решить, должен ли он попрощаться с ней за руку, ну, то есть первым подать руку.
— Вы не зайдете?
— Нет, благодарю вас. Никак не расположен для светской беседы.
— Папы нет дома. — Она сощурилась под ослепительно ярким закатным солнцем. — Он в горах, на Магалисберге, он ведь у меня альпинист.
— Один?
— Ага. Немножко беспокоюсь, ему ведь уже под восемьдесят и здоровьем не блещет. Но его не удержишь от этих гор. Обычно мы с ним вместе ходим, а на этот раз пришлось вот остаться из-за суда.
— И вам здесь не скучно жить?
— Скучно? Нет. Я ведь сама себе хозяйка, ничто меня здесь не удерживает. — И чуть погодя: — А потом, каждому нужно вот такое место, где можно уединиться, когда все опостылело.
— Понимаю. Это мне знакомо. — И тут же поймал себя на мысли, что, похоже, сказал больше, чем следовало бы. — Но знаете, я ведь постарше вас.
— Ну и что? У всех по-разному.
— Да, но вы молоды. Неужели вы не предпочитаете этому, — он показал на дом, — бывать в обществе, развлекаться, что естественно в вашем возрасте?
— Что вы называете развлекаться? — спросила она, снова с этой ее иронической усмешкой.
— Ну, что молодежь обычно имеет под этим в виду.
— A-а. Ну в этом я преуспела на свой собственный лад, когда была помоложе, — сказала она. И тут же, не без тени загадочности впрочем: — Знаете, я уже даже замужем побывала.
Его это по-настоящему заинтриговало. Нет, в самом деле, такая юная, такой ребенок. Но и это растворилось, едва он заглянул ей в глаза.
— Вы сказали, что торопитесь домой, господин Дютуа, — напомнила ему Мелани.
До этого она, помнится, называла его просто по имени. И неожиданно для себя, может быть, из-за этой официальности, он вдруг сказал, что с удовольствием зашел бы, если ему предложат чашечку кофе.
— Я ведь так и не выпил тот, что вы заказали, — сказал он.
— Ох уж эти мне угрызения совести. — И все-таки она с явным удовлетворением пошла к сломанной железной калитке и дальше по неровной, мощенной камнем тропке, едва угадывавшейся среди разросшейся зелени, к веранде. Она еще долго копалась в сумке, отыскивая ключ. И вот дверь открыта.
— Прошу!
И он пошел за ней, и они остановились в просторном кабинете. Две обычные комнаты с прорубленной в стене аркой, обрамленной с обеих сторон чудовищно огромными бивнями. Стены почти сплошь были уставлены книжными полками, встроенными вперемежку с чудесными антикварными шкафами со стеклянными дверцами, а рядом с ними — еще и еще, из обычных сосновых досок. По полу были разбросаны потрепанные персидские коврики, шкуры газели, антидорки и сернобыка. Занавеси на оконных проемах были из выцветшего вельвета, когда-то цвета старого золота, а теперь просто грязно-желтые. Репродукции в просветах между книжными полками: «Девушки на мосту» Мунка, «Тит» Рембрандта, натюрморт Жоржа Брака, ранний Пикассо, «Поле с кипарисами» Ван Гога. Несколько громадных кресел со спящими кошками на каждом; изысканной инкрустации шахматный столик с резными фигурками из слоновой кости и черного дерева, явно восточного происхождения. Старинный кабинетный рояль и тут же ящик от походного военного столика. Стол, как и два поменьше, как и все вообще свободное пространство, включая и каждый кусочек пола, был усыпан связками бумаг и книгами, открытыми, как пришлось, на какой-то странице, с обтрепавшимися от старости закладками. По полу вились провода, соединяющие проигрыватель с двумя стереоколонками. В комнате стоял застоявшийся запах табака, кошек, пыли и плесени.
— Устраивайтесь поудобней, — сказала Мелани, подхватив с первого попавшегося стула груду книг, газет, бумаг и заодно убеждая одного из этих бесчисленных, вконец обленившихся, жирных котов уступить место гостю. И тут же метнулась к шкафу с пластинками, дверцы которого были распахнуты настежь, потому что он был так забит, что его при всем желании не закроешь, и щелкнула выключателем маленькой настольной лампы. И весь этот живописный хаос тут же растворился в тусклом, серовато-коричневом от вечной пыли и желтом у самой лампочки свете. Каким-то непонятным образом она удивительно вписывалась в эту комнату, хотя в то же время казалась напрочь чужой и совершенно здесь не к месту. Вписывалась, потому что была здесь в собственном доме, так уверенно прокладывала себе дорогу в этой неразберихе; и не к месту, потому что все здесь было такое древнее, заплесневелое и отжившее свой век, а она такая юная.
— Ну от кофе вы, значит, не отказываетесь, — сказала она, еще не успев отойти от лампы. Желтый свет падал ей на плечи и на щеку, и золотым блеском в нем отливала темень ее волос. — А может, что-нибудь покрепче?
— А у вас найдется?
— После сегодняшнего нам с вами просто необходимо. — Она пошарила где-то сбоку арки, среди этих чудовищных бивней. — Бренди?
— С удовольствием.
— Содовой?
— Спасибо.
Она вышла, а он принялся исследовать эту двойную комнату, путаясь ногами в проводах, тянувшихся к динамикам, механически проводил рукой по корешкам на книжных полках. Похоже, в подборе книг здесь исповедовали то же абсолютное пренебрежение к системе, как и вообще ко всему в этой комнате. Хаос. В беспорядке поставленных как попало книг труды по праву, а рядом Гомер на древнегреческом, библия и целая подборка комментариев к ней, книги по философии, антропологии, фолианты с описаниями путешествий в старинных кожаных переплетах, история искусств, музыки, «Птицы Южной Африки», ботаника, пособия по фотографии, английский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, шведский, латинский словари; сборник пьес, романы из серии «Пингвин-букс». И ни одной новой книги — все, видно, читаные-перечитаные, с замусоленными страницами. В тех, что он брал с полки и листал, были загнутые страницы, отчеркнутые абзацы, поля испещрены комментариями, написанными мельчайшим, едва различимым почерком, подлинно минускулами.
Он задержался только у шахматного столика и, нежно касаясь искусно вырезанных фигур, сделал несколько ходов, разыграв начало испанской партии и умиротворяясь ее классической гармонией, ход белыми, ход черными, белыми, черными. И вдруг это ощущение, внезапное и неожиданное, почти физически мучительной зависти: и что, можно вот так жить, играя этими фигурами после своих старых, облезлых, захватанных, прикасаться к ним ежедневно, как может позволить себе Мелани?
Она вошла так тихо, что он не слышал. И вздрогнул, когда она тихо сказала:
— Я вот здесь накрою.
Она сбросила туфли и теперь пристроилась в кресле, которое предлагала до этого Бену. Ноги поджала под себя и сидела с кошкой на коленях.
Он освободил от хлама стул напротив и взял рюмку со штабеля книг, на который она ее поставила. Две здоровенные серые кошки тут же потянулись к нему и стали тереться о ноги, поводя хвостами и довольно урча.
Так они с ней сидели и пили, молча и не считая времени, в сумраке этой беспорядочной комнаты. И он ощущал, как тупое, тяжелое оцепенение спадает с него, подобно намокшему пальто, медленно освобождает плечи и падает на пол. На улице, за окном спускалась ночь. А в сумерках комнаты, обласканные мягким, подобным желто-солнечному, свечением лампы, почти неразличимые, неслышно двигались кошки, держась дальше от этого единственного источника света, прячась от него по углам.
На какой-то миг, и только на один какой-то миг, грубая действительность этого долгого дня отпустила его: зал суда, смерть, нагромождение лжи, пытки, Соуэто и город — все, что так нестерпимо навалилось на него в этом жалком кафе. Не то чтобы это совершенно исчезло, остался след, шершавый, как на рисунке древесным углем, ощутимый под пальцами, но если легонько провести рукой, то линии стираются и размазываются.
— Когда приезжает ваш отец?
Она пожала плечами:
— Понятия не имею. Он живет вне расписания. Дня через два-три, наверное. Неделя, как он уехал.
Он обвел рукой комнату.
— Знаете, так я себе представляю кабинет доктора Фауста.
Она ухмыльнулась:
— Точно. Он здесь и обитает. Если б отец верил в дьявола, непременно продал бы ему душу.
— Чем занимается ваш отец? — Он с облегчением ухватился за эту тему, чтобы не говорить о себе, и о ней, и обо всем, что произошло.
— Был профессором философии. Несколько лет назад вышел в отставку. Теперь живет, как ему нравится. А время от времени отправляется в горы, собирает гербарии и всякую всячину. Исходил всю страну, до самой Ботсваны и Окаванго.
— Ну и вы не против оставаться здесь, предоставленной самой себе?
— Почему я должна быть против?
— Я просто спрашиваю.
— Мы прекрасно ладим. — В полумраке, едва рассеиваемом золотистым светом лампы, в знакомом окружении, где все до мелочей свое, было легче сбросить с себя скрытную сдержанность. — Понимаете, ему было около пятидесяти, когда он вернулся с войны, и в Лондоне они поженились. С моей матерью. Дочь его старых друзей. Намного моложе его. Три недели, всего-навсего, продолжался их роман, ведь до войны он знал ее совсем ребенком и не обращал на нее никакого внимания. И поженились. Но привыкнуть к Южной Африке она так и не смогла, ровно через год после того, как я родилась, разошлись. Она вернулась в Лондон, и с тех пор мы больше не виделись. Он сам один меня вырастил. — Она улыбнулась ему, широко и открыто. — Одному богу известно, как он справлялся, более непрактичного человека на свете не сыщешь. — Какое-то время они молчали, и только мурлыканье кошек нарушало тишину, да скрипнуло кресло, когда она устроилась поудобней. — Он учился на юридическом, с этого начинал, — сказала она. — Был адвокатом. Но затем решил, что сыт по горло, бросил практику и уехал в Германию изучать философию. Это уже в начале тридцатых. Какое-то время учился в Тюбингене, в Берлине, и еще год в Йене. Но был настолько подавлен всем, что произошло тогда в третьем рейхе, что в тридцать восьмом вернулся. Когда разразилась война, пошел в армию, чтобы воевать против Гитлера. А кончилось тем, что три года просидел в немецком концлагере.
— А вы?
Она вскинула на него глаза и минуту изучающе его разглядывала.
— Что я?
— Что вас привело в журналистику?
— Иногда я сама себя спрашиваю. — Она помолчала, и только ее большие загадочные глаза светились в сумраке комнаты. А затем, словно вдруг решившись на что-то очень трудное, сказала: — Ладно, я вам расскажу. Не знаю почему, терпеть не могу исповедоваться. Но если вам интересно…
Он сидел не шелохнувшись, боясь спугнуть разлившееся по телу расслабление, откровение души, еще недавно немыслимое, — к нему располагала угасающая вечерняя заря за окном, и мягкие сумерки, разливавшиеся в комнате, и сама кроткая доброта этого старого дома.
— Я росла под стеклянным колпаком, — сказала она. — Не то чтобы он был человек-собственник, но ограждал меня от чего только можно. Я думаю, просто он столько всякой грязи насмотрелся в этом мире, что хотел, как мог, меня защитить. Ну, не от страданий вообще, а от ненужных страданий. И потом, в университете, я избрала самое безопасное и привлекательное. Филологию. Надеялась преподавать литературу. Затем вышла замуж за человека, которого знала еще по школе, одного из своих учителей. Он обожал меня, на руках носил, ну совсем как отец. — Она тряхнула головой, и он смотрел на водопад ее темных волос. — Думаю, с этого и начались все беды.
— Но почему? — Он почувствовал внезапную острую боль тоски по Линде.
— Я не знаю. Может быть, просто во мне был заложен дух противоречия. Или наоборот. Я. между прочим, родилась под знаком Близнецов, знаете, — (с вызывающей улыбкой). — В глубине моего существа я страшно ленива. Не было ничего легче, чем потакать своим причудам, позволять себе, едва поднявшись, снова нырнуть в одно из этих старых добрых кресел. Но это опасно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я в том смысле, что каждый может, конечно, обложившись мягкими подушками, всю жизнь вести этакое восхитительное существование, пока, по сути, и жить-то не перестанешь, разучишься чувствовать и сочувствовать, пребывая в вечном трансе. — Она сидела и крутила бренди в стакане. — Пока в один прекрасный день не обнаружишь, что жизнь, собственно, давно ускользнула вот так, между пальцев, а ты давным-давно не больше чем этакая безногая личинка, и уже не человеческое существо, а просто-напросто вещь, милая и бесполезная. И даже если ты попытаешься звать на помощь, тебя не поймут. Господи, тебя и не услышат. А и услышат, так подумают, просто вот, мол, новая мода завелась, и станут над тобой сюсюкать.
— И что вас выбило из колеи?
— Ничего действительно драматического и захватывающего и не понадобилось. Просто одним прекрасным утром вы открываете глаза и обнаруживаете, что внутри что-то покалывает и не дает покоя, а что, вы не понимаете. Вы идете в ванную, возвращаетесь к себе и вдруг, когда проходите мимо гардероба, видите себя в зеркале. И замираете. Смотрите. Прочь одежды, они мешают вам вглядеться в себя. Лицо и тело — все, как обычно, вы смотрели на свое отражение тысячу раз. Ничего не изменилось, кроме одного. Ничего-то вы раньше не видели. Просто потому, что никогда и не смотрели. И сейчас, неожиданно это вдруг ударяет в глаза, потому что перед глазами абсолютно незнакомая фигура. Вы всматриваетесь в собственные глаза, и в свой нос, и в свои губы. Вы прижимаетесь лицом к гладкому, холодному стеклу, пока оно не запотеет, стараясь вглядеться в него, различить собственные черты. Отходите и оглядываете себя со стороны. Трогаете себя собственными руками, чтобы убедить себя, да вот же вы, вот. Но нет, не вы. Чужая, потому что касаешься и не чувствуешь прикосновения к своей плоти. И тогда в тебе возмущается твое живое естество. И, возмущаясь, требует бежать прочь, как есть нагой, на улицу, и прокричать все, что есть самого мерзкого, непристойного, что ты думаешь о людях. Но ты подавляешь это, конечно же. И оттого чувствуешь себя только еще крепче запертой в этой тюрьме. И потом вдруг осознаешь: вся твоя жизнь, которую ты провела в ожидании того нечто, что должно было случиться, и есть то особенное, действительно стоящее, ради чего стоит жить. А то, что было, — одна сплошная трата времени.
— Я знаю, — тихо сказал Бен, и произнес это скорее для себя. — Я могу понять это чувство: ожидание и ожидание, точно сама жизнь — вклад в какой-то банк. Такой, знаете ли, депозит, что может быть выплачен вам в любой день, ну целое состояние. А потом открываете глаза, и оказывается, что жизнь не больше чем скромная кредитка в заднем кармане брюк. Никаких депозитов.
Она выбралась из кресла и, обойдя заваленный бумагами письменный стол, остановилась у окна, а он смотрел на ее маленький изящный силуэт в оконной раме, какой-то по-детски беспомощный, на угловатые, как у ребенка, плечи, точеную округлость бедер.
— Если и было что-то конкретное, что открыло мне глаза, — произнесла она, оборачиваясь, — так самое что ни на есть тривиальное на свете. Однажды наша прислуга почувствовала себя плохо, и вечером я повезла ее домой, она жила в Александре. Я выросла у нее на руках, она служила еще у папы, а после моего замужества перешла к нам с Брайеном. Мы прекрасно ладили. Прилично платили ей и так далее. А тут я, понимаете, первый раз в жизни переступила порог ее дома. И меня это потрясло. Крохотный кирпичный домик в две комнатушки. Без потолка, без электричества, цементный пол. Как сейчас помню, стол, покрытый куском линолеума, пара расшатанных стульев да стенной шкафчик для посуды. Это в первой комнате, а в другой — кровать да жестянки из-под керосина. И все. Здесь жили она с мужем и тремя детьми и еще две сестры мужа. По очереди спали на кровати, остальные на полу. Никаких матрацев. Зима, дети кашляют. — У нее перехватило горло. — Вы понимаете, это была не бедность, ну как общепринятое понятие, что ли: всякий знает про бедность, читает в газетах, видим, не слепые, у иных даже общественное сознание развито. Но Дороти… Ведь я считала, что знаю. Она помогла отцу вынянчить меня; мы жили с ней под одной крышей, дня без нее не прошло, сколько я себя помнила. Такое чувство было, точно у меня первый раз открылись глаза на чужую жизнь. Словно впервые в жизни обнаружила вдруг, что, кроме меня, существуют, — проговорила она раздельно, — и другие, чужие жизни. И хуже всего сознание, что ничего-то я не знаю о жизни — ни о своей, ни о жизни других людей, — Она резко повернулась, обошла стол и взяла у него из рук пустой стакан. — Давайте я вам еще налью.
— Мне хватит, — сказал Бен. Но она уже исчезла, за ней бесшумными тенями мелькнули кошки.
— Позвольте, но не поэтому же вы развелись? — сказал Бен, когда она вернулась.
Она стояла спиной к нему, выбрала и поставила на проигрыватель пластинку. Бетховен, одна из последних его сонат. Повернула ручку громкости, сделала совсем тихо, и музыка вкралась в хаос комнаты.
— Ну кто ж тут однозначно ответит, — сказала она, сворачиваясь в клубок в своем кресле. — Конечно, нет. Было и много другого. Просто я все больше и больше стала бояться быть в четырех стенах. Я стала раздражительной, сама понимала, как я безрассудна и необузданна. Бедный Брайен терялся в догадках, что вдруг случилось. И папа тоже ничего не понимал. В сущности, примерно год мы были каждый сам по себе. Я избегала смотреть в его сторону потому, что просто не знала, что я могу ему сказать. После развода я тут же сняла себе квартиру.
— Но теперь-то вы снова с отцом, — напомнил он.
— Да. Но не для того, чтобы меня снова баловали и портили. Только потому, что теперь во мне нуждается отец.
— Ну а потом вы стали журналисткой, — напомнил он ей.
— Я думала, это заставит меня или хотя бы поможет проявить себя. Не даст снова погрузиться в это мое не оправданное реальной действительностью прежнее благодушие. Заставит открыть глаза и заметить наконец, что происходит вокруг.
— Радикальная мера.
— А мне и нужно было что-то радикальное. Я себя слишком хорошо изучила. Мне ведь ничего не стоило снова опуститься до эдакого самопрощения и беззаботного наслаждения жизнью. А я отважилась сказать себе: не будет этого больше. Вы понимаете?
— И помогло? — Бен почувствовал, как со вторым глотком бренди по телу разлилось тепло, вконец освобождающее его от недавней ледяной скованности.
— Мне и самой хотелось бы ответить прямо, — «А вы-то как думаете?» — говорил ее взгляд. А потом она сказала: — И я уехала, решила побродить по свету. Поначалу здесь, по Африке, а потом…
— С южноафриканским-то паспортом? Как это вам удалось?
— Не забывайте, по матери я англичанка. Так что паспорт я выправила британский. Кстати, и посейчас незаменимая вещь, когда газете нужно послать репортера.
— И что, не было никаких проблем?
Короткий, горький смешок.
— Не скажите. Хотя я их и не искала. Даже наоборот, бежала от них. — Подернула плечом с досадой. — Ей-богу, не пойму, чего ради мне плакаться вам в жилетку. Вам-то какая радость?
— Ну вот, теперь вы уклоняетесь от ответа.
Она посмотрела ему прямо в глаза, что-то взвешивая, раздумывая. А затем, в попытке отогнать нечто, вдруг навалившееся на нее, взметнулась с кресла и принялась ходить по комнате, машинально выравнивая стопки книг.
— В семьдесят четвертом я была в Мозамбике, — выдавила она наконец, — Тогда, после переворота, еще только набирал силы ФРЕЛИМО, в стране все бурлило. Кто за кого — не поймешь. — Нахлынувшие воспоминания, видно, мешали ей сосредоточиться. Так и не поворачиваясь к нему лицом, она сказала: — Ну вот, как-то вечером, когда я возвращалась в отель, меня остановили пьяные парни, кто, что — не знаю. Я предъявила мое корреспондентское удостоверение, но не это им было нужно.
— Ну и…
— Ну, вы не понимаете? — переспросила она. — Ну а то, что отволокли на какой-то пустырь, изнасиловали и бросили, — И с неожиданным смешком: — А знаете, что самое худшее было для меня во всей этой истории? Нет? Вернуться среди ночи в отель и обнаружить, что отключили горячую воду.
Он развел руками, протестующе, весь негодование.
— И вы что, не могли… ну, заявить, или как это называется?
— Кому?
— На следующее же утро вы улетели обратно и… — подсказывал он.
— Нет, конечно, — сказала она. — У меня ведь было задание от газеты.
— Безумие!
Она только плечами пожала, ее забавлял этот его бессмысленный гнев.
— Двумя годами позже, — спокойно продолжала она, — новая поездка.
— Только не говорите мне, что все повторилось.
— Ничего не повторилось. Как и всех иностранных журналистов, меня тогда задержали. Заперли в какой-то школе, пока проверяли аккредитацию. Продержали пять дней, в классе нас было человек пятьдесят, может шестьдесят. Ни сесть, ни лечь. Чувствуй плечо соседа. — Она хмыкнула. — Здесь главное была не жара, не духота или всякие там твари, а просто, что не выпускали. Можете себе представить, проторчать в джинсах, не снимая их, все пять суток? — Она плеснула себе из бутылки, которую принесла, машинально. Себе и ему. — А вскоре после этого газета направила меня в Заир, — продолжала она рассказывать, — когда началось восстание. Но там все обошлось не в пример лучше. Если не считать того, что однажды вечером, когда плыли на какой-то моторке, попали под перекрестный обстрел. Лодку в щепки; выплыли, цепляясь за обломки. Слава богу, хоть нас не изрешетили. Мужчину рядом со мной прошили пулей в грудь навылет, но он ничего, вытянул. К счастью, быстро стемнело, и стреляли наугад.
Она умолкла, и он молчал, а потом, просто ошеломленный, спросил:
— Скажите, и все это не испачкало вам душу? Ну вот это, что было в Мозамбике, разве это не заставило вас почувствовать, что вы никогда, никогда не сможете быть такой, как прежде?
— Может быть, я не хотела быть такой, как прежде.
— Но для человека вашего круга, женщины…
— В чем разница, не вижу. Наверное, мне было даже легче, чем другим.
— Простите, не понял?
— Ну, освободиться от себя самой. Переступить себя. Научиться меньше истязать себя вопросами.
Он одним глотком выпил Bces что было в стакане, тряхнул головой.
— А почему это вас удивляет? — спросила она. — Взять вот хоть вашу историю с этим Гордоном. То, что на вас свалилось естественно, само собой, мне пришлось постигать на пустом месте. Заставлять себя делать каждый дюйм вслепую. Порой просто страшно подумать, что я так ни к чему и не пришла. А может, «прийти к чему-то» — это тоже не больше чем частица великой иллюзии?
— Как вы можете говорить, будто мне что-то далось естественно? — запротестовал Бен.
— А разве нет?
И тут оно взметнулось в нем, внезапное освобождение от уз, подобно стае голубей, выпущенных из неволи. Вдруг и разом. Не пытаясь остановить или сдержать это в себе — откровенность Мелани и покой этой комнаты, растворившейся в полумраке, придали ему смелости, — он дал излиться всему, что долгие годы таил на душе. Он говорил о своем детстве на ферме в Оранжевом свободном государстве и страшной засухе, в которую они все потеряли; о вечных странствиях, когда отец устроился на железную дорогу, и рождественских путешествиях на поезде к морю; о годах, проведенных в университете, и этом своем нелепом бунте, который он учинил против преподавателя, когда тот велел его другу выйти из аудитории; о Лиденбурге, где он встретился с Сюзан; о недолгом учительстве в Крюгерсдорпе в школе для бедных, откуда они уехали по настоянию Сюзан, не ужившейся в этой глуши среди людей, которые им не ровня; о своих детях — своевольной и удачливой Сюзетте, мягкой и любящей Линде, не оправдавшем надежд Йоханне, агрессивном и необузданном. Он рассказал ей о Гордоне; о том, как Джонатан по субботам и воскресеньям работал у них в саду и как он рос угрюмым и непослушным, а потом связался с сомнительной компанией и пропал во время беспорядков; о том, как Гордон пытался выяснить, что же все-таки произошло, и о его смерти; о Дэне Левинсоне и Стенли и своей поездке на Й. Форстер-сквер; о капитане Штольце с белым глянцевитым шрамом через всю щеку, о том, как он стоял тогда у дверей и все играл апельсином, подбрасывая и ловя, и, поймав, давил его с откровенным чувственным наслаждением; рассказывал, не упуская ни малейших подробностей, обо всем, важном и не имеющем отношения к делу, а просто запавшем в голову, о своей жизни день за днем вплоть до сегодняшнего.
Потом они сидели и молчали. Долго-долго. За окном опустилась ночь. Время от времени в тишину врывались звуки проносившегося мимо автомобиля, далекой сирены «скорой помощи» или полицейской машины, лай собаки, голоса прохожих, но все одинаково приглушенные тяжелыми занавесями и рядами книг, выстроившихся на полках но стенам. Давно умолк Бетховен. И единственное, что нарушало застывший интерьер комнаты, — это кошки. Время от времени они, легкие как тени, двигались украдкой. Или их урчание, когда они, отвоевав любимое место, вылизывали себя розовыми языками, прежде чем успокоенно впасть в свою кошачью летаргию.
Но вот Мелани опустила ноги на пол, поднялась и взяла у него стакан.
— Хотите еще?
Он покачал головой: нет.
Какое-то мгновение она оставалась рядом с ним, совсем близко, так близко, что он чувствовал легкий запах ее духов. Но она повернулась и вышла из комнаты со стаканами, и платье метнулось от этого ее резкого движения и облегло ноги, и босыми ногами она неслышно ступала по полу. И от этой ее неслышной походки и непередаваемой грации ее движений ему ударило в голову, он почувствовал, как кровь прилила к лицу и пересохло горло. И еще от одного; от сознания, что вот он и она одни в этом полутемном доме, и еще только молчаливый свет лампы, и книги, и крадущиеся тени кошек, а за стенами этой странной комнаты с аркой, которую поддерживают бивни слонов, наверное, трудно себе предположить, сколько еще других комнат и других сумерек и тьмы, и все пустым-пусто, до осязания этой пустоты и сна, успокоения и тишины. Сознание же, помимо всего, ее присутствия здесь, этой молодой женщины, Мелани, двигающейся невидимо в темноте, знакомой и только более близкой оттого, что она неслышно ступала босыми ногами, достижимая, только протяни руку, переполненная своей неподдельной искренностью и открытой женственностью, заставило его почти в смятении подняться. И едва она вошла, он сказал, что подумать только, как поздно, и что ему пора уходить.
Она, ни слова не сказав, провела его к двери и вежливо открыла ее. На веранде была темень непроглядная, и только от накаленного за день каменного пола веяло теплом. Она не включила свет.
— Зачем вы пригласили меня к себе? — спросил он вдруг. — Зачем вы подошли ко мне там, в суде?
— Вы были такой одинокий, — отвечала она без тени сентиментальности. Просто и искренне.
— До свидания, Мелани.
— Обещайте, что дадите мне знать, если что надумаете, — только и сказала она.
— В каком смысле?
— Не знаю. Прежде сто раз подумайте. Не кидайтесь сломя голову. Но если решитесь идти дальше в этом деле Гордона и я вам понадоблюсь, — он чувствовал на себе в темноте ее взгляд, — я с удовольствием помогу.
Он ничего не ответил. Подставил лицо мягким порывам вечернего ветра и молчал. Она стояла в дверях, пока он шел к автомобилю. В нем боролись чувство холодной вежливости и другое, безрассудное и нелепое, — вернуться и войти с ней и закрыть за собой дверь. И выбросить из головы весь мир. Но он знал, что это невозможно. Она сама и вернула бы его обратно в этот мир, которому принадлежала. И не колеблясь, он поспешил через сломанную калитку и сел в свою машину. Включил зажигание, развернулся, вырулил на дорогу и покатил под уклон, мимо ее дома. Не разглядеть было, стоит ли она в дверях. Но он знал, она должна быть где-то там, в темноте.
— Где ты пропадал? Почему так поздно? — бросилась Сюзан с вопросами, в голосе ее звучали упрек, но и беспокойство. — Я уж думала, с тобой что-нибудь случилось, собиралась звонить в полицию.
— Почему со мной должно что-то случиться? — отмахнулся он досадливо.
— Ты знаешь, сколько времени?
— Просто я не смог сразу поехать домой, Сюзан. — Ему не хотелось объясняться, но она упрямо ждала в дверях кухни, и свет бил ему в глаза. — Суд объявил сегодня приговор.
— Знаю. Слышала в новостях.
— Тогда ты должна понять.
Она вдруг подозрительно оглядела его. И уже другим тоном:
— От тебя пахнет вином. — Теперь в голосе было только раздражение.
— Извини. — Он не стал оправдываться перед женой.
Возмущенная, она посторонилась, давая ему пройти.
— Я понимаю, ты устал, — сказала она, смягчаясь, — А я сегодня такой ужин сотворила.
Он с благодарностью и виновато заглянул ей в глаза.
— Ну зачем было беспокоиться.
— Йоханн уже поужинал, он спешил в шахматный клуб. А я тебя ждала.
— Спасибо, Сюзан.
Она накрыла в столовой, пока он принимал душ. Он вошел с мокрыми волосами, от зубной пасты покалывало язык. Она достала серебро, открыла бутылку «шато либерте», зажгла свечи.
— В честь чего это?
— Я знала, как это все должно тебя огорчить, Бен. И я подумала, мы с тобой заслужили спокойный вечер, вместе. Просто ты и я.
Он сел. Она машинально подала ему руку для вечерней молитвы. А потом она положила на тарелки рубленое мясо, рис и овощи, и все это у нее получалось, как всегда, изящно, каждое движение. Ему хотелось поблагодарить, сказать: «Право, Сюзан, не надо, я совсем не голоден». Но он не решился и, чтобы не огорчить ее, делал вид, что наслаждается едой, а сам боролся со смертельной усталостью, тяжелым комом лежавшей внутри, навалившейся вдруг так, что не разогнуться было.
Она говорила оживленно, изо всех сил старалась вызвать его улыбку и заставить расслабиться. А получилось все наоборот. Звонила Линда и просила ему кланяться, она и Питер, к сожалению, не смогут выбраться к ним на субботу и воскресенье, он весь в работе, готовится к лекции. Мать Сюзан тоже звонила, из Кейптауна. Отец должен открыть в ближайшие неделю-другую какое-то административное здание в Вандербил-парке, и они постараются побыть там. Сначала Бен еще пытался слушать, но усталость вконец сломила его.
И это не ускользнуло от Сюзан, и она умолкла на полуслове.
— Бен, ты ведь не слушаешь.
Он встряхнулся, посмотрел на нее.
— Извини. — И вздохнул. — Прошу прощения, Сюзан. Я действительно отключился.
— Я так рада, что все кончилось, — сказала она неожиданно с чувством и тронула его за руку. — Ты меня по-настоящему напугал последнее время. Ты не должен принимать все это так близко к сердцу. Ну да все страшное теперь позади.
— Позади? — еще переспросил он, пораженный. — Мне показалось, ты сказала, будто слышала в новостях о приговоре? Это после всего-то, что вскрылось при расследовании, такой приговор…
— Суд выслушал все факты, Бен, — сказала она мягко.
— Но и я тоже! — едва не взревел он. — И позволь мне сказать тебе…
— Ты не специалист, как и любой из нас, — терпеливо возразила она. — И мы с тобой ничего не понимаем в законах.
— А судья, он что понимает? Он даже не юрист. Просто служащий по гражданскому ведомству.
— Он должен знать, что делает, у него многолетний опыт. — И с неизменной своей улыбкой: — Ну хватит, Бен. Дело закрыто. Никто не может ничего изменить.
— Они убили Гордона, — сказал он. — Сначала они убили Джонатана, затем его. Неужели это сойдет им с рук?
— Будь они виновны, суд бы так и сказал. Я была не меньше твоего поражена, Бен, когда услышала о смерти Гордона. Но теперь-то что толку ломать над этим голову. — Она с силой сжала его руку. — Все кончилось, и хватит об этом. — И с улыбкой, пытаясь ободрить — кого только — его или себя, продолжала: — Ну, доедай свой ужин и пошли спать. Выспишься как следует, и все станет на свои места.
Он не отвечал. Сидел с отсутствующим взглядом и слушал, не понимая, словно она говорила на чужом, незнакомом языке.
6
В воскресенье утром фотография Эмили, обнимающей Бена, красовалась на первой странице английской газеты с заголовком через всю полосу: «Лицо печали». Во врезке давалось краткое изложение фактов расследования («подробно см. на стр. 2») и следовала подпись: «Г-жа Эмили Нгубене, супруга умершего в заключении, утешаемая другом семьи г-ном Беном Дютуа».
Его это покоробило, да. Но не больше. Ничего приятного, конечно, когда тебя выставляют напоказ всему свету. Но газетчики, что с них возьмешь. А вот Эмили явно потеряла над собой всякий контроль. Надо все-таки думать, что делаешь.
Что касается Сюзан, то ее это просто сразило. Настолько, что она не пожелала даже идти на воскресную службу.
— Как, как я буду сидеть там, зная, что на нас все пялятся? Что о тебе люди подумают?
— Идем, Сюзан. Я согласен, это совершенно неслыханно, вполне в духе бульварной прессы. Но что, в сущности, произошло? И потом, что мне оставалось делать, отшвырнуть ее?
— Если б ты держался от всего этого подальше с самого начала, ты не навлек бы на нас такого позора. Ты хоть понимаешь, чего все это может стоить моему отцу?
— Сюзан, ты делаешь из мухи слона.
Но после полудня телефон звонил, не переставая. Жизнерадостная пара, их друзья, ехидно поинтересовалась, правда ли, что Бен «завел новую зазнобу»; еще кто-то, включая молодых Вивирсов, пожелавших принести им свои заверения, что они и впредь могут рассчитывать на их симпатии и поддержку. Однако все остальные, почти без исключения, были настроены отрицательно, почти враждебно. Директор школы, тот без околичностей напирал на одно: осознает ли Бен, что он — служащий министерства просвещения, что политические акции учителей встречаются там крайне неодобрительно.
— Но господин Клуте, какое это имеет отношение, ради всего святого, к политике? Женщина потеряла своего мужа. Она убита горем.
— Черная женщина, если позволите, Дютуа, — холодно отчеканил директор.
— Не вижу никакой разницы. — Бен еле сдерживался.
— Похоже, вы и вправду потеряли способность видеть! — Прохрипел Клуте своим астматическим дыханием, — И вы еще спрашиваете, при чем тут политика? А как насчет Закона о нарушении нравственности, а?
Один из коллег Бена среди церковных старост, Хартценберг, позвонил вскоре после воскресной службы в церкви.
— Не удивлен, что вас не было на утренней службе, — сказал он в трубку, явно желая пошутить, что, впрочем, получилось топорно. — Стыдно на глаза появляться, так надо полагать?
Но что его по-настоящему задело, так это звонок Сюзетты.
— О боже, папа, я всегда знала, что ты — сама наивность, но это… Обниматься с черной толстухой при всем честном народе… это уж слишком.
— Сюзетта, — возразил он ей в сердцах, — если у тебя есть хоть элементарная способность думать о будущем…
— Думать о будущем? От тебя ли я это слышу?! — перебила она с едкой иронией. — Да у тебя хоть мысль единая шевельнулась, как все это может отразиться на твоих собственных детях?
— Не надо об этом, Сюзетта. К своим детям я всегда проявлял больше внимания, чем это делаешь ты. — Это прозвучало куда более зло и жестоко, чем ему хотелось бы, но просто не было сил выносить все это.
— Это ты с Сюзеттой разговаривал? Таким тоном? — спросила его Сюзан, когда он снова сел за стол.
— Да, с ней. Я ожидал от нее куда больше здравого смысла.
— А ты не находишь это нелепым? Получается, все кругом не правы, весь мир, один ты прав? — резко сказала она.
— Можете вы все оставить отца в покое? — взорвался вдруг Йоханн. — Ради бога, что он такого страшного сделал? Да что бы ни сделал, на сочувствие может человек рассчитывать? А ты как бы поступила…
— Я определенно не стала бы вручать свою судьбу в руки садового уборщика, — отвечала она холодно.
— Не надо преувеличивать, — с укором сказал ей Бен.
— Интересно, кто из нас начал?
Снова зазвонил телефон. На этот раз его сестра Элен, бывшая замужем за промышленником. Ее все случившееся скорее откровенно позабавило, и тем не менее даже она не преминула подпустить шпильку.
— Вот так так! И это человек, который всю жизнь пилил меня за то, будто бы я только и ищу возможности попозировать перед фотографом на приеме.
— Это не смешно, Элен.
— А по мне, так очень забавно. Правда, зачем только было осложнять, это делается проще, если так уж невтерпеж было увидеть свою личность в газетах.
И даже в голосе Линды, когда она позвонила ближе к вечеру, прозвучал мягкий упрек.
— Папа, я знаю, у тебя самые добрые намерения… Но право, не лучше ли держаться подальше от газет, тем более что тобой ведь руководит-то нелицемерное желание помочь людям.
— Звучит на манер доводов твоего Питера, скажи еще о нелицемерном братолюбии, — отвечал он, не в силах скрыть досады. Весь день он ждал ее звонка, надеясь, что уж она-то его поймет.
Секунду Линда молчала.
— А я и не скрываю, что это сказал Питер. Просто я согласна с ним.
— Так ты что же, действительно думаешь, будто я специально устроил всю эту затею с фотографами?
— Нет, конечно же, нет! — Он представил себе ее вспыхнувшее от возмущения лицо. — Извини, папа, я не хотела прибавлять тебе огорчений. Просто мне нелегко пришлось сегодня.
Он тут же забыл о своей мимолетной досаде.
— В каком смысле?
— Ну, что я могу сказать. Студенты… От них снисхождения не дождешься. А спорить с ними бесполезно.
И только одного звонка не было. Нет, он не ждал его, немыслимо. И все-таки весь этот тягостный день самым близким для него человеком оставалась она. Неотступно пребывала у него в мыслях, стояла перед глазами, как позавчерашним вечером в сумрачном свете этого старого дома в Вестдене.
Поговорив с Линдой, он отключил телефон и пошел пройтись. На улицах было пусто, и вечерняя тишина постепенно приносила умиротворение в смятенную голову.
Когда он вернулся, Сюзан собиралась ложиться спать. Она сидела в ночной рубашке за туалетным столиком, и из зеркала на него смотрело ее искаженное гневом, бледное без косметики лицо.
— Спать собираешься? — виновато спросил он. — А я прошелся, подышал.
— На сегодня с меня хватит. Ты не находишь?
— Ну пожалуйста, постарайся понять, — сказал он примирительно и потянулся было к ней обнять ее, но тут же опустил руки.
— Старалась. Больше нет сил.
— Ты так несчастна со мной?
Она резко повернулась к нему, и во взгляде ее мелькнул почти испуг, но она тут же заставила себя сохранить спокойствие.
— А разве ты пытался сделать меня счастливой, Бен? — сказала она безразлично. — Так что, пожалуйста, не терзай себя мыслями, что можешь сделать несчастной.
Он смотрел на нее во все глаза, не зная, что сказать. А она тут же отвернулась, закрыла лицо руками и разрыдалась.
Он подошел, нерешительно дотронулся до нее и почувствовал, как она вся напряглась.
— Оставь меня, пожалуйста, — произнесла она сдавленным голосом, — Все в порядке.
— Ну может, мы поговорим?
Она тряхнула головой — нет! — поднялась и молча ушла в ванную, даже не взглянув на него, и закрыла за собой дверь. Он еще подождал несколько минут и пошел к себе, как делал, когда пытался обрести утраченное вдруг равновесие, как всегда в таких случаях, раскрыл одну из своих книг по шахматам и стал разыгрывать на старенькой, выцветшей доске классические шахматные партии старых мастеров. Но сегодня и это не принесло радости. Мешало чувство, что вот он, самозванец, жалкий любитель, повторяет ходы, сделанные двумя давным-давно умершими мастерами. Раздраженный, он оставил шахматы и убрал доску в ящик стола. Затем, все еще не отказываясь привести мысли в порядок, принялся за свои записи: короткую, ему одному понятную летопись всего, с самого начала. На бумаге это было легче видеть в целом, создавалась объективная картина, где все стройно и неминуемо прослеживается, подобно прожилкам на листочке с живого дерева. Так было легче идти от частного к целому, сравнивать, оценивать. Однако в конечном счете и тут все сводилось к этому короткому вопросу Мелани: «А дальше что?»
Потому что ничего не ясно и ни с чем не было покончено, как полагала Сюзан. Теперь, после этой фотографии, меньше, чем когда бы то ни было. Может, это вообще только начинается. Если б знать.
В одиннадцать часов вечера, словно его кто подтолкнул, он поднялся, пошел в гараж и сел в машину. У самого дома священника он чуть было не передумал, когда увидел, что во всех окнах, кроме одного, темно. Но он решительно отринул всякую нерешительность и постучал в парадную дверь.
Ему пришлось подождать, пока преподобный Бестер в красном халате и шлепанцах собственноручно не открыл ему дверь.
— Оом Бен? Бог мой, что привело вас сюда на ночь глядя?
А он всматривался в это напряженное, узкое лицо.
— Отец мой, ныне я яко Никодим в доме твоем. Мне нужно слово твое, — сказал он шутливо.
Прежде чем посторониться и пропустить его — это не ускользнуло от Бена, — преподобный Бестер секунду пребывал в явном замешательстве.
— Конечно же. Проходите, — сказал он, но в голосе его послышался отчетливый вздох.
Они прошли в кабинет с пустыми стенами и паркетным полом.
— Чашечку кофе?
— Нет, благодарю вас. — Он достал из кармана свою трубку, — Вы не возражаете, если я закурю?
— Прошу вас, как вам будет угодно.
Теперь, когда он был здесь, он почувствовал неуверенность, не зная, с чего начать, как подступиться к тому, зачем пришел. И в конце концов сам священник начал в своем профессиональном тоне, сказав, что, как он полагает, Бен пришел побеседовать о том, что напечатано в газете?
— Да. Вы были у нас, когда Эмили приходила с просьбой помочь ей. Помните?
— Да, конечно.
— Так что вы знаете весь ход вещей.
— Итак, оом Бен, что же произошло?
Бен раскуривал свою трубку.
— Неприятности, — сказал он. — Дотоле я черпал уверенность лишь от сознания, что дело перейдет в суд, и все тайное станет явным. Я был уверен, что будет вынесен справедливый приговор. О чем не уставал твердить и всем остальным, тем, кто был менее моего уверен в исходе дела.
— Ну и?
— Зачем вы спрашиваете? Вы знаете, что произошло.
— Суд праведен, и ничто не укроется от ока его.
— Но разве вы не читали газет, отец? — спросил он. — И в радость ли вам то, что вышло на свет божий?
— Нет, конечно, — отвечал преподобный Бестер. — Всего несколько дней назад я сказал моей жене: стыд и срам то, что господь посылает на наши головы. Но теперь дело кончено, и справедливость торжествует.
— Вы называете это справедливостью?
— А что?
— А то, что я там был, — едва ли не крикнул он. — Я слышал каждое сказанное там слово. Как сказал адвокат де Виллирс, это…
— Однако, оом Бен, вам-то уж известно, как облекают они свои доводы по долгу службы.
— А долг судьи — делать вид, что фактов, которые очевидны, не существует?
— Да все ли это подлинно факты, оом Бен? Как мы можем сказать уверенно? В мире, куда ни глянь, столько лжесловия.
— Я знал Гордона. И то, что они говорили о нем, сплошная ложь.
— Никто, кроме бога единого, не видит в сердцах наших, оом Бен. Не самонадеянно ли говорить за кого бы ни было, кроме себя самого?
— У вас нет веры в вашего друга? И вы не любите ближнего своего?
— Погодите, — с величайшим терпением возразил ему Бестер, точно стремясь обратить непокорного. — Чем слепо опровергать, не задумаетесь ли вы о том, что у нас есть все резоны гордиться нашей юриспруденцией? Вот вы на газеты ссылаетесь. А что в газетах о России пишут, нуте-ка? А вы говорите, газеты… Да хоть и Африку взять, она большая. Уверяю вас, кое-где вообще бы до суда дело не дошло.
— А какой прок от того, что здесь дошло до суда, если сила все равно в руках горстки людей? Единственный, кому они позволили открыть рот, — это Арчибальд Тсабалала, разве он тут же не отрекся от всех показаний, что они силой навязали ему до суда? А эту девушку возьмите, которая рассказывала, как ее пытали…
— Ужели не понимаете вы, что нет проще и древнее в мире уловки спасти собственную шкуру, нежели посылать проклятия на голову стражей своих?
— Арчибальд спасал свою шкуру? Да ему куда как легче было бы держаться заявления, что они ему продиктовали. Он бы мог выйти из зала суда свободным человеком, вместо того чтобы снова угодить за решетку, в руки собственных палачей.
— Ну, видите ли, оом Бен, — сказал молодой священник, теперь уже с некоторым раздражением, — никто не отрицает, что наше общество, как, впрочем, и любое другое, не свободно от ошибок и даже дурных поступков. Но, возмущая себя против властей предержащих, вы возмущаетесь против духа христианского. Они облечены властию бога нашего, и упаси нас, господи, сомневаться в праведности решений их. Ибо сказано: кесарю — кесарево.
— И даже если кесарь узурпирует то, что принадлежит богу единому? Если он начинает решать вопросы жизни и смерти, я все равно должен укрепить ему руку? Как тогда насчет богу — богово?
— Нет зла на земле, которого не исцелит молитва господу нашему, оом Бен. Не приличней ли нам с вами преклонить теперь колена и помолиться о нашем правительстве и каждом лице, облеченном властью.
— Эх, святой отец, нет ничего проще как переложить собственную ответственность на плечи господа бога.
— Не святотатствуете ли вы, оом Бен? Ужели вы утратили веру в него?
— Слушайте, вопрос не в том, утратил я веру или нет. Он без меня управится. Вопрос вот в чем: ждет ли он, чтобы я сделал по словам его? Вот этими двумя руками.
— Что именно?
— А вот за этим я и пришел к вам. Что я могу сделать? Что должен сделать?
— Сомневаюсь, можем ли мы что-либо сделать, вы или я.
— Даже если собственными глазами видишь несправедливость? Ждете, чтобы я отвратил лицо свое?
— Нет. Каждому дано уверовать, что место его в мире этом без упрека. Что он чист в сердце своем. Ибо в остальном мы уповаем на милость его и волю его, что не будет тщетной ревностная молитва правого человека, — он попал в свою стихию, — не будет конца страданиям, пока не откажется всякий взять и править законом в руках своих. Бог создал порядок в мире, не хаос. Вспомните, что Самуил сказал Саулу: «Подчиниться лучше, нежели принести в жертву».
— Мою проблему не решить цитатами, — сказал Бен, и голос у него прервался. — Помогите мне!
— Помолимся, — сказал молодой человек, поднимаясь со стула.
Какое-то мгновение Бен смотрел на него, ничего не понимая, обиженный. Потом подчинился. Они опустились на колени. Но он не мог смириться. Пока священник молился, он просто пялил глаза на стенку перед собой. И какие усилия ни прилагал он, стараясь вслушаться в слова, они звучали одним мерным да-будет-воля-твоя. А ему нужно было что-то еще, совсем другое.
Когда они наконец поднялись, преподобный Бестер сказал чуть ли не откровенно весело:
— Так как все-таки насчет чашечки кофе?
— Нет, я, пожалуй, поеду домой, ваше преподобие.
— Надеюсь, вы прозрели в очах своих?
— Нет, — отвечал он. — Не прозрел.
Пораженный, молодой человек взирал на него. Бену даже стало его жалко.
— Чего же вы хотите? — спросил священник.
— Справедливости. Или я хочу слишком многого?
— Что известно нам о справедливости, если мы забываем о воле господа нашего?
— А что вообще нам известно о воле господа? — бросил он в ответ.
— Оом Бен, оом Бен, — молодой человек окинул его умоляющим взглядом, — ради всего святого, никогда не делайте ничего опрометчиво. Это само по себе ужасно.
— Опрометчиво? — переспросил он. — Понятия не имею, опрометчиво это или нет. Просто не знаю, как иначе.
— Прошу вас, обдумайте это, оом Бен. Подумайте обо всем, что за этим стоит.
— Я вот о чем думаю, святой отец. Раз в жизни, один только раз человек должен решиться и рискнуть всем.
— Человек может завоевать мир и потерять собственную душу.
Сквозь сизый дым трубки, окутавший облаком маленькую комнату, он пытливым, горящим взглядом разглядывал лицо священнослужителя.
— Единственное, что я знаю, — сказал он, — стоит ли сохранять душу, если этим я дам восторжествовать несправедливости?
Они пошли пустым коридором к двери.
— Что вы собираетесь делать? — спросил его преподобный Бестер, когда они вышли и остановились на ступенях веранды, вдыхая прохладный ночной воздух.
— Мне так хотелось бы ответить вам. Так хотелось бы понять самого себя. Единственное, что я знаю, — я должен что-то сделать. Может быть, бог мне поможет. — Он медленно спускался по ступеням, шел опустив плечи. И, обернувшись к этому молодому человеку в высоком прямоугольнике двери, он сказал: — Молитесь за меня. У меня такое чувство, будто что-то должно случиться, будто рушится последняя грань…
И он ушел в ночь.
7
Вот уже три часа, как эта изящная химическая блондинка выдерживала его в приемной. Они с ней не поладили в первую же минуту, едва она установила, что о приеме не было условлено и, что того хуже, он отказался говорить о цели своего визита к доктору Герцогу и не проявил ни малейшего интереса, пока она перечисляла всех других хирургов, которые сегодня принимали.
— Доктор Герцог на консультации. Возможно, его не будет несколько часов.
— Я подожду.
— Он может вообще не быть сегодня.
— Я подожду.
— Даже если он будет, у него столько записано на понедельник, что он может не принять вас.
— Рискну.
Казалось, он даже не замечал ее раздражения. С полнейшим безразличием сел и принялся листать старые потрепанные номера журналов «Тайм», «Панч», «Скоп», памятки для будущих матерей, брошюры по планированию семьи, оказанию первой помощи и иммунизации. Надоедало, он вставал и смотрел в окно на глухую стену здания напротив. И все это время не проявлял ни малейших признаков нетерпения. Придется, буду ждать хоть полдня, говорит себе кошка, устраиваясь у мышкиной норки. Так и он.
Доктор Герцог появился около половины первого. Не кивнув даже в сторону дожидавшихся его пациентов, посмотрел на них пустыми глазами, пошептался с этой изящной особой и скрылся за дверью с табличкой со своей фамилией. Девица тут же поспешила за ним. Через дверь, оставшуюся полуоткрытой, было слышно, как они о чем-то совещаются вполголоса. Затем доктор Герцог выглянул и бросил на Бена быстрый взгляд. Секретарша вышла, закрыла за собой дверь и с победным видом уселась за свой стол.
— Доктор Герцог говорит, что, к сожалению, не сможет принять вас сегодня. Если вас устроит, могу записать на среду…
— Да мне на несколько минут.
И, не обращая внимания на ее гневный протест, прошагал мимо нее, постучал и вошел, не дожидаясь приглашения.
Хирург одарил его из-за своего столика, заваленного медицинскими карточками и бумагами, сердитым взглядом.
— Разве секретарь не сказала вам, что я занят? — спросил он, не скрывая раздражения.
— Это неотложно, — сказал Бен, протягивая ему руку. — Бен Дютуа.
Доктор Герцог, не привста-в с места, нехотя подал руку.
— Чем могу служить? Видите, я завален делами.
Крупный мужчина с телосложением мясника. Неряшливый венчик седых волос вокруг лысины. Густые с сединой брови свирепого рисунка. Рябое лицо, покрытое сетью лиловых прожилок. Он сидел, перебирая пальцами бумаги, разбросанные на столике, в куртке сафари с короткими рукавами, открывавшими покрытые густой шерстью руки. Пучки волос торчали даже из ушей и ноздрей.
— Я относительно Гордона Нгубене, — сказал Бен, присаживаясь без приглашения на стул для пациентов.
Дородный, плотный мужчина перед ним не шевельнулся, ни единая жилка на лице не дрогнула. Наоборот, теперь это была холодная маска, подобно той, каменной, в которую обращается лик человеческий, когда по старинному преданию часы бьют шесть раз пополуночи. Невидимые ставни захлопнулись на его глазах.
— Что относительно Гордона Нгубене? — бросил он.
— Все, что вы о нем знаете, — спокойно отвечал Бен.
— Почему бы вам не испросить копию судебного разбирательства у министра юстиции? — резким и почти великодушным жестом он показал наверх. — В ней все сказано.
— Я присутствовал на суде на всех, с первого до последнего, заседаниях, — сказал Бен. — Что сказал суд, я знаю доподлинно.
— Значит, вы знаете столько же, сколько я.
— Прошу меня извинить, — сказал Бен, — но у меня несколько иное впечатление.
— Могу я узнать, чем объясняется ваше участие в этом деле? — Вопрос был довольно простой, другое дело тон, каким он был задан, — зловещее предупреждение.
— Я знал Гордона Нгубене. И решил не отступаться от этого дела, пока не докопаюсь до истины.
— Не этим ли занимался суд, господин Дютуа?
— Вы знаете не хуже моего, что суд не ответил ни на один действительно важный вопрос.
— Господин Дютуа, не ступаете ли вы на довольно опасный путь? — Доктор Герцог потянулся к коробке с сигарами, лежавшей открытой на столе, подчеркнуто не предлагая Бену. Не сводя с посетителя взгляда своих холодных глаз, неторопливо обрезал сигару и раскурил от зажигалки, изображавшей женскую фигурку в откровенно непристойной позе.
— Для кого опасный? — переспросил Бен.
Врач пожал плечами, пустил дымок.
— Вы не заинтересованы, в том, чтобы была сказана вся правда? — настаивал Бен.
— В рамках моей компетенции дело закрыто. — Хирург принялся перебирать на столе бумаги. — И я уже сказал вам, что чрезвычайно занят. Так что, если вы не возражаете…
— Почему служба безопасности вызвала именно вас в ту пятницу утром, четвертого февраля? Если он действительно жаловался на зубную боль, естественнее было бы пригласить стоматолога.
— Все виды медицинской помощи заключенным оказываю здесь я.
— Потому что вы отлично ладите со Штольцем?
— Потому что я окружной хирург.
— Вы ездили один или с помощником?
— Господин Дютуа, — коновал оперся на подлокотники кресла, точно готовясь рывком бросить всю свою тушу вперед, — я не намерен обсуждать эти вещи с первым встречным.
— Я просто спрашиваю, — сказал Бен. — Мне подумалось, что хирургу всегда кто-то ассистирует, даже если речь идет об удалении зуба. Ну, подать инструмент и все такое.
— Капитан Штольц оказал мне всяческую помощь.
— Значит, он присутствовал при осмотре Гордона? На суде вы сказали, что не помните.
— Ну, с меня хватит! — в ярости выкрикнул доктор Герцог, рывком поднявшись. Теперь он стоял, опираясь своими волосатыми руками о стол. — Я уже просил вас освободить помещение. Если вы сию же минуту не удалитесь сами, мне не останется ничего другого, как вышвырнуть вас.
— Я с места не двинусь, пока не узнаю доподлинно все, за чем пришел.
С проворностью, просто удивительной для этакой груды, хирург обогнул стол и замер прямо перед Беном.
— Убирайтесь!
— Извините, доктор Герцог, — сказал Бен, сдерживаясь, — но вам не удастся заткнуть мне рот на манер того, как служба безопасности проделала это с Гордоном Нгубене.
Он думал, тот набросится на него. Но врач только тяжело дышал и из-под густых бровей какое-то мгновение сверлил Бена жестким взглядом. Затем, пылая негодованием, вернулся к своему креслу и, тяжело дыша, потянулся за оставленной в пепельнице сигарой.
— Слушайте, господин Дютуа, — выговорил он наконец, все еще тяжело дыша. — Чего ради вам нарываться на неприятности ради какого-то грязного негра?
— Потому что мне случилось знать его. И еще потому, что слишком уж легко многие усвоили себе привычку: что ни случись, просто-напросто пожимать плечами.
Врач улыбнулся, теперь с этаким жизнерадостным цинизмом, обнажив все свои золотые коронки.
— Ох уж эти мне либералы со своими заоблачными идеалами. Знаете, вам бы с мое пообщаться с этим народцем, да каждодневно, вы бы в момент другое запели.
— Я не либерал, доктор Герцог. Я самый что ни на есть обычный человек.
Тот выслушал, благосклонно хмыкнув.
— Понимаю. Не подумайте, что осуждаю вас. То есть я хочу сказать, что понимаю ваши чувства, ну вы знали этого малого и все прочее. Но послушайте, что я вам скажу: не стоят эти эмоции того, чтобы ввязываться в такого рода вещи. Конца не будет неприятностям. Когда я был помоложе, я тоже вмешивался куда не следовало. Но жизнь научила.
— Потому что спокойней… содействовать? Так ведь можно выразиться?
— А чего еще вы ждете от человека в моем положении, господин Дютуа? Господи Иисусе, каждый думает о себе.
— Так вы их и вправду боитесь?
— Я никого не боюсь! — Вся его недавняя агрессивность накатила на него, улыбки как не бывало. — Но я не дурак набитый, вот что я вам доложу.
— Зачем вы прописали Гордону Нгубене таблетки, если ничего не нашли у него?
— Он сказал, что у него головные боли.
— Скажите мне, доктор Герцог, только откровенно, вас обеспокоило его состояние, когда вы осмотрели его в тот день?
— Ни капельки.
— И тем не менее через две недели он умер.
Доктор Герцог молча попыхивал сигарой, не удостоив его ответом.
— Вы уверены, что эти две недели ни разу больше не видели его?
— Меня спрашивали об этом в суде. И я сказал «нет».
— Но сейчас мы ведь не в суде.
Врач шумно затягивался сигарой. От едкого дыма в кабинете трудно было дышать.
— Вы ведь видели его, разве нет? Они снова посылали за вами.
— Ну и что с того, какая разница?
— Так это правда?
Я ничего не говорил.
А если я представлю свидетелей, которые покажут каждый ваш шаг? И, предположим, они готовы подтвердить, что вы были на Й. Форстер-сквер как раз накануне смерти Гордона?
— Где это вы добудете такие доказательства?
— Я спрашиваю вас.
Подавшись всем телом вперед, доктор Герцог тяжело дышал ему в лицо. Потом хохотнул напряженно.
— Ладно, приехали, — сказал он. — Хватит блефовать.
— Как был одет Гордон в то утро?
— Вы что? Как это я могу помнить такие мелочи? Вы знаете, сколько у меня на дню пациентов?
— Помнили же вы, когда осматривали труп в камере?
— Просто потому, что пришлось писать заключение.
— Но не могло же вам не броситься в глаза, если он был в другой одежде, чем в первый раз. Такие вещи запоминаются. Ведь вы профессионал.
Неожиданный иронический смешок.
— А вы любитель, господин Дютуа. Этим все сказано. Ну, ладно, а теперь мне надо работать.
— Вы понимаете, что в ваших руках равно явить правду или задушить ее?
Доктор Герцог поднялся и прошел к двери.
— Господин Дютуа, — сказал он, оглянувшись, — как бы вы поступили на моем месте?
— Я спрашиваю, доктор, как поступили вы.
— Сумасбродная затея, — сказал доктор Герцог, — не более. — И открыл дверь. Секретарша тут же перехватила его взгляд. — Мисс Гусен, скажите, пожалуйста, доктору Хьюджесу, я жду его.
Бен, нехотя, недовольный собой, встал и направился к двери.
— Вы уверены, что больше ничего не хотите мне сказать, доктор?
— Ничегошеньки, уверяю вас. — Он сверкнул всеми своими золотыми коронками. — Не подумайте, что мне безразличны ваши заботы, господин Дютуа. Радостно сознавать, что остались еще люди, подобные вам, и я желаю вам всяческих благ, поверьте, — Теперь речь его лилась свободно, плавно, полная благожелательности и понимания, этакий златоуст, сытно отобедавший. — Только, — он улыбнулся, а глаза оставались холодными, — всегда чертовски жаль попусту тратить время.
8
Едва открыв калитку и увидев мужчин, столпившихся на ступенях веранды, еще до того, как мозг сосчитал, что их там семеро (а некоторых он узнал в лицо), — еще до этого он уже все понял. Был первый день нового учебного семестра, и он возвращался из школы.
Штольц протянул листок бумаги.
— Ордер, — объявил он зачем-то, хотя и так все было ясно. На щеке тонкий белый шрам. — Мы прибыли с обыском. Полагаю, мы можем рассчитывать на ваше содействие? — Утверждение, не вопрос в голосе.
— Проходите. Мне нечего скрывать. — Это не был шок, не был даже страх — вот так открыть калитку и увидеть их перед собой на ступенях собственного дома. Все показалось абсолютно неизбежным и логичным. Единственное, что сверлило мысль, — это сознание нереальности того, что именно он оказался втянутым в то, что сейчас происходит. Словно дурной сон. Руки-ноги отказывались двигаться.
Штольц повернулся к своим людям и по очереди представил их. Но большая часть имен проскользнула мимо сознания, кроме одного-двух, которых Бен и так знал. Лейтенант Вентер, улыбающийся юноша с курчавыми волосами, знакомый Бену по их встречам на Й. Форстер-сквер. А по суду он запомнил Вослу, приземистая такая фигура, и Коха, широкоплечего атлета, человека с густыми, нависшими бровями. Они стояли, изготовившись, словно команда регбистов, раздосадованная, что вот опаздывает автобус на стадион. Все ухоженные, гладко вы бритые, напомаженные, в спортивных куртках или в летних костюмах; все как на подбор пышущие здоровьем, модные мужчины с обложек, молодые отцы семейств. Такие сопровождают своих жен субботним утром за покупками в супермаркеты.
— Так вы позволите нам войти? — спросил еще Штольц с профессионально отточенной иронией в голосе.
— Конечно. — Бен посторонился, и они толпой повалили в коридор.
— Вы нас ждали? — спросил Штольц.
И тут вдруг все оцепенение как схлынуло. Разом. Он даже изобразил улыбку.
— Не скажу, что сидел и ждал вас, капитан. Но и неожиданным ваш визит тоже не назову, — отвечал он.
— В самом деле?
И тут помимо собственной воли он ляпнул:
— Ну завернули же вы к Гордону, едва прослышали, что он занялся расследованием обстоятельств смерти своего сына.
— Значит ли это, что вы также предпринимаете некое расследование?
На секунду во всей этой толчее людей в коридоре воцарилась мертвая тишина.
— Полагаю, этим и обязан вашему визиту, — ядовито отвечал он. — Это доктор Герцог наговорил вам?
— А вы и к нему успели? — Черные глаза Штольца оставались непроницаемыми.
Бен пожал плечами.
Появление Сюзан из столовой приостановило перепалку.
— Бен, что здесь происходит?
— Служба безопасности, — сказал он безучастно. И, обращаясь к Штольцу: — Моя жена.
— Здравствуйте, госпожа Дютуа. — И снова, строго следуя формальностям, Штольц представил по одному всех своих людей. — Прошу извинить за беспокойство, — сказал он в конце, — но мы должны осмотреть дом. — Он повернулся к Бену: — Где ваш кабинет, господин Дютуа?
— На заднем дворе. Я вас провожу. — Он прижался к стене, чтобы дать им пройти.
Побелевшая от гнева Сюзан стояла, уставившись на них.
— Не понимаю, что здесь происходит, — сказала она.
— Буду признателен, если вы пройдете с нами, мадам, — ответил Штольц и добавил с деланной улыбкой: — Просто чтоб не надумали дать тягу и кого-то там предупредить.
— Здесь не преступники, господин капитан, — отвечала она колкостью на колкость.
— Извините, осторожность не помешает, — сказал он. Так что, если вы будете столь любезны… — А в кухне спросил: — Кто еще живет в доме из членов семьи?
— Сын, — отвечал Бен. — Но он оставлен в школе на дополнительные занятия.
— Слуги?
— Я обхожусь без слуг, — холодно отвечала Сюзан.
— Тогда идемте.
Кабинет был тесным, а при таком наплыве людей и вовсе. Казалось, они наступают друг другу на ноги. Сюзан предложили присесть, но она только отрывисто бросила «нет». Тогда Бен спокойно расположился на стуле у двери, чтобы не торчать у них на дороге, а она осталась молча стоять в дверях, напряженная как струна. Один вышел сторожить снаружи, стоял с сигаретой в руке спиной к Сюзан. Шестеро остальных принялись методически обследовать комнату, суетливые, вездесущие, как стая саранчи. Ящики письменного стола были выдвинуты, составлены на полу в штабель, и Штольц со своим лейтенантом принялись опустошать их, перебирая содержимое. Вентер сидел на корточках перед шкафчиком — Бен смастерил его специально, чтобы хранить школьные бумаги: экзаменационные билеты, циркулярные письма, текущие отчеты, памятные записки, докладные, расписание уроков, инспекторские отчеты. Кох еще с одним шарили по полкам в угловом шкафу, там он держал свои личные документы: счета, расписки, квитанции об уплате подоходного налога, страховое свидетельство, банковские извещения, метрики, письма, семейные альбомы, дневники, которые время от времени вел. Начал он их еще в студенческие годы, а когда стал учительствовать — сначала в Лиденбурге и потом в Крюгерсдорпе, — у него вошло в привычку просто записывать все, что представлялось интересным или забавным. Всякие казусы на экзаменах, выписки из сочинений учеников; уморительные слово-обороты их с Сюзан малышей, пометки по поводу почему-либо запомнившихся разговоров — вдруг когда-нибудь понадобятся; впечатления, размышления о своей работе или о текущих событиях, о книгах, которые читал, — все это, однако, большей частью не представляющее ровным счетом никакого интереса и непонятное для кого бы то ни было, кроме него. Последние годы он, случалось, доверял бумаге и вовсе уж абсолютно личное: свои отношения с Сюзан, мысли о Линде, Сюзетте или Йоханне, о друзьях. А теперь вот Кох со своим коллегой дотошно листали все это страничку за страничкой, тщательно вчитываясь, пока остальные полицейские обследовали мебель, отыскивая, очевидно, в ней тайники, осмотрели даже обивку стула (Бену пришлось подняться), задние стенки полок, коробку с шахматными фигурами и даже вазочку из полудрагоценного камня, привезенную некогда из Юго-Западной Африки. И наконец, Кох свернул ковер — что под ним?
Тут уж Бен не выдержал.
— Почему бы вам не сказать просто, что вы ищете? — выпалил он, — и не тратить, ни времени, ни сил. Я ничего не прячу.
Штольц поднял на него глаза — он копался в третьем по счету ящике стола — и бросил:
— Не беспокойтесь, господин Дютуа. Все, что нас интересует, мы найдем.
— Дело ваше, я просто хочу помочь вам.
— Вот именно, наше.
— Что ж, вы достойны его.
Поверх горки ящиков его письменного стола на него сверкнули черные пристальные глаза.
— Господин Дютуа, вы просто не знаете, чем мы заняты ежедневно, каждый божий день, а то бы поняли, почему мы так щепетильны.
— Не могу не оценить вашего усердия, — съязвил он.
Штольц не принял шутки, парировал холодно, даже жестко:
— Не уверен. Позвольте усомниться в вашей искренности. В том-то и вопрос со всеми вами, критиканами. Одного понять не можете, что сами же прокладываете врагу дорогу. Коммунистов не выловить, если сидеть сложа руки и сладко подремывать. Попомните мое слово. А они этим и пользуются.
— Я ни в чем не обвинял вас, капитан.
Штольц ответил не сразу, помолчал.
— Просто хочется, чтобы вы поняли. Не все, что приходится делать, доставляет нам удовольствие.
— Но есть наверняка и другие способы, капитан, — рассудительно сказал Бен.
— Понимаю, вам неприятно, что у вас учиняют обыск, — сказал Штольц, — а только поверьте мне…
— Да я не об этом, — сказал Бен, — подумаешь, частный случай. Я о другом.
И тут вдруг все как по команде замерли. Не стало слышно даже шелеста страниц, а то он стоял словно в червоводне, где копошатся тысячи шелковичных червей. И наоборот, откуда-то издалека донесся обычный велосипедный звонок.
— О чем же тогда? — спросил Штольц.
И все они стояли и ждали, что он ответит. Вот тогда-то он и решил принять вызов.
— О Гордоне Нгубене, — сказал он. — И о его сыне. И о многих других, им подобных.
— Я вас правильно понял? — очень спокойно поинтересовался Штольц. Шрам у него на щеке, казалось, стал еще белее. — Вы обвиняете нас…
— Я только сказал, что все это, вашу работу то есть, можно делать и другим образом.
— Вы хотите сказать…
— Оставляю это на вашей собственной совести, капитан.
Офицер молча разглядывал его. Так они сидели в разных углах маленькой комнаты, заполненной полицейскими чинами, и не замечали никого вокруг. Были и другие, все они были здесь, целая комната глаз, но их Бен не видел, одного Штольца. И именно в этот момент Бен вдруг понял со всей ясностью, хотя и отнесся к этому совершенно спокойно: дело больше не только в «них», каких-то там отвлеченных людях, не только; не в какой-то еще более абстрактной «системе». А вот в этом человеке. В этом худощавом бледном человеке, стоящем теперь перед ним лицом к лицу, за его, Бена, собственным письменным столом, среди разбросанных повсюду останков и реликвий всей его жизни. Это ты. Теперь я знаю тебя в лицо. И не думай, что сможешь и мне заткнуть глотку. Я не Гордон Нгубене.
На том и кончился их разговор. Они не стали даже продолжать обыск, словно враз потеряли всякий интерес к нему. Может, они вообще не относились к этому серьезно: так, разминка для мышц, не более.
Страница, на которой мелькнула фамилия д-ра Герцога — Бен сделал заметки после встречи с окружным хирургом, — попалась Вентеру на глаза, когда ящики стола были поставлены на место, закрыты шкафы, а на письменный стол услужливо сложили все, подлежащее конфискации. И эта страница оказалась здесь среди всех остальных бумаг, писем и дневников Бена. Ему был выдан первый экземпляр расписки об изъятии, второй они оставили себе.
Вернувшись в дом, они попросили показать им спальню. Сюзан пыталась было вмешаться: это, по ее представлениям, было слишком личное и чересчур унизительно, вульгарно, наконец, вмешиваться в такое. Штольц принес извинения, но настоял, чтобы обыск был произведен. В уступку Сюзан было разрешено не присутствовать при этом и побыть в гостиной в компании с этим Вентером, а Бен повел остальных в спальню. Они пожелали узнать, это ли именно его кровать и где его гардероб. Наспех проверили его одежду, заглянули под подушку. Один из них забрался на стул и заглянул на платяной шкаф, пока другой перелистал Библию и еще две книги, оказавшиеся на тумбочке у кровати. После этого все вернулись в гостиную.
— Кофе? — выдавила из себя Сюзан.
— Нет, спасибо, мадам Дютуа. У нас еще полно дел.
У парадной двери, провожая их, Бен сказал:
— Похоже, мне следует поблагодарить вас за такое культурное обхождение.
Штольц отвечал без улыбки:
— Вот мы и поняли друг друга, господин Дютуа. Если у нас появятся подозрения, что вы от нас что-то скрываете, мы вернемся. Хочу, чтобы вы знали — времени у нас хватит. Надо будет, весь дом перевернем.
За официальностью тона, каким все это было сказано, и всей его манерой держаться Бену виделся — а может быть, это ему показалось? — человек, сидящий в закрытой камере в ярком свете электрической лампы и методически исполняющий свое дело, если потребуется день и ночь, пока не будет поставлена последняя точка.
Они ушли, а он еще минуту-другую стоял перед захлопнувшейся дверью, физически ощущая расстояние, отделявшее его от окружающего мира. И все это почти спокойно, может быть, даже с некоторым облегчением.
Он слышал, как за спиной у него захлопнулась дверь спальни. И повернулся ключ. Господи, как будто это было необходимо. У него и в мыслях не было идти теперь к ней.
Мысли и чувства все еще были отключены. Он не мог, просто не в состоянии был проанализировать, что произошло. Действовал механически. Он пошел в гараж и принялся там расчерчивать под распил какую-то деревяшку, бесцельно, просто чтобы чем-то себя занять. Постепенно движения обрели логику, стали осмысленными, пусть даже смысл их и заданная цель пришли на ходу. Он делал потайное дно для ящика с инструментами, прилаживая его так, чтобы никому и в голову не пришло, что оно двойное. Теперь, если придется что-то действительно прятать от их вездесущих глаз, у него будет тайник. Какое-то время физическая работа успокаивала сама по себе. Не акт самозащиты, нет. Прямо противоположное. Определенное и решительное. Некое новое начало действовало в нем.
9
Среда 11 мая. День, о котором не скажешь: обычный. Я о вчерашнем визите людей из СБ. Трудно передать на бумаге все это, но я постараюсь. Излагать полными предложениями полезно, подобно дыханию полной грудью. Попытаюсь. Но рубеж перейден, решительно и бесповоротно. Отныне я буду делить свою жизнь на До и После. На манер того, как говорят о всемирном потопе. Или о яблоке с опасного древа познания, плоде грехопадения нашего. Можно теоретизировать, да. Но о привычнейшем из событий — смерти, — что скажешь, не испытав? Кто постигнет, не испытав? Сейчас, на расстоянии, я, как никогда остро, осознаю, что случилось. До? Представляется, я был просто ошеломлен. Но теперь день сегодняшний. После. Странно и необычно. Все чужое. Дети, они говорят «доброе утро», а ты смотришь и не узнаешь их лиц, не знаешь, отчего они к тебе обращаются. Звонок посылает тебя из класса в класс, и ты подчиняешься, не осмысливая причины. Открываешь рот без малейшего представления, что скажешь. Все само по себе. Твои собственные слова звучат в ушах как чужие, и твой голос — чужой и доносится из далекого далека.
Здание, комната, столы, классная доска, парты, кусочки мела — все странно. Утрачены причинные связи с целым. Ты полагал: вот здесь тебе и предстоит идти, выбирая дорогу; что неким необъяснимым образом ты — часть целого. Теперь же это непостижимо. Теперь ты таишь в себе нечто свое, чем не смеешь поделиться ни с кем на свете. Ничего общего с тайной, отнюдь. («Ни в жизнь не угадаешь — вчера они нагрянули ко мне с обыском!») Нечто другое по сути своей. Как если б ты существовал в другое время или в другом измерении. Ты по-прежнему видишь других, тебе подобных, обмениваешься звуками речи. Но не более как по стечению обстоятельств, ненамеренно. Ибо ты по другую сторону. Как это объяснить?
Третий урок свободный. Бродил по школьному двору. В воздухе осень. Падают листья, обнажая структуру ветвей. Четкие, открытые глазу линии. И никогда не было так странно. Время от времени доносятся голоса из классов, выхваченная из целого фраза, пение, дробное, ни с чем не связанное. В дальнем конце здания чистят фасад. Одно и то же, снова и снова. Удручающе, как деревья, не отягощенные листьями, как голые, точно проволока, ветви; бесцельно, бессмысленно.
В холле поет хор. Государственный гимн. По случаю предстоящего на этой неделе… — на этой неделе? кажется, так — посещения школы администратором. Мелодия ломается на фразы. Первая, вторая; мальчики, девочки; затем все вместе. И-и, раз. Жить иль погибнуть — все в воле твоей, Южная Африка, край дорогой. Еще раз, пожалуйста: Жить иль погибнуть — все в воле твоей… Нет, нет, не так. Продолжаем. Вот, теперь лучше. С самого начала, пожалуйста. Нам благовест звучит с безоблачных небес. Пойте открытым ртом. Жить иль погибнуть, жить иль погибнуть, жить иль погибнуть — все в воле твоей. Всем, сколько нас есть, погибнуть. Всем вам, милые маленькие дети, поющие невинными голосами, вам, девочки, заливающиеся краской от смущения и краешком глаз поглядывающие на мальчиков, боже упаси, чтоб только не заметили выдавленный утром прыщик на носу; вам, мальчики, исподтишка раздающие друг другу тычки под ребра линейкой или пришлепывающие потной ладошкой соседу мистический знак на спину — передай дальше! Жить иль погибнуть вам, в воле твоей, о Южная Африка, край дорогой!
А через несколько минут мы все вернемся в класс, словно ничего не случилось, каждый за свое. Мне спрашивать, вам отвечать. Я буду преподавать вам урок об этой земле, о господствующем направлении ветров, зонах осадков, океанских течениях, горных цепях и реках, о национальном продукте, о попытках человека взять под контроль выпадение дождя и покончить с опустошительными сухими сезонами. Я стану учить, откуда вы родом, рассказывать о трех суденышках, на которых приплыли первые белые люди — о африканеры, — и о первой товарообменной сделке с готтентотами, и первом вине, и первых свободных бургерах, как они обосновывались на берегах Лисбека в 1657 году. О пришествии гугенотов. О династии губернаторов ван дер Стел и политике, исповедуемой ими:
о Симоне, взявшемся сосредоточить белых в Капской провинции и споспешествовавшем росту естественного классового расслоения, о его сыне Виллеме Адриаане, поставившем себе целью, напротив, экспансию, подвигнувшем первых фермеров открывать новые земли и селиться среди туземцев; о расовых трениях, диспутах на этот счет, пограничных войсках. 1836 год: массовый исход эмигрантов-буров — Великий трек — в поисках свободы и независимости в других землях. Недолгая победа Бурской республики, последовавшая за открытием алмазов в Кимберли и золота в Витватерсранде. Наплыв чужеземцев и торжество интересов британского империализма. Англо-бурская война, концентрационные лагеря, лорд Милнер, англизирование школ. 1910 год: объединение, Союз и новое начало, «Южная Африка превыше всего». Дальше. Буры восстают против решения их собственного правительства поддерживать Великобританию в 1914 году. Доведенные до нищеты, фермеры стекаются в города. Восстание рудокопов в 1922 году, буры против империалистов. Большевики в России тоже. Официальное признание языка африкаанс. Перевод Библии. 1933 год: Коалиционное правительство. Война. Африканеры уходят в подполье. Оссева-Брандваг. Нерушимые мечты о республике. И наконец, националистическое правительство у власти. Итак, вы сами можете видеть, мальчики и девочки, мы прошли долгий путь. Вспомните, как говорили, когда поднялось восстание против ван дер Стела в 1706 году: «Я не уйду. Я африканер, и пусть даже landdrost[24] убьет меня или посадит за решетку, я отказываюсь держать язык за зубами». Всю нашу историю, дети, можно определить как извечный и непрекра-шающийся поиск свободы против диктата преуспевающих завоевателей из Европы. Свободу, выраженную на языке этой новой земли, этого континента. Мы, буры, некогда были первыми борцами за свободу Африки, показавшими путь остальным. И теперь, придя наконец к власти на своей собственной земле, мы хотим даровать такое же право самоопределения всем остальным окружающим нас народам? Они должны иметь свою собственную отдельную территорию. Мирное сосуществование, всестороннее развитие для всех — не это ли выражение нашего собственного понятия о чести и собственного достоинства и альтруизма? В конце концов, у нас нет другого выбора. Нам некуда идти из этих просторов. Это наша судьба. Жить или погибнуть — все в воле твоей, Южная Африка, край дорогой! Нет, нет, что-то не так. Попробуем еще раз.
Бескрайние просторы. Поездки по железной дороге мальчишкой. Конечная платформа по боковой ветке до нашей станции, семь часов на эти тридцать пять миль. Остановки у каждого столба, грузят и разгружают бидоны с молоком, грузят уголь, заливают воду, а то останавливаются и вовсе среди пустого поля, в вельде, и воздух струится зыбким горячечным маревом на горизонте. И название. Написано краской на белой дощечке, столько-то футов над уровнем моря, столько-то миль до Кимберли, столько-то до Кейптауна. Абсолютная бессмысленность, если принять во внимание, что и написано-то так, что ничего не разберешь. Какое, к черту, имеет значение, как называется пустое место или сколько от него миль до следующего ничто?
С самых ранних лет всякий знает, или верит, или ему внушают, что определенные вещи существуют в определенных обстоятельствах. Например, что общество основано на порядке, здравом смысле, справедливости. И что, как только порядок нарушается, всякий может воззвать к врожденной порядочности либо здравому смыслу, а то призвать к законности, дабы исправить ошибку и потребовать ее устранения. А потом без всякого предупреждения появляется Мелани и говорит вскользь такое, чему отказываешься верить; ты обнаруживаешь, что все, что считал условием первым и непременным всему сущему, то, что просто принимал за должное и само собой разумеющееся, — всего этого попросту не существует. Ожидал видеть нечто незыблемое, оно оборачивается просто ничем. За дощечкой, возвещающей название, и высоту, и расстояние, — ничто, пустое пространство, в лучшем случае отмеченное сарайчиком из рифленой жести, молочными бидонами да пустыми пожарными ведрами.
Все, что принимал за данное с такой уверенностью, не затрудняя себя даже сомнениями, теперь обращается иллюзией. Ваша уверенность — доказанная ложь. А что будет, если попробуешь доказать обратное? Не должен ли ты поначалу учиться от и до новому языку понятий?
«Гуманность». Обычно это слово употребляется как синоним состраданию, милосердию, сочувствию, честности. «Он такой гуманный человек». И что надо выстраивать ряд антонимов: безжалостность, бессердечие, безразличие, бессовестность?
Темнеет.
А все-таки Мелани — свет во мраке. (Но почему? Имею ли я право даже мысль такую допускать?)
Суть проблемы: столкнувшись единожды, пусть мельком, позволив хотя бы усомниться, ненароком, уже бесполезно притворятся, будто все это тебя не касается. Она была права. Мелани. Мелани. И единственный вопрос здесь тот, что задала она: «Что дальше?»
Начать с того, что было. Остановись, естественный ход вещей: что-то случается — я реагирую, и что-то выступает в качестве противодействия. Пришло в движение нечто громадное, грубое, неуклюжее. И в этом причина моего состояния. Потрясение? Так попытаемся быть разумными, объективными: так ли я абсолютно беспомощен — нет же, — неуместен по существу, а действиями своими все только усложняю? А не то, что сама мысль об отдельном человеке, пытающемся вмешаться, абсурдна?
Или я ставлю вопросы неверно по существу? Есть какой-нибудь смысл в попытках быть «разумным», в самом поиске «практических» аргументов? Конечно же. Рассуди я, чего могу добиться в практическом смысле, я мог бы не тешить себя даже надеждой. Значит, здесь должно быть что-то другое. Но что? Может быть, просто автоматизм поступка, когда делаешь то, что сделал бы всякий, потому что ты — это ты, потому что ты оказался на месте всякого другого.
Я Бен Дютуа. Здесь я стою. Никто другой, как я. Здесь. Сегодня. Сейчас. Посему должно быть нечто, что могу сделать именно я — не потому, что это важно или значимо, но просто потому, что только я. Потому, что мне случилось быть Беном Дютуа; потому что никто другой в мире не является Беном Дютуа, один я.
Так что не по существу и вопрос: что со мной станет? Или: как могу я действовать против моего собственного народа?
Может быть, это неотъемлемая часть самого выбора: тот факт, что я извечно воспринимал «мой собственный народ» как настолько само собой данное, вынуждает меня теперь размышлять на пустом месте. Никогда раньше для меня здесь не было проблем. «Мой собственный народ» всегда был вокруг меня и со мной. На каторжной ферме, где я вырос, в церкви по воскресеньям, на продажах имущества с молотка, в школе, на вокзалах и трамвайных остановках, в трущобах Крюгерсдорпа, у себя в пригороде. Люди говорят на моем языке, хранят на устах имя господне, делят со мной историю, которую кто-то из ученых называл «историей европейской цивилизации в Южной Африке». Мой народ, что выстоял три столетия и сейчас стоит у власти и которому теперь грозит угасание.
«Мой народ». А еще есть и «другие». Лавочник-еврей, англичанин-аптекарь — все, кто обрели в городе естественную среду обитания, иначе Родину. И черные. Мальчики, которые пасли со мной овец и с которыми я воровал абрикосы и насмерть пугал обитателей хижин, выставляя в оконце привидения из тыквы с прорезанными глазницами, подсвеченными изнутри сальной свечкой, и которых наказывали со мной заодно, хотя мы были такими разными: мы жили в доме, они — в грязных лачугах, где крышу над головой, чтобы не унесло, придавливали камнями. Их одаривали нашими обносками. Им было велено стучаться с черного хода. Они подавали нам за столом, нянчили наших детей, выносили за нами ночные горшки, величали нас «baas» и «miesies»[25]. Мы не спускали с них глаз, и платили за услуги, и проповедовали им святое евангелие, и помогали им, понимая, как им-то достается в жизни. Но все это оставалось в рамках незыблемого: «мы» и «они». Такая простая и удобная межа. Сказано было, и верно, что не надлежит людям смешиваться, что каждому должен быть отведен свой удел земли, где ему жить и вести себя сообразно и среди таких же, как он. И будь даже этого не предписано без обиняков в Священном писании, но определенно же предполагается многоликостью творения отца нашего всеведущего, и не приличествует и не надлежит нам вмешиваться в творение рук его либо пытаться улучшить пути его. Ибо этот путь, какой есть, извечен.
Но вдруг и всего этого становится недостаточно, это больше не действует. Что-то бесповоротно изменилось. Я стою на коленях у гроба моего друга. Обращаюсь на кухне к женщине в трауре, какой могла бы быть в скорби моя собственная мать. Вижу отца, отчаянно разыскивающего сына. Случись, я так же разыскивал бы своего. И причина этой скорби и этих неустанных поисков тоже «мой народ».
Так кто он, «мой народ сего дня»? Кому мне хранить и нести свою верность? Должен же быть кто-то, что-то должно быть? Или никого, ничего, и ты совершенно один в этом пустынном вельде под табличкой с названием несуществующей станции?
Единственное, что весь день тревожит мою память, куда как более овеществленное, нежели эти вот добротные каменные школьные корпуса, — это то далекое лето, когда мы с отцом перегоняли овец. Засуха, та, что отняла у нас все, оставила ни с чем, обожженных зноем, одних на всем белом свете среди белых же скелетов.
Все, что было до этой засухи, никогда меня особенно не занимало, да и в памяти не запечатлелось, ибо тогда и только там я впервые открыл себя и весь мир. И мне кажется, вот я ищу себя на грани надвигающегося нового сухого белого сезона, быть может, куда более жестокого, чем тот, что запомнился с детства.
Что дальше?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Ночью город выглядел незнакомым, другой город. Когда они подъехали к придорожной таверне «У дядюшки Чарли», солнце село. Но еще раньше, у дымящих на всю округу труб электростанций, нестерпимый пламень солнца померк в тяжелом облаке дыма и гари, размазался, подобно румянам. Зимний холодок повис в воздухе. Сеть выветриваемых временем и погодой дорог и тропинок в вельде; затем железнодорожный переезд. И, круто свернув направо, дорога разбежалась по улочкам, обстроенным рядами прилепившихся друг к другу, приземистых строений. И наконец они здесь, и все, как в прошлый раз, вокруг них, и, как и в прошлый раз, они были переполнены чувствами, но только теперь другими. Темнота зримо смягчала и затушевывала неистовство противостоявших сил, скрывала детали, резавшие глаз. Нищета? Мерзость запустения? Где вы это видите? — вопрошала она. Все было как было, оглушая самим фактом своего существования, чуждым, пугающим даже. Хотя темнота же и успокаивала. Она скрывала от откровенно уставившихся на тебя глаз. А свет, мелькавший в квадратных оконцах неисчислимых домиков — мертвенно-бледный, газовый, теплый от свечей и керосиновых ламп, — вызывал в памяти дорогие сердцу детские воспоминания о поездах, проносившихся в ночи мимо забытого богом разъезда. Нет, здесь все было наполнено жизнью, только с донельзя приглушенным звуком. Словно выключили привычный уху диапазон частот, оставив лишь нечто скрытое от слуха и тайное, осязаемое не слухом, но плотью. Сотни тысяч отдельных жизней, чье существование тогда, в первый раз, ощутимо воспринималось: детей, играющих в футбол, цирюльников, женщин на перекрестках улиц, молодых людей с сжатыми кулаками — теперь обратились в расплывчатое очертание некоего единого вездесущего организма, урчащего и шевелящегося, жадно поглощающего все и вся, подобно гигантской утробе, и переваривающего, проталкивающего дальше волнообразным сокращением своих стенок, чтобы либо усвоить либо извергнуть в темноту.
— Что это вы разглядываете? — поинтересовался Стенли.
— Стараюсь запомнить дорогу.
— Не старайтесь, это не для вас занятие. — Но он сказал это без тени неприязни, с симпатией даже. — А потом, я-то здесь на что?
— Знаю. Но предположим, мне придется как-нибудь добираться самому?
Стенли рассмеялся, круто рванул руль, бродячая собака едва не угодила под колеса.
— И не пытайтесь, — сказал он.
— Не могу я, Стенли, вечно висеть у вас камнем на шее.
— К черту. Мы одно дело делаем.
Это его тронуло больше, нежели все, что он слышал от Стенли до этого. Выходит, в конце концов права Мелани: каким-то непостижимым путем его «приняли».
Он позвонил Стенли накануне вечером. До этого целый день терзался сомнениями. А чтобы Сюзан ничего знать не знала, пошел звонить из телефона-автомата за три квартала от дома. Договорились встретиться от четырех до половины пятого, но Стенли еще опоздал. Так что, когда эта его громадина белый «додж» показался на стоянке, там, где они и в прошлый раз встречались, было чуть не половина шестого вечера. Хоть бы извинился, ни слова. По правде говоря, его даже удивило раздражение Бена.
На этот раз он был без этих своих темных очков, они торчали из кармана коричневой куртки. Сорочка в полоску, галстук в цветочек, не галстук, а гербарий. На манжетах сорочки запонки с крупную монету.
Он рванул с места так, что, когда взревел мотор и взвизгнули колеса, садовник в голубой робе на лужайке против гаража только рот разинул и долго смотрел им вслед.
— Я думаю, следует кое-что обсудить с Эмили, — сказал Бен, когда машина спокойно покатилась наконец по улицам. — И в вашем присутствии, конечно.
Стенли подождал, что еще. Присвистнул, довольный. Согласен.
— Служба безопасности устроила у меня обыск третьего дня.
Здоровяк рывком повернулся к нему.
— Вы что, шутите?
— Нет, правда.
Трудно сказать, какой реакции он ждал, все, что угодно, только не этого: из нутра Стенли раздался утробный хохот, он чуть не пополам согнулся от смеха и едва на тротуар не выехал.
— Что вас так развеселило?
— Они в самом деле нагрянули к вам? — Хохоча и будто не веря собственным глазам, он пялился на Бена. И тут же хлопнул его по плечу. — Ну, встряхнитесь же, белый. — Он еще долго фыркал от смеха и, вытирая слезы, спросил: — А зачем это они, как по-вашему?
— Я думаю, тут не обошлось без доктора Герцога. Он ведь был на суде. Ну, я и отправился поговорить с ним в расчете выяснить, что он действительно знает о Гордоне.
— Он что-нибудь сказал?
— Ничего не вытянуть. Но я уверен, он знает больше, чем пожелал сказать. Или боится полиции, или сотрудничает с ними.
— А чего вы еще ожидали? — Стенли усмехнулся, — Так это он и вывел на вас фараонов? Забрали что-нибудь?
— Старые записи. Ну, письма кое-какие. Ничего особенного. Да ничего и не было. Может быть, они просто хотели припугнуть меня.
— Не очень-то обольщайтесь.
— Что вы имеете в виду?
— По тому, что вы знаете, они и впрямь могут подумать, что здесь дело серьезное.
— Не верю, чтобы они были настолько глупы.
— Белый вы человек, — протянул он с самоуверенной ухмылкой, — никогда не переоценивайте этих типов из СБ. Конечно, с ними не зевай, в любую щель пролезут, этого у них не отнимешь. Им ведь только намекни, будто они на какой-то там след вышли, — ну заговор там, — и я вам говорю, их уж ничем не убедишь отступиться. Хуже пиявки присосутся. По упрямству тупому эти gattes ну просто чемпионы. Я их не первый год знаю. Уж если они решили, что, мол, бомбу ищут, тут хоть их носом в компот тычь, они богу поклянутся, что это бомба.
Бен почувствовал, как у него помимо воли заходили от злости желваки. Но он не дал себя убедить.
— Говорю вам, Стенли, они просто хотели припугнуть меня.
— Так чего ж вы не испугались?
— Именно потому, что они так старались. Если они намереваются меня шантажировать, я должен знать с какой целью. Что-то должно стоять за этим. Без вас мне не справиться. Но если вы мне поможете, мы раскопаем, что за этим кроется. Знаю, это — нелегкое дело, придется запастись терпением. Но мы с вами, Стенли, можем действовать вместе. Это наш последний долг перед Гордоном.
— Последний? Вы уверены, что больше уже ничего не изобразишь? Ну, что поздно?
— Вы помните день, когда я сказал: мы должны быть осторожны, пока это не зашло слишком далеко? Вы тогда еще посмеялись надо мной. Вы сказали, что это только начинается. И были правы. Теперь я понимаю. Ну так вот, я дойду до конца. Если поможете.
— Что значит до конца? — Теперь Стенли был предельно серьезным.
— Сам пока не знаю, а только придется размотать всю цепочку.
— Думаете, они позволят?
Бен тяжело вздохнул, сказал:
— Какой смысл загадывать, Стенли. Будем довольствоваться тем, что есть, наше дело идти шаг за шагом.
Этот здоровенный парень за рулем, рядом с ним, только хмыкнул, но с явным облегчением. И они долго ехали молча в густом дыму и пыли дороги, пока Стенли не затормозил у какой-то черной дыры, что равно могло быть переулком и обыкновенным пустырем. Когда Бен потянулся открыть дверцу, Стенли остановил его.
— Нет-нет, погодите. Это чуть дальше. Сначала я проверю.
— Вы что же, не предупредили ее?
— Сделано. Лишних глаз не хочу. — И, поймав на себе недоумевающий взгляд Бена, объяснил: — Здесь, в кабаке, полно осведомителей. А у вас своих проблем хватает, а? Ну, пока. — И, хлопнув дверцей, исчез в темноте.
Бен слегка опустил стекло. В машину тотчас потянуло едкой гарью. Сознание — ощущение? — освобожденного от телесной оболочки звука переполнило его и все нарастало. И снова, только еще с большей силой, нахлынуло чувство, будто он в некоем чудовищном чреве, урчащей утробе: вот оно бьется, черное сердце, сокращаются и расслабляются мышцы, железы извергают свою непостижимую субстанцию. В отсутствие Стенли все это обрело еще более угрожающий и зловещий вид, вырисовалось в некоем аморфном и оттого только более жутком своем естестве. То, что заставляло его оставаться здесь и сидеть и ждать, притаившись, когда напряжена каждая жилка и пересохло во рту, не было больше страхом перед бандой цоци или полицейским патрулем и не сознание, что он может вдруг подвергнуться нападению среди ночи, а нечто переполняющее и непостижимое, как сама ночь. Начать с того, что он не знал даже, где находится. И случись, Стенли не вернется по какой-то причине, он никогда ни за что не выберется отсюда. У него ни карты, ни компаса, равно как ни малейшего представления, куда и как идти в этой кромешной тьме, — ничего, на что можно было бы опереться в памяти. У животных хоть инстинкт, а тут ничего, ну ровным счетом. Открытый всем мукам и беззащитный перед ними, он сидел, не смея шелохнуться, чувствуя, как по коже бегают мурашки даже от легкого дуновения воздуха в щелку чуть приоткрытого окна.
В этой беспросветной ночи Соуэто воспринимался более реально, чем тогда, в первый раз, средь бела дня. Просто потому, что с ним не было Стенли. Никогда прежде не ощущал он так остро полной и абсолютной изоляции двух этих миров и того факта, что лишь через посредство их двоих, его и Стенли, этим мирам дано соприкоснуться, пусть на миг и условно, и что только с помощью Гордона это вообще стало возможным. Гордон. Все неизменно возвращалось к нему.
Так он сидел, всецело во власти этих неистово захвативших его мыслей и потеряв счет времени, пока вдруг рядом с ним не оказался Стенли.
— Вам не привидение являлось? — спросил тот, и Бен разглядел в тусклом свете загоревшейся в кабине лампочки, как он улыбается во все лицо.
— Похоже на то. — От облегчения он даже позволил себе пошутить. — Теперь я знаю, что такое Черная Опасность, которая внушает людям такой ужас.
Где-то неподалеку, на соседней улочке, пронзительно закричала женщина, и эти душераздирающие вопли, точно ударами, рассекли ночь.
— Что случилось? — Бен засуетился, готовый выпрыгнуть из машины и бежать на помощь.
— Откуда мне знать? Убивают. Насилуют. Все, что угодно.
— И мы ничем не можем помочь?
— Жить надоело?
Крик оборвался каким-то глухим животным воем и тут же растворился в нестройном ропоте ночи.
— Но Стенли…
— Пошли. Тетушка Эмили ждет вас.
Возвращенный к реальности этим деловым тоном, Бен последовал за ним. Но тут же поймал себя на том, что по-прежнему напряженно вслушивается в темноту, не раздастся ли снова этот крик. Они шли от одной высокой фонарной мачты к другой, поставленным редко, с прожекторами на каждой и создававшим вкупе с ровными блоками строений впечатление концлагеря. Время от времени Бен спотыкался — о жестянку, искореженное автомобильное крыло; какой только хлам не покрывал темную улочку! Стенли шел легко и уверенно, подобно огромной черной кошке в родной стихии.
Они прошли через шаткие воротца и поднялись по ступенькам. Стенли постучал, Бену показалось, условным стуком. Плащ и шпага, тайный стук. Совсем как в захватывающей игре из далекого детства. Эмили тут же открыла, словно ждала у двери. Крупная, в своем старомодном длинном платье до полу, она казалась бесформенной массой плоти. Посторонилась, давая им пройти. В комнате горела единственная газовая горелка, и углы тонули в полумраке. У стены, противоположной двери, под старым одеялом, прижавшись друг к другу, спали дети; Бен еще подумал: пирожки на противне. На полке буфета стоял включенный транзистор, еле слышно играла музыка. Все как было. По стенам так же висели картинки из календаря и какие-то плакаты. На выскобленном добела столе стояла швейная машинка. Старая доверова плита в углу. Ваза с искусственными цветами. Цветастые занавески. Застоявшийся, навечно продымленный, спертый от запаха немытых тел воздух. За столом сидел маленький седой человек в потертом черном костюме, походивший на юркую ящерицу своими очень черными, очень блестящими глазами, мигающими в бесчисленных складках морщинистого лица.
— Это отец Масонване из нашей церкви, — представила его Эмили, точно извиняясь за его присутствие.
Человечек улыбнулся, обнажив беззубые десны.
— Мы уже встречались, — сказал он, — когда morena был здесь в прошлый раз.
— Баас должен сесть, пожалуйста, — сказала Эмили. — Вот на этот стул, другой у нас сломался.
Бен сел, чопорно и прямо, на некотором расстоянии от стола.
— Ну, — объявил Стенли от двери, — я пошел. Толкуйте на здоровье. Пока.
Бен в испуге даже приподнялся.
— Почему вам не остаться?
— Да клиент тут один ждет. — Сказал Стенли. — Не беспокойтесь. Я вернусь. — И, не дав Бену возразить, выскользнул, снова с удивительной для такой громадины ловкостью. И они остались втроем у стола, освещенного шипевшей газовой горелкой.
— Я поставлю воду для чая, — сказала Эмили, — но только придется подождать. — Она все возилась у плиты в углу, не решаясь сесть в присутствии Бена.
— Я не хотел бы затруднять вас, — сказал он, повернувшись к священнику.
— Отец Масонване столько для меня делает, что вы, — тут же возразила Эмили.
Маленький человечек на это только загадочно улыбнулся.
— Я пришел поговорить с вами, Эмили.
— Да, это хорошо, баас.
— Теперь, когда суд бросил нас, нам самим придется собирать свидетельские показания, какие только сможем. Стенли готов помочь мне. Мы должны разузнать все о Джонатане и Гордоне, чтобы смыть с них позор.
После каждой фразы он делал паузу, ожидая, что она ответит, но она молчала, и священник тоже молчал. Закашлял ребенок на полу у стены, другой что-то пробормотал во сне.
— Мы не можем вернуть им жизнь, — сказал Бен. — Но должны сделать так, чтобы такого рода вещи никогда не повторились.
— У вас добрые намерения, morena, — произнес наконец старик священник. Он говорил медленно и очень правильно, точно взвешивал каждое слово. — Но лучше забыть. Ибо если мы не предадим забвению боль нашу, то ненависть и горечь оставим в сердцах наших.
— Но когда нечем дышать, разве не проветривают комнату?
— Только в грозу ведь не открывают окна.
— Нет, — сказала, чуть не выкрикнула Эмили. — Нет, баас прав. И не потому, что я не хочу отступиться от всего этого, а потому, что все это дурно. Одно то, что Джонатан мертв, что Гордон мертв… — Она едва перевела дух оттого, что сказала столько слов подряд. Но, отдышавшись, продолжала: — Дай бог это перенести. Но я прощу… Отец Масонване внушил мне урок. — Она воздела глаза, и свет падал теперь прямо на ее круглое лицо. — Но они покрыли грязью имя Гордона. Они оклеветали моего мужа. И мы должны очистить его от скверны, не будет иначе мира его праху.
— Нет, сестра Эмили, — произнес старый пастор, покачав головой. — Нет и нет. — И его собственный, ставший сухим голос обрел вдруг настойчивость. — Те люди, что совершили это над ним, суть грешники, бедные духом, и не ведают, что творят. С терпением отнесемся к ним. Нам должно возлюбить их, ибо порушатся иначе все устои в царствии этом.
— Они убили Гордона, — горячо возражал Бен. — Человека, который мухи не обидел. И еще убили Джонатана, вовсе ребенка. Как же можете вы говорить, что они не ведают, что творят?
Священник только покачал седой головой.
— И еще скажу: не ведают, что творят, — повторил он, — Не верите вы мне? Знаю, что тяжко говорить это, но истинно говорю. Не ведают. Даже стреляя детей наших, не ведают. Ибо думают, что не важно это, думают, будто не людей убивают, думают, не воздастся им за нас. Мы должны помочь. И это единственно. Они нуждаются в нашей помощи. Не в ненависти, но любви.
— Вам легко говорить, — сказал Бен. — Вы священник.
Старик усмехнулся, снова обнажив свои беззубые розовые десны.
— Да, я смирился, когда они забрали моих сыновей в тюрьму, morena, — произнес он. — И всякий раз, как я иду в город, я обязан предъявлять полиции свой паспорт. Бывают и среди них, что обходятся со мной уважительно. Но есть и другие, из молодых, моложе моих сыновей, что швыряют его на землю едва взглянув. Было время, и у меня была одна лишь ненависть к ним, когда в сердце моем была горечь, яко орех горький миндаль. Но я поборол это и открылись мои глаза. И осталась жалость к ним, и теперь я молюсь за них перед господом богом нашим.
— Они смешали с грязью имя Гордона, — спокойно возразила Эмили, смотря прямо перед собой, точно не слышала его слов.
— Не страшишься ли ты, сестра Эмили? — предостерег он ее.
Она покачала головой.
— Нет. Настает такое, когда устаешь страшиться, — отрезала она.
— Только сегодня ты еще оплакивала мужа. И вот ты уже готова осушить слезы на глазах.
— Я их все выплакала, отец Масонване, — отвечала она. — И вот господь бог послал мне бааса.
— Подумай, что ты говоришь.
Эмили замерла в полутьме у стены, где спали ее дети.
— Отец, вы всегда учили меня верить в господа бога нашего. Вы говорили: вечны чудеса, что творит он. Сегодня он послал мне моего бааса, белого господина. Не чудо ли это? — И, вздохнув, повторила тем же спокойным, решительным тоном: — Они покрыли грязью имя Гордона. Мы должны очистить его.
— В таком случае я ухожу. — Старик тяжело вздохнул и поднялся, — Суета в сердце твоем сегодня, сестра Эмили. — И с извиняющей улыбкой он открыл дверь и вышел.
Теперь они были одни в доме, он и Эмили, да еще спящие дети. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, оба смущенные; он чопорный и прямой на своем стуле, она расплывшаяся и обрюзгшая у своей плиты. И оба вздохнули с облегчением, когда наконец закипела вода в чайнике. По крайней мере теперь ей было чем заняться. Она налила ему в белую чашку с выщербленной золотой каемкой и категорически покачала головой, когда он попытался было протестовать: нет, сначала вам. И, соблюдая формальности до конца, она так и осталась стоять за стулом, где еще недавно сидел пастор, и так до тех пор, пока Бен помешивал чай ложечкой, пока не пригубил из своей чашки. Кто-то из детишек посапывал во сне.
— Что же мне теперь делать, баас? — спросила она.
— Мы должны собрать информацию, все, что сможем, понимаете? Вы и Стенли должны действовать вместе. Попытайтесь найти всех, кто может рассказать нам хоть что-нибудь о Джонатане или Гордоне. И все, любую мелочь, самую незначительную, сообщайте мне. Или посылайте Стенли. Вы действуйте здесь, именно здесь — у вас тут глаза и уши. А я буду собирать все, что вы узнаете.
— У меня есть для вас кое-что, баас.
— Что?
Она подождала, пока он допьет чай.
— Не знаю только, могу ли я отдать вам это, — сказала она.
— Покажите.
— Это единственное, что у меня осталось от Гордона.
— Все будет в полной сохранности, обещаю вам.
И тут она, явно нервничая, сначала закрыла дверь на ключ и потом какое-то время стояла к нему спиной там же, у двери, точно не могла решиться. Но потом решилась, полезла за лиф своего платья и что-то вынула. И так же нерешительно подошла и положила это на стол рядом с его чашкой. Маленький смятый клочок бумаги.
Два листка, как оказалось, когда он развернул. Один линованный, видно, из школьной тетрадки, а другой — просто ровный обрывок туалетной бумаги. Оба исписаны мягким карандашом, едва различимым теперь, бумага потерлась на сгибах, не разгладить. Почерк нетвердый, и слог странно официальный. В первой записке можно было разобрать:
«Моя дорогая жена ты не должна беспокоиться обо мне но я очень скучаю о тебе и детях ты должна заботиться о них во имя господа бога нашего и боже тебя упаси. Я стражду и не могу понять что они хотят от меня и все время кричат но я надеюсь что скоро буду дома и думаю всегда о вас. С сердечным приветом
от вашего отца»На обрывке туалетной бумаги почерк был вовсе неразборчивым.
«Моя дорогая жена я по-прежнему как и был (несколько слов неразборчиво) хуже и очень много настрадался ты должна попытаться помочь мне потому что они не хотят (неразборчиво) меня. Ты должна заботиться о детях а если нужны деньги попроси в церкви или у моего (неразборчиво) хозяина который добр к нам. Не знаю вернусь ли домой живым так они (неразборчиво) но все в воле божией и я очень по тебе скучаю. Помоги мне потому…»
На бумаге оставалось еще достаточно места, но фраза обрывалась на середине строки.
— Она не подписана, Эмили, — сказал Бен.
— Я знаю почерк Гордона, баас.
— Каким образом вы получили эти письма?
Она вынула носовой платок, аккуратно развернула его, высморкалась и убрала в карман.
— Кто вам принес их, Эмили?
— Я не могу сказать. — Она отвела глаза.
— Я должен знать, если мы решились продолжать это дело.
— Знакомый. Но я боюсь повредить ему, баас. У него могут быть неприятности по службе.
Бен спросил подозрительно:
— Он что, связан с полицией?
Она отвернулась и пошла поправить одеяло, которым были укрыты дети. Явно чтобы выиграть время.
— Эмили, обсудите с ним это. Скажите ему, что я сохраню все в тайне. Но я просто должен знать, поймите.
— Он не сможет прийти.
— Тогда скажите мне только имя.
Какое-то время она еще колебалась, прежде чем произнесла почти в смятении:
— Джонсон Сероки. — И тут же, крайне взволнованная, снова с тревогой в голосе принялась убеждать его, что все это бесполезно, он ничего не расскажет.
— Вы не можете прислать его ко мне?
Она покачала головой. И, протянув руку, добавила:
— Лучше, если вы вернете мне это.
Бен накрыл листки бумаги рукой.
— Нет, Эмили. Это единственный способ обелить его имя.
После долгого колебания она опустила руку.
— Когда вы получили эти письма? — спросил он.
— Первое почти сразу, дня через два-три, как его забрали. А другое, — она напряженно припоминала, теребила нитку на платье, — а другое позже. Как раз перед тем, как мне выдали его белье, баас, ну и те брюки, что были в крови и где я нашла зубы.
— А потом?
Она отрицательно покачала головой.
— Нет, это было последнее, потом ничего.
— Но, Эмили, почему же вы мне сразу не сказали?
— Если бы они узнали о письмах, ему бы только хуже пришлось.
— Но после его смерти вы могли бы мне сказать? Например, когда мы были в суде.
— Тогда бы они отобрали их у меня. Я боялась, баас.
— Может быть, все обернулось бы иначе.
— Нет, — твердила она свое. — Покажи я их на суде, они бы опять вызвали того человека, и он бы сказал, что это не Гордона почерк. — Она тяжело вздохнула. — Я все-таки думаю, лучше бы вам вернуть их мне, баас.
— Обещаю вам, Эмили, они будут в сохранности. А ведь так важно, если с их помощью мы получим дополнительные свидетельства. — Он сильным движением подался к ней, опершись о стол обеими руками. — Эмили, вы обязаны поговорить с Джонсоном Сероки. Однажды он оказал вам услугу, передал эти письма. Может быть, он снова согласится помочь нам. Ради Гордона и Джонатана сделайте это, Эмили.
— Он не стал ничего рассказывать. Просто передал письма.
— Обещайте по крайней мере, что поговорите с ним.
— Я-то поговорю, да он не станет слушать. Люди так запуганы, баас.
— Вот это для нас самое страшное. Запуганы и поэтому молчат. Но ведь тогда нам вообще не удастся доказать, что это письма Гордона.
Понимая, что его настойчивость становится неприличной, он твердил все-таки одно и то же, в отчаянии снова и снова взывая к имени Гордона, ибо не знал другого пути заставить ее откликнуться. Постепенно разговор перешел на Гордона, они оба успокоились. Говорили и о Джонатане, но больше о Гордоне. Вспоминали разные мелочи: что он сказал, что сделал — все, что приходило на память. В Эмили уже не чувствовалось недавнего напряжения, она налила ему еще чая. Так они сидели и предавались воспоминаниям о Гордоне и Джонатане и о втором сыне, Роберте, бежавшем в Ботсвану.
— Не стоит так уж беспокоиться о нем, — говорил Бен. — Трудный возраст. Все проходят через это. У моей жены тоже постоянные проблемы с нашим мальчиком.
Все стало так просто, непринужденно — родители обсуждают проблемы воспитания детей. И недавней натянутости, того, что мешало найти правильный тон в общении с Эмили, как не бывало. Да и сам Гордон предстал вдруг в неожиданном свете, не расплывчатым, как раньше, изображением. Его собственная причастность тоже стала другой — более личной, конкретной.
Он вздрогнул, когда в дверь постучали, и тревожно посмотрел на Эмили. Но она спокойно отвечала, что это Стенли, и пошла отворить ему.
— Ну как, тетушка Эмили? Приятно потолковали? — И не дожидаясь ответа, протянул Бену пачку «Лаки страйк»: — Подымим?
— Нет, спасибо. — Бен машинально потянулся за своей трубкой, но так и оставил ее в кармане.
— Чаю? — предложила Эмили.
— Благодарствуем, тетушка, по мне это слишком крепко. Как насчет виски?
— Ты же знаешь, я не держу дома выпивки, — сказала она.
— Ну, тогда двинули, — Он повернулся к Бену: — Можем заправиться неподалеку, здесь есть.
— Мне чуть свет в школу, Стенли.
Стенли отогнул манжету рубашки, обнажив на запястье огромные золотые часы.
— Побойся бога, приятель, время еще детское.
— Не среди недели же, — вежливо пытался отказываться Бен.
— Понятно. Старая пуританская кровь возмущена? — От его смеха задребезжала посуда на буфете. — Ладно, пошли. Там кое-кто хочет вас видеть. — У дверей помахал рукой на прощание: — Очко в твою пользу, тетушка Эмили.
И они тут же оказались в ночной темноте, вовсе сгустившейся, пока он сидел здесь. Точно час, проведенный в этом домике, был просто-напросто антрактом между двумя действиями пьесы, игравшейся во тьме. Они ехали по улочкам, неровным, в рытвинах, миновали железнодорожный переезд и покатили по простору черного открытого вельда. Где-то далеко замелькали в угадывавшемся шлейфе дыма от электростанции мириады искорок и вырвался язык яркого пламени. И снова ночь. Через несколько минут Стенли завернул куда-то за дом и повел его к черному ходу.
Ничего нового. Бен знал такого рода заведения: веселенький линолеум и бар напоказ, декоративные тарелки на стенах, подносы, расписанные райскими птицами, яркие подушки на диванчиках и креслах.
Входная дверь была полуоткрыта.
— Это еще что? — проворчал Стенли и метнулся в сторону. Через минуту вернулся, ведя мужчину. Тот пытался непослушными руками застегнуть молнию на брюках. Выглядел он лет на сорок. Клетчатая рубаха, зеленые штаны, ремень с громадной литой бляхой, коричневые с белым туфли забрызганы.
— Боже всесильный! — сказал Стенли тоном скорее наигранным, чем сердитым. — Совсем спятил! Это на ступеньках-то моего крыльца!?
— Пузырь чуть не лопнул.
— Что ж ты так нагрузился…
— А что мне еще, по-твоему, остается делать? — с укоризной произнес незнакомец, уставившись на Стенли с изумлением, вытащил цветной носовой платок, целая косынка, и силился вытереть лицо. — Сил больше никаких нет сидеть здесь вот так и ждать. Задницу отсидел. Слушай, дай еще выпить, а?
— Погоди с выпивкой. Сначала познакомься. Это господин Дютуа. Бен, это Джулиус Нгакула. Адвокат, который заполучил первое письменное показание под присягой насчет Джонатана.
Незнакомец одарил его откровенно неприязненным взглядом. Смотрел даже агрессивно.
— Не обращайте внимания, — ухмыльнулся Стенли. — Он только и функционирует, когда мертвецки пьян. На его голове это не отражается. — Он поместил Джулиуса на стул, где тот так и остался сидеть развалившись, вытянув ноги во всю длину и хмуро поглядывая на Бена сквозь смыкавшиеся веки. Стенли налил всем троим виски.
— Что ему здесь надо? — Джулиус Нгакула одним глотком осушил полстакана и впился в Бена глазами.
— Я привез его сюда по делу Гордона, — невозмутимо отвечал Стенли, усаживаясь на диванчик. Нелепо тонкие ножки, казалось, тут же переломятся под его грузным телом.
— Гордон мертв. И Гордон наш. Какие еще могут быть дела у этого mugu[26] к нашему Гордону?
Бен залился краской от гнева. Он готов был встать и уйти, и ушел бы, если б Стенли, которого все это только забавляло, не остановил его жестом.
— Не забирайте себе плохого в голову на его счет, ну, что он такой, — сказал Стенли. — Этот подлец, когда надо, умеет быть одним из лучших адвокатов во всем предместье. В прошлом году, когда они потянули после волнений всех этих ребят в суд, он дни и ночи напролет работал, чтобы спасти людей. Сотни дел провел — это я вам говорю, — пока они не запретили ему практику. Но это уж когда он заполучил письменное показание по делу Гордона. Так что накрылась его практика, и теперь ему ничего другого не остается, как напиваться, когда поднесут.
На Джулиуса Нгакулу все это, похоже, не произвело особого впечатления.
Стенли вернулся к нему.
— Слушай, — сказал он, — Бен хочет, чтобы мы не оставляли так этого дела.
— Он белый, — бросил Джулиус, не сводя с Бена враждебного взгляда и демонстративно подергивая ногой.
— СБ из-за Гордона у него весь дом перевернула.
— Беленьким и остался.
— Он вхож, куда нам и носа не сунуть.
— Дальше.
— А у нас зато связи, каких у него нет. Вот мы и соединим силы. Что скажешь?
— Скажу, что не доверяю я ему. Он белый.
Бен изо всех сил старался сдержать гнев. Но это уже было слишком. Он не выдержал.
— Надо полагать, вы ждете, пока я отвечу: а вы — черный, и я не доверяю вам? — выпалил он, швырнув очки на столик, — А вам не приходит в голову, что это не игра в шахматы? Пора выбираться из этого тупика. — И повернулся к Стенли: — Ей-богу, не понимаю, какой от него помощи можно ждать. Неужели не видите, они его сломили, сломленный человек.
К его удивлению, костлявое лицо Джулиуса расплылось в иронической улыбке. Он потянул виски, все, что оставалось в стакане, подержал во рту, пополоскал горло и проглотил. Утерся рукавом.
— Сыграем по новой, — сказал он совсем другим тоном, чуть ли не с признательностью. — Посмотрим, кому это удастся сломить меня!
— Почему же тогда вы не поможете нам? — сказал Бен. — Ради Гордона.
— Ох уж эти мне белые либералы! — сказал Джулиус. — Плесни, Стенли, а?
Беспричинная, животная какая-то ярость, как тогда, в его визит к этому окружному врачу, заклокотала у Бена в груди.
— Либерал?! — выхлестнул он в ярости. — Ну нет уж! Не там ищите. Я африканер.
Стенли налил виски Джулиусу и себе, содовой не стал добавлять. Они сидели молча, оба смотрели на Бена.
Потом Стенли спросил:
— Ну, так как же все-таки, а, Джулиус?
Тот ворчливо, с улыбкой и без следа былой неприязни:
— А он в порядке, этот белый, — и подобрался, теперь он сидел на краешке стула, опершись локтями о колени. — И на что ж вы нацелились? — спросил он.
— Главное — раскопать все, что они стараются скрыть. Пока не соберем достаточно улик, чтобы заставить их вернуться к делу. Не останавливаться до тех пор, пока не будем уверены, что собрано все. Тогда виновные могут быть наказаны, и мир сможет узнать, что произошло.
— Вашими бы устами.
— Вы намерены нам помочь? Да или нет?
Тот неторопливо улыбнулся.
— С чего начнем? — спросил он.
— С показаний, которые вы добыли по делу Джонатана.
— Не пойдет. Их конфисковали при аресте Гордона.
— У вас что, не сохранилось копии?
— Слушайте, не у одного у вас был обыск.
— В таком случае следует разыскать этих людей и пусть они повторят заявления.
— Эту сиделку так припугнули, что, боюсь, она от одного вида пера и бумаги в ужас придет. А парень, тот и вовсе подался в Ботсвану.
— Ну, — весело подхватил Стенли, — это уж дело техники. Всего и забот-то? Найти и заполучить у них новое заявление?
— Мне запрещена практика.
— А штаны протирать не запрещено? — Стенли поднялся. — Обмозгуй, пока я отвезу человека домой. Пока ему не досталось на орехи от его миссус.
— Да, кстати, — сказал Джулиус, принимая прежнюю позу, — вчера ко мне забегал Джонни Фулани.
— Кто это? — поинтересовался Бен.
— А проходил по делу, один из арестованных. Его заявление фигурировало на следствии, помните? Когда с Арчибальдом Тсабалалой у них ничего не вышло, они решили трех остальных не вызывать. Ради безопасности государства. Джонни Фулани теперь освободили.
— И что он говорит?
— А вы чего от него ожидали? Мордовали, пока не подписал. То и говорит.
— Тем более. Вот и у него возьмите заявление.
— Взял уже.
Бен улыбнулся:
— Отлично. Вы не подошлете мне копию со Стенли? Все будет в сохранности.
— А если к вам снова нагрянут?
— Не беспокойтесь. Об этом я подумал, — сказал Бен. — Я себе такой тайник соорудил, век не сыщут.
Джулиус еле поднялся со своего стула и протянул руку Бену.
— До скорого, и смотри, не прикасайся больше к этому пойлу, — сказал Стенли, показывая на бутылку и стараясь придать голосу как можно больше строгости.
На обратном пути, когда они снова мчались в тряском экипаже Стенли, Бен спросил, зачем тот устроил эту встречу.
— Затем, что он нам нужен.
— Можно было найти любого другого адвоката.
Стенли только посмеялся.
— Знаю. Да его этим запретом как под дых ударили. Совсем сник. А мы ему дело даем, человек снова на ноги встанет. — Беззаботный и довольный смешок. — Эх, белый, я что скажу, у меня такое чувство, что нам с вами ох какой неблизкий путь предстоит. И всю дорогу придется искать людей, пока в самый раз не наберем. Вон когда еще нас будет столько, чтобы они и счесть не могли. Численное превосходство.
Остаток пути он напевал что-то, левую свободную руку вытянул в окно и барабанил себе в такт по крыше «доджа».
2
Воскресенье 15 мая. Снова был у Мелани. Неизбежное неизбежно, надо полагать. Она мне необходима в этом расследовании, и она сказала, что согласна помочь. В то же время сама мысль представить ее себе чем-то не больше, чем просто помощницей… Нет. Но тогда что?
Несправедлива по отношению к ней сама мысль, что она несет мне беду. Мое положение, наконец! Человек среднего возраста, с понятиями о ценностях, проистекающими из принадлежности к среднему классу. Педагог. Старше возрастом. «Уважаемый член общества», что с вами происходит?
С другой стороны, она — или, может быть, мне это только кажется, отвечает взаимностью. Вдохновляет. Точнее? Началось ни в коей мере не преднамеренно, чистое стечение обстоятельств, абсолютно невинно. Не рисковать чистотой эксперимента. Бывают моменты, к которым, ради себя самого же, не следует возвращаться. Пример неожиданный. Ожидания, возможности, надежды. Но излишне додумывать. Слишком поздно. Я дал задний ход.
Так что же сковывает мои чувства? Наверное, стечение обстоятельств? Ведь даже сейчас они думают, что я уединился у себя, «чтобы приготовиться к завтрашним урокам». «В воскресенье-то!» — возмутилась Сюзан.
Она невозможна с того самого вечера, когда я в четверг вернулся от Стенли. «Боже, ты что, из казармы?! Чем от тебя несет? Опять напился? Из какой забегаловки тебя принесло?» Точь-в-точь как много лет назад, в Крюгерсдорпе, когда я решил как-то навестить родителей моих учеников. Этого она не могла вынести. Даже хуже, чем тогда. Соуэто. При всей справедливости к ней, однако, этого в ней я не могу вынести. Она решила, что все кончено, и не дает жить ни мне, ни себе. Этот визит людей из СБ выбил ее из колеи. Дважды уже ходила к врачу. Нервы, мигрени, успокаивающие средства. Я должен быть более внимательным. Если б только она попыталась понять…
Словно нарочно, чтобы все усложнить, на конец недели нагрянула еще и Сюзетта с семейкой.
Как бы там ни было, все обходилось в рамках разумного до самого субботнего утра. Гулял с Хенни, младшим отпрыском Сюзетты. Обходили каждую лужицу, и все-таки малыш вывозился в грязи как последний поросенок. Он ни на минуту не переставал тараторить: «Ты знаешь, дедушка, а ветер, он тоже простыл. Я сам слышал, как он ночью шмыгал носом. У него тоже сопли?»
Сюзетта вдруг вспыхнула, потому что я позволил, видите ли, ему вольно выразиться. Дурное влияние с моей стороны, учу ребенка скверным манерам и все такое. Потерял терпение. Сказал, что если речь идет о дурном влиянии, так с ее стороны. Эти ее вечные путешествия и один флирт на уме. А бедный ребенок не видит никакого внимания. Это и привело ее в ярость. «Не тебе упрекать меня на этот счет. Мама говорит, что забыла, когда тебя самого последний раз дома видели».
«Ты не отдаешь себе отчета, Сюзетта, в том, что говоришь».
«А ты? Как насчет всех этих твоих черномазых дружков-приятелей, с которыми ты бражничаешь у них в предместье? Я бы на твоем месте со стыда сгорела».
«Я отказываюсь с тобой разговаривать в таком тоне».
Она была в ярости. Роскошная женщина, вылитая копия своей матери, особенно когда сердится.
«Ах, вот как! В таком случае да будет тебе известно, зачем мы, собственно, приехали на этот раз, — сказала она. — Чтобы попытаться поговорить с тобой начистоту. Дальше так продолжаться не может. Крис как раз ведет переговоры в Совете провинции насчет нового проекта. Тебе очень хотелось бы, чтобы они все завалили? А это твое безумие…»
«Вот как, твой отец безумец».
«Вот именно. Я давно размышляю, все ли у тебя в порядке. Водить дружбу с черномазыми! Ничего подобного у нас в семье не было».
Крис держался куда разумнее. По крайней мере он хоть готов был слушать. Думаю, он согласен, что дело Гордона нельзя оставить просто так, пусть даже он и не одобряет в душе моих поступков. «Я уважаю ваши мотивы, отец. Но мы, националистическая партия, как раз готовим население к большим переменам. И если это ваше дело вызовет новый взрыв, на что и рассчитано, оно только затормозит нам работу. Весь мир и так готов вцепиться нам в глотку, мы не можем быть игрушкой в их руках. Мы, африканеры, переживаем, как никогда, трудные времена, и нам стоило бы держаться вместе».
«То есть сплотим наши ряды вокруг любой непристойности, на манер того, как команда регбистов закрывает телами игрока, с которого в пылу игры стянули трусы?»
Крис рассмеялся. По крайней мере человек не потерял чувства юмора. Хотя и сказал на это: «Вот именно, па, просто обязаны наглухо закрыть. Не выставлять же неприличие напоказ белому свету».
«Слушай, Крис, и сколько же все это будет продолжаться? Ведь ничегошеньки не делается, одни слова».
«Ну, не надо так уж и сразу требовать результатов, слишком рано».
«Извини. Но, как говорится, такими темпами мельницу крутить, без муки останешься. Это не по мне, не доживу».
«Как говорится?..»…И кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если б повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской… Как там дальше-то говорится?
Не подвернись тут Сюзетта, мы, может, и нашли бы общий язык. У него самые добрые намерения, я знаю. Но Сюзетта полезла с репликами, а тут еще эта накаленная обстановка в доме с того вечера, в четверг. И я сорвался. И после ленча сел в машину и укатил. Но и тогда без всякой еще мысли ехать в Вестден. Просто гнал куда глаза глядят, чтобы развеяться. Субботний день, улицы пустые. Я и вправду встряхнулся. Мужчины и женщины в белом на теннисных кортах. Зеленеют стадионы. Черные няни в форменной одежде толкают по лужайке кресла-коляски. Мужчины, обнаженные до пояса, моют свои автомобили. Женщины в бигуди поливают газоны. На углах улиц сидят или лежат, пристроившись поудобнее, черные. Они держатся шумными группами, непринужденно болтают, смеются. Ленивая неподвижность солнца, последних его теплых лучей накануне холодов.
А потом я снова оказался на улице, ведущей вверх по холму, перед старым домом с верандой полукругом над красными ступеньками.
Я проехал в гору, не останавливаясь, развернулся и снова покатил, улица здесь идет под уклон. Но через милю притормозил. А почему нет? — подумал я. В этом нет ничего плохого. По сути, даже желательно, если вообще не крайне необходимо, обсудить с ней план действий на будущее.
Поначалу я принял его за садовника, цветного малого. Сидит человек на корточках у клумбы, прополкой занимается. Вельветовые брюки испачканы землей, черный берет с пером цесарки, на охотничий манер, рубаха цвета хаки, во рту трубка, на ногах уж и вовсе ни на что не похожее, рвань какая-то в лепешках грязи, надетая на босу ногу и без шнурков. Это и был ее отец, старый профессор Фил Брувер.
— Прошу прощения, — проворчал он, когда я к нему обратился, — Мелани нет дома.
Седой спутанной гривы месяцами, видно, не касалась расческа. Прокуренная козлиная бородка. Лицо загорелое, продубленное всеми ветрами, кожа точно на старом, отслужившем свое ботинке, и еще бойкие темно-карие глаза, полускрытые нависшими над ними косматыми бровями.
— Тогда, полагаю, нет смысла ждать, — сказал я.
— Кто вы? — спросил он, так и сидя на корточках у своей клумбы.
— Дютуа. Бен Дютуа. Заеду в другой раз.
— А мы говорили о вас. Почему же не подождать? Она должна скоро вернуться. Задержалась в редакции. Хотя неисповедимы пути ее. Или я неправ? Почему бы вам не помочь мне с прополкой? Отлучился ненадолго и вместо сада нахожу джунгли. Мелани не видит разницы между культурным растением и сорняками.
— А что это за растения? — поинтересовался я, чтобы поддержать разговор.
Он вскинул на меня глаза — я должен был сквозь землю провалиться, столько в них было снисходительного упрека.
— Куда идет мир! Да травы же, ужели не видите? — И он принялся тыкать пальцем и объяснять: — Тимьян, душица обыкновенная, сладкий укроп, иначе фенхель, шалфей. А в междурядьях везде розмарин, — Он поднялся, разогнул спину. — Но почему-то явно не тот аромат.
— На вид очень буйно растут.
— Буйного роста далеко не достаточно. — Он принялся выбивать трубку. — Что-то не то с почвой. Настоящий тимьян можно видеть в горах южной Франции. Или в Греции. Крито-микенская культура. Во-он куда восходит. Видите ли, это как виноградная лоза. Тут уж извольте все учесть: южный либо северный склон, степень уклона, слоистость почвы. Словом, тысячу вещей. В следующий раз хочу привезти мешочек почвы с горы Зевса. Может, одарит благостями этого почтенного миродержца. — Он осклабился, показывая свои большие неровные желтые зубы. — Похоже, с возрастом я открыл для себя одно: чем больше ты углубляешься в философию, во все, находящееся за пределами опыта, тем вернее возвращаешься назад к природе. Все-таки все мы вернемся к хтоническим божествам, владыкам преисподней. Вот проблема человечества, погнавшегося за абстракцией. Начиная с Платона. Заметьте, он понят самым неподобающим образом. Ну-с, и давайте-ка возьмем Сократа. Да все мы живем, не в силах рассеять чары абстрактного. Гитлер, апартеид, Великая американская мечта, вот жалкий жребий наш.
— А как насчет Иисуса? — поинтересовался я не без умысла.
— Чистое недоразумение. Человеки не поняли сына человеческого, — отвечал он. — Et verbum caro tacto est[27]. Мы же устремляемся за Словом, именно забывая о плоти его. Вот так-то. Эти метафизики воистину брали быка за рога. Они явно знали Суть. Надо держаться за землю обеими руками. Ибо экзистенция до сознания.
Я пишу по памяти то, что успел запомнить из этого монолога, который лился беспрестанно, пока он полол на грядках свою ерунду, полол и поливал, граблями собирал листья, окучивал и подвязывал ростки и обрывал сухие листья. И все, что он говорил, изрекалось с безудержным неугомонным жаром.
— Знаете, когда люди вынуждены были стараться как дьяволы, чтобы только зацепиться на этой земле — опору для ног найти, так скалолазы выражаются, — прекрасная это была жизнь, ей-богу. А потом до них дошло, что коль скоро все у них во власти, то по праву и долгу им и готовить проекты на будущее, и пошли чертить чертежники. Ну и что? А извольте взглянуть, все на манер моего огорода. Сплошная вселенная, только без бога в голове. Рано или поздно люди начинают верить в свой образ жизни как в абсолют — непреложную основу основ и вообще непременное условие всякого существования. Своими собственными глазами насмотрелся на это в Германии в тридцатых, знаете ли. Целая нация устремилась вслед за так называемой идеей, яко стадо свиней нечистых. Sieg heil, Sieg hiel! По ночам спать не дает. В тридцать восьмом я уехал, не мог этого больше вынести. А теперь я вижу, как это происходит в моей собственной стране. К тому ведь идет. Ужасно, хотя и легко было предвидеть. Это болезнь Великой Абстракции. И дано нам вернуться назад к материи, к плоти, и костям, и праху земному. Истина не сошла с небес в образе слова, отнюдь. Расхаживает во плоти, не скрывая стыд свой. А коли и приходится нам излагать словами, то слово это разве на манер речений косноязычного заики Моисея, законодателя. И вот каждый из нас речет, запинаясь и бормоча свою истинку. Правительство обращается с избирателями, словно это жалкие обезьяны. Морковку в зубы и пинком под зад. Апартеид, Догма, Великая Абстракция — вот вам морковка. А с пинком и того проще — страх. Черная Опасность, Красная Опасность — называйте себе как знаете, ваша воля. Страх может быть чудесным союзником. Помню, как-то, давно это было, в мое путешествие к Окаванго, я гербарий собирал. За мной плелся целый караван носильщиков. Через неделю они обленились и стали отставать. Дальше больше. А чего я терпеть не могу, так это без дела слоняться в буше. И вот увязался за нами лев. Год выдался сухой, и самые смелые улепетнули отсюда, а этот старина слонялся здесь, ну и увязался за нами. По запаху нас учуял. Ничего особенного, просто после пары неделек в буше любой смердит так, что господь бог нос заткнет. Ну-с, как бы там ни было, а только пару дней, пока этот лев шел за нами по пятам, у меня не было с моими носильщиками ни-ка-ких проблем, никаких отстающих, праздношатающихся. Вся команда в кулаке. Вот что такое страх божий. Просто прелесть этот лев оказался.
Когда в саду делать было больше нечего, мы пошли в дом, на кухню. Беспорядок, как в мастерской художника. Там были две плиты: электрическая, а другая древняя, мрачно-траурная от сожженного в ней за век каменного угля. Он посмотрел, как я ее разглядываю, и сказал:
— Это Мелани уговорила меня купить белое эмалированное привидение, говорит, она более эффективна, — он показал на электрическую плиту. — Я-то держу старую и готовлю себе на ней. Не каждый день, под настроение. Хотите чаю? — И, не дожидаясь ответа, снял со своей плиты допотопный чайник и налил в старомодные выщербленные чашки дельфтского фарфора без блюдечек густого бушменского отвара, а затем добавил в каждую по ложечке меда. — Мед — услада самого господа бога. Истинный эликсир жизни. Лишь один человек умер молодым от меда, и тот Самсон. Но по собственной дурацкой вине. Cherchez la femme[28]. Бедный малый мог бы стать добрым, праведным мужем, не свяжись он с этой мещаночкой, уличной девкой. — Мы сидели за кухонным столом, покрытым красной клеенкой, пили маленькими глотками сладкий, благоухающий чай. — Не то чтобы у меня было малейшее стремление к святости, — продолжал он, хихикнув. — Боюсь, я для этого слишком стар. Я себя готовлю для долгого мирного сна на этой земле. Вот что способно доставить истинное удовлетворение, знаете ли. Медленно превращаться в компост, стать перегноем, откармливать червей и питать растения, пройти полный жизненный цикл превращения веществ. Единственная форма вечности, на которую возлагаю надежды. Назад к Плутону, божеству земного плодородия, и гранатовым рощам его.
— Вы, должно быть, очень счастливый человек.
— А почему бы нет? Всего помаленьку насмотрелся в своей жизни. И рай был, и ад. А теперь у меня Мелани, которой есть на что надеяться в отличие от старого грешника вроде меня. Я пожил достаточно, чтобы пребывать в мире с собой. С собой, не с миром, заметьте. — Все тот же сухой смешок. — Но с самим собой я вполне в мире. Мы, старики, мне кажется, готовы во мнениях переступить за цель — пусть даже это изрек старый… вроде Полония. Что ж, даже в таких господь бог сеет смиренные истины свои. — И затем, почти без всякого перехода, принялся говорить о Мелани. — Чистая случайность, что она вообще на свет белый появилась, — сказал он. — Похоже, я настолько спятил от Гитлера после этой войны — проведите-ка три года в одном из его лагерей! — что из духа противоречия влюбился в первую попавшуюся на глаза еврейскую девушку. Прелестную девушку, заметьте. Но похоже, это была невыполнимая задача — пытаться спасти весь мир, женившись на ней. Глупая ошибка. Не устремляйтесь спасать мир. Собственную душу разве, ну еще одну-другую — этого больше чем достаточно. Так я и остался с Мелани, когда жена меня бросила. Видите ли, африканеры оказались настолько выше ее понимания, что бедной женщине ничего другого не оставалось, как бежать без оглядки. И подумать только, я вправду упрекал ее, что оставила меня с годовалым ребенком. Люди склонны недооценивать неисповедимые пути, коими господь бог являет нам милость свою.
Так вот откуда этот ее взгляд Суламифи, волосы, черные как вороново крыло, и глаза.
— Она говорила, будто вы встретились в суде по делу о смерти этого Нгубене? — сказал он, точно, пройдя пешим строем все поле, вдруг решительно устремился на штурм. С той, однако, разницей, что никакого штурма не было.
Он понимающе хмыкнул, запустил грязную пятерню в нечесаные волосы.
— Гляньте-ка. Каждый седой волос на этой голове — от нее. А их вон сколько. У вас тоже дочь?
— Две.
— Гм. — Его пронизывающие подобревшие глаза изучали меня. — А по вам не скажешь. Хорошо сохранились.
— Что не сохранилось, на свет не выносим, — шутливо отвечал я.
— Ну и следующий ваш шаг? — бросил он, и настолько неожиданно, что я только тут и понял, что, не выведав все до конца, он от меня не отступится.
Я рассказал ему все. Обо всем, что случилось. О д-ре Герцоге. О записках, которые получила Эмили. О таинственном Джонсоне Сероки, доставившем ей эти листки. Адвокате, дружке Стенли. Это было такое облегчение — после домашних перебранок говорить по-человечески, свободно и все, что думаешь.
— Нелегкую вы себе дорожку выбрали, — заметил он.
— А выбирать было не из чего.
— Было, будь оно проклято. Всегда есть выбор. Не глупите. Скажите спасибо, что сделали правильный выбор. Хотя, надо признаться, не оригинальный. Камю. Всегда можно поступить хуже, чем о тебе думают. Единственное, что я хочу посоветовать, — смотрите в оба. Помню… — Он чиркнул спичкой и стал раскуривать потухшую трубку. — Помню, несколько лет назад отправился я в туристский поход в Тзитзикама, там леса, знаете. Вышли на взморье, в устье Стормз-ривер, и переправляемся по рахитичному висячему мостку. А денек выдался не дай бог, ветер с ног валит, непривычному человеку лучше носа не высовывать в такую погодку. Впереди меня шла чета средних лет, прекрасные респектабельные люди, по церковным праздникам ездят в туристский лагерь. Муж шел впереди, жена шаг в шаг за ним, на пятки наступала. Я это в буквальном смысле говорю. Страх смертельный смотреть. Руками закрылась, вот эдак, как шоры у лошади, чтобы не видеть, как ходит мосток под ногами, а внизу река бурлит. И так вот идет она и глазом не видит один из самых невероятных, ни в сказке сказать, ни пером описать, ландшафтов на всем белом свете, а единственно, извиняюсь, уткнулась в задницу собственному супругу. За этим ехала? Вот я и говорю: смотрите в оба. Ступили на мостки, ладно. Но ради господа бога нашего, не теряйте из виду перспективы, не надевайте шоры на глаза.
И тут, в непредсказуемом потоке его словесного извержения, когда мы пили вторую, а то и третью чашку бушменского его чая, появилась она. Я не слышал, как она вошла. Просто поднял глаза, а она тут. Маленькая, аккуратная, с чуть намеченной грудью девочки-подростка. Черные волосы схвачены сзади лентой. И чуть-чуть уловимая натянутость, так, намек, усталость, что ли, на лице, на лбу, вокруг глаз, у рта. Словно первый раз в жизни она столкнулась с человеком, который значил больше, чем она хотела думать. Хотя она не выдала этого взглядом. Нет.
— Здравствуй, папа. — Она поцеловала его и пыталась, безуспешно, пригладить ему волосы. — Здравствуйте, Бен. Давно ждете?
— Вдоволь наговорились, — сказал профессор Брувер. — Хочешь чаю, настоящего бушменского?
— Я уж приготовлю себе чего-нибудь более цивилизованного. — Она поставила кипятить воду для кофе и обернулась ко мне через плечо: — Я не думала, что вы станете ждать, простите.
— Откуда вам было знать, что я нагряну.
— Не так уж неожиданно. — Она вытерла поднос. — Похоже, трудная выдалась неделька, а?
Ужели действительно прошла только одна-единственная неделя с тех пор, как я встретил ее, с того самого вечера, как мы сидели в гостиной среди этих кошек и она еще свернулась клубочком, босая, в этом кресле-троне? Одна неделя?
— Откуда вы знаете, что трудная? — спросил я удивленно.
— Видела вчера Стенли. — Она поставила себе чашку и села с нами за стол. — Бен, почему вы не позвонили мне после этого обыска? Нелегко пришлось?
— Борьба за существование.
Мне хотелось, чтобы это прозвучало как можно более шутливо, но, похоже, ничего у меня не вышло. Я корчил из себя свободного и независимого человека.
— Рада за вас. Правда.
Она пригубила горячий кофе. И милая каемка пены от кофе осталась у нее на губах.
Старик еще какое-то время торчал с нами, участвуя даже в беседе, но теперь уже не на первой роли, точно нужда в нем отпала. А затем напялил на себя свой черный берет и без всяких церемоний удалился. Много позже — он, должно быть, обходил участок вокруг дома, потому что в доме его не было, — мы услышали, как в парадной гостиной играют на фортепьяно. Вообще-то по-ученически как-то. Не по возрасту. Но играли непринужденно, плавно. Бах, отметил я. Один из тех опусов, что продолжаются и продолжаются, точно неторопливая беседа старых людей, с замысловатыми вариациями, а все равно ясная и такая отчетливая, если целиком взять. Она и я сидели за кухонным столом.
— Стенли говорит, вы решили взяться за дело Гордона.
— Обязан, вот и взялся.
— Рада. Так и думала.
— Вы мне поможете?
Она улыбнулась.
— Разве я не говорила, что помогу? — Какое-то мгновение она недоверчиво оглядывала меня, будто желая убедиться, что я не шучу. — Я уже начала, собственно, там, где могу. По правде говоря, я к вашему приходу хотела кое-что заполучить. Но они ужасно скрытные. Каждый старается быть жутко осмотрительным, — Она движением головы откинула волосы. — Но похоже, я на что-то набрела. Поэтому и задержалась. Па думает, я в редакции была, а я в Соуэто.
— Но ведь это опасно, Мелани!
— Я свое дело знаю. И потом, уверена, они с первого взгляда признают мою «малютку». — Короткий, кривой смешок. — Хотя, признаться, денек выдался не дай бог.
Эта ее наигранная беспечность меня как ножом по сердцу резала.
— Что случилось?
— Ну, по дороге назад, между Дзабулини и Джабаву, проколола шину.
— Ну и?
— Стала ставить запаску, что же еще? Там еще мальчишки в футбол гоняли, я видела. А только, когда я разогнулась, смотрю, они машину окружили. Ну, смеются которые, а другие сжали кулаки и выкрикивают «свобода» и все такое. Должна сознаться, что был момент, когда у меня душа в пятки ушла.
Я уставился на нее, не в силах произнести ни слова.
А она беззаботно улыбнулась.
— Не беспокойтесь. Я просто последовала их примеру, сжала кулак, вот этак, и стала кричать: «Amandla!» И тогда точно израильтяне кинулись через Красное море, они тут же очистили мне дорогу, и я проехала, не запылилась.
— Чистая случайность, могло обернуться совсем иначе!
— А что я могла сделать? Знаете, я сижу за рулем и думаю: «Слава богу, что я женщина, не мужчина. Мужчину они бы убили. А меня — самое худшее…»
— Этого еще не хватало!
— Знаете, Бен, я отдаю себе отчет в том, что говорю, — сказала она тихо и медленно, глядя на меня своими огромными черными глазами. — Знаете, после той истории в Мапуту мне долго кошмары снились, не один месяц. — На какой-то миг она скрестила руки на груди, точно хотела защититься от давнего ужаса тревожившей ее памяти. — Но потом я поняла, что путь свободен, и заставила себя думать, как положено. Ладно, это может случиться с каждым. Не так уж и больно. Но вот мысль, что в тебя вламываются, в то, что принадлежит тебе одной, и никому больше… Ну ладно, даже это можно вынести. Но если вдуматься, разве только о теле идет речь. Или обо мне как личности? Неохота ставить себя на карту. Спросите любого заключенного, каково это. Я со многими из них говорила, мало кто через такое прошел. Иные только плечами пожимали, потому что сидели они, да, ну физически их заключали, но чтобы душу ломать… Даже пытки такой не придумано.
— Н-да, вот уж воистину вы дочь своего отца! — вынужден был я согласиться.
Она встала и пошла к кухонному шкафчику, на котором оставила ключи и сумочку, взяла сигареты, закурила. Вернувшись, сдвинула пустые чашки и села на краешек стола совсем рядом, едва не касаясь меня.
Скорее, чтобы оградиться, защитить себя от этой ее близости, вконец выбивавшей меня из колеи, чем еще зачем-то, я сказал:
— Помочь вам вымыть посуду?
— Не к спеху.
— А во мне, знаете, все сидит маменькина школа, — сказал я, сам понимая, что невпопад. — Она нам, бывало, покою не даст, пока все в доме не будет вымыто-вылизано да поставлено на место. И спать не ляжет, пока обходом не пройдет и самолично не удостоверится, что все хозяйство у нее в полном порядке. На всякий случай — вдруг она не проснется, а что-то осталось несделанным. Отец готов был на стену лезть.
— Уж не от привычки ли все по полочкам раскладывать и это усердие? — поддразнила она меня.
— Может быть. — И я отвечал ей в тон. — С той, однако, разницей, что не имею ни малейшего желания умереть во сне.
— Надеюсь. — Шутка, не больше, я же это прекрасно понимаю.
Напомнив о Гордоне, она сама дала мне повод задать вопрос:
— Зачем вы ездили в Соуэто, Мелани? У вас там дела?
Одной ей присущим движением она откинула за спину свои прекрасные волосы.
— Пустой номер, конечно. А мне подумалось, вдруг куда и выведет. В общем, есть один надзиратель, из черных, с Й. Форстер-сквер. Он мне одно время помогал, а у них он вне подозрений. Кое-что знает о Гордоне. Да только потребуется бездна терпения. Нервничает очень. Ждет, пока все уляжется.
— Почему вы думаете, что он что-то знает о Гордоне?
— Кое-что сообщил. Говорит, в день схватки в кабинете Штольца, если такая была, там на окнах определенно были решетки.
Я ровным счетом ничего не понял.
— Ну и что?
— А вы забыли? Они ведь утверждали, будто Гордон пытался выброситься в окно и что поэтому и была применена сила удержать его. Но если окно было забрано решеткой, он просто не мог предпринять такой попытки.
— Это мало что добавляет.
— Знаю. Но для начала неплохо. Помните, как адвокат де Виллирс смутил их своим вопросом об этих решетках? Они тогда нагородили еще целую историю, как, мол, временно им пришлось снимать их и так далее. Так что, не скажите, это показание — тоже клинышек. Ведь оно невольно ставит под сомнение всю версию.
— Вы полагаете, этот ваш черный надсмотрщик действительно готов помочь нам?
— Просто он многое знает. Почему не попробовать.
Меня внезапно охватило неподдельное волнение, почти мальчишеский азарт, и не отпускает по сию минуту, когда я пишу это. От сознания того, что мы не топчемся на месте. Кое-что рассказал Джулиус Нгакула. Новые письменные показания под присягой. Записки, сохраненные Эмили. Джонсон Сероки, с которым она свяжется. Плюс новые факты от этого надсмотрщика. Мало. Набирается по крупицам, очень медленно. Но мы не топчемся на месте. И в один прекрасный день все это мы увидим вкупе и весь мир тоже. Все о Гордоне и его сыне. И тогда поймем, что это стоило делать. Даже когда иные говорили, что нет смысла. Я так же уверен в этом и сейчас, и когда говорил с ней, несмотря даже на ее холодный и рассудочный голос, ее попытки предоставить все ходу вещей.
— Не торопитесь, Бен, — сказала она. — Поспешайте, но только медленно. Помните, в этой игре есть и противник.
— Что вы хотите сказать?
— Ну, просто они не собираются сидеть сложа руки и разрешать нам спокойно собирать информацию.
— А что они могут сделать?
— Бен, они могут все, что угодно. — У меня против воли защемило под ложечкой. — А она продолжала: — Запомните, с их точки зрения, это худшая из мыслимых форм измены, ведь вы — африканер, вы один из них.
— А как насчет вас?
— У меня мать иноподданная, не забывайте этого. Я работаю на английскую газету. Они просто не ждут от меня и тени той лояльности, какой потребуют от вас.
И тут умолкло фортепьяно, словно на полуноте. И тишина в доме показалась почти зловещей, так что кровь стыла в жилах.
Уныло, нехотя бросил:
— Вы пытаетесь отгородиться от меня? Вместе со всеми?
— Нет, Бен. Просто я хочу, чтобы у вас не было никаких иллюзий на этот счет. Вообще никаких иллюзий.
— А вы-то сами уверены во всем, что будет, во всех последствиях каждого своего поступка?
— Нет, конечно. — И этот ее милый смех. — Тут уж точь-в-точь как на той речушке в Заире, где мне пришлось окунуться. Дай бог веры добраться до другого берега, и воздастся по вере твоей. Не до убеждений. Вот уж где чистый опыт спасает. — И как откровение: — Я помогу вам, Бен.
Эти ее слова вернули мне уверенность. Не мальчишеский раж. Но нечто более надежное и прочное. Именно уверенность. По вере твоей, как она сказала.
Потом мы шли длинным коридором в гостиную, ту самую лавку старых вещей, где тогда провели наш первый вечер. Отца ее не было, только мы одни.
— Может быть, ушел на прогулку, — сказала она и добавила с упреком в голосе: — Он все принимает всерьез. Просто не желает человек понять, что старится, что мудрей надо быть.
— Ну, я должен идти, пора.
— Почему?
— У вас и без меня полно дел.
— Сейчас нет. Не раньше восьми. Смотрите, сколько еще времени.
Почему это меня так задело? Ведь все так естественно. Женщина в ее возрасте, с ее данными. Было бы глупо, если б субботним вечером она сидела дома. Конечно же, она не должна и не может проводить время в этом старом доме. Сомневаюсь, чтобы тут было что-то от ревности: чего ради мне ревновать? У меня не было никаких прав на нее. Скорее, болезненное восприятие того очевидного факта, что жизнь ее существует помимо меня и для меня недоступна.
Как бы непринужденно ни доверялась она мне, с какой готовностью ни отвечала бы на мои вопросы, все это не более чем узкая тропинка, по которой я, странник, ощупью пробираюсь сквозь чуждое мне существование. Так стоит ли расстраиваться по этому поводу?
У меня своя жизнь, в которой ей не было места, свое существование, не зависящее от нее. Жена, дом, дети, работа, обязанности.
Да, мне хотелось остаться. Как и в прошлый раз, мне хотелось сидеть с ней в сумерках, пока не опустится ночь, пока не спадут стесняющие нас светом дня оковы, пока само ее присутствие не нарушит равновесие и не сместит порядок вещей; все померкнет в сумерках дня и кошачьем мурлыканье этого старого дома. Но мне надо идти.
Должен восторжествовать разум. Единственное, что нас связывает, — обоюдное стремление к цели, которой мы себя посвятили: вынести на свет божий истину, помочь торжеству справедливости. Вот все, что нас связывает. Ни о чем другом не следует и думать. И помимо того, чем мы единственно обременены во имя Гордона, ни у кого, у нее ли, у меня, никаких иных притязаний и быть не может друг к другу. И какая бы частица моей жизни ни оказалась вне пределов этой очерченной линии, все исключительно мое; что же ее, то ее, и только. Откуда же само желание знать помимо этого?
— Я рада, Бен, что вы зашли.
— Дай бог, не последний раз.
— Конечно.
Я замешкался, потому что подумал, а вдруг она потянется ко мне и, может быть, поцелует, ну хоть коснется поцелуем, как давеча своего отца.
Но похоже, она не решилась.
До свидания.
До свидания, Мелани. Мелодия ее имени, сердца моего смятение.
3
Рутина, рутина изо дня в день, это становилось все более нестерпимым. Заверения, подтверждения, само утешение. В одно и то же время. Равно как и гарантии в их достаточном обеспечении. И так день изо дня, аккуратно, упреждающе. В половине седьмого подъем, бег разминочным темпом, обычно с Йоханном. Приготовить завтрак себе и Сюзан и подать ей в постель. В школу. К двум часам дня домой. Второй завтрак, короткий сон днем, затем снова в школу на спортивные часы либо факультативные занятия. В конце дня пару часов у верстака в гараже, прогулка в одиночестве, ужин и в завершение — тетради. В школе по расписанию повторение пройденного. Восемь, девять, десять; восемь, девять, десять. История, география. Складные и четкие фактические данные; примеры — неопровержимые одинаково для черных и для белых; ничего неуместного, все в рамках предписанного молочного коктейля — бело-розовое. А он бунтовал всю жизнь против этой системы, всю жизнь стоял за то, чтобы его ученики, особенно будущие студенты, читали больше, нежели им предписано. Учил их задавать вопросы и задаваться вопросами, иметь собственное суждение. Теперь же стало куда легче просто следовать предписаниям, поскольку это освобождало мозг для других вещей. Он больше не ощущал потребности углубляться в работу. Она шла сама собой, что удивительно, сопутствуемая всякий раз лишь обратным движением, его противодействием. Единственное, что требовалось, — это просто быть, присутствовать, приводить в исполнение.
Между уроками были перемены. Разбор прочитанного, беседы с коллегами в учительской. Истовая поддержка со стороны молодого словесника Вивирса. Бен никогда не заходил дальше утверждения, что он все еще «да, трудится над этим», и предпочитал пожимать плечами на прямые вопросы, испытывая от этого проявления интереса подъем и чувство неловкости одновременно. Он находил в Вивирсе, увы, всего лишь энтузиазм жизнерадостного щенка, истово работающего хвостом при каждом собственном открытии чего-то нового у собачьей будки.
Другие же из младших его коллег были прямой ему противоположностью и после этой фотографии в газете просто сторонились его. Большей же частью в учительской удовлетворялись одной-двумя репликами, ехидным замечанием, ненароком подпущенной шпилькой. Лишь один — Карелсе, преподаватель физики — счел это настолько изрядной шуткой, что без устали возвращался к ней день ото дня и всякий раз до слез хохотал над собственным остроумием. «Нет, вам непременно надо баллотироваться в жюри конкурса «Мисс Южная Африка». «Послушайте, старина Бен, ну скажите, вас правда еще не посетила полиция нравов?» Конца этому не было. Но все это без злобы или дурного умысла; и когда он хохотал до упаду над собственной шуткой, делал это искренне и от души. Вот только надоел как муха.
А его ничто не трогало: ни насмешки, ни возмущение, ни неподдельный интерес к его особе. Школа и все, что там происходило, перестало влиять на его жизнь. Центр тяжести в ней переместился. Перестало волновать все, исключая разве отношения с учениками — теми, кто приходил к нему за советом и кто столько лет признавал его своим духовным отцом. Этих он отринуть не мог. Малышей запугали старшие. А эти боролись со своими заботами. У них было полным-полно проблем: как поступить, чтобы девочка оставалась верной тебе? Не смогли бы вы поговорить с отцом, он не отпускает меня в поход на субботу и воскресенье? А что вы думаете о греховных отношениях с девушкой? Это правда грех? Что нужно делать, чтобы стать архитектором?
Но их становилось все меньше последнее время, тех, кто шел к нему, или это ему только казалось? Однажды, войдя в класс после перемены, он увидел знакомую фотографию, пришпиленную к классной доске. Но когда, сняв ее, между прочим, поинтересовался, не желает ли кто-нибудь получить ее на память, раздался смех — дружный и всесокрушающий. Если и было что, так разве так, намеком. Ничего серьезного. Дети как дети.
Но кончались школьные часы и начиналась другая жизнь, в которой его дом был не более чем случайным стечением обстоятельств, а Сюзан — не более как помехой в их течении, только сбивавшей с толку неизбежный ход вещей и явлений.
Однажды утром чернокожий юноша поднялся прямо в канцелярию. Бен не смог скрыть волнения, когда секретарь сообщил ему на перемене, что его спрашивают. Неужели от Стенли? Неужели еще что-нибудь сорвалось? Но оказалось, что этот юноша, Генри Мапхуна, явился совсем по другому поводу. Нечто сугубо личное. Он слышал, что господин Дютуа не оставит человека в беде. А с его сестрой как раз беда.
Вот-вот должен был прозвенеть звонок, перемена кончалась, и Бен пригласил его зайти попозже домой. Когда в два часа он приехал из школы, Генри уже ждал.
Сюзан:
— Один из твоих обожателей хочет тебя видеть.
Приятный юноша, худенький, интеллигентный, учтивый, четкая речь. Не слишком хорошо одет для такой холодной погоды: рубаха, шорты, ноги босые.
— Так что с сестрой?
Три года эта девушка, Пейшнс, работала прислугой у богатой английской четы в Лоуэр-Хоктоне. В общем, они были добры и внимательны, но скоро она обнаружила, что, как только леди за порог, хозяин ищет предлога побыть с ней. Ничего серьезного, улыбки, ну, может, намеки, больше ничего. Но два месяца назад его жене пришлось лечь в больницу. Когда Пейшнс прибиралась в спальне, появился хозяин и начал с ней болтать о том о сем; когда она отказалась от его нежностей, он запер дверь на ключ, повалил ее и взял силой. После этого он почувствовал угрызения совести и предложил ей двадцать рандов, чтобы молчала. Она была в таком состоянии, что единственное, что пришло в голову, — бежать домой. Только на следующий день она согласилась пойти с Генри в полицейский участок, где выложила эти двадцать рандов, и они предъявили обвинение хозяину. Оттуда она пошла к врачу.
Хозяина вызвали в суд. А за две недели до того, как было назначено слушание дела, этот человек приезжал к ним домой, в Александру, и предлагал солидную сумму денег, если они возьмут заявление обратно. Но Пейшнс не стала слушать ни просьб, ни уговоров. Она ведь уже была помолвлена, но после того, что случилось, ее жених порвал с ней; так пусть все будет по справедливости, потому что больше у нее надежды в мире нет.
И оставались-то, казалось, одни формальности. Но в суде хозяин стал говорить совсем другое. О том, сколько ему и его жене пришлось, мол, вынести с Пейшнс с самого начала; о какой-то вечной толпе всяких молодых людей, шатавшихся к ней в ее рабочее время. Однажды, сказал он, они с супругой даже застали ее с любовником в их собственной спальне. А когда жену отправили в больницу, в доме и вовсе житья не стало. Пейшнс преследовала его по пятам и буквально домогалась его, и кончилось тем, что он вынужден был рассчитать ее, выплатив за две недели сумму в двадцать рандов, которые предъявлены суду. Его жена под присягой подтвердила показания относительно поведения Пейшнс вообще. Других свидетелей не было. Хозяин был признан невиновным, а в отношении Пейшнс суд вынес строгое предупреждение.
И вот они слышали, что Бен помогает оскорбленным, и поэтому Генри пришел просить помощи и восстановления справедливости.
Бен не знал, что и думать. Не только по существу. Сам факт, что юноша приходит искать помощи именно у него, обескураживал. У него и без того полно забот с Гордоном и Джонатаном. А тут еще новое дело.
В голову пришло только одно. Он позвонил Дэну Левинсону и просил заняться этим делом. Да, конечно, он готов оплатить расходы.
Генри ушел, и он попытался дозвониться в редакцию к Мелани, но телефон был занят. Он решил ехать, благо предлог был вполне основательный. В шумной комнатушке редакции, среди вороха бумаг, телексов, снующих людей, в шуме телефонных звонков, это была совсем другая Мелани. Холодно сдержанная, четкая и решительная, деловая и не бросающая слова лишнего во всей этой неразберихе и гуле голосов. Лишь на какой-то момент, за кофеваркой, установленной у них в коридоре, мелькнула знакомая ему теплая улыбка, тут только он узнал прежнюю Мелани.
— Ну что ж, вы сделали лучшее, что можно придумать, передав это Левинсону, — успокоила она его, — Только вот, похоже, самое время нам договориться насчет денег. Это не дело — платить за все из собственного кармана.
— Одним делом меньше, одним больше, какая разница.
Откинула назад волосы столь милым ему движением головы.
— Почему вы думаете, что Генри Мапхуна последний? Они теперь вас все знают, Бен. Валом повалят.
— Откуда они знают?
Улыбнулась и сказала:
— Я поговорю с издателем насчет денег. Вы не беспокойтесь. Это останется в тайне.
24 мая. Стенли. Уже к вечеру. Едва удосужился постучать. Поднимаю голову от бумаг: стоит, загородив собой дверь.
— Ну как дела, приятель?
— Стенли? Что-нибудь новое?
— Ну, как сказать. На той неделе узнаете. — Я не мог сдержать усмешки. — Я тут отбываю в поездку. Ботсвана. Есть дельце. Ну вот заскочил предупредить, чтобы вы не тревожились.
— Что за дельце, Стенли?
Этот его громовой хохот.
— Все мое при мне. У вас своих проблем хватает. Пока.
— Да куда же вы? Присели хотя бы.
— Ни минуты. Сказано, просто зашел засвидетельствовать почтение.
Он не захотел, чтобы я провожал его. И исчез так же неожиданно, как появился. Оставалось только спросить себя, да было ли все это, не наваждение ли?
Задачку задал. Что там эта моя поездка к Мелани, тут, с этим Стенли, и вовсе неясно, что, зачем. Вот так же, как он вошел в эту комнату вечером и тут же исчез, — вот так он и в моей жизни появился, а наступит день, кто знает, точно так же вдруг исчезнет из нее. Откуда он, действительно, мог взяться? Что значит «отбывает»? Я знаю о нем не больше, чем он дозволяет мне знать. Ни больше ни меньше. А о таинственном мире, его окружающем, и вовсе ни-че-го.
По вере, сказала она. Прыжок во тьму. Я должен принимать его на его условиях. Почему? А что, есть выбор?
Заметка в вечерней газете была в несколько строчек. Бен едва не пропустил ее.
«Д-р Сулиман Хассим, задержанный три месяца назад на основании Закона об общественной безопасности, был освобожден специальной службой сегодня утром, но ему было тут же вручено постановление об ограничении свободы перемещения за пределы йоханнесбургского судебного округа.
Д-р Хассим представлял семью г-на Нгубене на вскрытии тела г-на Гордона Нгубене, скончавшегося во время пребывания в заключении в феврале с. г., однако, будучи сам взят под стражу, не имел возможности дать показания во время следствия».
На следующий день Бен едва дождался конца занятий. Они уговорились с Дэном Левинсоном обсудить дело Генри Мапхуны. Адвокат дал ему адрес д-ра Хассима. Из конторы ему еще надо было заехать домой, он и так опоздал к ленчу, затем в школу, побыть на тренировке команды регбистов, за ним была записана сборная мальчиков до пятнадцати лет. Наспех поел и уже собрался ехать, но зазвонил телефон. Линда. Взяла себе манеру звонить когда угодно, «просто поболтать».
— Как наш дед-мороз сегодня?
— Как всегда, дел по горло.
— Что такое на этот раз? Неужели та толстенная книга о «великом треке», что я видела у тебя на столе?
— Нет, не прикасался еще. Других забот хватает.
— Например?
— О господи. Ну надо уже ехать на тренировку наших регбистов. Вот, например. Потом встретиться кое с кем. — Только с Линдой он мог говорить, не таясь. — Помнишь того врача, что должен был давать показания по делу Гордона? Ну, того, что задержали? Так вот, его выпустили, и я хочу разведать, не сообщит ли он чего-нибудь нового.
— Будь осторожен, папа.
— Еще бы. А знаешь, мы потихоньку продвигаемся. Со дня на день припрем этих убийц к стенке.
— Удалось что-нибудь сделать с домиком для Эмили? Ты прошлый раз говорил, что из этого ей придется съезжать он ей не по средствам.
— Да-да. Вот и это хочу обсудить с дедушкой, как только приедет. Он на следующей неделе приезжает.
Еще поболтали, и наконец она попрощалась. Но теперь, после того как сам же и наговорил ей о своих заботах, не было решительно никакого настроения ехать на эту тренировку; столько важных дел, куда как важнее какого-то там регби. Строгий порядок дня, которого он неизменно и скрупулезно придерживался, начинал тяготить его, раздражал. И, повинуясь минутному настроению, едва не сгорая от нетерпения, он помчался на дом к Вивирсу, уговорил подменить его. Плохо, если Клуте будет раздосадован, но черт с ним. Не тратя больше ни минуты, он помчался прямо по адресу, который ему дал Левинсон; дорога вела на юг. За городом указатель направлял в пригород Ленасиа, там жили выходцы из Азии.
Подумать только, что вот уже два с лишним десятка лет живет человек в Йоханнесбурге и только в последний месяц узнал, что есть эти пригороды. Да и то когда приперло. И то сказать, а как еще там можно оказаться? Но вот возникла нужда, и едет за милую душу.
Дверь открыла девочка в белом платье с оборками. Жалкие косички, тоненькие, с красными бантами, большие черные глаза, лицо строгое.
— Да, — ответила она, — папа дома, не желаете ли войти? — И тут же унеслась стремглав, и тотчас вернулась с отцом, и осталась парить, воздушная, на ступеньках, напряженно следя за ними обоими.
Д-р Хассим был высок, тощ. Бежевого цвета брюки и свитер, водолазка, как теперь говорят; руки — вот что самое выразительное. Лицо бледное, почти белое, тонкого восточного рисунка, волосы черные, прямые, падают на лоб.
— Надеюсь, я не помешал вам, доктор, — начал Бен, испытывая неловкость оттого, что пришлось самому себя представлять. — Просто я прочитал в газете, что вас освободили.
Тот вздернул бровь и больше никак не отреагировал.
— Я друг Гордона Нгубене.
Может, чуть стремительней, чем требовалось, но все равно в высшей степени вежливо, тот поднял руки, как бы защищаясь.
— Расследование закончено, господин Дютуа.
— Официально, да. Но я не совсем уверен, что все, чему надлежало быть раскрытым, раскрыто.
Непреклонный, доктор стоял, явно намеренно не предложив ему сесть.
— Знаю, это может не нравиться вам, доктор, может, это вам неприятно, но я должен знать, что случилось с Гордоном.
— Извините, я, право, ничем не могу вам помочь.
— Вы присутствовали при вскрытии.
Тот пожал плечами.
— Эмили говорит, будто вы вовсе не уверены, что он повесился на этой веревке из байкового одеяла, с которой его сняли.
— Послушайте, господин Дютуа. — Он поспешно прошел к окну, отодвинул занавеску, выглянул, обернулся: у него был вконец затравленный взгляд, — Я только вчера вернулся домой. Три месяца меня держали под замком. Я лишен свободы передвижения. — Он беспомощно обернулся к девочке, стоявшей в дверях на одной ножке, и сказал: — Ступай поиграй, Фатима.
Но девочка кинулась к отцу и застыла, крепко обхватив его ногу и скорчив Бену гримасу.
— Неужто вы не понимаете, доктор, что, если каждый будет вот так молчать, мы никогда не установим, что случилось?
— Я в самом деле прошу великодушно меня извинить. — Кажется, тот совладал с собой и держался теперь вполне твердо. — Но вам, право же, лучше уйти. Забудьте, пожалуйста, навсегда этот адрес.
— Я делаю отсюда вывод, что вы нуждаетесь в защите.
Тот на это улыбнулся, холодно, невозмутимо.
— Как вы можете защитить меня и чем, позвольте спросить? — Он рассеянно гладил лицо девочки, прижавшейся к его колену. — И как я могу быть уверен, что вы вообще не оттуда?
Бен в смятении оглянулся.
— Отчего вам не спросить Эмили? — пробормотал он.
Тогда этот молодой еще человек сделал движение к двери, а девочка как вцепилась ему в ногу обеими руками, так и не отпускала.
— Мне нечего вам сказать, господин Дютуа.
Подавленный, Бен повернулся, чтобы идти. В дверях он остановился.
— Скажите мне только одно, доктор, — выдавил он. — Почему вы подписали акт о вскрытии, составленный государственным патологоанатомом, коль скоро у вас было свое собственное заключение?
Он явно застал его врасплох. У того даже горло перехватило, когда он, выдохнув, с трудом отвечал:
— С чего вы взяли, будто я подписывал заключение доктора Янсена? Никогда этого не делал.
— Я так и думал. А только на заключении, представленном суду, значатся обе ваши подписи.
— Невероятно. Но позвольте…
Бен оглядел его.
Доктор Хассим подхватил девочку, повисшую у него на ноге, сделал шаг навстречу Бену.
— Вы что, на пушку меня берете? Это шантаж?
— Нет, истинная правда. — И неожиданно с чувством вдруг прибавил: — Доктор, я должен знать, что случилось с Гордоном. Понимаете? И я верю, вы поможете мне.
— Садитесь, — бросил тот. И тут же, обняв ребенка, нежным шлепком послал его прочь. И еще некоторое время они сидели и молчали, и никто не решался нарушить тишину. Часы на стене, неслышные до этого, невозмутимо отсчитывали секунды, а они сидели и молчали.
— Что вы написали в своем заключении? — спросил Бен.
— По сути, у нас практически не было разночтений. Это что касается фактов, — сказал врач. — В конце концов, мы обследовали одно и то же тело в одно и то же время. Ну а что касается интерпретации, выводов, так сказать…
— Например?
— Ну, мне казалось, что, если Гордон Нгубене действительно повесился, кровоподтеки на горле, так вам будет понятней, должны были бы концентрироваться спереди. — Он показал тонкими длинными пальцами на гортань, где именно. — В данном же случае кровоподтеки наиболее очевидны были по бокам, вот здесь. — Он показал где. Поднялся, чтобы взять из коробки на каминной доске сигарету. Поколебавшись, бросил взгляд в окно и только после этого вернулся к своему креслу и протянул пачку Бену.
— Нет, благодарю вас. Я курю трубку. Вы позволите?
— Пожалуйста.
Какое-то время казалось, что больше он ничего не скажет. Может, даже сожалеет об излишней откровенности. Но тут он продолжал:
— Но была и еще одна деталь, и это поставило меня в тупик. Может быть, это и неважно.
— Что? — едва не выкрикнул Бен.
Врач, сидевший на самом краешке кресла, подался к Бену, сказал шепотом:
— Видите ли, по чистой случайности я прибыл в морг на аутопсию раньше времени. Вхожу, ни живой души, если не считать мальчика, он там прислуживает. Ну, я сказал зачем я здесь, и он меня пропустил. Тело лежало на столе. Серые брюки, красная кофта джерси.
Бен удивленно развел руками, но тот жестом же попросил помолчать.
— Да, — сказал он. — Кофта на нем была красная, нет, красная с белой ниткой. Ну, знаете, полотенца махровые так делают. Запомнилось.
— Ну и? — нетерпеливо, весь загоревшись, поторопил его Бен.
— У меня не было времени досконально обследовать что-либо. Честно говоря, я вообще едва успел взглянуть на тело, как меня позвал этот полицейский офицер. Сказал, что я не имею права ни при каких обстоятельствах находиться в морге до приезда доктора Янсена. Пригласил в кабинет, мы еще чай там пили. Через полчаса приблизительно доставили доктора Янсена, и мы вдвоем уже снова пошли в морг. Ну тогда тело уже было обнажено. Я еще поинтересовался было, как это, почему без нас, ведь экспертиза, но никто ничего не знал. Наконец прямо спросил у служителя — я его в коридоре нашел, как это у них происходит. Он сказал, что получил инструкции «подготовить труп», а насчет одежды понятия не имеет.
— Вы это указали в своем заключении?
— А как же. Мне это показалось в высшей степени странным. — Он снова явно стал нервничать, поднялся. — Это все, что я могу вам сообщить, господин Дютуа. Больше я абсолютно ничего не знаю.
На этот раз Бен смиренно позволил ему проводить себя до входной двери.
— Не исключено, что я побеспокою вас еще, — сказал он тем не менее, — если мне потребуются дополнительные данные.
Доктор не сказал ни да, ни нет, только улыбнулся ему.
На следующий день вечерняя газета скупо сообщала, что д-р Хассим с семьей препровожден службой безопасности на жительство в Северный Трансвааль. Министр внес поправку в постановление суда, потребовав гарантий, чтобы в течение пяти лет д-ру Хассиму не было разрешено покидать пределы округа Петерсбург. Никаких причин приведено не было.
27 мая. Я не мог скрыть потрясения. Открыть калитку и увидеть его собственной персоной. Штольц. В компании еще с одним офицером, человеком средних лет. Фамилию не разобрал. Подчеркнуто дружелюбен. Впрочем, его дружеская манера только обостряла мою неприязнь.
«Господин Дютуа, мы приехали вернуть ваши материалы. Дневники и письма, все, что тогда, две недели назад, было изъято. Не откажите в любезности расписаться в получении».
Должно быть, это меня и расслабило, потому что, когда он попросил разрешения войти, я пустил. Сюзан, слава богу, на каком-то собрании. Йоханн у себя, в своей комнате, но музыка была включена на полную громкость, так что он не мог ничего слышать.
Едва присев у меня в кабинете, тот сказал, шутливо этак, что у него в горле пересохло. Так что я вынужден был предложить им кофе. Вернувшись из кухни с подносом, я заметил невольно, что томик «Великого трека» лежит не там, где лежал, и тогда до меня дошло. Ну конечно же! Они успели обшарить комнату.
Странно, но тут я вконец успокоился, говоря себе: все правильно, вот он я, вот вы. Каждому свое. Ищите себе на здоровье, можете хоть весь дом обшарить. Насчет двойного дна в ящике с инструментами вы не знаете. Ни одна живая душа не знает. Нет уж, больше мы вам ничего оставлять напоказ не будем.
Утомительный разговор. Как мне работается в школе, как успехи Йоханна — он ведь регбист? — ну и так далее. Принялся рассказывать о своем сыне. Младше Йоханна. Ему двенадцать или что-то около этого. Может сын гордиться таким отцом? (А мой гордится мной?)
А затем: «Надеюсь, вы не сердитесь на нас за прошлое, господин Дютуа?»
Что я мог сказать?
Утром обнаружили в Соуэто еще один дом, битком набит боеприпасами и взрывчаткой, сказал он. С лихвой хватило бы, чтобы пустить на воздух целый квартал где-нибудь в центре города. «Люди просто не хотят отдавать себе отчет, что мы в самом разгаре настоящей войны. Ждут армий на марше, самолетов над головами, танков и прочих атрибутов. А не понимают, насколько эти коммунисты умнее. Поверьте мне, господин Дютуа, стоит нам расслабиться на неделю, и страна провалится в тартарары».
«Все это так, капитан, вам лучше знать. Разве я спорю? Только Гордон тут при чем, какое он-то имел отношение ко всему этому? Ну, если б в этой мясорубке не перемололо таких, как он, вы ведь все равно вели бы эту вашу войну? Так это что, для начала?»
Удовольствия ему это явно не доставило, его темные глаза говорили об этом. Я подумал, что мне все-таки стоило бы вести себя сдержанней. Какой-то дух противоречия одолевал меня все эти дни. Хотя сколько лет я душил в себе все чувства!
Они собрались уходить, и тут он сказал, как бы между прочим бросил, с ленцой, в своей манере: «Знаете, коль скоро у вас такое уж желание помогать людям, вроде этого Генри Мапхуны, наше дело сторона. Энтузиазм, как говорится, излишний, но дело ваше». Глядел на меня некоторое время, молчал, а потом добавил: «Но честно говоря, замечания, вроде того, что вы себе тут на днях позволили, ну насчет убийц Гордона Нгубене, которых вы, мол, к стенке готовы припереть, это уж нам не по душе. С огнем играете, господин Дютуа».
И тут же, как ни в чем не бывало, протянул мне руку. Тонкий глянцевитый шрам на щеке. Кто это его так? (И что с тем сталось после этого?)
Они ушли, а я как был, так и остался стоять, ноги точно парализованные. Как он про Генри-то мог узнать? Выходит, всю цепочку размотали? Кто-то проболтался? Из конторы Левинсона? Придется быть настороже. Но эта моя фраза насчет убийц Гордона, ведь здесь-то я с Линдой разговаривал, это я ей сказал, никому больше.
Приводим к общему знаменателю. Телефон.
Слава богу, что я в тот день не дозвонился до Мелани. Так что хоть до нее они не докопаются.
4
30 мая. Извечное «налаживание отношений» с родителями Сюзан, без особой сердечности с обеих сторон. У них до сих пор скулы сводит: как это отдали дочь человеку «ниже» ее по общественному положению?! Это от стольких-то ферм, которыми еще ее бабушка с дедушкой владели в Восточном Трансваале. Это при папеньке-то, одном из самых видных адвокатов в Лиденбурге. Лояльный сторонник националистической партии. Стоял в оппозиции к правительству Смэтса в период войны. Какое-то время даже ушел в подполье. На выборах 1948 года потерпел поражение, но в пятьдесят третьем все-таки стал членом парламента, чтобы уж на остаток жизни обеспечить более менее безоблачное существование. Долгое время шантажировал, грозил уйти в отставку (в семьдесят пятом и до следующего ноября), как я подозреваю, с расчетом набить себе цену, что его станут упрашивать остаться. И в надежде заполучить в награду пост главы парламентской фракции или что-нибудь в этом роде. Единственное, что его мучает в жизни, — это червь зависти, отсутствие «признания» благодарных соотечественников, и это после того, как человек «все отдал своему богу и отечеству». В поговорку вошло: человек с большим будущим в прошлом.
Теща мне более симпатична. Для своих лет прекрасно сохранилась. Если б только хоть чуточку своего «я». Но она всецело под влиянием дражайшего супруга, курит ему фимиам и не понимает, что он с самого начала исковеркал ей душу. Тенью следует она за ним по форумам этой его партии националистов-африканеров, по парламентским сессиям, на торжества по поводу открытия домов для престарелых, слепых, увечных, умственно отсталых, а также тоннелей и буровых скважин. В своей неизменной шляпке. Матери и королеве подобна.
Надо признаться — и это уж никто не оспорит, — он умеет себя подать. Возраст придал ему лишь достоинства и осанки. Как и золотая цепочка на обозначившемся животе. Седые усы и аккуратная эспаньолка. Благородная проседь в волосах. Черная пара, даже если он инспектирует свою самую захудалую ферму. Несколько подозрительный румянец на щеках, выдающий, может быть, чуть чрезмерную склонность к шотландскому виски. Bonhomie[29], за которым сокрыта железная воля. Кремень человек. Безжалостное до жестокости собственное представление о добре и зле. И уверенность в собственной правоте. Понятно, откуда в Сюзан эти черты. Едва ли не садистская праведность. От сознания собственной добродетели, с которой он определял телесные наказания своим собственным дочерям, даже когда тем минуло восемнадцать, чуть не девятнадцать. И это за любую провинность, например, на минуту позже десяти явились домой. Против правил. Непреклонный порядок в доме, регламентирующий все и вся, режим, расписание, вплоть до того, что происходит в субботу вечером в спальне родителей. Достаточно было, чтобы навсегда убить в ней все живое. Подобно молодому саженцу, схваченному неожиданными заморозками. Ну нет уж, такое деревце не плодоносит, а если и да, то что за плоды.
Они здесь с субботнего утра. Остались и на сегодня. Торжественное введение в строй нового промышленного комплекса в Вандербил-парке.
Вчера после обеда дамы покинули нас, очень естественно оставив вдвоем с тестем в неловком молчании в нашей гостиной. Он налил себе виски. Я сидел, потягивая трубку.
— Кое-что хотелось бы обсудить с тобой, Бен. — Он сделал при этом добрый глоток. — Поначалу я думал, лучше оставить все это, как есть, да вот Сюзан, похоже, считает, что лучше уж откровенно поговорить. Так она считает.
— О чем это? — спросил я, сразу заподозрив, что без Сюзан здесь, уж конечно, не обошлось, а у нее один пунктик.
— Ну, сам понимаешь, все эта твоя фотография в газете.
Я молча жду, что дальше.
— Ну, что тебе на это сказать? — Он еще прихлебнул из бокала. — Лично я считаю, что каждый, разумеется, имеет право на собственное мнение. Но, видишь ли, такого рода вещи могут поставить в затруднение… ну выразимся так, людей моего положения.
— Тем более что с положением у вас горе одно! — подбросил я.
— А не надо шутить, Бен. Прискорбен да будет тот день, когда семье придется выбирать между главой ея и долгом перед отчеством своим. Так вот.
— Вы что ж, упрекаете меня за попытку помочь этим людям?
— Ни боже мой. Ни в коем случае. Я разделяю это участие в их судьбе. Всю свою жизнь я поступал точно так же, жертвуя собой ради ближнего, будь он черный или белый. Однако же, Бен, на моей памяти такого не было, чтобы кто-то из нашей семьи появлялся на публике, извини меня, с женщиной из этих кафров.
Он все прихлебывал из своего бокала. Предполагая по опыту, что за этим последует — а последовать могла лишь законченная от и до, да еще подогретая алкоголем речь адвоката, — я, как мог, старался предотвратить этот поток красноречия.
— Рад, что вы упомянули об этом, отец. Сам хотел заговорить, просто не знал, с чего начать, язык не поворачивается.
— Вот-вот, и Сюзан мне рассказывает.
— Ну первое, это что касается жилья для Эмили Нгубене. Она осталась не только без мужа, но и без дома.
Похоже, что у него даже на душе отлегло, что все так просто.
— Бен, — он начал с экспансивным жестом, но задержал руку, стараясь не расплескать виски, — обещаю тебе, все будет устроено. — Вынимается черная записная книжечка. — Попрошу только необходимые данные. И как только я возвращаюсь на следующей неделе в Кейп…
Коротко и ясно. Я решил поднажать, воспользоваться его великодушием.
— Ну и затем, дело самого Гордона Нгубене.
Здесь совсем другая реакция. Холодно:
— А что такое? Я полагал, дело закрыто?
— Если бы так, отец. Но следствие не выяснило и половины того, что произошло.
— В самом деле? — он заерзал, явно встревоженный.
Я в общих чертах ввел его в курс, не только обратив внимание на вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства, но и приведя некоторые факты, до которых мне удалось докопаться. Пусть даже сами по себе они и незначительны.
— Ничего, что можно было бы предъявить в суд закона, — сказал он едва ли не самодовольно. Вынул свои карманные часы, посмотрел время, как бы рассчитывая, сколько еще может он уделить мне до своего послеобеденного сна.
— Прекрасно понимаю, — отвечал я. — Поэтому мне и хотелось обсудить это с вами. У нас нет окончательного, неопровержимого доказательства. Но достаточно данных, указывающих, что нечто серьезное тщательно скрывается.
— Ты спешишь с выводами, Бен.
— Я отдаю отчет в своих словах! — Резко, сам понимаю. Но это у меня невольно вырвалось. Он оглядел меня, явно шокированный, и отхлебнул виски.
— Прекрасно, я слушаю, — произнес он, вздыхая. — Может, я и смогу использовать свое влияние. Но прежде тебе придется убедить меня.
— Так вот, если им действительно нечего скрывать, — отвечал я, — чего ради служба безопасности из кожи вон лезет, чтобы запугать меня?
Похоже, с него весь хмель разом сошел, всю его самодовольную спесь как рукой сняло при одном упоминании о службе безопасности. Он спросил, при чем здесь это, и я рассказал про обыск, подслушивание телефонных разговоров и про то, как меня Штольц прямо предупредил.
— Бен, — сказал он тут, переходя на подчеркнуто официальный тон, — прошу извинить, но с такого рода вещами я предпочел бы не иметь ничего общего. — Он поднялся и пошел к дверям.
— А, значит, они и вас насмерть запугали?
— Не валяй дурака! Кто это меня может запугать? Кто бы там ни был. — Он сверкнул на меня глазами. — Я тебе только одно могу сказать: если уж здесь замешана служба безопасности, у них должно быть для этого предостаточно оснований. А в таком случае я предпочитаю держаться подальше.
Я встал в дверях, не давая ему пройти.
— То есть, вы предпочитаете сидеть и спокойно созерцать, как совершается несправедливость, и попустительствовать этому, так надо понимать?
— Несправедливость? — Он побагровел. — Где несправедливость, в чем? Не вижу.
— Что произошло с Джонатаном Нгубене? И как умер Гордон? Почему они делают все, что только могут, чтобы замять это?
— Бен, Бен, как ты можешь вставать на сторону врагов собственного народа? Тех, кто только и ищет случая накопить патроны, чтобы свергнуть свободно избранное правительство? Боже правый, я ожидал от тебя чего-нибудь умнее в твоем возрасте. Ты никогда не был способен на необдуманные поступки, сколько я тебя знаю.
— Тем более. Отчего же вы не хотите выслушать меня?
— Ну что ж, продолжай. — К нему вернулось самообладание. — Но только я спрошу, да знаешь ли ты свой народ? Мы всегда были верны заповедям господа бога нашего. Мы — христиане, не так ли? Нет, я не говорю, будто среди нас нет исключений. Но обобщать насчет «несправедливости» и тому подобного, как это делаешь ты…
— Помогите восстановить справедливость, вот вам прекрасный случай.
— Бен, я тебе уже сказал. — Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, — Если б ты обратился ко мне с чем-то ясно очерченным и несомненным, я бы первый взялся помочь. А эти твои смутные подозрения, инсинуации — все это на уровне измышлений, которые тебя до добра не доведут, — Он раздраженно хмыкнул: — Несправедливость! Да прежде, чем произносить это слово, вспомни, что мы выстрадали. Сколько наших людей было брошено в тюрьмы в сороковые годы именно потому, что эта земля была слишком дорога нам, чтобы втягивать в эту проанглийскую войну. Помилуй, сражаться на стороне тех самых англичан, которые нас столько угнетали?
— У нас же было свободно избранное правительство, если не ошибаюсь? Возглавляемое африканером, если опять-таки мне память не изменяет?
— Это ты Смэтса называешь африканером?!
— Вы уходите от вопроса, — напомнил я ему.
— Ты первый заговорил о несправедливости. Ты, человек, который преподает в школе историю. Тебе должно быть стыдно себя самого. Это теперь-то, когда мы в конце концов пришли к власти в своей собственной стране.
— И теперь мы вольны поступать с другими, как некогда поступали с нами?
— О чем это ты, Бен?
— Что бы вы делали, будь вы черным, черным человеком в нашей стране в наши дни, а?
— Ты меня просто поражаешь, — произнес он высокомерно, — ты что, не понимаешь, сколько правительство делает для туземцев? Да что ни день, их только и делают, что толпами освобождают, даруют свободу и независимость в их собственных странах, черт побери. И после этого у тебя хватает наглости рассуждать о справедливости! — Он властно положил руку мне на плечо и, хотя рука у него дрожала, ловко отодвинул меня с дороги, так что мне ничего не оставалось, как посторониться и дать ему пройти. — Подумай хорошенько, Бен, — бросил он мне через плечо уже из коридора по пути в спальню, он опаздывал к своему послеобеденному сну. — Нам нечего стыдиться, мы можем честно смотреть в лицо всему белому свету, так-то вот, мальчик.
Теперь я знаю, от него бессмысленно ждать помощи. Не потому, что он злой или тупой человек. Не потому даже, что боится. Просто потому, что он не в состоянии допустить хотя бы на миг саму мысль, что я могу быть прав. Его великодушие, это его истовое христианство, твердокаменная вера в незыблемые моральные устои своего избранного народа сами по себе куда более серьезные препятствия, нежели любой враг, что идет на тебя лицом к лицу, в открытую.
5
Это была зима неудач. Сплошные старты без финиша.
Генри отказали в иске по делу об изнасиловании его сестры, из этого попросту ничего не вышло. Поскольку же ее хозяин был признан невиновным и уголовное дело было прекращено судом, апеллировать было не к кому. Дэн Левинсон предложил в качестве альтернативы: или она готова засвидетельствовать, что связь была по обоюдному согласию, и тогда новый процесс может быть начат на основании Закона о нарушении нравственности, или в противном случае остается лишь уповать на гражданское право о возмещении за причиненный ущерб. Семья тут же отвела всякие ссылки на этот Закон, поскольку это без оснований запятнало бы репутацию сестры Генри. Не согласились они и на иск о возмещении ущерба. Они требовали одного: восстановить ее доброе имя, а виновный пусть несет наказание по закону. Исход дела, если разобраться, был предрешен, тем более Бен Дютуа был просто ошарашен, когда мать Генри явилась к нему домой с просьбой заступиться. Вечером, за два дня до этого, Генри с законом в руках пришел к бывшему хозяину своей сестры, а сделал незаконное — разбил этому человеку лицо. И теперь с него взята подписка о невыезде в связи с обвинением в покушении на убийство.
Назад к Дэну Левинсону, выхоленному, хорошо одетому, ухоженному и аккуратному под стать собственному столу, к Дэну, излучающему энергию, каковая ассоциируется единственно и непременно с рекламой дезодоранта для спортсменов. А там, конечно же, опять этот парад гибких и легких в движении блондинок с папками-скоросшивателями, записками, подносами с кофе.
Но Бен едва успевал выкраивать время. Мелани оказалась права: за эти зимние месяцы у него двери стучалось все больше и больше совершенно незнакомых ему людей, взывавших к его помощи. Приходили те, кто отчаялся найти работу в городе, и те, у кого на этой почве возникали трудности с получением документов (одно это чего стоило: дозволено пребывание в предписанном округе Йоханнесбурга в соответствии со статьей 10 (1) Закона № 25 от года 1945…) и официальных печатей. Самое простое было препроводить их к Стенли; что ж, те, кому он не мог уделить время, препровождались к некоему посреднику в предместье. Были и другие, те, кого выселили из квартир или по причине того, что плата оказывалась для них непомерной, или за жительство в районе, где не имели права селиться. Мужчины, преследуемые в судебном порядке за то, что выписали семью из отдаленных своих краалей. Пожилая вдова, чей шестнадцатилетний отпрыск был обвинен в «терроризме», когда, посланный в молочную, оказался арестованным полицией, разыскивавшей в это время неких малолеток, час назад где-то в Соуэто подпаливших школу. Другие, не было им числа, приходили жаловаться, что их отцов, или братьев, или сыновей «схватили» несколько дней, недель, месяцев назад и к ним до сих пор не допускают; другие, отпущенные за отсутствием состава преступления, приходили с рассказами о словесных оскорблениях, угрозах и пытках. Молодая пара, юноша белый, а она цветная, явившиеся к Бену ни больше ни меньше как с вопросом, не может ли он их сочетать? Почтенный старец жаловался, что он отдал дочь замуж, а зять отказывается выплачивать выкуп, установленный обычаями племени. Всякое случалось: и шокирующее его, и нелепое до смешного. Но между истинными просителями был, надо признаться, поток самых обычных попрошаек и нищенок.
Сначала они приходили поодиночке, с перерывом в неделю, а то и больше. Потом редкий день обходился без этих алчущих глаз и рук, молящих о помощи. Приходили по двое, по трое, целой толпой. Не единожды Бену сознательно не хотелось уходить из школы, дабы не нарваться на все эти новые «просим вас», неизбежно преследовавшие его дома. А Сюзан, та и вовсе завела собаку, чтобы оградить себя, вконец напуганная этой очередью с заднего двора, без конца и края тянувшейся к их дому.
Степень ответственности, возложенной на Бена, и самая невозможность отринуть ни единого, кому сам же предложил помощь и дал по доброте своей, — господи, от всего этого не спалось ночами. Казалось, нет сил больше человеческих выдержать. Он стал с ними строже, научился беречь слова, и число этих его прихожан тогда поубавилось, по крайней мере за счет тех, кто приходил поболтать либо попросить пустого совета. Будь у него достаточно времени, освободи его господь от всех остальных забот его, он бы еще справился, ризу бы на покров поменял. Но все дело в том, что с того самого дня, как в его жизнь снова вошел капитан Штольц, его ни на минуту не отпускало чувство, что он не один, что за каждым его шагом, каждым его движением, жестом следит неотступно некто невидимый, неосязаемый.
Порой это было нечто из области подозрений, просто мелочь какая-то, и он находил ниже собственного достоинства обращать на нее внимание. Но в один прекрасный момент накопилась такая череда этих «мелочей» — подключен телефон, до этого такого не было; почту перлюстрировали, не было такого до этого; неизвестный в автомобиле первый раз за всю жизнь «вел» его всю дорогу; первый раз в жизни против дома стоял человек, явно отмечавший всех, кто входит и выходит; первый раз в жизни среди ночи вдруг зазвонил телефон, и, что же, там только вздохнул кто-то устало и грустно усмехнулся, проверка, мол, аппарата; первый раз в жизни один из друзей Бена сказал так: «Знаешь, у меня вчера гость странный какой-то объявился, о тебе все больше расспрашивал…»
Были и светлые дни. Стенли вернулся из Ботсваны с новым письменным доказательством, подтвержденным под присягой и подписанным Веллингтоном Пхетла: покидая вынужденно страну, подписавший настоящее заявление излагал правдивую историю его ареста и совместного заключения с Джонатаном Нгубене. Стенли тут же нащупал с дюжину приятелей этого Веллингтона, не отказавшихся засвидетельствовать его показания в письменной форме. Впрочем, новость, которую он принес насчет второго сына Гордона, Роберта, была неутешительной. Стенли разыскал парня, когда тот собирался в Мозамбик и был несокрушим в своей решимости вернуться домой не иначе как с автоматом в руках.
Однако уныние насчет Роберта было с лихвой покрыто тем, что принес Стенли вскоре после возвращения. Вот уж новость так новость. Эти тюремщики, похоже, теперь явно на крючке: он разыскал старика уборщика из полицейского морга и тот прямо сказал, что в то самое утро, когда было вскрытие тела, капитан Штольц из СБ самолично вручил ему узел с одеждой и приказал сжечь все дотла.
А в Соуэто черный адвокат Джулиус Нгакула четко и настойчиво вел свое дело, собирая всех своих старых клиентов, кто мог хоть что-нибудь сообщить относительно Джонатана или Гордона Нгубене. Даже больничная сиделка, та, что после беседы с людьми из СБ, казалось, вконец потеряла присутствие духа; согласилась подписать новое заявление под присягой. И все эти по крупицам собранные свидетельства, каждую бумажку Стенли приносил Бену на хранение, и исе складывалось в тайник в ящике с инструментами.
Были и неудачи. Буквально на третий день после того, как эта сиделка подписала свои новые показания, ее арестовала служба безопасности. А в августе в нарушение предписания о невыезде Джулиус Нгакула ездил в Мамелоди навестить свою сестру, и они арестовали его. А это означало год тюремного заключения. Впрочем, Стенли воспринял это с удивительным спокойствием.
— Из старины Джулиуса они ничего не вытянут, это уж будьте уверены. А то, что попался, так к бутылке надо было меньше прикладываться. Годик посидит, протрезвится, как стеклышко станет. На пользу.
— Год тюрьмы только за то, что человек навестил собственную сестру?!
— Такая уж его судьба. А вообще, Джулиусу грех жаловаться.
— А вы не находите, что это только повод, просто они докопались, что он нам помогает?
— Ну так что? — В этом его излюбленном «ну так что?», в тоне, каким это произносилось, был весь Стенли Макхайя, — Слушайте, вы что, теперь еще заберете себе в голову комплекс вины, так, что ли? Такую роскошь себе только либералы могут позволить, это по их части. И думать забудьте. — Он его хлопнул по спине, так что Бен качнулся. — Выпустят Джулиуса, никуда не денется. Освежится в холодке.
— Но как можно?! Забрали человека, с которым делаем одно дело? Что ж получается, с глаз долой, из сердца вон?
— Кто говорит, из сердца вон? Лучшая память по человеку, дорогой мой, бороться и не сдаваться. Мы это ради Эмили делаем, так?
Как-то к вечеру к Бену заглянула и Эмили. Он сидел вконец измученный после дневного потока посетителей. Воскресенья как не было. Сюзан уехала на весь день в Преторию, к Сюзетте и Крису, последнее время это у нее вошло в привычку — уезжать на конец недели. Йоханн закатился куда-то с приятелями. Когда постучали, Бен решил просто не открывать. Но постучали настойчивей, и не оставалось ничего, как заставить себя подняться и тащиться вниз. Он открыл. На веранде у парадной двери стояла Эмили, а в тени колонны — незнакомый мужчина, черный, в коричневом в полоску костюме. Лет около тридцати, приятное лицо, только какое-то напряженное и как-то нервно озирается все время, точно за ним следит невидимый враг, который вот-вот появится — и конец ему.
— Это Джонсон Сероки, баас, — извиняющимся голосом произнесла Эмили. — Я вам о нем говорила, ну тот, что записки приносил. Письма то есть, из тюрьмы.
Он провел их к себе в пристройку, задернул занавески. И тогда прямо спросил его:
— Вы действительно работаете на тайную полицию, Джонсон?
— Выбора не было, — ответил тот, а в голосе проскользнула враждебность.
— И тем не менее вы тайно выносили из тюрьмы эти письма для Эмили?
Он только рукой махнул.
— А если человек в беде и просит? — Джонсон Сероки сидел на краешке стула и хрустел пальцами, перебирая палец за пальцем кисть левой руки.
— Джонсону грозят большие неприятности, баас, если они узнают об этом, — предостерегла Эмили.
— Что вы знаете о Гордоне, Джонсон? — спросил Бен.
— Я его почти не видел, — коротко, заученно отвечал тот.
— Но когда видели, вы с ним ведь разговаривали?
— Он давал мне эти письма, баас, хозяин.
— Когда вы видели его последний раз?
— Перед самой смертью.
— Вы присутствовали, когда они его допрашивали?
— Нет. — Он стиснул кисть левой руки и хрустнул всеми пальцами. — Я через три комнаты тогда находился от того кабинета. Когда волокли его по коридору, видел.
— Когда это было?
— В четверг. Двадцать четвертого февраля.
— В какое время, не помните?
— Во второй половине дня, к вечеру уже.
— Как он выглядел?
— Не разглядел. Нога волочилась.
Бен проглотил комок в горле. Спросил:
— Мертвого?
— Нет, он стонал.
— Может быть, он что-нибудь пытался сказать? Ничего не разобрали?
— Ничего.
— А вы что делали?
— Что я мог делать? Я был, где положено. Делал вид, что занят работой. Они отволокли его вниз, где камеры.
— А потом они говорили что-нибудь об этом? Между собой?
Джонсон Сероки рывком поднялся и подошел к столу, оперся о него обеими руками и наклонился к Бену, глядя ему в лицо, и белки глаз были желтые, в сети красных прожилок.
— Если вы кому-нибудь донесете, что я сегодня был здесь, я буду все отрицать. Ясно?
— Понимаю. Обещаю. — Он разглядывал это склонившееся над ним лицо, искаженное страхом, — Никто не узнает, что вы были у меня.
— Я только потому, что Эмили так просила.
— Я сказала ему, как баас очень добр к нам, — смущенно выдохнула измученная женщина, — Что вы нам приятель.
— И больше вы не видели Гордона? — настойчиво продолжал Бен.
— Когда они отправляли тело в морг.
— Когда это было? Точно.
— На следующий день.
— Джонсон, вы действительно не знаете, что было ночью, накануне?
— Откуда мне знать? Я от таких вещей держусь подальше.
— Почему ж вы в таком случае вообще не уходите из полиции? — резко бросил ему Бен. — Ведь вы им чужой?!
— Еще чего?! А семья? Я люблю свою семью.
И когда они ушли, этот нервный молодой человек и Эмили, заполнившая собой едва не всю комнату, Бен накоротке все записал.
На следующее утро, средь белого дня, его кабинет открыли отмычкой и обшарили самым дотошным образом, пока он сам был в школе, а Сюзан ездила за покупками. Ничего не взяли, только книги на полках переворошили, а содержимое ящиков письменного стола вывалили на пол и еще вспороли чем-то острым подушки на стульях и не удосужились даже зашить.
— А я что говорю, — негодующе прокомментировала Сюзан, — невесть уж сколько времени, что, если не прекратится эта бессмысленная возня, это вечное обшаривание дома, если ты не положишь этому конец, произойдет самое что ни на есть решительное. И это будет только по твоей собственной вине. Надо же, Бен, смотреть на вещи открытыми глазами! Ты что, делаешь вид, что ничего не замечаешь?
Он не отвечал. Подождал, пока она примет успокаивающую таблетку, и, когда легла после этого, заспешил в гараж. Нет, ящик с инструментами стоял на месте, не тронули.
6 сентября. Вчера вечером она отбыла в Родезию, летит через Малави. По крайней мере такова официальная версия. На самом-то деле в Лусаку, конечно. Для этого ей и потребовался ее британский паспорт. Я пытался было предостеречь, чем это грозит. Она только отмахнулась, плечами повела: «О господи, да это единственное, чем меня маменька облагодетельствовала. Так уж пусть послужит во благо». Когда в прошлом месяце кончился срок действия ее южноафриканского паспорта, она тревожилась, что его не продлят. В конце концов все обошлось благополучно, попросту зацепиться было не за что. Вспоминаю прошлую пятницу. С хохотом показывала мне какую-то новую фотографию. Ужасно, так она говорила. А мне даже понравилась. Она подарила мне ее на память.
Господи, ну точь-в-точь как девочка и мальчик в школе: дарю фото, помни оригинал. Да каких-то десять дней и всего-то разлуки, увещевала она. А на меня навалилась неведомая дотоле пустота, точно оставили одного без всякой защиты.
Через неделю еще новость, на этот раз результат ее контактов на Й. Форстер-сквер. Служитель, разносивший ужин заключенным, третьего февраля получил инструкцию, что отныне в камеру Гордона Нгубене допускаются лишь белые надзиратели. Это было именно в тот день, когда Гордон жаловался на «головные боли» и на зубную боль. Наутро как раз и появился доктор Герцог, окружной хирург.
И что еще более важно: когда тюремные надзиратели, и этот служитель среди них, вечером двадцать четвертого февраля пошли заступать на смену в блоке, где находились камеры заключенных, он видел у двери Гордона какого-то человека. Один из его черных коллег сказал ему: «Там больной, у него врач».
Таким образом, мои подозрения подтверждаются. Д-р Герцог знает больше, чем склонен рассказывать. Но кто вытянет из него остальное?
Сегодня, оставшись неожиданно в полном одиночестве, я от нечего делать заехал к Филу Бруверу. Застал его играющим на фортепьяно. По-прежнему такой вид, точно спал не раздеваясь. Застоявшийся запах спиртного и табака, в комнате не продохнуть. Откровенно обрадовался мне. Холод, как на улице. Играли в шахматы у камина. Раскуривает трубку длинными хворостинами. Полная жестянка хворостин, целый букет, специально для этой цели заготовленных.
— Что скажет Следопыт? — В бойких темно-карих глазах под нависшими кустистыми бровями играли смешинки. — Может, благостями разума своего одарит?
— Подвигаемся помаленьку, профессор. Полагаю, Мелани рассказала вам, что она выведала у этого надзирателя.
— М-м. Не сыграть ли нам партию в шахматы? А? Не возражаете?
Долго играли молча, словом не обменялись. Просто удивительно: я не чувствовал себя одиноким. Здесь же, на коврике у огня, дремали кошки. Какая-то цельность, вот именно, другим словом не передать впечатление от этого моего состояния. Законченное целое, не в пример той головоломке, картинке-загадке, что я складываю всю жизнь из мелких кусочков.
Вот я все никак не мог ухватить суть, а найдя слово, произнес, и тут же все стало на свои места. Цельность. Я-то просто не замечал изнанки этого бытия, подобно подкладке на собственном пиджаке.
— Знаете, что меня действительно пугает, профессор? — Только тут он бросил на меня взгляд сквозь клубы дыма от трубки и ждал, что я скажу. — Вот мы собираем по крупицам истину, стараемся. Порой кажется, все, стоп машина. А смотришь, нет, ведь дело все-таки развивается… Но предположим, в один прекрасный день картина готова, мы узнаем все, что с ним случилось, все до последней мелочи. И что же, все это ради того, чтобы до мельчайших деталей восстановить конец человека, о жизни которого тебе по-прежнему ровным счетом ничего не известно?
— Не многого ли вы хотите? — спросил он. — А что вообще человеку дано знать о себе подобном? Живут двое, любят друг друга, и даже они, что они знают друг о друге? Я много думал об этом, знаете ли… Моя жена. Наш брак. Ладно, я был много старше ее, и, положим, если разобраться, — (в сумрачном раздумье), — этот брак с самого начала был обречен. Но я-то полагал, тогда по крайней мере, что мы знали друг друга. Я был абсолютно в этом уверен. Пока она не собрала вещи и не ушла. Тогда только мне впервые в голову пришло, что я в своем существовании чуть не все двадцать четыре часа в сутки жил рядом с человеком, о котором ничего не знал. А возьмите концлагерь в Германии. Сколько нас там было, каждой крохой делились — это ли не истинная близость человеческая? И вдруг самый незначительный пустяк, и вы обнаруживаете, что по сути-то вы чужие люди, каждый сам по себе, безнадежно одинокие, одни в целом мире. Вы сами по себе, Бен, и ведете свой диалог с миром. Всегда. Так всегда.
— Может быть, это от природы человеческой — брать, — возразил я, он меня не убедил. — А потом, что касается Гордона, вот уж где, простите, я действительно только даю. И это не пассивное какое-то отношение, он действительно стал частью моего существования в полном смысле слова, он заполняет все мои мысли. Но вот все будет сказано и все будет сделано. И что я получу? Факты? Да, факты, подробности. А что они, собственно, расскажут мне о нем, об этом человеке, этом Гордоне Нгубене, который должен ведь существовать помимо этих подробностей? А возьмите всех этих людей, что толпами стекаются ко мне за помощью. Что я о них знаю? Нам даны речь, слух, осязание — и все это, чтобы оставаться этакими пришельцами из разных миров? Как бывает, мелькнет лицо в вагоне встречного поезда, человек прокричал тебе что-то и ты ему в ответ, но это лишь слуховое ощущение, звук пустой. Что, о чем? Нет ответа, и лишено смысла.
— Все-таки прокричал, — сказал профессор.
— Слабое утешение.
— Кто знает. — Он пошел слоном. — Большинство людей любят вздремнуть в дороге или читают, что им за дело до встречных поездов и чужого крика.
— Иногда я готов им завидовать.
У него в глазах мелькнула злая усмешка.
— Дело вкуса, — сказал он. — И выбора. Вас ведь тоже никто не принуждал обременять себя вопросами, не так ли? Единственное, что от вас требуется, — это принять, что произошло, как данное.
— И что, каждый свободен выбирать? Или, может быть, это нас выбирают?
— А что, большая разница? Адам и Ева сами выбрали вкусить яблоко с древа познания? Или дьявол за них выбрал? А может, господь бог с самого начала предупредил, что да будет так, и было по воле его? То есть по логике он ведь как рассуждал: ну будет эта яблоня похожа на все остальные деревца в моих кущах, они, чего доброго, на нее и внимания не обратят; налагая же свой запрет на плоды с древа сего, он, уж будьте любезны, с полной уверенностью знал, что они на остальные фрукты и смотреть не станут. А то как же, лег бы он преспокойно себе почивать в день седьмой? Заведомо все знал. А вы говорите — выбор.
— Допустим. По крайней мере они знали, что делают, Адам и Ева.
— А вы?
— Одно время, казалось, знал. Был даже убежден, что иду с открытыми глазами. Об одном не подумал, что ни к чему они, открытые глаза, коли вокруг тьма кромешная.
Брувер ничего не ответил, подхватился вдруг, точно его озарила идея, взял лесенку и полез доставать с верхней полки какую-то книгу.
— Вам лучше знать, это ваш предмет. Я в этих делах профан, — бросил он с лесенки, через плечо, занятый поиском. — Но согласитесь, что смысл, истинный смысл эпох, ну таких, как эпоха Перикла, например, или Медичи, основан на одном простом факте, а именно что целое общество, по сути вся цивилизация, движется на одной скорости и в одном направлении. В такую эпоху, эру, если угодно, субъекту нет почти никакой необходимости устраивать жизнь собственным разумом. Разум здесь формировался обществом, у индивидуума же с ним никаких противоречий, но, напротив, полная гармония. И с другой стороны, времена вроде тех, в которое мы с вами живем, когда история еще не определила свой новый устойчивый курс. Здесь каждый сам по себе. Всякий вынужден искать и формировать собственные дефиниции. Результат? Терроризм. И я, заметьте, имею в виду не только акции набивших на этом руку одиночек, нет, но организованные, на уровне государства, институты которого ставят под угрозу самое существование рода человеческого. А, вот она. — Он наконец нашел, что искал. — Вот, извольте-с. — Спустился и протянул мне томик. Мерло-Понти[30]. — К сожалению, по-французски, на котором вы не читаете. — Он огорчился, но я обещал ему, что постараюсь разыскать книгу на английском и непременно прочту.
И вечное, день за днем, нагнетаемое беспокойное чувство, что за тобой следят. Идешь за покупками в супермаркет субботним утром, и в толпе ненароком замечаешь вдруг знакомый спортивный пиджак: да это же лейтенант Вентер отвечает кому-то сияющей улыбкой; или мелькнет Восло, человек мрачный и нескладный, или Кох, высокий стройный атлет с кистями баскетболиста.
Мелькнут в толпе и исчезнут, чаще всего именно так. И поди ломай себе голову. Полно, может быть, это просто показалось. Может, это говорит расстроенное воображение. Может быть. И вот человек ловит себя на том, что они везде, даже в церкви. Это и есть нужное им состояние. Докучливый сыск, вызывающий всеизничтожающую паранойю.
Или письма. Он вынимал их из почтового ящика в аккуратно надрезанных конвертах, точно некто, кто бы он ни был, вскрывавший их, не удосуживался даже дать себе труда подумать о том, что ведь они пойдут дальше, к адресату, — если, конечно, это не делалось преднамеренно, чтобы определенно дать понять: вашу почту кто-то читает. Ведь там не было ничего важного, ни разу. Да и кто мог писать ему что-либо угрожающее безопасности государства? А досаждало самое сознание, как в тот день, когда они выстукивали у него в кабинете шахматную доску, вывалив фигуры на пол, и искали потайное дно в вазе, что ни на какую неприкосновенность собственности он не может даже рассчитывать; нет для них ничего святого и неприкосновенного. Понятия нет такого. «Живу как рыба в аквариуме, — так было написано его почерком на странице, вырванной из учебника, — когда каждое твое движение под испытующим взглядом чьих-то пристальных глаз, отмечающих все и вся. Рыба дышит жабрами? А вот мы тебя за жабры».
А еще (датировано 14 сентября), «только оказавшись — и вполне осознав это — под докучливым сыском чужих глаз, начинаешь по-другому смотреть на себя. Начинаешь смотреть на вещи трезво, понимать подлинную цену непреходящим ценностям и отметать ложное. Поистине, не было бы счастья… несчастье же учит самоочищению; избавь себя от всего наносного, учит оно, и меньше полагайся на собственную силу либо своемыслие, не они украшают, но добродетель. Только она единственно вседозволена… Они могут ворваться в любую минуту дня и ночи. Даже когда ты спишь, не спит их недремлющее око. И что прошел день и еще день, час и еще час, а ты можешь сказать себе; вот еще день, вот еще час отпущен мне, — само по себе это становится столь непостижимым, что начинаешь воздавать богу хвалу не заученно, но поистине. Не то же ли чувствует прокаженный, когда один за другим отпадают члены его? Или больной раком, чьи дни сочтены? Вот он сухой белый сезон. Белая книга смерти».
Но это редкая запись, редкая попытка позитивного мышления. Большая же часть заметок Бена Дютуа за эти месяцы говорит о депрессии, озабоченности, тревоге, чувстве неопределенности. Напряженная обстановка дома, эти вечные трения с Сюзан, ссоры с Сюзеттой, так что раскалялся телефон. Размолвки на работе.
Можно было бы отнести это за счет эпизодов с мелким шантажом, слежкой, этими пусть булавочными, но постоянными уколами самолюбию человека. С этим можно было бы с отвращением, с тягостью мириться; но нет, было и другое. Например, утром ему намалевали на дверях серп и молот; на следующий день он выходит из школы, идет к машине, и все четыре покрышки исполосованы в клочья; анонимные звонки, чаще всего в два-три часа ночи. А чего, кроме тревоги, обескураживающей теперь уже вконец, стоили истерики Сюзан, у которой нервы сдали куда раньше, а ее вспышки неизменно кончались одним: что с нее хватит и подите вы на все четыре стороны.
Ну и к чему он уж совсем не был подготовлен, так это натолкнуться в своем собственном классе на явную глупость. Вот уж подлинно чушь так чушь, а они вывели ее печатными буквами на классной доске. И еще эти подавленные смешки. Как, кто там знает, а только это тут же стало известно в учительской, и тут же, в присутствии всего коллектива, Клуте, сам г-н директор Кос Клуте, не преминул заметить с уничтожающей иронией: «Позвольте, как учитель может рассчитывать, дабы ловили каждое его слово, если собственная его репутация отнюдь не вне всяких сомнений?»
18 сентября. Йоханн пришел из школы в ужасном виде. Рубаха порвана, синяк под глазом, губы распухли. Поначалу вообще отказался разговаривать. С трудом удалось все-таки вытянуть из него, что произошло. Ну, компания из выпускного класса. Которую неделю его изводили насмешками, вот твой, мол, папаша, любимец всех ниггеров. А сегодня он не выдержал. Ну и что, что рубаха, подумаешь, задели, синяк поставили, а им-то сколько синяков досталось. Самое страшное, всю эту стычку видел учитель, однако прошел мимо, словно это его не касалось.
Но меня не запугаешь, твердит Йоханн.
— Слушай, па, если они завтра снова пристанут, я из них не знаю что сделаю.
— И чего же ради, Йоханн?
— Пусть больше не трогают тебя, вот чего ради!
— Меня?! Меня это и так не трогает.
Йоханн говорил с трудом, я же видел, у него были разбиты губы, а только гнев душил его, и он выпалил:
— Я же пытался выяснить, чего они от тебя хотят, так они и слушать не стали. Они, получается, и знать не знают, чего ты добиваешься…
— Ты в этом уверен? — Я вынужден был задать ему этот вопрос, как ни жестоко это было с моей стороны, тем более по отношению к сыну.
Он повернулся, но так, чтобы я не видел его подбитого глаза.
— А я все знаю, — ответил он мне запальчиво. — А стыдиться тебя стану не раньше, чем ты сам сдрейфишь. Понятно?
Похоже, и сам испугался того, что вырвалось. Может, это я виноват, не надо было вызывать его на откровенность. Мне хотелось сказать ему спасибо, моему мальчику, но я промолчал, щадя его самолюбие. Остаток пути домой мы просидели, глядя прямо перед собой на дорогу. Но в тот единственный и неповторимый, в тот чудесный момент я понял: нет, все-таки стоило, хотя бы ради того, чтобы услышать эти слова от собственного сына, все это делать.
Он повернулся ко мне, только когда я остановил машину у дома, и подмигнул здоровым глазом.
— Знаешь, лучше не говорить маме правду, а? Ее это только расстроит.
И уж совсем другой силы удар ожидал Бена, когда он заехал в контору Д. Левинсона проконсультироваться по делу одного из очередных просителей. Д. Левинсон, как всегда, был резок до бесцеремонности, мог оборвать на полуслове. Не в этом дело. У Бена ноги подкосились, когда он увидел, что его ждут здесь и эти двое, адвокаты сторон по делу Гордона Нгубене: де Виллирс, тот, что выступал по иску, от семьи покойного, и Лоув, адвокат полиции.
— Вы знакомы? — бросил Д. Левинсон.
— Конечно. — Бен от души приветствовал де Виллирса, хмуро кивнул Лоуву. Этот последний встретил его на удивление радушно, едва не сердечно. И затем все трое еще с четверть часа самым дружеским образом болтали и обменивались шутками, прежде чем попрощаться.
— Вот уж не думал встретить у вас этого Лоува, — заметил Бен. Он чувствовал себя не в своей тарелке.
— Это почему же? Мы старые знакомые.
— Но… Помилуйте, после дела Гордона…
Левинсон усмехнулся, этак по-свойски потрепал его по плечу.
— Боже правый. Друг мой любезный, да мы же все профессионалы, один цех. Служба службой, как говорится, но не откажете же вы нам в простом человеческом общении. Ну-с, что у нас сегодня? Кстати, вы мой последний счет получили?
6
В начале октября нескольких сослуживцев Бена, четверых по крайней мере, вызывали на Й. Форстер-сквер. Расспрашивали о нем. Как давно они с ним знакомы, что им известно о его политических убеждениях, деятельности, круге интересов, его связях с неким Гордоном Нгубене, знают ли они о его «регулярных» поездках в Соуэто, не случалось ли им бывать у него дома, и, если да, не встречали ли они там небелых, и т. д.
Первым примчался доложить об этом Вивирс. Молодой человек буквально пылал от возбуждения и взахлеб пересказывал все подробности.
— Но я им прямо выложил, поверьте, что они попросту теряют время, оом Бен, — вот что я им сказал, — А то, что они от меня там услышали, так я полагаю, им это и так доподлинно от вас известно. Не тревожьтесь…
— Я вам признателен, Вивирс. Но…
Молодой человек был слишком возбужден, чтобы слушать.
— Нет-нет, вы только подумайте, они заинтересовались и мною тоже! Не связан ли я с вами? Что мне известно об АНК и так далее. А в конце все такие ласковые стали и по-отечески принялись меня убеждать, что вот, мол, господин Вивирс, вы происходите из добропорядочной семьи стопроцентных африканеров и мы ценим, как вы строго смотрите на вещи. И что, мол, конечно же, мы живем в свободной стране и каждый может высказывать собственные взгляды, это понятно. Но при этом вам одно надо себе уяснить: именно за такими вот, как вы, и охотятся эти коммунисты. Вы и понятия не имеете, как легко попасть им в лапы, вы и опомниться не успеете, как окажется, что в одну дуду с ними дудите.
— Прошу прощения, Вивирс, — сказал Бен, — но, право же, я не хотел доставлять вам столько хлопот.
— Что за церемонии? И почему вы должны просить прощения? Если они воображают, будто могут запугать меня, то, знаете ли, они глубоко ошибаются. — И с самодовольной улыбкой: — Скажите спасибо, что они еще именно меня вызвали. А то другие могли бы о вас черт-те чего наговорить, сами понимаете. Уж я-то их знаю.
Вскоре стало, конечно же, очевидным, что вызывали не одного Вивирса. И у Бена, увы, стало привычкой выслушивать отчеты коллег о доверительных беседах, что велись «где-то там» на его счет. Однако спокойствие духа было нарушено не этим. Очевидная организованность, с какой его сослуживцы являлись к нему, — не дурак же он, чтобы не понять, откуда ветер дует, — короче говоря, вся искусственность ситуации, осознание того, что все это подстроено с одной-единственной целью — довести, и по возможности в заданное кем-то время, до его сознания: о нем расспрашивают, допрашивают даже людей! — это и должно было разбередить сознание. Так и было. Не то чтобы его беспокоила мысль, а вдруг они, его коллеги, выдадут, вольно или невольно, нечто роковое для него. Отнюдь. Ему нечего было скрывать. Его приводило в смятение лишь сознание собственной беспомощности, то, что он решительно ничего не мог предпринять в ответ.
Остальные, впрочем, не в пример Вивирсу, восприняли эти допросы по-разному. Конечно, для веселого, общительного Карелсе, при его беззаботном отношении к жизни вообще и деталям существования в частности, все это явилось не более чем очередной шуткой, колоссальным событием. Он только и знал теперь, что горланить на этот счет в учительской, благо не на одну неделю хватало запаса пусть грубого, неумного, но беззлобного, в общем, юмора. «Как наш террорист поживает? — орал он теперь вместо обычного «доброе утро», входя в учительскую, — То есть я имею в виду с добрым утром, оом Бен, и не будете ли вы любезны снабдить меня одной из ваших бомбочек, ха-ха-ха! Я, знаете, хочу пустить на воздух наш седьмой класс. Да, а какая сегодня погода в Москве, не скажете?»
Иные стали избегать Бена Дютуа, причем более явно, нежели прежде. Ферейра, преподаватель английского, не глядя в его сторону, прошелся насчет того, что есть, мол, такое выражение в английском языке: «обжечь пальцы», то есть отучиться лезть в чужие дела.
Кос Клуте возгласил в своей обычной агрессивной манере на большой перемене, когда в учительской подавали чай:
— За все годы, что я учительствую, службе безопасности не доводилось, простите, беседовать со мной по поводу присутствующих. Чисто умозрительно я мог предположить вероятность такого поворота событий, однако допустить это практически… Ну нет, увольте.
— Я готов обсудить с вами этот вопрос, буквально по пунктам, — отвечал Бен, растерявшись перед этим запальчивым гневом в тоне директора, — тем более что мне абсолютно нечего стыдиться.
— И тем не менее. Если хотите играть на повышение, господин Дютуа, вам придется позаботиться о том, что о вас думают. Одно могу сказать: в настоящий момент департамент предельно щепетильно относится к такого рода вещам. Впрочем, вам это известно не хуже моего.
— Я прошу уделить мне ровно полчаса в вашем кабинете.
— Позвольте, почему в кабинете? Вам есть что скрывать от своих коллег?
Бен сглотнул застрявший в горле ком негодования. И тут же постарался взять себя в руки.
— Отнюдь. Я готов сообщить вам все, что вас интересует. Где вам будет угодно. Если вами действительно руководит забота обо мне.
— Куда как важнее разобраться с собственной совестью, — отвечал Клуте, — чтобы не стать обузой школе.
Чтобы не наговорить лишнего, Бен поднялся и молча пошел к себе в класс. Слава богу еще, у него был свободный урок. Он долго сидел в пустом классе, уставившись в одну точку, потягивал трубку, пока не успокоился. Гнев прошел, вернулась способность рассуждать. И тогда он понял, что должен сделать. Это было настолько очевидно, что он лишь подосадовал, как это ему раньше в голову не пришло.
Едва дождавшись конца занятий, он отправился на П. Форстер-сквер. Завел машину на стоянку в цокольном этаже здания и вызвал лифт. На формуляре, который дежурный ткнул ему в руку, написал фамилию полковника Вильюна. И через десять минут стоял перед письменным столом, знакомым по прошлому визиту сюда много месяцев назад. На этот раз полковник был один. Пусть так, но Бена не оставляло ощущение, что у него за спиной неслышные и невидимые люди появляются в двери, разглядывают его и тут же исчезают в коридоре. У него не было ни малейшего представления, где в этом громадном голубом здании может быть Штольц. Может быть, его сегодня вообще здесь не было. А ощущение такое, что он присутствует. Сверлит острым взглядом своих темно-карих глаз на неподвижном лице, перечерченном глянцевитым шрамом. И тут — как удар под ложечку, даже дыхание перехватило — в памяти мелькнуло другое лицо, Гордона, лицо и руки, сложенные на груди, и шляпа в руках.
«Будь это со мной, ладно. Но ведь это мой ребенок. Я должен знать. Видит бог, я не остановлюсь, пока не узнаю, что с ним случилось и где они его похоронили. Его тело принадлежит мне. Это тело моего сына».
Любезное, бронзовое от загара лицо человека средних лет смотрело на него выжидающе. Седые волосы подстрижены ежиком. Человек откинулся на спинку и покачивается взад-вперед, балансируя на задних ножках стула.
— Чем могу служить, господин Дютуа? Весьма польщен.
— Полковник, я подумал, нам самое время все откровенно обсудить.
— Очень рад это слышать. Что именно?
— Вы прекрасно знаете, о чем речь.
— Прошу уточнить. — У него чуть заметно дернулась щека.
— Не знаю, как это у вас заведено. Но вам, должно быть, известно, что ваши люди проводят кампанию по запугиванию меня и шантажируют вот уже несколько месяцев.
— Вы определенно преувеличиваете, господин Дютуа. Единственно, что мне известно…
— Но вам известно, что они устроили у меня дома обыск, не так ли?
— В установленном порядке. Полагаю, они вели себя вежливо?
— Ну еще бы, конечно. Не в этом дело. Как понимать все остальное? То, что обо мне расспрашивают моих сослуживцев, например?
— А почему вас это волнует? Я уверен, вам нечего скрывать.
— Не в этом суть, полковник. Суть в том… Ну вы же знаете, люди есть люди. Начались разговоры. Пошли самые нелепые слухи. Существует понятие: репутация семьи…
Хмыкнул.
— Господин Дютуа, я не врач, но и так видно, вам явно нужно хорошенько отдохнуть. — И прибавил, не без намека, который и не скрывал, впрочем: — Просто на какое-то время взять и отключиться от всего, а? Ну, уехать?
— Наконец, ряд других вещей, — настойчиво продолжал Бен, оставив замечание полковника без внимания, — мой телефон, моя корреспонденция.
— Что ваш телефон, что ваша корреспонденция?
— Не делайте вид, полковник, будто ничего не знаете.
— Именно?
Бен почувствовал, как кровь застучала у него в висках.
— Я вхожу в класс и вижу на доске оскорбительные для меня слова. На дверях моего дома некто рисует серп и молот. В клочья кромсают покрышки на моем автомобиле. По ночам нас будят анонимными звонками по телефону.
Полковник перестал раскачиваться на стуле, сел как положено.
— Вы заявляли обо всем этом в полицию?
— Какой смысл?
— Смысл тот, что для этого она и существует, не правда ли?
— Я одно хочу знать, полковник. Когда вы оставите меня в покое?
— Минутку, минутку, господин Дютуа. Вы что, меня в этом хотите обвинить, так я понял?
Ему не оставалось ничего другого, как идти до конца.
— Полковник, скажите, почему вам так важно не дать мне довести до конца расследование по делу Гордона Нгубене?
— Так вот вы чем занимаетесь, — протянул он. — И это вы серьезно?
Впечатление такое, будто ему никогда не скажут правды. И все-таки он убеждал себя, что с этим человеком, непохожим на других, он может быть откровенным. И что ему отплатят той же монетой. Он упрямо тешил себя мыслью, что они говорят на одном языке. Какую-то минуту он еще раздумывал, глядя на фотографию в рамке, разделявшую их на пустом столе.
— Полковник, — произнес он в неожиданном порыве, — вас привидения не мучают? То, что случилось с Гордоном Нгубене, вам не мешает спать по ночам?
— Все надлежащие свидетельства были представлены компетентному суду, который тщательно разобрался в обстоятельствах и вынес заключение.
— А как насчет свидетельств, что были не менее тщательно скрыты от суда?
— Ну, вот что, господин Дютуа. Если вы располагаете какой-либо информацией и с этим пришли, прошу. Выкладывайте, я готов.
Бен поглядел на него, прямого, приросшего к стулу с прямой спинкой. А тот подался к нему через стол, отодвинув фотографию в рамке. Голос звучал мрачно:
— Ибо, если обнаружится, что вы что-то намеренно скрываете от нас, господин Дютуа, если вы дадите повод заключить, что вы вовлечены в деятельность, которая может представлять опасность для всех — для вас самих и для нас, — я предвижу некоторые осложнения.
— Это что же, угроза, полковник? — спросил он, и у него запрыгали желваки на скулах.
Полковник Вильюн улыбнулся.
— Давайте выразимся так: предостережение. Дружеское предостережение. Знаете, бывает, человек исходит из лучших намерений. Но вы так увлеклись, что не в состоянии дать себе отчет во всем том, что за этим стоит.
— То есть, по-вашему, я пляшу под дудку коммунистов? Слышал. — Он не смог подавить сарказма в голосе.
— Почему вы это говорите?
— Это не я говорю, один из ваших людей буквально сказал моему сослуживцу.
Вильюн пометил что-то на листке линованной бумаги. Бен сидел достаточно далеко и, что именно, не разобрал. Но почему-то именно от этого больше всего защемило сердце.
— Так вы действительно ничего не хотите сказать мне, полковник?
— Я вот все жду, что скажете мне вы, господин Дютуа.
— В таком случае, не смею больше отнимать у вас время.
Бен поднялся и пошел к двери. Полковник тихо произнес вслед вместо привычного «до свидания»:
— Уверен, мы еще с вами встретимся, господин Дютуа.
Ночью, когда все в доме спали, кроме Йоханна, засидевшегося допоздна у себя в комнате за уроками, раздались три выстрела. Стреляли с улицы в комнату Бена на заднем дворике. Вдребезги разнесло телевизор, пуля угодила в трубку, по счастью не причинив другого ущерба. Он тут же позвонил в полицию, но преступника так и не нашли. К Сюзан пришлось все-таки вызывать врача.
7
Он долго не мог решиться, сообщать ли о случившемся газетам, даже после разговора с Мелани.
— Не вижу другого выхода, Бен, — так она сказала ему. — Было время, вы скрывали все это, полагая это сугубо личным делом. Вы, Стенли, я — все мы так поступали. Но это было и прошло. Если вы и сейчас поведете себя таким образом, они попытаются сделать так, чтобы вы вообще замолчали. Ваша жизнь зависит сейчас от гласности. И если вы действительно хотите что-либо сделать и для Гордона Нгубене, вам не обойтись без прессы.
— Как бы они меня самого не использовали.
— Ну, это от вас зависит. У вас право выбора.
Он вспыхнул и с неожиданной агрессивностью бросил:
— Ну еще бы, такую сенсацию заполучить вашей газете!
— Нет, Бен, — сказала она тихо. — Сама понимаю, что я теперь никудышная журналистка, но своей газете я такого шанса давать не хочу. Вам нужна другая газета, на африкаанс. Только они одни могут поместить такое и придать вес. Вы же знаете, что власти думают об «этой английской прессе».
Но даже и тогда он все тянул, откладывал, и единственное, на что решился, — условился о встрече с Георгом Алерсом, мужем своей сестры Хэлен, директором компании.
Офис, размером с хороший танцевальный зал, помещался на последнем этаже ультрасовременного здания, возвышающегося едва не над всем городом. Массивные кресла, низенький стеклянный столик, письменный стол красного дерева, столешница обтянута телячьей кожей, под прямым углом к нему длинный стол для заседаний с двумя рядами стульев, эти уже под старину, перед каждым — хрустальный графин и бювар из кожи. В огромных вазах бегония и delicious monster — пикантный монстр, так его называют. И все это никло в царственном присутствии самого Георга Алерса, крупного, атлетически сложенного, шести футов с лишним роста мужчины в синем блайзере, бледно-голубой сорочке и галстуке, свидетельствующем о безукоризненном вкусе. Седые волосы венцом обрамляли красивую голову. Что еще? Румяное лицо. Сигара и кольцо с печаткой на безымянном пальце.
В своем поношенном коричневом костюме Бен здесь был неуместен, подобно бедному родственнику, пришедшему искать покровительства. Ощущение только подчеркивалось учтивостью, какую выказал Бену хозяин всего этого великолепия.
— Прошу, прошу, Бен. Прошу. Целую вечность не виделись. Садитесь. Сигару?
— Нет, благодарю вас, Георг.
— Как наша Сюзан?
— Прекрасно. Я по одному вопросу.
— В самом деле? Получили наследство, состояние, так понимать?
Бен объяснил в чем дело, и веселой общительности поубавилось. Это было заметно.
— Бен, излишне говорить, с каким удовольствием я бы кинулся помочь. Ужасная история. Но что я могу сделать?
— Я подумал, такой крупный бизнесмен должен иметь доступ в правительственные сферы. Вот я и хотел знать…
— Ваш тесть, помнится, член парламента? Я не ошибаюсь?
— У него я получил от ворот поворот. А мне нужен человек со связями на самом верху.
— Безнадежно, Бен. Вы допускаете досадную ошибку, если всерьез полагаете, будто большой бизнес у нас сам собой открывает дверь к власти. В индустриальной стране вроде США, возможно. Но не здесь. Политика — бизнес, улица с односторонним движением. — Он пустил дымок и тут же вежливо разогнал его рукой. — Предположим, я смогу добраться до кабинета министров — предположение само по себе чисто умозрительное, — и что же? Как вы себе мыслите, что дальше? Разрешения, уступки, добрая воля — вот на чем я держусь. — Отточенными, в нужном ритме движениями он стряхивал пепел с сигары в хрустальную пепельницу. — Будучи же замешанным в вещах такого рода, я всего этого лишаюсь, — Он откинулся на спинку, показывая, что официальная часть беседы окончена, — Но скажите, когда вы с Сюзан соберетесь навестить нас? Нам ведь есть о чем поговорить, бездна новостей, не правда ли?
6 октября. Сегодня: Андриа Лоуренс. Один из самых приятных людей, с кем мне довелось иметь дело. Ездил к нему по совету Мелани, имея в виду не подлежащую сомнениям прогрессивность его газеты и его собственную репутацию человека неподдельной честности и, безусловно, здравомыслящего. Не очень популярен в правящих кругах, но ему отдают должное. Но и зная это заведомо, я все равно был приятно поражен. Явно по горло занятый — ему предстояло сдавать в печать субботнее приложение, — он нашел возможным тем не менее уделить мне время. Провел с ним больше часа в редакции, где все вверх дном, что естественно, когда люди думают о работе, а не собственном комфорте. Горы окурков. Кипы газетных вырезок и листки, листки бумаг, напечатанных на машинке и написанных от руки, и все это навалено повсюду, сколото конторскими скрепками, а то и просто прищепками для белья, разложено, разбросано, навалено у него на столе.
Я рассказал ему, чем занят, передав вкратце события той ночи. Он заинтересовался. На переносице залегла глубокая морщина. Гораздо старше годами, чем можно было ожидать. Вид нездоровый. На лбу испарина. Коронарная недостаточность? Готовый кандидат. Но как раз, когда я почувствовал было надежду, он вдруг покачал головой, почесал озадаченно в затылке и поглядел на меня своими острыми, но усталыми глазами.
— Господин Дютуа… Сказать по правде, никак это меня особенно не поразило. Знаете, сколько у нас аналогичных историй за эти несколько месяцев? Иногда кажется, будто вся страна с ума посходила.
— В ваших силах положить этому конец, господин Лоуренс. У вас тысячи подписчиков.
— А вы знаете, сколько мы их потеряли за последнее время? Показать вам точные цифры по нашей редакции? — Он потянулся к проволочному ящику для бумаг на углу стола, но в отчаянии бросил затею что-нибудь найти. — А, какая разница, — сказал он. — Все равно ничего не изменишь; я одно точно знаю: сколько вокруг творится несправедливости. Однако резкое движение в неподходящий момент приводит к результатам, прямо противоположным желаемому. Наши подписчики и так уже обвиняют прессу на африкаанс, что мы идем против них. Мы же хотим вести их за собой, господин Дютуа, а не отталкивать.
— Итак, вы предпочитаете не иметь с этим дела?
— Господин Дютуа, если завтра утром я напечатаю эту историю, — он положил руку на мои бумаги, — считайте, что к вечеру я могу закрывать лавочку. Вы что, не видите, что происходит в стране? — спросил он устало. — Терроризм в городах, и ведь это только начало. Россия и Куба у наших границ, вы читали? Даже США готовы всадить нам нож в спину.
— И посему мы должны отмахнуться от собственного позора?
— Не отмахнуться, но постараться досконально понять. Приспособиться и дожидаться наиболее выгодного момента. А затем приступить к устранению наших бед изнутри, последовательно. Постепенно.
— А пока пусть эти гордоны нгубене продолжают умирать один за другим?
— Я этого не говорил, господин Дютуа. Но вам следует понять (сколько же я это слышу, господи!), да, вы должны понять, что бросаться головой в омут — это, согласитесь, самоубийство. Постарайтесь взвесить все непредвзято. Давайте говорить объективно, какая другая партия в состоянии мирным путем ввести нас в будущее? Я ни на минуту не заблуждаюсь, будто в самой националистической партии все, как должно быть. Отнюдь. И тем не менее это единственный инструмент, с помощью которого мы в состоянии чего-то добиться. Мы больше не можем позволить себе вкладывать оружие в руки собственных врагов.
И все в таком духе. И все, я убежден, из самых искренних побуждений. Я только больше и больше понимаю, что действительно стоит у меня на пути. Парадокс. Эта доброжелательность, эта христианская добродетель, понимание, соблюдение приличий. Не открытая враждебность, этому бы ты знал, как противостоять. Нет, те, кто устраивает тебе обструкцию, кормят тебя с ложечки кашкой добрых намерений, «в ваших же интересах» стараясь «оберечь вас от себя самого».
— Прошу вас, господин Дютуа, — сказал он в конце, — о единственном одолжении. Не давайте этот материал в английские газеты. Это самый верный путь сорвать все ваши планы, погубить дело и себя самого. Играете со смертью. Поверьте, это в ваших же собственных интересах. Даю вам слово, как только создастся благоприятная обстановка, я сам первый прибегу к вам.
В газету к Мелани он не пошел. Она сама была против этого, хотя бы из того расчета, что когда-то их могли видеть вместе. И тогда все было бы ясно, как дважды два, а она страшно хотела оберечь его.
Воскресная газета не просто приняла, буквально ухватилась за материал. На первую полосу. И, верх любезности, с обещанием ни намеком не раскрывать источник. Его подпишет один из ведущих репортеров, как полученный «в результате собственного расследования, предпринятого газетой».
Заметка наделала шуму в то воскресенье, была сенсация. Но вот сил противодействия явно не предугадали На той же неделе министерство юстиции выдвинуло против газеты обвинение в клевете. Комиссариат полиции затребовал данные об источниках информации, представленной в печать. Репортера, Ричарда Гаррисона, вызвали для дачи показаний, а когда он отказался их представить, суд приговорил его к одному году тюремного заключения.
И сам Бен тоже не избег последствий, причем немедленных. Было очевидно, что никто и не сомневается, что он приложил к этому руку. Уже в понедельник утром вырезанная из газеты заметка висела, пришпиленная к классной доске. Позвонила Сюзетта. Явились с визитом церковные старосты и недвусмысленно дали понять, что ему следует отказаться от должности в церковном совете. Он был староста в своем приходе. А преподобный Бестер не нашел ничего умнее, чем встать в позу, иначе это не назовешь, когда на той же неделе он пришел с прошением об отставке. В среду Кос Клуте вызвал его к себе в кабинет: похоже, впервые дело зашло так далеко, что не подлежало обычному разбору в учительской. На столе у директора Бен увидел воскресную газету, вернее, первую ее полосу. Без всякого предисловия Клуте взял в карьер:
— Полагаю, вы знакомы вот с этим?
— Да, я прочел.
— Я не спрашиваю, прочли вы это, господин Дютуа, или нет. Я хочу знать, насколько вы причастны к этому, вы лично.
— С чего это вы взяли?
Г-ну Клуте было явно не до церемоний.
— По моим сведениям, именно вы наболтали все этой английской газетенке.
— Могу я спросить, откуда у вас эти сведения?
— Интересно, сколько они вам заплатили? — Клуте часто и тяжело дышал. — Тридцать сребреников, а, господин Дютуа?
— Как вы можете?!
— Подумать только, и это кто, африканер, продает за них душу! — Он уже не мог сдерживать себя. — И ради чего — ради горсти монет и дешевой популярности. Деньги, слава — это вас увлекло?
— Господин Клуте, я не понимаю, о какой славе вы говорите. Я не видел своего имени, в этой заметке по крайней мере его нет. Ну а что касается денег, то это и вовсе явная клевета с вашей стороны.
— Позвольте, это вы меня обвиняете в клевете?! — Бен еще подумал, что того вот тут же, не дай бог, хватит апоплексический удар. Потому что Клуте сидел и отирал лицо, покрывшееся крупными каплями пота, огромным, как салфетка, носовым платком и все не мог отдышаться. Наконец он выдавил: — Это… мое последнее… решительное предупреждение, господин Дютуа, так и знайте. Школа не может позволить себе держать в штате всяких там политических агитаторов. Этого еще не хватало!
В тот же день он вынул из почтового ящика бандероль. Он долго разглядывал пакет, так и сяк вертел, изучая со всех концов. Он ничего такого не заказывал. Вроде бы ни у кого в семье не предвиделось ни дней рождения, ни других праздников. От кого же подарок? Почтовый штемпель отправления: Лесото. По счастью, надрывая бандероль, он заметил подозрительную проволочную нитку. И его словно озарило. Он тут же, не распаковывая, отвез пакет в полицию. На следующий день в полиции подтвердили, что это была пластиковая бомба. Никаких задержаний или арестов в этой связи, однако, так и не последовало.
26 октября. Стенли. Впервые за все эти недели. Понятия не имею, как это он ухитряется делать: являться вот так, невидимый, неслышимый. Судя по всему, пробрался через соседский участок, через забор. Но не в этом дело.
Новости от Стенли: старик уборщик, тот, что рассказывал ему подробности относительно одежды Гордона, исчез. Просто исчез и все.
Я вынужден был подвести в уме некий баланс. Итак, с одной стороны, все эти крохи, с миру по нитке. Хотя не так уж и невыразительный, на первый взгляд, перечень. Ну а расход? Не слишком ли дорогой ценой все это куплено? Я имею в виду не себя лично, не то, через что мне пришлось пройти: тревоги, заботы и ни на день не прекращающуюся травлю. Но других. Именно других, потому что в конечном счете это по моей вине им приходится страдать.
Уборщик: «исчез».
Д-р Хассим: передвижение ограничено районом Петерсбурга.
Джулиус Нгакула: в тюрьме.
Санитарка: содержится под арестом.
Ричард Гаррисон: приговорен к тюремному заключению, хотя подает апелляцию.
Кто еще? Кто следующий? Не занесены ли все наши имена в некий тайный список и каждый просто ждет своего часа, чтобы быть выключенным из жизни?
Я возжелал «очистить» доброе имя Гордона Нгубене, как выразилась Эмили. И единственное, чего добился, — увлек в бездну других людей. Включая Гордона? Ночами меня мучают кошмары, я просыпаюсь в холодном поту и все задаю себе вопрос: ну а не вмешайся я после того, как они его арестовали, ведь, может, он и остался бы в живых? Ужели я подобен прокаженному, одно прикосновение которого несет роковое несчастье?
А если тщательно разобрать все, что мы с таким трудом собрали за эти долгие месяцы, то много ли из этого представляет реальную ценность? Большей частью так, частные детали. Подтверждающие только то, что предполагали либо подозревали с самого начала. А есть что-нибудь действительно бесспорное? Предположим на минуту, все это указывает на совершенное преступление. И даже еще точнее, преступление совершено капитаном Штольцем. Но даже и тогда ничего окончательного, ничего неопровержимого, ничего, «кроме вполне обоснованного подозрения». На всем белом свете есть одно лицо, которое может рассказать правду о смерти Гордона, — это сам капитан Штольц. Но он же недоступен, он под защитой бастиона, сооруженного его системой, чтобы надежно служить ей.
Было время, я думал: «Ну ладно, Штольц, я знаю, нас двое, ты и я. Я знаю тебя в лицо, врага моего. Давай же сразимся один на один, как подобает мужчинам».
Какая наивность, какая глупость была с моей стороны.
Я понял самое страшное, а именно что называть кого-то одного, чтобы сказать себе: вот он, мой враг, — лишено смысла. Я не могу бросить ему перчатку и вызвать на дуэль: «К барьеру, сударь». Прошли те времена. Мне противостоит не личность и даже не группа людей, но явление, нечто неопределенное и бесформенное, невидимая, но вездесущая сила, что перлюстрирует мою почту и прослушивает мой телефон, внушает принципы и мысли моим коллегам по работе и восстанавливает людей против меня, кромсает в клочья покрышки на моем автомобиле и разрисовывает двери моего дома, открывает огонь по моим окнам и шлет по почте пластиковые бомбы, — сила, следующая за мной по пятам, играющая мной по своей воле и прихоти, установленным правилам.
Так что, по сути, я ничего не могу сделать, противопоставить что-нибудь эффективное, поскольку мне не дано даже знать, где притаился мой неведомый и невидимый враг и откуда дальше ждать его внезапного броска. Он же может стереть меня с лица земли в любой момент, когда ему заблагорассудится. Он волен решать: просто припугнуть меня, а устав вести эту игру, оставить в покое, или это только начало и он намерен продолжать, пока не доконает. Но где это будет и когда?
— Все, — сказал я Стенли, — Я пас. Больше я ничего не в состоянии сделать. Я устал. Я исчерпал себя. Мне ничего не надо, кроме покоя, капельки покоя, чтобы обрести равновесие и остаток жизни жить для своей семьи и себя самого, как раньше.
— Черт возьми, приятель. Если вы сейчас выйдете из игры… Так ведь только этого они всю дорогу и ждали. Неужели не понятно? Ну, вот уж точно на руку им сыграете.
— Откуда мне знать, чего они хотят? Я ничего больше не знаю. И знать не хочу.
Он выругался.
— Вот не думал, что у вас кишка тонка. — В хриплом голосе звучало откровенное презрение. — Ах, белый, пострадал малость и все, пас. А каково нашему брату, вот таким, как я? Всю эту вонючую жизнь только и знаем, что страдать, от первого дня, как свет божий увидел, и до последнего, пока тебя землей не присыплют. А он, видите ли, пас, больше не играет. Не-е-т. Так не пойдет.
— Ну что я могу сделать? Что, скажите?
— То есть как это «что могу сделать?» Держаться, вот что. А не пасовать. Больше ничего. Выдержите. Так ведь с вами какая уйма людей из беды выйдет. А сникнете теперь, все пойдет к черту. Долг на вас. Доказать должны.
— Что доказать и кому?
— Какая разница? Им. Себе самому. Мне. Всем этим богом проклятым парням, что еще умрут за здорово живешь самой что ни на есть «естественной» смертью, раз уж им в лапы попались. Если вы скиснете! — Он взял меня за плечи своими ручищами и встряхнул с силой, которой я даже от него не ожидал, раз и еще, у меня зубы застучали. — Слышите меня? Вы меня слышите? Да встряхнись же ты, жалкий недоносок. Или ты думаешь, что мне делать нечего, кроме как нянчиться с тобой? Я тут денег припас на это дело. А вкалывать будем вместе, ты и я. О’кэй? Выживем, приятель. Это я точно говорю.
8
31 октября. Конец недели, решительно ни на что не похожий, просто непостижимо. Даже если учесть, что не было никаких дел, вообще ничего, что составляло все мои заботы в течение последних месяцев. Может, в этом и вся причина. Единственное могу сказать, что, когда среди недели Мелани вдруг предложила мне это, моего угнетенного состояния как не бывало.
И раньше мне случалось вот так уезжать на конец недели, бросал все и ехал. Так бывало. На целую неделю даже, особенно в каникулы. Один, со школьной группой или с друзьями, случалось, с Йоханном вдвоем. Сюзан с нами ни разу не ездила. Не любит вельд. Не скрывает презрения к этому «зову природы».
Но за последние годы не припомню даже, когда выбирался. Поэтому вполне понятно раздражение Сюзан, когда я сунулся с этим («Я договорился на субботу и воскресенье махнуть в сторону Магалисберга, — сказал я, как мог безразлично, — с одним моим приятелем, профессором Филом Брувером. Надеюсь, ты не против»).
— Я думала, ты избавился наконец от этих мальчишеских привычек.
— Мне нужно развеяться, переменить обстановку.
— А тебе не кажется, что мне тоже хотелось бы переменить обстановку?
— Но это же горы, ночевки в палатке, пешие переходы. Совсем не твой стиль.
— Не об этом речь. Просто можно было бы поехать куда-нибудь вдвоем.
— Почему бы тогда тебе не съездить к Сюзетте?
Она не ответила, только посмотрела на меня. И меня как ударило, когда я увидел, как она постарела, какие у нее усталые глаза. И еще, было что-то неряшливое, какое-то безразличие к себе, и это у женщины, всегда такой ухоженной, привередливой до изощренности, когда дело касалось собственной внешности.
Больше мы к этому не возвращались. А спустя два дня, в субботу утром, когда Сюзан ушла за покупками, они заехали за мной, и мы умчались. Профессор Брувер, Мелани и я втиснулись на переднее сиденье старенького «лендровера», явно знавшего лучшие дни, как заметил хозяин, однако не сдававшегося с годами. Мелани откинула верх. Солнце и ветер. И навстречу всем ветрам, пусть переднее стекло в паутине трещин, а из сидений клочьями торчит набивка.
Город остался позади, и нас тут же окружил ясный, теплый день, и мы растворились в нем. Год выдался почти без дождей, и трава едва входила в рост после зимы. Хрупкая, как соломка. Обожженный краснозем. Здесь и там, на поливных участках, полосы зелени всех оттенков. И снова пустынное ровное плато. И наконец первые изломы почвы, отроги гор. Доисторический ландшафт, выжженная солнцем земля; начисто выветренная, нагая, она лежала, открыв небу все свои тайны. И узкие зеленые долины среди холмов своими купами деревьев, и зеленью склонов, и домиками под красными крышами оставляли впечатление почти анахронизмов, чего-то несвойственного этой земле. Человек еще не пустил здесь корни по-настоящему, нет; это как была, так и осталась ничейная земля. Он гость на ней, человек, и, если земля решит стряхнуть его с себя, что ж, ей только дохнуть — и он исчезнет, не оставив следа. Единственное, что вечно и неизменно, — это горы, окаменевшие останки некоего безмерного остова. Древней Африки.
Иногда что-то мелькало по сторонам. И кто-то мелькал. Разрушенная ветряная мельница. Груда ржавой жести. Останки автомобиля. Пастух в шляпе, висевшей лохмотьями, и с посохом в руке, на котором трепетал красный лоскут, погонял свое жалкое стадо. Еще человек. На велосипеде.
Воспоминания детства. Поездки с отцом на двуколке или маленьком зеленом «форде». Мы с Хэлен играем в невесть откуда пошедшую игру, «чур, кто первый увидит», кто первый увидел, чур, того и будет. «Чур. Мой дом». «Чур, моя овца». «Чур, моя запруда». И если попадался черный мужчина, женщина или ребенок, все равно: «Чур, мой раб». Как это казалось тогда естественно. Мы едва замечали, как они складывались, наши стереотипы, вокруг, в нас самих. Ужели так все начинается, с такого вот простого детского неведения? Ты черный, а потому ты мой раб. Я белый, что делает меня твоим господином Проклят Ханаан: раб рабов будет он у братьев своих. Ибо распространил бог Яфета, Ханаан же будет рабом ему.
Старенький «лендровер», дрожа и подпрыгивая, пожирал километры и не сдавался, даже когда Брувер свернул с гудрона и пошел петлять по пыльным проселкам, все глубже в горы. Разговаривать в этой адской тряске было невозможно. Да и не было ни необходимости, ни желания. Мы с покорностью вверили себя судьбе, и да будет отброшено все лишнее, и пусть откроется суть. Думать и то ненужная роскошь, и ее прочь, нечего забивать себе головы. И то, что нахлынуло на меня из моего детства, не было мыслью, рожденной разумом, это был образ, и только. Понятие. Образ вещей.
Мы остановились высоко в горах. Здесь, среди первозданного хаоса диких скал, приютилась ферма друзей Брувера. Она стояла в глубокой долине, среди тучного пастбища; роща тополей, по вымощенному канальцу бежала вода, водопадом, низвергающимся из запруды на склоне где-то за домом, сложенным из дикого камня. Веранда была огорожена проволочной сеткой. В огромной клетке порхали канарейки и длиннохвостые попугаи. Клумбы. Во дворе рылись в земле, кудахтали куры. На выгоне одинокий теленок, через равные промежутки времени он жалобно мычит.
Очаровательная пожилая пара, миссис и мистер Грейлинг. Руки у старика задубелые от земли, с обломанными ногтями, и такое же продубленное лицо, только и есть белого что полоска на лбу, там, где шляпа закрывает голову от солнца. Миссис Грейлинг — крупная дородная женщина. На голове у нее соломенная шляпа с широченными полями, из-под нее выбиваются растрепанные волосы, на подбородке родинка с пучком черных волос. Когда говорит, все время прилаживает языком вставную челюсть, протез плохо сидит. Едва подъехали, она тут же направилась к нам вразвалку, шла, видно, из домика для наемных рабочих, в нескольких стах ярдов в стороне. Там у ребенка жар, простуду схватил, сказала она нам, вот ей и приходится ночами сидеть, выхаживать.
Мы устроились на просторной веранде в холодке, пили чай и непринужденно болтали. Ни о чем серьезном. О засухе и видах на дожди, о рабочих, на которых все меньше можно положиться — «Что за спиной! В глаза дерзят!» — о том, как уродилась земляника, что вчера передавали по радио в последних известиях. Благодать — вот так снова окунуться в ничего не значащие вещи.
Они и слышать не хотели отпускать нас без обеда. Баранья ножка, рис и жареный картофель, зеленый горошек, фасоль и морковь с огорода, даже кофе со своей плантации. Только в половине четвертого мы взвалили наконец рюкзаки на плечи и по тропинке, проложенной по крутому склону за домиком из дикого камня, прилепившимся к скале, пустились в горные выси Фила Брувера.
Он ступал впереди в своих тяжелых горных ботинках, серых носках и широченных шортах, юбкой колыхавшихся вокруг костлявых коленок. Загорелые мускулистые икры. Шел, весь подавшись вперед под тяжестью рюкзака, выцветшего от времени и всех ветров на свете. И под стать хозяину на берете у него задиристым хохолком торчало индюшачье перышко. Ступал прокуренной козлиной бородкой вперед, опираясь на посох, строганный из бука, и не отирал пота с продубленного непогодами лица. За ним Мелани, след в след, в старой отцовской ковбойке, узлом стянутой на голом животе, и джинсах. Обрезала по колени и даже не прострочила, висели бахромой. Шла, пружинисто ступая загорелыми ногами в теннисных туфлях. А я за ней, отставал, то и дело приходилось прибавлять шагу.
Горы в этих местах не очень высокие, но зато куда круче, чем кажется, когда смотришь снизу. И удивительное ощущение: будто не ты поднимаешься вверх, а мир пятится от тебя и уходит из-под ног, чтобы оставить, покинуть и бросить в этом разреженном и полупрозрачном воздухе. И разве что налетит вдруг легкое дуновение ветерка, но и этого достаточно, чтобы обжечь тебе лицо холодом, когда ты весь в поту. Сухой шелест травы. Иногда мелькнет птица маленьким комочком или ящерица под ногами.
Мы то и дело останавливались перевести дух и оглядеться. Старик уставал скорее, чем я мог подумать. Это не ускользнуло и от внимания Мелани. И должно быть, это ее тревожило, потому что я расслышал, как она спросила его, как он себя чувствует. «Порядок», — буркнул он досадливо, ему это явно не понравилось. Но я заметил, что она тут же стала искать всякие предлоги, чтобы лишний раз остановиться: то полюбоваться скалой какой-нибудь невероятной формы, сочной зеленью деревца или очертаниями причудливой коряги, то показывала нам что-то в долине, оставшейся далеко под ногами.
На одном совсем лысом склоне мы миновали рой хижин, они так и сгрудились роем. Жалкое стадо коз, голых черных ребятишек, играющих в иссохших от зноя кустах, одинокого старика, греющегося на солнце в дверях хижины и попыхивающего длиннющей трубкой. Он приветствовал нас, пустив клуб дыма.
— Слушайте, а не построить ли нам здесь хижину и не зажить ли тихо, мирно в этом благолепии, а? — сказал я, не знаю зачем, с тоской по молодости, по ушедшему прошлому, не знаю. — Огород вскопаем, посадим картошку, коз разведем. Огонь есть, крыша над головой тоже, а глинобитные стены хорошо защищают от непогоды. Сиди себе и смотри, как облака плывут над головой. А хоть бы и тучи, нам какое дело…
— Просто вижу, как вы сидите здесь оба и покуриваете себе трубочки, пока я делаю всю домашнюю работу, — сказала Мелани.
— Добрый старый патриархат, — отвечал я и еще посмеялся: — Лично мне нравится, хорошо придумано.
— Не беспокойтесь. Уж я позабочусь, чтобы вам скучно не было, работы по горло хватит. Детей учить станете. Ведь при патриархате детей много бывает?
Больше чем уверен, здесь не крылось ничего такого. И все-таки, когда она это сказала: «детей» — мы тут же замолчали, и не так, как молчали иногда, это было что-то совсем-совсем другое, настороженное, что ли, молчание. Она посмотрела мне в глаза, и я, залитый прямым солнечным светом, весь на виду, ответил ей взглядом. И все ее очарование, простодушие этих открытых больших темных глаз, нежная припухлость губ, волосы, чуть-чуть трепещущие на легком ветерке, и эти нежные плечи, согнутые под тяжестью дурацкого рюкзака, выцветшая ковбойка, завязанная узлом на животе, а между отцовской рубахой и джинсами трогательная впадинка на животе…
Это был миг, когда все, что имело значение, существовало само по себе, одно во всем мире, изолированное в безбрежном пространстве.
И, словно прочитав наши мысли, ее отец сорвал, не дав расцвести, этот бутон неразумной и сумасбродной романтики.
— Нельзя поворачиваться спиной к миру, — сказал он. — Не в те времена живем. Мы вкусили от запретного плода, так что путь наш — в мир грешный, иного не дано. — И тут же, казалось без всякой связи, пустился рассказывать историю, какими был буквально напичкан. — Мой старый приятель Хельмут Крюгер, немец из Юго-Западной Африки, в войну был интернирован. Но старине Хельмуту в чем другом, а в сообразительности не откажешь, умный, шельма. Посидел, посидел и однажды исчез, юркнул под грузовик, на котором в лагерь овощи возили, пристроился как-то там на раме, — он вконец выбился из сил и присел отдохнуть, — и был таков. А только вернулся он к себе на юго-запад, и что же? Ни друзей, ни соседей. Кто уехал, кого интернировали, а ему носа на улицу не показать: опознают, тут же снова арестуют. Довольно мрачная перспектива. — Он принялся набивать трубку.
— Ну и что потом? — поторопил я его.
Брувер озорно улыбнулся:
— А что ему оставалось? В один прекрасный день он преспокойно возвращается в лагерь, на том же фургоне с овощами. Можете представить себе физиономию коменданта на очередной перекличке, когда они обнаруживают одним заключенным больше по счету? — Он вздохнул. — Мораль? А мораль такова: сколько ни беги из своего лагеря, в конце концов все равно вернешься. Условия. Руссо ошибался насчет того, что человек рождается свободным, а повсюду он в цепях. Как раз наоборот. Мы рождаемся в зависимости. И уж затем, по мере собственной добродетели, либо глупости, либо храбрости, вырываемся на свободу. Пока не озарит и не вернемся в свой лагерь. Мы так и не научились пока обращаться со свободой, она нам невмоготу, видите ли! Жалкие, ничтожные создания. — Он поднялся. — Пошли. Не целый же день нам здесь штаны протирать.
— Ты очень бледен, — сказала Мелани.
— Придумываешь. — Он отер пот, и я тоже обратил внимание, как бледность выступила на его покрытом загаром лице, оно стало серым. Но он, не обращая на нас внимания, дернул плечами, поправляя рюкзак, взял свою тяжеленную палку и зашагал.
Мелани, однако, позаботилась, чтобы до захода солнца мы все-таки стали лагерем. Протиснулись в щель и оказались в маленьком убежище, наглухо защищенные со всех четырех сторон огромными валунами. Собирали хворост. Потом мы с ним оставались одни, пока Мелани ходила собирать траву, ветки на подстилку под спальный мешок. Я сидел и смотрел на нее, пока она не исчезла за гребнем скалы, бугристой и похожей на окаменелый позвоночник некоего доисторического животного. А как мило было бы моему сердцу пойти с ней, но ее «добропорядочная линия» жизни заставила меня остаться в компании с ее старым отцом.
— Что это вы такой подавленный? — спросил Брувер, и я понял, что он давно за мной наблюдает. — Вы в горах, Бен. Забудьте обо всем остальном на свете.
— Увы. — Я принялся рассказывать ему о досадах и неприятностях последних недель, исчезновении этого старика уборщика, о своем визите на Й. Форстер-сквер. — Если б они только одно мне разрешили: обсудить все начистоту, — сказал я. — Но я натыкаюсь на стену непонимания. Они просто не дают мне слова сказать. Ни спросить, ни объяснить, ни обсудить.
— А вы на что рассчитывали? Ужели непонятно, именно этого — обсудить, дать вам высказаться — они и не могут себе позволить. Ведь что значит разрешить вам задавать вопросы? Они вынуждены тем самым признать возможность сомнения. Свой же raison d’être[31] они видят именно в том, чтобы исключить эту возможность как таковую.
— Почему должно быть так?
— Потому что в этом суть силы. Грубой силы. Этим они пришли к власти, этим держатся. Сила же может исчерпать себя. — Он принялся укладывать хворостинки на место, избранное им для нашего очага. — Если у вас счет в швейцарском банке, если у вас ферма в Парагвае, если у вас вилла во Франции, если у вас интересы в Гамбурге, Бонне и Токио, если от одного движения вашего пальца зависят судьбы остальных, ох какой совестью надо вам запастись, дабы заставить себя действовать против собственных интересов. Совесть же — растение нежное, ее надобно лелеять, резкого колебания температур она не выносит.
— Тогда безумие надеяться даже на малейшие перемены.
Он сидел, как бушмен, на корточках, раздувая огонь. Солнце село, и сразу опустились сумерки. Лицо у него красное в отблесках занимавшегося огонька и от натуги, он с трудом перевел дыхание и, прежде чем ответить, сидел некоторое время, отдуваясь.
— Есть лишь два вида безумия, Бен, которых должно остерегаться, — произнес он спокойно. — Вера в то, будто мы все можем. И еще — будто мы ничего не можем.
Во тьме я разглядел ее, она шла к нам, и у меня заколотилось сердце. Какими неисповедимыми путями дает это знать о себе? Непостижимо, подобно семени, брошенному в землю, и вдруг существования его, доселе невидимого, уже никому не дано отрицать. Так и со мной. В тот самый миг, когда мое сердце угадало ее в темноте, еще прежде, чем видеть ее, идущую к нам, я понял, что люблю ее. И еще я понял, что это невозможно, что это идет против всего того, что я собой представляю, всего, во что верю.
И я стал избегать ее. Не ее остерегался, но себя самого. Конечно же, немыслимо было заставить себя смотреть и не видеть. Пока мы все втроем были заняты приготовлением ужина, я старательно не замечал ее. Потом это стало невозможно, потому что старик тотчас забрался в свой спальный мешок.
Она еще села рядом с ним и встревоженно допытывалась: что? почему? правда ли, он себя хорошо чувствует?
Он только кивнул и проворчал, что просто малость устал.
— Годы не те, — сказал он ей. — Ну, хватит об этом. Правда, что-то не по себе. Наверное, съел что-нибудь лишнее. А теперь оставь меня, спать хочу.
И вот мы вдвоем у огня. Она то и дело поглядывала в его сторону, как он, даже подошла посмотреть, дышит ли. Но он мирно спал. Когда огонь слабел, я подкладывал в наш очаг хворост, не давая огню угаснуть, и тогда сучья вспыхивали, потрескивая, и тысячи искр уносились во тьму. Иногда нас обдавало сухим дыханием ветра, а когда хворост дымил, за дымом нашего очага пропадали мерцающие звезды.
— Вас что-нибудь беспокоит? — спросил я и кивнул в сторону старика.
Она смотрела на огонь, джемпер набросила на плечи и зябко поеживалась, когда холодный ночной ветер залетал волной в наше убежище.
— Да нет, к утру все будет в порядке. — И долго молчала. А потом повернулась ко мне: — Ничего не беспокоит. Просто я понять не могу природы привязанности. Теряешь голову, когда подумаешь, что удержать ничего невозможно. — Она резким движением головы, в ярости почти, забросила за спину волосы, мирно покоившиеся на плечах. — Глупости говорю. Ночью со всеми так. Защитная способность ночью ослабевает.
— Вы его очень любите?
— Конечно. Он всегда со мной. Когда я порвала с Брайеном, он один все понял. Я еще сама не понимала, что происходит, только подсознательно чувствовала. А он понял. Но я не поэтому вернулась к отцу: просто не могла менять одно ярмо на другое. Когда решаются на такое, как я тогда, надо набраться сил выстоять в одиночку. Непременное условие. Иначе… — Она снова обернулась в его сторону и долго прислушивалась к его дыханию, потом уставилась на огонь и помолчала.
— Неужели действительно можно существовать самому по себе? — спросил я. — Абсолютная независимость от всех и вся, это возможно? И разумно?
— Нет, я не хочу отделять себя от чего бы то ни было. В этом смысле вы, конечно, правы. Но и быть зависимой от кого бы то ни было, то есть смысл и сущность ставить в зависимость от другого человека…
— А что же тогда любовь?
— Когда я ушла от Брайена, — сказала она, — он любил меня. И я его любила. Так по крайней мере, как принято понимать это слово — любовь. — Молчание. И прямой взгляд. — Если хочешь быть журналистом, если в тебе это действительно серьезно, надо научиться не ставить во главу угла собственную безопасность, стабильность своего положения и вообще не воображать себя центром мироздания. Сегодня здесь, завтра там. Вверх-вниз по Африке. И везде найдется человек, который заставит и тебя понять, что ты человеческое существо, так восприми же все человеческое, проникнись нуждами людей, почувствуй, что сама алчешь. Но ты не смеешь сдаваться. Не совсем, конечно. Что-то всегда удерживает. Ну делишь с кем-то дни, случается, разделишь и ночь, — Она долго молчала, и мне стало совестно до отвращения собственных недавних желаний. — И снова в путь, — сказала она.
— Чего вы добиваетесь? — спросил я, — Это действительно нужно, вот так казнить себя?
Она импульсивно взяла меня за руку.
— Бен, а вам не приходило в голову, что и мне хотелось бы стать просто маленькой хозяйкой большого дома, чтобы вечером, как и все, встречать у двери своего мужа, когда он возвращается с работы? Тем более, когда тебе тридцать и ты женщина и понимаешь, что время уходит и надо спешить, если хочешь иметь детей. — И раздраженно тряхнула головой. — Да я вам рассказывала все это. Эта страна не позволила мне распорядиться собой таким образом. Хочешь жить в ладах с совестью, откажись от личной жизни — так здесь все устроено. Интимное, личное, порвите со всем этим, или мы разрушим. И если уж выбирать, то как можно меньше того, что может быть разрушено.
Я избегал смотреть на нее и сидел, уставившись на яркие уголья, словно пытаясь проникнуть в то, что скрыто под ними, в самом сердце черной земли. И я сказал то, чего не мог больше хранить в душе.
— Я ведь люблю вас, Мелани.
Ее тихий вздох. Я так и не поднял на нее глаз. Но я знал, что она рядом, и еще, что нет на свете человека, которым бы более дорожил. Не поднял глаз, но видел ее лицо, и волосы, и хрупкую ее фигуру, и плечи, и руки с нежными пальцами, и девичью грудь под отцовской, не по росту, рубахой, и упругую линию живота, все, что составляло ее самое; и еще более остро, нежели все это, я ощущал само ее присутствие рядом и жаждал ее, как земля жаждет дождя.
Потом она положила голову мне на плечо. И это было единственной нашей лаской. Теперь я думаю, а случись нам иначе выразить наш порыв и наше открытие друг друга? Земля не показалась бы нам камнем, а ночь укрыла бы нас. Но я был полон страха перед этим, и она, так мне кажется, тоже. Страха перед тем, что это всегда подводит черту и дает одно-единственное определение отношениям; перед всем, что до этого существовало лишь как возможность, пусть и осознанная. Мы же сострадали один другому, и моральным долгом нашим было не вовлекать друг друга в большее, чем то, с чем мы могли справиться или что было нам дозволено.
Так мы и сидели, и, должно быть, было совсем поздно, когда поднялись. Угли едва тлели. Она повернулась ко мне, и я еле разглядел ее лицо в их тусклом отблеске. Потянулась на цыпочках и на миг коснулась моих губ своими. Коснулась, шагнула торопливо к своему спальному мешку и легла рядом с отцом; он дышал глубоко и неровно.
Я подложил топлива в огонь и тоже лег. Я дремал урывками, сон не шел. А проснувшись, долго лежал, закинув руки за голову, и смотрел на звезды. Жуть брала от воя шакалов где-то неподалеку. Я лег на бок и, когда глаза привыкли к темноте после ярких звезд, стал смотреть на неверные в свете затухавшего очага черные тени рядом. Ближе ко мне старик. А за ним она, Мелани. И откуда-то из далекого далека зазвенел в ушах ее нарочито несерьезный, как в чужой роли на сцене, голос: «Разве не самое страшное, когда человек обнаруживает, что до оскомины надоел другому?» Шакалы затихли, и воцарилась тишина. Но я не мог больше лежать. Эта ее близость и едва различимое в ночи дыхание не давали мне покоя. Я подложил в едва тлевший огонь несколько веток потолще, подул, пока они не занялись, и сел, накрывшись спальным мешком. Набил трубку. Стал ждать рассвета. Раз-другой старик простонал во сне. Если б Мелани не спала, понятно, подхватилась бы. Так я и сидел над ними, точно храня безмятежный сон младенца.
Вот к чему это привело. Покой, очарование красоты, минута озарения или нечто более величественное в своей первозданности? Ночь вокруг нас, непроглядная, как судьба?
Мысли мешались, и снова нахлынули воспоминания. Детство. Университет. Лиденбург. Крюгерсдорп. Затем Йоханнесбург. Сюзан. Наши дети. Обязанности. Раз и навсегда предопределенный порядок моего существования. А затем отклонение от курса, столь незначительное, что ведь едва и заметил. Джонатан. Гордон. Эмили. Стенли. Мелани. И за каждым именем нечто необъятное, как эта ночь. И такое чувство, будто я на краю бездны. И совершенно один.
Я подумал: вот ты спишь сладким сном в двух шагах от меня, и я не смею коснуться тебя. И все-таки, оттого что ты здесь, оттого что мы одни в этой ночи, и возможно продолжать верить в самую возможность чего-то цельного, важного.
Пронизывающий предрассветный холод. Шелестит порывами ветерок. Звезды меркнут, становятся серыми. И на горизонте, сначала едва заметная, мелькает полоска занимающейся зари, медленно, не торопясь отворяя глазам землю, и вот открываются тайны ночи, затейливые и не приличествующие свету дня.
Я тут же принялся готовить кофе. Я еще не кончил, когда старик поднялся и подсел к огню. Сидел нахохлившись, его знобило, и он был нездорово бледен.
— Что с вами, профессор?
— Не знаю. Неприятное какое-то состояние, не отпускает. Дышать тяжело. — Он потер себе грудь, там, где сердце, потянулся, расправил плечи. И тут же беспокойно оглянулся: — Ни слова Мелани. Она станет с ума сходить, а я-то знаю, что ничего особенного, пройдет.
А ей и незачем было рассказывать. Она, как глаза открыла, едва взглянув на него, тут же все поняла. И сразу же после завтрака, к которому никто из нас не притронулся, она, несмотря на все его протесты, велела поворачивать назад. Ни взглядом единым ни она, ни я не напомнили о ночи. Не было никакой ночи. В свете дня все предстало бы нелепым и абсурдным. Последний километр нам пришлось поддерживать его. Так мы добрались до фермы. Мелани погнала машину что есть духу. Я хотел их проводить до дому, вдруг понадобится помощь, но она сказала, что сначала подбросит меня домой.
Я не знал, куда себя деть весь день. Она позвонила вечером. Он в больнице, положили в интенсивную терапию. Сердечный приступ. Все.
На следующий день я поехал к ним, но ее не было. Вечером она позвонила. Кризис миновал, но он еще очень слаб. Похоже, придется полежать в больнице несколько недель.
— Мне заехать? — спросил я.
— Нет, лучше не надо. — И тут же безмятежно и тепло, совсем как в минуты нашего счастья в горах, что так коротко нас одарило: — Правда, так ведь лучше…
И оставила меня с не дававшей теперь покоя нелепой мыслью: ужели и это твой грех? Теперь Фил Брувер. Профессор Брувер… Что ж ты за прокаженный?!
Но я не дал этой новой депрессии завладеть собой. Что ни случись отныне, я должен помнить и не забывать никогда на свете ту единственную нашу ночь в горах. Она была, эта ночь, какой бы нереальной ни казалась потом в воспоминаниях. И ради этих воспоминаний я должен продолжать. В этом — жизнь. В конце концов, Стенли был прав. Мы должны выдержать. Мы должны выжить.
9
В конце ноября Фила Брувера выписали из больницы. Бен вез его домой, Мелани он посадил на заднее сиденье. Старик был хрупок и бледен, на ладан дышал, хотя ничто не поколебало неистребимый его дух. Даже болезнь.
— Я решил пока не умирать, — заявил он. — Подумал, что просто не готов вот так, сию минуту, и будьте любезны. Решительно не готов! Слишком много отвратительных привычек не исчерпано, ну и все такое… — С каким-то нарочитым мальчишеством, что ли, ораторствовал он. — То есть я хочу сказать: может быть, я испустил свой дух, прошу прощения, совсем не в ту сторону, что нужно. Точнее, святой Петр, может, и не одобрил бы, если б я вот так, подобно ангелу во плоти реактивного истребителя, вдруг ворвался бы с этим вз-вз-з-з-з-в… во врата рая его… Ха-ха…
При всем беспокойстве о здоровье старого Брувера у Бена просто руки опустились при таком начале. А тут еще водопад — в полном смысле этого слова — людей, искавших его помощи, не иссякал. Разрешение на работу; просьбы о паспортах; проблемы с полицией или муниципальными властями; женатые мужчины, отказывающиеся проживать в одних квартирах с цоци и желающие переехать с семьями в пригород; дети, обвиненные в поджоге и саботаже; женщины, в отчаянии от непрекращающихся облав в пригородах после того, как там был обнаружен склад оружия. Трогательная пожилая пара в опрятных воскресных костюмах: месяц назад их пятнадцатилетний сын был выслан на Роббен-Айленд, и вот теперь им сообщили — сердечный приступ, согласно заключению тюремной администрации; но как это может быть, твердили они, мальчик был абсолютно здоров. И им предписано забрать тело в Кейптауне до следующего четверга, в противном случае оно будет похоронено без них. Но у них просто нет таких денег, старик больной и без работы, и весь их доход — что зарабатывает жена как домашняя прислуга. Но как свести концы с концами на двадцать рандов в месяц, не говоря уж о таких расходах, как поездка в Кейптаун?
Большинство просителей он посылал к Стенли либо к Дэну Левинсону; в ряде сложных случаев обращался к Мелани. О ситуации с пожилой парой Бен также упомянул в разговоре по телефону с тестем. Последний тут же взялся за дело и устроил так, что тело было перевезено в Йоханнесбург поездом за казенный счет. На этом, впрочем, дело и кончилось. Диагноз с «сердечным приступом» никто не пересматривал, да и пресса, если не считать газеты Мелани, тоже его замолчала.
В его подавленном состоянии это постоянное участие в вечных чужих проблемах единственно и спасало Бена, помогало ему держаться. Пока люди шли к нему за помощью, оставалось по крайней мере хоть что-то, чем он мог жить, пусть даже все это, на периферии сознания, и не было главным — тем, что ни на минуту не отпускало. Истовые поиски новых доказательств, проливших бы свет на смерть Гордона и Джонатана. Сведения, собранные за эти месяцы, оказались менее драматичными, нежели некоторые уже выявленные до этого подробности. Тем не менее он мало-помалу пополнял свое досье. А с учетом того, что слишком на многое и не приходилось рассчитывать, в этом его медленном, но все-таки движении вперед был какой-то смысл. Бен не оставлял надежд, что полицейский которого нашла тогда Эмили, Джонсон Сероки, не навсегда потерян, а по его глубокому убеждению, у него-то и был ключ к последней неразгаданной тайне, которая поставит все на свои места. А пока ему оставалось довольствоваться любой мелочью, отмечая в уме хоть что-то относящееся к делу, только бы оно пусть медленно, но продвигалось. Уповать на будущее — тут ничего не стоило лишиться остатков мужества. Но если оглянуться назад, ведь столько сделано. Он уповал на себя.
А затем, это было в первую неделю декабря, случилось непредвиденное, едва ли не провал. Газеты сообщили, что Дэн Левинсон бежал. Перешел границу с Ботсваной (с риском для жизни, ведь нет почти никаких шансов на подобную затею, утверждали газеты) и проследовал в Лондон, где ему было предоставлено политическое убежище. Там он дал, одно за другим, целую серию интервью для печати, объясняя, почему и как его положение в Южной Африке стало нетерпимым и как в этой связи создалась угроза его жизни. Он заявил, что вывез достаточно документального материала для книги, которая окончательно прольет свет на незаконный характер действий полиции. Его фотографии замелькали в газетах. Фото, сделанные в ночных клубах или на светских приемах, большей частью в обществе восходящих кинозвезд и супруг газетных магнатов. Он решительно и резко отверг сообщения из Южной Африки, будто прихватил с собой тысячи рандов наличности, переданные ему как адвокату на условиях доверительной собственности, в том числе и депозиты своих черных клиентов. Тем не менее ряд лиц при встречах с Беном после того, как разразилась эта сенсация, жаловались на непомерные гонорары, которые якобы запрашивал с них этот адвокат, хотя Бен расплачивался с ним за консультации, о которых шла речь, из собственного кармана либо из средств, выделенных на это газетой, где работала Мелани.
Потеря такого количества свидетельских показаний и документов потрясла Бена. По счастью, он хранил почти все в копиях в своем тайнике в ящике для инструментов. Это единственно и смягчило удар. Тем не менее, когда Стенли принес ему эту новость, у Бена опустились руки.
— Боже мой, — выдавил он. — Как он мог так поступить с нами? Я доверял ему!
Стенли, похоже, ничего другого и не ожидал, только расхохотался.
— Ну-ну, приятель. Надо отдать ему должное, он нас вот как вокруг пальца обвел! Ого! Я так считаю, вот уж кто акула, так это он. Одно мне в голову не приходило, что он еще такой отличный артист: ведь как сыграл! Ей-богу. — Он с удовольствием снова развернул газету и принялся читать вслух слово за словом описание того, как глухой ночью, в жесточайший шторм Д. Левинсон милю за милей ползком пробирался через минные поля в строго патрулируемой зоне, пока не пересек границу. — Вот это человек, скажу я вам. Столько миль отмахать, а? Такого теперь голыми руками не возьмешь. Ну что мы с вами перед ним? Мальчики в коротких штанишках. А нам что, ничего не светит? Может, тоже дадим драпу? А? Подцепим там парочку шикарных блондинок, — он изобразил в воздухе руками, что он имеет в виду, — и станем себе жить-поживать, добра наживать. Сказка! Как насчет этого, а?
— Не смешно, — бросил Бен.
Стенли какую-то минуту глядел на него посерьезневшими глазами. Затем произнес:
— Вы раскисли, друг мой. Вам теперь в самый раз хорошенькая… ну, как это? Вам stokvel нужна.
— Это что такое? — недоверчиво поинтересовался Бен, он не знал этого слова.
— Ну вот видите! Вы даже понятия не имеете, что это такое. В пятницу завалимся и устроим гигантскую… а, встряска! — вот как это по-вашему… завалимся аж до самого понедельника. — И, перехватив его непонимающий взгляд, добавил: — Ну вечеринку устроим, понимаете? Не выпивку там какую-то, а такого сорта, когда танцы до упаду и когда любая штучка на выбор, передохнул, подкрепился и снова порядок. Слушайте, я вам обещаю: до вечера в воскресенье — если живы будем, там и окочуриться ничего не стоит, — вы не просохнете, зато почувствуете, словно родились заново. А вам только это и нужно.
Скорчив брезгливую гримасу, Бен спросил его:
— И это единственное, что вы можете предложить?
— Не в пример сильнее касторки помогает, приятель. Нечего морщиться. Вам это теперь в самый раз. Если уж человека от шутки с души воротит, значит, все! Крышка. — И хлопнул Бена по спине. — А я не желаю видеть ваши скорбные глаза, приятель. Нам еще жить и жить.
Бен вымученно улыбнулся.
— Ладно, Стенли, — ответил он. — Я-то никуда не денусь. — Вздохнул, помолчал и добавил: — Да и что еще мне остается?
Его зять Крис, муж Сюзетты, против собственного ожидания, но в силу влияния на него во «внутренних кругах» организовал Бену встречу с членом кабинета министров. Так что в один прекрасный декабрьский день тот направился в Преторию.
Обшитый панелями кабинет и все строго функционально. Письменный стол завален бумагами. В углу под картой Южно-Африканской Республики столик, на нем графин с водой и семейная Библия, все. Господин министр оказался расположенным к шуткам человеком, этакий веселый толстяк с бычьей шеей, плечами тяжеловеса, здоровенными ручищами. Волосы прилизаны, на носу очки в проволочной оправе, ну точь-в-точь как у мистера Пиквика, только с двойными линзами. Первые несколько минут болтали о всякой чепухе. Министр интересовался его работой, справился о семье, не преминул коснуться призвания, коего требует педагогическая деятельность, и надежд, которые возлагаются на молодое поколение. Похвалил в этой связи добрых парней, что исполняют свой долг в армии и полиции, защищая нацию от козней коммунистов, и в той же интонации своим поставленным голосом осведомился, чем может служить.
— Ибо полагаю, господин Дютуа, вас привело ко мне желание кое-что обсудить со мной?
И снова — в который уже раз? — Бен кратко изложил историю Гордона Нгубене до самого дня его смерти.
— У каждого есть полное демократическое право на смерть, — изволил пошутить на это господин министр и заулыбался.
Бен молча разглядывал его.
— Вы вправду верите, что он покончил с собой? — только и нашелся он спросить.
— Обычный прием этих коммунистов уклониться от дознания.
— Господин министр, Гордон Нгубене был убит.
Коротко и четко Бен сформулировал все, что ему удалось установить в ходе своих расследований.
Теперь в холодном взгляде внимательно рассматривавших Бена глаз не было и тени недавнего добродушия.
— Господин Дютуа, полагаю, вы отдаете себе отчет в серьезности заявления, сделанного вами относительно людей, которые исполняют неблагодарную, но необходимую работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах?
— Я знал Гордона Нгубене, — ответил он, сдерживая себя. — Обычный порядочный человек, у которого и в мыслях не было сделать кому-либо зло. И когда они убили его сына…
— Сын, насколько мне известно, был застрелен наряду с другими подстрекателями в одной из ожесточенных схваток демонстрантов с полицией в Соуэто?
— Джонатан погиб в камере после двух месяцев заключения. У меня есть доказательства, что его видели в больнице в критическом состоянии именно накануне его смерти. И свидетели есть на этот счет.
— Вы абсолютно уверены, господин Дютуа, что не являетесь игрушкой в руках лиц, действующих с весьма сомнительными намерениями?
Бен оперся о подлокотники кресла, полагая, что больше говорить не о чем, остается встать и уйти.
— Означает ли это, что вы не желаете расследования этого дела?
— Скажите-ка, — спросил тут министр, — ведь это от вас исходила эта история, вокруг которой еще устроила шумиху английская печать? Я не ошибаюсь?
Он почувствовал, как кровь приливает к голове.
— Да, — ответил он сквозь зубы. — У меня не было выбора после того, как наши бурские газеты дали мне от ворот поворот.
— Могу себе представить. У них было предостаточно оснований. Похоже, они отдавали себе отчет в том, какой ущерб будет нанесен националистической партии, если станут кричать об этом с каждой колокольни. Тем более люди, которые вряд ли отдают себе отчет в том, о чем пытаются рассуждать.
— Я думаю об интересах страны, а не партии националистов, — отрезал Бен.
— А что, вы действительно полагаете, господин Дютуа, будто это разные вещи?
Бен рывком подался вперед, но тут же постарался взять себя в руки. И все-таки голос у него дрожал.
— Господин министр, — произнес он, — вы отдаете себе отчет в том, что если я уйду отсюда с пустыми руками, то вы, именно вы кладете конец всяким попыткам официального расследования этого дела?
— О, я не отпущу вас с пустыми руками, — сказал министр, улыбаясь щедрой улыбкой. — Я попрошу полицию разобраться в этом деле и доложить мне.
10
26 декабря. Жалкое вчерашнее рождество. И тем более безутешное, ибо Мелани с отцом еще неделю назад уехали в Кейп. Полон дом родственников. Сидел, точно загнанный в угол. Даже Линда дуется на меня, ходит с заплаканными глазами: мы, видите ли, оторвали ее на все святки от ее Питера, а это ее последнее рождество, на следующий год они поженятся, так что мы эгоисты и думаем только о себе. Родители Сюзан заявились и вовсе за несколько дней. Утром ни свет ни заря, еще до завтрака, прибыли из Претории Сюзетта с Крисом в сопровождении Хэлен и Георга. Первый раз бог знает за сколько лет вся семья собралась вместе.
А я не мог, как ни старался, смотреть весело. Хотел было облачиться в свой траченный молью наряд деда-мороза, чтобы позабавить внука, и уже вынул из шкафа все облачение, но Сюзетта и слушать об этом не пожелала.
— Боже, па! Да откуда у тебя эти ветхозаветные представления? Ведь мы же современные люди. Хенни прекрасно знает, что все эти басни про деда-мороза — сплошной вздор. Мы против того, чтобы воспитывать детей на лжи.
Ради рождества долой все заботы, это семейный праздник. И я без устали наблюдал, что же это такое, моя семья со всеми ее заботами. Хэлен, затянутая в корсет и до ужаса похожая на манекен: волосы выкрасила, платье явно не по возрасту, зато от какого-то француза с непроизносимой фамилией, — принимает едва не раболепные взгляды Сюзан, внимающей рассказам о том, как много теряет в жизни жена бедного школьного учителя. Сюзетта вконец испилила Линду, та еще дуется на нее из-за Питера — хоть бы мужчина был, а то так, ни то ни ее, и его еще, пожалуйста, извольте величать ваше преподобие. Георг, с вечной сигарой во рту, буквально изводит Криса своим самомнением. Тот уж не знает, куда деваться от этого вечного «мне лучше знать». Сюзан, вся как струна, ни минуты без нервов, поедом ест Йоханна, от того, видите ли, никакой помощи, а он терпеть этого не может: пойди, принеси. Тесть завидует молодежи, Георгу и Крису, как им все легко дается, а он вот всю жизнь боролся и пострадал даже за националистическую партию, а это только для красного словца говорится, что долг платежом красен, безвестностью ему заплатил фатерланд. Зато все они вместе против меня за «предательство» семьи, и выражается это самым непостижимым образом. Меня делают теперь козлом отпущения — каждый за все свои обиды.
Ну как бы там ни было, мы наконец собрались за столом (чтобы уместиться всем, пришлось к нашему обеденному столу приставить еще и столик с веранды, а он чуть ниже оказался), в тесноте, но не в обиде мы сели, буквально чувствуя локоть друг друга и не зная, куда поставить тарелку. А надо было ведь найти место и для индейки, над которой Сюзан колдовала, и для бараньей ножки, и для украшения стола — желтого риса с изюмом, горошка, батата с корицей, печеных фруктов, лимских бобов и салатов — взносов на общий стол Луизы и Сюзетты (авокадо, морковь, спаржа, огурцы — заливное в желатине, точь-в-точь похоронный венец, прости меня, господи). В дополнение же еще нужно было найти место для букетов в стиле икебана; и для канделябров, этих бронзовых ангелочков, кружащих свой хоровод под звон хрустальных подвесок; и для пестрого набора рюмочек, рюмок, бокалов. (Сюзан: «Бен все кормит нас обещаниями купить приличную посуду. Но что такое Бен, сами знаете»; Хелен, сладким голоском: «А Джорджи, когда последний раз был за границей, привез из Стокгольма совершенно изумительные хрустальные бокалы, целый комплект. Ну конечно, везде нужны связи».)
— Папа, ты благословишь нас?
Головы склонились в кротком молчании, пока тесть читал молитву перед едой. А он никак не мог остановиться: не достигнув высот в политике, он в качестве единственной компенсации взял себе за правило испытывать терпение всемогущего, пеняя ему на несправедливость рода людского.
А тут еще посреди молитвы, улизнув от своей черной няни — они гуляли там, во дворике, — в гостиную влетела крошка Хенни и во весь голос прервала его красноречивое благолепие самым прозаическим вопросом; где здесь делают по-маленькому? Наступило неловкое молчание, но тесть, покашляв, тут же, как превосходно воспитанный человек, нашелся и продолжил, благословив наконец хлеб наш насущный, ибо перехватил взгляд накалявшейся по этому поводу Сюзан. С формальностями было покончено, мы переломили по обычаю хлебцы, надели на головы рождественские колпаки — мужчины, чепчики — женщины. Наполнили себе тарелки, и Георг провозгласил красивый тост.
Чувство принужденности рассеивалось, и, по мере того как все сидели в этой изнуряющей летней жаре, праздновали рождество и, покрываясь потом, жевали, решительно накладывая на тарелки полной мерой все, что дано было днесь, снисходило великодушие. Мы с Сюзан единственные не черпали из этого рога изобилия: у нее не было настроения, у меня — аппетита.
Как раз переменили тарелки и подали каждому невероятных размеров порцию доброго рождественского пудинга, готовить который теща принялась еще за месяц с лишним до рождества, когда в парадную дверь постучали, просто забарабанили.
Йоханн открыл.
И тут вдруг в комнату ворвался Стенли, этакая черная махина в белом костюме и белых туфлях, коричневой рубашке, ярко-красном галстуке и с таким же платочком, парадно торчащим из кармана пиджака. Постоял, покачиваясь, ища меня глазами. Я сразу понял, что он нагрузился, пожалуй, больше обычного.
Нашел меня и проревел:
— Lanie. — При этом он неловко задел букет на краю стола, и цветы полетели на пол, а он, широко улыбаясь, с этакой американской бесцеремонностью, подхваченной из какого-нибудь кинобоевика, приветствовал присутствующих развязным: — Привет, люди! Здорово!
За столом воцарилась мертвая тишина, все как сидели, так и застыли, не донеся ложки до рта.
Я как в дурном сне поднялся и, не чувствуя под собой ног, двинулся к нему по мягкому, ворсистому ковру, купленному Сюзан к празднику рождества. Глаза присутствующих следили за мной.
— Стенли! Что вы здесь делаете?
— Так ведь рождество, разве нет? Пришел отметить. Примите поздравления с рождеством Христовым. Общий привет. — Он широко развел руками, показывая, что обнимает всех нас.
— Вы хотите видеть меня по какому-нибудь делу, Стенли? — Я понизил голос, так чтобы нас по возможности не слышали, — Может быть, пройдем ко мне в кабинет?
— Нужен мне ваш кабинет! — Он выругался.
Я растерянно оглянулся и обратился к нему:
— Ну, если вы предпочитаете здесь, садитесь…
— Вот именно. — Он, пошатываясь, пошел к креслу и тяжело опустился в него, тут же вскочил, потрепал меня по плечу. — Представьте мне счастливую семейку! Это кто же будет?
— Вы слишком много выпили, Стенли.
— Еще бы. А почему и не выпить? Праздник ведь доброй воли. Самое время, а? Мир на земле, в человецех благоволение.
Из-за стола поднялась мрачная фигура тестя.
— Кто этот кафр? — прозвучало в гробовой тишине.
Затем последовал смешок Стенли. Тесть, побагровев, двинулся к нам, и я сейчас же встал между ними, чтобы не случилось самое страшное.
— Почему бы вам и вправду не объяснить этому буру, кто этот кафр? — сказал Стенли и вытер глаза: он расхохотался до слез.
— Бен! — В голосе тестя звучал металл.
— Да объясните ему, что мы старые друзья. А, белый? — И Стенли снова заграбастал меня в объятия, навалившись всей тушей, я еле на ногах удержался. — Или я не прав?
— Конечно, друзья, Стенли, — сказал я примирительно. — Папа, мы потом обсудим это. Я все объясню.
Ничего не отвечая, тесть повернулся и вышел из комнаты.
— Мать, собирайся, — сказал он. — Похоже, нас больше не желают здесь видеть.
Ад кромешный, что тут началось. Сюзан кинулась удерживать отца. На нее набросилась с упреками Хелен. Георг пытался урезонить жену, но тщетно. На него буквально обрушилась Сюзетта; Йоханн встал на сторону сестры. Линда ударилась в слезы и, всхлипывая, выбежала из комнаты. Хлопнула входная дверь.
И тотчас комната оказалась пустой, ни единой живой души. И только ангелы на подсвечниках кружили свой хоровод. На тарелках оставались куски знаменитого тещиного рождественского пудинга. А посредине ковра стоял, пьяно покачиваясь, Стенли, не в силах удержаться от хохота, который теперь буквально сотрясал его, точно назло мне.
— О черт, приятель, — он просто стонал от хохота, — ты хоть раз видел в своей… — он снова выругался, — …жизни, чтобы вот так кидались врассыпную?
— Может, вам это и кажется смешным, Стенли. Мне нет. Вы хоть понимаете, что вы натворили?
— Я?! А что? Просто пришел поздравить, я же сказал. — И он снова разразился хохотом.
Из соседней комнаты доносились всхлипывания тещи и голос ее супруга, сначала успокаивающий, затем все более на высоких тонах.
— Ну? — произнес тут Стенли, похоже и сам отрезвев, на минуту хотя бы. — Как бы там ни было, счастливого рождества! — И протянул мне руку.
У меня не было никакого желания отвечать ему пожатием, но я сделал это, чтобы ублажить его.
— Кто это все-таки, этот толстобрюхий старый… — он выругался, — в черном фраке? Все повадки владельца похоронного бюро…
— Мой тесть… — И я прибавил со значением: — Член парламента.
— Вы шутите?!
Я покачал головой. Тут он и вовсе зашелся от хохота.
— Ого, да у вас связи что надо. И такую компанию вам распугал. Слушай, извини, старик. — Впрочем, он отнюдь не выглядел раскаивающимся.
— Есть хотите? — спросил я его.
— А что, наскребете чего и мне?
Тут уж я взорвался:
— Знаете, Стенли, всему есть предел. Вот вам стол, из-за которого вы выгнали людей, садитесь и давайте — или выкладывайте, зачем пришли, или катитесь ко всем чертям.
— Правильно. По всем правилам. Знай, кафр, свое место! Так?
— Что с вами сегодня? Может, вы мне объясните наконец?
— Да не валяйте вы дурака, приятель. Будто сами не знаете.
— Вы что, явились сюда орать на меня или действительно что-то сообщить мне? — не выдержал я.
— С чего это вы взяли, будто я должен вам что-то сообщать?
И хотя я понимал, как это нелепо, ведь Стенли был вдвое сильнее меня, я схватил его за плечи и тряхнул изо всех сил.
— Скажите вы наконец, зачем пожаловали? — прокричал я. — И что с вами происходит, хоть это я могу знать?
Стенли отстранил меня резко, так что я покачнулся, а сам остался стоять на нашем рождественском новом ковре как ни в чем не бывало. Будто и не был пьян.
— Вы ведете себя просто неприлично, — выпалил я ему. — Вместо того чтобы в такой день побыть с Эмили, вы вламываетесь сюда и доставляете неприятности людям… Вам не кажется, что лучше было бы побыть сегодня с ней, с Эмили, и…
И тут он перестал качаться и вообще корчить из себя пьяного, взглянул на меня налитыми кровью глазами и тяжело-тяжело вздохнул.
— С Эмили? — усмехнулся, посерьезнел. — Зачем вы так?
— Ради бога, Стенли, что все это значит, эти недомолвки? — взмолился я, вконец сбитый с толку. — Единственное, что я имел в виду…
— Нет ее, никакой Эмили, — сказал Стенли. — Мертвая она, Эмили.
Ангелочки вели свой бронзовый хоровод, позванивая хрустальными подвесками. Только это и улавливал мой слух. Его же слова я не воспринял, как не слышал вообще ничего, что творится в доме.
— Что вы сказали?
— Да вы оглохли, что ли? Орать мне, что ли?
— Не понимаю. Бога ради, Стенли, что вы такое несете? Повторите.
— Да нет уж. Празднуйте свое торжество-рождество. — И он запел, возопил на манер ярмарочного Санта-Клауса: — «Хоть и небо твой чертог…» — Но тут же умолк, точно вспомнил, где он и зачем. — Вы что же, и о Роберте ничего не слышали?
— О каком еще Роберте?
— Да о сыне ее. Ну, что сбежал тогда, после смерти Гордона.
— А с ним что?
— Подстрелили. Вместе еще с двумя его приятелями, когда переходили границу. Вчера еще. С оружием переходили. Кинулись очертя голову, вот и нарвались на армейский патруль. Подстрелили.
— А потом? — Я все еще пребывал в оцепенении.
— Сегодня утром, как узнал, пошел к Эмили рассказать, куда денешься. Она так спокойно все приняла. Ни суеты, ни слезинки — ничего такого. Выслушала и велела мне идти. Откуда мне было знать? По ней ничего незаметно было. А потом она и… — И у него перехватило голос.
— Да что потом, Стенли? Не плачьте вы. О господи боже, Стенли, да прошу же вас, успокойтесь.
— На станцию она пошла. На вокзал Орландо, вот что потом. Пешком. Говорят, с час там сидела. Поезда ведь почти не ходят. Рождество ведь. Ну, дождалась все-таки и кинулась под колеса. И конец, в один миг.
У него дернулись губы, и я подумал, что вот он опять разразится своим дурацким хохотом, но он зарыдал. Я едва стоял на ногах, а он навалился на меня всей своей тяжестью и сотрясался от рыданий.
Так я и стоял посреди гостиной, обхватив его руками, когда родители Сюзан с чемоданами проследовали по коридору к двери. Сюзан за ними. Я видел в окно гостиной, как они тащили чемоданы к своему автомобилю у калитки.
Вечером она сказала:
— Я тебя уже спрашивала, но повторю: ты отдаешь себе отчет в своих поступках? В какую историю теперь влип, ты понимаешь?
Я отвечал:
— Я одно знаю: теперь уже поздно раздумывать. Идти, так до конца. Если я потеряю веру в справедливость, я сойду с ума.
— А скольких людей ты свел с ума, тебя, похоже, не касается?
— Прошу тебя, постарайся… — Я не находил слов. — Я знаю, Сюзан, как ты расстроена. Но постарайся только понять. И не надо преувеличивать.
— Преувеличивать? Это после всего, что было сегодня?
— Стенли сам не знал, что делает. Эмили скончалась. Можешь ты понять человека?
Она тяжело вздохнула и долго сидела молча, легкими движениями массируя кожу щек, осторожными шлепками втирая крем.
— А сколько других людей умирает каждый день, — произнесла она наконец, — почему это тебя не касается?
Я смотрел на ее отражение в зеркале и не знал, что ответить.
— Не понимаю, я-то тут при чем?
— Ты ни при чем, я не в этом смысле. Просто ничего не изменится, как бы ты ни старался. Ничего ты не добьешься, ровным счетом ничего. Когда ты это поймешь?
— Никогда.
— И какой ценой это дается, тебе тоже безразлично?
Я устало закрыл глаза. Когда только кончится эта мука мученическая.
— Поздно об этом думать, Сюзан.
— И тем не менее придется, — отчеканивая каждое слово, сказала она. — Ты утратил равновесие и чувство реальности. Ты больше на свете ничего не видишь.
Я только покачал головой.
— А сказать, почему? — отрывисто бросила она.
Я молчал.
— Потому что, кроме Бена Дютуа, для тебя ничегошеньки на свете не существует. При чем здесь эти Гордоны, эти Джонатаны, ну кто там еще? Да кто угодно. Решимости не хватает признаться, что проиграл, вот и все. Затеял сражение, а теперь просто гордость не позволяет признать себя побежденным, хотя сам давно перестал понимать, с кем воюешь? Так?
— Тебе этого не понять, Сюзан.
— Прекрасно знаю, что мне не понять. И будь я проклята, если вообще стану отныне вникать во все это. Единственное, что меня теперь интересует, — увериться, что я не должна больше влачить это жалкое существование.
— Что ты имеешь в виду?
— Больше я ничем не могу тебе помочь, Бен. Видит бог, я старалась сберечь семью. Но теперь я вынуждена подумать о себе. Сохранить остатки чувства собственного достоинства, которое ты вконец утратил сегодня.
— Ты что же, собираешься уйти?
— Какое это имеет значение, уйду я или останусь, — сказала она. — Надо уйти — уйду. Если буду убеждена, что оставаться бессмысленно. Пока не знаю. Но то, что между нами было, утрачено навсегда. И я хочу, чтобы ты это знал.
И белая застывшая маска в зеркале. А ведь было, было же время, годы назад, когда мы любили друг друга. Теперь мне не дано даже тосковать по утраченному, ибо даже память ровно ничего не подсказывала.
11
Кончались каникулы. Начало школьных занятий, похоже, предвещало новое развитие событий. Новую войну анонимных телефонных звонков, очередной налет каких-нибудь вандалов на его автомобиль, лозунги, намалеванные по всему фасаду его дома, непристойные надписи на классной доске, а по ночам крадущиеся шаги под окнами. Пока он не пришел к мысли завести сторожевую собаку. Впрочем, ее через полмесяца отравили. Состояние здоровья Сюзан внушало самые серьезные опасения, о чем после очередного приступа нервной депрессии врач, вызвавший Бена для разговора, счел нужным его откровенно предупредить. И даже если не случалось ничего особенного, все равно не отпускало гнетущее чувство, что некие невидимые и неведомые силы следят за каждым его шагом. Впервые в жизни он на собственном опыте узнал, что такое бессонница, лежание часами без сна, когда пустые глаза уставлены в темноту, а в голову лезут тревожные, мучительные мысли. Когда ему будет нанесен очередной удар и какой именно, как это будет сделано на этот раз?
По утрам он поднимался вконец опустошенный и возвращался домой из школы опустошенный, опустошенный ложился, зная, что не сомкнет глаз. Школа вносила меру благотворной дисциплины в его жизнь, теперь же становилось все труднее держать себя в норме. Порой бывали такие дни, почти невыносимые физически, когда он в тревоге, постоянном раздражении чувствовал, что перестает контролировать собственные поступки. Открытое недоброжелательство коллег. Молчаливый антагонизм Коса Клуте. Плоские остроты Карелсе. Тяжелее открытого презрения остальных была порой восторженная преданность молодого Вивирса, особенно велеречивая манера ее выражать.
Оставался Стенли, появлявшийся и исчезавший, когда ему заблагорассудится. Как тому это удавалось — оставаться все-таки невидимым и неслышимым, — было выше его понимания. По всем законам логики, Стенли должны были схватить и заставить замолчать еще полгода назад. Однако же он — и Бен вынужден был это признать — был просто божьей милостью мастер на этот счет, и вот он оставался, и жил, и сидел за рулем своего такси, этого громадного «доджа». Что там жена и дети, ближе родни не было, и колесил с ним Бен по всей округе, и волоска не упало с головы Бена рядом с этим могучим хранителем. Рождество так и осталось единственным днем, когда этот человек потерял над собой контроль. Никогда больше. И если не считать тех редких случаев, когда он врывался в жизнь Бена, возникая вдруг из ночи и тут же исчезая в ней, вся остальная его жизнь как была, так и осталась полной загадкой. И лишнее было даже пытаться искать на нее ответ.
Время от времени он отправлялся в одно из своих вечных путешествий в Ботсвану либо Свазиленд. Ясное дело, контрабанда (но что? Наркотики, валюта, оружие, а может, и люди?).
В последнюю неделю января Фила Брувера выписали из больницы. Приступов после того, единственного, больше не было, однако общее состояние настолько ухудшилось, что врачи сочли необходимым рекомендовать постоянное наблюдение. Мелани пришлось, бросив все, прилететь из Кейпа. За те несколько посещений, что Бен с ней вместе видели старика, он раз от разу сдавал, и это было тягостное зрелище, как он ни старался показать, что дух его неукротим.
— Никогда не боялась умереть, — сказала она Бену. — Все, что ни написано мне на роду, приму безропотно. Столько смертей насмотрелась, что вполне спокойно все могу воспринять. — Она поглядела на него своими огромными карими глазами. — Но его боюсь потерять.
— Вы раньше никогда не говорили, что боитесь одиночества.
Она задумчиво покачала головой:
— Не в этом дело. Узы. В полном смысле слова. Идея продолжения рода. Осознание незыблемой прочности. То есть может меняться все вокруг, одно неизменно, сколько вы себя помните. Как река, что всегда впадает в море, и в вас сознание уверенности, вера, что ли, не знаю, как это выразить, что так и будет во веки веков. Знаете, порой мне кажется, именно поэтому я так до неистовства хотела иметь ребенка. Ну, чтобы ничего не кончалось. — Они тут же засмеялись, принужденным таким смехом, — стараясь обратить все в шутку. — Видите ли, каждый ищет собственную зацепку, лишь бы остаться в вечности? Верят же в деда-мороза.
12 февраля. Теперь еще Сюзан. Последние несколько дней она явно не в себе. Думал, просто очередной приступ депрессии, хотя она принимает успокаивающие средства. Теперь и вовсе в непомерных дозах. Однако на этот раз все оказалось куда сложнее и хуже. Южноафриканская радиовещательная корпорация аннулировала контракт с ней. Выдвинули в качестве доводов что-то о необходимости влить «свежую кровь», как всегда, «бюджет поджимает» и т. д. Однако продюсер, с которым она всегда работала, выложил ей за чашкой чая всю правду. Она — моя жена, и они не хотят лишних осложнений. Никто не знает, с каким еще скандалом может быть вдруг связано мое имя. Откуда ветер дует, он понятия не имеет, его начальство просто сказало ему, что у них есть «информация».
Вчера вечером это и случилось. Я вошел в спальню, а она сидит и ждет меня. После того злополучного рождества она перебралась в спальню девочек, а тут вдруг вхожу и вижу: она в ночной сорочке, не в халате даже, сидит у меня на постели. Сидит и вымученно улыбается, а у самой лицо дергается.
— Ты еще не спишь? — спросил я зачем-то.
— Тебя жду.
— Знаешь, я еще должен поработать.
— Неважно.
Господи, сколько тривиальных, пустых фраз мы произносим.
— А мне показалось, ты сегодня в театр собираешься, — сказал я.
— Нет, раздумала. Нет настроения.
— Тебе полезно развлечься.
— Я очень устала.
— Последнее время это твое обычное состояние.
— Тебя это удивляет?
Раздраженно:
— Я во всем виноват, это ты хочешь сказать?
Она не искала ссоры, это видно было по испугу, мелькнувшему у нее на лице.
— Извини, Бен. Пожалуйста. Я пришла не упрекать тебя. Просто так дальше не может продолжаться.
— Да. Так или иначе, а скоро это кончится, уверен. Это всякому ясно.
— Я только одно и слышу от тебя. Откуда эта уверенность? Чем кончится? Неужели ты не видишь, что день ото дня становится только хуже? Хуже и хуже.
— Нет.
Тогда она рассказала мне эту историю с радиовещательной корпорацией.
— Ведь это единственное, чем я еще держалась, Бен. — Она заплакала, хотя я видел, что она крепилась изо всех сил. Я стоял, смотрел на нее и не знал, что делать, просто руки опустились. Когда такого рода вещи происходят исподволь — ведь жизнь есть жизнь, — не замечаешь перемен. А вчера, сам не знаю зачем, я стал разглядывать нашу с ней свадебную фотографию над туалетным столиком. Эта лучезарно улыбающаяся, полная достоинства, сильная, налитая здоровьем девушка с золотыми волосами и эта усталая пожилая женщина в ночной сорочке с кокетливыми кружевами не по возрасту, оставляющей зачем-то открытыми руки с дряблой уже на плечах кожей и морщинистую шею, с сединой в волосах, что не скроешь уже никакими ухищрениями, лицом, некрасиво перекошенным в плаче, — одна и та же женщина? Моя жена? И моя вина?
Я присел рядом, обнял. Пусть выплачется. Она даже не прикрыла грудь. Это она-то, в молодости такая целомудренная, стыдливая во всем, что касалось наготы тогда такого прекрасного юного тела. И я отвел глаза. Теперь, с возрастом, ее не заботили мои взгляды. Безразличие? Отчаяние?
И как это объяснить, отчего даже в страдании, даже в совершенном отчаянии в человеке способно просыпаться желание? Или так я пытался отомстить ей? Не знаю только за что. Может, за все эти годы безразличия ко мне, за редкие минуты ее страсти, да и те лишь для того, чтобы потом отвергать меня почти с такой же страстью. Грех, неприлично, порочно. Всегда в делах, вечно занята, все на бегу, что-то не сделано, жадная до успеха. И все, чтобы отвергнуть, с неистовством каким-то, саму мысль о нашей близости. И вот теперь, кто бы мог подумать, она сама потянулась ко мне, открыто и откровенно предлагая себя. И я не отверг ее, и это не доставило нам радости, только муку. Она сама приучила меня к стыдливости, и потому я отвернулся, и мы долго лежали молча. Долго-долго.
А когда она заговорила, в ее голосе не было и следа нашей близости.
— Этим делу не поможешь, правда?
— Извини. Сам не понимаю, что на меня сегодня нашло.
— Я не о сегодня. Я вообще, как мы жили эти годы.
Я промолчал, о чем теперь спорить.
— Может, мы никогда и не старались иначе. Может, я никогда не понимала тебя по-настоящему, но ведь и ты тоже, разве нет?
— Сюзан, у нас с тобой трое детей. Мы всегда прекрасно ладили. И ведь все обходилось.
— Это и есть самое страшное. Когда можешь прекрасно обходиться в аду.
— Ты просто измучилась и видишь все в искаженном свете.
— Мне кажется, я впервые в жизни вижу все в правильном свете.
— Что ты надумала?
Я повернулся к ней лицом. Она сидела прямо, зябко кутаясь, несмотря на духоту ночи, в простыню.
— Хочу на время уехать к родителям. Просто чтобы прийти в себя. И дать тебе шанс. Чтобы мы могли все трезво взвесить. Мы так запутались, нам нужно отдохнуть друг от друга. Не вижу другого выхода.
Что мне оставалось? Я кивнул.
— Ну что ж.
— Так ты согласен? — Она поднялась.
— Делай как знаешь.
— Но ты-то как считаешь? Ехать мне или нет?
— Да. Подышишь свежим воздухом. И дашь нам обоим шанс.
Она была у двери. И уже взявшись за ручку, обернулась.
— И ты даже не пытаешься удержать меня, — сказала она со страстью в голосе, с которой не могла соперничать вся известная мне в самые лучшие наши минуты та, другая ее страсть. Та была жалкая подделка, не больше.
И еще. Самое страшное — мне нечего было ей ответить. Нечего. Впервые я понял, какая она мне чужая. И если мне была чужой она, женщина, с которой я столько прожил, совсем чужой, как мог я брать на себя смелость даже подумать, будто могу понять хоть что-нибудь еще на свете?
25 февраля. Я почти совсем забросил свой дневник. Да и что там, мне нечего сказать. Сегодня тому ровно год. А такое чувство, точно это было вчера, когда я стоял в кухне вечером и ел сардины прямо из банки. Некто Гордон Нгубене, осужденный на основании Закона о терроризме, сегодня утром был обнаружен мертвым в своей камере. Согласно заявлению представителя службы безопасности… И так далее.
И чего я добился за год? Складываем все вместе, и бог знает, как это получаем — нуль. А ведь я старался, упорно и настойчиво. Пытался убеждать себя, что мы движемся вперед. Ужели все это одни иллюзии? Ну хоть что-то я узнал, в чем-то уверился? В минуты слабости — и такие бывают — я страшусь самой мысли, что Сюзан, возможно, права. Я теряю разум.
Безумный. Я или этот мир? Кто из нас? И с чего же пошло тогда безумие вселенское, где ему начало? И если это безумие, отчего оно дозволено? Кем?
Вот уже два дня прошло, как был Стенли: Джонсон Сероки убит неизвестными лицами, этот парень из СБ, единственная моя надежда. И его нет. Поздно ночью, если верить Стенли. Стук в дверь. Открывает. Пять выстрелов в упор. В лицо, грудь, живот. Вчера на первых полосах нескольких газет интервью с полицейским офицером: «Вся болтовня разных там крикунов о смерти лиц, находившихся под арестом, просто меркнет перед самим фактом, когда при исполнении служебных обязанностей гибнет сотрудник службы безопасности. Жизнь этого черного человека, отдавшего себя на алтарь блага и безопасности нашей нации перед лицом разгула бессмысленного террора, да послужит примером и заставит задуматься всех тех, кто не находит слова доброго для полиции и ее непрестанной борьбы ради покоя и процветания фатерланда…»
Но я знаю, почему мертв Джонсон Сероки. Не надо обладать особым воображением.
Или, может быть, это еще один симптом моего безумия? И я в состоянии лишь плохо думать о моих врагах? Что самым чудовищным образом упрощаю всю сложность ситуации, попросту обращая всех тех, кто «по ту сторону», в преступников, о которых могу думать лишь дурно? Что возвожу в факты пустые подозрения, дабы выставить их в самом ужасном свете? Если так, если это правда, я не лучше их во всех отношениях. Достойные соперники!
Но если я перестану верить в собственную правоту, если утрачу веру в это властное «не сдавайся!», — что будет со мной?
12
7 марта. Начало, конец, убеждение, что назад пути нет: что это было? Несомненно, решающее. Отгородиться окончательно от всего, что случилось, и бог с ним, либо врасти в него корнями? Хожу вокруг да около, не в состоянии нанести это на бумагу, и в отчаянии, что не могу. Напуган, что это кончится? За себя самого боюсь?
Увы, отныне этого не избежать. Иначе я никогда, я никогда не смогу решиться.
Суббота 4 марта.
Полнейшее одиночество. Ни слуху, ни духу о Стенли. С тех пор как принес эту новость про Джонсона Сероки, точно в воду канул. Умом понимаю, что теперь он должен быть, как никогда, осторожен, и все-таки. Ни слова от Сюзан. Йоханн уехал с друзьями за город. Такая жизнь, что установилась в доме, не для молодого парня, я понимаю. (А как меня все-таки тронуло, когда он сказал: «Слушай, па, ты вправду здесь справишься один? А то если нужно что помочь, так я не поеду».) Больше недели уже не навещал Фила Брувера, тот еще в больнице. Мелани вся в работе. Когда человек слишком долго пребывает в вынужденном одиночестве, это опасно. Тут один шаг до мазохизма, самоистязания.
Но куда идти, к кому податься? Кто еще не отвернулся от меня? Молодой Вивирс? Этот общительный Карелсе? Пока и им тоже не придется расплачиваться. Думаю, что от меня не отвернулся бы преподобный Бестер. Но воротит от одной мысли обсуждать с ним то, что у меня на душе. Да и что там моя душа. Самому надоело в ней копаться.
Пытался работать. Заставил себя снова просмотреть все свои записи, целый пасьянс разложил. А ну как не выпадет? Собрал все и снова свалил в ящик для инструментов. Карты в колоду.
…Старый дом с полукруглой верандой стоял темный и пустой. Обошел его вокруг. На веранде у черного хода блюдечки для кошек. Шторы не задернуты, но везде темно. Где ее комната? Точно это имело значение. Просто хотелось знать в утешение. Мальчишество какое-то. Вот почему стареющим мужчинам, если они не хотят выглядеть смешными, следует избегать увлечений.
Долго сидел на ступеньках у парадной двери, курил. Ни-че-го. Ровным счетом ничего. Почти с облегчением вздохнул, когда заставил себя подняться и пошел к калитке. Чувствовал себя «спасенным». Боже милостивый, от чего? Судьба пуще смерти? Бен Дютуа, вам следует обдумать свои поступки.
Однако же стало покойней. Отказался от мысли ехать домой и снова оставаться наедине со своим одиночеством.
Но я еще не дошел до ворот (надо выбрать день и починить им ворота, совсем развалились), когда ее малолитражка скользнула в них и завернула на задний дворик. Истинно говорю, я почувствовал едва не огорчение. Ведь так легко было избежать всего этого. («Избежать», как я мог еще рассуждать о таких вещах? Хотя, ну что же, способен я был в ту минуту предвидеть, надеяться, если не предполагать, что может произойти? И как? Нет, конечно. Хотя, мне кажется, должно быть, есть все-таки некие неосознанные, неуловимые, что ли, предвидения.)
— Бен?! — Она глядела, как я поворачиваю из-за угла. — Это вы? Как вы меня напугали.
— Да вот, решил заглянуть. Уже собрался уезжать.
— Я ездила к папе в больницу.
— Как он?
— Без изменений.
Она открыла ключом дверь в кухню и решительным шагом пошла по темному коридору. Я за ней. Я еще наступил на кошку в этой тьме египетской. Мелани впереди, я — за ней. На ней было платье с чопорным высоким воротником — первое, что я увидел в слабом желтом свете, когда мы вошли в гостиную и она включила лампу.
— Я приготовлю кофе.
— Помочь?
— Нет. Садитесь, чувствуйте себя как дома.
Она вышла, и все в комнате сразу потеряло всякий смысл. Было слышно, как она звенела в кухне посудой, потом засвистел чайник. Она тут же и вернулась. Я взял у нее поднос. Мы пили кофе и молчали, ибо я чувствовал себя неловко. И ей тоже было неловко? Но ей-то почему? Я видел себя здесь посторонним человеком, прибывшим с официальным визитом.
Она допила кофе, включила проигрыватель, повернула ручку громкости.
— Еще кофе?
— Нет, благодарю вас.
Снова мурлыкали кошки. Музыка придала комнате более жилой вид, а полки с книгами защищали от окружающего нас мира.
— Когда папу выписывают, что-нибудь известно?
— Нет. Врачи, похоже, удовлетворены состоянием, но не хотят рисковать. А ему уже не терпится.
Я с облегчением ухватился за эту тему. Это давало возможность без слов говорить о самих себе и в то же время не говорить. О первом вечере в этой комнате. О той ночи в горах.
И опять какую-то минуту молчание.
— Я не отрываю вас от дел?
— Нет, — ответила она не сразу, — ничего срочного пока. В следующую пятницу еду. А пока ничего.
— Куда на этот раз?
— Кения. — Она улыбнулась. — Снова уповаю на свой британский паспорт.
— Не боитесь, что когда-нибудь попадетесь?
— Ну, как-нибудь и вывернусь.
— Слушайте, а это, должно быть, изматывает, вот так колесить вечно по белу свету, то одно, то другое, жизнь на колесах?
— Иногда изматывает. А только иначе ведь ноги протянешь.
Сам не знаю зачем сказал:
— По крайней мере вам хоть есть чем похвалиться, а я эти несколько месяцев почти безрезультатно прожил.
— Это на каких же весах вы результаты взвешиваете? — У нее потемнели глаза, в словах ее был не упрек, сочувствие. — А я думаю, мы с вами похожи. Оба обладаем удивительной способностью не осмысливать, как другие, но непременно познавать все на собственном опыте. Ведь умом-то легче?
— Возможно. Только мне иногда кажется, что, если осмыслить все до конца, с ума сойдешь… Выходит, труднее.
Было уже поздно. Теплая ночь несла ароматы ранней осени. И теперь мы не торопились искать слова и не тяготились молчанием; неловкость ушла, она растворилась во времени, как вечер в ночи. Вернулась прежняя близость душ в этой уютной комнате, где, как и прежде, стоял чуть уловимый запах трубочного табака, который курил ее отец, и запах старых книг на полках, и кошек, и истертых ковров.
Должно быть, было уже за полночь, когда я нехотя поднялся и проговорил, что мне пора.
С едва уловимой иронией:
— Ну конечно, «обязанности»?
— Нет, я один, все домашние разъехались.
Почему я раньше не рассказал ей про Сюзан? Ради самозащиты? Нет. Как бы там ни было, дальше скрытничать на этот счет не имело никакого смысла. Я и рассказал ей все. Она не произнесла ни слова, выслушала молча, и только глаза ее смотрели на меня теперь как-то по-другому. Задумчиво, почти с печалью, она поднялась из кресла и посмотрела мне прямо в лицо. Туфли она сняла, еще когда по привычке усаживалась с ногами в кресло, и теперь стояла совсем маленькая, ни дать ни взять школьница-подросток, худенькая стройная девочка; но нет, это была и зрелая, рассудительная женщина, утратившая иллюзии. Зато исполненная глубокого чувства сострадания, которое едва ли знакомо юности и уж никак не свойственно ей. Ибо юность жестока.
— Так почему бы вам не остаться? — произнесла она. Я растерялся, стараясь проникнуть в смысл сказанного. И, словно угадав мои мысли, она спокойно добавила: — Я постелю вам в комнате для гостей. Чего вы поедете среди ночи.
— С удовольствием останусь. Знаете, совсем не улыбается торчать в пустых стенах…
— Ну вот видите, я ж говорю, как мы с вами похожи, обоих только и ждут что пустые стены.
Она показала мне, куда идти, и пошла, неслышно ступая, впереди. Я помог ей постелить мне постель в пустой комнате, сам расстелил простыни на роскошной старой кровати резного дерева. И все это не обменявшись ни единым словом, в настороженном молчании.
Мы подняли глаза друг на друга, она по одну сторону этого резного чуда, я — по другую. Я еще поймал себя на том, что вместо улыбки у меня получилась какая-то вымученная гримаса.
— Ну, мне тоже пора на боковую, — сказала она и повернулась к двери.
— Мелани.
Она обернулась и молча ждала, что я скажу.
— Останьтесь.
Мне показалось было, что так оно и будет, что она скажет «да». У меня в горле пересохло. Я хотел протянуть руку к ней, но между нами была эта дурацкая постель. А она постояла и ответила:
— Нет. Зачем это? Нет.
Я понимал, что она права. Мы были так близко друг от друга. Все могло случиться. А что тогда? Что будет с нами? Как, к черту, нам справиться тогда с этим в нашем спятившем с ума мире?
Лучше как есть, пусть и безутешней. Нет, она не ступила мне навстречу, не обошла кровати, чтобы поцеловать меня, пожелать покойной ночи. Едва улыбнулась. Но эта улыбка выдавала душевное страдание. И решительно пошла к двери. Мучило ли ее сомнение? Не ждала ли она, что вот я ее окликну? Я безрассудно желал этого. Но в том, что я осмелился сделать, я и так зашел слишком далеко. Больше я рисковать не мог.
Я не знал, куда она ушла. Она ступала неслышно. Время от времени где-то в огромном доме, погруженном в темноту, поскрипывали половицы, но, может, это дерево от старости, а не потому, что там была она. Я как был, так и остался стоять у кровати, приготовленной для меня, и не помню, как долго простоял так. Я разглядывал все, каждую мелочь в комнате, словно оценщик, для которого не было ничего важнее. Узоры на старомодных обоях. Тумбочку у кровати, заваленную как попало книгами. Книжный шкафчик у стены. Туалетный столик с большим овальным зеркалом. Огромный гардероб в викторианском стиле с грудой чемоданов на нем.
Потом я подошел к окну. Шторы были не закрыты, одна створка окна была отворена. Постоял, вглядываясь в сад. Когда глаза привыкли к темноте, разглядел траву и деревья. В темноте ночи еще плыли ароматы нагретой за день земли, и неподвижную ее тишину будили лишь сверчки и лягушки.
И меня поразило, каким безмятежно мирным, оказывается, может быть отчаяние. Ибо ведь ее отказ и то, как она отвернулась от меня, не оставляло сомнений, что на чем-то окончательно поставлен крест. Я тешил себя надеждами, пусть нелепыми и самонадеянными, и вот все это мягко и безмятежно спокойно закрывается, точно дверь перед носом захлопнули. Как просто.
А потом она пришла. Повернул голову и увидел ее так близко от себя, что мог дотронуться до нее. Она пришла. Я смотрел на нее и не верил глазам, уставился и смотрел в совершенном молчании. Она и сама была в явном замешательстве и не знала, наверное, как я восприму этот ее поступок. Но она стояла молча и не думала уходить. Не могла же она не знать, что я оказался вынужденным глядеть на нее, как в то самое зеркало, о котором она тогда говорила. Посмотрите на себя, на свою природу, нагую как есть, на лицо, на тело, что каждый день видите в зеркале. В том-то и дело, что смотрели, но не видели. Никогда по-настоящему не видели. А тут вдруг точно глаза открылись…
Все те мгновения, что были у нас, теперь слились в одно это мгновение. Делить по порядку и степени важности, что было, утратило смысл. Мы были теперь вне времени, оно скользнуло и легло у наших ног, подобно никому не нужным одеждам.
Искренность ее тела. Оно захватило собой все, и, кроме него, ничего не было. Да что я, нелепо и пытаться выразить это словами, жалкие до обидного попытки. Но молчать — все равно что отречься.
Нет, не то. Что проку искать слова, если ими не передать и того, что доступно взгляду? Она же, по сути, сказала: вот, бери. Что большее способны мы даровать?
Вот что значат те ее слова, сказанные тогда еще, накануне всего: однажды в жизни, но только однажды, во что-то поверишь настолько, что всем на свете готов ради этого рисковать…
Мы не укрылись простыней. Она даже не сказала, чтобы я выключил свет. Нам не нужны были загадки. Новизна неизведанного, как рождение. Ибо рождаемся мы однажды. Я вдыхал аромат ее волос, уткнувшись в них лицом, и ловил их губами, и искал губами ее тепло, и она отдавала мне его прикосновениями, негу и сокровенное тепло своего дара. У каждого своя бездна, но вот мы с ней смешались на краю бездны, теперь одной для двоих, и вот оно открылось нам, чудо и таинство плоти, когда ее голос звучал в ушах моих, а ее дыхание было у меня на груди, где сердце.
Но и это не то. Совсем не в том дело. Что я осознал, как теперь могу понять, — это что мне было дано чувствовать, и видеть, и ощущать, и слышать, и обонять, ибо таковы пять чувств, и только тогда человеку дано чувствовать. И это не все. Господи, да не в том же дело, чтобы разложить все по порядку в отчаянных попытках доискаться, что же произошло. В чем-то еще, в чем-то совсем другом. Мне хотелось, чтобы годы и годы вместились в одну эту ночь, я же стал бы тем, что она, и все пять чувств моих исполнились ее чувствами, и так раствориться в ней без остатка. И чтобы вырваться из этих чувств и погрузиться в темноту небытия, в ту любовь, когда бы наша страсть была единственно праздником торжества и знаком его.
И, утолив жажду, я почувствовал безмятежный покой. Я смотрел на нее, и она внушала покой и благоговение; я дотрагивался до нее — полно, она ли это? — и осторожно гладил ее, едва касаясь пальцами, и все равно не верил своим глазам, своим рукам. Сама мысль о том, чтобы закрыть глаза, когда можно вот так смотреть и смотреть на нее, казалась нелепой. Я не смыкал глаз и хранил это видение, впитывая каждый миг этой короткой нежности, случайно и неправдоподобно дарованной нам.
Счастье? Это была одна из самых грустных ночей в моей жизни, ночь вечной печали, вот так незаметно вкравшейся в святая святых этого нового для меня мира и постепенно перераставшей в боль и муку. Вот она спит рядом, и нет ближе мне человека на свете, открытая и доверчивая. Открыть для себя неизведанное; и вместе с тем в этом своем глубоком сне — дальше самой далекой звезды, недостижимая, навсегда чужая. Я знал ее глаза и то, что укрыто от глаз, спокойную и в порыве чувства, каждую клеточку ее легкого и нежного тела. И ничего все это, ровным счетом ничего не значило. И во сне, улыбаясь и всхлипывая или безмятежно дыша, она была так далеко от меня, точно никогда мы с ней вообще не встречались. Мне хотелось кричать. Но боль была оглушающей, такую не выплачешь слезами.
Так я лежал почти до рассвета, потом задремал. А когда проснулся, солнце уже поднялось и в саду стоял птичий гомон. На тумбочке у кровати зачем-то горела лампа, вялое и ненужное желтое пятно среди буйных красок утра. А разбудило меня движение ее руки: она доверчиво обняла меня за плечо, совсем как я, чуть касаясь, пытался удержать ее всю эту ночь, пока она спала в далеком от меня далеке. Спешить некуда, было воскресенье, и ничего от нас не требовалось, ни одной живой душе мы не были нужны, но единственно друг другу…
Ибо одно я знаю, но уж это безусловно — тогда еще знал в этом свете нашего ночника, так храбро пытавшегося устоять и не сдаться перед безжалостным ослепительным светом дня вокруг, — что мы любим друг друга, но ни один из нас не сможет спасти другого, этого не дано. И что за этим порывом друг к другу последует отмщение. Наши имена будут связаны, теперь же это будет связь в определенном смысле, и еще месяцы, а то и годы нам полной мерой отмерят всего, что общество имеет в виду, говоря об интрижке, о шокирующей и пагубной страсти. И до конца дней не избавят меня от печали, что никогда и не снилась.
Три недели спустя Сюзан вернулась из Кейптауна. Не прежняя Сюзан, нет, но все же заметно успокоившаяся; она приехала более собранная, с какой-то даже определенной решимостью еще раз попытаться сохранить что осталось.
Через два дня после ее приезда, в четверг тридцатого марта, Бен обнаружил, придя домой с работы, в почтовом ящике большой конверт. Плотная коричневая бумага. Адресовано Сюзан. Он захватил вместе с остальной почтой. В конверте оказалась фотография, просто фото, без всякого сопроводительного письма. Обычная глянцевая бумага восемь на десять. Не очень профессиональный снимок, слегка размыто изображение. Так бывает при недостаточном освещении. Задний план явно не в фокусе, пошел зерном, но просматривается даже рисунок на обоях, тумбочка у кровати и сама постель, в беспорядке, со сбившимися простынями. Мужчина и девушка, нагие, сняты в скандальной позе.
Сюзан, едва взглянув, собиралась уже с отвращением порвать ее, когда что-то заставило вдруг присмотреться. Девушка с черными длинными волосами, нет, она видит ее в первый раз. Но мужчина… Это был ее Бен. Бен Дютуа.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ[32]
1
Он открыл калитку, на веранде стоял капитан Штольц. Все эти месяцы знал ведь, что они не оставят его в покое, что все равно придут, когда — вопрос времени. Тем более после истории с фотографией, полученной по почте. И тем не менее не то что Штольцу, любому с первого взгляда стало бы ясно, какое это произвело на него впечатление. Шок, вот что он испытал. Это было третьего апреля. Мелани как раз на следующий день должна была вернуться из Кении. Офицер был один. Одно это было уже многозначительно.
— Поговорим?
Не окажись Бен так растерян, он под любым предлогом предпочел бы уклониться от разговора и не пускать его на порог. А тут он машинально посторонился, давая пройти этому сухому и костистому человеку в его неизменной спортивной куртке. А может, он просто испытал бессознательное облегчение от того, что наконец он снова видит противника во плоти и крови, нечто осязаемое, имеющее вид, форму, с чем можно схватиться. На худой конец и вправду хоть поговорить, несмотря на всю ненависть к нему.
Штольц оказался, по крайней мере поначалу, не в пример прошлому, настроенным чуть ли не благожелательно. Справился о здоровье, как супруга, как дела в школе?
Тут Бен осадил его и с колкостью выразился в том смысле, что нечего, мол, валять дурака:
— Полагаю, капитан, не затем вы здесь, чтобы справляться о моей семье.
У того ну просто злорадной радостью блеснули глаза, словно только и ждал этой вспышки.
— Но почему же?
— У меня не сложилось впечатления, будто вы очень уж озабочены моим семейным благополучием.
— Господин Дютуа, я сегодня прибыл сюда потому… — он сел, вытянулся, скрестив длинные ноги, — …потому что уверен, мы все-таки найдем общий язык.
— В самом деле?
— А вы разве не находите, что со всем этим давно пора кончать?
— И здесь решать вашему брату, я не в счет?
— Давайте-ка начистоту: ну скажите, вот все эти свидетельства-доказательства, в которых вы копаетесь в связи с Гордоном Нгубене. Ну и что, приблизили они вас хоть на шаг к этой вашей истине, которой вы доискиваетесь?
— Думаю, да.
Пауза, а потом:
— Знаете, я вправду рассчитывал, что мы сможем поговорить по-человечески.
— Не думаю, что это у нас получится, капитан, тем более теперь. С кем угодно, только не с вами.
— Жаль. — Штольц переменил позу, готовый встать и уйти. — В самом деле жаль. У вас курят?
Бен показал рукой на пепельницу.
— Ведь не очень-то у вас все вырисовывается, как хотелось бы, ведь правда? — заметил Штольц, затягиваясь сигаретой.
— Как посмотреть.
— Ну, если не закрывать глаза на определенные вещи, имевшие место. Между прочим, стань они известными, вам ведь туго придется, очень даже. А?
Бен напрягся, до боли стиснул зубы, но выдержал этот взгляд и, глядя Штольцу прямо в глаза, спросил:
— Какие вещи? Не понимаю.
— Слушайте-ка, — сказал тогда Штольц, — но только это между нами. Все мы живые люди, у всякого свои слабости. Ну, забил себе человек в голову таскать клубничку с чужой грядки, ради бога, его святое дело. Было бы все, как говорится, шито-крыто. Непременное условие. А то, согласитесь, ближнему может ведь и не понравиться, и тогда хлопот не оберешься. Ведь правда? Ну а особенно, если еще человек на виду, скажем там, учитель…
В наступившем молчании, которое, казалось, никогда не кончится, они мерили друг друга взглядами.
— Не понимаю, чего вы темните, — выговорил наконец Бен и, чтобы чем-то занять руки, машинально потянулся за трубкой.
— Господин Дютуа, то, что я вам скажу, уж совсем строго конфиденциально, — Штольц подождал, как Бен на это отреагирует, но тот только пожал плечами. — Полагаю, вам известно о некоей фотографии, которая ходит сейчас по городу и определенно может причинить вам неудобства? — сказал Штольц. — Так вот, волею обстоятельств и мне довелось подержать ее в руках.
— А меня это не удивляет, капитан. Как же без ваших рук обойтись, если вашими стараниями она и сработана. Разве нет?
Штольц неодобрительно расхохотался.
— Это же несерьезно, — проговорил он. — Ну признайтесь, господин Дютуа, что вы пошутили. Нет, в самом деле, точно у нас других забот не хватает.
— Вот и меня это удивляет. Подумать ведь, сколько человеческих усилий, сколько денег, времени, наконец, вы тратите на мою скромную персону. Казалось бы, вас должны занимать проблемы куда масштабней и, уж конечно, серьезней.
— Рад слышать это от вас. За этим я и приехал, с дружеским, так сказать, визитом. — Он как бы подчеркнул это последнее и помолчал, следя за дымком своей сигареты. — А то, понимаете, еще этой чепухи не хватало. Вот я и подумал, что мой долг рассказать вам.
— Почему же это?
— Потому, что не желаю видеть, как гибнет в общем вполне приличный человек.
Бен натянуто улыбнулся.
— Позволю себе сформулировать мотив вашего визита: если мы «находим общий язык», как вы выразились, если я перестаю обременять вас и тем более таить угрозу для вас, эти фотографии тихо-мирно исчезают. Так? И не ходят больше по рукам. Так?
— Ну, не дословно. Давайте просто скажем: это дает мне возможность использовать свое влияние, чтобы этот ваш неблагоразумный поступок наверняка не был использован против вас.
— А в обмен я должен заткнуться?
— Ну в самом деле, пусть усопшие покоятся с миром. Какой смысл продолжать тратить время и силы, как вы это делаете? Ну на что вы убили год жизни?
— А если я откажусь?
Штольц неторопливо затянулся, медленно выдохнул дымок.
— Я не настаиваю, господин Дютуа. Но все-таки подумайте.
Бен поднялся.
— Меня не удастся шантажировать, капитан. Даже вам.
Штольц не шелохнулся, продолжал сидеть, развалившись на стуле.
— А вы не спешите, не надо. Я вам даю шанс.
— Вы хотите сказать последний шанс?
— Кто знает.
— Я еще не доискался всей правды, капитан, — тихо сказал Бен. — Но картина вырисовывается. Нешуточная, поверьте. И я не позволю никому и ничему вставать у меня на пути.
Штольц неторопливо потянулся к пепельнице, тщательно затушил окурок.
— Это ваше последнее слово?
— Ну скажите, ведь ничего другого вы и не ожидали услышать?
— Как знать. — Штольц посмотрел ему прямо в глаза. — Вы уверены, что отдаете себе отчет, на что вы себя обрекаете? А ведь эти люди, неважно кто, ох как могут устроить вам желтую жизнь…
— Что ж, это останется у них на совести. Я верю, вы так и передадите им, капитан. Ведь есть у них хоть остатки совести?
Казалось, лицо офицера покрылось чуть заметной краской стыда, отчего еще явственней проступил шрам, прорезавший наискосок щеку.
— Ну-с, на том тогда и кончим. До свидания.
Бен не подал ему в ответ руки, попросту молча проводил до двери кабинета и захлопнул ее за ним. Больше не было сказано ни слова.
И что его поразило, так это открытие, что у него нет даже ненависти к этому человеку. На какое-то мгновение ему было почти жаль его. И только. Ты такой же невольник, как и я. С той разницей, что не знаешь этого…
В аэропорту, куда Бен поехал на следующий день встречать Мелани, ее и следа не оказалось. Стюардесса, к которой он обратился, нажала кнопки компьютера и подтвердила, что да, фамилия Брувер значится в списке пассажиров. Результатом же ее дальнейших поисков явилось неожиданное появление перед Беном служащего в форме, который сообщил, что стюардесса, увы, ошиблась. Особы с такой фамилией на борту самолета из Найроби не значилось.
Профессор Брувер принял это известие с удивительным спокойствием; Бен навестил его в больнице в тот же вечер. Никаких причин для беспокойства, сказал он. Мелани может передумать и перерешить что угодно в самую последнюю минуту, это за ней водится. Возможно, подвернулось что-нибудь интересное для газеты. Через день-другой преспокойно вернется. Его просто позабавило, как Бен тревожится, не более того.
На следующий день телеграмма из Лондона: «Добралась благополучно. Не беспокойся. Позвоню. Люблю. Мелани».
Звонок раздался около полуночи. Слышимость из рук вон, ослабленный расстоянием голос еле разобрать, чужой до неузнаваемости.
Бен через плечо глянул на дверь комнаты Сюзан.
— Что случилось? Где ты, Мелани?
— В Лондоне.
— Но ради бога, как ты туда попала?
— А ты встречал меня в аэропорту?
— Конечно. Что с тобой приключилось?
— Они не захотели меня пропустить.
Какое-то мгновение он просто остолбенело молчал. Потом переспросил:
— То есть ты тоже была там? В аэропорту?
Далекий смех. Ему показалось нервный.
— Конечно, а как же.
Наконец до него дошло.
— Паспорт?
— Ага. Нежелательный элемент. Иммигрант. Немедленно выслана.
— Но ты же не иммигрант. Ты такая же южноафриканская подданная, как и я.
— Была. Лишение гражданства, слышал?
— Поверить не могу. — У него вконец все перемешалось в голове от этой невероятной мысли, что она никогда не вернется.
— Ты не можешь сообщить папе? Но только как-нибудь деликатно. Я не хочу расстраивать его в его состоянии.
— Мелани, могу я чем-нибудь…
— Не сейчас. — Незнакомое, такое чуждое ей, усталое смирение в голосе. Точно уже примирилась и сдалась. Может быть, просто не хотела давать волю чувствам. Тем более в разговоре по телефону. — Только присмотри за папой, Бен. Пожалуйста.
— Не беспокойся.
— Потом мы что-нибудь придумаем. Может быть. У меня не было пока времени думать.
— Где, как я могу с тобой связаться?
— Через газету, Бен, я дам тебе знать. Может, мы что-нибудь придумаем. Сейчас такая путаница в голове.
— Но боже мой, Мелани…
— Не надо сейчас, Бен. — Безмерность расстояния между ними. Моря, континенты. — Все образуется… — На какой-то момент линию словно отключили.
— Мелани, ты меня слышишь?
— Да-да, слышу, — прорвался ее голос. — Я слушаю.
— Скажи мне, ради бога…
— Я с ног валюсь, Бен. Две ночи не спала. Сейчас в голову ничего не идет.
— Но могу я завтра тебе куда-нибудь позвонить?
— Я напишу.
— Обязательно, прошу тебя.
— Береги себя. И расскажи папе. — Сдавленным прерывающимся голосом, едва не с раздражением. Или это просто от расстояния?
— Мелани, ты абсолютно уверена?..
Телефон молчал.
Через десять минут снова звонок. Но теперь на другом конце провода молчали. А затем мужской голос хмыкнул кудахтающим смехом, и там положили трубку.
2
Казалось, письмо от нее никогда не придет. И это напряжение от ожидания и что ни день разочарование, сколько ни открывай почтовый ящик, вконец изматывали нервы — теперь еще вдобавок ко всему остальному, с чем он вынужден был жить и мириться. А если письмо перехвачено? Уже одна возможность этого до такой степени вызывала отвращение к самому себе со всей этой тщетностью пустого негодования, что куда там даже история с фото. С какой бы злобной яростью ни давили на него до сих пор, ладно, все это было связано с ним самим, с тем, что он схватился с властями из-за Гордона. Но теперь в это втянули Мелани, лишив самого сокровенного в его существовании.
Бесконечные ночи без сна. Возвращение мыслями к той невероятной ночи, так глубоко запавшей в душу, что порой он думал: полно, да не галлюцинация ли все это? Но он вспоминал эту ночь, потому что единственно и держался тем, что она освещала ему жизнь яркими вспышками. И память рисовала чуть заметные припухлости ее девичьей груди с темными смоквами в золотых ореолах, аромат ее волос, и вкус ее поцелуя, и звук ее голоса, и… В том, что память восстанавливала не зрительный образ, но чувственное его восприятие, и было самое невыносимое. А то, что не удавалось восстановить в памяти, ведь сколько еще она утратила? И полно, сама их любовь, была ли она, или это только игра воображения, мираж в пустыне?
И с другой стороны, мучительные домыслы, терзавшие душу: что она сознательно решила не писать, потому что просто хочет оставить его; что она ухватилась за первую попавшуюся возможность, чтобы уйти от него, потому что он стал ей в тягость. И того фантастичней: что она сама просто была приставлена ими с самого начала, играла с ним в прятки с целью выведать, что ему известно, и установить, с кем он связан. Безумие, конечно! И тем не менее за достижение сходило теперь просто прожить день и знать, что вот еще один прошел, и благо, что не случилось ничего хуже, чем было.
Может быть, все превратилось в часть и целое одного сплошного миража? Может быть, он вообразил себе все это преследование, надумал? Может быть, это просто заболевание мозга, опухоль? Рак, злокачественное новообразование. И как следствие утрата способности к реальному восприятию действительности, паранойя. Но если так, разве сумасшедший способен осознавать собственное сумасшествие?
Если б только действительно вокруг была пустыня, а он — беглец, спасающийся от реального врага, преследующего его по пятам на вертолете или на джипе. Если б только это действительно была пустыня, где люди умирают от жажды или зноя, где слепнут от ее белого солнца и остаются иссыхать выбеленными костями, тогда по крайней мере он хоть знал бы, что происходит. Только не неизвестность; знай он, можно было хоть предвидеть конец, смирить себя перед богом и людьми, приготовить себя к тому, что всегда в запасе. А так — ни-че-го! Неизвестность. Одна эта слепая сила, что движет тобой, без уверенности даже, что она и в самом деле движет; неощутимо же вертится _ земля, по которой ступаешь.
События и мелочные огорчения каждого дня больше вообще не принимались в расчет и уже не были вехами существования, просто слились с этим общим движением по инерции, вслепую. И эти телефонные звонки, и автомобиль, следовавший за ним чуть ни каждую поездку. Взять даже более серьезные случаи: бомба-самоделка, которую швырнули ему в окно как-то вечером, когда он поехал навестить в больнице Фила Брувера (счастье еще, что Сюзан гостила тогда у Сюзетты; Йоханну удалось справиться с огнем, и до пожара дело не дошло); выстрелы в ветровое стекло на следующий вечер, когда он возвращался домой после бесцельной — так, проветриться — поездки в город. Что, он в сорочке родился или сознательно стреляли мимо?
Он было вздохнул с облегчением, когда наступили пасхальные каникулы, все-таки с плеч долой заботы, все эти утомительные обязанности бесконечной школьной рутины. Но тут же сам и пожалел, лишившись последней уверенности в себе, проистекавшей из этого относительного, но порядка, который с радостью предпочел бы бесцельному, день да ночь, существованию, когда не знаешь, что будет через минуту и будет ли. Неведение. Краски осени тускнели, надвигалась зима. Листья падали, деревья теряли крону, черствела их плоть, лишенная жизненных соков. Невидимо, невероятно. Вся тихая кротость, вся нежность живой природы, женское ее родоначало и вся доброта человечности, сострадание — ничего не стало, все выжжено. Сушь, бесцветная сушь. Суровые краски осени. И зима. Сухой белый сезон.
И не переставая, неизменной бесконечной чередой люди шли к нему за помощью. От одного этого можно с ума сойти. Ну что, что мог он им предложить реально и действительно в помощь? Да и сами просьбы? Душераздирающие, серьезные, лживые, банальные. Черный юноша из Оранжевого свободного государства нелегально здесь в поисках работы, семья на ферме с голоду умирает: четыре ранда деньгами и полмешка муки в месяц; дважды до этого пытался бежать, оба раза ловили, и хозяин избивал до полусмерти; вот теперь, на третий раз, все-таки повезло, и теперь баас должен (!) помочь ему. Женщина, у которой в супермаркете украли зарплату. Мужчина, только что отсидевший восемь месяцев в тюрьме, и вот получил шесть палок по спине, потому что имел дерзость сказать хозяйской дочке, девочке-подростку, что она «просто душенька».
Это начинало угнетать. Так дальше не могло продолжаться. Он просто тонул в этой общей агонии. «Баас должен мне помочь, больше некому». Случалось, он из терпения выходил.
«Ради бога, да не докучайте вы мне. Надоело! Дэн Левинсон смотал удочки. Мелани нет. И вряд ли мы еще встретимся с вашим Стенли. Не к кому мне больше обращаться. Оставьте меня в покое. Все! Больше я вам ничем помочь не могу, кончено».
Стенли все-таки объявился. Давно пора было спать, но Бен не ложился из страха перед очередной бессонной ночью.
— Вот и я, приятель. Ну и видик у вас, не человек, а точно рыбу на песок выбросило.
— Стенли?! Чем обязан?
— А, просто взял и заскочил. — Громадина, само воплощение активного начала, он, как всегда, буквально, заполонял собой комнатушку. Эти его жизненные токи, которые он излучал, подобно генератору, казалось, бьют через край и передаются всему, чего он ни касается: ковру, столу, лампе, книгам, — всему, по таинственным законам передачи энергии.
— Пилит пила? А то еще один зубчик нарежем. Мелочь, а все-таки. А?
— Что такое?
— Водитель полицейского фургона, который отвозил тогда Джонатана в больницу.
Бен вздохнул.
— Ну и что от него проку?
— Я думал, сгодится. Сами же говорили, вам любая мелочь важна.
— Говорил. Но я устал.
— Развеяться вам надо, вот что. Красотку какую ни на есть подцепить, а? На предмет… — объяснил, как он это понимает. — Верно говорю.
— Не время для шуток, Стенли!
— Прощенья просим, приятель! Просто подумал, вдруг поможет.
Они сидели и молча приглядывались друг к другу. Каждый ждал, что скажет другой. Наконец Бен произнес, вздыхая:
— Ладно, давайте фамилию водителя.
Записал, равнодушно отодвинул бумагу, посмотрел в пространство.
— Надеетесь, Стенли, у нас еще есть шансы на победу? — спросил вяло.
— И не надеялся никогда. — Стенли, казалось, удивила сама мысль. — Так не в этом же смысл, человек.
— А вообще есть какой-нибудь смысл в том, что мы делаем?
— Победить мы не можем, но и отступаться нельзя. Стало быть, держать осаду, и все тут.
— Мне бы вашу уверенность.
— Мне без этого нельзя, у меня детишки. Я же вам давно говорил. Будь я сам по себе, да что бы со мной ни случилось — плюнуть и растереть. А так ведь останься я не при деле, им тоже крышка. — Облокотился о стол, согнулся всем своим грузным телом. — Что-то надо делать. Возьмите нашего же брата, они мне в лицо плюнут, знай, что я вот так рассиживаю с вами… А я иду на это.
— Почему? — Бен во все глаза смотрел на него. — Почему плюнут?
— Потому что не в моде теперь сидеть строить планы с белым человеком. Меня никто не поймет. Не те времена. Вам надо это понять. У моего народа черно на душе. Хоть моих детей возьмите. Они на другом языке говорят, чем мы с вами. — Он встал. — Не знаю, когда еще удастся заглянуть. Тут теперь в каждой щели, будь оно все проклято, информаторы понатыканы. Времечко, на чем свет только держится.
— И вы тоже меня покидаете, так, что ли?
— Я не брошу, друг. Но надо быть осторожным. — Он протянул руку. — Пока.
— Ну, и куда путь держим?
— А никуда.
— Значит, как-нибудь когда-нибудь?
— Конечно. — Он засмеялся, взял руку Бена обеими своими руками. — Да не дальше как завтрашним днем и увидимся. Знаете, что скажу? Настанет день, когда мне не надо будет по ночам финты откалывать, чтобы не будить соседских ваших собак… — Он выругался. — Мы еще средь бела дня погуляем с вами, как порядочные люди. Куда пойдем: прямо, налево, направо? Да куда угодно, лишь бы по дружбе, под руку. Поверьте моему слову. На глазах у всего белого света пойдем, приятель. И никто нас не остановит. Только подумайте. — Он наклонился, согнул руку, точно кавалер перед дамой, пожалуйте пройтись. — Вот так. И ни один сукин сын не скажет: «Эй, ну-ка стой, где твой domboek?»
Он хохотнул, но было в этом смехе что-то от неизбывной печали. И вдруг повернулся, вышел, и в комнате воцарилась мертвая тишина.
Больше они не виделись.
А рядом своей жизнью жила Сюзан. Поодаль и в стороне. Они почти не разговаривали, обменивались несколькими обязательными словами за столом, не более того. Когда он пытался еще завязать разговор, задавая вопрос либо предлагая на какой-нибудь счет объяснение, она опускала глаза и сосредоточенно занималась ногтями с тем отрешенным видом, какой принимает женщина, давая понять, что находит внимание назойливым.
По сути, единственной, с кем он еще разговаривал, была Линда; он ей время от времени звонил, но чаще всего случалось так, что посреди разговора его вдруг одолевали мысли и он начисто забывал, зачем, собственно, набирал ее номер.
И конечно, еще Фил Брувер, пусть даже Мелани молчаливой преградой стояла между ними. Старик постоянно говорил о ней, а Бен терялся. Хотя старик был ей отцом — а может, именно поэтому? — он ревниво воспринимал все, что касалось дочери.
Ее газета выдала отчет — статья наделала шуму — о конфискации ее южноафриканского паспорта, намекая, что в известной мере это могло быть связано «с частным расследованием, предпринятым ею в связи со смертью некоего Гордона Нгубене, находившегося в заключении, около года назад». Хотя примечательно было и то, что больше этой темы газета не касалась. Вечерняя «Санди пейпер» время от времени продолжала ссылаться на дело Гордона Нгубене главным образом благодаря настойчивому упорству одного-двух молодых репортеров, поддерживавших на этот счет контакты с Беном. Но момент был упущен. Пошли письма читателей, однозначно требовавших, чтобы газета прекратила «мусолить эту чепуху, в зубах навязло».
— Вообще-то их и обвинять нельзя, — сказал профессор Брувер. — Знаете, у людей короткая память и благие намерения. Но понимаете, миру, который видел Гитлера и Биафру, Вьетнам и Бангладеш, — что ему жизнь одного-единственного человека? Люди теперь только масштабами мыслят, это еще производит впечатление. А один человек…
В тот день Бен привез старика домой. Врачи по-прежнему морщились, когда заходила речь о выписке, но явных признаков, показывавших только больничный режим, тоже не было. И еще, после этой высылки Мелани старик стал пуще прежнего раздражительным, вспыльчивым. Все равно не обретет покоя, пока не дадут ему вернуться под собственный кров, копаться в собственном саду. Бен договорился с сиделкой, на круглые сутки. Правда, пришлось изрядно поспорить, пока старик согласился. И хоть одна ноша с плеч. Бен было вздохнул с облегчением. Но тут — еще не кончились и каникулы в школе — Брувер позвонил и попросил заехать.
Его ждало письмо от Мелани. Он тупо смотрел на конверт, чистый конверт без всяких штемпелей.
— Вложен в письмо на мое имя, — объяснил старик, довольно хихикая. — А письмо послала на адрес моего приятеля. Он утречком же мне его и занес. Так вот. А вы читайте спокойно, читайте, я вам мешать не стану.
Письмо было едва в страничку и на удивление деловое. Он лихорадочно читал и перечитывал скупые строчки в поисках какого-то тайного смысла, ну хоть чего-то неуловимого, намека на сокровенно личное в этом прозаическом перечне того, как ее остановили в аэропорту Яна Смэтса, препроводили в приватную комнату и оттуда прямо к трапу самолета британских авиалиний, шедшего тем же вечером обратным рейсом в Лондон. Краткое, без тени эмоций сообщение о ее обстоятельствах, заверения, что им буквально не о чем беспокоиться, у нее все в порядке и практически место в лондонском бюро газеты на Флит-стрит ей обеспечено, все по закону. А затем наконец:
«Что не дает покоя, так это единственно твои глаза, они не умеют лгать. Прошу тебя, только бы папа не догадался о всей правде. Я начала статью о Гордоне, думала, это будет бомба. Но еще и кончить не успела, как вдруг неожиданный визит. Джентльмен с головы до кончиков ногтей, по виду самый что ни на есть британец, только акцент выдал (если я не даю волю воображению, иногда начинаешь в себе самой сомневаться). Он в высшей степени обходительно заметил, что просто уверен, я и мысли не держу печатать что-то такое о Гордоне Нгубене. И это здесь, в Великобритании! «А что мне может помешать?» — поинтересовалась я. «Благопристойность, уважение к приличиям, — отвечал он, — И вы же не хотите никаких неприятностей вашему старому отцу, не правда ли?» Вот так-то. Но мы не должны падать духом, Бен. Прошу тебя об одном: пусть все, что случилось со мной, никак не повлияет на дело, которому ты служишь. Отчаяние — худший из советчиков. Папе нужна твоя помощь. Ты обязан идти своим путем. Ты обязан вытерпеть. Обязан ради Гордона и Джонатана. Но больше всего ради самого себя. Меня ради. Ради нас. Пожалуйста. Что касается меня, я ни на миг единый не пожалела ни о чем, что было между нами».
Он сидел и смотрел, ничего не видя, в этот листок бумаги у него на коленях, и, спохватившись, аккуратно сложил его и убрал в конверт.
— Довольны? — спросил старик с веселыми огоньками в глазах.
И тут он решился. Вряд ли это был голос здравого смысла, просто приятие того, чего не миновать, что все равно неизбежно.
— Профессор, я вам должен кое-что рассказать.
— Что вы с Мелани любите друг друга, это, что ли?
— Позвольте…
— Я не слепой, Бен.
— Это серьезней, чем вы думаете. И вы должны знать. Как раз перед тем, как ей лететь в Кению…
— Зачем вы мне это рассказываете? Смысл?
— А затем, что по этой причине они лишили ее гражданства. Другой вины за ней нет. Только моя, понимаете? Они сделали фото… и пытались меня шантажировать. А когда я дал им от ворот поворот, они решили отыграться на ней. Они знали, что это меня доконает.
Удивительно спокойный, даже головы не подняв, старик слушал эти его выкрики.
— Поскольку я несу ответственность за то, что произошло, я не могу больше обременять вас своим присутствием. Мне стыдно переступать порог вашего дома.
— Она давно у них на примете, Бен.
— Но я оказался последней каплей.
— Они могли воспользоваться любым другим предлогом, какая разница.
— Но как мне после этого смотреть вам в глаза?
— Что проку винить себя, время тратить.
— А кого мне винить, кроме себя, кроме своей совести?
— Если уж по совести, так надо дальше смотреть, дело-то не в этом частном случае, Бен. Вот наш долг перед самими собой. И перед Мелани тоже. — Он потянулся за трубкой, о которой врачи категорически запретили ему помышлять, и принялся ее чистить. — Знаете, чему я не перестаю удивляться? Что же это за мир такой, что за общество такое, в котором государство может преследовать и вот так ломать человека? Как рождается подобная система? С чего, откуда это идет? И кто дозволяет такой порядок вещей?
— Достаточно того, что это происходит. Праздные вопросы, профессор.
— Помилуйте, во что мы превратимся, если перестанем задаваться вопросами?
— Но куда они заведут?
— Неважно куда, черт побери! Главное, не облениться душой и все-таки спрашивать с себя. — Тяжело дыша — Бен никогда не видел, чтобы старика до такой степени покинуло душевное равновесие, — он чиркал спички, одну за другой, пытаясь раскурить трубку, — И задаваться вопросами до тех пор, пока не проясним собственную меру ответственности за все, что происходит.
— Как мы можем быть ответственны за то, что происходит? — сказал Бен, — Мы восстаем против этого! Но сделали мы что-то конкретное?
— А суть не обязательно в чем-то конкретном. — Он затянулся с наслаждением и медленно выдыхал дым. — Может быть, суть как раз в чем-то, чего мы не сделали, чем пренебрегли, когда еще не поздно было остановить гниение, а мы закрывали глаза просто потому, что это «наш народ» совершал преступления.
Они долго сидели молча.
— Выходит, вы не вините меня в том, что случилось с Мелани?
— Вы не дети. — Жестом, в котором было раздражение, он резко потер пятерней лицо, будто досадуя на что-то. В сумерках комнаты Бен и не заметил, что в глазах старика стояли слезы, — Горло не дерет? — спросил старик. — А по мне, так очень крепкий табак, пора переходить на что-нибудь полегче.
Понедельник 24 апреля.
Утром позвонил Клуте, сказал, что ему крайне необходимо меня видеть. И все. Меня это неприятно поразило. Завтра начинаются занятия в школе, и так увидит, если надо. К чему эта спешка? Тем не менее я держался спокойно. Проглотил все, как стакан пунша. Нет в самом деле ничего, кроме облегчения, от сознания того, что еще одна забота с плеч долой. Остается только восхищаться, сколь мало, в сущности, человеку нужно. Смирение с собственной незначительностью. Полезный и отрезвляющий опыт.
На столе лежал коричневый конверт. Он не открывал его в моем присутствии. Нет нужды. Точно такой пришел на имя Сюзан.
— Господин Дютуа, полагаю, нет необходимости говорить, до какой степени я шокирован. Все эти долгие месяцы я ни минуты не сомневался… то есть я всегда был готов прийти вам на помощь. Но в нынешних обстоятельствах, — он часто и тяжело пыхтел, ну точь-в-точь, как оставшиеся в памяти с детских лет кузнечные мехи в примитивной отцовской кузнице на ферме; на дворе зимнее утро, белое от инея; в загоне около кузницы овцы, собака лает на огонь в горне. А от наковальни россыпью летят искры… — первейшая обязанность каждого, вы не находите? — долетает его голос. — На нашем попечении школа, ученики. Полагаю, вы понимаете, что у меня просто нет иного выхода. Я связывался с департаментом. Разумеется, будет официальный запрос. Но до тех пор…
— В этом нет никакой необходимости, господин Клуте. Хотите, я сию минуту напишу заявление.
— Рад, что вы сами заговорили об этом. Это упростит дело во всех отношениях.
Ему что, в самом деле нужно было обсуждать все это с остальными учителями? Или нет даже смысла и надеяться на жалость даже ценой ужаснейшего из унижений? В учительской было человек пять, может даже четверо, когда мы вошли туда с Клуте из его кабинета.
Карелсе, выспренне: «Нет-нет, позвольте, вот уж теперь мне доподлинно хочется встать и снять перед вами шляпу. Вам надлежит открыть коннозаводское производство».
Вивирс, угрюмый, против ожидания изо всех сил сторонится меня. Затем все же обращается, словно неожиданно решившись: «Господин Дютуа (не «старина Бен», как обычно), надеюсь, вы меня простите, но, право же, мне очень больно, вы меня просто сразили. Я всегда был на вашей стороне, с самого первого дня. Я-то и вправду полагал, что вы делаете нечто важное, нужное и что вы принципиальны. Но такого, извините…»
Обсуждать все это с Сюзан нет желания. Не сейчас, по крайней мере не сегодня. Но за ужином — слава еще богу, мы были один на один, — когда она заметила что-то насчет костюма на завтра, меня прорвало.
— Я не собираюсь завтра ни в какую школу.
Она удивленно оглядела меня и тут уж посерьезнела.
— Я написал заявление об отставке.
— Ты что, в своем уме?
— Клуте поставил меня перед выбором, что ж мне оставалось… Так хоть приличия соблюдены.
— Ты хочешь сказать, что…
— Ему тоже пришла фотография по почте.
Я не мог оторвать взгляда от нее. Как при дорожном происшествии: смотришь, точно завороженный. Тошно, а глаз оторвать не можешь, гипноз какой-то, не можешь, и все.
— То есть теперь все всё знают. — Констатация факта, не вопрос. — Все время я убеждала себя, будто это нечто такое, что касается только нас с тобой, относительно чего нам предстоит прийти к соглашению. — Она вздохнула. — Хуже не придумаешь, но по крайней мере это оставалось между нами.
И все, больше она ничего не сказала. Она ушла к себе, даже не убрав посуду. Я поплелся в кабинет.
Теперь уже за полночь. Полчаса спустя она пришла сюда. Совершенно спокойная. Этот ее ужасный самоконтроль.
— Я все обдумала, Бен. Если ты не возражаешь, я сегодня останусь здесь. А утром я уберусь.
— Нет.
Зачем я это сказал? Ужели не было выбора? Чего ради вдруг я решил удерживать ее? Это недостойно, наконец. Но ведь не ради нее я пытался ее удержать. Единственно ради самого себя. Мука мученическая, пусть. Только не абсолютное одиночество.
Гримаса, вымученная улыбка.
— Господи, Бен, сколько в тебе мальчишества.
Мне хотелось подняться и подойти к ней, а ноги были как ватные. И я не двинулся с места. И она, не оглянувшись даже, ушла.
3
Неприятности накатывались одна за другой, вконец расшатывая устои семьи.
После ожесточенной перебранки с Сюзан Йоханн все-таки остался с отцом. Трудно сказать, выдала ли она ему все как есть. Как бы там ни было, мальчик вышел из себя.
— Ты всегда была против папы, с самого начала. Но он мне отец, и никуда я от него не уйду. Пусть все катятся к чертям, мне до этого нет никакого дела!
Реакция Линды глубоко задела Бена. Она предусмотрительно явилась «объясниться» не одна, а со своим Питером, чем только прибавила страстей. Бен чувствовал себя не в своей тарелке, присутствие зятя его стесняло. Она мирилась со всем, хотя Бен и превратил их жизнь в ад, потому что хранила веру в его добрые намерения. Она могла не разделять его методов, того, как он поступал в том или ином случае, но никогда не сомневалась в искренности мотивов. Он был ей отцом, и она любила его и уважала, была полна желания защищать его перед кем угодно. Но то, что случилось, это уж переходит все границы. Это… это низко, отвратительно. И подумать только, это стало достоянием гласности. Как ей теперь людям в глаза смотреть, хоть об этом он подумал? И как насчет ценностей, которые он им проповедовал? Храм господень, не человек. И нате вам. На какое теперь уважение с ее стороны он может рассчитывать? Ладно, простить — ее христианский долг. Но забыть — нет, такое не забывается. Никогда. Она ночами не спит, просыпается в холодном поту. Ужас какой-то. Единственный способ сохранить к себе остатки уважения — это порвать с ним тотчас же раз и навсегда.
Питер заверил Бена, что он не оставит его в своих молитвах. С этим они и отбыли в Преторию в своем подержанном «фольксвагене».
И уж чего Бен никак не ожидал, так это реакции Сюзетты. Она прикатила на следующий день после того, как ушла Сюзан, в новомодном спортивном автомобиле. Первой его мыслью, панической, было тут же скрыться, бежать куда глаза глядят. Нечего было и помышлять справиться в эту минуту с напором ее страстей. Но, едва взглянув на нее, тут же с удивлением обнаружил что угодно, только не враждебность, к которой по привычке готовился. Она подошла к нему, высокая, золотоволосая, как всегда ухоженная. И не было в ней этой ее вечной агрессивности, отвергающей всякие попытки к сближению, и самоуверенности, которая столько раз наводила на него ужас. Прикусив губу, украдкой огляделась, коснулась порывистым, неловким поцелуем его щеки. Стояла, вертела в руках сумочку змеиной кожи, точно провинившаяся девочка в ожидании наказания. Напряженно, взволнованно, потупив глаза.
— Ну, как ты тут?
Не поняв, настороженно поглядел на нее.
— Я думал, ты знаешь.
— Я не о том. — И снова какой-то непонятный взгляд в сторону, чтобы не смотреть в глаза, извиняющийся, что ли. — Может, тебе что-нибудь нужно?
— Справляюсь.
Села, тут же нервно вскочила.
— Я приготовлю чай, ладно?
— Не беспокойся.
— Пить хочется. Чашка чая нам с тобой не помешает.
— Сюзетта. — Ему была не по душе эта игра. — Если ты пришла выложить мне все, что ты думаешь…
— Ага. — Холодные голубые глаза уперлись в него, только в них не было осуждения. Беспокойство, огорчение, тревога.
— …так я за последнее время на этот счет столько наслушался со всех сторон.
— Я к тебе не с упреками, папа.
— А с чем? — Он уставился на нее, вконец озадаченный.
— Хочу, чтобы ты знал: я понимаю.
Помимо воли с горечью вспомнилось: «О, я понимаю твои взгляды. Ты никогда не питал особого уважения к святости брачных уз». Но ничего не сказал, ждал, что последует дальше.
Он видел, что в ней борются какие-то чувства и она не решается продолжать.
— Папа, я хотела сказать… Ну, что я не обвиняю маму, что она ушла. Я знаю, ей несладко пришлось. Но все эти недели я дни и ночи думала и вот поняла, — она опять бросила на него нерешительный взгляд: не осуждает ли он? — …впервые в жизни, кажется, поняла, через что тебе пришлось пройти. За этот последний год. Да и до этого. И я подумала: не со всем я могу согласиться, да и не уверена, что всегда правильно тебя понимала, но уважаю таким, какой ты есть. И надеюсь только, что я не заставила себя слишком долго ждать, чтобы сказать это.
Он опустил голову. Пробормотал, что хорошо бы выпить чаю.
Больше они к этому не возвращались, старательно держались в разговоре безобидных тем: о внуке, о ее работе в журнале, о Йоханне. Болтали о том о сем, просто о погоде.
Но когда она заехала на неделе, былой скованности уже не осталось и они спокойно обсуждали все, что касалось его непосредственно, включая дело Гордона и остальное, что произошло и происходит. И помимо его воли, хотя в нем и пробудился, как в мальчишке, какой-то пыл откровенничать, он даже упомянул Мелани. Постепенно ее приезды стали в порядке вещей. Через день, редко через два она заезжала по утрам прибраться в квартире или приготовить чай и поболтать. Как подменили человека. Он отказывался верить своим глазам, хотя в порыве сентиментальности готов был бога благодарить за такую в ней перемену.
Бывало, ее присутствие раздражало его — он стал ревниво относиться к своему одиночеству, к этим часам свободы в пустом доме, к тишине. Но стоило ей уехать, и он тут же открывал для себя, как ее недостает. Пусть она делает это не из пылких чувств, пусть для нее это просто возможность поговорить, посудачить, благо он всегда готов составить компанию. Конечно, это не слепая преданность сына. Общения с Йоханном ограничивались уклончивыми репликами за обедом, иногда они выбирались в кафе или ресторан, ходили на регби. Большей же частью играли в шахматы: это давало возможность общаться без необходимости разговаривать. Но Бен последнее время становился все более рассеянным, полагался в основном на заигранные банальные дебюты, что называется терял форму, за что чаще всего дорого и расплачивался после первых же ходов. Или проваливал эндшпиль, опять же из-за утраченной способности сосредоточиться. Сюзетта же, та несла ему понимание и симпатию проникновенной, зрелой женской натуры, мудро не позволявшей ему утрачивать уверенность в себе, когда он был близок к этому. Навестил его и преподобный Бестер. Однажды, больше не появлялся. Предложил усладить мысль чтением Библии и помолиться. Но Бен сказал: «Нет».
— Оом Бен, ужели вы не понимаете, что плетью, как сказано, обуха не перешибешь? Отчего и нам не отрешиться и не предать это забвению?
— Нет забвения, пока Гордон и Джонатан Нгубене лежат неотомщенные в своих могилах.
— Не наше отмщение, но богово. Он и воздаст, — увещевал его молодой человек с величайшей серьезностью. — Ожесточение говорит в вас, и мне больно в душе, не знал я за вами этой жестокости.
— А что вы вообще за мной знали, ваше преподобие? — буркнул он, щурясь от дыма; они оба сидели и курили, а он еще после бессонной ночи.
— Не слишком ли далеко это зашло? — спросил тогда священник. — Ужели и так недостаточно в вашей жизни разрушений и опустошенности? — Похоже, он заставил Бена пристально вглядеться в самого себя, в поле боя собственной жизни.
— Вы хотите сказать, имеет ли это смысл? Никакого. Пока не смогу заплатить за все полную цену.
— Не гордыня ли, не ужасная ли самонадеянность толкает вас? Что, кроме страданий, сулит вам этот процесс? Не находите ли вы, что уподобляетесь тем извращенным католикам из средневековья, что, впадая в экстаз, бичевали самих себя? Сие не смирение, оом Бен, не покорность. Но чистая гордыня.
— Кто это занимается самоистязанием? Не понял.
— Ужели непонятно? Я пытаюсь помочь вам. Пока не поздно.
— Это как же, интересно? И что вы намерены предпринять? — У него был полный разброд мыслей, он чувствовал, что не может сосредоточиться.
— Для начала отложим этот развод.
Он только головой покачал.
— После стольких-то вместе прожитых лет, — продолжал Бестер, — я отказываюсь поверить, что вот так можно взять и разорвать все отношения.
— Нам с Сюзан больше нечего сказать друг другу, ваше преподобие. Все, она исчерпала себя. Мне ее не в чем упрекнуть. И я себя тоже исчерпал.
— Никогда не поздно спросить себя в сердце своем. — Он сидел, выжидающе всматриваясь Бену в глаза. — Эта другая женщина, оом Бен…
Тут его взорвало.
— Я не желаю, чтобы ее вмешивали во все это! — чуть не прокричал он, забыв все приличия. — Вы ничего о ней не знаете.
— Но если мы хотим чего-то добиться нашим разговором… — У него дрожал голос, исполненный непоколебимой доброты.
— Чего? Меня больше ничто не интересует, — отвечал он, с трудом подавив волнение. — Я сам распоряжусь своей жизнью. Ничто не интересует!
— Бог нам судья единый.
— Если так, он, увы, явно плохо рассудил меня, — сказал и, успокоившись, добавил: — И я не в претензии на него за это. Я уж на себя самого возьму ответственность.
— Помните тот вечер, когда вы пришли ко мне, как раз после суда? Если б вы тогда меня послушали…
— Послушай я вас тогда, меня бы совесть замучила. Бог знает чего бы еще я лишился. А так, хоть совесть не потерял.
— Чего только не вкладывается в понятие «совесть», — тихо сказал преподобный Бестер. — А это тоже ведь поди от гордыни. Этак-то удобней, промысел божий присвоить из десницы его. А в оправдание — совесть.
— А может, она по той причине и дорога, что в нее столько вкладывается? Непосвященному вовек не понять. Я ничего не знаю о вашей совести, а для вас моя — темный лес. Я часто думаю: а может, в этом и есть истинный смысл судьбы? Знать, перед лицом бога, что тебе и не дано поступить иначе, чем поступаешь. И держать за это ответ. — В комнате висело плотное облако дыма, он молча всматривался в лицо молодого человека, ожидая, что тот скажет. Не дождавшись, сказал сам, трубка дрожала у него в руке. — По мне, так я готов. Прав я там или нет, не знаю. Но готов. А вы?
4
5 мая. Хватило бы у меня мужества справиться, если б Фила Брувера не забрали снова в больницу? Ну да, какой теперь смысл гадать.
Вчера звонила сиделка. По-видимому, он прослышал от кого-то из министерства внутренних дел, что ему отказано в паспорте на поездку в Лондон к Мелани. И после ленча у него случился новый сердечный приступ. Не очень страшный, но госпитализация обязательна. А навестить его мне не разрешили: «только родственникам».
Говорил с Йоханном. Но его рвение «помочь» ставит в затруднение. Что он, по сути, понимает? Что я могу по-настоящему обсуждать с ним? Как ему объяснить это мое угнетенное состояние, грозящее захлестнуть во мне все без остатка? Кусок в рот не лезет. Я давно потерял сон. Я приперт к стене. Клаустрофобия. Шмель в бутылке. Навязчивый бред.
Пытался разыскать Стенли, хотя сам понимаю, насколько это неразумно. Не по домашнему телефону, естественно. И даже автомат выбрал на другом конце города. Параноик чистой воды! Он не отвечал. Еще трижды звонил в течение вечера. Наконец женский голос сказал: «Уехал по делам». Обещала передать, что звонил приятель — я сказал: «Lanie, как он меня называет». До сих пор звонка нет. Уже около одиннадцати утра. Дольше я не вытерпел. Слышать человеческий голос — все равно чей. Пусть хоть преподобного нашего! Но и его не застал. Открыла жена. Совсем девочка, блондинка с навсегда застывшим удивлением в глазах — оттого, что уже столько детей народила? — очаровательная своей хрупкостью. Предложила чай. Я имел безрассудство согласиться. Дети за подол держатся. Тут же и сбежал.
Решил ехать в Преторию к Сюзетте. Раздумал. Ее симпатия и дочернее участие — единственное мое утешение, так. И все-таки мне с ней неуютно. Никак не пойму этой в ней перемены, как она мне ни приятна. Вконец отказываюсь понимать и ее, и всех на свете. Устал.
Так я поехал в Соуэто.
Окончательное безумие? А мне плевать, кто что скажет. Еду и все. Может быть, удастся разыскать Стенли. Хоть одно знакомое лицо. Нелепо? Наверное. И все-таки я ехал искать живую душу черт те где, а не в своем окружении. Не на соседском же участке, в самом деле.
Я здорово поплутал, пока добрался, то и дело останавливался узнать, правильно ли еду. В этой игре в полицейские-и-воры было что-то определенно увлекательное. Проверка на сообразительность — все это заставляет держаться начеку, собраться в кулак. Выжить, наконец, и не сойти с ума.
Притормозил у электростанции, поехал медленней. Я здесь был пару раз, и всегда со Стенли, однажды уже совсем в темноте. А уж тут путаница была с дорожками-тропинками, настоящий лабиринт. Вроде бы в общем правильно. Через железнодорожный переезд. А дальше пошел петлять по улочкам, наугад держась направления. И заблудился. Подался в одну сторону, в другую. Вконец потерял представление, куда еду в этом облаке дыма, заслонившем солнце над головой. Дважды останавливался узнать дорогу. Сначала ребятишки, целая группа, буквально замерли на месте, когда увидели меня, и стояли, рты разинув, так ничего и не объяснив, и еще долго смотрели вслед. Потом цирюльник в дверях своего заведения. У него, я еще разглядел, клиент сидел, ждал среди уличной пыли в плетеном кресле, в мятом-премятом пеньюаре. Цирюльник объяснил толком, куда все-таки ехать.
На углу улицы, там, где я притормозил у дома Стенли, кейфовала группа подростков. Они просто сделали вид, что не слышат, когда я обратился к ним с вопросом: «Стенли дома?» Наверное, одно это должно было меня насторожить. Но тогда я ни о чем другом и не думал, только бы увидеть его.
Постучал. Полное молчание. Снова постучал. Наконец открывают. Женщина. Молодая, привлекательная, волосы убраны по-африкански. Минуту-другую подозрительно оглядывает меня и все норовит захлопнуть дверь перед носом. Но тут уж я поставил на своем.
— Мне нужно повидаться со Стенли.
— Его нет.
— Я Бен Дютуа. Он ко мне частенько заглядывает. Мы с ним приятели.
Она всматривалась, все еще недоверчиво. Но похоже, правильно, что я назвал себя и сказал «lanie».
— Я вчера несколько раз звонил. Просил передать, что жду его звонка.
— Его нет, — мрачно повторила она.
Я беспомощно огляделся. Эти ребята так и торчали на углу, руки в брюки, глаз не сводят.
— Вам бы ехать, — сказала она. — Неприятностей не оберетесь. Ехать бы вам.
— То есть в каком смысле? Каких неприятностей?
— А для вас. Для Стенли. Для всех нас.
— Вы ему кто, жена будете?
— Они следят за ним, — сказала она, оставив вопрос без ответа. — Они. Следят. Понимаете?
— Кто они?
— Они.
— Он знает? — Я встревожился. Не просто за Стенли. Ведь остался он один. С ним могло умереть все. Он обязан был жить.
— Ну нет его, сказано же вам. Уехал, — тупо повторяла она. — Думается, в Свазиленд. Вернется не скоро. Он знает, что за ним следят. Сказано вам.
— А вы? — спросил я, — И дети? Может, нужно что-нибудь?
Как мне показалось, ей этот вопрос представился просто смешным. Она заулыбалась во весь рот.
— Ничего не нужно. Хлеба он нам вдоволь запас. — И затем, уже серьезно: — Вы ехали бы лучше домой. Нет, я вас не пущу. От них ведь не укроешься.
Я повернулся спиной, все еще раздумывая, что бы это значило, и через плечо:
— Ну, а если он вернется? Вы хоть ему скажете, что я был?
Кивнула головой, да или нет, не понял. И тут же захлопнула дверь.
И я, удрученный, буквально не зная, что мне предпринять, стоял столбом. Куда дальше? Ехать домой, словно ничего не случилось? Ну а дальше что? Дальше-то?
Я настолько погрузился в эти собственные свои мысли, что даже не заметил, как подростки окружили меня. Когда же наконец поднял на них глаза, они стояли тесной группой между моим автомобилем и мною. А сзади откуда-то надвигались еще и другие. Мне сразу показалось подозрительной эта безмолвность их движений. Тени, не люди. Точно им некуда спешить. Конец предрешен, и они просто идут к концу.
Я ступил было к автомобилю, сделал несколько шагов и в нерешительности остановился.
Они взирали на меня с каменным молчанием, черные лица юношей ничего не выражали. Ну ничего. Как каменные.
— Стенли нет дома, — проговорил я, понимая, как это глупо. Но надо же было хоть как-то вступить с ними в контакт. И почувствовал, что у меня в горле пересохло.
Они не шелохнулись. А там, за спинами, надвигаются и надвигаются еще. Господи боже, да как они проведали о моем присутствии?
— Я приятель Стенли, — пробормотал я опять. И сказал: — Lanie.
Молчание.
Стараясь не выдать волнения, я сделал шаг, вынул из кармана ключи от машины.
И тут все смешалось. Похоже, они решили, что я собираюсь удирать. Кто-то попытался выхватить у меня брелок с ключами. Я резко рванул руку. И тут ударом сзади меня свалили с ног. Я растянулся в пыли на дороге, но ключи удержал. Они навалились на меня, как в игре куча-мала, все разом. Не помню, как мне удалось выбраться. Один против многих — дело не шуточное. И я бросился к машине. Но меня снова схватили. Удар в живот. Я рванулся вперед, но тут же получил сокрушающую подсечку коленом по почкам. Наверно, я взвыл от боли, потому что у меня в глазах помутилось. Но я знал одно: не вырвусь — мне конец. До сих пор понять не могу, как мне это удалось, но в общей суматохе я исхитрился увернуться, обежал автомобиль и дернул водительскую дверцу. Слава богу, остальные были заперты. Я плюхнулся на сиденье, но тут с силой рванули дверцу. Я наугад двинул кого-то ногой, дверцу на себя, защемил тому руку. И мельком отметив, как черные фигуры надвигаются, трясущейся рукой повернул ключ зажигания. Я еще опустил зачем-то на дюйм окно и крикнул им в щелку срывающимся голосом: «Да можете вы понять, я же за вас!..»
Тут машина сотряслась под ударом камня. Швырнули издали, с силой. Десятки рук подхватили автомобиль за задок — раз-два, взяли, — пытаясь поднять, чтобы оторвать колеса от земли и не дать мне уехать. А по кузову грохотали камни. Теперь одно спасение: я включил скорость, дал полный газ. Зацепило, кто-то там не устоял на ногах, остальных расшвыряло. Колеса взвизгнули, подняв тучу пыли, щебня, машину рывком бросило с места и понесло.
На углу меня ждали. Кирпич угодил в стекло с моей стороны, разнес его вдребезги, чудом не снес мне голову и шлепнулся на сиденье рядом. Я чуть не потерял управление, машину швырнуло, повело зигзагами. Куры, детишки бросились врассыпную с обочин. Не понимаю, каким чудом они ускользнули из-под колес.
Все это и длилось-то минуту, ну две от силы, все, что произошло, а казалось — конца не будет. Я пришел в себя уже в соседнем поселке. Дети катали брошенные покрышки, обручем гоняли велосипедное колесо. Что-то кричали во весь голос женщины, так что на другом конце улочки слышно. Замусоренный ржавым автомобильным хламом вельд несся мне навстречу; какие-то люди, копающиеся на свалках, что-то там подбирающие. Обычная картина. С той разницей, что теперь это воспринималось отнюдь не буднично. Не скажешь: тихая мирная жизнь. Все враждебное, чужое, зловещее. Куда ехать, я понятия не имел, мчал наугад. Куда глаза глядят. Но панический ужас гнал меня, не давал остановиться. Я просто продолжал гнать и гнать, безрассудно, куда бог занесет, едва соображая, что ведь на этих выбоинах и рытвинах еще минута и полетит полуось, никакие амортизаторы не выдержат. Гнал, иногда в каком-нибудь дюйме объезжая пешеходов и оставляя их в клубах пыли, шарахающихся в ужасе, посылающих проклятия и долго еще грозящих мне вслед кулаками. И так всю дорогу по этим улочкам, от одного поселка до другого, ничего не видя перед собой.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я притормозил, просто заставил себя остановиться. Но это уже было далеко от жилья, среди выжженного зноем вельда. Просто посидеть и дух перевести, прийти в себя. Руки, ноги — чужие. Голова разламывается. Весь в пыли, растерзанный, пиджак, брюки висят клочьями. Представляю, на кого я был похож. Я сидел долго, все не мог отдышаться и тронул с места, только почувствовав, что отдышался и яснее начинаю отдавать отчет в том, что делаю. Тронулся и покатил к торговому центру вдали, где мог хоть спросить дорогу. Но это уже на противоположном конце Соуэто, у кладбища, там, где похоронили Гордона. Вот где я очнулся.
И только тогда мне словно в голову ударило: исповедимы ведь наши жизни, вот что воистину, коли жить по кругу, кружа снова и снова по обветшавшим вехам, ибо сколько по ним до нас кружили другие. Один круг отныне завершен. Вот здесь, на этом месте, в родном доме Стенли, его Софасонка-Сити, на демонстрации, точь-в-точь вроде той, на которую я нарвался, арестовали Джонатана. И для меня здесь — начало всех начал. И вдруг во всем этом мне открылся какой-то недоступный прежде смысл: значит, мне в жизни так и предназначено было, предопределено, в один прекрасный день вернуться сюда, на это место, — сам ведь говоришь, жизнь по кругу.
Дома я принял ванну и переоделся. Выпил снотворное.
несколько таблеток для верности. Лег. Но уснуть не мог. Меня то и дело бросало в дрожь. Почему, сам не знаю.
Еще никогда я не заглядывал так близко в глаза смерти.
И еще долго я лежал так, стараясь привести в порядок собственные мысли. Но тщетно. Я точно вконец разучился размышлять связно. До сознания доходила только эта нестерпимая, затуманивающая разум горечь. Ладно, кого другого, но почему меня? Неужели не понимали? Неужели все, что я вытерпел ради них, — тщета и суета? Неужели так ничего ровным счетом и не значит? Где же тогда логика, понятие, здравый смысл?
Но теперь я чувствую себя спокойней. Переносить вот так все на бумагу, чтобы, узрев, попытаться взвесить, а взвесив, найти в этом какой-то смысл, — это дисциплинирует, что ли.
Профессор Брувер: «Есть лишь два вида безумия, Бен, которых должно остерегаться, — вера в то, будто мы все можем, и еще — будто мы ничего не можем».
Я хотел помочь искренне, от всей души. Но я ставил свои условия. И еще: я белый, они черные. А я грезил, будто это пустое даже здесь, в Южной Африке, это можно преодолеть безотносительно ко всякой там нашей белизне, черноте. Я думал, что потянуться и подать руку над пропастью — одного этого само по себе достаточно. Увы, как будто достаточно одних добрых намерений, чтобы все было решено. В обычном мире, в мире естественных вещей, я бы мог добиться желаемого. Но не в этом безумном, раздираемом противоречиями. Я могу делать все доступное мне для Гордона или десятка других, взывающих ко мне, могу вообразить себе, каково быть в их шкуре, могу представить их страдания. Но только вообразить. Жить их жизнью мне не дано, так же как и им понять меня. Так чего еще, кроме неудачи, можно было ожидать?
Нравится мне это или нет, готов ли я где-то там в душе проклинать собственное существование или нет — это только подтверждение не моей силы, но слабости — я здесь белый. Вот она, та конечная и мучительная правда моего разломленного мира. Я белый. И потому, что белый, я поставлен в привилегированное положение. И даже выступая против системы, приведшей нас к такому порядку вещей, остаюсь белым и пользуюсь преимуществами тех самых обстоятельств, к которым питаю отвращение. И даже ненавидимому, подвергаемому остракизму, преследуемому, да чего там, даже уничтоженному в конечном счете, мне не стать другим, ибо я — белый. Равно как и тем, кто платит мне в ответ за все недоверием и подозрительностью. В их глазах самые мои попытки ставить между нами знак равенства, между мной и Гордоном, равно как со всеми гордонами, — невозможны. Всякий жест с моей стороны, любой мой поступок в стремлении помочь им, лишь ставит их в затруднительное положение, вносит смятение в их умы, и им труднее становится понять, что же им действительно нужно, утвердить себя в собственной неподкупности и упрочиться в чувстве собственного достоинства или понять таких, как я, одиночек. Так что же, грабитель и жертва? Оказывающий помощь и в ней нуждающийся? Белый и черный — так всегда? И нет от этого спасения? И нет надежды?
А с другой стороны, что я могу сделать сверх того, что сделал? Я не могу оставаться безучастным, это было бы отречением и надругательством не только над всем, во что я верю, но и над самой надеждой, что между людьми может и должно существовать сострадание и сочувствие. И не поступи я, как поступил, я отказался бы от самой возможности навести мост через эту пропасть.
Мои потуги заведомо тщетны. Но если я не действую, это другой вид поражения, столь же решающего, но, может быть, и худшего. Потому что тогда, не обретя ничего, я теряю даже совесть.
Конец неотвратим: неудача, поражение, потери. Единственное, что мне осталось, — это решить, готов ли я сохранить в себе остатки чести, приличия, человечности или — лишиться всего. Итак, я в положении, когда пожертвовать чем-то неизбежно, как ни смотри. Но по крайней мере остается выбор между жертвой напрасной и той, что пусть когда-то, но откроет возможность, пусть самую малую и пока гипотетическую, на лучшее будущее — менее омерзительное и более благородное — для наших детей. Моих собственных и тех, кто наследует Гордону и Стенли и всем людям.
Им жить. Мы, отцы, — потерянное поколение.
Как мне хватало смелости произносить: он мой друг, или даже осторожней: думаю, я знаю его? По самому строгому счету мы ведь были не больше чем незнакомцы, встретившиеся среди выжженного добела зимнего вельда, чтобы перекурить и разойтись каждый своей дорогой. Не больше.
Одни. Одни до гробовой доски. Я. Стенли. Мелани. Каждый из нас в одиночку. И те, пусть даже мимолетные, встречи, ну просто видеть и прикоснуться друг к другу, не самое ли это благоговейное и чудесное, о чем можно мечтать в этом мире?
Как непривычна эта ни с чем не сравнимая тишина. Даже этот зимний пейзаж, лишенный примет живой земли — лишь стервятники кружат над ней в небе, — по-своему прекрасен. Сколько не познано еще нами и сколько еще нам предстоит разгадать в бесконечной этой благодати.
Вначале есть хаос хаоса. Затем он уступает, и настает молчание, но это молчание смущения умов и понятий, замешательства и непонимания; не подлинная тишина, но неспособность слышать, тишина без покоя. И лишь когда отваживаешься на страдания, в которых ставка — жизнь, — лишь это, как я понимаю, может помочь смириться с их неизбежностью ради обретения подлинно человеческого покоя. Я еще не достиг этого. Но близок, теперь близок. И надежда дает мне силы.
5
Конечно, не будь он вконец измотан в полном смысле этого слова, когда человек существует на пределе данных ему природой возможностей, живет по инерции, через силу, Бен сразу бы заподозрил что-то неладное. И, вовремя сообразив, может, и предпринял бы какие-то меры предосторожности. Но что теперь строить догадки. В конце концов, она была ему дочь, его ребенок, и кому бы пришло в голову ждать от него, чтобы он не то что докапывался, но просто заподозрил бы скрытые мотивы в той обезоруживающей симпатии, которой она так щедро его одарила.
В воскресенье они с Йоханном поехали в Преторию — Сюзетта пригласила их на семейный обед. Не то чтобы ему очень уж хотелось ехать, но она, позвонив, приглашала так настоятельно, что он просто не мог отказать. И что, пожалуй, главное — его властно влекло к людям, все равно, лишь бы с кем побыть, словом перемолвиться.
Стекла в машине еще не заменили, и он побаивался, как бы не нарваться на дорожную полицию. По счастью, все обошлось.
— Господи боже, что такое с автомобилем? — первое, что спросила Сюзетта, широко раскрыв глаза. — Такое впечатление, что ты на войне побывал.
— Что-то в этом роде. — Он через силу улыбнулся. — К счастью, вернулся невредим.
— Что случилось?
— Разбойники с большой дороги. Нарвался пару дней назад. — Он не был расположен вдаваться в подробности.
После великолепного обеда, приготовленного домашним поваром — на этот счет Сюзетта не скупилась, — Бен расслабился, обмяк. Еда, вина, вся обстановка со вкусом оформленного интерьера столовой, прямо со страниц ее блестящего глянцем журнала, приятное предвкушение, что он еще поиграет с внуком, пока няня не уведет малыша спать, — все это настроило его на забытое уже чувство душевного покоя, комфорта даже. Сюзетта провела его к бассейну и предложила удобный шезлонг, здесь под теплыми лучами осеннего солнца им накрыли столик для кофе. Крис тем временем пригласил Йоханна к себе в кабинет, что-то такое показать. Только потом Бену пришло в голову, что ведь все это было подстроено.
Она снова вернулась к разговору об автомобиле.
— Па, ты вправду должен быть осторожней. Прошу тебя. Подумать только, чем это могло кончиться! Господи боже, это в наше-то время.
— Одним-двумя камнями больше, мало их в меня бросали, — сказал он шутя, не желая рассуждать на эту тему.
— Но почему ты не поставил ее на ремонт? Нельзя же ездить в таком виде.
— На неделе собирался. Да как-то все времени не было.
— Чем это ты так занят?
— Мелочи жизни.
Наверное, она почувствовала, что он отгораживается и вот-вот опять уйдет в себя, потому что тут же изменила тон и уже потеплевшим голосом спросила, не денежные ли у него затруднения.
— Обещай, что ты немедленно скажешь, чем Крис или я можем тебе помочь, — сказала она.
— Непременно. — Он смотрел на нее улыбаясь. — Знаешь, я все никак поверить не могу, всю жизнь прожить как кошка с собакой — это я о нас с тобой, — а тут вдруг такая дружба…
— Иногда хорошая встряска открывает человеку глаза. Господи, столько хотелось бы наверстать, столько упущено, па.
Она сидела спиной к солнцу. И оно обрисовывало ее, молодую изящную блондинку. Прическа — волосок к волоску, ни морщинки на непомерно дорогом в нарочитой своей простоте платье, конечно же из Парижа или Нью-Йорка. Строго очерченные скулы, упрямый подбородок. Точная копия Сюзан в молодости.
— Папа, тебя не гнетет одиночество? Один в доме… Тем более Йоханн весь день в школе.
— Никак нет. — Он положил ногу на ногу, отвел глаза. — Привыкаю. Есть время подумать. Привести в порядок мысли, бумаги.
— Бумаги? Это все об этом Гордоне?
— Да, и о нем тоже.
— Ты меня поражаешь. — Нет, она сказала это не ворчливо, голос скорее даже был исполнен восхищения. — Как ты держишься, несмотря ни на что.
Он ответил смущенно:
— Любой сделал бы то же на моем месте.
— Большинство других давно бы отступилось. — И после рассчитанной паузы: — Ну, и это действительно стоит того, па?
— По мне, да, стоит.
— Но я забочусь только о тебе, папа. Эта бомба тогда… Что, если б Йоханна не было и он не потушил бы пожар? Ведь сгорел бы весь дом.
— Ну почему же. Кабинет у меня на отшибе, ты же знаешь.
— Но все твои бумаги пропали бы? Ведь так? Все, что ты с таким трудом собирал.
Он усмехнулся, поставил чашечку на низенький столик у шезлонга. Он чувствовал себя таким умиротворенным. И еще эта обстановка и майское солнце так располагали к лени.
— Не беспокойся, — сказал он, — до этого у них никогда руки не дотянутся.
— Боже, где же ты хранишь все эти сокровища? — бросила она небрежно.
— А я, видишь ли, двойное дно придумал в ящике для инструментов. Уже давно. Никому и в голову не придет туда заглядывать.
— Еще чашечку кофе?
— Нет, спасибо.
Она налила себе с неожиданной вдруг деловитостью в каждом движении. Он, любуясь ею, смотрел и глаз не мог оторвать, наслаждаясь ее предупредительностью, смотрел расслабившись, тая от оказываемого ему дочерью внимания и от ласковых лучей осеннего солнца, разомлев от прелестного красного вина.
И только по дороге домой, уже вечером, он вдруг с ужасом подумал, а вдруг у Сюзетты было что-то на уме, зачем еще иначе она так тщательно пытала его, с такой наигранной небрежностью?
Он с отвращением отбросил эту мысль. Как можно подумать такое о собственном ребенке?! Какой смысл в мире, где у человека нет больше права верить собственной семье? Сплошная бессмыслица.
Он еще подумал, что, может, следует все-таки посоветоваться на этот счет с Йоханном. Но ветер с такой силой выл, врываясь в разбитые окна автомобиля, что нечего было и думать о разговорах. И, не отдавая себе отчета, он все прибавлял и прибавлял скорости.
— Слушай, ведь нарвемся на полицию! — прокричал Йоханн.
— А что, я нормально еду, как всегда, — проворчал он, но ослабил ногу на педали газа. Покоя больше не было, он сидел как на угольях. Тревога не отпускала.
Презирая себя за собственную подозрительность, за самую мысль, что такое могло прийти в голову, он все равно знал, что не успокоится, пока не убедится, что его страхи напрасны. И когда вечером Йоханн отправился в церковь, он отвинтил вентиляционный люк в обшивке ванной и перенес все свои бумаги в новый тайник, тщательно приладив решетку люка на место.
Буквально на следующую ночь к ним забрались в гараж, причем сделано было все настолько профессионально, с такой осторожностью и обстоятельностью, что ни Бен, ни Йоханн ни малейшего шороха не слышали, И только утром Бен обнаружил это, когда пошел вывести машину. Стенной шкаф, где хранился инструмент, был тщательно обыскан, полка за полкой. Содержимое как попало разбросано по полу гаража. И из ящика для инструмента тоже, ящика с двойным дном.
ЭПИЛОГ
В послесловии же, завершая историю Бена Дютуа, пытаясь заново осмыслить ее, скажу, прежде чем вернуться к тому, с чего я начал: нет, это не было движение по кругу, лишенное смысла, но по спирали с рядом все уменьшающихся витков. Ведь я, едва ли всерьез задумываясь, коснулся чужой жизни, чтобы уклониться либо и вовсе закрыть глаза на проблемы собственной. А очень скоро открыл для себя, что полумеры здесь исключены. Альтернатива: не касайся вообще или отдай все помыслы. Либо — либо, третьего не дано. И тем не менее, подойдя вплотную к концу, могу ли я сказать, что проник в чужую тайну, столь мучительную для меня? Бен Дютуа: друг, оставшийся загадкой. Парадокс? Но ведь так, даже решись я идти до конца, я знаю, Бен не допустил бы. Я не могу его постичь, но он занимает все мысли, и освободиться от этого я тоже не могу. Мог и не сделал. Нет оправдания вине, цена которой — страдание.
Я остался с сознанием безысходности. В попытках оценить его по достоинству я рисковал добиться прямо противоположного. Мы несоизмеримые величины: один пережил, другой перенес на бумагу; один смотрел вперед, другой оглядывался в прошлое; он был, я живу.
Ничего удивительного, что он остается за пределами доступного моему пониманию. Я словно иду в темноте с лампой, она выхватывает неясные очертания предметов, которые появляются в ее свете и исчезают, но они не картина в целом, а лишь детали.
Бен оставил в гараже все, как было, помчался в город и позвонил мне из автомата на вокзале. Через час мы встретились у входа в книжный магазин Баккера. Исхудавший, загнанный человек, ничего общего с тем Беном Дютуа, каким он запечатлелся в моей памяти.
Остальное же, что пишу, по большей части догадки или попытки рассуждения от общего к частному, сделанные мной под влиянием того, что я нашел затем в его бумагах.
Он послал их, бумаги и записные книжки, почтой из Претории. Представляю также, что на этот раз он мог себе позволить, в виде исключения, позвонив Сюзетте, даже поиронизировать на этот счет.
«Дорогая, хочу попросить тебя об одолжении. Помнишь, мы говорили о бумагах, ну всем этом архиве, что касается Гордона Нгубене? Помнишь? Ну так вот, мне почему-то кажется после нашего разговора, что держать их у себя дальше и вправду небезопасно. Что, если я завезу их тебе, так ведь надежней будет, а?»
Легко представить, как она горячо пыталась успокоить его на этот счет, как с готовностью согласилась: «Ну конечно же, папа».
«Ну конечно, папа. Но зачем тебе беспокоиться. Я заеду и все заберу», — отвечала она.
«Нет, нет. Я сам привезу».
Так он, безусловно, сводил риск до минимума — на тот случай, если б у него опять кто-то повис на хвосте. Ведь зная, что все перевозится на хранение Сюзетте, они уж позаботились бы, чтобы бумаги благополучно достигли Претории. И вот час с небольшим спустя он, внешне спокойный, бледный, но довольный, сдал бандероль в почтовом отделении Претории и затем помчал в Ватерклоф, к Сюзетте.
Она, должно быть, встречала его у калитки. Глаза тут же жадно обшарили сиденья автомобиля. И надо было видеть, как у нее вытянулось лицо, когда он объяснил, как бы между прочим, что, знаешь, мол, я подумал-подумал и решил, что нечего мне обременять людей, тем более родную дочь, хватит тех неприятностей, что я вам доставляю, и уж тебя я никак не хочу компрометировать. Вот я и решил: сожгу-ка я их. Жаль, да что поделаешь.
Она не могла себе позволить дать волю чувствам. Она была потрясена, она была в ярости. Но и это осталось надежно скрытым под маской искусно наложенной на лицо косметики.
Через несколько дней мне доставили увесистую бандероль. А затем Бена Дютуа убили.
Вот, подумал я тогда, и конец всему.
Но ровно через неделю после его похорон я получил его последнее письмо. Датировано 23 мая, в тот день он погиб.
«Право же, я не стал бы опять докучать тебе своими заботами, но что делать. Надеюсь, последний раз. Только что мне снова звонили. Назваться не пожелали. Мужской голос. Говорит, чтобы сегодня ночью я ждал гостей. Я уже столько наслушался этих звонков, что остается только плечами пожимать, так я, собственно, и сделал. Пожал плечами. Но у меня такое чувство, что на этот раз все серьезней. Извини, если я понапрасну беспокою тебя. Но может статься, что это и вправду серьезно, и я хочу предупредить тебя. Йоханн в отъезде. Да и в любом случае незачем забивать мальчику голову.
Звонивший говорил по-английски, но с акцентом, похоже африканер. Что-то знакомое в интонациях, хотя он явно пытался говорить приглушенным голосом, это можно сделать, если закрыть мембрану носовым платком. Он. Я почти уверен.
На этой неделе ко мне наведывались еще дважды, тот же почерк. Прекрасно понимаю, что они ищут. Решили видно: хватит, дольше ждать нечего.
Если мои подозрения оправдаются, ты должен об этом знать.
Но даже сейчас я на удивление спокоен. Я всегда считал: лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Не сегодня, так завтра. В покое они не оставят. А я просто не могу больше, я так не выдержу. И единственное, что доставляет удовлетворение, — это сознание: уж этой надежды меня не лишить, что ничего со мной не кончается. Я могу честно повторить вслед за Мелани: «Я ни на миг не раскаиваюсь ни в чем».
В тот вечер около одиннадцати его сбил автомобиль. Согласно газетной версии, инцидент произошел, когда он шел опустить письмо. Но как, откуда это могло стать известно репортеру? Разве что оно было обнаружено при нем, после того как это случилось? Но если так, тогда кто опустил его в почтовый ящик? И зачем?
Не этим ли объясняется, что оно пришло адресату лишь через неделю? Конечно, можно отнести все это просто на счет йоханнесбургской почты, она никогда не пользовалась доброй славой. С другой стороны, возможно ведь и иное. Обнаружив письмо в кармане погибшего, они решили: пусть идет по назначению. В этом случае у них был единственный мотив: взять меня под наблюдение, не упустить след.
Но не настолько же они глупы, в самом деле, чтобы не понимать, что я сразу заподозрю неладное, на штемпель наконец посмотрю. А если так, то сделано это намеренно, чтобы припугнуть, откровенно дать понять: мы знаем, что ты знаешь, так молчи.
Отчего же тогда я пишу все это? Ведь я захожу дальше мне дозволенного. Из сентиментальной верности университетскому товарищу, которым годами пренебрегал и едва узнал при встрече? Или выполняя свой долг перед Сюзан? Промолчу. Нет ничего сложнее, чем доискиваться причин.
И что ж, мне тоже, как и Бену Дютуа, вдруг среди жизни все начинать заново? И если так, как далеко идти? Кто-нибудь преуспел, пытаясь разорвать порочный круг? Или все это не суть важно и я преувеличиваю? И продолжать, раз уж начал, просто и честно — может, это само собой разумеется и нечего задавать вопросы? Продолжать, коли тебя побуждает пусть даже неосознанная, но щемящая боль и чувство ответственности за все, во что верил Бен Дютуа. А верил он в то, что человек способен быть честным, пусть не так уж часто себе это позволяет.
Мотивы моего поступка. Я так и не разобрался в них. Ведь мне сказали «молчи». Все, на что остается уповать, на что я действительно имею право, так это написать его историю и дать прочесть людям. Зачем?
Чтобы никто никогда не мог снова сказать: «Мы об этом ничего не знали».
1976. 1978–1979
АНДРЕ БРИНК
СЛУХИ О ДОЖДЕ
СУХОЙ БЕЛЫЙ СЕЗОН
РОМАНЫ
Перевод с африкаанс и английского
Москва
«Прогресс»
1981
© André Brink, 1978, 1979
© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1981
Б 70304-059 130-81
006(01)-81
4703000000
Предисловие А. Давидсона
Редакторы И. Клычкова и А. Файнгар
Бринк, А. Слухи о дожде. Сухой белый сезон: Романы. Пер. с африкаанс и англ. — М.: Прогресс, 1981. — 000 с.[33]
Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.
Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.
Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.
Редакторы И. Клычкова, А. Файнгар
Художник Ю. Лютер
Художественный редактор К. Баласанова
Технический редактор Е. Кирьянова
Корректор Н. Ужтупене
ИБ № 9510
Сдано в набор 20.03.81. Подписано в печать 27.08.81 г. Формат 84×1081/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсет. Условн. печ. л. 39,50. Уч. — изд. л. 41,68 Тираж 50 000 экз. Заказ № 199. Цена 4 р. 60 к. Изд. № 29970.
Ордена Трудового Красного знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва 119021, Зубовский бульвар, 17
Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
Примечания
1
Крепкий алкогольный напиток, изготовляемый банту. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Приветственный возглас (языки сото, зулу).
(обратно)3
Густая каша.
(обратно)4
Чрезвычайное обстоятельство (лат.).
(обратно)5
Жрец.
(обратно)6
Национальный союз студентов Южной Африки.
(обратно)7
Kyrie, Credo, Agnus Dei, Sanctus, Gloria — части протестантской литургии.
(обратно)8
Персики в вине (франц.).
(обратно)9
Обращение к чернокожему слуге.
(обратно)10
Дезинфицирующее средство.
(обратно)11
Накидка из звериных шкур.
(обратно)12
Да здравствует МПЛА! Да здравствует ФНЛА! Долой неоколониализм! Да здравствует Роберто! (порт.)
(обратно)13
Во мрак ты уходишь, Во тьму ты уходишь, Уходишь домой, Уходишь домой, Уходишь.
(обратно)14
Перевод В. Топорова
(обратно)15
Мальчик, подросток (язык коса).
(обратно)16
Так называют африканцев и цветную молодежь, совершающую мелкие правонарушения.
(обратно)17
Длинноствольное ружье, мушкет. (африкаанс). Здесь: отпетая голова.
(обратно)18
Уважительное обращение к старшим по положению (язык зулу). Соответствует английскому «сэр», а также «хозяин».
(обратно)19
Лига Черных шарфов — Женская лига в защиту конституции. Основана в 1955 г. как оппозиционная политике националистического правительства. Выступает против поправок к конституции, ущемляющих права цветного населения. Представительницы лиги носят черные шарфы в знак скорби, устанавливают «молчаливые пикеты» в местах, где ожидается появление членов кабинета министров и парламента.
(обратно)20
Без назначения новой даты, на неопределенный срок {лат.).
(обратно)21
Трупное окоченение (лат.).
(обратно)22
Грубое обращение к небелой женщине (африкаанс, сленг).
(обратно)23
Прежде всего (лат.).
(обратно)24
Управляющий аннексированной территорией (африкаанс).
(обратно)25
Хозяин; госпожа (африкаанс).
(обратно)26
Морда, рыло (искаж. англ.).
(обратно)27
И Слово стало плотию (От Иоанна 1:14) (лат.).
(обратно)28
Ищите женщину (франц.).
(обратно)29
Добродушие (франц.).
(обратно)30
Мерло-Понти, Морис (1908–1961) — французский философ-идеалист, представитель феноменологии.
(обратно)31
Смысл существования, оправдание существования (франц.).
(обратно)32
Так в печатном издании: первые три Части, четвёртая Глава. (Прим. Verdi1)
(обратно)33
Так в печатном издании — 000 с. На самом деле 743 страницы. (Прим. Verdi1)
(обратно)







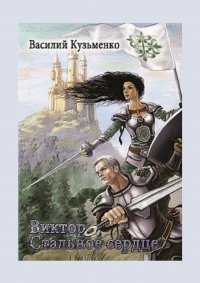

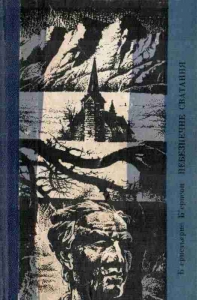


Комментарии к книге «Слухи о дожде. Сухой белый сезон», Андре Бринк
Всего 0 комментариев