Первые проталины (Повесть)
Глава первая. Школа
егодня выставили зимние рамы. Оклеенные по осени газетой, они с веселым треском покидали насиженные места. Щедрое майское солнце выгоняло из настывшей древесины излишнюю влагу, и по утрам на голубом солнцепеке бревенчатое здание жилинской начальной едва заметно парило.
Нутро дома освобождалось от застойных запахов. Из леса, обступившего школу, в помещение проникало живое дыхание молодых трав и яркой, клейкой, еще не застиранной дождями листвы.
В один из дней той, голодной и зябкой, третьей по счету послевоенной весны приехал в Жилино, деревеньку из тридцати домов, городской подросток. Молчаливый, рано повзрослевший. Белокурая голова на тонкой шее светится зелеными притаившимися глазами, будто фонарик. Рука в запястье узкая, нездешняя. Во всем его настороженном облике, если приглядеться, угадывались настроения и события недетские.
Случилось удивительное: после долгих, казалось, нескончаемых лет разлуки нашли, обрели себя друг для друга — отец и сын. Оба, и мальчик, и его родитель, сошлись под крышей сельской школы почти незнакомые, если не вовсе чужие… За спиной сына — годы оккупации, бродяжничества, детской воспитательной колонии. Позади отца еще больше: война, раны, плен, таежные странствия.
И вот они вместе выставляют зимние рамы, протирают мокрыми тряпками пыль на подоконниках. Раскрывают окна в палисад. И смотрят наружу. Каждый в свое окно. А за окном — весна. Общая. Одна для всех. У сына — шестнадцатая, у отца — сорок пятая.
Самое торжественное время у них было — вечернее, то есть время ужина. К ужину отец любил обстоятельно подготовиться, не с маху-налёту наваливаться на стол, а ритуально-серьезно приступать.
Но прежде ужина, примерно за час до него, что бы на земле ни случилось (землетрясение, наводнение или приход деда Бутылкина из деревни), прежде ужина отец будет слушать Павлушу, который обязан ответить заданный урок. Так заведено. Не ответишь — пусть хоть самовар выкипит, распаяется, взорвется — за стол не сядут.
К этому времени, как правило, завершается приготовление отцом винегрета. Красное ароматное месиво вращается, подгоняемое деревянной ложкой, в большом глиняном горшке-ведре, по-местному — нечве. «Детали» для винегрета в подполе. За блестящее кованое кольцо поднимаешь тяжелую, забухшую крышку люка и лезешь в прохладную дыру за свеклой, соленым огурцом, морковью и картошкой.
Отец, прежде опускавшийся в подвал с керосиновой лампой, теперь приучает себя обходиться без нее, чтобы не видеть скудного остатка запасов. Да и бидон с керосином заметно полегчал.
— Павлуша, ты готов?
Павлуша готов. На своих ладонях Павлуша тайно чернилами обозначит подсказку: алгебраические уравнения, исторические даты, падежи склонений слов, имена-отчества писателей, деятелей… И таким странным способом станет зарабатывать ужин.
Павлуша сидит на лавке за большим обеденным столом, накрытым для ужина. На голых досках стола три алюминиевые миски, три вилки, три граненых стакана под чай. Посередине стола — полотенце, на котором три кусочка настоящего ржаного хлеба. И соль в солонке. В сахарнице — конфеты-«подушечки».
Кухня в школе просторная. Павлуша сидит в правом от входа углу. Слева от входа — русская печь. За ее кирпичной теплой спиной расположены две маленькие комнаты.
Печь — необъятная. В ее теле много всевозможных печурок, ниш, закутков. Здание печи состоит из трех «этажей». Первый этаж — это пространство, где живет серый, цвета золы, кот Негодник. Он живет потаенно, отшельником, напоминая скорее крысу, нежели кота. Однажды он украл драгоценный кружок колбасы и, как пыльного зверя ни выгребали из-под печки кочергой, ни в какую из укрытия целых два дня не вылезал. Там же, в печном полуподвале, ютились ухваты, сковородки, помело и, упомянутая выше, кочерга. Деревянные хвосты этих «приборов» торчали из-под первого этажа рогатым пучком.
Второй этаж — самый главный: здесь топка. Здесь огонь, жар, зной. Здесь зреют постные щи, преют перловые каши, заправляемые льняным или конопляным маслом. Иногда на огненном кирпиче второго этажа млеет молочко в кринке или пышут по праздникам овсяные, а то и ржаные лепешки.
На третьем этаже — лежанка. Самое ласковое, райское место, угодное телу с сентября по май — на все восемь-девять месяцев среднерусского прозябания под дождливые перестуки и морозный похруст.
— Павлуша, ты готов?
Павлуша готов. Он готов не только к ответу на заданный урок, но и к ужину, то есть к винегрету. Молодой, весенний его организм не прочь был схватиться в единоборстве и не с таким противником. Прегради ему путь свиной окорок — парнишка бы не дрогнул, не отступил, а так бы и вонзился в свиную ляжку молодыми зубами!
Павлуша был готов. И даже больше: в ожидании очередного экзамена что-то мастерил прямо на кухонном столе, сидя в главном, красном углу, где в мертвых объятиях сходились красивые, загорелые, мускулистые бревна двух стен.
Павлуше было скучно в деревне. И потому сидел он неприветливый, настороженный, словно поджидал кого-то, кто выведет его из теперешнего затишья в «кипящие» жизненные просторы. Еще недавно он был там, где война, и видел столько интересного. Павлуша скучал в деревне и развлекал себя, как мог. Сейчас он мастерил мину. Самодельный заряд. В обыкновенную баночку из-под мясных консервов вогнал двухсотграммовку тола, привезенную с окололенинградских фронтовых полей. Мастерил, чтобы спустя некоторое время взорвать ни много ни мало — кирпичный завод. Точнее — бывший кирпичный завод бывшего заводчика Якова Ивановича Бутылкина, жилинского крестьянина, ворчливого старикашки. Не беда, что завод представлял собой полусгнивший сарай с обвалившейся печью, что за годы колхозной жизни «территория завода» обросла деревьями и травой, — не беда, не важно. Лишь бы устройство сработало.
— Павлуша, ты…
Отец видел плохо. Зрение его было подпорчено на последней войне маленьким гранатным осколочком, зацепившим некий микроскопический нерв. Отец носил очки с синими стеклами, и очки эти пугали деревенских бабушек и детей. Но дети очень скоро привыкли к очкам учителя, тогда как бабушки продолжали пугаться. Отец плохо видел и, естественно, не все предметы смог обнаружить в заплечном мешке сына, с которым тот появился в Жилине.
— Павлуша, принеси луковицу.
Павлуша идет в кладовку. Отец красными от свеклы пальцами нашаривает на столе Павлушину мину. Консервная банка с брикетиком тола, похожим на полкуска хозяйственного мыла, опутана мягкой алюминиевой проволокой. За косоплетку из той же проволоки весь заряд можно было уверенно держать в руке, как гранату. Сбоку банки, там, где в брикете имеется отверстие для детонатора, в металле пробита дырочка.
Отец низко-низко наклоняется над изобретением, прячет руки далеко за спину и так стоит, словно принюхиваясь.
Возвращается Павлуша. На его ладони большая золотистая луковица, проросшая двумя зелеными рожками. Павлушины губы по-прежнему не улыбаются. Во взгляде — отвага, дерзость, превосходство.
— Павлуша… — шепчет отец. — Зачем тебе это?.. Неужели не надоело?
— Ну и что дальше? — Павлуша выжидает, готовый к отпору. — Винегрета лишишь?
— Отчего же… — Отец разрезает луковицу пополам. Одну половину кладет на полку, другую чистит, затем крошит в винегрет. — Расскажи, пожалуйста, урок.
Павел ставит перед собой испещренную знаками ладонь на ребро (большой палец нагло оттопыривается вверх), не таясь, начинает считывать с ладони латинские буквы, составляющие алгебраическое уравнение. Минут через пятнадцать Павлуша не выдерживает:
— Убрать… мину?
— Не отвлекайся, сынок. Что там у нас по литературе?
— «Анчар». Стихотворение А. С. Пушкина.
— Слушаю тебя, Павел.
— «В пустыне мрачной и глухой…» Послушай, отец. Она взрывается только с детонатором и только если поджечь шнур. А так вполне надежно. Давай я ее на двор вынесу?
— Читай. И не перевирай, пожалуйста, Пушкина.
— «В пустыне чахлой и немой… На почве, зноем опаленной…» Хочешь, я ее в землю закопаю? На время?..
Отец снимает очки. Темные их стекла, как маска, прятали до этого лицо. И вот лицо предстало незащищенным. Свет керосиновой лампы с трудом выхватывал из наступивших сумерек невеселые глаза, бледную уставшую кожу вокруг глаз, неуловимо дрожащие губы — детские на взрослом лице губы, налитые обидой и растерянностью.
— Пушкина, сынок… Пушкина. Как молитву! Меня Пушкин не раз выручал. И тебя выручит. Никакая мина не страшна, Павлуша, если с Пушкиным… в сердце.
Затем долго ели винегрет. Сочный, сладкий, ароматный, он, казалось, никогда не опротивеет и… не насытит. Да и не было ему замены: хлеба — по стограммовому кусочку, сахарку колотого — по зубчику. Чай разводили по большой кружке — с сахарином. А зубчик сахара — на десерт.
За окном в сучьях березы, льющей к земле бледно-зеленые плети веточек, там, где в ее вершине прятались сразу два скворечника, не могли угомониться крикливые семейные скворцы. А когда угомонились, на смену им за березой, ближе к ручью, отделявшему школьную поляну от леса, где-то в ракитнике робко воскликнул соловей.
Отец, услыхав соловья, улыбнулся, перестал жевать, лицо его приняло удивленное выражение: «Рановато нынче певец объявился». А Павлуша не знал, что ему теперь делать: бунтовать или тихонько обнять отца и терпеливо досидеть вечер под аккомпанемент отцовской гитары, забыв себя колючего, злого, безрадостного? Вот он потянулся к раме окна, с шумом, демонстративно захлопнул створки.
— Мне холодно!
Отец свое окно закрывать не торопился. Он еще несколько мгновений слушал: а не возникнет ли вновь пение дивной птицы? Дышал вечерней свежестью, различая в ней запахи леса, недальней пашни, возвращающегося в деревню грязного, со слежавшейся за зиму шерстью стада.
— А хорошо здесь… Тихо. Славно.
Павлуша роняет голову на руки, уставившись злыми глазами на мину.
— Тоска зеленая…
Свистевший, вздыхавший и даже что-то напевавший до этого самовар неожиданно притих. Это было сигналом к тому, что вода в нем закипает и медный «полковник» (так прозвали они самовар за многочисленные медали на позеленевшей груди) вот-вот начнет плеваться кипятком.
Заприметив, что отец ушел в себя, задумался, Павлуша осторожно снимает с самовара трубу, отливает в заварник кипятку, чтобы из «полковника» не лилось через край, затем, отщипнув в масленке крошечку лярда, незаметным образом опускает сало в самоварное нутро, на раскаленные угли. И тут же глушит самовар медной заглушкой, на которой вместо ручки — захватанная руками катушка из-под ниток.
И сразу веселеет в ожидании событий. Пусть незначительных, зато не занудных, после которых и похихикать не грех. Сейчас отец насторожится, затем робко потянет носом воздух. Далее — нос его заработает часто-часто и шумно: ноздри начнут раздуваться и опадать, как бока у загнанной лошади… Сняв очки, отец будет дико озираться. Посмотрит на потолок, после — на пол. Ощупает взглядом печь, стены, углы. И вдруг вспомнит о самоваре!
— Фу ты, черт! — подпрыгнет неловко, ринется, задевая ногой за лавку и чуть не роняя очки из рук.
Павлуша доволен. Хоть что-то началось… Какой-то пузырек в их тихом болоте лопнул! Отец срывает заглушку с самовара, пытается нюхнуть, однако тут же отшатывается: самовар пышет нестерпимым жаром. Отец надевает свои непроницаемые очки, долго смотрит сперва в нутро «полковника», далее — в глаза Павлуше…
Отец вспоминает, как третьего дня, когда он протапливал помещение класса, в печке что-то взорвалось. Он не стал тогда выговаривать сыну. Мальчик одинок уже несколько лет. Жил все эти годы своей маленькой страшной жизнью. И почему — маленькой? Просто — страшной. Без семьи, без родительских рук. Один среди взбаламученных войной взрослых. Пусть хоть теперь оттает, привыкнет к мысли, что у него есть близкий человек, а не просто отец «документальный».
— Павлуша, я тебя очень прошу: в самовар ничего не бросай. В смысле взрывчатых веществ. Без самовара мы погибнем. В смысле — без чая.
Павлуша прячет, трет рукой якобы засорившиеся глаза.
— Еще чего… Не маленький: самовар взрывать.
— А ты запасливый, сынок. Бережливый. Черта симпатичная, даже хорошая. Но — скучная. Граничит с жадностью. Хотя опять же — смотря что запасать. Белка — орешки, Скупой рыцарь — денежки, а ты вон сколько штучек разных с войны прикопил, не израсходовал по дороге…
— Каких еще штучек?! — Павлуша принуждает себя мрачнеть, суровее поджимает губы, удерживая улыбку.
— А этих… взрывчатых штучек. Которые глаза мне испортили. Война когда уж закончилась, а у тебя еще сколько разного… Экономный ты мальчик. На других детей игрушек не напасешься, а у тебя их… никто не знает, сколько их у тебя. В любой момент новая штучка объявиться может.
— При чем тут «штучки», «игрушки» — при чем? Это боезапас! Да я этими «штучками» всех тут разнести могу! Меня все бояться будут, если захочу…
— Нашел чего хотеть… Люди и так вон покалеченные да напуганные. Не в зажиревшей стране живем. С начала века в борьбе и тревоге пребываем. Нашел кого пугать…
— А я и не пугаю. Неинтересно мне здесь. Понял? А этого барахла у нас под Ленинградом, в Поповке, — на десять лет хватит, под ногами валяется… Саперы подсчитали. Любое место ковырни: или патрон, или запал, а то и мина с секретом. Карандашик поднимешь с земли, а он тебе — бац! — и пальцев как не бывало! А костей, скелетов разных… Ни на одном кладбище столько нету.
— Так это ты из Поповки сюда доставил? — Отец щелкнул ногтем по консервной банке. — За тысячу километров… Отчаянный ты у меня.
Павлуша, довольный, смущенно, самую малость, улыбается. Но вдруг, наткнувшись взглядом на синие очки, вспоминает про покалеченное зрение отца. Улыбка его вянет.
— Ах, малыш, малыш… — трогает отец Павлушу за кудрявый светлый завиток на голове. — Хватил же ты у меня горюшка! Наигрался со смертушкой. В натуральную войну дите окунулось… Да еще в какую! И — ничего… Живой. Везучие мы с тобой, как думаешь?
— Везучие, конечно! Ты знаешь, меня немцы раз чуть не расстреляли! Я им в печку целый ящик патронов засадил, цинку запечатанную и гранату. В госпитале. Расскажу как-нибудь потом. Под госпиталем в подвале ихние возчики жили, которые на лошадях работали. Вот я у них в печке и спрятал ящик патронов с гранатой. Прихожу через день. Смотрю: печка топится… На улице похолодало, дождь пошел. Вот старуха и затопила…
— Ах, малыш, малыш… И много еще у тебя этих штучек?
— Да нет же! Что я, совсем, что ли… по уши деревянный?
— Это как же понимать?
— Что я — придурок, что ли, чокнутый? Поговорка такая. В поезде слышал.
— Наездился ты в поездах. Намыкался.
— А мне нравится. Наро-оду! Что людей. Чего не увидишь!
— И все-таки… сколько еще штучек у тебя?
— Мало. Нету почти. Зуб даю! Было две шашки всего… И запалов четыре. Да патрончиков пара обойм.
— А про зуб, это что же — клятва такая?
— Да. Если вру — можешь выбить. Один зуб. Взять себе.
— Нехорошо.
— Да я не боюсь боли! Мне чихать.
— Я не про то… Нехорошо такие слова говорить. Нормальные люди стараются так не говорить. Это война так говорит. Отвыкать нужно от ее разговора. От ее словечек мрачных. Да ты не сердись. Я это вообще… С Пушкина будем пример брать. Хватит уж нам людей-то пугать штучками разными. Унижают они человека.
— Во-во! Я когда в поезде сюда ехал к тебе, — пассажиры утром котомки развязали, шамать, то есть питаться, начали… А у меня еще с вечера все подчистую съедено. Развязал я свой мешок и достаю. Шашку толу. Граждане как посмотрели, так и отвернулись!
— И что же?
— Поесть дали сразу. Предложили… Кто хлебца, кто огурец протягивает. И место на лавке освободилось сразу.
— Видишь, как унизительно… И гражданам, и тебе. Плохое изобретение, плохой способ — пищу добывать страхом. И опасный.
— Я и не пугал их вовсе, не замахивался. Только краешек показал. Еще одна тетка спросила: «У тебя что, сынок, мыльце?» На пайку хлеба махнуться предлагала. А когда расчухала — сразу спящей притворилась. Опасно! Еще как. Потому и здорово! В Поповке мальчишку одного, ремесленника… На моих глазах! Смотрю: фуражка форменная в небо полетела. Высоко-высоко. И сразу — хлобысть! Меня волной так и посадило в траву. А потом смотрю: несут в корыте. Наверное, когда еще фронт в Поповке проходил, солдаты корыто под носилки приспособили. Две палки по бокам проволокой примотаны. Наверно, песок немцы носили. Для окопов. А ремесленники под своего корешка приспособили. Лежит на дне, ручки-ножки перебиты, одна голова лишь смотрит, живая еще… И крови полкорыта.
— Фу ты, господи! — не выдерживает отец. — А если бы тебя так?!
— Меня?! Ни в жисть! Да я знаешь как осторожно разряжал? Как настоящий сапер! Ремесленник верхний запал вывинтил и думает — все. А мина на якоре: вторым запалом за землю держалась… Вот и в корыто!
— Веселенькое дело… А знаешь, почему не тебя — в корыто?
— Потому что я осторожный. Сколько говорить!..
— Нет, не потому.
— Тогда почему же?
— Потому что я просил за тебя.
— Как это? — опешил Павлуша, не зная — смеяться ему или нет.
— А так… Просил, чтобы тебя люди пожалели. И не губили раньше времени. Невинного.
— Это что же… как Лукерья? На коленях? Ты-то, учитель? Смеешься? Ну дает… Кого просил-то?
— А это уже дело десятое — кого. Так принято у нас на Руси. Просить. В тяжкие минуты. Так повелось. Солдаты на войну, а дома за них — просят. Может, кто и услышит. Человеку свойственно надеяться. Мне ведь так хотелось, чтобы смерть тебя обошла.
— Меня смерть обошла… А маму не обошла. И за нее надо было просить.
Оба вздохнули. И тут крыльцо заскрипело. В кухню ветром ворвалась румяная, скорая на ногу старушка Лукерья, сестра отца. В ее руке голубем белела стеклянная баночка с молоком.
— Испей тепленькова… — совала баночку Павлуше. — Глони-ка, золотко, козьева, полезнова… С места не сойду, пока не выпьешь! В ем таки витамины, сказывают, а ты, гляди-ка, кожа да кости!
Лукерья жила возле школы в крошечной избушке, задуманной как пришкольная баня. Шустрая, неугомонная, в пушистой белизне волос, Лукерья радовала взгляд, словно полевой цветок одуванчик. Сюда, в заволжскую глушь, в дебри лесные, одинокая, безмужняя, перебралась она в помощь брату Алексею из Ленинграда, где сорок лет проработала на «Скороходе» и где на Смоленском кладбище на Блоковской дорожке под большим наклонным серебристым тополем, неподалеку от могилы поэта, похоронила в тридцатые годы свою единственную дочь.
Брата Алексея, человека ученого и «страсть как умного», носившего очки (сперва светлые, затем, после ранения, темные), говорившего культурно, без свойственных Лукерье деревенских, псковского происхождения, словесных оборотов, старушка откровенно побаивалась, трепетно уважала и еще больше, нежели побаивалась, — любила. Той сестринской, перерастающей в материнскую, любовью.
А в племяннике, в светлом довоенном «херувимчике», которого тайно от всех во время одной из утренних городских прогулок проворно окрестила в Никольской церкви, в Павлуше своем ненаглядном — души не чаяла.
Состоя теперь при школе на должности технички, Лукерья могла бы проживать и не в баньке. Брату ее от школьной жилой площади отводились две небольшие комнаты с кухней. Уместились бы и втроем запросто. Но Лукерья, как всякая женщина, с точки зрения брата, имела некоторые изъяны. Нет, расходились брат с сестрой не во вкусах, не в тонкостях гастрономических: картошку как ни свари, она все равно картошкой и останется. Здесь другое: слишком громко Лукерья готовила, слишком явственно на кухне ухватами гремела, слишком шумно да лихо воду из одной посудины в другую переливала да по доскам пола на кухне слишком резво перемещалась. Тогда как у брата — нервы… Слишком они у него издерганные за годы скитаний. Вот и не слепились под одной крышей. К тому же, несмотря на суетливость свою крайнюю в движениях, бобылка Лукерьюшка склонна была к уединению, и, когда нестерпимо захотела она в баньке проживать, никто от этого шага отговаривать ее не стал. Семейной драмы или, того пуще, трагедии не произошло. К тому же банька Лукерье понравилась с первого взгляда. Как-никак — свое гнездышко: и чистое, и плита на две конфорки. Да в ней, в баньке-то, и не мылись, поди, никогда. Прежние учителя, сказывают, норовили в деревне париться, в банях, так сказать, подлинных, постоянного действия, где водицы вдоволь под боком, и веники ядреные запасены, и пар от каменки истовый, настоящий.
Сами они, и отец, и Лукерья, сдружились по банному делу с одиноким вдовцом Бутылкиным Яковом Ивановичем, чья изба в Жилине ближе всех подступала к школе.
Отужинали. День за окном почти полностью выгорел, исчез, когда вдруг постучали в наружную дверь. Отец вышел в тамбур встречать незваного пришельца. Павлуша поймал себя на догадке, что вот не сам он пошел отпирать на стук, а дождался, пока отец решится. Глушь, безлюдье, ни тебе милиции, ни связи телефонной. Откроешь, а тебя поленом… по очкам! Родитель-то у него — то ли непуганый, то ли впрямь — смелый.
Из сеней послышался круглый рассыпчатый мужской говорок.
— Истопил, понимаешь, сижу, в окошко поглядываю. Ожидаю, одним словом. Ан — никого! Что, думаю, за притча? Пошто мыться не пришли? Али не суббота нониче, Ляксей Ляксеич?
— Ба-атюшки! — хватается за голову отец. — Павлуша, мигом! Одна нога здесь, другая — в бане! Эк мы опростоволосились…
Павлуше в баню идти не хочется. Его уже в сон клонит. Весенний воздух за день так напитал кислородом кровь, так размягчил, расслабил сведенные за зиму мышцы — пальцем пошевелить трудно и противно. Единственная радость: скорей бы в кровать, забыться скорей бы. «Принесло деда… Внимательный какой, зараза! Чистоплотный…»
— Никакая сегодня не суббота.
— Не, парень, суббота аккурат…
— Ну и мылись бы себе.
— Негоже так-то. Чай, уговор у нас с Ляксеичем: первый пар-от его. У меня веничек для вас мокнет. Последнюю снизку отвязал с чердака. Погоди-ко, уже свеженьких листочков нарежу к следующей бане. Хотя по мне — дак старый веник даже скуснее, настойнее.
— Вам виднее, какой «скуснее», — передразнил Павлуша деда. — А что, Яков Иванович, правда это, будто у вас до революции кирпичный завод имелся?
— А то как же! На пять деревень, почитай, обжигал. И уголек для ради кузнечного дела — тоже моя забота была.
— Каменный, что ли, добывали?
— Какое каменный! Древесный, настоящий… Березовый да еловый. И деготь, которым колеса, а также обувку смазывали. Нехитрое дело, а тоже уметь нужно. Для сполучения уголька в яму бревен наложишь плотно, одно к одному. Запалишь огнем, да земелькой присыпешь костерок-от. Ну и дырочек несколько для выходу дыма. А жар-то внутри бродит, наружу не вылазит. И так бревешки те сомлеют, так из них огонь сырь-от всю высосет — скрыпом скрыпит уголек! Только я и умел целиком бревешко непорушенное углем из костра вынимать. Звоном звенел уголек-от мой!
— А кирпичный завод? Где он у вас стоял?
— А вот это и есть все завод: ямы, костры, сарай сушильный в лесу. Тамотка, возле глиняного оврага.
— Какой же это завод? Без трубы, без гудка…
— А то и завод, что заведено так было.
— Кустарь вы одиночка, Яков Иваныч! А не заводчик.
— А как хошь, так и зови. Только отбою не было от заказов на мой кирпичок. И на уголек тоже…
— А за что же вас тогда в… в бане парили? Одетого? Мне отец рассказывал.
Ответить Бутылкин не успел. Появился отец со свертком белья в тазу. Молча, без дальнейших уговоров повлек Павлушу за плечо на выход.
Банька у Якова Ивановича была в общем-то заурядная. То есть по правилу: не хуже, чем у людей. Покосившаяся, прокопченная до сердцевины бревен. Предбанник холодный, с прогнившим полом. Потолок низкий, каменка открытая, булыжник на ней измельчившийся, поколотый пылом-жаром, ядреным паром. Одно приятно: полок широкий, и не черный, а желтый, чистый. На таком лежишь, как младенец на маминой ладошке.
Отец с Павлушей разделись полностью, тогда как Бутылкин остался в грязных кальсонах.
Отец забрался на полок, а старик поддал из ковшика на горячие камешки. Пар от камней встал дыбом. Вместе с паром под потолок прянула мельчайшая зола. Павлуше стало нечем дышать. А дед, подержав огромный веник над каменкой, принялся постебывать отца по спине — сперва ласково, вежливо, затем азартно и чуть ли не с остервенением!
Павлуша сидел внизу на маленькой дурацкой скамеечке, которая кренилась в разные стороны, так как имела неодинаковой величины ноги. На полу возле Павлуши стоял тазик с прохладительной водой. Павлуша запускал туда руку время от времени, чтобы побрызгать на лицо, освежиться.
— А парили меня шары те, — решил досказать Бутылкин про экзекуцию, — потому как шепнули тым архаровцам, которые шайкой по деревням ходили, быдто у меня золотишко имеетца… Ну, знамо дело, трясут они меня, а я молчу. Тогда они меня в байню засунули. Каменка аж красная вся. Дырья, щели позатыкали и меня держат в одёжде, сымать не смей! Вот шары-те! Не приведи господь… Воды плеснули пять ковшей. Пар аж до полу. Дверину захлопнули… Ну, я и повалился с ног.
— А золотишко действительно имелось? — поинтересовался откуда-то из-под веника распаренный, исхлестанный, согнувшийся крючком учитель.
— Да како там золотишко… Одне думы. Монеток двадцать. На черный день.
— Ну и как? Отдали вы им монетки? — съехидничал Павлуша.
— Нет уж! — огрел Бутылкин учителя изо всей мочи. Тот аж в обратную сторону перегнулся.
— Дерешься-то почему, Яков Иваныч?
— Извиняй, сполучилось так… Нехорошее вспомнил.
Потом отец взялся мыть Павлушу. Мальчишка на лавку полез нехотя. Злился, тушевался. Страдал от своей тощей наготы. И что удивительно: отца стеснялся больше, нежели деда Бутылкина, хотя тот и парился в кальсонах, а Павлуша нагишом.
Прикосновения отца заставляли сжиматься внутренне. Слишком мало они знали друг друга, чтобы так, запанибрата, тереть спины. Нужно еще было нажить право на такую близость. На такую откровенную бесцеремонность.
Отец приучал тело сына к банному зною исподволь. Пару от каменки приподнял самую малость. Долго щекотал веником белую нежную кожу, приспосабливал ее к паренью. Затем только отважился стегать, плотнее опуская рыхлый, разморенный веник. Отец увлекся, и тут Павлуша, ни слова не говоря, сорвался с лавки, подкатился по полу к тазику с холодной водой, окунул в него голову, отдышался, облепленный по лицу мокрыми волосами. Со злостью искренней — даже с ненавистью — зыркнул зеленью глаз на отца.
— Дорвался! Лупишь… А мне больно! И дышать нечем…
По лицу Павла, смешиваясь с потом и водой, текли настоящие крупные слезы. Слезы обиды, обиды не столь за сегодняшнее, сколько за давно прошедшее, за те бесприютные годы бродяжничества, которыми его одарила жизнь и в возникновении которых отец был так же мало виноват, как и в возникновении войны; Павлуша за все военные годы и мылся-то, почитай, раза четыре.
— Нельзя так на батьку свово злиться. Бог накажет. Больно ему, гли-кось! Батька его и так, и этак, и по пупочку, и по гудочку! Трёть, как няня дитю малую…
— А вы бы лучше кальсоны сняли, чем не в свое дело вмешиваться!
— Павлуша, опомнись! — Отец потрогал себя возле уха, как бы намереваясь поправить очки. — Дедушка Яков баню для нас истопил. Позвал, пригласил… А ты его так грубо.
— Мне извиниться?
— Неплохо бы… — засомневался отец в серьезности Павлушиных намерений.
— Извините, Яков Иванович.
— Знамо дело — извиню… А кальсоны-те, которые сподники, я слышь-ко, специально парю. Тут, братка, выгода мне прямая: сам, стал быть, моюсь, и белью постирушка. Я и рубаху сымать не хотел, да больно она чижолая делается от пару, не унесть…
— А почему на вашей бане мелом «Слава богу» написано?
— А по пьяному делу… Из озорства. Гуляли эт-то в пасху. Ну и взбрело накарябать. А што, нешто нельзя? Моя байня, какой хочу, такой и пишу лозунг.
Одевались — спешили, так как со своим тазом пришла мыться Лукерья и теперь сидела под дверью тихо, но явственно время от времени напоминая о себе печальными вздохами.
Все четыре класса жилинской начальной умещались в одной большой комнате, то есть в классном зале. Четыре ряда парт. Ближе к свету, к окнам — первый класс, затем второй, еще глубже — третий и в самой тени, ближе к двери, — выпускники. В первом классе в наличии имелось всего пятеро ребятишек, во втором — шестеро, в третьем — семеро, в четвертом — целый десяток. А через пару лет на первый класс и вовсе два ребятенка намечалось: один из Жилина, другой с Латышей, хуторской. Оба по происхождению из суровых времен, то есть военного завода, редкость большая.
Близились каникулы. Сто зеленых драгоценных дней. Сегодня отец занимался со старшими, готовил их к испытаниям, к выпускному диктанту, к контрольной по арифметике. Засиделись. Пришла уборщица Капитолина, молодая, сильная девушка лет восемнадцати, колхозница, на которую у отца с председателем колхоза Голубевым Автономом по части мытья полов договоренность была: Капке с каждого мытья — десятка, а председателю с получки — бутылка. Лукерьюшка-техничка с полами уже не справлялась: давление в сосудах перегибаться не позволяло (почти вся ее мизерная зарплата шла на лекарства, главным образом на пиявки, которыми старушка пользовалась с особым, укоренившимся удовольствием).
Пришла нынче Капа мыть полы, а в классе еще уроки. И решила она с кухни начать. Подоткнула подол, навела воды со щелоком-золой (самовар Лукерьюшка заранее поставила). Наступила тяжелой белой ногой на голик-метелочку и давай с хрустом, хряском скрести-драить широкие некрашеные желтые доски, в которых, блестящие, то там, то тут вспыхивали, как денежки серебряные, большие, отшлифованные временем шляпки гвоздей.
Моет она так, старается, а в красном углу кухни тихий, угрюмый, незаметный Павлуша мину свою мастерит. А может, и не мину, а так, что-нибудь попроще. Только вдруг видит он впереди себя, перед столом, за которым сидит, — красивые светлые ноги возникли! И чем они от пола выше, тем ярче. Никогда он таких откровенных, хотя и совершенно ему незнакомых ног до этого случая не видел. Живых — не видел. Однажды, еще на войне, где-то на дорогах Прибалтики, взгляд его испуганный наткнулся на мертвые ноги женщины. Лежала она в сухой канаве возле асфальтированного шоссе, прикрытая картонками от каких-то немецких ящиков упаковочных, а ноги ее, длинные, бескровно-белые, простирались бесстыже-беспомощно, не умещавшиеся под картонкой. И он их запомнил. И не потому, что мертвые они были, вернее, не только поэтому запомнил. Главное: это были женские ноги, красивые и униженные, ноги чьей-то матери, сестры, тети… Запомнил. Отложилось. И вдруг теперь — вот эти: яркие, гордые, живые!
Хотел застесняться, отпрянуть назад, к стене, за стену дома, в лес. И застеснялся было, и отпрянул малость, передумала голова: слишком дразнящим было видение, слишком интересным, к тому же — запретным. Такие высокие взрослые ноги в такой сногсшибательной близости.
Павлуша бесшумно, по-кошачьи выбрался из-за стола, протянул руку и ласково погладил мягкую теплую кожу.
В ту же секунду тяжелая мокрая тряпка ударила его по лицу. Павлуша быстро-быстро обтер-огладил ладонями лицо, сплюнул — и вдруг полез на потную, горячую девчонку с кулаками!
— Т-ты что, зараза?! Поганой тряской… Да я тебе глаз выбью! — Схватился вплотную, зарылся лицом в ее лицо и чуть не задохнулся от злости, от незнакомых запахов, от обиды.
— О-ёй! Помоги-ите! — отчаянно пропела Капитолина, выпучив глаза.
Из сеней вывернулась на крик Лукерья.
— Да лихоньки! Да никак ошпарилась, девка?!
Павлуша успел отлипнуть, отодвинуться, затем, огненно вспыхнув, покраснеть. Сейчас он желал одного: сквозь пол — в подвал — провалиться, туда, на сморщенную прошлогоднюю картошку, с глаз долой. К счастью, в это время из-под печки пулей вылетел мрачный, пыльный кот. Не мешкая, бросился он в ноги Лукерье и чумазой своей башкой начал усердно втирать в шерстяной, крупной вязки, чулок старушки неотвязную мысль о сказочной прелести козьего молока и о том, как он, Негодник, без него тоскует.
Тогда Павлуша, улучив момент, схватил со стола мину (или нечто в этом роде) и весело выскочил из окна в огород.
— Напугал меня ваш городской, бабушка Луша! Чуть это я в ведро не села от страху. Как защекотит! Ой, думаю, мамонька дорогая… А мальчишка-то, видать, сам сомлел, так губа и отвисла, когда я его тряпкой огрела.
— А заверещала чаво? Быдто на мышь каку наступила. Эка невидаль: ущипнули ее. Дотронуться до ей нельзя…
В дверях кухни стоял отец.
— Что здесь происходит?
Капитолина оправила подол, выпрямилась. Светлую легкую прядь волос, что выбилась из-под платка, плавным движением руки завела обратно под платок. Опустила голову, не отводя взгляда от лица учителя. Похоже, в диковинку был для нее этот по-городскому стриженный, с обрезанными ногтями, тщательно выбритый мужчина в темных очках, от которого слабо попахивало не перегаром, а незнакомым одеколоном и, вообще, отдавало другим, неведомым миром.
— Мышь пробежала… Вот такая… — развела руками Капитолина.
— Стало быть — крыса, если «вот такая». И это в доме, где обитает кот! Хищное домашнее животное! Ах, Негодник… Ничего, кроме колбасы, поймать не способен, — полусерьезно возмущался Алексей Алексеевич.
— Еще чего — «кры-ыса»! У страха глаза велики… Мыша увидала небось и ну базланить, — поддержала, не опровергла мышиную сказочку добродушная Лукерья.
— Что же ты, Капа, мышей боишься? Они ведь маленькие, пушистые…
— Маленькие да удаленькие, — Капитолина давно уже пришла в себя, успокоилась, простила дерзкий наскок мальчишке и теперь жадно рассматривала отца, втайне соображая: ежели сынок такой забавный, то каков же родитель? Яблоко от яблоньки…
А Павлуша тем временем, поостыв на свежем упругом ветерке, решил разузнать, как отнесется к его проступку отец. Если наябедничают, конечно.
Из школы с восторженным писком выпорхнули последние ученики выпускного, четвертого. Все они были гораздо ниже Павлуши, смотревшегося в их окружении как подберезовик среди сыроежек…
— Эй, букашки! — на весь школьный двор объявил Павлуша. — Куда летим?
Ребятишки как бы вовсе не обратили на него внимания. Пряча взгляды, кружились они, удаляясь в сторону деревни, и только на солидном расстоянии постепенно начали смелеть, лихо посвистывая, подбрасывая плевки, языками щелкая и что-то свое, тутошнее, частушечное, выкрикивая в отместку чужому, неприступному юноше:
Я отчаянной породы, сам собой не дорожу: пусть головушку отрежут — я другую привяжу!Одного только Сережу Груздева, мальчика, открытого более других, преданно и бесстрашно смотрящего Павлуше в глаза, учителев сынок сумел как-то сразу приручить. Подарил ему настоящий немецкий патрон от карабина. Пообещал взять с собой на «задание» в лес, где готовил какую-то «операцию». Словом, очаровал.
Сережа учился в третьем классе, от занятий был уже освобожден и теперь каждый день появлялся на школьной поляне, предлагая себя городскому парию то в проводники по окрестным лесам и болотам, то просто в молчальники, соглашаясь слушать бесконечные Павлушины истории.
Бывает, что Сережа и поесть толком не успеет, от сухой лепешки, как от фанерки, кусочек отломит, за щеку засунет и, глядь, прибежал, запыхавшись, готовый хоть через костер, хоть с дерева вниз головой по первому сигналу Павлуши, а Павлуша занят своими полувзрослыми делами, ему не до Сережи, не до чего. И тут отойдет Сережа в кустики незаметно, сядет на пенек и, как добрая собачка, будет ждать сигнала… И так бывает, что ждет он долго, с утра до обеда или с обеда до ужина, ждет и, что нередко случается, так и не дождется своего повелителя.
Вот и сегодня, когда Павлуша, спасаясь от половой тряпки, из окна выскочил, на колоде возле поленницы, внимательный, но почти незаметный, в застиранной гимнастерке умершего от военных ран отца, кое-как ушитой до размеров ребенка, сидел и поджидал старшего друга Серёнька Груздев.
— А-а… Это ты? Привет, шпингалет! А я, видишь ли, с Капой поцапался малость. Полы моет, а я ее за… хвост дернул!
— Капка сильная… Хочешь, побьем вместе?
— Нельзя нам ее бить: Капка женщина, баба. Понимаешь?
— А им можно драться?!
— А им можно. Да они и не умеют.
— А Голубев Автоном умеет! Страсть любит подраться. С кем попало. Когда гуляет. Трезвый-то он спит. В сене. А выпивши обязательно колышек из ограды выдернет и пошел стебать! Только деда своего не трогает. И то потому, что дед всегда икону с полки снимает. И перед ним на руках держит. А потом они всей семьей колышки обратно в ограду ставят. Которые не обломились. А Супонькин не дерется. Только ругается. Супонькин в городе живет. А в Жилине у него матка старенькая. Погостить приедет — обязательно поругается с кем-нибудь. Чаще — с председателем. Нервенные оба. Так про них матка сказывала.
— Ну ладно, беги, Сережа. Мне с отцом поговорить надо. Приходи завтра. На маяк залезем. Хочешь?
— Хочу! Я уже лазал! До… второй площадки, — нехотя сознался Сережка. — Так я пошел…
— Ступай, иди. Только ты не обманывай, иди по-настоящему. Не сиди в кустах, не жди меня. А то поссоримся.
— Ладно уж…
Сережа с трудом переворачивается вниз головой, встает на руки. Босые пыльные ножки его торчат из опавших штанин. Но долго стоять так он не может и с облегчением падает в ласковую траву. Затем весело вскидывается и бежит по тропе к деревне. Отбежав метров сто, оглядывается, машет рукой Павлуше. И уже медленно, нехотя, с вяло опущенной головенкой продолжает путь.
А Павлуша, сдержанно усмехнувшись, решительно входит в дом. Отца он застает в классном помещении за учительским столом проверяющим тетради. Павлуша дерзко кашляет. Отец вздрагивает. Растерянно улыбается сыну. Павлуша внимательно рассматривает лицо отца. Ищет приметы возмущения. Не найдя их, настораживается еще больше.
— Что же ты… не ругаешься на меня? Не кричишь?
— На тебя? Что это значит? — нахмурил черные брови родитель.
— А разве не жаловались?
— Что ты натворил?
— Уборщицу эту… Капку… потрогал.
— Как то есть — потрогал?! И почему — Капку? Капа — девушка прежде всего, а не уборщица.
— А почему тогда убирает? Полы моет почему?
— Она не убирает, не полы моет, она работает, трудится.
— Деньги зарабатывает.
— И деньги зарабатывает, потому что так принято… Среди людей.
— Потому что жрать люди хотят!
— Жрут звери, скотина… А люди едят. И они в этом не виноваты нисколько. Так устроен человек. И ты в том числе.
— Знаю. Не учи ученого. Хочешь, чтобы и я полы мыл? Агитируешь?
— Я хочу, чтобы ты… состоялся. Чтобы ты учился жить лучше. И становился не только умнее, но и добрее. Снисходительнее к окружающим. И ко мне в том числе. Почему ты тронул Капу? Что это значит?
— А мне захотелось! Мне интересно было. Руку протянул и потрогал. За ногу.
— За… ногу? Да ты с ума сошел! Я думал так… За плечо, скажем.
— За плечо, выходит, можно, а за ногу нельзя? Почему?
Отец выронил красный карандаш на страницу тетради, снял и снова надел очки, улыбнулся едва заметно под синими стеклами очков.
— Так тебе что же… понравилось, что ли, девушка?
— Еще чего! — покраснел и сразу же насупился Павлуша. — А чего выпячивает?! Выставляет почему? Нужно было ногой поддать как следует! А чего?!
— Стыдись… Она ведь не виновата. И добрая она девушка. О тебе даже словом не обмолвилась. А ты ее так напугал. Я думал: беда какая! Не своим голосом человек закричал…
— А-а… Все они так. Щекотки боятся до смерти. И тряпкой, дура, еще размахивает.
Павлуша кое-как уселся за парту. Ноги пришлось протянуть далеко вперед. Рука машинально нашарила в парте какой-то предмет. Не то кусок ссохшейся земли, не то древесную гнилушку. Мальчик брезгливо поднес находку к глазам.
— Это хлеб, — не снимая очков, определил отец.
Павлуша положил темный комок перед собой на парту. Пристальней вгляделся в это нечто неопределенное, не обладавшее ни запахом, ни цветом хлеба. Различил какие-то соломинки, семечки, разных размеров блестящие зернышки, а также — шелушки и еще что-то спекшееся, сплошное.
— Какой же это хлеб? Как такое кусать? Такое и в рот-то не полезет…
— Это хлеб, Павлуша. Крестьянский. Так сказать — весенний. С примесями.
— А мы не такой хлеб едим.
— У нас по карточкам, государственный, магазинный. А это на трудодни.
— И Капка такой крестьянский ест? А почему тогда здоровая такая?
— Она не от хлеба такая, от молодости… От картошки, от воздуха деревенского. От породы: у нее мать тоже сильная, без мужа четверых детей воспитывает. А потом, у них там, в деревне, в каждом хозяйстве по-своему: одни еще с осени экономно хлебушек замешивали, пополам со всякой добавкой… Берегли муку. Другие сначала цельный, чисто ржаной выпекали, а теперь вот и не хватило.
— Землю едят…
— Ну, не землю… Такое, если из печки, свеженькое, так и ничего. Особенно — с молоком, у кого корова… С парным.
— А у кого нет коровы? Вот у Груздева Серёни — коза. Они только щи забеливают молоком.
— Сейчас, Павлуша, многие бедствуют. Война, окаянная, все подъела. А тут еще засуха, неурожай… Пока новое не подрастет, не накопится — потерпеть придется.
— Отец… Послушай, а ведь у нас такие… конфетки маленькие, «подушечки». Которые на сахар давали. Где ты их прячешь? Дай мне пару. Заговорили о еде… Слюни текут. Одну Серёньке, одну мне.
— Непорядок, Павлуша. Конфеты — к чаю. А чай после того, как ты ответишь урок.
— А если не отвечу? Что тогда?
Отец снял очки и не сразу, а лишь некоторое время спустя скрылся за ними вновь.
— Павлуша, ты мой сын. Поэтому… прежде всего — уроки. А не чай.
— Короче говоря: если не отвечу — есть не дашь?
— Не дам.
— Уйду тогда…
— Куда?
— Куда глаза глядят! К маме… на могилку.
Спрятавшись за очками, Алексей Алексеевич долго потирал ноющий висок. И вдруг, вскинув голову, с тихой улыбкой на губах поманил к себе сына указательным пальцем.
— Чего еще? — Павлуша нехотя завозился, стиснутый досками парты, как капканом.
Отец продолжал выманивать Павлушу, помогая указательному пальцу кивками головы, шевелением губ, смешливым подрагиванием носа и даже ушей. Слов он не произносил, так как боялся их разрушительной силы.
Наконец Павлуша выдернул из-под парты сперва одну, затем другую ногу. Бесшумно босыми ступнями продвинулся по доскам некогда крашенного пола к столу. Отец шарящим, подслеповатым движением руки поймал сына за худенькое непокорное плечо, привлек к себе вплотную.
— Павлуша, посмотри мне в глаза. Я ведь твой друг. Верь мне.
— Ты мой отец. Родитель. А никакой не… друг.
— Старший друг. Помимо всего. И никогда тебя не предам. Просто я сейчас вижу чуть дальше, нежели ты. На несколько ходов. Выражаясь шахматным языком. Пока что я опытнее тебя. Тебе может показаться, что я излишне жестковат… А ведь это для того, чтобы там, в будущем, тебе было помягче…
— И конфетку жалеешь поэтому?
— Да не конфетку я жалею! А тебя… Беспощадно жалею! Ты мне — дело, урок, я тебе — ужин, конфетку.
— Как в цирке. С медведем…
— С медвежонком! — Отец прижался головой к худенькой груди сына, неловко сбивая очки набок. И тут же отпрянул молодцевато. — Да, пока что — как в цирке! Пока что — по Дарвину, Сеченову, Павлову. А потом и по-товарищески будет у нас с тобой. По-мужски. Не горюй, сынок. Мы с тобой не одни на белом свете.
— А с кем? С Лукерьей?
— И с Лукерьей, понятно. А главное — с надеждой! Мы должны пробиться! К свету, к Жизни с большой буквы. Сквозь голод и холод, сквозь глушь и несправедливость… Сквозь смерть, если хочешь! Сквозь страх смерти.
— А что у тебя там… ну, когда мы врозь жили… самое страшное было? Расскажешь? Ну самое-самое…. Когда и вспоминать даже страшно? Было такое? У меня так сколько угодно! В Латвии, когда я у одного хозяина работал на хуторе, во время оккупации, поехали как-то за дровами в лес. У меня серая лошадь была и сани. Дровни. С лошадкой я очень подружился. Корочку ей всегда сберегал… Она меня голосом встречала — издалека. Не любила только, когда при ней мужики… ну, это самое — воздух громко портили. Услышит звук — так и вскинется! Зубы оскалит и ногой в передок — хлоп! В лесу на разработках, на вырубке, землянку мы тогда обнаружили. Заброшенную. Со снарядами склад небольшой. Красноармейцами при отступлении оставленный. В то время никак я одну гранату взорвать не мог. Немецкую, брошенную кем-то и не взорвавшуюся. Шнурок у нее, за который дергают, оборвался, и такая тонюсенькая проволочка всего лишь из нужного места торчала. Прицеплюсь я к этой проволочке другой проволокой, отойду куда-нибудь на пустырь и дергаю. А затем бросаю! А граната ни-ни. Не взрывается, зараза. Потому что проволочка распрямляется и — никакого результата. Много раз так-то я бросал, и все попусту. И каждый раз съежишься, ждешь… И вот в лесу на разработках, когда нагрузились мы и взрослые мужики курить уселись, бросил я в очередной раз гранату. А целился так, чтобы непременно в землянку попасть. Которая со снарядами. Как будто подталкивал кто, сила какая-то: кинь, кинь, попади в землянку. С одной-то гранаты какой шум? Ну треснет… А тут целый склад! Вздрогнете у меня ужо! Запугать хотелось всех. Вы меня за пацана принимаете, в расчет не берете, а я вам… волосы белыми сделаю! А руки у меня тогда замерзли начисто, пальцы скрючились. Гранатка и выскочила, да позади меня, в метре за спиной, и упала. Я быстро, быстро по-пластунски за землянку, ужом извиваюсь — в укрытие. А граната ка-ак дернет! Взорвалась, наконец-то… И тут мужики налетели, гады зловредные. Один за горло меня схватил. Чтобы душить. А я кусаюсь. И тут они меня бить стали. Думал, все, раздавят. Сперва обидно было, потом страшно. Сопят, тянутся… Это они оттого, что сами испугались. Говорил мне после один из них, подлизывался. Боялся, что я любого из них в другом месте запросто взорвать могу. Они склада со снарядами испугались, что я его чуть не взорвал… Тогда бы все они накрылись. Да и немцы на такой большой взрыв обязательно примчались бы из имения. Нет, конечно… Это не самое страшное. Было и пострашней. А с тобой? Расскажи про самое страшное.
Промолчал Алексей Алексеевич. Только руку вперед протянул и сына ладонью по затылку погладил.
— У всех оно свое — страшное… Кто крови боится, а кто мышей. Для меня, пожалуй, самое страшное — это когда тебе не верят. Вот оговорит тебя какой-нибудь мерзавец. И ему поверят, а тебе — нет. Не виновен, а доказать свою невиновность не можешь. Во сне так бывает: зверь за тобой по пятам гонится лютый, настигает… А ты едва ноги передвигаешь. Вот он уже и пасть над тобой зловонную оскалил, а тебе даже рук не поднять, не заслониться, как будто руки у тебя ватные, парализованные. И только кричишь, но ничего изменить не можешь, никто тебя не услышит все равно… Пока не проснешься.
— Непонятно. Ты случай расскажи. И лучше — про смертельную опасность. Чтобы как у меня с гранатой. Потому что страшнее смерти ничего нет, так все говорят.
— Это смотря какая смерть… Если чужая, не собственная, если ею тебя постоянно в нос тычут — привыкаешь к ней. И не страх уже, а так — боязнь одна. Неприятно чуть-чуть. Ходят и по кладбищам люди, прогуливаются даже, дела текущие обсуждают. А под ними и всюду с боков — покойники. И ничего. Смерть страшна своя, личная… На фронте поднимешься в атаку, и побежишь ты вместе со всеми, спотыкаясь, дыша надсадно, пригнувшись низко, или — глазами вперед, а навстречу тебе со свистом и воем пули, осколки, земля комьями понеслась, и вот, замечаешь, кувырк кто-то рядом, пуля кого-то прошила, знакомый твой недавний или дружок-приятель запрокинулся, а ты машинально на бегу смекаешь: не меня! Слава богу, не меня. По каске чем-то шлепнуло, а ты опять: не убило. Тело чужое, разрывом мины истерзанное, под твоими ногами очутилось, а ты хоть и не злыдень какой, не фашист, а про себя все же фиксируешь: не меня! Пронесло! Дышу, бегу. И только потом где-нибудь в траншее над котелком с кашей, обжигаясь варевом и дождем холодным обливаемый, начинаешь дружка-товарища жалеть, которого на плащ-палатке санитары приволокли, уже остывшего… Начинаешь в норму человеческого достоинства входить, себя прежнего, еще не отравленного парами боя губительного, ощущать. Смерть унижает человека. Тем она и страшна. А так ведь, ну что же… Нет ничего неизбежнее ее. Меня другое на фронте куда больнее припекало, нежели смерть. И прежде всего неизвестность: что с вами? То есть — с тобой… Писем я не получал, как некоторые. И вот этот постоянный почтальонов отвод глаз от меня… Как будто я виноват, что мне не пишут… Злился он на меня, понимаешь, за мой на него вопрошающий жалобный взгляд — а вдруг? Но писем никогда не было. Ни вдруг, ни после мучительных раздумий. Вот почтальон и злился… За то, что не может мне радость доставить, как остальным. И самое страшное было для меня: не знать, что с вами… с тобой. Живой ты у меня или какой? И стоит ли мне от пуль прятаться, если я, может статься, один теперь на всем белом свете? И не легче ли умереть, как сном уснуть, забыться, избавиться?.. А случаи со смертельной опасностью как-нибудь после расскажу. Когда мы оба повзрослеем и к смерти терпимее сделаемся.
— Интересно. Мама в блокаду… от чего умерла? От голода или холода? И почему Лукерья подробностей никаких не знает? Обе ведь там находились…
— Лукерья жила на Бронницкой, а мама на Васильевском острове. За Невой. По зимним блокадным меркам — это как от земли до луны.
— Маму я часто вспоминаю теперь. Лицо, голос. И блины… Помнишь, какие блины она вкусные делала? Тонюсенькие… А пахли как!
— Ладно, сынок… Чего уж нам про такое вспоминать. Погоди, наладится жизнь, сами блинов испечем. Мужских. Не хуже тех…
— Не-е… Таких нам не испечь. Такие только мама умела.
Глава вторая. Отец
Жизнь человеческая, если на нее оглянуться и внимательно посмотреть, чаще большую лохматую непогоду, нежели пляжный ласковый денек напоминает. И сам ты вроде листочка, ветром по дороге гонимого, зацепился за очередной выступ, напружинился весь, чтобы не унестись еще дальше, и вроде опять живешь — умом маракуешь, дела делаешь и непременно прошлое вспоминаешь. И конечно же, с неохладевающей теплотой, память ту самую рань невозвратную, детством именуемую, воспроизводит. А что, ведь и впрямь были когда-то и синь майская, и долина райская, просторная, и на ней дерево зеленое, шумливое… И ветка та самая, за которую ты пуповиной черенка листочкиного держался.
Корни древа, где на одной из веток зеленым огоньком вспыхнула жизнь Алексея Алексеевича, уходила в серую, суглинистую, усыпанную ледниковой поры валунами псковскую землю. Там, в глубине непроглядной промчавшихся лет, далекие пращуры его сеяли «лен-конопель», овсы, горошек полевой да просо с гречихой, а также картошечку в борозду совали. И все-таки главной статьей крестьянского дохода на Псковщине был лен. Лен кропотливо выращивали, лен обрабатывали, льном ездили торговать в уездный городишко, где на Шелони скрежетал металлическими потрохами полукустарный льнозаводишко. Лен голубел меленьким цветом на помещичьих гектарах и на крестьянских десятинах.
В преданиях семейных не сохранилась дата, достоверная точка отсчета, после которой из крепостного раба некий, уже неведомый ныне прапрапахарь из рода Алексея Алексеевича стал вольноотпущенником, перейдя в казну, то есть в государственное крестьянство. Но Алексей Алексеевич доподлинно знал, что дед его Григорий Сергеич крепостным уже не был и, проживая в Зарубине, дома у себя почти не находился, ибо в льноприказчики к помещику Андрею Боговскому поступил в соседнее имение Богово. Льном дед торговал вплоть до скончания девятнадцатого века, когда, скопив не ахти какую, но все же кругленькую сумму, отец Алексея — Алексей Григорьич — решил осуществить незатухающую, как боль в натруженной пояснице, мечту: купить свою землю, свое имение, чтобы выращивать свой, пусть не такой обширный, как у Боговских, лен.
В те набрякшие революционными соками годы в России нищали, приходили в упадок множественные мелкопоместные хозяйства. Разорившийся неумеха помещик тяготел к городу, к веяниям… Проевшийся и пропившийся, он уже не мог так запросто, как прежде, нанять себе в услужение рабочую силу. Земля твердела, зарастала бурьяном. Постройки, прогнив, оседали. Сады выхолащивались. Колодцы обваливались. Травы на лугах сводились. Породистый скот хирел.
Продать такое имение охочему до работы крестьянину — разве не выход из положения для какого-нибудь запутавшегося в долгах владельца недвижимости?
Вот и купил Алексей Григорьевич землицу в захиревшем Овсянникове, и стали недавние крестьяне (семья в девять ртов) сами себе «помещиками»! Сперва такое событие как бы вознесло их в собственных глазах на некий иллюзорный утес, туманную горделивую высоту: как же — владельцы! Не все им в навозе ковыряться! А когда отгуляли да квасом нутро промыли, в бане отпарились да вокруг огляделись, стало ясно: в навозе, только еще в большем, могучем, предстоит ковыряться не кому-нибудь, а все также им самим. Без посторонней помощи. И справятся они с таким хозяйством одни или нет — вот вопрос.
Не справились. Рук не хватило, средств, умения. А там еще к закату жаркого лета, когда их долгунец от солнца порыжел, в самую сушь пороховую, жестоко они погорели: пожар случился в усадьбе и в поле одновременно. Остались в натуральном виде, то есть в чем мать родила.
Тогда продали Овсянниково, естественно по дешевке, горелое, дымом пахнущее, и спешно в город Проклов перебрались. На берегу Шелони на Старорусской улице домик рубленый купили, обшили его вагонкой, покрасили. Дощечку «Собственный дом А. Г. Овсянникова» на углу здания прикрепили.
Переходя из одного сословия в другое, из крестьян в городские жители-обыватели, необходимо было фамилию заиметь, чтобы ее в определенные документы внесли и тем самым узаконенный вид на городское жительство получить.
— Как прозываться решили? — спросил Алексея Григорьевича казённый писаришка, строка приказная, сонная, глаз от скуки не разлепляющая.
— Дак ить как… По батюшке родному Григорьевы мы.
— Не обязательно по батюшке. Позволительно и по месту последнего пребывания. Как там ваша деревянная прозывалась?
— Дак… Зарубино… По месту рождения если. А ежели по своей купленной земельке, тогда Овсянниково. Как хошь, сынок, так и пиши. Нам теперь все едино: съехали мы с нее, с родименькой, с землицы нашей кормилицы.
— Вот с нее и берите, с кормилицы своей, прозвище — Овсянниковы. Согласны? Красиво? Так и запишем. Люблю я эту букву рисовать… Круглая, солидная. Не то что какая-нибудь закорюка бескровная…
Обретя фамилию, образ жизни оставили прежним. В маленьком городишке поначалу жили, как в деревне. Была у них и своя «земелька» — участок, вместе с домом купленный. Располагался он на задах городишка, возле самых кустов, от которых до леса шаг шагнуть за грибами да ягодами. Участок попался мягкий, болотистый, мокрый. Картошка не родилась. Пустили все под траву, под корма, потому как коров держали целых три. Да овечек. Вся разница с деревней — льна более не сеяли. Отпала эта забота навсегда. Оттеребили.
С переходом на новые рельсы заботы обуяли. И главная: обучить детей, дать им по возможности сносное образование. В воздухе государства носились ветры перемен. Ощущалось рождение другой России. Время сделалось как бы звонче, ощутимее. С прежнего затхлого, оплетенного вековой паутиной жития-бытия как бы сходила, сдиралась чулком усталая, прохудившаяся кожа. И люди для жизни (это тоже улавливалось чуткими умами) требовались иные, другой, более активной формации: грамотные, любознательные, возбужденные знаниями и идеями.
Учиться! Вот — работа, вот — смысл. Алексей Григорьевич детишек, которые помоложе и для обучения в самый раз подходящие, всеми правдами и неправдами пристроил кого в частную гимназию, кого в реальное училище, а с началом первой империалистической старшего Николая — к тому времени отважного солдата, георгиевского кавалера — в школу прапорщиков определил. А всего их у Алексея Григорьевича живыми три сына да четыре дочери имелось. Младший, Алексей, почему-то сразу на учителя выучиться пожелал. В деревне по темным лампадным углам насиделся, мрака духовного, безысходного наглотался, на детишек, сверстников своих стылоглазых, запуганных, нагляделся, и потянуло к свету. Кстати, и две младшие сестренки его впоследствии, уже при советской власти, в учительши вышли.
А с братьями полный разнобой получился: кто в лес, кто по дрова, один за нас, а другой на тарантас и — в Арзамас…
Средний, Леонид, как только семья в город перебралась, устроился грузчиком на льнозавод, пообвыкся там, притерся к людям, к производству — как-никак от рождения с голубоглазой травкой дело имел, а чуть позже и специальность «льняную» приобрел, к машине встал. И когда его однажды шустрые, говорливые, сознательные, на своем месте передовые пареньки к себе, то есть в сторону партии большевиков, поманили, сопротивляться не стал. Так и пошагал этой дорожкой, одним из первых в городке.
А младшенький, Алеша, учился. Самозабвенно, восторженно. Науки ему давались. Особенно те, которые делали мир просторнее, уводили по глобусу в даль неизведанную или назад, в историю государств, а также в глубь философскую людского бытия. Постигать, насыщать мозг знаниями, выкарабкиваться из тьмы неведения, а потом и других оттуда выводить — вот цель, выше и благороднее которой, по его тогдашнему разумению, не было. Естественно, такая восторженная, погруженная в литературный океан, в шелест бумажных волн душа не могла не писать стихов и даже пьес.
Естественно, главный герой пьесы Овсянникова «Осенний сон» — молодой человек, студент-идеалист, разочарованный в любви, в зоологическом подходе к смыслу оной. Само собой, что маршрут его устремлений расходится с помыслами окружающих его персонажей. На сцене, на шаткой подставке, как символ непротивления суетному злу — белый бородатый бюст Льва Толстого, позаимствованный у либерально настроенного директора реального училища и разбитый в конце третьего акта на мелкие гипсовые кусочки в вихревой момент, когда главный герой пьесы стреляется из настоящего огнестрельного оружия, позаимствованного у брата Николая — прапорщика и георгиевского кавалера, отпущенного из части в Проклов на побывку. И все-таки, несмотря на суету и некоторую корявость исполнения, несмотря на эпохальные события, подбросившие страну мощнее всякого землетрясения, пьеса Алексея Овсянникова имела успех. Автор ходил по крошечному центру Проклова, как Бонапарт по полю Аустерлица, и сладкий дым славы разъедал ему сердце.
Потом городок посетили события настолько драматически яркие, так цепко берущие зрителя, то бишь обывателя, за живое, — никакой театр в сравнение уже не шел.
Сильнее прочих памятью Алексея Алексеевича овладело одно остросюжетное происшествие той поры, связанное с потерей старшего брата.
Большая бессмысленная война завершилась, в Проклове верховодили красные, но в городе еще копошились застрявшие меж войной и революцией разные оставшиеся не у дел субъекты, в том числе не сдавшие личного оружия царские офицеры местного происхождения, стянувшиеся в последний момент с необъятных полей войны к родным очагам.
Приказом реввоенсовета бывших офицеров обязали явиться и сдать оружие. Но воспаленные головы городка молниеносно пронизал обжигающий слушок: офицеров, явившихся в крепость, где размещался ревсовет, без лишних разговоров ставят к стенке трехметровой толщины и тут же отсылают к праотцам. Никто, естественно, добровольным порядком к революционным властям не пошел. Тогда по адресам отправили колючий, пропахший порохом и махоркой вооруженный отряд, дабы, отловив золотопогонников, внушить им уважение к Революции и ее приказам.
Пришли за георгиевским кавалером и в дом Овсянниковых. Наэлектризованный убийственным слухом двадцатилетний прапорщик Николай сторожко поджидал гостей и, как только они громыхнули дверьми в прихожей, — пулей выскочил из подвального окошка в лохматые картофельные гряды, где и заструился, аки червь, в направлении леса. Тридцать лет прошло с той поры, но до Алексея за все это время ни звука не донеслось о брате, словно и не в ботву картофельную упал он, а в неоглядный море-океан сорвался.
Революционные братишки домик Овсянниковых тогда вверх дном переворачивать не захотели, так как спешили по другим адресам, к чинам более высоким, нежели какой-то прапор сопливый. Для уверенности прихватили они с собой рослого паренька в офицерской фуражке, то есть Алексея, юного драматурга, решившего малость с огнем поиграть, и вообще малого резкого, на слова кусачего. Отрядили от себя одного солдатика с ружьем, и повел тот солдатик Алешу на крепостной холм, под сводчатую, пять веков простоявшую арку ворот крепости, в домик, реквизированный властями у сбежавшего за границу служителя культа местной церкви, находившейся тут же, за крепостными стенами.
В поповском кабинете сидела за столом черноволосая стриженая женщина в кожанке — молодая и, как показалось тогда юному арестанту, красивая. Во рту толстенная папироса, глаза прищуренные — смеются. Из-под кожанки маузер в кобуре.
— Ну-с, молодой человек… Оружие, документы. Постойте, постойте… Вы кого привели? Это что — офицер? Черт побери! Ничего не понимаю! С такими успехами он к двадцати годам непременно до генерала бы дослужился. А ну, подойди ко мне, герой. Поближе, поближе. Садись. Бери руку… Ну, здравствуй. Моя фамилия Крашинская! А твоя?
— Овсянников.
Крашинская быстро пробежала глазами список.
— Овсянников Николай? Прапор?
— Так точно.
— Да ты и впрямь герой. За что Георгия отхватил? Вот только выглядишь, я бы сказала, несолидно. Не обижайся. Чего-чего, а постареть всегда успеешь. Ты вот что, прапор… Кем жить в дальнейшем собираешься?
— Учиться. На учителя…
— Чего-чего?! А я-то думала: военная косточка! Новому делу послужит… Ты родом-то кто будешь? По происхождению? Из господ?
— Еще чего! Крестьяне мы… из Овсянникова.
— Вот те на! Постой-постой, а не темнишь? Ты ли это — Овсянников? Николай?
— Я… только Алексей.
— Ясненько… Эй, Смоткин! — крикнула она за перегородку. — Ты кого мне привел? Ты ему на щеки, на щеки посмотри! Бывают такие георгиевские кавалеры? Ну вот что, Алеша-милаша, где брат? Отвечай. Иначе… — постучала Крашинская коротко остриженными ноготками по деревянной кобуре, — иначе не бывать тебе учителем. А бывать тебе… в подвале у товарища Смоткина. Под замком. Вместе с поповскими огурцами да грибочками сидеть, мариноваться… Где брат? Сбежал? Почему вместо него подсунулся?
— У нас семья большая. Есть кого брать. Братья, сестры… Не просился я к вам. Сами пришли, взяли. Жаль, нашего Леонида не застали. Вот бы его-то и заарестовали. Он бы вам по-свойски растолковал, что к чему… Как член РСДРП.
— Какой еще Леонид? — Свела пушистые брови, словно две мышки лбами стукнулись.
— Леонид Алексеевич Овсянников, льнозаводский, — подсказал, смущенно поджимая губы, тощий, с бумажно-белыми щеками Смоткин.
И сразу Крашинская к Алексею интерес потеряла, к столу отвернулась, в бумагах закопошилась, папиросищу пальцами разминать принялась.
— Ступай, Алеша, — через плечо вместе с дымом бросила. — А прапор домой вернется, передай ему, чтобы к нам явился. Потому что некуда ему деваться, как только к нам идти. Теперь — только мы. И никто больше. Не «мы Николай Вторый», а мы — Ее Величество Революция! Передашь?
— Передам… Если не забуду, — не удержался, съехидничал.
— А ты не забудь! — и так через плечо посмотрела дьявольски-огненно, что у парнишки ноги в коленках дрогнули.
И полетел, покатился, вдаль устремляясь, листочек Алешиной судьбы, движимый ветрами событий, а также удачей и негасимой в сердце, неистребимой в любом живом существе волей к жизни.
До испепеляющей, как африканский самум, разрухи, выжимавшей соки из обновляющегося государства, успел-таки Алексей закончить свое реальное училище. И сразу же включился в работу, которая ближе всего к сердцу лежала: в ликбез окунулся, целый год на деревне учительствовал, с детьми и со взрослыми крестьянами общался. Читал с ними по складам революционные лозунги, писал мелом «мама» и тут же «Маркс». Складывал непослушную для многих цифирь и недавний 1917 год рисовал на доске так жирно и крупно, так старательно рамкой его обводил и мелом после этого в доску так громко стучал, словно хотел, чтобы цифры эти никогда из памяти учеников не исчезли.
И наконец — Красная Армия, которая одела, обула, накормила, а главное, определила, на место поставила: вот ты теперь кто — солдат! Защитник молодого государства, дерзкого, не похожего ни на одно в мире. Разве не почетно, но романтично, не радостно было состоять в должности воина, армейца, боронителя всего нового, неизведанного?
В двадцатом году, возле Днепра, под Киевом, получил Алексей Алексеевич свое первое ранение и угодил в плен к петлюровцам. Шрапнельный стакан разорвался у него над головой, когда они цепью шли на занятое белополяками траншеи. Свинцовые шарики-пули обработали сразу нескольких красноармейцев; Алексею Алексеевичу мякоть ноги повыше колена разворотило, под ключицу в плечо вошло. Сверх того — по голове шлепнуло, но как-то вскользь, рикошетом. Черепная коробка уцелела. Хотя удар получился ощутимым, а в результате еще сотрясение мозга, контузия, пусть не очень жестокая, даже можно сказать сносная, однако ничком в болотной жиже до утра провалялся, инстинктивно от воды лицо отводя, чтобы не захлебнуться. Суток двое после этого жил в полубреду, как в послезапойной горячке; куда вели, туда и шагал на полусогнутых, иссиня-белый от потери крови, оглушенный и потому почти равнодушный к боли. Потом была толпа, загнанная в огромный сенной сарай возле имения, где до войны помещик держал конный завод, и все постройки, и сам воздух хозяйства все еще пахли лошадиным потом и навозом. Когда на гнилом сене очнулся, по ноздрям именно этот запах ударил, да так и остался в памяти навсегда, чтобы не единожды после возникать в мозгу: стоило к непогоде покалеченному плечу заныть — тут он и всплывал, аромат этот лошадиный, неувядаемый.
Но самой неистребимой картиной того времени, незаживающей раной памяти была одна замедленная смерть, сцапавшая хорошего, можно сказать невинного человека и на глазах беспомощного Алексея Алексеевича поглотившая его.
Еще не полностью раны затянулись, а мысль о побеге уже сверлила мозг и не давала покоя сильнее, чем зуд заживающего мяса под одеждой. Они уже месяц в сарае гнили, когда прошел слух, что не сегодня-завтра погонят вглубь, на запад, в настоящий лагерь к белополякам, где под пленных отводились крытые бараки с нарами, одеялами, печкой, а значит, и кипятком, где функционировали госпиталь, кухня, где будет работа, а значит — и жизнь. Такая перспектива прельщала, но как нечто необходимое в первый момент, как обожженному месту — дуновение. Но были среди пленных и такие, что смотрели дальше первого «дуновения». Позор плена, тоска по родине, по обливающейся кровью молодой Советской России, по своим близким, любимым — тоска…
Они ушли втроем. Старший из них Фомич — подозрительно онемевший после контузии мужик лет тридцати, мрачный, целеустремленный, скорей всего из фабричных мастеровых. Он и слышал плохо, говорить ему приходилось, бросая слова в самую раковину уха или выцарапывая их перед ним на земле палочкой, гвоздем, пальцем. Зато уж смотреть Фомич умел выразительно. Под его взглядом хотелось немедленно встать, ухватиться за Фомича как можно цепче и топать за ним хоть на край света.
У Фомича борода трехцветная росла — черная с желтыми подпалинами, осыпанная сединой, и все лицо его в эту бороду увернуто было, как в тряпку, давно не стиранную. Зато белобрысый Адам, малец совсем еще желторотый, голубоглазая деревня, откуда-то из белорусской лесной гущеры взявшийся, бороды никакой не имел: не росла, вернее, что-то там такое пробивалось, ниточки какие-то прозрачные, лица не заслоняющие, — и только. Овсянников одного с ним возраста был, но выглядел солиднее: ростом выше, голова чернявее, и речь грамотнее, хоть и псковского происхождения, а все ж таки городская, прокловская речь, близость Питера сказывалась в ней, и вообще — напор, не то что в белорусской мове вчерашнего крестьянина. И хотя Адам в сарае лошадином первым на сближение пошел, а именно — раны перевязывать Алексею взялся, бинты грязные на ладони сучил, сматывал, гной из ран, обложенных травой подорожником, удалял, несмотря на это, Алексей относился к Адаму покровительственно, и, когда однажды сухариком, зашвырнутым к дверям сарая какой-то сердобольной паненкой, с Адамом поделился, тот не то чтобы опешил — просто ужаснулся. Делиться съестным было не принято. Иголку одолжить, рану перевязать, даже вступиться за обиженного — позволительно, элементарно. А вот хлебушек кровный или варево, а также любая съедобная крупица, занесенная жизнью со стороны, энергию в организме восполняющая, дни, часы, секунды продлевающая, — считались неприкосновенными. Велико было удивление, а потом и восторг, порожденные в Адаме сухарем Алексея. И образовалась у них нерасторжимая живая цепочка в итоге: Фомич, чарующим взглядом внушивший Алексею шальную мысль о побеге, далее — Алексей, покровительственным тоном и разными грамотными словечками, а главное, своим щедро протянутым сухарем завербовавший верность Адама… Так они затем вместе и потянулись, словно косячок журавлей: впереди Фомич, сзади по бокам — Адам с Алексеем. Никого предварительно не подкупали, часового не убивали. Алексей, когда на укреплениях окопных землю лопатой шевелили, раздобыл у петлюровца за кружку свеженабранной земляники три латунные кокардочки с надписью «Воля». Петлюровский знак отличительный. И теперь перед побегом всем троим на головные уборы приспособил. За обмундировку не беспокоились, потому что воинство петлюровское во что только не одевалось. Это штабные рядились картинно, а в окопах — партизанщина сплошная. Фомич перед рассветом по нужде как бы вышел, попросился, часовой калитку в воротах приоткрыл, и тут посмотрел бессловесный Фомич озябшему сонливому самостийнику в глаза, успокоительно и долго так посмотрел, минут пять без перерыва… А потом поворотил очарованного воина лицом к стене и, взяв за руку Алексея, за которого Адам ухватился, прямиком в сторону Днепра направился.
Они уже приднепровскими болотами хлюпали по тропе едва уловимой, когда их кто-то впереди, навстречу идущий, напугал. Кинулись лесистее, в сторону сплошных зарослей, но, проскочив неширокую стенку торчащих во мху верб, опять на болото вывалились, на такое заросшее, непроходимое озерцо. И здесь Адам, щелкнув сухостоиной, сломил на бегу тощий, давно омертвевший ствол — голую жердину без сучков. И при ее помощи начал через блестящие водяные окошки перемахивать. Разбежавшись, метров пять запросто позади себя оставлял. Пока жердина его трухлявая не переломилась. Решили покрепче шест приспособить. У Фомича нож откуда-то из складок шинели появился. Срезали гибкую, стройную, достаточно прочную березку. Одну на троих. Первый перемахнет через воду, утвердится на кочке и назад приспособление возвращает. Так и передвигались через опасные участки. Да недолго скакали. Случилось непредвиденное. У Фомича с Алексеем прыжки получались натужные, неумелые: то недопрыгнут, то, недостаточно взлетев, назад падают. А ведь у каждого еще и заплечник с кое-каким барахлишком: портянки, ложка с кружкой, сухарики. Искупавшись в цвелой болотной водичке, неоднократно сушиться принимались, чтобы вновь с незатухающим упорством на восток продвигаться… Адам прыгал ловчее остальных. Он и способ-то придумал, его затея. И вот однажды в очередной раз сильно так разбежался, воткнул перед собой гибкий стволик белокожий и ввысь взлетел… До кочки, отгороженной от них водным пространством, сплошь, как скатертью, бледно-зеленой ряской покрытым, не меньше четырех метров. Сквозь рясу местами, там, куда изумрудная лягушка с листа кувшинки бултыхнется, чернеет темно-коричневая вода немеряной глубины. Взлетел Адам последний раз ввысь и на кочку посреди болотины опустился. И сразу же она, то есть кочка, под ним оседать начала, из-под ног уходить, в пучину погружаться… А ведь на ней даже деревце хилое, в осиновых листочках вертлявых, настоящее росло — кочка как кочка. Почему вниз пошла, с какой стати? Адам от растерянности в первые секунды погружения даже не пошевельнулся, только рот развел в улыбке, товарищей своих по побегу как бы утешает, подбадривает, но постепенно улыбка его широкая так же широко исказилась, глаза паническим страхом наполнились до краев, и крик — щемящий, сплюснутый какой-то, сдавленный — изо рта фонтаном ударил, брызгами звуков рассыпавшись над болотом.
Алексей сразу же в воду нацелился, мешок с плеч сковырнул и шест, за который все еще судорожно держался Адам, достать попытался. Однако безрезультатно: Адам в горячке шест к себе подтянул, за конец ухватился и так вместе с шестом в воду уходить стал, задирая противоположный конец шеста все круче и круче — вверх от воды.
— Помогите же! Сделайте что-нибудь! — рвался из цепких рук Фомича Алексей, но бородатик, молча сопя, не пускал Алексея в воду, покуда оба не опрокинулись в трясину и не отрезвели…
Белый хохолок незамокших еще Адамовых волос долго, а на самом деле мгновение какое-то торчал над салатного цвета покрывалом болота, затем, затрепетав, голова в неимоверном усилии как бы подпрыгнула над яркой поверхностью и сразу же скрылась. Не было даже никаких пузырей, потому что ряска тут же сошлась, замаскировав случившееся.
Алексей плакал и все еще вырывался из рук Фомича, а тот стоял неколебимо, только глаза отвел куда-то вниз и одновременно вкось, опустив на них веки с темными, неприступными ресницами.
И вдруг немой заговорил:
— Нель… льзя! — скользящей змейкой выскочило изо рта Фомича слово. А затем еще несколько раз: — Нель… льзя! Нельзя!
— Да почему же нельзя?! — заорал Алексей, попутно ткнув мужика головой в живот, но так и не освободившись из его рук-оков.
— П-п-позд… но! — выдавил из себя второе слово контуженый.
С этого момента Фомич изредка, но стал хоть что-то произносить. Правда, пути их с Алексеем вскоре разошлись. Алексей молчуна Фомича сторониться начал: то ли жестокости его побаивался, сатанинского взгляда из зарослей волос, то ли просто опротивел он ему сверх всякой меры, только однажды, после очередной ночевки, проснулся Фомич в одиночестве…
Смерть эта, на глазах свершившаяся, не предотвращенная, им самим как бы содеянная, тяжким камнем легла на сердце Алексея, и вмятина от этого камня осталась навсегда. Где бы с тех пор ни находился Алексей Алексеевич, в каких бы завихрениях жизненных ни крутило его, завидя чужую беду, не отворачивался, а как бы даже долгом своим постоянным за правило почитал — вступиться, ввязаться, чтобы успеть помочь, успеть должок тот неоплатный, взятый у Адама-утопленника, вернуть, и не Адаму вернуть, а всем, потому что один — это все, и все — это один. В итоге. Когда вдруг понятия и смыслы, наполняющие людские оболочки, и сами эти оболочки воедино сливаются с землей.
Потом была родина, теплые госпитали, сытная жизнь в Сибири, куда, по совету одного доброго и сведущего человека, поехал отъедаться алтайским белым хлебом пшеничным и где попутно с еще большей, чем прежде, тягой на «ниве просвещения» решил поработать. Его еще тогда поразило впечатление прочной оседлости, основательности алтайского села. Сочная, тороватая земля притягивала людей, воспитывала крестьянина в духе уважения к образу жизни землепашца, кормильца народного. Печать жизнестойкости, уверенности в правоте и смысле избранного дела лежала и на постройках — кряжистых, просторных, из могучего лиственного раската срубленных. За зиму Алексей Алексеевич окреп, округлился, порозовел. А в сельской народной школе, где он грамоте младшеньких, за неимением дипломированных учителей, обучал, оформилась и реальные контуры приняла давнишняя мечта: учиться дальше, стать настоящим педагогом, наробразовцем, просвещенцем, несущим в огромные просторы земли русской, дремучей, но столь щедро одаренной талантами и великодушием, свет знаний, истины, пробуждения.
И поехал он в Питер, недавно переименованный в Ленинград, наладился в педагогический институт поступать. Имел он тогда, вчерашний армеец, участник войны, раненый, а также происходивший из крестьян, множество различных привилегий. В институт имени Герцена зачислен был без экзаменов, с распростертыми объятиями принят. Получал несколько полновесных рублей стипендии, на которые в нэп покупал по праздникам ветчину, балык, медовые булочки и, заварив ароматного золотого чаю, приглашал к себе какого-нибудь говорливого диспутанта, с которым, не прибегая к алкогольному вспрыскиванию, можно было ночь напролет проговорить о мировой революции, о величайших просветителях мира всех времен и народов, об их книгах, социальных катехизисах, утопиях и манифестах. Институт окончил с великолепной аттестацией: в дипломе одни высшие оценки… кроме единственно заниженной — по политэкономии. Справедливо заниженной. Так как путался он в этой области, будто в лесах первозданных.
На работу Алексея Алексеевича распределили в край не столько романтический, сколько малонаселенный, а именно в Коми область. Назначению молодой учитель не сопротивлялся, так как себя уважал не меньше, чем понятие «Север». Там, на Севере, в деревянном Усть-Сысольске, Алексей Алексеевич неожиданно для себя женился. Отвергавший все личное, комнатно-кружевное, имевший на отведенной ему «жилой площади» всего лишь три больших предмета: железную койку, стол и табурет, жил он как бы в постоянном полете, устремленный вослед идее глобального преобразования Севера, вызволения его из вековой тьмы; дни проводил в местной девятилетней школе второй ступени, вечера — в Лесном техникуме, а ночи — под абажуром настольной керосиновой лампы у себя на холостяцких «квадратных метрах».
И тут в выпускном, девятом, словесник заболевает, и Алексея Алексеевича дирекция просит подменить захворавшего «шкраба». А нужно сказать, что в нового учителя, в ленинградца с высшим, уже советским, образованием многие женщины, а также девушки городка были с удовольствием влюблены. Стройный, выше среднего роста, лицо одухотворено «благородными идеями», на голове непроходимая для расчески, скульптурной глыбой поблескивающая грива черных волос, голова постоянно приподнята чуть ввысь, лоб высокий, поминутно освобождаемый от напиравших на него волос, «культурные», в роговой оправе, очки, в верхнем кармане жилета костюмной тройки — ремешок от серебряного «Павла Буре». В руках, когда он стремительно обходит огромные дождевые лужи на улицах Усть-Сысольска, массивная трость с серебряной головой Мефистофеля, пригодная в «минуты жизни трудныя» к круговой обороне, ибо нос и бородка увесистого изображения сатаны довольны остро и угрожающе выпирали навстречу врагам.
Рано утром по первому снегу приходит Алексей Алексеевич в школу, подготовленный, красноречивый, можно сказать, вдохновенный приходит, чтобы о новых веяниях современной литературы в изумленном девятом выпускном рассказать, и едва за учительский стол утверждается — необыкновенное вдруг беспокойство во всем своем молодом и красивом, ретивом организме ощущает. А внешне он тогда был, в сравнении с местными мужичками, деловыми, обыденными, — как башня, как монумент, как здание с архитектурными элементами, попирающее серый избяной ряд; и вот словно подземный толчок происходит под этим зданием, сотрясший всю элегантную «конструкцию» молодого словесника до основания, так что сам он беспорядочно, в явной панике то «Павла Буре» из кармана за ремешок выдернет, то огромный, отеческий, старорежимный еще кожаный портфель приказчичий с тремя замками перетряхивать начинает, то за очки хватается, дует на них, словно вспыхнули они ярким пламенем от раскалившихся при виде одного женского личика глаз учителя. А личико и впрямь замечательное, не сравнимое с остальными явилось ему в толпе девятого выпускного.
Лица за партами, словно камушки россыпью, хотя и не похожие друг на друга, разной окраски, нешлифованные, красивые грубой красотой, а то и вовсе неудачно содеянные природой, но все они какого-то одного пошиба, одного замеса, замысла одного, и вдруг — кристаллик! Идеальной огранки природной и насквозь, через настежь открытые светло-карие глаза, так и просматривается, до донышка. Все в этой Машеньке Степановой было замечательно, ничего лишнего в пропорциях. Невысокая, правда, даже маленькая, но вот, поди ж ты, маленькой не смотрелась. Аккуратная фигурка, ноги вылеплены ощутимые, без лишних округлостей, но и без вящей худобы. Ничто у нее не выделялось отдельно, в глаза не бросалось: ни руки, ни шея, ни размер ступни, талии… все сливалось в один изящный образ. И только светло-русая голова, несколько оттянутая назад увесистой косой, заставляла посторонний взгляд вздрогнуть, поморгать и вновь посмотреть на это ангельское лицо, да и не лицо, а как бы лик, писанный каким-то радостным, счастливым художником, позабывшим о «правде жизненной» и создавшим некий идеал…
Про себя Алексей Алексеевич сразу же назвал ее Мадонной. И первое движение его сердца — защитить, спасти! Такую слабую, ясную. Оборонить от грубой жизни!
Они поженились, и десять лет, вплоть до самой разлуки предвоенной, она обращалась к нему на «вы», оставаясь трепетной его ученицей, и, даже когда родила ему сына, воля ее, все ее помыслы, движения души по-прежнему пребывали в скованном, завороженном состоянии. Ее интеллект пробуждался, но как бы под колпаком его интеллекта. И любил ли он ее? Скорее, воспитывал, просвещал; и в «глобальных» масштабах, и у себя в семье преследовал прежде всего цель просвещенческую, миссионерскую, так сказать… Сам еще недавний крестьянский вихрастик, из лаптей в городские баретки выпрыгнувший, он и теперь, и всегда в дальнейшем с невероятным упорством будет жить подвижнически, превыше всего ставя способность человека обогащаться изнутри знаниями, проникновением в некую суть, поиском смысла. Одержимость его на этом поприще не единожды принесет ему помимо нравственного удовлетворения множество неприятностей и бед в житейском плане.
Сын у них родился уже в Ленинграде, куда незаурядного педагога перевели по ходатайству известного профессора, преподававшего в институте и оставлявшего Алексея Алексеевича еще тогда, сразу по окончании введения, в аспирантуре. Но возвратился он в Ленинград вовсе не потому, что романтический пыл в его голове на убыль пошел, нет. По молчаливой просьбе жены возвратился. По ее тоскливым взглядам в окошко, снегом залепленное, догадался о намерениях супруги-школьницы. Имя прекрасного города она, конечно, произносила вслух, но как бы невзначай, без каких-либо на него посягательств.
— А что, скажите… в Петербурге… простите, в Ленинграде, неужто пьесы в театрах показывают?
И все. Вот так спросит, как бы ни с того ни с сего. А через неделю вновь:
— Сказывают, будто в Эрмитаже самого Рафаэля матерь божия имеется?
Или:
— Неужто сам Пушкин квартиру в Ленинграде снимал?
Происходила Маша Степанова из семьи — по тогдашним, таежно-захолустным меркам — незаурядной, даже интеллигентной. Машина мама, рано сгоревшая в чахотке, — одна из первых зырянских учительниц, бережно охранявших национальные ростки, чудом не захиревшие полностью в условиях царской окраины. Она даже несколько книжек на коми языке написала, какие-то пьесы местного значения в народных театрах ставила. Так что Алексей Алексеевич, завезший в эти дремучие края свой псковско-петербургский просвещенческий порыв, попал, познакомившись с Машенькой, как бы даже в самое светлое окошко Усть-Сысольска. Отец Маши — Степанов Иван — по образованию всего лишь фельдшер, но какой! Из тех, что в глубинке порой заменяли целый набор врачей, знающих латынь, держащих в голове массу сведений и не умеющих вскрыть фурункула, не то что аппендикс удалить или, проведя по голове алкогольного истерика, нервы доброй рукой успокоить. А этот Иван Степанов мог, умел. К тому же сам он с восемнадцати лет без обеих ног оказался. Всю жизнь на протезах. По молодости малость подгулял в одной купеческой компании городка и с возвращением домой к строгой матери припозднился. Строгая мать, этакая Кабаниха тутошних размеров, на робкий стук сына в окошко ответила злым ворчанием, а на повторные сигналы «родной кровиночки» и вовсе не отвечала. Морозы в Коми области, кто их знает, пощады не дают никому. Особенно — пьяненьким. Потыркался Иван в двери, покружил вокруг дома и в дровяном сарае на березовых полешках спать примостился. В выходных блестящих сапожках хромовых. Утром, естественно, сапожки эти самые разрезать пришлось, самого Ивана в дом на руках переносить. А потом… Потом гангрена, ступни на ногах напрочь отняли. Мать Ивана еще больше насупилась, заугрюмилась, да вскоре и померла прежде времени от зла, распиравшего ее нутро, состарившись, словно этим злом отравившись.
Перебралась молодая семья Овсянниковых в Ленинград, сын у них почти сразу родился, и стала Машенька с сыном на санках в дальние рейсы по городу выезжать. Сперва робко, всего лишь вокруг дома-корабля или, как его чаще называли, дома-утюга, что на Малой Подьяческой возле Львиного мостика. Затем через Львиный мостик по каналу Грибоедова на Театральную площадь выехала, далее — к церкви Никольской в садик, под голубиную карусель возле старинной колокольни; а там и в другую сторону вылазки пошли, к самому Исаакию, к Петру, к Неве… Жила с тех пор в постоянном очаровании, ребенок чаще помалкивал, потому что кормила его грудью досыта, да и ребенок как бы тоже, заодно с матерью, с большим интересом по сторонам посматривал, впитывая открывающиеся виды вместе с материнским молоком.
За короткое время из Машеньки Степановой получилась стопроцентная ленинградка. И все потому, что стремилась навстречу городу, полюбила его страстно, как человека, вошла под его своды органично и плотно, как светлый камушек в мостовую. Она и в квартире, огромной, коммунальной, всеобщей любимицей сразу сделалась. При ней склоки поутихли; люди прихорашиваться перед выходом на кухню стали; курили только в туалете; научили юную хозяйку примусом пользоваться; когда у нее чайник закипал, с удовольствием бежали сообщить ей эту новость через длиннейший коридор квартиры, где в дальнем углу была расположена десятиметровая комната Овсянниковых. «Ничья» бабушка, проживавшая в извивах коридора, спавшая на громадном кованом деревенском сундуке и, за неимением зубов, питавшаяся исключительно тюрей, то есть моченым в кипятке хлебом с солью, сперва никак не могла привыкнуть к Машиному: «Здравствуйте, бабушка Анисья!» Она отчаянно пугалась этих слов, осеняла себя крестным знамением, но постепенно стала привыкать к приветствию, сознавать начала, что и ее замечают в этом мире; так что по прошествии некоторого времени на губах благодарной старушки нечто вроде улыбки затрепетало, а в глазах неподдельные, как родник на дне высохшего колодца, слезы появились.
Позднее, когда Овсянниковы комнату свою на большую обменяли и в связи с этим на Васильевский остров переехали, Маша и на новой квартире с соседкой, правда единственной, запросто ужилась. И не просто ужилась, а подружилась.
Не раздумывая, еще в «декретном положении», Маша тоже в Педагогический институт имени Герцена поступила. Муж ее туда отвел. За руку. Его еще помнили на факультете: незаурядная дипломная работа (образ Алеши Карамазова) наделала много шуму.
Ходить за ребенком помогала Маше Лукерья, мужнина старшая сестра, проживавшая в Ленинграде с дореволюционных питерских времен, работавшая в обувном цехе на «Скороходе» и со смены бежавшая не к себе домой, на Бронницкую, а прямиком к Маше, где хватала кулек с дитем и начинала колдовать над ним, бесконечно перепеленывая племяша и во что только его не целуя. Года не прошло, как умерла, отмучилась наконец-то тридцатилетняя Лукерьина дочь, болевшая туберкулезом позвоночника, умерла, не оставив Лукерье внучат. И вдруг — радость: племянник Павлуша! Засуетилась Лукерья, крылышки расправила, так и летает в своем небе, благо у каждого оно свое, из которых одно всеобщее, бескрайнее составляется.
Ожила от Машиных улыбок и коридорная бабушка, сундук свой, дырявой скатертью с кистями накрытый, на катафалк похожий, покидать начала и — в отсутствие Лукерьюшки — за Павлушей присматривать, а также, несмотря на строжайший Машин запрет, тюрей его своей хлебной, соленой прикармливать.
Алексей Алексеевич место преподавателя-словесника в одной из лучших школ Васильевского острова получил. Ребята попались удачные, думающие. Наиболее яркие из старшеклассников в литературный кружок объединились, общешкольные поэтические вечера Алексей Алексеевич с ними устраивал. Читали классику и свое, доморощенное. Печатали сочинения юных в стенгазете, а также в рукописном альманахе «Нюанс», переименованном вскоре в «Голос юности».
Все в этой школе складывалось для Алексея Алексеевича как нельзя лучше, если бы не одно обстоятельство: на втором году пребывания Овсянникова в школе среди преподавателей объявился некий Реутский Аркадий Павлович, бывший соученик Алексея Алексеевича по реальному училищу в Проклове, невзлюбивший Овсянникова из зависти, прочно, надолго невзлюбивший, может статься, навсегда. А началась нелюбовь Реутского еще тогда, с постановки в гортеатре пьесы Овсянникова «Осенний сон».
Семилетнее реальное училище давало среднее образование и право на поступление в институт. Обучались в нем дети прокловских «кошельков», чинуш, верхушка имущая. За одну только форму с эмблемой «РУ» на фуражке и на бляшке ремня — пятьдесят рублей требовалось внести. Словом, попасть в училище Алексею Овсянникову с его дырявыми штиблетами было весьма и весьма не просто. Помогла пьеса. Что ни говори, а в таком мизерном городке, как Проклов, постановка в городском театре спектакля по пьесе своего собственного, местного, на Старорусской улице проживающего автора — событие, и притом немалое. Но главное, постановка удалась и даже произвела, как тогда говорили, фурор. Понравилась пьеса и директору реального училища. Он сам кое-что пописывал и в губернской прессе тискал; но вот не позавидовал же постороннему автору и даже больше — солидарность некую, сочинительскую проявил: бывая на репетициях в театре, всячески поддерживал автора, бюст Льва Толстого в пользование труппе как реквизит выделил и даже, когда во время премьеры бюст тот вдребезги разбился, мнения своего о пьесе, а также об авторе ее не изменил и в реальное училище юного литератора зачислил. И на занятия в рваных штиблетах и штопаной одежде допустил.
Сытые пареньки пренебрежительно разглядывали «драматурга», хихикали над его экипировкой, но впрямую обижать директорского выдвиженца не решались. Дома кое-как наскребли Алексею двадцать пять рублей «под экипировку», на следующие двадцать пять получил он от училищного начальства отсрочку. И вдруг — Февральская революция. И штаны его многострадальные сразу как бы в цене поднялись. И никто уже на них внимания не обращал, кроме… Аркаши Реутского, у которого в женской гимназии своя пятнадцатилетняя «дама» имелась — для танцев в городском саду под оркестр духовой. И, естественно, «дама» эта, прослышав о каком-то «гении» из реального, кинулась знакомиться с Овсянниковым, а в результате еще и влюбилась в него, незамедлительно отвернувшись от Реутского. Влюбилась без всякой взаимности, потому что Алексея тогда уже захватил «огонь священный» просветительства и на этот алтарь поставил он все, в том числе и сердце свое, рано посерьезневшее, познавшее прежде любви — цель.
В реальном Алексей еще раз блеснул, написав откровенное «горячечное» сочинение на вольную тему о любви. Он взял за пример образ Катерины из «Грозы» Островского и начал страстно доказывать, что, помимо социальных причин гибели молодой женщины, помимо Кабанихи, вялого, нелюбимого мужа, всей этой среды, «темного царства», была еще нравственная причина гибели, а именно — измена мужу, падение, нарушение вековечной гармонии брака, то есть — грязь, печать бездны, судорога низменная. Она-де и разрушила, как дьявольская энергия, идущая из недр, из бездны, светлый храм Катерининой судьбы. Мысль противоречивая, вздорная, но высказана в сочинении была хлестко, выпукло. Об Овсянникове опять заговорили. Его работу прочли вслух всему классу. И в том числе Реутскому, который тогда получил жиденькую троечку, так как написал тускло и явно подделываясь под февральские веяния и меньшевистские лозунги Временного правительства, хотя вся эта новь революционная, вспоровшая вековечные льды бесправия над Россией, вовсе не была Реутскому, сыну местного льнозаводчика, так уж страстно желанной. Алексей в своей тетрадочке пытался рассуждать на темы не столь актуальные, сколь вечные. А главное — искренне рассуждал. Чем жил, то и выплескивал из себя. Реутский, наоборот, держал нос по ветру и пел с чужого голоса. Зато уж злился на Алексея неподдельно, натуральной ненавистью возгораясь. В дальнейшем пути их разошлись. И вдруг, спустя полтора десятилетия, нежданная, можно сказать, нежеланная встреча и работа под одной крышей, в одном коллективе.
К тридцати годам Реутский, со злости женившийся, на той самой гимназической «даме» и не прощавший ей мимолетного увлечения Овсянниковым, сделался невероятно солидным, крупным, величественным, на улице обращал на себя внимание прохожих, любил носить полуказенный френч с огромными накладными карманами, голову брил, на носу его поблескивало пенсне. Преподавал Реутский математику. С Алексеем Алексеевичем впервые после разлуки поздоровался вежливо, но и как бы с затаенным ужасом, вздрогнуло что-то во взгляде, скорчилось. Года три проработали мирно. У того и у другого были успехи. Но успехи Овсянникова были ярче, оригинальнее. А потом начали поступать анонимки. На имя директора школы.
Сообщались в них различные неприятные сведения из жизни преподавателя русского языка и литературы Овсянникова А. А. Близились тревожные предвоенные времена. В воздухе, как пели тогда, пахло грозой. Жизнь становилась нервной. А тут еще эти анонимки… Содержали они сведения, на первый взгляд, пустяковые, бросовые. Но ведь из мелочей, из невзрачных осколочков разноцветных картина могла сложиться. К примеру, рассказывалось, что Овсянников-де женился на своей ученице несовершеннолетней и что у него вообще нездоровая тяга к малолетним, что он и сейчас, возможно, «живет» с одной из своих учениц. Нельзя-де ему доверять работу с детьми, опасно, рискованно. И вообще, этот Овсянников отличается странностями, пишет в письмах к знакомым вместо слова «Ленинград» старорежимное «Питер», а на одном из заседаний непонятно для чего организованного им литературного кружка с упадническим названием «Нюанс» договорился до черт знает чего: будто стихи Пушкина лично ему нравятся больше, нежели стихи Маяковского; и что однажды на майской демонстрации отказывался нести транспарант, ссылаясь на внезапную болезнь малолетнего сына, которого и взял вместо транспаранта на руки. Директор школы, слывший за человека живого, неказенного, уважавший Алексея Алексеевича как незаурядного, сильного педагога, к концу рабочего дня, когда опустела учительская, вызвал Овсянникова к себе в кабинет и напрямик задал несколько вопросов.
— Вот скажите, Алексей Алексеевич… Говорят, будто вы на своей ученице того… женились?
— Женился. А что тут такого? В свое время все мы учениками или ученицами являлись.
— Нет, но… как же… на несовершеннолетней-то?
— Ну и что? Маше семнадцать было, когда я ее встретил. Не такая уж редкость подобные браки…
— И что же… вот… слово «Питер» употребляете? Вместо «Ленинград»?
Алексей Алексеевич за очки схватился, на директора и так, и этак посмотрит.
— Шутите? Или как вас понимать?
— Нет, отчего же… Употребляете «Питер»? Мне важно до истины докопаться.
— Естественно, что употребляю… По привычке, так сказать. По инерции. Ведь все мы еще недавно в Питере жили.
— М-да-а-а. И что же… вот… стихи Маяковского меньше любите, нежели пушкинские?
— Меньше. А вы что же — больше?
— А я… вот… вообще стихи не очень… Я прозой больше увлекаюсь. И что же…. На демонстрации, говорит, транспарант нести отказались?
— Ребенок у меня, Павлуша, закапризничал. Вот я его… Ах ты ж господи! Да о чем же это вы меня спрашиваете, Исидор Лукич?! Что это на вас накатило?
— А то и накатило, что анонимка на вас! И все, что в ней накарябано, с вашими ответами сходится. Подтверждаете все! А я и не знал, что вы такой…
— Какой?
— А такой… можно сказать — вздорный. Не как все, одним словом.
— И что же мне делать?
— Не знаю, не знаю… Хорошо, если эти самые вот сигналы на вас только сюда, ко мне, поступили… А если еще куда-нибудь? «Разве такой преподаватель, который на несовершеннолетних женится, может в образцовой школе работать?» — спросят меня. Подавайте заявление, Алексей Алексеевич. Все равно вам несдобровать…
Обиделся Алексей Алексеевич. Горяч был, колюч и действительно вздорен. Поругался с директором, обозвал его ничтожеством. Но, поразмыслив, заявление все-таки подал. Подписал директор заявление и от Алексея Алексеевича отвернулся: в окно стал смотреть — на приближающуюся весну.
Обиженный, раздосадованный и малость растерявшийся, даже напуганный случившимся, вернулся Алексей Алексеевич домой.
— Маша… я должен уехать. Срочно. Какой-то негодяй — скорей всего Реутский — решил меня закопать…
— Что с вами, Алексей Алексеевич? — Маша подоткнула одеяло под бока разметавшегося на постели сына, улыбавшегося во сне так явственно, словно и не спал мальчик.
— Я… я боюсь! Вот что со мной.
— Вы что-нибудь совершили? Проступок какой-нибудь?
— Не болтай чепухи!
— Тогда… тогда я… — Машенька часто заморгала ресницами, в глазах вспыхнули слезы. — Тогда я не понимаю вас. Почему вы кричите, злитесь почему? На меня?
— Прости… Но ведь мне директор русским языком сказал: «Все равно вам несдобровать!»
— Не надо кричать. Павлика разбудите…
— У меня брат белый офицер!
— Сейчас нет белых офицеров. Успокойтесь, Алексей Алексеевич.
— Какая же ты наивная, Маша. Просто не верится…
— Мне молчать?
— Машенька… Выслушай меня внимательно. Как ты посмотришь, если я к твоему отцу съезжу? Навещу старика?
— А… а как же я? Мы с Павликом?
— На лето в Проклов. К моим сестрам. Денег я вам оставлю. Осенью соберемся опять все вместе.
Нужно сказать, что ко времени отъезда Алексея Алексеевича в Сыктывкар, а именно к весне сорокового года, Машенька уже пять лет как преподавала русский язык и литературу, и не в одной с мужем школе, не под под изрядно утомившей ее опекой, а совершенно самостоятельно, и, значит, пробираться по жизни могла теперь довольно сноровисто. От прошлого остались инфантильное обращение к мужу на «вы», способность по-кошачьи сворачиваться в углу дивана калачиком, вызывать у мужа определенную дозу нежности к себе. Той беспомощной провинциальной ученицы давно уже не было. Была мать первоклассника Павлуши, способная, симпатичная учительница, на уроки которой с удовольствием приходили молодые серьезные инспектора. Она уже не мыслила себя без этого прекрасного города, без его театров, белых ночей, встреч, улыбок. Внезапный, суматошный отъезд мужа Машенька восприняла как блажь, как поразившую Алексея Алексеевича душевную болезнь, тем более что в районо, ей было известно, мужа уговаривали остаться в школе, предлагали ему несколько других мест, но он почему-то заупрямился и поспешно уехал.
Всю прошлую зиму жили в городе тревожно, зажглись в подъездах синего стекла маскировочные электролампочки, свет в квартирах по вечерам зашторивали плотной материей. На предприятиях и в школах происходили учебные воздушные и химические тревоги. Советско-финляндский конфликт многих насторожил. В городе появились раненые. Люди увидели кровь. Пока что — сквозь бинты повязок.
В Сыктывкаре, бывшем Усть-Сысольске, Алексей Алексеевич поселился у своего одинокого безногого темя, работавшего в местной системе здравоохранения. Нашлась с помощью того же тестя, Ивана Александровича Степанова, и кое-какая работенка временная для сбежавшего из Питера педагога. Как-то за чаем разговорились.
— Скажите, Алексей Алексеевич, — старательно, «культурно» произносил каждое словечко бывший фельдшер, проскрипевший по своей северной, морозной жизни на протезах, натуральный мученик, занавесивший боль свою от людей светлой, доброй улыбкой, — скажите мне, так как я есть ваш родственник и сердечно переживаю за вас… Может, вы с Машей не поладили? Почему не всей семьей прибыли? Так я ей напишу… Ибо есть я ей кто? Родитель, и меня она любит.
— На работе у меня появились неприятности. Вот я, чтобы никого не подвести, и….
— Извиняюсь, по какой статье неприятности? Ударили кого или кража, прошу прощения?
— Не городите чепухи, Иван Александрович… Какая может быть кража? Какие статьи? Добровольно я к вам приехал. Погостить, отдохнуть. Былое вспомнить. Я ведь тут жить самостоятельно начинал.
— Как же, как же. Помню, знаю. Соображаю по силе возможности. Только ведь я к чему: добровольно-то в наши края одни вербованные, а чтобы вот так отдыхать, как вы говорите, — извиняюсь, не принято.
— А я… вздорный! — вспомнил Алексей Алексеевич словечко своего директора. — Оригинал я… Не такой, как все. Может такое статься?
— Может, Алексей Алексеевич, может, дорогой… Только ведь — хлопотно. Все равно как против ветра, извиняюсь, сморкаться.
Письма Алексей Алексеевич писал Маше ежедневно. И когда они с Павликом в Проклов на лето уехали, писал в Проклов. В каждом письме был постскриптум, где посылал свои приветы дочери и внуку фельдшер. Сперва Алексей Алексеевич, словно на подпись, подсовывал тестю очередное письмо, и тот старательно ставил свою закорючку. Позднее Иван Александрович уже сам поджидал момент, когда ему приветное слово дозволено будет в письмо вставить. А в конце короткого северного лета Машин отец серьезно заболел. Никто не знал, что у него такое, стал он таять. То ли желудок, то ли поджелудочная отказали. Во всяком случае, есть он почти ничего не мог. Алексей Алексеевич ходил с местными охотниками в парму, в тайгу, добыл там какого-то зверька пушного, грызуна, сало которого зыряне целебным в таких случаях считали.
Только не помогли ни сало, ни прочие полезные рецепты в виде трав, целебных настоев из них. Умер Иван Александрович зимою. Отмучился. Гроб ему маленький, как ребенку, сделали. Потому что когда протезы с него сияли, то и оказался этот человек как дитя, то есть короче того, прежнего, к которому все привыкли…
Маша на похороны отца приехать не смогла: морозы ударили невиданные, а сын Павлуша и так беспрестанно болел, простужался, да и с занятий школьных срывать его не хотелось, как-никак во второй класс уже пошел. Оставить малыша с Лукерьей тоже не выходило: мужнина сестра на производстве, где не то что с работы уйти — опоздать на пяток минут по тем временам преступлением считалось.
Похоронил Алексей Алексеевич тестя, совсем уже собрался в Ленинград возвращаться, как вдруг повторяется ситуация десятилетней давности: в Лесном техникуме заболевает тяжело словесник, и местное руководство «христом-богом» просит Алексея Алексеевича выручить их и поработать временно. И Алексей Алексеевич соглашается. Даже как бы с облегчением, если не с радостью, соглашается. Официально попросили. Законно. Никаких, стало быть, «птичьих прав» отныне. К тому же и Ленинград возвращаться он все еще побаивался. Заглянет в себя как бы с фонариком, пошарит там по закоулкам и вдруг поймет: рано, не весь из него испуг выветрился после той анонимки.
А еще почему-то на Машеньку злился: то ли ее верность, стойкость в разлуке проверить хотел, то ли мстил ей таким образом за покорное согласие на его отъезд из семьи (другая б волчицей выла, в ногах валялась: не уезжай!).
В самом конце апреля сорок первого года возвращалась Маша с небольшой учительской вечеринки, на которые ее приглашали всегда с утроенным усердием, так как, действительно, в любой компании становилась она украшением. Город успел отшлифовать ее внешность, природный ум она постоянно тренировала чтением, театром, общением, а те провинциальные, несмываемые робость и как бы даже застенчивость — придавали ее образу необъяснимую прелесть. И вот возвращается она с вечеринки по набережной, еще достаточно светлой, так как над городом первые размывы белых ночей в небе плавают, и зацепляют ее какие-то двое, пьяненькие, естественно, и, несмотря на то что она учительница и ей уже и общем-то под тридцать (чего никогда не дашь!), пытаются ее обнять, и за руки взять, и куда-то там в темный, пропахший кошками и дровами осиновыми двор завести…
И тут ей крикнуть пришлось. Голос подать, помощи у пустынной набережной попросить. И что вы думаете? Пришла помощь. Прямо с неба свалилась, точнее — из окна второго этажа на дно двора выпрыгнула. Полосатая вся, как после выяснилось — в матросской тельняшке помощь. Курсант Фрунзенского училища. Выпускник. Тренированный, не очень высокий, но с такими надежными плечами — завтрашний морской лейтенант по имени Миша. Вот кто выпрыгнул. Вот кто алкашей прилипчивых раскидал по двору, как поленья. Вот кто, если, забегая вперед говорить, станет Машиным другом, мужем несмотря на разницу в годах (на пять лет моложе), станет судьбой — до конца, до «смертного креста», как сказал поэт. Станет, однако, не сразу, не вдруг.
Проводив ее тогда до дому, Миша запомнил адрес и незамедлительно написал ей письмо. Началась короткая переписка. Короткая, потому что Маша ее вскоре прекратила. Ей вовсе не хотелось таким образом обижать пусть добровольного, но все же изгнанника-мужа. Алексею Алексеевичу она подробно описала случившееся с ней на набережной Лейтенанта Шмидта. И получила раздраженный ответ: нечего шляться одной по вечеринкам, у нее сын, у нее муж, у нее семья, и судьба у этой семьи не такая, как у всех, можно сказать — трагическая судьба. И ее долг — свято нести верность этой семье, а не обниматься в подворотнях… Вот такой смысл, такая подоплека полученного Машенькой из Сыктывкара письма.
Михаилу она сказала твердое «нет». Виделась с ним еще только один раз, когда он лейтенантскую форму обновлял и на набережной в «поплавке» мороженым ее угостил. За три дня до войны.
Чуть раньше, в самом начале июня, отправила Машенька в Проклов на летние каникулы сына к сестре Алексея Алексеевича тетке Евфросинье. На Варшавском вокзале радостная суматоха. Полно детей. Пестрота летней одежды. Запах паровозного дыма. Неповторимо зазывные, вдаль влекущие паровозные гудки. В купе под лавку положили Павлушин чемоданчик. Нашла Мария симпатичную попутчицу-старушку, ленинградку, при своем уме, ехавшую на одну остановку дальше Проклова. Упросила ее за мальчиком присмотреть и в Проклове на руки встречающей Евфросинье сдать. Долго бежала вдоль перрона за покатившимся составом, размахивала сумочкой, из которой сыпались документы, и которые, догоняя ее, собирал какой-то сердобольный старичок. Светлый одуванчик ее волос так и остался в памяти Павлуши на все четыре года его «дачной» эпопеи.
На этих страницах мы не станем рассказывать о Павлушиных скитаниях во время войны. Это отдельная повесть. А в двух словах поясню. От начала войны до взятия Пскова, а через день и Проклова время промелькнуло незаметно. Люди находились как бы в шоковом состоянии, ошеломленные ожидаемой войной. Вот именно — ожидаемой, и тем не менее — ошеломленные. Это как финал жизненный: все знают, что он наступит неминуемо, и все-таки все неизменно ощущают потрясение, ошеломление от его прихода.
Маша успела «протиснуть» в образовавшуюся щель между фронтом и железной дорогой, по которой последние пассажирские поезда, почтовые, уходили, тревожную открыточку в Проклов, где и просила слезно Евфросинью сына при себе держать и в Ленинград ни при каких обстоятельствах не отправлять. Дорогу уже бомбили. И вообще, ситуация менялась на глазах с каждым часом, с каждой новой минутой. Так и остался Павлик в Проклове, в том самом Проклове, где его романтический родитель в свое время поставил «декадентскую», призывающую к уходу от жестокой действительности пьесу в городском театре. К уходу — в себя.
Евфросинья во время оккупации умерла, — после того как единственный взрослый сын ее, прибившийся к партизанам, был публично казнен на городской площади: его повесили на столбе возле сгоревшего универмага. Муж Евфросиньи умер до войны, случайно приняв внутрь ядовитую жидкость вместо водки, словно предчувствовал, какие страшные времена к его тихому Проклову подступают.
И остался Павлик один. А было ему тогда одиннадцать лет. И главной его заботой, постоянной — с утра раннего и до наступления ночи, — стала забота прожить, выжить, устоять. Помоечная корка хлеба, картошина в чужой борозде, холодная постель в опустевшем доме, а потом и бездомье, когда вместе с фронтом ближе к Германии, в Прибалтику, откатился. Не все потерявшиеся, попавшие на положение бродяг дети во время войны хватали винтовку или трофейный автомат и сразу же вливались в ряды партизан или регулярной Красной Армии. В большинстве своем оставались они детьми, напуганными, беспомощными, сжавшимися в комок, и только со временем, постепенно привыкали и к голоду, и к выстрелам, и к крови, и к смерти, что шныряла возле них, задевая своим холодком. О детях на войне, о детях войны, предоставленных, так сказать, самим себе, еще не написано должным образом. Да и кто напишет? Только сам побывавший в их шкуре и сохранившим способность не только хмурить брови, но и улыбаться. Сохранивший себя.
Алексей Алексеевич с началом войны поспешно вернулся в Ленинград. С воинского учета в Ленинграде он не снимался, только отметился, уезжая. Повестка из военного комиссариата ожидала его на Машином трюмо, возле флакончиков с духами и коробочек с пудрой.
В свое время уволенный из армии по ранению, специальности военной не имевший, званий также, попал Алексей Алексеевич в рядовые пехотинцы. Носил на ремне тяжелую винтовку образца 1893 года. И вскоре под Лугой, где Красная Армия неистовое сопротивление немцам оказала, наскочил на гранатный разрыв во время очередной вылазки из траншеи и, взмахнув руками и, кстати, винтовки своей тяжелой из рук так и не выпустив, откинулся назад, плашмя влип в отяжелевший, плотный от ночного дождя, местами взрыхленный снарядами песок Лужской возвышенности.
Полуослепший и кровью истекший, подобран был немцами и в лагерь, находящийся под открытым небом (долина, колючей проволокой обнесенная), помещен. Опыт предыдущего плена времен гражданской войны, а также, несмотря на гибельные условия, человеческое участие помогли Алексею Алексеевичу выйти из этой Долины смерти, как ее окрестили впоследствии, живым.
Первые, прифронтовые, еще «нестрогие» лагеря с военнопленными охранялись немцами не слишком усердно. Конечно, если заметят с вышки, что ты в сторону от лагеря пополз или, пригнувшись, побежал — непременно пристрелят. Хотя километрами по следу за одним беглецом тогда еще не ходили. Это уже потом, в стационарных лагерях железный порядок соблюдался. «Орднунг» знаменитый, когда все четко, по распорядку: пища, сон, баня, крематорий, экзекуции, акции… Все четко, без отступлений ни на йоту. А в первые дни несколько иначе все происходило. И в лагерь, то есть в обнесенное проволокой поле, детям или женщинам тогда можно было кусок хлеба за «колючку» перекинуть или табачку кисет, а то и бутылку молока просунуть. И даже поговорить несколько минут с ближайшими к проволоке пленными удавалось. Выезжали с территории лагеря за ворота несколько бочек на телегах. Бочка за водой, да еще отхожая бочка золотаря, «параша». Лошадками управляли пленные. Водяную бочку немец сопровождал, а зловонную бочку не сопровождал никто.
И не удержали ни пьеса романтическая об уходе «в себя», ни очки, спасавшие от близорукости и делавшие лицо интеллигентным, ни вся восторженная, нестандартная натура: со всем интеллектуальным багажом, нажитым в городе на Неве, пришлось Алексею Алексеевичу в бочку, наполовину заполненную, полезть и сквозь дырку в картофельном мешке, которым возница отверстие накрывал, дышать жадно, дабы не задохнуться. Этим способом тогда из лагеря не один только Алексей Алексеевич наружу выбрался. Возницу внешне никак нельзя было назвать симпатичным малым. Лицо клином, остриги вниз, напоминавшее корнеплод с тоненькими корешками-волосинками на подбородке. Нос огромный, висячий, унылый. И фамилия у возчика удлиненная была, запоминающаяся: Воздвиженский.
Алексей Алексеевич, не вылезая из шинели, дабы не расстаться с ней навсегда, в самое пекло предобеденное лежал на земле, покрытой жалкими остатками вытоптанной и выщипанной травы, и с печальным и в то же время ироническим, «философским» видом рассматривал оправу своих бывших очков, погибших тогда, при взрыве гранаты. Бесполезную теперь оправу успел он тогда машинально засунуть в карман шинели. И вот рассматривал… Над ним остановился высоченный дядька. Печальный и… дурно пахнущий. Даже здесь, в лагере, в мешке, набитом людьми, а значит, и всем их разнообразным содержимым: словечками, запахами, движениями, побуждениями, поступками, взглядами и т. д., даже здесь дядьку этого открыто сторонились, не все, конечно, и не сразу, но стоило кому-то носом потянуть, как становилось ясно: золотарь! И отворачивались, и держались от него по возможности дальше. А бывший учитель не отвернулся. В плену, в условиях диких, поганых, убийственных, он вообще сделался к людям внимательней, участливей, снисходительней. На память та, далекая, в приднепровских болотах происшедшая Адамова гибель являлась. Душа, глядя на страдания людей, теплела, размягчалась, не давая сердцу щетиной себялюбия обрастать. С Воздвиженским они нельзя сказать чтобы подружились, нет. Да и дружить во временном летнем лагере было некогда. Но жест участия к себе в глазах Алексея Алексеевича Воздвиженский успел уловить. И благодарностью, видимо, проникся. А затем и «бочковой» план побега предложил. А в итоге — к самому лесу в кустарник ольховый вывез, где и оставил. Днем Алексей Алексеевич гимнастерку и галифе в речке отмачивал (шинель пришлось выбросить вовсе), а ночами по болотам к Ленинграду пробирался.
Дома, у себя на Васильевском, был он всего одни сутки. Успел в баню сходить — угол Большого и Девятой линии. Парился с невероятным остервенением, но запах, казалось, уже никогда от него не отвяжется. К жене близко не подходил. Потом куда надо явился. Взяли, проверили. Все сошлось. И — снова на фронт. И так до победного дня.
В блокаду Маша не эвакуировалась. Зимой, когда уже умирала медленно, когда впервые на улицу за пайком не вышла из квартиры и когда к ней вечером под одеяло соседка Женя залезла, пытаясь Машу своим рабочим, более «калорийным» (на Балтийском заводе работала) телом согреть, в дверь квартиры сперва робко, затем все настойчивее и настойчивее принялся кто-то стучать, затем дергалку с колокольчиком на проволоке дергать. Как же не хотелось вылезать из-под одеяла, но пошла-таки Женя на кухню, потому что не просто звонили, а как бы даже слезно умоляли открыть — минут десять, не меньше, тишину будоражили.
Так в Машиной жизни вторично появился Миша. Михаил Данилович, морской офицер, появился, чтобы спасти, отогреть, накормить и в дальнейшем уже глаз с нее не спускать. Когда очухалась и на ноги встала, пристроил он Машу в какую-то часть воинскую санитаркой. Курсы она затем медсестринские окончила. В госпитале работала. Затем этот госпиталь в глубь страны эвакуировался. И попал туда раненый Михаил Данилович. Без правой ноги и с незаживающей дыркой в легких. И остались они в этом городе возле госпиталя жить. И война уже кончилась, а Маша от Михаила Даниловича ни на шаг не отходила. Кашлял он кровью — баночку ему подставляла. И не могла она уже к Алексею Алексеевичу вернуться: любовь новая — вернее, настоящая, подлинная — не позволяла. В Ленинград она письма Лукерье писала, о сыне спрашивала, но сведений о мальчике не было.
Алексею Алексеевичу отважно в письме, которое он после войны на кухонном столе в квартире обнаружил, все объяснила. Устоял учитель. Спасибо жизни: закалила. И тут же, давая выход из положения, второе письмо Алексею Алексеевичу подбросила. Рядом на кухонной клеенке лежало. От младшей сестры Татьяны.
Устал Алексей Алексеевич к тому времени смертно, хоть пластом в землю ложись и не поднимайся — это уж так оно и было, без притворств. А в Кинешме в это самое время эвакуированная младшая сестра Алексея Алексеевича учительницей работала. Вот она-то и заманила братца письмом в глушь заволжскую. Подыскали Алексею Алексеевичу в районо спокойную школу сельскую, где учительница на пенсию вышла, и туда, в деревню Жилино, определили. А у самого учителя дополнительная, затем в главную переросшая, цель в жизни появилась: нашелся Павлик, сын утраченный в заварухе военной, и требовалось теперь к жизни его приручать, на ноги ставить, и что самое трудное — без матери родной все это проделывать, чтобы к обучению в школе мальчишку подготовить, суровой отцовской рукой к раскрытому учебнику голову его непослушную, беспризорную пригнуть. Маше в своем к ней первом и последнем послевоенном письме Алексей Алексеевич так и написал:
«Сына я тебе не отдам. По крайней мере сейчас, когда ему твердая рука и любящее сердце необходимы. У тебя этих „инструментов“ никогда не было. Так что предоставь его мне. И убедительно прошу: не открывайся ему пока. Не баламуть в нем чувства сыновние. Никуда они не денутся, при нем и останутся. А сбить с пути правильного не так уж и трудно. Особенно матери, которая далеко и на которую взглянуть ему непременно захочется».
Разузнав, в какой именно колонии находится его сын, отец списался с начальством этого заведения, выяснил, за что изолирован сын и сколько ему осталось «перевоспитываться». Прожив зиму в постоянной тревоге за сына и не получив от мальчика ни единого ответа на свои к нему письма, отец было собрался уже ехать к нему, когда Павел неожиданно сам пожаловал к отцу, из этой самой колонии убежав.
Глава третья. Евдокия
На следующий день в Жилино на экзамены приехал пожилой инспектор районо. На пару с молодой учительницей Евдокией Гавриловной.
«Это как же ее зовут, если по-ребячьи? Дунькой, что ли? — соображал Павлуша. — Тоже мне имечко…»
Приезжие горожане в дороге устали. Еще засветло отец постелил инспектору в классе на раскладном топчане. Девушке предложили дальнюю отцовскую комнатушку. Накормили их винегретом, чаем напоили. И предоставили самим себе. Учитель перед инспектором не расстилался, не заискивал. И прежде нелюдимый, теперь в Жилине Алексей Алексеевич несколько даже одичал. Когда под окнами школы появился Сережа Груздев и начал зазывно посвистывать в ожидании обещанного похода к топографической вышке, учитель, томясь предстоящим общением с незнакомыми людьми, махнул рукой на традиции гостеприимства и, не долго думая, сбежал из дому, присоединясь к мальчикам, направлявшимся к жилинскому маяку.
Деревня Жилино застраивалась не сразу и весьма беспорядочно. Не было непременной главной улицы. Избы лепились не одна возле другой, а совершенно бездумным рисунком, словно кто-то сыпанул домишки щепотью с неба.
Как большинство заволжских лесных деревенек, Жилино пошло от укромного, потаенного хуторка. Пробирался некогда мужичок с топором в глушь трескучую, медвежью. Выбирал поляну помягче, поласковей для взора и заступа, да чтобы ручей сбоку напевный, прозрачный, трава чтобы сочная, а каменюк поменьше; плевал мужичок на ладонь свою шершавую, лепешистую, и сплеча расчищал себе, отвоевывал от леса необходимое жизненное пространство. Ставил сруб на высоком месте, запахивал, рыхлил целину, уповая на бога и на гнедую кобылку. И струился зимой над окостеневшим лесом живой дымок жилья. И жили, перемогали судьбу люди русские. Семья увеличивалась, разветвлялась. К изначальному домишке на некотором расстоянии пристраивался следующий, не вплотную, а как сердцу любо. И глядишь: еще дымок в небо. Еще одного поколения знак. А в итоге — Жилино… Российская деревня, где сеяли лен, ржицу, сажали картошку, пасли коров, ездили по праздникам к Волге в Кинешму или Кострому. Варили брагу, справляли престольный праздник Девяту, дрались с соседней Гусихой или Латышами — деревней, что выросла из хутора, основателем которого был предприимчивый прибалт.
Еще раньше, когда в лесной глухомани не только хуторов — следа от ноги человеческой не встречалось, жила по берегам спокойных низменных болотных речушек так называемая меря, племя людей тихое, лесное, северное. Тощенькая река Мера, впадающая в Волгу чуть выше и напротив Кинешмы, — не она ли своим названием напоминает нам и поныне об этом растворившемся в славянском потоке племенном ручейке?
Обогнув Жилино тропой, струящейся вдоль закрайка леса, отец с Павлушей и Сережей Груздевым вышли за спину деревни, именно там, ближе к дальней стене леса, где на поле намечался некий бугор, естественный волдырь, там, на этой выпуклой точке, поставили некогда топографы свой величественный знак, вышку высоченную, в пять этажей, связанную из пахучих стволов стройной, чащобной ели — в основании могучие, едва обхватные бревна, а чем выше, тем тоньше, облегченней. Была эта вышка для деревенских ребят самым любимым аттракционом, так как ни реки поблизости (Мера в пяти километрах), ни озера, ни дороги шоссейной, шумной, — ничего этого близко в помине не было. Вышка да гудок фабричный, протяжный, из-за леса приплывающий в определенное время: утром, в обед и вечером. Там, в лесу, где-то километрах в двадцати от Жилина, пряталась старинная бумажная фабрика, чуть ли не с петровских времен посылавшая свой гудок в деревенское поднебесье; по гудочку тому сверяли время на часах-ходиках, подтягивали гири на цепочках, а кто и вовсе благодаря гудку без часов обходился; и не было случая, когда бы фабричка обманула ожидания жителей и не подала бы своего голоса, разве что в революцию: тогда однажды гудок полчаса непрерывно гудел, и люди в округе даже насторожились. Но затем все опять наладилось, и гудок возникал с прежней размеренностью и постоянством.
Большие, долгие снега и дожди за двадцать лет, что простояла вышка, сделали свое коварное дело: подточили, изгрызли бревна, проели вдоль щелей смолистую плоть, раструхлявили, размочалили звонкое сооружение, и родители в деревне все чаще постебывали ребятишек, приговаривая: «Не ходи на вышку! Не ходи на вышку!» Бабы не раз подбивали председателя спилить «заразу», но как спилишь такое, если дров во дворе нарезать и то полгода собираешься; да и не принадлежала вышка деревне, другой у нее хозяин был, неопределенный, городской.
И стоял дерзкий маяк, скрипел, стенал на ветру его скелет, а в непогоду раскачивался, как пьяный, и только богу известно было, когда пробьет последний час и вся эта «спичечная» конструкция, в очередной раз качнувшись, завалится набок, чтобы уж никогда больше не подняться.
Забирались на вышку сегодня в определенном порядке: первым шел Павлуша, торопился, почти бежал вверх, упоенный азартом лидера, далее Сережка, замыкал подъем отец. На первой площадке Алексей Алексеевич приказал Груздеву выше не лезть, а дожидаться там возвращения остальных верхолазов.
На втором этаже отец окликнул сына:
— Павлуша! Обожди меня!
Но и на третьем ярусе, там, где уже ветер посвистывал и ощутимо раскачивал сквозное сооружение, отец сына не застал. Пришлось карабкаться выше. Руки как бы само собой судорожно и хватко цеплялись за расшатанные перекладины лестницы.
— Павлуша! Немедленно остановись!
А Павлуша тем временем головой поднимал тяжелую крышку люка, пролезая в простор небесный на самой вершине маяка.
Сине-зеленые волны леса на все четыре стороны убегали от жилинского поля-островка; внизу сереньким стадом паслись понурые избушки деревни. Где-то на краю обзора, за сизой ширью леса, у самого горизонта, едва различимая, торчала белая колоколенка, без креста, словно бакен, потушенный на воде. С бьющимся сердцем жадно смотрел на открывшееся взору пространство Павлуша. Вышка ощутимо раскачивалась. Ветер напирал равномерно, настойчиво, без тех взбалмошных порывов, что отмечаем мы на земле, в ее извивах. И тем не менее качание этого огромного маятника пугало. И высота пугала. И ветхость чистой серой древесины ограждающих площадку перил, омытых тысячами дождей и снегов, пугала тоже…
Из отверстия люка высунулось красное, натужное лицо отца. Лицо упрекающе… улыбалось!
— Павлуша, ты разве меня… не слышал? Я кричал…
— Нет, не слышал. Здесь ветер. А чего ты кричал? Тебе что — страшно, да? Испугался?
— Я хотел вместе…
Встали рядом, плечом к плечу. Отец попытался обнять сына, однако мгновенно почуял, как тот весь сжался, спекся в комок; тогда отец отстранился от мальчика.
— Видишь, церквушка на горизонте. Это Козьмодемьямское. А во-он там Волга. Синее за лесом пространство… Россия. Наша с тобой родина.
— Это не Россия, это лес. — Павлуша залихватски сплюнул вниз. Отец вздрогнул. Насторожился.
— Павлуша… Я говорю — там наша страна… Родина. Понимаешь?
— Понимаю. Что у меня — мозги, что ли, через нос вытекли?
— А… плюешься тогда зачем?
Павлуша, как бы удивляясь вопросу, обернулся. Посмотрел отцу в глаза, как бы недоумевая. И вдруг улыбнулся тепло, виновато, отрывисто.
— Я и в Неву любил плевать. С моста Лейтенанта Шмидта. Плюну и считаю, за сколько секунд…
— Ты ведь уже большой, Павлуша. Повидал на свете всякого. И ни к чему вовсе такому серьезному пареньку плеваться куда попало. Некрасиво. И как-то неестественно. Пойми и не обижайся на меня.
— Ладно. Больше не буду. Смотри, смотри! Вон, вон кто-то чешет к нам через поле! Тетка какая-то…
И тут ниже, где-то под полом площадки, послышалось жалобное поскуливание. И поскребывание в опущенную крышку люка. Будто собачка домой просилась.
Павлуша с отцом переглянулись.
— Сережка! — уверенно определил младший. — Крышку ему не поднять.
— Ах ты ж, господи! Я же ему запретил!
Отец осторожно потянул на себя тяжелую створку. Прямо на него снизу вверх смотрели заплаканные Сережкины глазята. Лицо бумажной серой белизны. Болезненное. Худенькие, казалось, ломкие, хрупкие пальцы, побледнев в суставах, мертвой хваткой держались за предпоследнюю ступеньку. Под тощим, как бы отсутствующим животом паренька — перекладина еще одной ступени; под босыми ногами ребенка (пятка в зеленом навозе) — третья ступенька, которой он касался так неуверенно, будто стоял на цыпочках.
— Сережа, мальчик… А ну-ка давай поздороваемся! Живо! Протяни-ка мне руку! — улыбнулся Алексей Алексеевич.
— Ни-и-и… Не-е-е… — заскулил жалобно ребятенок. Его нижняя челюсть вдруг мелко-мелко задрожала, словно по ней ток пропустили.
— Не бойся, миленький. Одной рукой держись, а другую протягивай. Я тебя вытащу. Я же сильный. Или не веришь? У Павлуши можешь спросить.
— Сва-а-лю-юсь…
Сережу Груздева сковал страх. Мышцы свело. Пришлось незамедлительно применить ту самую, отцовскую, силу. Алексей Алексеевич свесился в люк.
— Держи меня, Павлуша, за ноги. Подстраховывай… — Учитель сказал это больше из соображений дипломатических, нежели из предосторожности (пусть Павлик знает, что большой, взрослый отец с ним на равных и что он доверяет сыну в такой тревожный момент). И Павлушка как можно крепче приналег на отцовские икры.
Оторвать от широкой, как полено, ступеньки Сережины ладони было делом нетрудным. Правда, мальчик тут же заверещал изо всех сил. Не дав ему опомниться, цепко и ловко отец втянул невесомое тело на площадку маяка.
— Вот и хорошо, вот и чудесно, — приговаривал учитель. — А ты боялся, глупый. Смотри, как здесь прекрасно! Будто на самолете летим!
Сережа не переставая всхлипывал. Теперь он обеими руками ухватился за край полинявшей, застиранной гимнастерки учителя, как за маткин подол.
— Нравится тебе тут? — Алексей Алексеевич погладил стриженую, золотыми волосиками утыканную голову парнишки.
Сережа с сомнением кивнул, соглашаясь, что-де нравится, как вдруг быстро-быстро повел головенкой из стороны в сторону, отказываясь, отрекаясь от опрометчивого кивка.
— Не нравится, стало быть… А зачем тогда полез? Я же тебе на первой площадке оставаться приказал!
— Одному-то не хотца…
— А говорил — летчиком буду! — передразнил Сережку Павлуша. — Какой из тебя летчик! Штаны перепачкаешь, если тебя с парашютом на землю кинуть!
— С парашютом не перепа-а-ачкаю! Сам пере-е-епач-каешь! Я ви-ить забралси-и… Мне люк не вздыну-у-уть бы-ыло!
— Молодец, Сережа! Не каждый мальчик сюда заберется. Будешь ты летчиком. Подрастешь, окрепнешь. Мясо на костях нарастет, мускулы. В летчиках знаешь как кормят! Масло, белый хлеб, колбаса. Да, да! И — полетишь. Потому что ты смелый. Упрямый, точнее — волевой: сила воли у тебя завидная.
— А в летчики ма-а-аленьких берут?
— А ты подрастешь, погоди.
— А ну как не подрасту! У нас низенькие все. И мама, и Оля, бабушка тоже… Вот только папаня, не знаю, какого росту был. Не вспомню никак. Мама говорит — высокий, выше ее. Может, и я такой-то — повыше сделаюсь?
— Непременно сделаешься! Если витамины употреблять будешь.
— Какие?
— Шиповник, морковку. Смородину черную, щавель, травка такая, кислица… Любишь кислицу?
— От нее слюни текут.
— А ты их глотай, глотай. Витамины внутри должны находиться. Ну а теперь вниз будем спускаться. Потихоньку… Я первый. Вы — за мной. — Отец поставил сапог на первую перекладину.
— Б-боюсь… — выдохнул Сережа.
Тогда отец решительно расстегнул широкий армейский ремень с меднозвездной пряжкой и двумя рядами дырочек на толстой коже. Привлек, приподнял Сережку, захлестнул и себя и его тем ремнем потуже. Мальчик удивленно смотрел в синие стекла очков учителя. Он заметно присмирел, из объятий ременных не вырывался.
— Обхвати меня, Сережа, за шею. Не очень сильно. Да смотри, очки мне не сбей. И — полезли. Чего уж ты так расстроился?
Спускались медленно. Очень медленно. Отец ставил ноги продуманно: каждую с прощупом ступеньки. Сережка висел у него на животе, как кенгуренок. Приходилось несколько отстраняться от лестницы, сверх меры напрягаться, и после первого пролета, на четвертом этаже, отец почувствовал, что взмок.
Однако спустились в конце концов благополучно. Земля под ногами учителя раскачивалась, как та самая верхняя площадка, на которой они хлебнули, помимо страха, — ощущение полета, оторванности от земли и как бы приобщились к вселенским бескрайним просторам.
На зеленой земле, в трилистниках низкорослого, еще молодого бледно-зеленого клевера встретила их веселая несерьезная девушка, стриженная коротко, одетая ярко, даже как бы шаловливо, вся в каких-то бантиках, поясочках. Улыбка озорно выскальзывала из ее губ и тут же таяла, гасла, исчезала. Темные, но не как ночь, а скорее как сумерки, глаза ее смотрели настороженно, все время чему-то как бы удивляясь, и, когда на губах девушки вспыхивала улыбка, из сумеречных глаза ее превращались в рассветные. Но только на миг. Девушка вышла к подножию маяка — оранжевая из зеленого — в огненного цвета, лохматом, каком-то кудрявом платье по тропе, струящейся, как пробор, в шелковистой гриве молодой озимой ржи. И вдруг села прямо на землю, на веселые трилистники клевера, усыпавшие пространство под вышкой.
— Алексей Алексеевич, а я к вам. Как Магомет к горе… То есть — к вышке. Оставили меня в школе одну.
— Не одну, а с…
— С Арцыбашевым. Хуже, чем одну. Он не разговаривает, а всего лишь кашляет. Курит и кашляет. Агрегат какой-то, не человек. Его бы в сонное царство инспектором: всех бы разбудил мигом! А меня вы не помните? Однажды на совещании в Кинешме после вашего выступления подошла я к вам и сказала что-то… Кажется, «браво» сказала. Вы красиво тогда говорили. О русском языке, литературе… Я еще подумала — небось в артисты метил, да не удалось. И главное — без бумажки говорили. Бесстрашно.
Словно искры незримые, вспыхивали на губах девушки одна за другой сразу несколько улыбок. И тут же гасли без следа. Словно одна за другую прятались.
«Надо же, — запоздало засуетился мозг учителя, — такую живую девушку и не разглядел. Ни тогда, в Кинешме, ни теперь, в школе, когда знакомились. А все — зрение. Очки синие, мир затмевающие. В помещении сумрачно, а лицо ее платком замаскировано. Подумалось: вот приехала небось активисточка, сухарик неразмоченный. Будет теперь скрипеть на казенном наречии. С инспектором Арцыбашевым в угрюмстве соревноваться…»
— А мы вот, — развел руками Алексей Алексеевич, после того как отстегнул от себя Сережу Груздева, — восхождение совершили. Нам тут в трущобах лесных тесновато. И потому хочется иногда голову наружу высунуть.
Отец стоял ненарядный, в тусклой гимнастерке, в дешевых полушерстяных брюках в полоску, заправленных в армейские кирзачи. Вообще-то костюмишко, кинешемский, для выхода в люди он себе сообразил кое-как. Имелся у него таковой и сейчас в платяном шкафу, рядом с плащом прорезиненным, то есть макинтошем, висел. Тогда, в послевоенное время, большинство мужчин еще донашивало свою фронтовую одежду: кителя, бушлаты, ватники, шинелки и главный оплот мужского торса — защитные гимнастерки. И уж ежели имелись в человеке красота, представительность или там просто черты яркие, незаурядные, то и проступали они в таком одеянии как бы в натуральном виде, незамутненные, не подкрашенные галстуками, костюмными отворотами и пуговицами.
У отца, отметил про себя Павлуша, оказывается, был высокий просторный лоб, но не за счет залысин, а сам по себе — просторный. Волосы еще добротные, темные, начинающие искриться сединой по вискам; морщины только у глаз, и те веселые, озорно выбегающие из-под очков.
— Вы, конечно, не здешний. Не окаете. У нас тут все больше сивенькие, серенькие… А вы просто аристократ. Это правда, что вы из Ленинграда?
— Я псковский, деревенский. А в Ленинграде учился. Всего лишь. Вот, — указал он на Павлушу, — ленинградец: сын мой, Павлуша. На Васильевском острове родился.
Евдокия повернулась лицом к Павлу и внимательно стала рассматривать мальчика. Даже голову чуть набок склонила.
Павел, чтобы защититься от яркой, но молчащей глубины ее глаз, неожиданно встал на руки и так прошел несколько шагов — вниз головой по шелковистому клеверу. На ноги опустился в сантиметре от Евдокии.
— Павлуша у нас… угловат, резковат. Озадачить может. Но ведь добрый. Я-то знаю.
Павел губы поджал, носом дернул. От Евдокии отвернулся.
— Рассматривают… как в зоопарке!
— Рассматриваю, потому что интересно. Может, я ленинградцев и не видела никогда. Разреши потрогать? — протянула она руку к голове Павлуши.
— Ты что?! Чокнулась? — отпрянул мальчик.
— Господи… жалко! Подумаешь, и поиграть с ним нельзя. — И вдруг бегом побежала к лестнице и довольно сноровисто ступенек на десять одним махом ввысь взлетела. Платье ее лохматое огромным маковым цветком распушилось вокруг белых ног. Мужчины глаза моментально отвели, головы опустили.
А Евдокия уже на первой площадке.
— Ну, кто меня догонит? Эй, мужички! Проснитесь! Тому, кто первый догонит, дарю настоящий — не воздушный — поцелуй!
Сорвался с места и мигом взлетел, поравнявшись с Евдокией возле второй площадки, Павлуша. Остальные мужчины от соревнования отказались по разным причинам. Сережа от недавнего перепуга еще не оправился, а Павлушин отец в мальчишку играть постеснялся… Павлуша, поравнявшись с Евдокией, ощутил на своей щеке ее чистое дыхание. И тут же на белой необветренной коже две коричневые пушистые родинки разглядел: одна возле самой переносицы, другая на подбородке. И еще — веснушек несколько, штук пять-шесть. Не то что у Капы, которая полы в школе мыла. У той этих веснушек по лицу, как буковок на газетной странице…
А дальше вот что получилось. Отшатнулся Павлуша от девушки и, чтобы не упасть, обхватил ее вместе с жердиной лестничной.
«Сейчас завизжит!» — подумалось Павлуше. И ничего подобного. Спокойно, деловито высвободилась, чмокнула Павлушу в висок и вниз проворно заскользила. «Не растерялась, — отметил он про себя. — И должок поцелуйный уплатила, не сморщилась».
Когда на землю спустились, Павлушу как бы забыла вовсе, на отца переключилась.
— Вообще-то я строгая. И непонятно, отчего разошлась? Что это на меня нашло? Это, наверно, про таких, как я, в деревне «порченая» говорят.
— Как вы можете знать, что о вас в деревне говорят?
— Догадываюсь. Городок у нас маленький, низенький весь, тихонькой… Одним словом — деревенский городок. Без трамваев. И церковка позванивает. Улица улицу наизусть знает.
— По большим городам тоскуете?
— Нет… По большой любви.
— Небось читаете много? Сверх программы?
— Мало. Хорошего мало читаю. Потому что — остерегаюсь великих произведений. От них я заболеваю. Нет, я серьезно! После «Анны Карениной» температура за тридцать девять поднялась. На улице на столбы натыкалась и шоферов пугала. Во сне под поезда бросалась. Еле очухалась… Это еще в студенческие времена. А тут недавно про Настасью Филипповну, «Идиота» прочитала, В школе-то я его только лизнула. А тут — целиком. И едва умом не повредилась. Еще пуще меня тряхнуло. Температура сорок. Вот ей-богу! Одним словом, вредно мне такие книги читать. Чего-нибудь попроще, пожиже надобно… А спросили-то почему о книжечках? Необразованной показалась? На букву «о» нажимаю? У нас тут, над Волгой, манера такая — окать. Я ведь прежде считала, что вся Россия так-то разговаривает. Пока один грамотей не просветил: в больших-де городах люди акают. А ежели кто окает — непременно деревня…
Алексей Алексеевич очки снял, протирать их платком вознамерился, засуетился. Похоже, интересно ему сделалось — разговаривать так с девушкой молодой, игривой, но явно неглупой.
— Я не потому о книжечках, что экзамен вам делаю, наличие в вас эрудиции измеряю, нет! Вы так забавно, так откровенно о своей мечте главной выразились, когда о большой любви поведали… Вот мне и показалось, что не свое это у вас. Извините за откровенность.
— Вы так считаете?
— И про чтение — комично. С температурой!
— Не верите? Притворяюсь? Да? Могу побожиться!
— Вот те на! Верю, конечно. А Евдокия… это что же — Дуня, выходит?
— В институте я себя Диной просила всех называть. А так, пожалуйста, и Дуней можно. В глуши-то здешней. И не скучно вам тут?
— Скорее печально. Грустно. А скучать некогда. И потом, я здесь отдыхаю.
— От чего?
— От прошлой жизни. От войны, крови…
— Вы ранены были? А жена у вас… живая?
— Жены у меня нету, Дуня-Дина.
— Дуня! Пусть лучше Дуня. Я же вижу. Дуня вам больше нравится.
— А начальник с вами приехал — он что?
— А-а, коробочка одна, оболочка. А души нету. Верней — мертвая. О таких Гоголь постарался. Курит только одну за одной да кашляет. Со стороны ежели на него смотреть: вроде как задумался человек. А на самом-то деле ничего подобного. Курит. Дым пускает. Провоняет вам школу табачищем и уедет. Вы-то, видать, не курите?
— Как вы отгадали?
— У вас голос ясный. И не дергаетесь, головой по сторонам не вертите.
— Значит, кто курит, тот головой непременно вертит, по вашей теории?
— Да. Соску как бы просит. Не дай — и разинет ротик! Руками-ногами засучит.
Алексей Алексеевич уже с откровенной радостью рассматривал девушку. Темные очки маскировали его возросшее к ней любопытство. Дуня, казалось, не замечала перемен в учителе, зато Павлуша кое-что уловил и насторожился. «Пусть только попробуют сговориться! Я им такую мину подложу… На тысячу километров друг от друга разлетятся!»
Вечером, после винегрета и самовара, отец устроил приезжим концерт. Обычно в коридоре на лавке возле классной печки, у открытой ее дверцы, усядется, голову чуть запрокинет, глаза под очками закроет в тоске и блаженстве, струны чуткие шевельнет — и поплыл в прошлое, в воспоминания о своем городке уездном на Псковщине, о деревеньке несуществующей, в войну сгоревшей и не воскресшей более, о Васильевском острове, где Марию оставил, потерял навсегда…
Вот и сегодня сунулся было учитель в коридорчик с гитарой, а там неприятно накурено махорочкой злой гродненской, угарной. В классную залу шатнулся, а там еще пуще воздух синеет и кашель трескучий, будто полы в школе проламываются! На топчане приезжий инспектор Арцыбашев, как вулкан, дымит, струю фиолетовую под потолок из себя так и выпускает!
Пошел тогда отец наружу из дома, с крыльца на завалинку переместился. Ногу на ногу закинул. Очень, видать, захотелось ему нынче побренчать, помурлыкать.
Счастливые годы, веселые дни, как вешние воды промчались они…Конечно, на улице перед школой получалось у Алексея Алексеевича иначе, нежели в коридорчике. Проще, элементарнее. Пел человек, развлекал себя и рядом присутствующих. И только. А в коридорчике-то, когда вокруг никого или одна всего лишь старая Лукерья на кухне вздыхает, печально, с надрывом получалось. Поет человек, будто плачет, лебединой жалостью жалея свои оставшиеся там, в недавней молодости, светлые годочки. А если воображение настойчивое иметь, то и нечто более обширное, нежели коридорчик с одним невеселым человеком, представить можно, — скажем, все человечество на небольшой круглой земельке этак-то вот сидит и грустит перед необъятной вселенной, сердечные струны бытия своего перебирает…
Но сейчас, сегодня все совершенно иначе выглядело и звучало иначе. С неким задором, с ухмыльцей некоторой получалось у отца нынче. Хотя он и голову, как прежде, лирически запрокидывал, и глаза под очками пытался закатывать.
В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле, старинная башня стояла, чернея на темной скале…Под эту романтическую кавказскую историю из школы выпорхнула пружинистая, ловкая, в короткую узкую юбку переодевшаяся «порченая» Евдокия. Похоже, заинтриговал ее аккуратный бритый отшельник, напевавший домашним довольно грустным тенорком не те, лежащие на слуху, песенки в исполнении Нечаева и Бунчикова, а нечто дымчатое, старорежимное, то есть как бы историческое, а значит, и драгоценное, антикварное.
Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету… Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту.И вдруг, на ходу сворачивая богатырскую цигарку, заскрипел крыльцом инспектор Арцыбашев. Закурил с двух спичек, выдохнул «философски» облако зловонное и чистый вечер, как в глаз ребенку, и, громогласно кашлянув, словно мотор внутри себя пытаясь запустить, демонстративно направился через школьный двор к туалетной будочке.
А Павлуша, забравшись на печку, отгородившись от людей дырявой тюлевой занавеской, травил в себе болячку сиротства, жалел себя, скучал, подставляя под едва долетавшие сюда звуки песен свое уязвленное отцовским весельем самолюбие. И вдруг мать вспомнил свою, Машу. Совсем молодую, довоенную, другой-то он ее и не представлял, потому что не видел. «Вот такая, как Евдокия… Только красивее, нежнее. У Евдокии нос кверху задран». И вдруг сверчок за печкой — в переборке деревянной — свою, ручейком журчащую, музыку сочинять начал. Монотонную, безнадежную, умиротворяющую. А Павлуше не мира — шума, грохота хотелось! Улицы, трамваем разрезаемой вдоль! Со скрежетом. Кипеть в пешеходном котле… И тогда он пяткой изо всей силы в переборку двинул. Сверчок погас. Но через минуту, наивная, необидчивая, опять заструилась его музыка.
Глава четвертая. Павлуша
В жнлинской школе Павлуша объявился в отсутствие отца: учитель по средам ходил в Гусиху за хлебом, где был прикреплен к сельповскому магазинчику.
Павлушу долго целовала, тискала, всего оросила слезами радостными мягкая, светлая тетушка Лукерья. После чая посадила его, настывшего, мартовского, на горячую печку, задернула занавеску, стала ждать, когда племянник с дальней дороги в сон теплый провалится. Мальчик быстро уснул. Правда, во сне он вздрагивал иногда, бормотал и даже всхлипывал; сон его был тревожным, нервным, не детским, хотя и глубоким, как бы обморочным. Лукерья в щель занавески жалостливо рассматривала племяша. «Господи, дите хлипкое, невинное, херувим писаный, а ну-тко, хлебнуть пришлось всякого… По дорогам-путям наблукался. Небось жизни не рад».
Потом пришел отец и отдернул занавеску нетерпеливо. И сына увидел. Долго, дольше Лукерьиного, смотрел на дитя свое утраченное, затерянное в мешанине людской, подхваченное потоком в воронку событий военных.
Павлуша разлепил ресницы, увидел отца. Казалось, обмякнуть, подтаять должно было сердечко его неокрепшее, но, остекленевшее на лютом холоде разлуки, зазвенело лишь, будто хрустальное, в груди. Ему бы слезами светлыми, сладкими из глаз истечь… Но заплакал не сын. Отец заплакал. Правда, слез его никто не увидел, потому что за синими очками прятались.
Шестилетним золотоголовым, солнечным запомнился ему сын. Уходил тогда Алексей Алексеевич ночью, целовал Павлушу спящего, розового от сна и тепла материнского. Павлушина мать, убитая совершавшейся разлукой, стояла тогда у окна в длинном, наглухо спрятавшем ее халате. Раздвинув тюлевый туман занавески, уперлась она горячим лбом в холодное ночное стекло окна и смотрела в непроглядную неизвестность. Тюлевый туман сошелся позади нее и плотно заслонил ее от глаз Алексея Алексеевича.
Он уехал на Север. На нем была лохматая, мехом наружу, совсем медвежьего толка, шуба. Павлуша тогда и ресниц как следует не разлепил, а потому и не понял ничего, а не поняв, не заплакал при расставании с отцом. Он всего лишь слабенько улыбнулся тогда сквозь сон, одной щекой улыбнулся, как бы нехотя или через силу. И повернулся на другой бок, лицом к стене.
Павлуша возвращался к отцу прямо из колонии. Вернее, убежал он из нее еще в августе прошлого лета и всю зиму прожил сперва в дровяном чулане, затем в опечатанной родительской квартире, где он был прописан и где его укрывала добрая соседка тетя Женя. Она придумала забавный трюк: одно из двух стеклышек над опечатанной дверью Павлушиной комнаты всегда, дребезжа, пошатывалось в раме, вот его и вынули, заменив фанеркой, которую можно было без труда вставлять и выставлять при надобности. Стремянка стояла тут же, в коридорчике. Таким образом, Павлуша жил как бы и у себя дома и в то же время не жил, а прятался. Дважды за зиму приходили проверять печати на дверях, и в один из таких приходов Павлуше страху пришлось натерпеться, так как сидел он тогда у себя на диване, за шкафом, и грыз сухарик, который ему в коридорное окошко соседка добрая зашвырнула.
И вот теперь, в Жилине, после неповторимых, невероятных лет, приучивших подростка запросто воспринимать события резкие, обнаженные, когда приключения и всевозможные детали войны, ее быта (оружие, кровь, пожары и смерть) были каждодневной нормой, теперь вживание в обстановку размеренных, мирных будней болезненно сказывалось на его поведении.
Как ни странно, Павлушу тянуло на места недавних сражений, где неисчислимым количеством предметов убивания удобрили люди свою землю: патроны, снаряды, бомбы, мины, механизмы всевозможные, химические реактивы, оптика, транспорт, красивый мусор — этикетки, тюбики, баночки, различные «штучки», оставленные войной, как гигантской волной захлестнувшей материки и вот схлынувшей наконец-то… Вся эта мерзость лежала на полях, в не зарытых еще траншеях, в воде воронок и рек, пряталась глубоко в землю, таилась в старой лесной траве, посверкивала металлом из пригретого солнцем песка и влекла, будоражила нервную, взрывную конструкцию Павлушиной натуры.
Сразу после войны, живя в Ленинграде на пару с тетушкой Лукерьей и обучаясь с осени сорок пятого в ремесленном училище, он часто ездил с дружками из «ремесла» на станцию Поповка. У каждого из них тогда были или русская винтовка, или немецкий автомат «шмайссер», а то и крупнокалиберный пулемет. Они забирались поглубже в обезглавленный, растерзанный фронтом лес, прятались в еще не осыпавшиеся траншеи или бункеры и открывали ураганный огонь друг по другу: по взмаху руки сидящие в траншее напротив прятались в ней на дно, ложились плашмя и, закипая от страха, терпели музыку боя, проносившуюся у них над головой. Затем менялись ролями. Иногда их вылавливали саперы, разминировавшие участок бывшей линии фронта. Схватили однажды и Павлушу. Надрали уши. Продержали всех в вокзальной будке до вечера, а к ночи отправили домой, в Ленинград, с письмом к директору училища и как бы под конвоем. Не унывали они и на этот раз, так как считали себя, пленными, а на войне, мол, чего только не бывает…
Помнится, вызвал их однажды директор в кабинет для беседы. А на самом деле — разоружить. Его и Никиту Сачкова, мальчика благообразного и с небольшим горбиком на спине. Поначалу в Поповке Никита этот, произведя выстрел из русской трехлинейки, неизменно падал назад, в сторону горбика — такая сильная отдача у этой винтовочки имелась.
Директор, из недавно воевавших офицеров, предложил ребятам вывернуть карманы. На стол и на пол посыпались патроны, вывинченные головки от минометных мин, медные советские и маленькие, серебристые немецкие детонаторы, которые, кольни чуть иголочкой или гвоздиком шевельни, — получается взрыв, запросто отрывающий пальцы, а то и кисти рук.
Директор придавил к пепельнице дрожащий окурок, медленно, даже так ласково выпрямился за столом и плавно, внимательно подплыл к ребятам, не делая резких движений и возгласов. Он зашел им за спины и вежливо, как театральный гардеробщик, предложил снять шинели, не разгружая содержимого карманов. Повесил синие шинелки на вешалку для гостей, ребятишек выпроводил в коридор. Сам он тоже покинул кабинет, тщательно заперев дверь и предварительно вызвав по телефону милицию.
Затем директор пожелал встретиться с близкими и родными юных пироманов, однако родителей ни у того, ни у другого не оказалось: у бывшего детдомовца Никиты Сачкова их как бы и не было никогда, у Павлуши, говоря директорским языком, на данный момент в наличии имелась только Лукерья, которая племяша беспощадно любила, а значит, и не могла на него повлиять со всей строгостью.
В классных помещениях ремесленного училища с начала учебного года время от времени производились выстрелы и даже взрывы. Теперь же директор, связав факты воедино, сделал обобщение: зачинщики всему Павлуша с Никитой. И потому при первой возможности решил от них избавиться. И тут происходит кража. На складе училища. Пропадают пять пар ботинок скороходовских и пять кусков мыла хозяйственного. А нужно сказать, что тогда ремесленникам выдавалась завидная пайка хлеба, и возле училищной столовой всегда паслись перекупщики насущного. Ремесленник продавал хлебный паек, чтобы купить мороженое, билеты в кино или настоящего штучного «беломору» (пара — пять!). Некоторые, самые бывалые, чаще всего угрюмые, с треугольником челки на лбу, на вырученные деньги выпивали спиртное. Хлебная пайка у таких угрюмцев шла как золотая ставка при игре в карты: в очко или в буру. Продавал время от времени свою пайку и Павлуша.
В тот день его подозвал в сортире один из тех, с челочками, и, глядя Павлуше не в глаза, а куда-то правей левого уха, просипел:
— Корешочек, дельце к тебе. Ты, кажись, паечку толкнуть собирался. Нагрузочку тебе пацаны делают: кусочек мыльца забодай. А то нам некогда. В картишки сели покатать. Лады?
— Хрен с вами, давайте.
Согласился, чтобы не наживать врагов среди отпетых. Хлеб у Павлуши купили моментально, можно сказать на лету склюнули. А с мылом заминка произошла. Дотошная востролицая старушка, нацелившаяся на кусок хозяйственного, долго обнюхивала товар, ковыряла брусочек старым, кривым ногтем, что-то про глину лопотала себе под нос; к их торговой компании тут же прилепилось еще несколько покупателей, однако старушка мыло из ногтей не выпускала, но и денег за него не отсчитывала, сомневалась, вздыхала, портила Павлуше нервы.
И тогда потянулись откуда-то одновременно две, похожие одна на другую, посторонние руки: красные, сильные, поросшие от запястья и выше белым цыплячьим пухом невинным. Одна рука вынула из старушкиных кривых пальцев мыло, другая взяла Павлушу под локоть. Крепко взяла, надежно.
Павлуша вырывал, выдергивал из пушистой, но отнюдь не цыплячьей хватки чужой пятерни свой хрупкий сустав. Про мыло он забыл. Не до мыла теперь сделалось. Тут-то и раскрыла свой клюв старушка, доселе изумленно молчавшая.
— И-и яво-о мыльце-е, етова са-амова-а-а… Ри-месника-а…
— Пройдемте, — предложил краснорукий блондин Павлуше.
— Куда еще?! — вскинулся было паренек. — Мне сейчас на занятия.
— А вот и проследуем. Там и позанимаемся.
Привел к директору училища.
— Ваше мыло? — спросил у начальства агент угрозыска.
— Наше. Вот и тавро. Троечка. И шилом с торца брусочка наколото. Вот, полюбуйтесь. Двенадцать дырочек. Мы весь ящик пометили. Так что оформляйте…
В отделении милиции, где Павлуша ночевал, пахло казенным домом и безнадегой. На другой день пришел следователь, мужчина интеллигентного вида, подстриженный под польку и со значком ворошиловского стрелка на кармашке пиджака. Указательный палец перед Павлушиным носом торчком поставил и ну этим пальцем покачивать… Павлуша упрям. И романтический дух противоборства в себе ощущает: «Ты, дядя, не смотри, что у меня шея тонкая, нас и не такие пугали. Что ты со мной сделаешь? Я ведь дома, у себя на Васильевском острове. И мужик ты русский, а не какой-нибудь Ганс гестаповский».
— Откуда мыло?
— Мыло нашел.
— А может, все-таки, украл?
— Может, и украл. А кто видел? Никто.
— Говори, сознавайся. Потому что все равно тебя в колонию директор снаряжает.
И поехал Павлуша из детского приемника в нижневолжские степи, где для несовершеннолетних трудовая исправительная колония расположилась.
А что ему было делать? Сознаться и назвать того, с треугольной челочкой? А потом от его боевых соратников перо, то есть ножичек в бок, заполучить? Да и не принято как-то было в послевоенное время на допросах сознаваться, сопли из глаз пускать. Недавняя война гордыню во многих сердцах воспитала, некий апломб своенравия. А как же: люди смерть в лицо на дню по нескольку раз видели, не то что пальцы указательные. Вот и выработалась определенная манера поведения. Не у всех, конечно. В основном — у настырных, сопротивленцев по природе.
В колонии, для поддержания своего псевдоворовского авторитета, Павлуша прямо из окна изолятора сделал свой первый побег. Спрыгнул со второго этажа, ударился носом о свое же колено, пустил по губе кровь, и тут его, прямо в зоне колонии, с двух сторон подхватили проворные активисты и в «кандей», то есть в карцер, повели.
В карцер, в разбитое зарешеченное окошко, ему к вечеру передача пришла: сахарок, вдавленный в серую пшеничную пайку, а в разломе хлебном — комок масла, по-колонистскому — «бацило». Кто прислал — не важно. Важно, что его уважать в колонии начинали.
Павлуша оказался способным колонистом. Смекалистый, он за правило взял помалкивать и здесь, непрестанно прислушиваясь, мотая на ус, короче — соображал, как мог, чтобы не промахнуться, чтобы не разоблачили, что никакой он не воришка, а так — питерским шпаненок, фраеришка, хотя и тертый, битый, но не «цветной», не в законе.
Первым делом Павлуша догадался, что ворье на свою пайку хлебную в карты не играет, на кон ее не ставит. Для игры законники берут пайку «на отмазку», как бы на время игры — у слабаков.
В игре, за картами, необходимо было быть смелым, наглым. Но честным, когда состязаешься с вором. Mухлевать разрешалось с полуцветными сявками — воришками, однажды проштрафившимися, согрешившими в соблюдении воровских законов или недотянувшими в своих деяниях до звания вора. К ним относились мелкие мошенники, хапошники, выхватывавшие добычу из неосторожных рук и спасавшиеся бегством, попрошайки, способные разжалобить, а затем и обокрасть доверившегося, похитители всякой мелочи: яиц в курятниках, хлебных довесков, овощей с огорода и т. д.
Если тебя в игре начинал подозревать партнер, высказывая вслух недоверие к твоей игре, ты, чтобы пресечь подвох, обязан был ударить сомневавшегося в лоб. Лучше всего, эффектнее, получалось это прибитие чужого лба подушечкой раскрытой ладони. И Павлуша бил. Как правило, после удара сомневающийся восстанавливал к тебе доверие и продолжал игру в прежнем темпе; и с прежним к тебе уважением.
После отсидки в карцере Павлуша совершил с ходу свой второй побег, прибавивший ему еще больше залихватской популярности среди пацанов. Пацанами тогда звалась воровская несовершеннолетняя верхушка колонии. Не столь важно было, убежишь ты с концами или нет, важно было совершить энное количество побегов, иными словами — попыток побега.
Павлуша демонстративно вынес из корпуса тяжелую железную коечку, сложил ее составные части в одну плоскость и, поднеся ее, как лестницу, к «баркасу» (забору), перемахнул через нее на контрольную полосу, а дальше пошел босым презрительным шагом в сторону; от поселка, туда, в степь ковыльную, раздольную…
Прозвучал предупредительный выстрел с вышки. И за Павлушей устремились в погоню.
С победной улыбкой вернулся Павлуша в карцер. И тут же получил солидную передачу, «кешер», со сладким и жирным содержимым, то есть сахарок и булку с маслом.
Время от времени вор должен был совершать что-то геройское, неординарное. И лучше, если кражу. Совершить ее можно было у обслуживающего персонала, у охранников, а также у работающих в тамошних мастерских. Можно было выставить ночью стекла в медпункте и украсть что-нибудь пахнущее спиртом. Или проникнуть в помещение закрытой на ночь кухни и лишить колонию, скажем, жареной рыбы на завтрак. После такого подвига рыба распределялась среди пацанов, и вся остальная масса колонистов облизывалась или, как тогда говорили, пролетала без жареного, держась на одном чайке с хлебом. Совершал такие подвиги и Павлуша.
И вдруг весть: отец отыскался! Письмо на колонию от него пришло. Но письмо Павлу отдавать не спешили. Ходил он в нарушителях, из карцера не вылезал. «Вот одумаешься, тогда и прочтешь, — говорил воспитатель. — Отец с войны вернулся, фронтовик… Как ты ему в глаза смотреть будешь?» А Павлуша взвинчивал себя: «Подумаешь, отец нашелся! Где он раньше был, когда я в колонию загремел?» — и лихо сплевывал на пыльную землю «территории». Где ему было знать, что отец в это время в госпитале валялся, глаза ему чинили, чтобы он день от ночи отличать мог и среди миллионов подростков своего, единственного узнать и за собой повести способен был.
В середине лета, ближе к осени, сформировали бригаду по заготовке на зиму дров. Брали в бригаду рослых и, как правило, отлынивающих от основной работы архаровцев. (В колонистских мастерских штамповали швейные иголки; имелся там и настоящий производственный цех, где собирали саратовские гармошки с колокольчиками.)
В списки заготовителей дров попал и Павлуша.
Лес, в котором колония получила делянку, по слухам, простирался где-то на той, возвышенной стороне Волги. Ехали на шустрой, чадящей голубым дымом полуторке. Ехали весело, на мешках с буханками хлеба и еще с чем-то съедобным. Веселились все: и колонисты, и охранники с воспитателем. После скучной пыльной зоны такая поездка — праздник. На переправе через Волгу, возле парома, купались. Все, кроме одного из двух охранников. Купались впервые после долгих месяцев разлуки с большой водой. Были среди колонистов и вообще впервые видевшие Волгу. Читать о ней читали или слышали из разговоров, а трогать вот так, пальцами ног или головой с берега в омуток — не доводилось. Павлуша, правда, фильм успел в Ленинграде посмотреть «Волга-Волга». Но разве там о Волге… Хохмы разные, цирк. Хотя, конечно, пароход, на котором в фильме чудеса происходят, понравился. И все же теперь, когда снизу по блестящей летней воде, дымя и посвистывая, постанывая и хлопоча колесными плицами, поднимался к городу Вольску натуральный белобокий, с длинной трубой «Владимир Короленко», — эта наглядная, живая картина трогала куда как сильнее, нежели киношная… И чем трогала? Не сюжетом, не приключениями придуманными, не музычкой разудалой, а так, жизнью. Запахом волжским, ветерком ласкающим, рыскающим, обстановкой полуподневольной, звуками, поднимающимися от земли и воды: птичьим треньканьем и посвистом, шуршанием волн о песочек береговой, пароходным дыханием тяжелым, утробным его голосом и с того, цементного, берега — гудками заводскими, где рассыпался по горушкам белесый городок Вольск.
Переправлялись на пароме, на пропахшем конскими навозом забавном, широком в боках пароходике, который местные жители все еще называли «смычкой».
Сонный воспитатель, когда его попросили объяснить, почему именно «смычка», невесело улыбнулся, обиженный, что его разбудили по такому ничтожному поводу.
— Почему да почему… Небось думали: гоп со смыком? М-мда-а… Смычка! Вон там — что? — показал он куда-то за спину движению, на берег, от которого недавно отчалил паром. — Там степь, деревня. Соображаете? А вон там что? — дернул коленкой в сторону приближающегося берега с домишками и колоколенкой на взгорке. — Там город. Совершенно справедливо мыслите. А мы с вами промеж всего этого болтаемся. На чем? Соображать надо, кумекать! На смычке. Смыкает то есть берега. Деревню с городом. Вот так-то, граждане воры. Смычка города с деревней. На этом, стало быть, мероприятии и переправляемся. — И опять у него под рыжими бровями закрылись рыжие ресницы на красных веках, голова опустилась на мешок с мягкими свежими буханками. Рот распахнулся как бы в изумлении.
В лес приехали на закате солнца. Запомнились дубочки, дикие вишни, терновник. Большая трава и сравнительно невысокий, если сравнивать с северным, ленинградским, приземистый лес. Располагался лес на горушках, гуще и влажнее в долинах, реже и суше на возвышенностях. Было много змей, древесных лягушек и относительно мало комаров и мошек.
Первую ночь переночевали кто в кузове полуторки, кто в землянке, достаточно благоустроенной, чтобы в ней от дождя спасаться и от холода: имелись дощатые нары, печурка-времянка, массивные двери.
Павлуша расположился в кузове, под открытым небом. Ребята настелили под себя веток, травы. Павлуша долго не мог заснуть. Смотрел на недвижные звезды. Вспоминал Ленинград, Лукерью… Смутно тосковал по отцу с матерью. Захотелось, пусть ненадолго, примчаться к Лукерье, к ее теплой кафельной печке, поцеловать старушку в седой чистенький пробор на голове, угостить ее вишнями, которых тут, в лесу, хоть ушами ешь… И вдруг спокойно и неотвратимо, как вот утро с рассветом приходит, пришла ослепительная мысль: бежать! Не так, как прежде, для счету, для популярности, а по-настоящему, взаправду чтобы! И, что замечательно, мысль эта, как потом выяснилось, пришла тогда, в звездную мочь, не ему одному, а пришла почти всем, кто дышал воздухом свободы, кого щекотали букашки в траве, над кем по-вечернему грустно чиликала, плакала птичка лесная нервная… И пусть их потом почти всех поймают, а некоторые, поблуждав, оголодавшие, сами вернутся в колонию, чтобы зимовать в тепле, — пусть! Мысль о полной свободе, самая яркая, самая неотвратимая, неотвязная, мысль-мания одурманила тогда почти всех поголовно, за исключением двух дружков-шептунов, щуроглазых тихарей, похожих друг на друга, как близнецы, по фамилиям Мукосеев и Рубец. Всех, кроме них, электричество той мысли пронзило, пронизало до основания, а Мукосеев с Рубцом — словно два изолятора фарфоровых, которые на столбах белеют, не проходят сквозь них шальные желания. И не потому они особняком держатся, что самостоятельно мыслят, нет. Особняком они от «как бы чего не вышло». От футляра, который у них на мозги надет. И заполучили они этот футляр еще в материнской утробе.
На другой день и свершилось… Норму выполняли с остервенением. Павлуша махал топориком, обрубая сучья с вершинками. Пилили, складывали бревешки в кубы, подпирая клетки с боков вогнанными в землю кольями. И вдруг с не меньшим азартом, разом, как рукояткой рубильника отключенная, прекращалась работа по всему лесу. И ребята настороженно убеждали себя в последний, окончательный раз в правильности решения, которое каждый принял отдельно, самостоятельно.
Вечером, когда сонный воспитатель и два символических охранника справляли в штабной землянке какой-то праздник, кто-то из ребят, неизвестно кто, подпер двери землянки дубовым кряжем.
Убегали… шагом. Просто уходили в глубь леса, подальше от невеселых, уставших с дороги, в чем-то заменивших им родителей, иногда скупо улыбавшихся, но все же таких казенных людей, от их винтовочек полунастоящих, никого не устрашающих (в подростков стрелять не разрешается, только — в воздух). Уходили поодиночке, как Павлуша, уходили по двое. Каждый нес завернутую в колонистскую рубаху или штаны увесистую буханку хлеба. Павлуша нес хлеб в дополнительных штанах, выигранных в карты еще там, в зоне. На основных, положенных нормой, брючатах Павлуша высоко закатал штанины, чтобы не слишком измочить их в росной студеной ночной траве.
Из лесу Павлуша вышел на третьи сутки. Буханки с ним уже не было. Последнюю горбушку кто-то стянул из «хлебных» штанов во время ночевки, когда он, сморенный дневной духотой, упал под тенистой вишенкой и проспал до следующего утра. Может, собачка бродячая разнюхала, может, еще какой зверь унес хлебушек. Только — не человек. Потому как человек забрал бы его вместе со штанами. А тут штаны целы, а харч испарился.
Натянул на себя Павлуша вторые штаны, благо тощей, вертлявой была его фигурка, и подался из лесу на свет, мелькавший в прогалах между последними деревьями.
Обычно еще в сумерках, затемно, шарил он на колхозной бахче, но попадались почему-то одни грубые неспелые тыквы, которые хоть и с отвращением, но приходилось жевать, чтобы заполнить желудок, успокоить его, как ворчащую собаку, хотя бы на время. А в итоге одно расстройство, и перво-наперво — желудка. Понос и рези в животе жестокие. Днем выползал на прибрежный песок Волги. Запрокидывался, стеная и кряхтя, как старец. Подставлял под яростное солнце пупок и, закрыв глаза от изнеможения и блаженства, буквально — как будто пальцы чьей-то доброй, врачующей руки — ощущал прикосновения лучей.
На какие-то там сутки (со счету сбился) увидел внизу на реке пристань, дебаркадер, множество лет тому назад выкрашенный в голубой сентиментальный — цвет. Вверх по Волге к некогда голубому дебаркадеру лез, словно в гору поднимался, маломощный, запыхавшийся пароходишко. Оказывается, все тот же «Владимир Короленко».
«Ну что ж, — подбадривал себя Павлуша, — посмотрим, кто шустрей бегает: человек, заправленный тыквой, или чахлый, но огромный колесник, переваривающий в своем животе донбасский уголек? Расстояние до пристани от того и от другого примерно одинаковое… Ну что ж, посмотрим!»
И посыпался, покатился кубарем с крутого бережка босоногий и беспечный Павлуша, точно крылышки у него выросли ненадолго. Весьма ненадолго. Уже внизу, когда по кромке песчаного берега пятками сверкал, возле самой воды, подступила тяжесть незнакомая, одышка гнетущая, странная, сердце до ключиц поднимающая. Ноги отяжелели, размягчились. Суставы их ощутимее сделались. Остановился, сплюнул в воду. Отвернулся от реки. А когда отдышался — непонятное увидел: стоит пароход, не двигается вовсе. Словно собачка дружественная, Павлушу дожидается.
К пристани паренек добрался одновременно с «Короленко». Благополучно снявшись с очередной мели, колесник, весело разбрасывая лапами плиц желтоватую воду, толкал облезлым боком не менее облезлую пристань.
Гонористый малый в черном форменном бушлате и теплой тельняшке, обливаясь горячим потом, принял от «Короленко» лохматый, измызганный конец, намотал его на дубовый пень-кнехт, выступающий над бортом дебаркадера, и, закрепив трап, грудью заслонил людям проход на кораблик.
Павлуша не стал молить-уговаривать потного морячка. За версту было видно: без билета или, по крайней мере, без пароля попасть на пароход — бесполезное занятие. Павлуша решил сосредоточиться на своей злобе ко всему, что против него, и в первую очередь к потному бушлату. Он стал раздувать в себе огонек бешенства к юному начальнику пристани, напевавшему в данный момент что-то, как казалось Павлуше, отвратительное:
А соловей в тени ветвей чего-то там такое… разливался! Как будто тоже он любовью наслаждался!«Ну погоди ж ты, хмырь болотный, покажу я тебе соловья!» — взвинчивал в себе отвагу Павлуша. И, бесстрашно ступив на ребристый, с жидкими, шаткими поручнями трап, вплотную придвинулся к малому, заслонившему собой Павлушину мечту: уплыть на пароходе куда-то вдаль, развалиться на его палубе, отоспаться всласть, одновременно продвигаясь в ту самую туманную даль. Но путь к мечте перегораживала довольно широкая, шире Павлушиной, грудь в тельняшке, от которой остро пахло потом и еще чем-то чужим, раздражающим.
— Попишу… — сумасшедше спокойно прошептал прямо в открытый рот сухопутного морячка, намекая тем самым, что не прочь применить лезвие безопасной бритвы или хотя бы его половинку.
Рук Павлуша из карманов не вынимал. Лицо его было бледным, побелели, казалось, даже серые с прозеленью глаза. От всего его облика веяло теперь непреклонной решимостью напружинившегося петушка.
Бушлат захлопнул свой поющий рот, поспешно посторонился, пропуская Павлушу на борт «Короленко».
«Играть, играть до конца, не расслабляться», — уговаривал себя юнец, походя и весьма независимо сплюнув в воду. Вот он не спеша проскрипел трапом мимо горячего, казалось, готового вспыхнуть и сгореть начальника пристани. Вот нашел в себе силы остановиться и, оглянувшись, не мигая, пристально посмотреть ему в глаза. «Подмигнуть или не стоит? — спросил себя и тут же решил: — Незачем. Подумает, что заигрываю».
На корме пароходика, куда Павлуша сразу прошел и где, обычно возле гальюна, располагалась безбилетная братия, обнаружилось еще пять человек из их дровяной команды.
И тут, проплывая в обратном направлении, вниз по реке, пристал к «Короленко» на пару минут его близнец «Глеб Успенский». А на его корме — кто бы вы думали? — Мукосеев с Рубцом! Сидят и курят, глядя друг другу в глаза. Одну папироску сосут. По очереди. Словно сросшиеся сиамские братишки.
— Эй, Рубец! — позвал не слишком громко Павлуша. — Куда же вы, гады, плывете? Обратно в колонию, что ли?.. Перелазьте к нам живо!
А Рубец, головы не поднимая:
— Заткнись… Мы с воспетом (то есть — с воспитателем). И попки с нами (охранники). Они сейчас в буфете гужуются. Возвращаемся в колонию. Дрова некому пилить. Линяйте в трюм.
Посыпались вниз, в утробу пароходную. Рассредоточились в разных закутках. На прощанье Павлуша пригрозил «близнецам»:
— Заложите — в зоне землю станете есть. Как кроты.
— Не заложим. Некогда нам.
«И точно, не заложат, — подумал Павлуша. — Поленятся. Не оторваться им друг от друга, не отвлечься!»
И действительно, все обошлось. Разминулись пароходы. А где-то, чуть выше по течению, скорей всего в Сызрани, под давлением команды и законных, то есть обилеченных, пассажиров ребята покинули «Короленко». Покинули поспешно, до швартовки. Вплавь до берега добирались. А все из-за дурацкой тетки, которая семечки везла на базар. Ночью кто-то из колонистов прошелся по ее мешку бритвочкой острой, осколочком лезвия безопасного. Семечки сразу, как вода, из мешка вытекли. В итоге — пароход шелухой замусорили. Команда хипеж подняла. А тут еще тетка «рятуйте!» кричит и на всех без разбору кидается. Вот и пришлось ребятам в Волгу сигать, в набегавшую волну. И вообще — решили вид транспорта поменять.
В Сызрани два состава товарных под парами стояли. Один на север, другой на юг собирались уехать. В противоположных направлениях двигаться намеревались. Необходимо было выбрать: куда теперь? Дело к осени шло, и потому большинство беглецов высказывалось за южное направление, чтобы непременно в жаркие страны, где фруктов и овощей теперь — хоть сиденьем ешь.
А Павлуша бродяжить, в беспризорничестве погрязать почему-то не пожелал. Анархическое начало, конечно, и в нем присутствовало. Но до определенной грани, до определенного уровня в характере, а точнее — в замашках. Когда время выбирать пришло — выбрал заботливую Лукерью, которая жалела его постоянно, без перерывов. Память об отце с матерью выбрал. На север решил пробираться, к Ленинграду. В места своего возникновения на земле.
По железным скобам поднялся Павлуша в вагон-воронку, заполненную гравием. Лег на теплый крупный песок и сразу уснул. И повлек, потянул его поезд не столько на север, сколько в направлении надежды.
Проснулся наш беглец в городе N, на одной из трех его станций. Продрогший за ночь, слезать с поезда и вообще двигаться не хотел. Не желал выкарабкиваться из ласковой вмятины, которую тело отформовало в грунте. Павлуша закрывал глаза. Поезд вздрагивал и шел дальше. Казалось, скоро Москва возле дороги вырастет, а просыпался и с ужасом определял, что из города N еще не уехал, а только с одной его станции на другую переместился.
Есть хотелось всегда. По крайней мере, с тех пор, как вне колонии оказался. А здесь, во время движения по рельсам, желание это превратилось в хищного зверька и грызло Павлуше внутренности безжалостно. С мягким «спальным» вагоном пришлось расстаться. Думал: на время, получилось — навсегда. Пока под прикрытием ночи шарил в привокзальных огородах в поисках моркови и ранней драгоценной картошки, состав с гравием отбыл в неизвестном направлении.
Картошкой запасся впрок. Для этой цели узлом завязал порточины дополнительных, выигранных в карты, штанов, застегнул на них ширинку, набил брючата молодыми корнеплодами, поволок на запасные пути, где стояли какие-то позаброшенные платформы со старой техникой, должно быть списанной в утиль. На одной из платформ облюбовал непонятный для горожанина агрегат: то ли сеялка, то ли веялка, то ли комбайн раскуроченный. Имелось там помещение, правда металлическое, барабан такой, бункерок потайной, и лаз в него. Сунулся туда: сухо, тепло. А на самом дне травка вяленая, сено. Подстелил кто-то. А может, и от сельхозработ осталось, когда она в поле функционировала, молотилочка сия или косилочка. Одним словом, жилье было найдено мировое. Пожевал Павлуша помытой в канаве моркови и вновь уснул.
Утром на привокзальном рынке продал тетке картошку. Может, ее же собственную и продал, поди разберись теперь. Просила и штаны вместе с овощью — не отдал. Ноги босые, белье нижнее тоже отсутствует. Так уж пусть хоть штанов — две пары. Для уверенности. На вырученные рубли купил лепешек, морсу красного, ядовитого стакан выпил. И еще две вяленые воблины, пахучие, раздражающие соки желудочные, к лепешкам присоединил. И к себе в комбайн. Приходит, сует голову в люк, а там — глядь! — кто-то сопит, живет уже кто-то там. Иными словами, занято. Павлуша злобно кашлянул. Потом свистнул в два пальца, большой с указательным сложив. Получилось оглушительно.
— И чево кашляют… Свистят чево? Свистуны, понимашь. Людям спать не дают, дурью маются.
— Это мое место! — рявкнул Павлуша.
— На кладбище твое место, — ответили беззлобно.
— Исчезни! — скрипнул зубами недавний колонист. — Я тут ночую. Вот обрызгаю сейчас в люк… Будешь тогда облизываться!
— Я те обрызгаю, зараза! — Из сеялки-веялки поспешно высунулась небритая ряшка пожилого человека. — Чево табе, пацанчик? Ночевать — так пролазь, уместимся. В тесноте — не в обиде, — зашептал примирительно дядька, осветив свою образину жалкой вечерней улыбкой.
— Исчезни, — повторил Павлуша заветный глагол и стал ждать результата.
— Совести у тобя никакой… Вон, глянь-кось, дождина собирается какенный! Куды я…
— А вот я тебя до дождя освежу…
— Не балуй мотри! Подавись ты своим барабаном! Чичас слезу… Валяй ночуй. Только мотри — как бы и тобя хтось не обрызгал.
Сыпанул дождь. Оба, и мужик и Павлуша, в мгновение очутились в бункере. А в итоге ночевали, обнявшись. Пожилой мужик оказался колхозником, убежавшим из деревни от жены и председателя.
— Понимаешь, работать не могу. Не способен. Они там от темного до темного летом карячутца. А я не способен к такому. Ну как тобе, пацанчик, объяснить… Куды ни приду — в поле, на скотный двор али в луга, — сразу и воткнусь в сено. Зароюсь и войну вспоминаю. Партизанил я на ей, сам, как хотел… Меня Козлом зовут. От фамилии Козлов, — представился небритый.
Павлуше понравилось, что Козел оружие с удовольствием вспоминал и всякие фокусы военных времен, связанные с минированием. Понравилось, что мужик взрывное дело любил.
— Ночью заявились к нам в село настоящие партизаны. Отряд. На площади, на телеграфном столбе красный флажок вывесили. Когда рассвело, немцы хай подняли. Один ундер кинулся по скобам на столб — срывать. А тамотка я втихаря сурпрыз замастырил. Потянул он за материю — хлесть! Чуть голову не оторвало. Ундер со столба над площадью полетел. Как ангел. И вусики с-под носу чернеют. Такие, что ихний Гитрел любил носить, — засмеялся впотьмах Козел.
Павлуше нравилась его безобразная, вся в исковерканных словах речь. Даже Гитлера и то умудрился переиначить: «Гитрел»!
Павлуша в долгу не остался и сам случай Козлу рассказал.
— У немцев гвоздей сопру, тех, что подковы лошадям прибивают. И на богатые хутора, к бауэрам. Они за эти гвоздики граненые салом платили, хлебом да яйцами. Один такой хозяин и говорит: «Давай работай у меня. Кормить буду хорошо. На дочке потом женю». Разную фиговину молол. А мне интересно в доме, в семье пожить. Ну и согласился временно. Не понравится — уйду, так решил. Кормил он меня, врать не буду, хорошо. За одним столом все питались. С его дочкой навоз убирал из хлева. На ноги он мне колодки дал, такие башмаки деревянные. Я с ними на озере в кораблики играл. Посажу в башмак лягушку и пущу по волнам. Лягушке надоест сидеть, подпрыгнет и — за борт! На пятый день хуторской жизни хозяин меня по лицу ударил. Когда я камни с места на место перекидывал. При помощи ремня. А надо было — навоз вилами… И случайно один камушек в окно попал. И стекло разбил. А со стеклом в то время туго было. Достал бы я ему стекло. В имении, где немецкий госпиталь располагался, выставил бы. А мироед, у которого я батрачил, при девочке меня по лицу смазал! Я такое не прощаю, понял, Козел?!
— Как не понять… Ишь холуя нашел! В назёме ковыряться.
— Я ему другое учудил. Двухсотграммовку тола под уборную. Обычно, как хлобыстнет, особенно если направленный взрыв получится, все стены, окна — все залепит начисто! Я до того раза штук пять этих уборных взорвал. Веселился. А тут — смех! Вместо уборной — коптильню заминировал. В которой эти мироеды сало коптят, «шпек» по-ихнему. Ка-а-ак брызнет! Куда грудинка, куда корейка…
— Это я понимаю! — облизнулся Козел. — Это ты распрекрасный фиверк устроил! Чичас бы нам кореечки али грудинки откуль забросило…
Расстались они с Козлом приятелями. Мужик до того зауважал Павлушу, что курить из барабана на дождик вылезал. Павлуша с ним воблой и лепешками поделился. Козел в свою очередь чаек соорудил поутрянке. Кусок колотого сахара извлек, и — что удивительно — довольно чистый сахарок оказался. И сладкий жутко.
Мечтательный, а проще сказать, ленивый Козел никуда из N, из нутра молотилки-веялки, ехать не собирался. Тем более — на север, в Ленинград. Расстались.
Павлуше удалось прошмыгнуть на вокзале мимо зазевавшейся проводницы и в тамбур пассажирского проникнуть. Внутри вагона ехать Павлуше было бы неспокойно: босой, в колонистской казенной робе, стриженый. От него бы все сторонились, пожалуй, если не шарахались бы. Потому что у всех котомки, баулы, чемоданишки, по-воровскому — «уголки», с припасами. Люди тогда вещей из рук не выпускали.
И пришлось Павлуше в «собачник» полезть. Было такое приспособление, шкафчик такой в тамбуре под, потолком имелся. Для провоза кур, небольших собачек, котов и прочей не слишком объемной живности. Шкафчик этот, то есть «собачник», затворялся двумя створками. На дне шкафчика настланы были опилки древесные, перемешанные с куриным пометом, правда сухим, старинным. Встал Павлуша ногой на тормозное колесо, что в стене тамбура пряталось, подтянулся на руках и в «собачник» втиснулся. И сразу же в отдельном, можно сказать, купе угнездился. Свел руками створки и так — ноги к подбородку, голову к коленям — уснул намертво.
Проснулся, верней, очнулся где-то уже под Москвой. Голова сразу очухалась, а тело словно отпало куда-то, как будто его от головы отрезали: начисто онемело тельце. Затекло, сомлело, зашлось. Должно быть, сосуды пережало в таком скорченном положении, и теперь не то что рукой или ногой шевельнуть — язык не поворачивался, чтобы слово изо рта выплюнуть. Одна только голова и работала, бешено соображала, как же теперь быть, что предпринимать?
Ясно — что! Двигаться, шевелиться! Вот что. И Павлуша сначала кончиками пальцев, затем головой, мышцами лица — работал, трудился, напрягал, с мертвой точки сдвинуть пытался материю свою похолодевшую, оцепеневшую. И ведь расшевелил-таки, разогрел! Раздул уголек в кочегарочке остывшей. Сладкой, истомной болью отозвалась плоть полупридушенная, воскресающая…
Поезд уже в самой Москве у платформы настоялся, пассажиры давно в город кинулись, а Павлуша все раскачивал, расшевеливал свое тело, пока вдруг не вывалился из «собачника» прямо на проводницу, подметавшую вагон. Однако обошлось. Проводница бывалая, тертая попалась. Стерпела, не подняла хай. Помогла даже вниз по ступенькам высоким сойти, не испугалась.
Ступил Павлуша на землю московскую босыми ногами, но города замечательного рассматривать со вниманием не стал. Некогда, в Ленинград торопился, к Лукерье уютной, жалостливой. А Москву на потом решил оставить, когда подрастет, тогда и посмотрит. Сейчас главная задача: незамеченным с одного вокзала на другой прошмыгнуть, чтобы определенные заинтересованные люди не отловили.
Пробирался Павлуша по Москве пешком. Не любил беспокоить людей просьбами, расспросами, не хотел обращать на себя их внимание, на себя жалкого, чужеродного, а главное — босого на столичном асфальте! Выпадавшего из определенной системы бытия. К тому же на транспорт и денег не было. Клянчить не умел. Воровать побаивался, да и стеснялся как-то… Он шел по Москве километр за километром, интуитивно угадывая направление. Он шел по Москве и стеснялся, и не видел самой Москвы. Одна забота: не отгадали бы, не раскусили бы невзначай. Много лет спустя, когда Павлуша станет взрослым и относительно независимым молодым человеком, он еще раз повторит этот пеший пробег по Москве, когда без копейки в кармане будет возвращаться с острова Сахалина, нерасчетливо потратив заработанные денежки в компании бичей в буфете на пароходе «Урицкий», плывя тогда по Амуру от Николаевска до Хабаровска. Не единожды затем мчался он так, опустив голову, почти бегом, не видя окон, крыш, шпилей, — насквозь через утренний, прохладный, почти порожний тот или иной город, чтобы в итоге окунуться в вокзальный толповорот, а затем, зацепившись за очередной поезд, отправиться дальше, так и не ощутив города, в котором только что побывал.
К концу дня Москва вытолкнула Павлушу на площадь трех вокзалов. Желудок настойчиво, занудно просил есть, все равно чего, хоть жалких объедков. На перроне, откуда уходил очередной поезд на Ленинград, среди возбужденных, чаще радостных, заправленных коньячком и водочкой лиц Павлуше делать было нечего. У каждого вагона стояли проводник или проводница; они протирали поручни, проверяли посадочные талоны и вообще выглядели суровыми, деловыми. Тут же прохаживались милиционеры. Павлуша нырнул под платформу и надежде обнаружить что-либо из съестного. Вот у какой-то энергичной дамы оторвалось от палочки почти целое эскимо в шоколаде и шлепнулось на асфальт. Поднимать его дама не стала. А ее спутник, высоченный военный в орденах и медалях, незаметным движением ноги в хромовом сапоге спихнул, сдвинул с платформы лакомство — прямо чуть ли не в руки Павлуше. Что ж, спасибо. Затем оболочка от сыра восковая обнаружилась, вкусная. А вслед за ней и сухарик хлебный. Вернее — корочка, ножом отрезанная от основного куска. Должно быть, беззубый человек, старичок это сделал, которому корка не по нутру.
Подкрепившись, — ощутив во рту сладкое, соленое и кислое (пол-яблока, не иначе — ребенок недоел), Павлуша стал смекать насчет поезда. Отправлялся в данное время поезд солидный, важный. На синих высоких вагонах, промеж которых кожа гармошкой натянута в проходах, красивыми буквами «Красная стрела» написано было. И еще — «Экспресс». Попасть в такой поезд, внутрь пробраться — все равно что к богу в рай заявиться. Без спросу. Безо всяких на то оснований. И решает Павлуша поехать на крыше. Не на самой верхотуре, где трубы вытяжные, а там, где между вагонами кожа натянута и где до крыши еще целых полметра выступа имелось. Тем более, что туда, наверх, вела самая настоящая лестница — металлическая, надежная.
Главная трудность содержалась в попадании на эту лестницу. И решил Павлуша на ходу, во время движения поезда, садиться. Когда проводники двери в вагоны запирают трехгранным ключом и чай идут разносить веселым пассажирам.
Поезда в те отдалившиеся от нынешних времена ходили так же, как и теперь, по рельсам, и довольно быстро бегали, только тянули их вдаль шипучие паровозы, и «Красную стрелу» в том числе. Набирали тогдашние поезда скорость не сразу, не с первых оборотов, как электровозы сегодняшние. В этом и состоял расчет Павлуши. Отошел он по путям по ходу поезда аж к самому семафору и стал ждать во мраке «Красную стрелу». И вот наползает она на него, гремя сталью, скрипя упругими, суставами, повизгивая колесами. И наконец прыгнул Павлуша, да не за тот поручень ухватился, не за первый, после которого три ступеньки ниже порога дверей вниз опускаются, а за второй, после которого страшное, движущееся назад подвагонное пространство разверзается.
Рвануло Павлушу и, как дверцу на петлях, на поручне развернуло. И повис он на одних руках между вагонами. И теперь, чтобы до ступеньки ногой или хотя бы коленом дотянуться, нужны были силы солидные, тренированные. А ведь Павлуша за время скитаний устал. Да и руки у него обыкновенные, не физкультурные. Короче говоря, одной только волей к жизни от смерти приподнялся. И что замечательно — страху не было. Паники не наблюдалось внутри организма. Имелось одно страстное желание — выкарабкаться. И знал, не сомневался, что сумеет, даже не думал о противоположном, когда только оглушающий удар об дорогу — и нет тебя прежнего, как нет многочисленных миллиардов существ, принимавшихся однажды дышать, двигаться, издавать звуки и любить окружающий мир.
Главным, объединяющим собой всю предыдущую и всю предстоящую жизнь движением для Павлуши оказалось вот это движение коленом вверх и вперед, чтобы поставить это колено туда, на ступеньку. Одна попытка, другая, третья… пятая. На шестой, на самой отчаянной и, вероятнее всего, последней (на последующие ни сил, — ни желания уже не хватило бы), уперся он все-таки в порожек — чашечкой, суставом, и каким суставом! Однажды, еще в войну, лошади, запряженные в бричку с дровами, наехали на этот сустав колесом. Полез он тогда валик отстегнувшийся у левой пристяжной закреплять, под телегу полез, а справа кобыла, не выносившая резких звуков, услышала, как что-то в воздухе рядом треснуло, словно кто-то звук нехороший издал, услыхала кобылка звук тот непотребный и сразу постромки натянула. И за основной, общий валик, что на крюке за телегу держался, повозку и потащила. Павлуша «тпр-р-у!» кричать. А кобыла от этого звука еще пуще уши к черепу прижимает, злится и движение продолжает. В итоге — наехала колесом на Павлушино колено. Хорошо еще — колесо широкое, как лыжа охотничья, да мягкий кусок дороги рыхлой такой попался. Ушла нога в песок. Вдавило ее железным ободом. А ежели б на твердом — раздробило бы вмиг. Но все равно больно было. И тогда, и теперь, когда он этим коленом в обитую железом ступеньку уткнулся. И опять якобы повезло. Не подвел суставчик, не соскользнуло колешко. Сообразило, безмозглое. Не угробило.
Подтянулся Павлуша малость, затем оба колена поставил на подножку, в руках дрожь-трясцу унял. Отдохнул, дух перевел. А поезд уже вовсю на стыках колесами молотит. Ветер над головой так и стрижет волосы. Наутро — Ленинград.
Кинулся Павлуша не к себе домой, не в ту, родительскую, квартиру, где прописан от рождения был, а к Лукерье. Только не оказалось ее в городе. Уехала куда-то. Скорей всего за город. Сняла небось верандочку и воздухом летним дышит. Не знал тогда Павлуша, что уехала его крестная далеко, за Волгу, по просьбе возвратившегося из странствий длительных отца Павлушиного, Алексея. Будущий жилинский учитель по возвращении в Ленинград справил себе необходимые для покалеченных глаз синие очки, сходил в Эрмитаж, на могилу Достоевского в Лавру, на барахолку и вскоре, как уже говорилось, уехал из Ленинграда, где все ему о прежней любви к Павлушиной матери напоминало.
Так что, когда удравший из колонии паренек в Ленинграде объявился, там для него из родных людей никого уже не было. Разве что незаметная, но добрая тетя Женя — соседка по их квартире, о добрых намерениях которой Павлуша узнал не сразу, но ощутил эти намерения именно тогда, когда они сделались столь необходимыми.
Зарядили осенние дождики прибалтийские. В каменных дворах огромного города сделалось зябко, знобко, особенно ежели без обуви и верхней одежды.
Несколько ночей Павлуша на вокзалах провел. Благо они теплые и нескучные. И если жить там внимательно, то и перекусить на вокзале не такое уж фантастическое дело. Но вот как-то ночью повальную проверку документов на Московском устроили. Всех бродяг потревожили и кого на воздух выпихнули промозглый, а кого и в фургоны коричневые, в «черные вороны» на «студебеккерах» американских оборудованные, поместили.
И тут вспомнил Павлуша, вовремя под дождь из вокзала улизнувший, про один такой уютный дровяной чуланчик, на дне которого щепочки и разная мягкая труха дореволюционная имелись; в чуланчике том, принадлежавшем их квартире и расположенном на лестничной площадке, промежуточной между третьим и четвертым этажами, различное бросовое тряпье содержалось. Помнится, замок на дверях чулана был неисправным, висел только для видимости. Серьга такая железная, ржавая, на двух кольцах. И при нажатии на замок дужка послушно отходила.
Зацепившись сзади за седьмой маршрут трамвая, проехал Павлуша, как тогда говорили, на «колбасе» до Васильевского острова и поспешил к себе во двор. В ранних сумерках, не узнанный соседями, проскочил на лестницу. «Только бы замок прежний висел!» — просил мальчик кого-то, неизвестно кого. Замок оказался прежним. Видимо, заржавел он еще больше, так как открылся, вернее, разжался, с большим трудом.
И заночевал Павлуша в отдельном мягком чулане. Дров там содержалось немного, у задней, дальней стены только. Остальное пространство метра в полтора квадратных было не занято. Тряпье, щепки, опилки, бумага и даже целые книги, не сожженные в блокадных «буржуйках», сэкономленные тетей Женей, пошли на подстилку. Сухо, не дует. Чего еще желать?
Днем Павлуша рыскал в поисках пищи по городу. А вечером в чулане обнаружил кастрюльку с густым, еще теплым супом макаронным. А также кусочек хлеба и спортсменки брезентовые, синие, на резиновом ходу и со шнурочками. Были они хотя и поношены, однако самую малость, целиковые почти. И вот тут, кажется, впервые ощутил Павлуша великую, ни с чем не сравнимую благодарность к Неизвестному человеку, поделившемуся так вовремя и так щедро. Слезы, тихие, беспомощные, а затем радостные, ударили по глазам изнутри. И это благородное чувство, вызванное деянием добра, станет как бы первой брешью, пробитой в сознании подростка не пулей, не словом ярким, а всего лишь добрым движением чьей-то живой души, и скорей всего — их незаметной, почти бессловесной одинокой соседки тети Жени…
Позднее тетя Женя уговорила его ночевать в квартире. Сама она жила в махонькой комнатушке, переделанной под жилье из ванной, можно сказать, в щели тараканьей жила. Ломать опечатанную дверь Павлушиной квартиры не полагалось законом. Но закон в данном случае необходимо было обойти — так решила про себя эта добрая женщина. И тогда появилась идея: выставить над дверью фанерку и проникать Павлуше в свою комнату при помощи стремянки, а из комнаты при помощи стола и стула выбираться. Так и перезимовал парнишка. На нелегальном положении. А с приходом весны, узнав подробности об отце и Лукерье, решил продвигаться в направлении Волги, к уцелевшим родичам, которые, по его расчетам, и не подозревали, что он уже на свободе.
В городе к Павлуше не все одинаково ласково относились. Появлялись на его пути и недобрые люди. Вернее, сами-то по себе они, может, и добрыми были, но совершить по отношению к нему хотели явное зло.
Так, в конце марта, когда днем в городе уже вовсю весной пахло, перед заходом солнца сидели во дворе Павлушиного дома дядя Костя Хусаинов, дворник, и домохозяйка-общественница, жена бывшего царского полковника Аграфена, на людях — женщина суровая, деловая, степенная даже, а дома у себя, в отдельной, — кошмарная скандалистка, употребляющая вместо положенной организму полезной жидкости обыкновенную вредную водку и сломавшая в один из припадков бешенства алкогольного ногу своему полковнику. Бывший царский офицер забрал ее в революционное время из публичного дома, чтобы самому прикрыться простолюдинкой этой и приобрести видимость чуть ли не пролетарского происхождения.
И вот Аграфена с дядей Костей, дворником сидят во дворе, поджидают Павлушу. Они знали, что парнишка заявится ночевать, они догадались наконец-то, что малый на птичьих правах пребывает, и решили отловить Павлушу. Чтобы сдать куда следует. И благодарность от милиции поиметь. За бдительность. И когда Павлуша во дворе появился, подозвали его к себе. И стали ему зубы заговаривать. В это время мимо своей жены и упомянутого дворника прошел как бы с работы бывший полковник, не обративший ни малейшего внимания на свою супругу. Бывший полковник еще недавно работал в военном комиссариате. По инерции он еще и теперь продолжал выходить из дому с портфелем, неся в нем порожние бутылки. К вечеру он возвращался из пивной, где проводил весь день в молчании и задумчивости. Тощий и дрожащий изнутри, шел он по двору, как журавль, высоко и осторожно поднимая ноги. Одет он был в военную форму, которую — по инерции же — донашивал. Все во дворе отлично знали, какой груз таскал в своем портфеле полковник.
Павлуша, когда его дворник с Аграфеной за руки взяли, смекнул, что пьяненький этот может каким-то образом помочь ему, вот только неясно — каким?
— Товарищ полковник! — громко позвал Павлуша проходящего мимо старого служаку.
Качнуло старика, шатнуло этак в сторону от скамьи, где Павлуша в данный момент промеж его женой и дворником находился.
— Товарищ полковник! Не узнаете? А я ведь в вашем полку служил. Сыном полка. Здравия желаю, товарищ полковник! Разрешите руку пожать? За отеческую заботу поблагодарить?!
Полковник ни на грамм не смутился. Руку беспомощно, как во сне, протянул. Павлуша навстречу движение сделал, пытаясь руки сторожей своих от себя оторвать. Тем на миг странно сделалось. Полковник — и вдруг руку протягивает! Хоть и нетвердо на ногах стоит. К тому же — супруг, а для дворника дяди Кости — уважаемый жилец. Разомкнули пальцы на одну сотую секунды, поджали коготки. Тут-то и воспрянул парнишка — и духом, и телом. Оторвался от садовой скамеечки и что было сил понесся из глубины двора к воротам.
Бежит, а из головы мысль выпорхнула и впереди Павлуши полет совершает: проскочить между прутьев чугунных, из которых ворота сварены! Тогда — спасен…
А стоит замешкаться перед воротами, и — хана, настигнут. Павлуша знал: калитка такая же чугунная и тяжелая, как ворота, и отходит она на ржавых петлях нехотя, со скрипом. Единственный путь: между прутьев. Тут из примерно десяти просветов необходимо было выбрать один, самый широкий. А такой просвет имелся. Как-то, без явной надобности, он уже пролезал в него, попутно опробовав остальные, непроходимые. На каких-то пяток миллиметров просторнее других был этот необходимый просвет. И вот предстояло угадать, чтобы потом угодить в него с ходу. Не оборвав уши в горячке. И еще одну истину знал Павлуша: пройдет голова, протиснется и все, остальное.
— Дяр-р-р-жи! — выдохнул из себя дядя Костя крик, похожий на стон.
И тогда вонзился Павлуша головой в просвет, в тот, единственный, выбранный им из прочих в последнюю тысячную долю секунды, и — проскочил! И в легких прорезиненных спортсменках по прохладной весенней улице помчался. А за спиной дядя Костя в своих валенках с галошами пыхтит.
— Дяр-р-р-жи!
Народу на улице мало. Единицы отдельные кое-где перемещаются. На углу Восьмой линии и Академического, глухого и пустынного даже в дневные часы, переулка стоит и курит гражданин. Павлуша голову в плечи вжал, руки одну в карман, другую за спину спрятал — пугает курильщика. И мимо гражданина бегом, в переулок темный, страшненький.
Дядя, который курил, на Павлушу намеренно никакого внимания не обратил. Только сплюнул себе под ноги — этак независимо.
В переулке Павлуша сразу же духом воспрянул. Уж здесь-то он зароется куда-нибудь, хоть в землю, под плиты тротуарные в щель прошмыгнет, в мышь превратится, в дровах, в хламе разном исчезнет, с прожектором не обнаружишь. Бежит Павлуша вдоль стареньких петербургских домов закопченных, облезлых. Намеревается в первую попавшуюся скважину просочиться. И вот, наконец, ворота, правда, запертые, хотя и с просветом приличным от земли до створок. Бросился плашмя на булыжник мостовой, голову под ворота нацелил — пролезла! Опять размер головы не подвел. Заскреб, зацарапал землю руками и ногами. Спину и мягкое место ободрал малость, ссадил. Но — продрался. И сразу — во второй, более глухой двор. А там — в парадник сырой, занюханный, зачуханный. Под лестницу, в жижу какую-то, в слизь и труху — еще с блокадных времен накопившуюся, мерзкую. И затаился. Дышать перестал. Слышит, что где-то далеко-далеко, словно за городом, валенки дяди Костины прошмунили галошами об асфальт. Прошуршали едва уловимо и затихли навсегда. На веки вечные. И тут в ноздрях Павлушиных стали возникать эти мерзкие запахи, дохлые, а в ушах звуки: мышь пискнула, где-то на повороте трамвай сталью взвизгнул, собака во дворе в открытую форточку кашлянула. И удушающе мочой кошачьей по ноздрям ударило.
В первые минуты сидения под лестницей Павлуша еще не верил в свое очередное освобождение. Но проходило время, секунда за секундой, и блаженная уверенность крепла.
Нужно было тут же, не сходя с места, решать, как жить дальше? Одна бабушка хорошая с Бронницкой улицы, соседка Лукерьина, хоть и полуграмотная была, а переписываться с людьми любила. И с Лукерьюшкой в переписке состояла. И когда эта бабушка на Бронницкой дверь однажды Павлуше отворила, произошел у них разговор на кухне за чаем, которым бабушка эта почтовая весело так угостила Павлушу.
— Лукерья-то Ляксевна вот что сообщает, сынок…
— А где она, бабушка?
— Да с батькой твоим аж за Волгой-рекой гдей-то… Детишек в школе грамоте обучают.
— Адресок дадите?
— А как же иначе?! Сей минут! Радость-то… И не знал, поди? Пишет Лукерья-то Ляксевна, будто вызволять они с батькой намерились тебя из колоньи. Прошение подавать решили. А ты, глядите-ко, в Питере? Али срок вышел?
— Вышел, бабушка. Спасибо за чай. Писать им будете — про меня пока не сообщайте. Сам к ним приеду.
— Да это как же — не сообщать?! Радость такую?
— Сюрпризом хочу.
— Супрызо-ом?
— Про… маму ничего не известно?
— А вот про маму ничего, родненький…
На том и распрощались.
Для Павлуши только теперь весть об отце явилась ослепляющей, как молния. Она обожгла сердце. Он уже привык к мысли, что один, и вдруг — вдвоем!
Короткое появление учителя в Ленинграде после госпиталя никто в доме на Васильевском тогда не ощутил. Его просто не узнавали. В темных очках, исхудавший после ранений, одежду носил невзрачную, защитного цвета. Соседки тети Жени дома не оказалось, не вернулась еще из эвакуации. Да и прожил тогда Алексей Алексеевич в городе самую малость, не больше недели. На бесстрашное в своем откровении Машино письмо ответил и за Волгу полетел.
Бабушка с Бронницкой улицы дала Павлуше заволжский адресок с Лукерьиного конверта, и теперь адресок тот лежал у Павлуши в пиджаке, который ему тетя Женя из отцовского старенького своими руками перешила: в спине забрала да рукава подвернула. Лежал в кармашке адресок и весело так, задорно подбивал Павлушу к дальней дороге.
Он бы не раздумывая и уехал той же ночью, да хотелось ему на прощанье в Поповку наведаться, прихватить с собой оттуда за Волгу чего-нибудь интересного, взрывчатого, нескучного. И съездил, и мешочек бросовый солдатский в развалинах пристанционного домишка обнаружил, подобрал, под «цацки» свои гремучие приспособил. К ночи в Ленинград возвратился и сразу же, на том же Московском вокзале, в поезд горьковского направления втиснулся.
Глава пятая. Праздник
День Победы, третий по счету, праздновали хоть и небогато, но горячо. За два года не успели остыть от войны, к размеренному течению жизни привыкнуть. Недавние фронтовики почти все были еще людьми если не молодыми, то крепкими, легко воспламеняющимися. Раны, полученные на фронте и в тылу, еще чесались, ныли, а некоторые и вовсе кровоточили. В госпиталях от этих ран продолжали умирать раненые. В городах и деревнях много было нервных, драчливых инвалидов, ломавших во гневе свои костыли и клюшки. Им, этим беспощадно меченным войной людям, многое прощалось. Донашивалось защитного цвета обмундирование с нашивками за ранение: желтые и красные — за тяжелое и легкое увечье. Пелись песни военной поры, правда появлялись и новые, такие, как «Где же вы теперь, друзья-однополчане…».
В глухом лесном Жилине, где на тридцать семейных дворов с войны возвратились четверо, в том числе двое одноногих, один без руки и один контуженый, веселились не все и неодинаково. И все же праздновали этот святой для народа день поголовно. Те, которые из осиротевших, разоренных, тихо, с горем пополам, не переставая страдать, праздновали… Что-то там такое напекли, спроворили, в чистое переоделись и пошли смотреть, как веселятся те, у которых во главе стола бывший воин медалями позванивает, где гармошка верещит и самогонка из глаз слезами и смехом брызжет!
Накануне праздника Павлушин отец провожал до околицы молодую учительницу, кинешемскую Евдокию, что с инспектором Арцыбашевым приезжала. Председатель Голубев Автоном выделил под школьного инспектора единственного коня — мерина Лялю, старого, костлявого, не съеденного в войну одра, запряженного в линейку.
Арцыбашев, громко кашлявший и беспрерывно курящий, похожий на одно сплошное облако дымное, на пару с возницей терпеливо ожидал молодую учительницу на выезде из деревни. А Евдокия с учителем заинтересованно стояли под большой разлапистой елью, как под крышей беседки, и нескладно, почти без слов прощались. Алексей Алексеевич не совсем понимал: почему так медлит, не уезжает сразу девушка? Скучно ей, что ли, такой заводной, пружинистой, в Кинешме? Там ведь и кино, и танцы, и кавалеры есть. Или не такая, как все? И вдруг:
— Разрешите мне… писать вам? — отважно и отчетливо выдохнула ему в грудь, не видя его лица (голова учителя пряталась в густой хвое).
— А что случилось? Вам что, невесело в городе? Одиноко?
— Я могла бы всякой всячины напридумать в свое оправдание. Тем более, что действительно скучно. Друга нету. Радости. Надоела себе. Но все это так и… не так. Вы опытный, небось знаете, как счастье выглядит? Как его распознать? А я вот… голос его услышала. Не верите? Так мне показалось, пригрезилось. Что это… голос счастья. Да, да… Не смотрите на меня как на дурочку. Ваш голос услышала. Тогда, на совещании. На дурацком, занудном совещании, где можно отравиться пресными словами и тихонько заболеть ненавистью ко всему сонному, мнимо живому. И сказали-то вы известное, не Америку открыли. Цитатой из Чернышевского начали. Давайте, мол, прислушаемся к фразе: «Прекрасное — есть жизнь!» «Мы с вами к фразам привыкли, а ведь они зачастую, — говорили вы, — необходимый нам смысл содержат. Мы этот смысл принимаем как должное, — говорили вы, — привыкаем к истине, а заодно и к жизни, как к картошке, как к штанам». О «штанах» потом долго вспоминали. «Быть живым — это ведь необыкновенная радость, — улыбались бы с трибуны, глядели из-за казенного графина с водой на аудиторию, привыкшую к другим словам, к другим, более сухим тезисам. — Видеть цветы, воду, деревья, все живое и мертвое на земле, слышать птиц, людей, ветры, читать великие книги — это ли не чудо?! Жизнь, посетившая человека, — божественный подарок!» — заключили вы громко, и многим стало как-то неловко, не по себе как-то. Даже аплодировали растерянно. Заерзали. Одна учительница, историчка, правильная такая, здоровенная, две коровы в приусадебном держит, справляется и сена накосить, и детям о Римской империи рассказать, та прямо так и заявила в перерыве: «Ненормальный какой-то. О чем это он? А может, выпивши?» Это про вас-то! А я ей и скажи тогда нарочно громко: «Нет, говорю, это не он выпивши, а это вы умерши!» И так это убедительно прозвучало, после того как вы им о Гоголе и о его «мертвых душах» напомнили, которые жизнь за суету принимают, а не за чудо… Ну так как же? Позволите дружить с вами? Письмо вам можно написать?
— Я старик… Мне сорок пять.
— А мне тысяча! Еще полгода, и я окаменею. Не жалко вам?
— Я боюсь… разочаровать.
— Да вы меня как живой водой окропили. Своим-то голосом. А может, вы жадный? Кащей, над златом чахнущий? Собственник? Души своей жалко? Тогда мы революцию в ваших владениях произведем… Небольшую. Но неизбежную!
И побежала к Арцыбашеву. Уехала.
А назавтра праздник. День Победы. Сегодня с утра неожиданно похолодало. Ветер, тянувший с юга ранним теплом, развернулся на сто восемьдесят градусов и сперва даже некрупным мокрым снегом деревья осыпал. Затем пошел дождь.
Павлуша читал «Капитанскую дочку». Чтобы вечером заслуженно есть винегрет и пить чай. По программе нужно было отрывок с тулупчиком заячьим пересказать отцу. Но Павлуша незаметно углубился в повесть. Читать было удивительно легко, сноровисто. И тут постучали в дверь. Пришла Княжна Тараканова. Так звали Таньку, их с отцом землячку, ленинградку, Тараканову по фамилии. Девица она была бойкая, агрессивная, и что удивительно — по-настоящему красивая, даже очаровательная, но с явными изъянами — скажем, курившая папиросы и лихо, по-мужичьи плевавшаяся.
Еще в один из первых дней Павлушиного приезда в Жилино Княжна Тараканова пришла знакомиться. Была она старше Павлуши на пару лет и держалась довольно странно.
— Ну и чего же ты? Давай знакомиться ближе, — серьезно, без улыбки потянула она его за руку к себе. И вдруг поцеловала крепко, с задержкой — в губы. Павлуша вырывался из ее рук, как из рук гестаповца. А девчонка приговаривала: — Земляк называется! Ну чего ты? Давай просыпайся. Меня Танькой зовут. Мамаша у меня тут счетоводом. Эвакуированные. Эх ты, землячок… Волком смотришь. Не нравлюсь, что ли? — И она сплюнула куда-то под печку.
— Пошла ты… знаешь куда! — отдышался наконец Павлуша. — От тебя табачищем…
— А от тебя скучищей!
Тут вошел отец. Уроки кончились. И она сразу на отца переключилась.
— Алексей Алексеевич, а сынок-то у вас бука. Воображала. Ну и… редька с ним! Дайте мне книжечку почитать. И чтобы непременно про любовь. «Декамерон»! Мать говорит: сходи к учителю, спроси «Декамерон». Очень советует почитать.
— Откуда у меня «Декамерон», Танечка? Здесь в школе десяток книг. В основном серьезные, идейные. У меня лично — русские классики: Пушкин, Толстой, Тургенев, которых ты отвергаешь.
— Я не отвергаю. Они меня отвергают. От них в сон кидает, Алексей Алексеевич. Ну, тогда про войну чего-нибудь… Или про шпионов.
— Нету про шпионов.
— Ну, тогда я вам… самовар поставлю, хотите? Я умею. Чаю вместе попьем? Вина-то вы не выпиваете. Я про вас все знаю. Автоном считает, что вы по ночам выпиваете, когда все уснут. И сами себя к койке перед этим привязываете.
Про Княжну Тараканову по деревне ходили самые невероятные слухи. Бабы считали ее ненормальной, пыльным мешком из-за угла стебанутой. А втайне скорей всего завидовали ее раскрепощенному поведению и замечательной телесной красоте. Талия, грудь, шея, головка — все у Таракановой было как точеное, как шахматная фигурка, только живая. Лицо яркое, глазастое, зрачки иногда с голубизной, иногда с бирюзинкой. Волосы русые, выгоревшие на солнце, схвачены чуть пониже затылка синей лентой, и вся прическа сдвинута как бы несколько набекрень. Нос прямой, широковатый, выпуклый, и губы тоже выпуклые, рот размашистый. Зубы все до единого целы, впереди крупные белые, нижние тоже не мелковаты и сплошной стеной, без разредин. А главное, табачного налету на них никакого. Сверкают зубки. И никаких на лице ужимок, ухмылок. Лицо, как у императрицы на медали, — строгое, величественное, властно зовущее, и только в глазах — бес. Посмотрит на мужчину, и сразу тот кровь свою слышать начинает. На женщину глянет Княжна, и эту моментально смутит: зависть всколыхнет или восторг в душе — за все страстное, нежное, изменчивое, томное, сладкое, то есть женское в мире…
Распускали о ней «клубничные» слухи, что со всеми-де мужичками передружила. А мужиков в Жилине раз-два и обчелся. Трое раненых, один контуженый. Остальные — дедушки дремучие. Подрастала, правда, молодежь, тоже немногочисленная и уже тогда в город нацеленная, в ремесленные и прочие заведения учебные. А Таня Тараканова почему-то учиться не рвалась. Была у нее семилетка за плечами, и вот уже два года как собирались Таракановы домой, к себе в Ленинград, но по причине лени в характере, по способности нашей русской не замечать течения времени («завтра ужо-тко!») с места до сих пор не снялись. Слухи о недавних блокадных ужасах пугали, а потом и отяжелели в деревне, в хозяйство вжились — не сразу поднимешься. Глава их небольшого семейства упал, убитый, где-то между Волгой и Доном, пулей в голову клюнутый. Там он и остался лежать, рабочий питерский, в степи, перепаханной военной сталью. Мать Тани Олимпиада, счетоводка, сорока лет, превратилась в деревне в румяную статную бабу, пышущую здоровьем, и председатель Автоном Голубев, хотя и был контужен под городом венгерским, название которого так и не научился произносить (Секешфехервар!), сразу же по приходе из рядов Красной Армии оценил бесспорные достоинства счетовода, незамедлительно получив от своей жены Прасковьи удар кочергой промеж лопаток. Может, потому еще не торопилась Олимпиада с отъездом, что и ей хотя и смутно, неотчетливо, но нравился горячий, душа нараспашку, недавний солдат геройский Автоном, сквозь ранние морщинки лица которого нетленным огнем просвечивала доброта и радость жизни.
Сейчас Павлуша, читавший «Капитанскую дочку», встретил Княжну Тараканову хотя и неприветливо внешне, но с интересом. Так люди на пожар иногда смотрят. Заслоняются рукой, тревожно переговариваются, поджигателей проклинают, а глаз от огня оторвать не могут. Напористая и откровенная, она чем-то отпугивала и одновременно завораживала юношу. Нелегко ему было с ней общаться. Ему, если честно, куда приятнее было бы потолковать с курносой, веснушчатой Капой, которая в школе полы мыла и ноги свои молочные от Павлушиных глаз прятала.
— Ну, здорово, земляк… — Сегодня Тараканова почему-то не шумела, должно быть тактику сменила. Разговаривала настороженно, по сторонам оглядывалась. — Зачитаешься, земляк. Небось «Декамерона» обрабатываешь? Ладно, сиди уж. Мне твой отец нужен. Настоящий он мужчина, не то что некоторые… которые никогда ни с кем не целовались, разве что с ложкой алюминиевой…
— Да я лучше с лягушкой поцелуюсь, чем с тобой…
— Ишь, злыдень какой. Праздник сегодня. Сегодня все целуются. Да и не к тебе я вовсе пришла. А к Алексею Алексеевичу. Он хоть и ровесник моей матери, как говорится, в отцы годится, но человек обходительный и симпатичный. Не то что некоторые, которые «Декамероны» втихаря читают и девок деревенских за ноги щиплют!
— Натрепалась Капка! Вот люди. Чесануть бы вас из крупнокалиберного! Поверх голов…
— Вся деревня уже знает, каков ты пай-мальчик. В тихом-то болоте черти водятся. А со мной, глядите на него, — кочевряжится! Цену набивает. Ладно, мы люди не гордые. Приходи нынче вечеркам к заводу кирпичному. Научу тебя целоваться. По гроб не забудешь…
Павлуша демонстративно уткнулся в книжку. Глазами по буквам рыскает, а буквы от него — врассыпную! Ничего понять невозможно, никакого смысла извлечь из напечатанного нельзя. «Что это она? Треплется? Или всерьез свидание назначает? Вот зараза…»
И тут в дом с огорода Лукерья принеслась. Опорки с ног у дверей сбросила и — к печке. Давай там ухватами ли сковородниками шерудить. Как будто званый обед готовила. А на самом-то деле последнюю картошку со свеклой для винегрета доваривала. Отец поручение дал. Потому как сам целый день в огороде копался: навозу ему накануне привезли. Тележку небольшую. Бычком напряженную. Председатель Голубев Автоном расщедрился. К учителю он что-то такое там питал. Какую-то слабость. «Ведь вот же — мог и в Кинешме запросто устроиться, как-никак с наивысшим ленинградским образованием педагог, а выбрал наше Жилино. Сам возле печки ухватами бренчит, в огороде навоз вилами трясет», — восхищался председатель в домашней обстановке. Распорядился даже пол-литра молока — баночку — учителю продавать. С фермы. Драгоценнейшего. По госцене.
Когда еще только знакомились, Голубев Автоном к учителю с бутылкой заявился. Зимой. В пуржицу. От деревни на лыжах прибежал. Прямо в кухню и — бац! — из рукава полушубка стекляшку с прозрачным вином на стол!
— У тебя, Ляксеич, план, и у меня план! Чтоб у него сучок на лбу вырос! И чтобы, значит, кепка ему на глаза не лезла… У тебя дети-шмакодявки, у меня — хлебные поставки… Давай, Ляксеич, граненые. Знакомиться будем. А ты мне потом на гитаре сыграешь. Говорят, у тебя это получается — ну, рыдание, одним словом!
А когда учитель наотрез водочку пить отказался, закусил председатель губу верхнюю, глаз дергающийся, контуженный пальцем прижал, растерялся на миг, не знает, что ему делать: материться или песни петь?
— Со мной, что ли, не желаешь? Брезгуешь, стал быть?
— Нет, нет! Что вы! — схватился учитель в свою очередь за нервную жилку на виске, возле покалеченного глаза, которая при возбуждении мыслей в голове Алексея Алексеевича как бы танцевать начинала. — Не обижайтесь, ради бога. Клятву дал. С юных лет не приемлю. Со студенческой скамьи.
— И… это как же?
— Не нарушил ни разу. За все годы…
— Ах ты ж, господи! Мученье-то какое. Итак, значитца, ни-ни? Ни боже мой? Ни днем, ни ночью? Не верю! Травка и та росу божью пьет. Режь меня соленым огурцом, если поверю! Это водочку-то государственную, чистокровную и чтобы не пить?! Да чтоб у меня сучок на спине вырос! Чтобы, значит, нищие на него свои торбы вешали. Ладно, пусть… А я приму.
И принял. Но уже не так лихо, как задумано было. Морщился долго, как будто муху проглотил. «Да разве ж такие люди есть, чтобы от вина отказываться?» Долго потом смотрел учителю в синие очки, а затем, когда «вступило», целоваться полез, ошеломленный отказом, но где-то и довольный уже: самому больше достанется. А там, когда про политику разговорились, и вовсе поладили. И как ни странно, Голубев Автоном хотя и без бутылки, но в дальнейшем регулярно к учителю захаживал, в очки ему поглядывал, все как бы ждал: не опомнится ли тот и не пошлет ли за бутылкой?
Вот и сегодня, в День Победы, председатель, хоть сам и не пришел, но Княжну Тараканову за учителем прислал: «Без Ляксеича не вертайся! Околдуй, заморочь ему башку! Но чтобы доставила, и беспременно с гитарой. Хочу под гитару сбацать!»
Лукерья Таньку Тараканову словно в глаза не видит, не замечает нарочно. Пока вдруг боками не ударились, лоб в лоб не стукнулись.
— Каво тебе?! Лётаешь, хвост задравши! Заздря ногти грызешь. Понапрасну потеешь. Мальчонко спины не разгинает над книжками. А ты его на баловство подбиваешь, страмница! Ишь прилетела…
— Не замечает меня твой «андел», баба Луша. Ты мне Алексея Алексеича позови. Дело к нему есть. У председателя.
— А ты что же, кульером?
— Председатель брагу у нас пьет. Если не приведешь, кричит, спалю деревню! А ведь от него, от контуженого, всего можно ожидать.
— Нет на него милиции.
— Зато Супонькин приехал. Бабушки Павлины, которой девяносто лет, сынок. С председателем один против другого сидят, скучают. Стаканами бодаются.
— Это который с револьвером раньше шастал? Безгубой? Молчун?
— Он самый. Прежде в Кинешме на базаре дежурил. Уволили за дурость. Бросался на всех. Теперь по заготовке дров уполномоченный. Толкач, одним словом. Пугало огородное. На деревне его по старой памяти боятся. Голос у него начальственный, и кобура на заднице висит. А в кобуре он закуску носит, сама проверяла у сонного: огурец соленый, чесночина… Оба теперь сидят, на мою мамашу смотрят, как на денежку сторублевую…
— А чего им от нашего? К Ляксею чего цепляются?
— Поговорить хотят с умным человеком. Пускай, мол, на гитаре сыграет. За молочко, говорит, платить надобно! — соврала Тараканова.
— За молочко? За такусенькую баночку-то?
— Возьмет да отменит.
— Погоди-тко, козёнку заведу летом. Будет у нас своя баночка молока…
— А председатель травы не даст. Чем ваша козёнка питаться будет?
— Это ж надо, греховодник! На гитаре ему играй… Чего захотел!
Под открытым окном в огороде уже давно стоял учитель и невольно прислушивался к женскому разговору. «Молочная» угроза подействовала на него удручающе. Потерять сейчас такое подспорье, когда у него тощий сын на прокорме, — форменная трагедия. Да и что он, действительно, прячется от людей? Праздник сегодня или нет? Еще какой! Радостный, не утихающий в сердце с годами… Большой праздник. Пойду, поприсутствую, покажусь… Только уж без гитары. Еще чего! Не маленький.
Отослал Тараканову, посулив, что скоро придет. Надел костюм свой единственный в полоску, на котором моль за зиму несколько отверстий проела. Подумал усмехаясь: «Для вентиляции даже лучше так… С дырочками». Лукерья вынесла из комода рубашку глаженую, с вдетыми в петли рукавов запонками. Принарядился, пошел.
В избе Таракановых, как в клубе, полно народу. Любили к бухгалтерше мужского пола гости приходить. Хозяйка — вдова молодая, дочка на выданье, так что две как бы сразу приманки. Таракановы — женщины бойкие в поведении, миловидные, песню любят. Обе — и мать, и дочь — курят, вино выпивают. Однако чистюли: полы в доме всегда свежие, окна протерты нашатырем, занавески и все остальные тряпочки мыты-глажены.
Председатель Автоном сидел за столом бритый, в белой зефировой рубашке и при «гаврилке» — галстуке с навечно завязанным узлом. Есть такие лица у блондинов, которые как бы всегда загорелые, как бы только с юга — зимой и летом малость подкопченные по румянцу. Лицо у Автонома мускулистое, продолговатое, на лбу, с детства сморщенном, челочка несерьезная, волосики желтые. И вся голова подстрижена коротко, высоко, под полный «бокс». На шее загар еще больше, и не загар уже, а как бы вековая патина, будто на статуе уличной. Правый глаз постоянно прищурен, взгляд вследствие этого подозрительный, веко над глазом иногда подергивается. На председателе синие комсоставские галифе, сапоги тонкого хрома, единственные такие в деревне. Даже уполномоченный Супонькин обут в брезентовые защитного цвета сапожки с разлохмаченными протертостями там, где одна нога другой при ходьбе касается.
Если председатель Голубев Автоном представлял собой тип разухабистого, к тому же помеченного войной, открытого русского мужика, любившего прихвастнуть, приударить за женщиной, а в прежние, допредседательские, времена схватиться в драчке у сельпо или в престольный праздник повести мужское население деревни на соседнюю Гусиху, чтобы там бой трескучий, с проломами костей учинить, а после самому же и улаживать неприятности при помощи тяжелого послепраздничного толковища в доме раненого, то молчаливый, подозрительный Супонькин, наделенный не властью, а как бы ее видимостью и если не огнестрельным оружием, то, во всяком случае, футляром из-под него, кобурой кирзовой, шершавой, внутри которой поди узнай, что в действительности содержится, — тонкогубый этот Супонькин был мрачен, высокомерен, сидел, жуя подаваемое брезгливо, но беспрерывно жуя.
Одет он был в теплый шерстяной китель и, что удивительно, за все время сидения в гостях у Таракановой не снял с головы плоской военной фуражки с розовым, полинялым околышем. Иногда он как бы в забытьи подносил руку к козырьку, поднимал над лысиной фураньку, но, передумав, опускал на прежнее место.
Лицо у Супонькина было круглое, мелковатое, нос маленький, брезгливый. Чертам его не хватало жесткости, мужественности, и Супонькин восполнял эти штрихи, наливая свой серенький каменный взгляд беспричинной ненавистью ко всем и каждому. Пьянел он в ноги, то есть лицо оставалось железобетонным, безразличным, взгляд все таким же ненавистным, язык молчаливым, Зато уж ноги наливались свинцом, мертвечиной. И если к концу гулянья Супонькин с независимым видом подымался с табуретки, то тут же и падал: ноги его подкашивались, как подломленные; все так же молча и независимо глядя на окружающих, валился он головой вперед, на лету засыпая мертвым сном.
Хозяйка дома — Олимпиада Тараканова — сидела у стола спиной к светлому окошку, заслоняла солнечные лучи, прятала в тени свое некстати полневшее красивое «барское» лицо и тело, куталась в шаль оренбургскую белую, как в небесное облако.
И председателя, и Супонькина усадила Олимпиада напротив себя. А возле нее, склоняясь ветхой бороденкой то к столу, то к коленям хозяйки, раскачивался бывший «заводчик» Бутылкин Яков Иванович, подаривший Олимпиаде еще в военные годы колечко не простое — золотое, с глазком бирюзовым. Тараканова не гнала старика Бутылкина от себя. Сережек бирюзовых дожидалась. Чтобы, так сказать, полный комплект составился. А старик медлил, тянул с этим делом… Словно чуял разлуку с мадамой неминучую, которая после выдачи сережек неотвратимо наступить могла.
В избе у Таракановых не было маленьких детей. И домашних животных, в смысле кошек и собак, не наблюдалось. Все здесь было сугубо взрослым. Как фильм, на который до шестнадцати лет не пропускали. Других женщин, кроме хозяйки и ее дочки, тоже не водилось. В углу комнаты, где у хозяйки был отзанавешен от посторонних глаз большой кованый сундук с добром, сидел и сидя спал кто-то незримый: из-под занавески высовывался только один кирзовый сапог. Характерно, что сморившегося гостя не положили, скажем, на широкую, никелированную хозяйкину кровать, а усадили на сундук сиднем. Умеешь пить — умей, мол, и спать в любом положении.
Учитель поздоровался, сняв на мгновение синие очки, и сделал нечаянно широкий жест рукой, державшей те самые очки. Получилось довольно развязно, нехарактерно для учителя. Но в то же время жест этот многие сочли добродушным, объявляющим, что-де местный интеллигент не прочь повеселиться со всеми наравне. И это явилось упущением Павлушиного отца. Потому что Бутылкин Яков Иванович сразу и по плечу учителя хлопнул своей рукой, вымазанной в селедке. А Супонькин фураньку приподнял, показав новому гостю как нечто сокровенное свою бледную лысину.
— С победой тебя, Ляксеич! — полез целоваться дедуля Яков Иванович, но Голубев Автоном поспешно старика за подол рубахи перехватил, осаживать начал, как коня.
— С праздником вас… — Учитель прихлопнул глаза очками.
Хозяйка, хотя и знала, что землячок ее питерский винцо не потребляет, однако стопку перед ним поставила, водочки в нее набулькала. Бутылку с остатком под лавку спрятала, мужикам браги из графина в граненые стаканы долила.
— Присядьте, Алексей Алексеич! Нате вам гитару, сыграйте что-нибудь грустное. Танюша, сыми с гвоздя семиструнную!
— Дай ты ему отдышаться, Лампияда! Садись, наука, докладывай, почем хрен на мировом рынке. А на Бутылкина — чихай! Чтоб у него сучок на пятке вырос! Как чесать, значит, так разуваться… С праздником, дорогой! Садись, воин, пей чарку! Хотя какой ты воин? Горького не хлебаешь.
— Мне бы, граждане, чайку стаканчик. Я от него хмелею.
— Наливай, Танька, учителю, пусть хмелеет… как могет.
Младшая Тараканова нацедила в тонкий стакан настоящего чаю коричневого. Уселась рядом с учителем, непрестанно заглядывая ему в глаза под очки. Вдруг мать ее, Олимпиада, оттеснив крепким, литым бедром старика Бутылкина, вынеслась из-за стола, откинула занавеску, прятавшую сундук. На сундуке в сидячем положении спал, а теперь на мгновение проснулся красивый молодой человек, похожий на Иисуса Христа, как его принято изображать на русских иконах. Длинные темные волосы, черты лица тонкие, вытянутые, глаза огромные, вместительные. Выражение глаз страдальческое и одновременно бывалое: знаю, мол, вас как облупленных. Человек этот был инвалидом. Имел всего лишь одну ногу. Другая обрезана высоко, так что даже с сундука ничего и не свешивалось, окромя порожней штанины, внизу подвернутой и аккуратно заколотой крупной блестящей булавкой.
Олимпиада, взвинтив в себе настроение глотком водки, одной рукой крышку сундука вместе с молодым человеком подняла, другой рукой нашарила что-то в глубине, вновь опустила крышку, задержала занавеску. Вернулась к столу. В руке ее дорогой серебряный подстаканник очутился. Вставила в него стакан с чаем.
— Вот! Уважаю! Пейте, Алексей Алексеич… Из фамильного. Купцов второй гильдии Таракановых! Одна эта вещица и осталась от всей прежней жизни. На узор обратите внимание. Произведение искусства!
Учитель снял очки. Принялся подстаканник рассматривать. Он теперь каждому отвлекающему от компании событию рад был безмерно. И вдруг подстаканник из его рук чуть под стол вместе с напитком не падает…
— Что, горячо? — с серьезным выражением лица младшая Тараканова спрашивает. А старшая потянулась за гитарой.
На подстаканнике Алексей Алексеевич необычный узор обнаружил. Голые амурчики, если к ним повнимательней приглядеться, являли собой картинку не совсем пристойную. Краска бросилась в лицо педагога. Но дамы делали вид, что им ничего не известно про сюжет на подстаканнике, а мужчинам скорей всего и впрямь невдомек было.
Поставил Алексей Алексеевич на стол горячий чай. Он и подуть-то на него теперь стеснялся, не то что пригубить… Ай да Олимпиада! Какой трюк в запасе имеет. Уважала, называется… Хотя — почему он должен смущаться старинного сюжета?
И постепенно учитель к чайку приспособился. Сперва ложечкой чайной доставал его из стакана, затем и прихлебывать начал. Вкусно. Давненько он настоящего, государственного не пивал. Все больше мутного с молоком да на малине или мяте настоянного.
— Вот ты грамотней нас, Ляксеич. Ума палата. Лоб вон какой красивый имеешь да высокий, будто у папуаса, чтоб у него банан между глаз вырос! Вот ты мне и ответь на вопрос со всей ответственностью: почему это мы такого сильного да механизированного Гитлера на лопатки положили?.. И вообще, почему советская власть в России победила? Прижилась, привилась, не отсохла?
— Помилуйте, Автоном Вуколыч! Да что я, академик какой — на такие вопросы отвечать? Мое мнение маленькое, частное.
— А ты без частного, ты по-общественному ответь, не виляй.
— Сильней оказались, вот и победили, — почесал бороденку Бутылкин.
— Не тебя, дед, спрашиваю. Ты у нас кто? Бывший как раз частник, владелец. Мы тебя в коллектив приняли? Приняли. Будь доволен и не шурши. Темней тебя — только в желудке… Я педагога спрашиваю.
— Ну хорошо. В революцию, да и в Отечественную войну, кто, по-вашему, дрался?
— Люди, знамо дело! — Председатель чиркнул спичкой, намереваясь прикурить, но старшая Тараканова, дунув на спичку, сшибла с нее огонек.
— Естественно — люди… А вот еще кто? А еще идеи! Борьба идей. Фашистские и советские идеи в единоборство вступили. И наши, советские, оказались сильнее. Почему? Потому что были справедливее вражеских.
— А как же второй фронт, «студебеккеры»? Это что же — в значение не идет? — с ухмыльцей поинтересовался Яков Иванович Бутылкин. — Одне, стал быть, идеи? А свиная тушенка, а порошок ихний, яичный?
— Ты, Яков Иваныч, резинку бы еще вспомнил, которую они сперва жуют, потом… на палец надеют! — хохотнула Олимпиада.
— Сидел бы ты, дед, со своим порошком! — брезгливо махнул в его сторону председатель. — Человек по науке объясняет. Валяй дальше, Ляксеич.
— А что дальше? Идея — понятие обобщающее, состоит это понятие из живых, человеческих проявлений, то есть — действий. Скажем, наш солдат менее изнежен в быту, ко всяческим невзгодам невосприимчив, стоек, одним словом. Говорят, его расшевелить трудно, зато уж, если поднял, раскачал — не остановишь. Или вот — солдат наш… ну не добрее, а как бы снисходительнее в драке, измываться над побежденным, ремни из его кожи резать или на абажуры ее натягивать не станет. Короче говоря, по своей духовной формации ближе он к добру, нежели к злым проявлениям. А побеждает в итоге что? Добро. Иначе на земле давно бы никакой жизни не было. Перегрызли бы все друг друга.
— Во! Истинно так! — ожил, чуть ли в ладоши не ударил хитренький, «старорежимный» Бутылкин. — А добро есть что? Бог!
— Сиди уж, «бог»! Добро есть то, что я тебе по шее не бью за такие твои поповские слова. Брагу с тобой за одним столом пью… Чуешь? Эх вы-ы-и-и! Наука! Мать вас за ухом не чесала! А победили мы, потому что я один сюда из тридцати невредимый вернулся! Да и какой невредимый? Водку пить не можно… Голова болит еще до принятия. Спасибо, что руки-ноги целы, не отвалились, висят. Вот почему победили! Потому что дрались! А дрались почему? Потому что… за Родину. Как только поняли, что Родину от нас отобрать хотят, так и поднялись все как один! Не знаю, есть ли еще какая нация, чтобы так Родину свою любила? Наверняка есть. Но все же не так… Не по-нашенски.
— А какие мильены наклали, искрошили! — покачал головой Бутылкин, с чем-то явно не соглашаясь. — Мы вот за столом сидим, пищу принимаем. А за наши, то исть, идеи в любой момент убить могут? Новую войну спроворят, и ходи на нее… за красивые слова?! Это как же?
— Не за красивые, а за справедливые, — уточнил Алексей Алексеевич.
— Понял, Бутылкин?! — очнулся вдруг от раздумий председатель. — За справедливость! А не за слова… Умирали мы.
— Все равно — непотребно друг друга убивать, — не сдавался Бутылкин.
— Замри, контра. Затихни. Не имеешь права, — разжал белые губы Супонькин. — В расход спишу…
— Оно конешно. В сравнении с вами я контра. За советскую власть с ружьем не воевал. Кирпичи делал. Все как есть обдумал. И к выводу пришел: нельзя людей убивать! Нехорошо, негоже! За мирную жисть всем стоять надо! Вот закон. Бога забыли…
— По-твоему, Яков Иваныч, при боге не убивали? А татары? А монголы? А французы и прочие империалисты?! — звонко откусил, будто от яблока, от головки лука председатель. — Скажи, Ляксеич, — пряно дыхнул на учителя Автоном, — ты у нас… с наивысшим в кармане. Людям на земле житья — кот наплакал, мало. А на тебе, прав Бутылкин — деремся! Чуть что — за грудки!
— Бес ими управляет, вот почему! — встрял опять Яков Иванович. — Вон дите грудное возьми… Титьку мамкину сосет. Андел! А нет-нет да и кусит, нажмет десной, аж взвоет та кормилица. Откуда в ем-то злоба? В молочном да розовом? А все потому, что плохое вкуснее хорошего. Острей, слаще!
Учитель смущенно развел руками и, обращаясь к председателю и одновременно к Якову Ивановичу, невесело вздохнул, прежде чем попытался ответить на их «почему».
— Чтобы на такие вопросы отвечать, не образование, а жизненный опыт необходим, Автоном Вуколыч… И смелость суждения, которую в университете не приобретешь.
— А ты не боись! Супонькина, что ли, робеешь? Да он уже мертвый. Нету его. Одне галифе с кителем. А душа из него прочь уплыла. Вместе с брагой Лампиядиной. Вниз по матушке…
— Замри. Затихни… Изведу! С корнем вырву, — прошелестел из-под козырька фуражки живой-невредимый Супонькин.
— Язык в ем еще сгибается, а мозги паром наружу вышли! По себе знаю, ежели на седьмом стакане…
— А я, Автоном Вуколыч, и не робею. Ты о моей биографии наслышан: были и огни, были и воды… Только смелость суждения — это не в морду дать, извините за грубое выражение, — повернулся учитель к женщинам. — Чтобы смелость суждения в речах присутствовала, необходимо ее в мозгах иметь. А чтобы в мозгах она присутствовать могла — нужны убеждения. Которые с возрастом приобретаются. Я это все к тому, чтобы впросак с ответом не попасть. Созреть для такого ответа необходимо. А я еще сам дитя в таких вопросах. Несмотря на седину в голове. Бутылкин Яков Иванович прав, по крайней мере, в одном: людей убивать нехорошо. Мир справедливее войны. Истина во все времена.
— Ай да Бутылкин, голова! Он у нас такой. Жилинский, нашенский. Ишь кирпичная душа! Сучок тебе в ухо! Чтобы, значитца, на ем птички отдыхали… — возбужденно заскрипел табуреткой Голубев Автоном, а дремавший Супонькин, с трудом приподняв голову от груди, просипел в сторону дедушки:
— Бутылкина — в р-рас-сход! Частника… — и вновь опустил голову, да так резко, что фуражка упала вперед, на закуску, обнажив прелую лысину заготовителя.
— А вот Супонькин не воевал. Больной, старый. Язва, грыжа. Дерьмо, одним словом. Огни да воды не проходил. Одни разве что медные трубы, сучок ему на лоб, чтобы фуранька не падала.
Алексей Алексеевич оставил чай в игривом подстаканнике, подбородок себе, бритый до блеска, чесать принялся. Явно что-то сказать еще хотел, мысль оборванную узелком завязать.
— Вот вы, Автоном Вуколыч, вопрос войны и мира затронули. Почему, значит, убиваем друг друга. Здесь сразу несколько вариантов причин в ответ напрашиваются…
— Людей не жалко — вот и война, — задребезжал опять Бутылкин. — Чужие все, вот и причина. А ежели б все, как сродственники родные…
— Да родные-то вон — топорами секутся! Из-за копейки круглой. Не-е-ет, Яков Иваныч, тута ты промахнулся, с родными. Такая промеж них война идет иной раз — никакому Наполеону не расхлебать! Здеся ты осечку дал, Бутылкин, как в лужу треснул!
— Так я ж об том и шепчу: не родня родные, а те, хто от сердца свово кусок оторвать безболезненно могут, оторвать и голодному, пусть даже супротивцу, протянуть. Обиду простить, из беды выхватить, лихом не поминать — вот хто родные. А не родня, под одну крышу согнанная.
— Двух абсолютно одинаковых муравьев в муравейнике, не то что людей на земле, и тех нету… Сколько голов, столько и мнений разных, идей. Постоянно друг другу правоту свою нужно доказывать. Разве не так? — оглядел присутствующих Алексей Алексеевич.
— А ты докажи! — ударил кулаком по столу председатель.
— Вот тебе и война, — засмеялся учитель.
Мирная в общем-то беседа, монотонное, как вечерний шум листвы, застолье в доме Таракановых внезапно, как бомбой, крышу пробившей, сметено было возникновением ураганным жены Автонома Прасковьи Голубевой! Дверь входную чуть с петель не сорвала, бухнула в нее задницей так тяжко, что в игривом подстаканнике учителя жалобно заныла чайная ложечка старинного купеческого серебра.
— Сидишь, козлина рожа?! — подступила Прасковья первым делом к мужу.
— С-сидю, — вобрал голову в плечи председатель.
— У! — вознесла она крепкий кулак над прической супруга.
— Постой, не убивай кавалера, — выпустила Олимпиада улыбку, как голубя, из крыльев платка оренбургского. — Оставь на развод.
Прасковья, казалось, только и ждала, когда Олимпиада рот разинет.
— На развод?! Это тебе, что ли? Гляньте на нее, бабоньки! Самою лихоманка с мужиком развела, так ей теперя других развести не терпится! Ресторант открыла! Веселись-закусывай!
— Ну, ты… клуша, — приподнялась из-за стола старшая Тараканова. — Мели языком-то… Совсем, видать, с ума спрыгнула. Оглянись, какой тут ресторан тебе? Гости тут порядочные, которые постучавшись в дом входят. Ишь растопырилась!
— Да я тебе, стелька дырявая… — полезла широкая, мужественная Прасковья на сдобную и такую же крупную Олимпиаду.
Качнулся легонький, не слишком крепкий вдовий стол Таракановых, за которым компания пищу принимала. Что-то подпрыгнуло, что-то хрустнуло, что-то разбилось, рассыпалось…
Заспанный Супонькин очнулся и первым делом начал искать свою фуражку, полез за ней под стол, где и обосновался.
Прасковья оцарапала Олимпиаде щеку ногтями. Голубев Автоном и младшая Тараканова кинулись разнимать женщин. Тут-то и получил Автоном от супруги коварный удар, от которого сперва согнулся в три погибели, а затем, с потемневшими от боли гляделками, распрямился, обнял Прасковью и стал ее медленно, как во сне, душить, раскачивая и вяло тряся над столом, как копну сена на вилах.
Перекрестился втихаря Яков Иванович Бутылкин. Учитель, ошарашенный крутым поворотом событий, поначалу решил, что гости шутят… То есть пугают друг друга. Но, уловив скользящий слепой взгляд прежде жидких, а тут враз вспыхнувших густым бешеным огнем глаз Автонома Голубева, сообразил, что пора ему вмешаться и остановить подвыпивших людей, пока они окончательно не озверели. Ему еще прежде стало как-то стыдно присутствовать среди дерущихся женщин. А когда на одну из них поднялся мужчина — тут уж Алексей Алексеевич и сам задрожал от возмущения.
— Немедленно прекратите безобразие! — тронул он ходуном ходящее плечо Автонома. И сразу получил локтем по скуле. Да так, что синие очки с лица учителя снялись и на Олимпиадину широкую кровать с серебристыми шариками перелетели!
— Как вам не стыдно! Бить женщину! — ухватил сослепу за ухо председателя и тут же получил в ухо сам.
Боль ржавой иголкой шевельнулась в голове, там, где-то на дне его полуослепшего глаза, и Алексей Алексеевич, почти и не целясь, ахнул кулаком в страшные, выпученные глаза Автонома. Из-под стола, приподняв закраек скатерти, высунулась рука Супонькина, в которой была зажата кобура от револьвера.
— Берегись! Зашибу! — просипел он оттуда.
Однако дерущиеся внимания на его жест не обратили. Недавно вернувшиеся с фронтов, оттуда, где воздух был сплошь нашпигован выстрелами, мужики сигналу Супонькина значения не придали и продолжали себе сопеть, выкручивая друг другу руки. Женщины, правда, несколько присмирели, приводя в порядок потревоженные наряды. И только дедушка Бутылкин, осуждающе покачав головой, посоветовал Супонькину:
— Не пужай… Как бы тя самого за энту кобуру не штрафанули. Без права ношения коробочка… Спрячься, палнамоченный, не подливай жару в огонь.
На шум из-под занавески вышел красивый инвалид, дремавший там сидя. Он долго стоял на своей единственной ноге, рассматривая людей, и вдруг, должно быть, забыв про свое увечье, сделал шаг вперед несуществующей ногой и тут же грохнулся, завалился набок, угодив головой под стол, присоединившись к Супонькину.
— Вон какие тут гости, етицкие силы… — все еще не могла успокоиться Прасковья.
А мужики наконец перестали тягаться и тоже заговорили.
— Как же это ты, учитель? Нельзя, чтобы советскую власть в лоб бить… Некрасиво получается. А то ведь я и со света сжить могу, — утирал Автоном кровь под носом.
— Ничего… До сих пор не сжили, и тут обойдется, — трогал Алексей Алексеевич синяк под скулой. — Кто ж женщин бьет по лицу? Советская власть, что ли?
— Женщин нашел. Те-те-те… Женщины в пах не лягаются! Женщины дома сидят, щи варят… Оно, конешно, извиняюсь, ежели что не так. Сорвалось. Будто чем мозги заслонило…
Из гостей учитель возвращался не столько потрясенный мозолистыми кулаками Автонома, сколько убитый слабостью людской, и своей в том числе. Уходил с тревожно бьющимся сердцем, сетуя о непоправимости содеянного, уходил, не зная, что у Таракановых вскоре успокоятся, выпьют «не последнюю» за Победу, не помня зла друг на друга, разойдутся но домам.
Пошатываясь как пьяный, продвигался Алексей Алексеевич по тропе к школе, спотыкаясь о коренья деревьев. За многие десятилетия ходьбы по тропе неизвестные пешеходы унесли на подошвах своей обуви, а также втоптали, утрамбовали верхний, уязвимый слой почвы, обнажив корни растущих возле тропы елей и берез. Больно ударившись пальцами ноги об один из таких корней, учитель наконец догадался нашарить в кармане пиджака свои синие очки, чудом уцелевшие в потасовке.
И вдруг из вечерних кустов навстречу ему Павлуша вышел. Зоркий и не по годам внимательный, парнишка тотчас уловил в состоянии отца неладное. К тому же синяк из-под очков учителя распространялся теперь вширь. Мальчик не стал бесцеремонно разглядывать отца, но в смятении опустил голову и так стоял, дыша с каждой секундой все громче, нервнее.
— Кто это тебя, папа?
«Папой назвал!» — пронеслось в голове Алексея Алексеевича.
— Да вот. Имел глупость в гости пойти. А там, понимаешь ли… одну женщину оскорбляли. Вот и пришлось обидчика на место поставить.
— А синяк?!
— Глупо, глупо все, понимаешь ли… Драться, бить человека по живому телу — это дикость, бред! Понимаю, ну, если там война. И то — дико. А здесь — сами… Тьфу ты совсем! Скверно, сынок. Нельзя людям ссориться, недостойно. А мне, думающему… Пушкина, Тютчева наизусть детям читаю… И на тебе — набросился на человека. Правда, мне показалось, будто он женщину душил. А вдруг я сломал ему что-нибудь?
— Кому, папа?
— Председателю. Автоному Вуколычу, Павлуша. — А про себя подумал: «Если увечье какое причинил — все, прощай свобода: засудят. Автоном — лицо официальное. А что касается баночки молока, то и разговаривать нечего — лишился ее навсегда».
— Пойдем вернемся туда! Я их на воздух подниму, гадов! — Губы Павлушины мелко-мелко дрожали. В глазах горячие злые слезы закипели.
Алексей Алексеевич протянул руки, схватил Павлушу за плечи, порывисто прижал к себе мальчика. Словно боялся, что тот и впрямь помчится убивать. Неосознанная жаркая нежность обволокла сердце учителя. Пальцы коснулись волос мальчика, и тут же отец ощутил, как стыдливо отхлынуло от него хрупкое, чуткое тело парнишки. «Ничего, — подумал, — даст бог, оттает еще. Не все в кем вымерзло…»
— Значит… ты ему тоже врезал?
— К сожалению, не сдержался.
— Вот и молодчик! Еще чего — сдерживаться. Тебе синяки ставить будут, а ты сдерживайся. Да я б ему девять грамм! Чтобы в одно ухо влетело, в другое вылетело!
Отец за голову схватился:
— И это Голубеву-то? Автоному Вуколычу такое? Нашему председателю? Участнику, герою войны? Раненому, контуженому? Что ты, что ты, сынок? Господь с тобой… Он же хороший человек. Он, поди, сам сейчас страдает… Не-е-ет, сынок. Да он тут за всю свою жизнь и не радовался, может, ни разу. А страданий принял — ни в одного буржуя не влезло бы… Что ты, что ты, сынок? — Учитель все настойчивее тряс головой из стороны в сторону, отрицая виновность председателя.
— А чего тогда дерется? Думает, слабаки тут, да?! Интеллигенция тухлая, очкарики? Контуженый, ха! Да мы все после войны контуженые…
Отец продолжал серьезно отговаривать Павлушу от мести председателю, как вдруг в ракитовых кустах над ручьем гулко, предельно отчетливо попробовал голос молодой соловей. Голос его хоть и был звучен, объемен, густ, однако свободы ему, раскованности певческой явно еще не хватало. Иногда он как бы со счету сбивался и лупил горохом невпопад, иногда, захлебываясь, проглатывал звуки.
— Слышишь, Павлуша? Опять соловушка…
— Не глухой.
— Нравится?
— Значит… простишь Автоному?
— Прощу, конечно. Тем более что я сам виноват. По правилам нужно было связать председателя. А я на рожон полез. Хуже всякого пьяного.
— В следующий раз он тебе под оба глаза подставит. У тебя ранение было! Он же тебя ослепить мог, зараза! Зверь!
— Прекрати, Павлик… Какой Автоном зверь? Крестьянин, солдат бывший. Покалеченный человек. Его лечить надо. К жизни возвращать. А нынче день-то какой! Победы день… Автоном сегодня полное право имеет забыться, развеяться. Давай лучше помолчим. Вот и соловья спугнули. Завтра погода хорошая будет: солнце в чистую постель легло, ни облачка на заходе. Пойдем-ка, сынок, «полковника» поставим, чайку закипятим, поужинаем.
— Чем? Опять винегретом? Всю войну по помойкам… Думал, война кончится — напробуюсь всего!
— С голоду не умираем, слава богу…
— Какой еще бог? Ты же учитель, грамотный человек. А выражаешься, как Лукерья. Бог пошлет, от него дождешься. Вот погоди, разузнаю, когда в Кинешме набор в ремеслуху… Специальность получу. Буду тебя мясом, котлетами кормить. Чтобы ни одна тварь осилить не могла. А то мы здесь на твоем силосе в фитилей превратимся.
— Не городи чепуху, Павлик. Ты будешь учиться в школе. В нормальной городской школе. А потом в университете. И питаемся мы не хуже других, а может, и лучше. Наверняка лучше других.
Сумерки, облепившие землю, давно уже спрятали от притомившихся глаз учителя контуры леса, деревенских крыш и прочих выпуклостей жилинской долины. Отец было двинулся к школе, наугад ставя ноги и не всегда попадая на тропу. И тут Павлуша деловито обогнал отца, взял его за руку и, как исправный поводырь, повел домой. В груди учителя сразу же вспыхнуло что-то и как бы таять принялось.
«А ведь он добрый, этот зверек… Котлетами кормить обещал. В обиду не давать…»
И тут в памяти Алексея Алексеевича фактик один недавний всплыл. Приходит однажды с уроков, а на столе в его кабинете в стакане граненом — синеглазые подснежники! Недавний воин, бродяга, чуждый, казалось бы, разных там нежностей телячьих, он почему-то решил тогда, что цветы насобирала, конечно же, Лукерья. А когда походя поблагодарил ее за внимание, выявилось, что сестрица к цветам не причастна. «Неужели парень расстарался?» — подумал тогда неуверенно, а теперь вдруг понял, что он, то есть непременно сынок расщедрился.
Павлуша вел отца с явным удовольствием, старательно вел. Глядя на тонкую шею парнишки, что белела в полуметре от глаз, учитель, улыбаясь, тешил себя надеждами: «А вот и ничего! Выдюжим… Главное — прорасти на этой земле. Корешками за нее ухватиться. Солнце увидеть, влагу небесную впитать. На таких ветрах устояли, из-под такого холода смертельного выбрались, не иссякли… Не хуже тех подснежников неопалимых, отважных… Лишь бы мне теперь мальчонку от себя не отпугнуть — характером, привычками своими дурацкими. Бубнежом педагогическим. Лишь бы не отдалить от себя кровиночку…»
Когда в черной синеве ночной начали просматриваться очертания школы, Павлуша выпустил руку отца, отстранился, как бы стесняясь теперь своего доброго порыва.
Неделю спустя на школу пришло письмо. И впервые не казенное, не из районо, а самое что ни на есть частное, личное, едва уловимо излучавшее запах духов. Адресовано письмо было Алексею Алексеевичу. Да, что ни говори, а событие. Письмо было с маркой, изображавшей летчика в шлеме. Принесла письмо Княжна Тараканова, которая с недавних пор устроилась почтальонкой, сменив на этом посту пропавшую без вести девушку Олю, сестренку Сережи Груздева. Несколько дней тому назад ушла она за почтой и не вернулась. Из леса…
Княжна Тараканова выложила на стол газеты, официальную открытку с приглашением на районную конференцию учителей и, наконец, то самое письмо.
— Вот… Духами пахнет. «Белая сирень». Из Кинешмы штемпель. Плясать в таких случаях принято. Ну, хоть сынка заставьте, пусть пару разочков присядет, бука. Все приятнее почтальону. Семь километров туда, семь обратно. Думала, ноги отвалятся с непривычки. И страшно вдобавок. Олькину сумку нашли. На втором долу. Под елкой на сучке висела, у самой дороги. Газеты, письма — все цело. А самой Ольги нету… А может, и мне вам написать? Только вот «Белой сирени» у меня нету. «Лесной ландыш» не сгодится, Алексей Алексеевич?
Когда ушла Княжна, отец забрал газеты с кухонного стола и уж намеревался уединиться в кабинетишко, но вопрошающий взгляд Павлуши придержал его. Алексей Алексеевич с каким-то непонятным для него самого ощущением ухватил двумя пальцами нежданное письмо, затем принялся его раскачивать в воздухе несерьезно, как нечто случайное, необязательное, хотя и забавное.
— От кого? — усмехнулся Павлуша, оторвавшись от учебника истории.
— Из Кинешмы письмо. Штемпель кинешемский. Так мне Тараканова объяснила. Адресовано мне. Хочешь знать — от кого? А почему бы и не узнать? Вот, пожалуйста. От учительницы одной… От Евдокии Гавриловны.
— Это от той… ненормальной, что ли?
— Почему же «ненормальной»? Человек как человек…
— На вышку полезла. На меня уставилась! Руками дотрагивается… Как Княжна Тараканова.
— Ну и что? А мне даже понравилось. Такой она раскованный человек. У них это естественно: и у нее, и у Таракановой. Без притворства.
— Клюнула она на тебя. Вот и вся раскованность.
— Павлуша! Ну как можно о женщине в подобных выражениях?
— Можно. Тараканова — та хоть не скрывает ничего. А кинешемская прикидывается. Увидела тебя — и загорелись глазки. Отсюда и письмо. Посмотрела бы она на тебя денька три тому назад. На фонарь, который тебе Автоном засветил… Небось не написала бы после этого.
— Во-первых, не нужно преувеличивать. Не я ей понравился, а просто кое-какие слова, мною однажды произнесенные, застряли в ее мозгу. Так мне она разъяснила. А по части синяков… — улыбнулся Алексей Алексеевич, — как знать… У женщин по части синяков все наоборот иногда. Синяки и прочие шишки, шрамы, отметины, которыми обладает мужчина, порой особую прелесть для них составляют. Они охают да ахают, а про себя как бы даже гордятся таким меченым. Вот ты историю читаешь… Взять рыцарские турниры. Думаешь, ни с того ни с сего они возникли? Женщины так захотели. Я не говорю, что драка с Автономом Вуколычем есть нечто подобное. Отнюдь. Но пойми: отблеск рыцарства, чары этого отблеска пленяют и будут пленять женщин всех времен и народов, — уже откровенно усмехнулся отец, проведя пальцами там, где, как чернильное пятно на солнце выцвел и почти полностью исчез его злополучный синяк. — А что касается Таракановой, сынок. Остерегайся ее. Шибко она грамотная по части… как бы это попроще выразиться… по части взаимоотношений с мужчинами. Она ведь в зеркало на себя насмотрелась, потом на других оглянулась, и беспокойство в нее вошло: не такая, как все! Красивая. Мужчины эту догадку своими взглядами на нее подтвердили. Вот и забеспокоилась Тараканова. Постоянного красоте своей поклонения возжелала. Вот и весь секрет таракановской жадности сердечной.
Алексей Алексеевич любил свой крошечный кабинет. Узкий казенный шкаф для книг с двумя стеклянными створками. В шкафу около сотни книг — учебники, специальные методические пособия для учителя и внушительные тома классиков, изданных совсем еще недавно — в конце войны и сразу после нее: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Никитин, Толстой… Из ветхих, дореволюционных изданий — «История государства Российского» Карамзина, стихотворения Владимира Соловьева, два тома «Дневников писателя» Достоевского, «Исповедь» Руссо.
Там же, в шкафу, на одной из полок, пачка трехрублевок и пачка пятирублевок — денежки, отпущенные на ремонт школы, и остаток получки — «дачки», как величали местные жители свою заработную плату.
Получал Алексей Алексеевич больше тысячи рублей как завшколой и как единственный учитель, и почему-то кассирша в Кинешме постоянно оделяла учителя мелкими денежными знаками: возьмет и отсчитает рублями, а в результате — неси лесами да болотами лишний вес бумаги.
У единственного окна письменный стол. И не стол, а столичек. Мебельное дитя, можно сказать. На столе, однако, порядок военный: карандаши в стакане, как винтовки в пирамиде, чернильница-непроливашка накрыта от мух и высыхания чернил специальной тряпочкой, о которую учитель попутно вытирает перья во время писания. Скрепки, кнопки, перышки стальные — все это лежит по своим коробочкам. Из книг, которыми пользуется учитель, торчат закладки.
Напротив окна, вдоль стенной перегородки с дверным в ней прорезом, аккуратно застеленная серым солдатским одеялом железная койка. Окрестил ее учитель «солдатской», а такую же койку в соседней комнате, на которой Павлуша спит, «больничной» зовет. Белье из-под одеяла торчит свежее, хоть и латаное. Стирает его учитель сам. Лукерье доверяет только мелкое: рубашки, нижнее, носовые платки.
Алексей Алексеевич достал из ящика стола остро заточенные ножницы, которыми сам себя, глядя в зеркало, подстригал раз в месяц (теперь к этой заботе прибавились и Павлушины вихры), прошелся ножницами по краю конверта, предварительно определив на свет, в каком углу конверта содержимое, дабы не резать «по живому», то есть по тексту письма, извлек послание. Вспомнив дурацкую болтовню Таракановой о «Белой сирени» и «Лесном ландыше», не удержался, понюхал бумажку. Действительно, чем-то таким парфюмерным малость отдавало… Хмыкнул озорно, как Павлуша. «Ох уж эти женские штучки».
И тут опять, но уже другие слова Княжны в голове возникли: про Олю Груздеву… Куда могла пропасть девушка? Хотя опять же — леса вокруг шумят дикие, запущенные и огромные, от здешнего Заволжья так туда и тянутся, к Уралу, зеленым сплошняком. А после лихих военных времен народ в лесу какой только не шляется. Почтовую сумку на дереве обнаружили… Вот тебе и Оля — деловая, угрюмая, непременно на геолога учиться хотела. Да не отпускал председатель. Сережа Груздев о ней всегда с гордостью говорил, словно о брате старшем. Она ведь его и вынянчила. А затем, когда на холодных, мокрых полях телом окрепла, не раз выручала братишку, идя на его обидчиков врукопашную. И вот… нету ее теперь. Неужели не убереглась? А с матерью, с семьей что теперь будет? Оля-то главной была добытчицей. Захиреют, поди, без такой кормилицы. И в колхозе, и почтальонкой успевала. Беда… Подкинуть им деньжат необходимо. К Автоному сходить, посоветоваться на их счет. А председатель-то незлопамятный мужичок: баночку не отменил, отпускает молочко…
Алексей Алексеевич развернул наконец листки, углубился в чтение. Начал он без всякого волнения читать, потому как легкомысленный аромат мешал сосредоточиться. И вдруг понял, ощутил внезапно, что письмо — серьезное. Что в нем живые, хоть и печальные слова. И вот чудеса, ей-богу! — ум прослеживается. В таком запашистом письме — и такой чистый, как ключевая вода, ум.
«Вы даже представить себе не можете, — писала Евдокия, — как далеко я от всего, что меня окружает. Я насквозь проросла этот домик свой, стены эти трухлявые, и городок наш вялый, тихий и, что скрывать, любимый. Любимый, но сонный, скучный. Еще недавно пыталась я заговаривать с людьми. Не о тряпках и ресторанных посиделках — о любви, добре, неуспокоенности, о музыке, книгах. Элементарные поиски истины. Одной с ума сойти недолго. И что же? На меня смотрели злобно, как на выскочку, или жалели: жениха нет — вот и скулит…
Правда, у меня есть бабушка Вера, которая меня понимает, но которая предполагает истину в религии, в прошлом, куда мне вернуться невозможно, потому что я не была там и дороги туда не знаю. Я была в октябрятах, пионеркой была, комсомолкой. Я и сейчас, как бы по инерции, читаю стихи, пою комсомольские песни со своими ребятами. Только мне этого мало. Школа у нас скучная, в смысле коллектива преподавательского. Какая-то вся тихая, не говорящая, а шепчущая… Богадельня какая-то. Если бы не дети с их смехом, воплями, драками, забавами неизбежными, давно бы я взбунтовалась и, получив строгий выговор, а также статью в трудовую книжку, махнула бы в пространство. Благо оно у нашего народа в необъятных количествах имеется. А потом еще это постоянное — одно и то же… Этот автоматизм, постепенно заглатывающий тебя в быту: каждый день одни и те же движения (обувь снашивается, как по программе, под определенным, постоянным углом, одежда протирается на определенных местах); встречные лица каждый день одни и те же, встречные мысли, одна и та же программа школьная, одно и то же течение жизни, отчаяние одно и то же… Почему, когда я, вынырнув из школы, выбегаю на берег Волги, одной и той же Волги, — нахожу ее всегда свежей, новой, не такой, как вчера, как прежде? И по цвету волны, и по запаху, и по оживленности на ее просторах — всегда не такой, как прежде, не омертвелой в своих недвижных берегах. Она тоже течет, как и моя жизнь, но течет ярко, всякий день неповторимо, да что день! — всякий час по-иному… И порой меня охватывает желание слиться с нею, уплыть, утонуть, раствориться в ее движении, умчаться к счастью, к новизне. И разве есть что-то неоправданное, предосудительное, фальшивое в том, что, когда я услышала Вас, Ваши интонации живые, Ваши, пусть книжные, известные мне ранее мысли, брошенные в зал хоть чем-то отличающимся от толпы голосом, в котором слышался свой мир, не заколоченный, не перекрещенный досками семейных уз, не завязший в повседневности, а летящий над ней, как Синяя птица надежды, разве смогла я удержаться на месте, разве не пожелала тут же унестись к Вам единственно для того, чтобы продлить голос, продлить надежду, утолить жажду… Я не хотела бы говорить с Вами „красиво“, неестественно. Однако чувствую, что меня заносит… И потому закругляюсь. Еще добавлю, что Вы мне нравитесь. Да-да. Как мужчина. Посмотрите на себя в зеркало как бы впервые — и Вы оправдаете меня. В Вашем облике помимо мужского начала, помимо грубых морщин, шрамов, седины ранней есть то, почти невероятное теперь, благородство лиц отгоревших, отсверкавших во времена Тургеневых, Тютчевых, Блоков… Я, конечно, фантазирую, дорисовываю то, чего мне (а не Вам!) не хватает. И все же буду надеяться, что я права. А теперь — с небес! Как это там при Тютчевых выражались? Надеюсь увидеть Вас на районном собрании учителей, а также не премину пожелать Вам доброго здоровья, остаюсь… и так далее, как в старые добрые времена…»
И закорючка подписи.
Вот такое письмо прилетело в жилинские леса и произвело в сердце Алексея Алексеевича переполох.
Глава шестая. Взрыв
Колдуя над примитивным взрывным устройством, Павлуша, естественно, никого не хотел при этом убивать. Но он уже не мог отделаться от «чар» устройства, от возможности «бабахнуть»: созревшее яблоко должно было упасть, набрякшая дождем туча — разрешиться от бремени.
И все-таки откуда у него такое алчное пристрастие к предметам, способным причинять людям вред? Ведь не только от пресловутого подросткового самоутверждения? И не только от процентного содержания в крови мальчишки анархической склонности к разрушению и отрицанию? Наверняка и то, и это в определенных дозах. Но главная причина все-таки в другом, а именно в незримом ранении, духовной «контузии», которую ребенок получил, попав вместе со взрослыми на войну. Четыре года бродяжничества на оккупированной территории в непосредственной близости от линии фронта, постоянное ожидание смерти, унижения, беспрерывное рыскание в поисках пищи, четыре года пригнувшись, со взглядом исподлобья… И теперь, вскоре после войны, в глубине ребяческого неотмщенного самолюбия все еще сидело это: а вот и я могу! Хотя бы намекнуть могу на создание в ваших сердцах того трепета, того ужаса, которым вы, граждане взрослые, четыре года окатывали меня с головы до ног.
А тут еще за отца обида, за синяк, не умещающийся под очками. Захотелось припугнуть председателя, увидеть его на миг растерянным, рот раскрывшим от страха.
Павел вышел из леса и в низком, сливавшемся с травой зародышевом березняке лег на землю. Далее передвигался по-пластунски, мгновенно промочив на животе рубаху и окропив студеной росой разгоряченное лицо. Отвагой, но больше озорством светились его глаза. Левая рука Павлуши волочила за собой небольшую поклажу: серый узелок, сооруженный из грязного кухонного полотенца, в котором находилась «мина», то есть банка с толом.
В деревне уже проснулись: пахло дымом, стряпней. Кланялся и сухо поскрипывал возвышавшийся над избами журавль жилинского колодца. Павлуша приближался к огороду председателя. Решено было взорвать покосившуюся будку уборной Автонома Голубева.
Зловонная яма позади дощатого домика накрыта деревянной крышкой, рассохшейся и наполовину сгнившей. Опустить туда, под эту крышку, узелок с «миной» ничего не стоило. Воткнув рядом с ямой в жирную податливую почву сучок хвороста, Павлуша завязал на нем концы полотенца. Закрепил в подвешенном состоянии заряд с торчащим наружу горючим бикфордовым шнуром. Полез в карман за спичками, и тут в огороде, со стороны избы, на тропинке послышалось чье-то шарканье ног и кряхтенье. Пришлось набраться терпения и затихнуть, замереть на неопределенное время.
Торопливо переваливаясь с боку на бок, словно отставшая от стада гусыня, к будочке вынеслась здоровенная старуха, теща Голубева Автонома Авдотья. Павлуша недоумевал: как в таком ветхом миниатюрном строении смогла уместиться эта мощная, громоздкая тетка?
Пятью минутами позже Павлуша опять потянулся за спичками, извлек их из мокрого, пропитанного росой кармана, дрожащими руками стал добывать огонь. Отсыревшие спички не возгорались. И тут на тропе вновь объявилось нежелательное живое существо: вскрикнула и неловко, на одной ноге поскакала малюсенькая девочка в голубом платьице, этакий василек с льняными волосенками, заплетенными в две косицы. Личико ее враз сморщилось. Должно быть, от боли. Из глаз синеньких слезы сыпанули.
— Ну, чего ты?! — обнаружил себя Павлушка, не терпевший девчоночьих слез. — Занозу, что ли, всадила? Иди вытащу.
— Да-а-а… — запела-запричитала малышка, будто бабушка старая. — Больно-о-о!
Она и не думала пугаться мальчишки, так неожиданно возникшего из травы. Тонкой рукой, будто веревочкой, оплела-обхватила усевшегося на тропу Павлушу за шею, доверчиво сунула ему под нос еще не испачканную в уличной пыли, утреннюю, розовую пятку.
— Тяни-и!
Павлуша тщательно осмотрел круглую, еще не растоптанную пятку девочки и ничего постороннего на ее коже не разглядел. И тут же вспомнилось, как однажды у самого себя на ладони разыскивал он прозрачную иголочку стекла от разбитого зеркала. Пришлось тогда невидимку языком нащупывать.
Потерев рукавом рубашки злополучную пятку, Павлуша внимательно провел по ней языком. Несколько раз. И зацепил-таки стеклышко! Сперва языком, затем передними зубами.
Как ни странно, девчонка ноги из рук Павлушиных не вырывала, хотя и скулила тоненько, и слезами умывалась.
Как заправский знахарь, заканчивая операцию, Павлуша выдавил из мизерной ранки капельку крови, «чтобы заражения не было».
— А ты боялась… Беги домой, бабке скажешь, чтоб йодом прижгла.
Павлуша выпустил из рук ногу девочки и тут только, подняв голову, заметил высоко над собой молча стоявшего Автонома. По небритому, немытому, как бы еще не разбуженному лицу председателя блуждала недоверчивая улыбка.
— Ишь ты… раззява! Под ноги, Тонька, смотри, под ноги! — Председатель шутливо шлепнул малявку по розовой попке. — А ты, паря, ловок, гляди-ко… В секунд обработал!
— Да я в войну не то что заноза — раненый, может, был! Вот! — показал Павлуша Автоному шрам на запястье от разорвавшегося в руках патрона. Случилось это, когда он по капсюлю острым концом напильника ударил. На спор с одним задавалой.
— Ранетый! — Автоном уважительно склонился над мальчиком, потрепав Павлушу по вихрам грубой, с большими желтыми ногтями рукой. — Я вот тоже ранетый. Только ран моех не видно. Одна под волосами на голове. От которой контузия была. Другая ниже. Осколочная. Ее так просто не предъявишь, как твою… Не снимать же галифе перед каждым инспектором… Ну, гуляй, Павлуша. А то мне в сортир необходимо.
— А почему вы моего отца избили?
— Отца! Это батьку, что ли? Учителя? Не избивал, сучок ему в переносицу. Чтобы, значит, очки не падали.
— А синяк под глазом? Под тем, который у него болит? Который на войне осколком зацепило? Синяк-то вы ему поставили?
— Может, и я. Только без умыслу. Сунулся он, понимаешь, не в свое дело. А я в то время руками махал. Пьяный… Вот и… синяк. Он, батька-то твой, рубаху мне порвал. И вообще — сопротивление оказал. Ну да я не в обиде. У Тараканихи чего только не бывает… По выходным и праздничным дням. А тут и вовсе причина веская: День Победы. Мой праздник. Передавай, стал быть, привет Алексеичу. И — бывай. У меня после вчерашнего с животом не все в порядке…
Проследив, когда Голубев Автоном будку покинул, Павлуша, все так же крадучись, вернулся на место несостоявшегося взрыва, извлек из ямы заряд и, держа его на отлете, как дохлую крысу, припустил полем обратно в лес.
Павлуша не уловил, с какого именно момента расхотелось ему взрыв на огороде у председателя производить. Скорей всего — после занозы. После девочки голубенькой. И еще — раны повлияли, те, что у Голубева имеются.
Тропа, которая уводила в глубину леса за ягодой и грибами, пренебрежительно огибала трухлявую сараюшку, некогда дымившую высокой трубой обжигной печи. Завод, прежде стоявший на расчищенной поляне, теперь наглухо оброс матерым лесом. Колея, по которой в свое время вывозил Яков Иваныч каленый кирпичик в город, теперь тоже напрочь слиняла, и, если бы не «партизанский» азарт Павлуши, не отыскать бы ему заводика.
Неожиданно из-за дерева, как из-за отцовской спины, вышел на тропу Сережка Груздев, жилинский сиротка, столь отчаянно липнувший к городскому Павлуше со своей дружбой.
— Ты что?! — уперся Павлуша свободной от «мины» рукой в худенькое плечо Груздева. — Напугал, карлик…
Белобрысый, долгоносенький, разукрашенный крупными хлопьями веснушек, Сережка поначалу изрядно оробел, голова его так и осела в плечах, но серые камушки глаз своих от лица Павлушиного не отвел, смотрел преданно и безвинно.
— А я тебе… тайну одну рассказать хотел. Я тебя везде искал. И в школе, и в поле, и на кирпичном заводе.
— Какая еще тайна?
— Побожись…
— Чего-чего?
— Ну, что не скажешь никому… Пообещай.
— Зуб даю. Или нет: век свободы не видать. Или вот так еще лучше: сгнить мне на этом месте! Теперь веришь?
— Верю, верю… Нельзя много божиться, грех. Язык отсохнуть может, мне бабушка говорила.
— Сам просил… Ну, чего там у тебя, выкладывай! Какая тайна?
— Про нашу Олю… Только ты никому, пожалуйста. Ее ведь милиция ищет. Все говорят: убили ее… бандиты. Убили и закопали в лесу. А сумку с письмами на сучок повесили. Для отвода глаз. Так все неправда, Павлуша. Оля наша в город ушла. Учиться… Как Ломоносов! Я знаю, она в ремесленное училище подалась. Одному только мне и сказала. По секрету.
— По секре-е-ту! — передразнил Груздева Павлуша. — Первому встречному все вытрепал. Вот и понадейся на тебя.
— Так я ж тебе только. Из уважения…
— Все равно — нельзя! Некрасиво, понял? Предавать.
— Так я же…
— Как я тебе после этого свою тайну открою? — Павлуше очень хотелось похвастать перед Сережкой, как он из колонии драпанул. Теперь же, после того как Грузденыш про Олю свою натрепался, доверять ему расхотелось, однако и обижать мальца недоверием вряд ли стоило. И тогда Павлуша вспомнил о взрыве, который готовил все эти дни. — Вот и подумай, Серёня, как я тебе тайну свою открою, ежели ты ее моментально какому-нибудь Супонькину выдашь?
— Не-е! Не выдам. А какую тайну?
— Каку-у-у-ю… Любую. Говоришь, на кирпичном заводе был?
— Был, тебя искал.
— Веди меня туда. На кирпичном заводе старик Бутылкин золотые деньги закопал. Двадцать монет. Вот какая тайна. Найдем денежки — золотые зубы повставляем! Фиксы. Тебе десять штук, и мне десять. Вон у тебя переднего нет, да и все остальные — не ахти… Вкривь да вкось. А золотые не гниют. Хоть сто лет ими хлеб кусай.
— И сухари?
— А хоть гвозди! Двигайся, не рассуждай.
Пробирались к заводу скрытно, играя то ли в разведчиков, то ли в разбойников-уголовников. Последние метры, уже когда замшелый сруб сараюшки разглядели сквозь заросли малинника, ползли на животе по-пластунски. Солидные деревья вокруг завода не росли; здесь угадывалась заглохшая одичавшая поляна, на которой вымахали крушина, ржавый на сломах ольховый кустарник, а также стройные побеги дикого ореха лесного; безукоризненные его прутья почти безо всякой обработки годились на удилища.
Внутри полутемного, дырявого как решето сарая не было пола. Из земли по углам помещения росла молоденькая бледная крапива. Посредине высилась бесформенная груда древнего кирпича, от которой прямо в дырявую крышу уходила такая же кирпичная, обглоданная временем почерневшая труба.
— Золотишко где-то под печкой… — шептал в распахнутые глаза мальчонки Павлуша. — Искать, лопатой копаться тут бесполезно: лета не хватит. Будем взрывать.
— Что… будем?
— Взрывные работы производить.
— А я… не умею… взрывные.
— Взрывать буду я. Твоя задача вокруг завода обежать: нет ли кого постороннего? Если наткнешься на людей, свистни один разок всего лишь, но протяжно, — и Павлуша показывает как.
Сережка явно смущен. Не находит места для рук, мнется, с ноги на ногу переступает.
— Забыл я. Как это в пальцы-то свистеть… У меня громко не получится.
Сережка складывает губы в трубочку и тоненько, по-птичьи посвистывает.
— Я ить только этак могу…
— Тоже мне соловей-разбойник! Отставить свист. Придется голосом сигналы подавать. Будешь кричать, как ишак. И-а, и-а! Повторяй!
— И-а, и-а, и-а! — с усердием подражает Сережка.
— Ну ладно, не шуми раньше времени. А то усвоил ослиный язык и доволен. Людей напугаешь.
— Какие сейчас люди? Ни ягод, ни грибов. А за березовым соком в другую сторону ходят… Туда, где роща на горушке. А ежели по кислицу, то ее в поле ощипывают.
— Ну а, скажем, клюква?
— Озимая? Из-под снега? Так она дальше в лес… На Гнилых болотах.
— Все равно обойди вокруг завода. Приказ тебе такой. Исполняй.
— Хорошо, я мигом!
— Не «хорошо-мигом», а «слушаюсь, ваше превосходительство!»
Сережка недоверчиво улыбается, как бы ждет очередного словесного подвоха, затем срывается с места и убегает за угол сарая.
Павлуша нашаривает в полуразвалившейся печи глубокое отверстие, опускает туда зловонный (после Автономовой ямы) заряд, начинает искать в коробке спичку с сухой головкой. Найдя, осторожно вставляет спичку себе в ухо. Еще в колонии какой-то «метута-фокусник» прибегал к подобному средству, объясняя эффект немедленного возгорания наличием в ухе… серы.
В ожидании «ишачиных» сигналов Павлуша напряженно прислушивается. И, когда через пару минут Сережкины сигналы так и не поступают в эфир, решается поджечь шнур. Вспыхнувший огонек на какое-то мгновение освещает сырую пещеру сарая, затем огонек этот переходит внутрь бикфордова шнура и по нему, как кровь по сосуду, начинает продвигаться к взрывателю.
Павлуша нерешительно пятится к выходу, к свету дверного проема. Сама дверная створка, освобожденная от проржавевших петель, давно отпала, и, полусгнившая, валялась тут же, возле сарая, прячась под слоем прелых листьев и трав.
Внезапно до слуха Павлуши доносятся визгливые, полуишачьи, полукошачьи истошные возгласы. «Вот те на… Выходит, обнаружил кого-то Серёнька?! Выдернуть шнур из банки! Он еще не до конца сгорел!»
Прыжок в сторону печки. Павлуша нашаривает шнур, внутри которого ползет к детонатору огонек. Дергает нервно. Заряд выхватывается весь. Тогда Павлуша опрометью перемахивает через трухлявый порожек вместе с зарядом. И сразу же сбивает с ног запыхавшегося Грузденыша, отлетая от него в близрастущую крапиву.
— Беги! Вали от меня прочь! Сейчас взорвется!
Павлуша отшвыривает устройство, которое за спиной сарая падает в яму, наполненную зеленой, болотной водой И сразу же плотным одеялом накрывает его грохот взрыва. Затем сыплется сверху грязь, капли воды опадают мелким дождем. И вдруг Павлуша на чумазую Сережкину ладошку натыкается. На живую, только скрюченную испугом; и вот оба они, словно зайцы, травимые собаками, кидаются прочь от сарая по едва различимой тропе. Спас их, как выяснится впоследствии, именно сарай, заслонивший ребят от взрывной волны. И конечно же яма, из которой прежде, то есть до революции, Яков Иванович Бутылкин глину для кирпича брал.
— Кто там?! Кого ты увидел?! — шепотом кричит Павлуша, таща за собой мальца напролом по кустам.
— Тамотка… Бу-Бу-Бутылкин! Дедушка… На пенушке сидит. Палочку строгает. Предупредить его надоть было… — скулит Сережка и мелко начинает трепетать плечами, борясь с подступившими рыданиями.
— Замолкни! Ничего твоему дедушке не сделается. Нас не убило, и с ним скорей всего все в порядке. Вот если б сарай взлетел… Тогда б его кирпичиной могло.
— А вдруг убило?
— Кому он нужен?.. Твой Бутылкин? Хочешь, пойдем посмотрим на него?
Не сговариваясь, легли на землю плашмя и по-пластунски быстро-быстро поползли в сторону взрыва, натужно сопя, извиваясь в молодой, еще редкой лесной траве.
И вдруг замерли, парализованные страхом. С той стороны, куда они сейчас уползали, донеслись отчетливые стоны: кто-то монотонно, невыразительно охал. Правда, боли, физического страдания в голосе стенавшего не ощущалось. Человек как бы притворялся, что страдает. Или — репетировал игру.
Павлуша цепко придержал Сережку за тощую грязную лодыжку: мальчонка, как только стоны заслышал, тут же убегать подхватился, но рухнул, остановленный Павлушей. Лица ребят близко одно от другого очутились, и нескольких сантиметрах. Старший в глаза Серёньки так весь и ушел, прошептав:
— Выдашь меня?
— Ни-и-и-и… — как комар, зазвенел Груздев.
— У меня еще шашка толу есть. Выдашь — подорву тебя этой шашкой. Вон как жахнуло, слыхал! А от тебя и соплей не останется, обещаю. Понял?
— По-онял…
— Ну, ладненько, Хватит дрожать. Скажи, тебе интересно? Еще погоди. Я и не такое устроить могу. Живете тут… ежики-чижики. Деревня деревянная. Темнота, одним словом. Скажи — не так?
— Та-а-а-к.
Помолчали, отдышавшись. И вновь деловито поползли в сторону причитавшего голоса. «Жаль старикашку, если зацепило, — спохватился Павлуша. — Только разве так плачут раненые? Похоже, песенку Яков Иваныч поет…» Не из одной, конечно, жалости ползли к Бутылкину — из бодрящего сердце любопытства больше…
Яков Иванович сидел на пеньке нарядный, в новых лапоточках, в свежей фуфайке военного образца, а главное — целый и невредимый. Мина его не потревожила ничуть. А не в себе он был по другой причине, а точнее — из-за употребления вовнутрь белой водочки. Как выяснилось при ближайшем к нему подходе, Бутылкин и не стонал вовсе, а натуральным образом пел какую-то затяжную, ему одному известную песню, напоминавшую вой ветра. Слова песни сливались в сплошную, тягучую, грустную массу. Но в какие-то необъяснимые, таинственные периоды, как бы в просветы меж облаками, речь его становилась почти членораздельной, и тогда мальчики, хоть и с трудом, расшифровывали содержание куплета:
Динь-дон, Ли-исабон! Город Ливерпу-у-ль… Здравствуй, ми-лая моя-я! Ты бяги-и-ишь отку-у-уль?!Павлуша моментально сообразил, что Яков Иваныч пребывает в добродушном, «глупом» состоянии и причинить ребятишкам вред не сможет.
— Не знаете, дедушка, почему так бабахнуло? Не слыхали?
Старик приподнял упавшую на грудь голову, глаза его жиденькие, а также борода лихо взметнулись, чтобы вновь через мгновение рухнуть под тяжестью прожитых лет и громоздких видений, обременивших его организм.
— Товарищ Бутылкин! — строго и в самое ухо прокричал ему Павлуша. — Очнитесь, товарищ Бутылкин!
— Что скажешь, пострел? — неожиданно трезво и крайне спокойно поинтересовался Яков Иваныч. В тот же миг рука его, цепкая, бугристая, схватила Павлушу за ремешок от штанов и потянула на себя.
— В-ваш завод кирпичный, дедушка, диверсанты взорвали!
— Диверсанты, говоришь? А вот я чичас с энтих диверсантов штаны-те поснимаю да крапивой, крапивой! А то и вицей… Ну и шары-те! Малиновы… — И тут на дедушку Бутылкина вновь затмение нашло, как на луну.
Со стороны деревни послышались встревоженные голоса взрослых. В лес по тропе явно двигались люди. И, судя по начавшейся среди птиц панике, немалое количество людей. Очнувшийся на мгновение Бутылкин заплакал крупными слезами и, словно соображая вслух, предположил:
— Чичас милиция наедет. Слествие… У нас такого испокон веку не слыхивали, чтобы заводы взрывать. Должно, фрицы шалят… Которые пленники. А можа — десант? Фашист, он и на том свете фашист. А ежели он еще и фриц к тому же — тогда беспременно изобретет! Фриц — он по химичецкой части страх как силен! Динамиту нет — он тебя газом окурит. Воевал я в имперлистичецку. Нанюхался…
Ребята не стали ожидать прихода людей. Павлуша неласково потянул Сережку за руку в гущу орешника, где под страшную клятву заставил дать слово, что не посмеет тот, ни живой, ни мертвый, обмолвиться кому-либо о взрыве. Затем приказал мальчику обойти лесом поляну и вернуться домой в деревню с другой стороны.
А сам Павлуша, хотя и уверял себя, что не боится никого на свете, в данный момент изрядно струхнул, ибо знал, что это такое — толпа взрослых людей, да еще напуганная взрывом, доселе здесь неслыханным. Мало того, что избить под горячую руку могут, возьмут да еще в колонию наладят. А там, понятное дело, про его прежний побег дознаются, и пошло-поехало…
Ударился Павлуша опрометью по узенькой лесной дорожке, едва различимой, давно не езженной и даже не хоженной давно, по мнимой, безжизненно молчаливой дорожке, уводящей куда-то туда, в гущеру заматеревшего за четыре военных года леса, туда, в сторону слабенького, скраденного расстоянием гудочка бумажной Александровской фабрики, древней, как сам лес, возведенной чуть ли не в петровские времена. Прочь, прочь от толпы, способной унизить, опрокинуть, смять.
На голос поющего Бутылкина рысцой выбежало из кустов почти все население: председатель Автоном, все еще болтавшийся в деревне Супонькин, учитель Алексей Алексеевич, старшая Тараканова, ребятишки, а чуть позже — с десяток жилинских бабушек. Отсутствовали только женщины, занятые в поле или на скотном дворе.
Автоном Голубев первым подступил к Якову Иванычу. Остальные расположились вокруг сидящего дедушки и председателя, взяли их в кольцо, как бы играя в детский хоровод «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!».
— Слышь-ко, Яков Иваныч! Очнись, говорю. Взрыв-от, не знаешь, кто произвел?
Бутылкин, казалось, притворялся спящим, потому как шумели на него всей деревней, а он, как монумент, не реагировал, сиднем сидел на пенушке, положив руки себе на колени, бородой упершись в грудь.
— Да об чем с им толковать! — вывернулся на середину хоровода Супонькин. — Наскрозь его кулацкую породу вижу! — Супонькин нешибко двинул Якова Иваныча в костлявое плечо, и тут Бутылкин набок с пенька сковырнулся. Лапти свои новые, весеннего плетения, кверху задрал.
И опять с мозгов Якова Иваныча как бы сумрак спал, уму-разуму просветление вышло.
— А завод-от мой… диверсанты взорвать хотели. Вот шары-те! — невесело улыбнулся Бутылкин, глядя председателю Автоному Голубеву одним глазом в лицо, а другим как бы в затылок, потому что после падения с пенька глаза его норовили смотреть в разные стороны.
— Каки таки диверсанты? Откуль они нынче? Диверсанты до войны были. Заговариваешься, дед, клеща те в бороду… Али со вчерашнего не опростался, кипит в черепе? — Автоном Голубев помог дедушке на пенек вскарабкаться. Фуражечку дореволюционную, купеческую, с плетеным шнурком на лакированном козырьке, закатившуюся при падении за ореховый куст, на седую лохматую голову Бутылкина водрузил.
— А немцы опять, гляи-кось, шалят… — Дед говорил хотя и неуверенно, будто сон дурной вспоминал, однако слова его на окружающих производили беспокойное действие, так как все знали, что работают и военнопленные в леспромхозе. — Шалят, гляи-кось… Потому — фриц, он силен шибко по химичецкой части… Наши-то их небось и не обыскали как следоват… По карманам пошлепали, а он ее где-нито в портках и спрятал… мину свою.
— Ты чего это, дед, городишь?! Какую, мама родная, мину спрятали? Вошь посторонняя и та не проскочит! Враз определю. Да у моих-то у пленников такой «орднунг», такой порядок железный, который тебе и не снился, папаша. Зря только языком дребезжишь, мама родная! На фронте за такое знаешь что полагалось? — Из-за спин собравшихся вышел вдруг широкоплечий и очень низенький человек в огромных синих крылатых галифе и желтой линялой гимнастерке, туго, как на барабане, натянутой на его мускулистом торсе. Плоская фуражка, казалось, должна была неминуемо соскользнуть с головы говорившего, так как держалась на его затылке почти и вертикальном положении. Как выяснилось впоследствии — фуражка не падала по причине крайней неровности черепа: голова человека как бы имела продолжение, и на этом-то продолжении и держался головной убор, как на крючке. — На фронте за такое…
— Под трибунал, не глядя! В расход… — решил помочь Супонькин.
Старичок Бутылкин неожиданно резво выпрямился, словно его пружиной с пенька подбросило.
— Запужал, гляи-кось, страсти какие… «В расход, к стенке»! Сам и прислонись к ей, чучело, замест подпорки. А я уж наподпирался… Лягу не сегодня-завтра. Настращали — дальше некуда…
— А для чего тогда языком треплешь? «Диверсанты!» — злился Супонькин.
— А потому как своими ушами слыхал! Павлушка, учителев сынок, эт-то баил.
— Он те набаит, шпана городска! — Автоном помолчал. Хотел в следующий момент глазами с Алексеем Алексеевичем исподтишка стукнуться, да на синие окуляры учителя нарвался. Тогда осторожно, бочком, снизу вверх на очкарика посмотрел. — Извиняюсь, конешное дело… У сынка вашего, у Павлуши, документики посмотреть желательно. На предмет удостоверения личности. Кто таков, почему к отцу приехал, у которого в данный момент законной жены нету? А главное — откуль приехал? И сколь вашему фулюгану годочков будет? Если не секрет?
Отгороженный синими очками от любопытных, возбужденно-веселых взглядов людей, Алексей Алексеевич не спешил с ответом. В своей жизни успел он привыкнуть и не к таким неожиданностям. И ночью с постели не раз поднимали, и вопросы внезапные, как ватка с нашатырем под нос, задавали. И пули над его головой низко пролетали, так низко, что волосы на голове шевелились — то ли от ветра, то ли еще от чего… И друзья-товарищи, ни слова не говоря, в метре от него по левую и правую руку замертво падали в траву и грязь, но чаще — в снег, ибо снег в России самый широкий, самый глубокий, самый большой из всех снегов.
— Успокойтесь прежде всего, — посоветовал учитель председателю. — Вы что, милиционер, чтобы документами интересоваться? Вот когда милиция спросит, тогда и предъявим. А сейчас у парнишки и документов никаких нет. Метрика сдана на предмет, как вы говорите, получения паспорта. Парнишке не для того шестнадцать исполнилось, чтобы его хулиганом обзывали.
— Допризывник, можно сказать, мама родная! — приятно заулыбался учителю незнакомый человек с выступом на голове и, словно сюрприз сногсшибательный, выбросил вперед спрятанную доселе за широкими галифе розовую тарелку ладони с короткими, сведенными воедино пальцами. — Шубин! Рад, очень рад познакомиться! Слабость имею: с умными людьми разговаривать обожаю! Автоном Вуколыч мне про вас досконально, всю подноготную. И то, что ленинградские будете, и на гитаре… мама родная! Одно неясно: почему в здешней берлоге обосновались? Выражаясь фигурально, позвольте полюбопытствовать: часом, стихов не рифмуете? Потому что сам я этой страстишкой, можно сказать, хвораю. Да вот беда: прочесть свои сочинения некому… Сотрудники делом заняты, а друг мой Автоном Вуколыч, кроме фольклора, частушек похабных, никакой другой поэзии не признает.
— До паезии вашей тута… На бычках пашем. Да на бабцах. Жизня, одним словом, чтоб у нее пупок развязался! Вот она кака, паезия, у меня. Больно грамотные…
— Напрасно обижаешься, Автоном Вуколыч. Да мы тебе, можно сказать, сочувствуем, не так ли, товарищ педагог?
— Вас бы в шкуру мою упрятать? Сочувствуют оне… Благодетели!
— Слышь-ко, председатель… — позвал Автонома Супонькин, потупив колючий, лихорадочный взор свой и одновременно накрыв верхнюю часть лица опустившимся козырьком фураньки, упершимся в разгоряченную простудным насморком полочку вздернутого носа.
Председатель, невесело избоченясь, небрежно выставил ухо в сторону Супонькина, как бы предлагая тому кинуть в сию оттопыренную раковину то, что намеревался он сообщить.
— Ты бы эт-то… поосторожней на людях… насчет паезий разных. Агитацию разводишь при народе.
— Иди-ка ты, свет, знаешь куда?! — враз налился кровью и, как индюк, затряс увесистым красным носом Автоно Гоубев. — Указчик нашелся, понимаешь! Детишек пугай! Да такому свет-указчику да хрен за щеку! «При наро-о-оде…» Да я всею жись при народе, глиста курносая!
— Прищеми язык! Кому говорю! — схватился, сатанея, Супонькин за правую оттопыренную кобурой ягодицу.
Бухгалтерша Тараканова весело и в то же время отчаянно взвизгнула, как будто ее холодной водой окатили. Остальная публика, хоть и попятилась, глаз от начальства не отводила, с замиранием сердца наблюдала за происходящим, потому как — известное дело: председатель у них контуженый и в драку вступает без объявления войны. На него уже и протокол составляли, и выговор по линии партийной он имел за неуемность характера и «безответственное рукосуйство». И заменили бы его давненько, отстранив от должности в два счета, да вот беда: заменить не на кого. На бабу-вдову, на которой дом-семья висит? Ну и терпели… Якобы — до поры.
А председатель Супонькина уже за подбитые ватой бутафорские плечи кителя берет и сперва мелко, сдержанно, а затем все размашистей трясти начинает.
И тут опять учитель не выдерживает, не в свое дело лезет. Берется этих двух нервных людей мирить-разнимать, друг от друга отслаивать. И, естественно, председатель первому ему, учителю, по уху норовит отпустить. Кабы не Шубин, приземистый, на шкаф похожий, у которого спина и руки будто от Ильи Муромца достались, так они не соответствовали коротким ногам, закованным, словно в сталь блестящую, в начищенный хром сапожек, — кабы не этот разудалый человек в сапогах гармошкой, напоминавших пружины от матраса, на которых он, высоко подпрыгнув, перехватил председателя и сразу же оттеснил его своей автобусной спиной туда, за пенек, в глубь леса, — кабы не он, неизвестно, какой водой пришлось бы заливать молнию, выпущенную председателем из своего, как туча почерневшего за годы войны, грозового сердца.
Разошлись молча. Первым, выкарабкавшись из объятий Автонома, сложив руки пониже спины и подняв, как забрало от старинного шлема, козырек фураньки, с независимым видом вышел из леса Супонькин. За ним потянулись остальные. Когда в ближайших кустах, за ольхой-ракитой, за крушиной-орешником, перестала просматриваться огневая, дергающаяся фигура Автонома, учитель подошел к старику Бутылкину, каким-то чудом удержавшемуся на пеньке, полностью отрезвевшему, но все еще вялому на ноги и потому неподвижному.
— Яков Иванович, миленький… Павлушу моего…
Старик приподнял от груди голову. Бороденка его от долгого сплющивания загнулась чуть в сторону, и выражение лица получалось теперь лукавое, насмешливое.
— Видел, Ляксеич, Павлушку. Но… сумлеваюсь. Не помстилось ли? Кажись, балакали с им… И в то же время — как во сне.
— А про диверсантов откуда?
— И про диверсантов оттуда. Подь-ка сюда, — заговорщицки поманил Бутылкин, заставив учителя склониться над пнем. — Убегли диверсанты. От греха подальше. Твой то есть Пашка с энтим Грузденышем… Только я — вот те хрест! — ничего не видел. Так что и успокойся, коли што: не видел! Ни сном ни духом… И вся недолга. Хоть в бане парь заново, — подмигнул Бутылкин внимательно.
Алексею Алексеевичу входить с Бутылкиным в «нелегательные» потайные отношения не хотелось. Подмигиваний его он не принял. И все же тревога за неудобного, трудного, беглого, необузданного и очень родного, нужного ему сына не позволяла отмахнуться от сведений, которыми будто бы располагал Яков Иванович.
— Вы их, мальчиков этих… до или после взрыва видели?
— И до, и опосля наблюдал.
Учитель не стал скрывать облегчения. Чуть дольше обыкновенного глаза в закрытом, зажмуренном состоянии под очками подержал и вздохнул протяжнее обычного. Благодарно вздохнул.
Глава седьмая. Кроваткино
А Павлуша тем временем уходил по зеленой пушистой тропе все глубже в лес, в тишину прохладную, доверчивую, непуганую. Свежие, бодрящие запахи листвы, живых соков древесных, почвы, незримо взрыхляемой корнями растений, волновали Павлушину плоть, делая его походку гибкой, ловкой, звериной. Зрение, слух как бы просыпались, умытые лесным воздухом, и теперь служили свою службу более рьяно, с откровенной жадностью.
Тропа, уводившая Павлушу в дебри лесные, прежде была обыкновенной проселочной дорогой, на которой скрипели колесами телеги, а зимой — отполированными полозьями — сани, дровни, розвальни… Ездили из Жилина за двадцать пять верст на далекую Александровскую бумажную фабрику, возили туда дровишки, оттуда — необходимые товары обихода: свечи, мыло, гвозди, сласти… Ездили кривоколенным, петляющим в зарослях проселком в гости на соседние хутора, в Латыши, к зажиточным прибалтам, обосновавшимся на лесных полянах еще в прошлом, дореволюционном веке; а по престольным праздникам целым обозом прибывали в село Козьмодемьянское, что сразу после деревеньки Кроваткино торчало над рекой Мерой, выпячиваясь в небо оштукатуренной аккуратной колоколенкой.
Проселок заглох, потому что необходимых товаров было теперь больше в другой стороне, а именно в Кинешме, за Волгой. И не беда, что дорога туда длиннее на пару верст и проходит она через два обширных болота и всего лишь через одну деревню Гусиху. Там от Гусихи до берега Волги ходили теперь огромные лесовозы с прицепами; в теплой кабине «студебеккера», если повезет, за зеленую трешницу можно подышать сладким городским бензинным воздухом и даже вздремнуть, не выпуская при этом из рук железной скобы-держалки, дабы не пробить головой на жутких ухабах железную крышу американского грузовика. Проселок иссяк еще и потому, что все реже и реже ездили крестьяне в гости друг к другу и все чаще в город, на фабричку ткацкую, в пролетарии наниматься, и потому все чаще и чаще стучал в тишине лесной молоток, заколачивающий окна и двери очередной покинутой хозяевами избенки.
Внезапно Павлушиных ноздрей коснулся махорочный дымок… Основной ветер проносился где-то высоко над лесом. Здесь, на тропе, у подножия деревьев, гуляли всего лишь его обрывки, отголоски. Они-то и принесли на себе мужской, табачный запашок, возвещающий о приближении человека.
Встречный выглядел несерьезно: передвигался, то ли раскачиваясь, то ли танцуя на ходу, одновременно умудряясь строгать палочку, курить козью ножку и, не размыкая зубов, что-то там непонятное, бессловесное напевать. Аккуратно подстриженный, чисто выбритый, на локтях зеленовато-серого армейского мундира — тщательно вмонтированные заплаты. Алюминиевые, пупырчатые, словно гусиной кожей покрытые пуговицы на мундире сохранились только на клапанах больших нагрудных карманов. Остальные застежки были искусно вырезаны из дерева, отдаленно напоминая собой то бабочку, то жучка, то венчик цветка. Правда, и немецкий мундир, и солдатские, нашего происхождения, галифе, и грубокожие ботинки, а также упомянутые выше деревянные скульптурки пуговиц — решительно все, и ногти рук в том числе, несло на себе едва уловимый маслянистый оттенок. Такой трудносмываемый «загар» приобретают люди, постоянно имеющие дело с механизмами, маслами, горючим. Белокуро-медовые гладкие волосы встречного рассекались давно устоявшимся пробором. Выражение лица счастливое, можно сказать — беспечное, курортное. И если бы не усталость, заштриховавшая ранними морщинками пространство вокруг глаз незнакомца, сошел бы он за послевоенного студента, за юношу. Сугубо русское, деревенской конституции устройство для курения, эта вызывающе дерзкая двухколенчатая козья ножка забавно контрастировала с нездешне интеллигентным обликом молодого человека, и, когда вдруг, при появлении на тропе Павлуши, незнакомец, поплевав на цигарку, бросил окурок себе под ноги и с необыкновенным тщанием вдавил его в землю каблуком, Павлуша моментально понял, что перед ним — немец.
Короткий, из обломка пилы, на манер сапожного сделанный ножичек поблескивал в сильных, спокойных руках незнакомца. Своим удивительно четким, осмысленным, профессионально исполненным орнаментом бросалась в глаза краснокожая вербная палочка-прутик, над которой трудился походя бывший германский солдат.
— Битте! — протянул Павлуше дрючок. — Нравится? — спросил он и как-то очень по-русски улыбнулся мальчику. И эта раздвоенность — немецкое «битте» и наше «нравится», приправленное доверительной улыбкой, — напомнила Павлуше других немцев, совсем недавних властителей, временно обосновавшихся на его, Павлушиной, русской земле. Он даже за ухо себя машинально взял, представив, как подкрадывался к нему немец-конюх с красивой фамилией Шуберт, Мартин Шуберт, которого все называли Мартыном, как заворачивал он Павлуше ухо в трубочку, да так, что кровь из того самого места, куда девушки сережки подвешивают, проступала…
Павлуша, сжав зубы, пристально посмотрел лесному немцу в глаза, чуть дольше, чем это полагалось делать в лесу, без свидетелей. Схватив красивую палочку, Павлуша яростно переломил ее о колено пополам! Переломил, не отводя глаз от немца…
— Затчем ломайт? Их не понимай… Плохой палочка? — подбросил немец остро отточенный нож так, что он трижды перевернулся в воздухе, плавно и звучно шлепнувшись на ладонь незнакомца. — Смелый мальтшик. Не боялся меня. Я феть есть фашист… Как это? Прешний… Пыфший. Могу — чик-чик! Капут махен.
— Видал я тебя… — Павлуша нерешительно вытолкнул из себя отяжелевшие слова.
— Не пойся… Я есть пленный теперь. Их бин — шофер. Натчальника на аутомашинен… би-би… фарен.
— Пленный?! — Откровенно ехидничая, Павлуша отбросил палочку в кусты. — Гитлер капут, Германия капут?!
— Я не знаю… Гитлер, — засомневался, неожиданно посерьезнев, пленный. — Может, и капут. Не жалько… Германия — нихт капут: Германия путет всегта. Германия, Дойчланд — есть не Гитлер, не Бисмарк, не Вильхельм. Германия — луди есть… А луди есть жизнь. Меня Куртом зофут. Я шофер… и немножко гулял по лес. Люблю отчень дерево. Птицы тоже…
— А ножик зачем?! Думаешь, боюсь твоего ножика? Да у меня!.. Да я плевал на всякие там ножики! На кусочки могу разорвать, ферштеешь?
— Понимай, — опять, но уже сдержанней, улыбнулся Курт. И голову шутливо склонил на грудь в подтверждение своих мирных намерений.
— Слыхал, может, — грохнуло недавно?! — сощурился на Курта Павлуша. — Моя работа.
— Затчим? Здесь так тихо, руэ так… Карашо, гут! Я шляфен, бай-бай ложиться, тоше бум-бум во сне слышу… Страш-шно. Затчим?
— Тоже мне вояка! «Страш-шно!» Небось и в плен сдался от страха?
— Я не ставалься в плен. Меня фзяли…
— Мы вас всех победили! Всю вашу Германию.
— Я есть Курт. Маленький человек. Меньшенскинд! Меня послали, меня фзяли… Я хотчу толко шить.
— Так ты что же — портной? Шнайдер?
— Найн! Я не есть портной, я шофер! И хочу — лебен, шить! Пошивать… Лес витеть, птицы. Тебя, мальтшик. Ты стесь ф лесу, наферно, не фитель войну… Тумаешь — война интересант?! Война — шайзе! Извини. Рукаюсь уше…
— Да видел я вашу войну! Не беспокойся, не маленький.
Курт запустил руку в огромный накладной карман мундира, покопался там, как в мешке, затем вытащил оттуда… птичку. Опять же — деревянную, петушка резного, не раскрашенного красками, а, видать, горячим раскаленным гвоздем гравированного. Приставил немец петушка к губам, дунул. И петушок смешно кукарекнул.
— Умеешь… — нехотя согласился Павел и вдруг, сам того не желая, улыбнулся. Облегченно, словно дух перевел.
— Хотчешь фзять? Пери! Ты отчень смелый мальтшик. Я поняль моментно! Ты нет теревня, ты корот приехал, зо, так? Такой мальтшик теревня нету.
— Смекаешь… Из Ленинграда я.
— О, Ленинграт! Крассиво, культурно. Я фитель Ленинграт через окуляры… Пинокль. Тесять километр. А ф самом короте не биль…
— Не пустили потому что.
— Не пустиль… Зо!
— А хотелось небось?
— Отшень! А стесь ты…
— А здесь я в школе живу. С отцом. Мой отец учитель, лернер. Ферштеешь?
— О, я! Панимай… Их так и тумаль, что — ителлигентен мальтшик… То свитанья тепер… Мой товарищ натчальник рукаться начинайт. Я пошель. Меня совут Курт. А тепя?
— А меня Павел.
— О, Пауль! Шейне наме! Гут!
— Петуха, значит, мне оставляешь? Подарок, что ли?
— О, та, та! Яволь! Икрай, пери.
— На кой он мне!
— Пери, не опижайся, пожалюйста.
— Вот еще! Обижаться…
— На немец — не опишайся. Так полючилось. Война финовата…
— Ладно уж оправдываться.
Павлуша беспечно дунул под хвост птичке, игрушка издала прерывистое гнусавое кукареканье. Заторопившийся Курт трусцой побежал в направлении Жилина. А Павлуша раздумывал: что ему теперь предпринять? Возвратиться домой? А ну как отец прознал о его «диверсии» на заводе? Вдруг да там в деревне переполох уже, и его, Павлушу, с собаками ищут, чтобы арестовать и в колонию заново посадить? «Нет уж! Лучше по лесу шляться… Скоро ягоды созреют. Уже зацвела земляника. Кислая травка щавель, съедобная, растет по канавам. А там и грибы пойдут. Жаль только — спичек нету. Ночью к Лукерье в избушку постучу. Она не откажет. И спичек даст, и картошки. И молочка попить. Лукерья тоже добрая, как тетя Женя, соседка…» — размышлял Павлуша, забираясь все глубже в лес и время от времени издавая молодое, тонкоголосое, на высоких нотах срывающееся кукареканье.
В небе, опушенном облаками, еще с утра появились синие проталины. К полудню оно почти совершенно очистилось от облаков. Большое майское солнце пронизывало лес насквозь, до кореньев. Даже внизу на тропе было тепло, светло и непонятно радостно. Радовались и вовсю трещали налетевшие с южных краев и заселившие лес пичуги. Радовались деревья, шелестевшие новой, еще как бы лишенной кожи, тоненькой листвой. Радовались осы, шмели, мухи и еще какие-то летающие букашечные существа. Радовалось что-то шуршащее и шмыгающее в старой прошлогодней листве и в уже перемешанной с молодыми побегами летошней траве: то ли ящерки, то ли мыши, то ли лягушки-попрыгушки. Радовались, веселились, почуяв жар солнца, свет солнца, соки солнца.
Ощутил волну этой как бы беспричинной радости и Павлуша. И его подмывало то петь, то прыгать и даже летать. И в петушка немецкого кукарекать! Надо же… Такая большая зима, а совсем еще недавно такая большая война — голодная, бродяжья, постоянно норовящая убить, искалечить, чего-то лишить, такая страшная, необъятная беда людская — и вот все-таки отхлынула, отпустила, рассосалась по закоулкам планеты… И можно отдышаться, отдохнуть от насилия, от слез неутолимых, жалоб непроизносимых, страданий неразделенных.
Павлуша не заметил, как очутился в долинке, поросшей вербным красноталом. Кусты его не тянулись сплошняком, а располагались по всей поляне как бы большими букетами. Сережки на прутиках кой-где уже отвалились, зато теперь зелеными язычками тянулись к свету листочки. Павлуша набрал в ладонь целую пригоршню пушистых, напоминающих маленьких зайчат, вербных сережек и, поднеся к лицу, потерся об их нежные шкурки.
За очередным кустом возле камня-валуна, серого, но весело поблескивающего на солнце искрами кварца, Павлуша увидел спящую на вязанке свеженарезанных прутьев девушку. Спиной она прислонилась к нагретому солнцем камню. Платок съехал к затылку, обнажив растрепанные, распущенные косы нежной, золотистой окраски. Ноги в парусиновых дешевых туфлишках и простых, не единожды штопанных бумажных чулках песочного цвета неудобно протянуты с вязанки вперед и несколько растопырены. Губы расклеены в тихой, сонной улыбке. Глаза, смеженные сном, закрыты. Мышцы лица блаженно расслаблены. Ватная стеганка распахнута, грудь под ситцевым горошком платья едва заметно пошевеливается, словно два котенка в лукошке ворочаются.
«Интересно, чего это Капка тут развалилась? — усмехнулся взбудораженный встречей Павлуша, узнавший девушку и пытавшийся заставить себя уйти прочь или, по крайней мере, глаза от спящей, беспомощной фигурки отвести. — Неужели за прутьями? Зачем они ей? Небось корзины плетет? На продажу. Полы в школе моет… Все денег мало. Наверняка жадная».
Павлуша совсем было собрался прочь идти, но Капитолина вдруг шумно вздохнула, не просыпаясь. Грудь ее отчетливо приподнялась, затем опустилась. Движение это не ускользнуло от глаз, а затем и сознания юноши. Его вдруг неизъяснимо встревожило это видение. И — повлекло неудержимо туда, за куст, под сверкающий звездами камень, о который опиралась розовая, разгоряченная сном и солнцем девочка.
«А вдруг она… с немцем тут валялась? — переполошился, отрезвел на мгновение Павлуша. — Вдруг они здесь встречаются?! Ах ты, зараза…»
Юноша не заметил, как произнес последние слова вслух, склоняясь туда, под камень. Но, зацепившись в последний момент за надломленный, висящий на отлете от остальных сучок вербы, споткнулся и, прикрыв глаза локтем руки, чтобы не уколоться о прутышки, чтобы о камень лицом не мызнуться, словно в пропасть, на девушку спящую полетел.
И вот уж действительно чудо: настолько в женском существе развита способность предугадыванья, что в какие-то считанные секунды, можно сказать полностью не проснувшись даже, Капитолина успевает оторвать себя от камня, выпрямиться и, не раздумывая ни мгновения, пуститься наутек в лесную гущеру — только икры, выпяченные под чулками, замелькали. И все это действо происходит за кратчайший миг Павлушкиного полета в сторону девушки.
Оттолкнувшись от блестящего камня, Павлуша молча припустил за девчонкой. Капитолина бежала напролом, не разбирая пути, так как была смертельно напугана. Она врывалась в кустарник, как могучая лосиха, и уже в нескольких местах оцарапала себе ножу.
Наконец Павлуша догадался назвать себя, послав ей вослед, как из автомата, целую обойму слов.
— Это я, я — Павлик! Дурочка, остановись! Нужна ты мне! Я предупредить хотел. Стой, говорю, Капка! Ты разве не слышала взрыва?! Смотри добегаешься! Ногу оторвет! — Павлуша на ходу несколько раз кукарекнул немецким петушком, надеясь завладеть вниманием девушки при его помощи. И Капитолина остановилась. Она поспешно застегнула ватник, рука ее трепетная так и осталась на последней пуговице под подбородком в ожидании чего-то необыкновенного.
— Ну, здравствуй, Капа! Ты это что же… так с тех пор и сердишься на меня?
— Нет… За што мне сердиться на вас?
— Ну, за то самое… Что я тебя ущипнул тогда.
— А-а-а… Нет, не очень сердюсь. Испугалась я ужасть как.
— А сейчас почему бегала?
— И сейчас чуть не обмерла!
— А немца видела? Курта? Который шофером?
— Где?
— Да здесь, в лесу!
— Я немцев только в кино видела. Когда в Кинешму корзины продавать отвозила.
— А чего ты в лесу спать развалилась?
— А сморило… Прутов нарезала. Сидю, дремаю на вязанке. Олю Груздеву быдто вижу… Подружки мы с ей. Згинула, говорят… Чай, слыхали? Вот и подошла она быдто ко мне и за шею щекотит. «Пойдем, говорит, Капка, на Меру сходим, скупаемся». А мне быдто лень… Неохота. А Оля-то как закричит на меня. «Ах ты, говорит, зараза!» Да как замахнется. Ну, тута я и подхватилась. А замест Оли — вы. И по шее у меня сикляхи бегают, мураши черненькие. От страху-то я и понеслась.
— Выходит, не обижаешься на меня?
— Да господи! Ну, потрогали чуток… Нехорошо, ясное дело. Я ведь не против… Только пужать не надо. Так-то и заикой оставить недолго. А тут — экось, петушком закричали! Так и сомлела.
— Хочешь, подарю? — протянул петушка девушке.
— Ой, чудо-то какое! Неужто сами сделали?
— Еще чего! Стану я петушков разных делать. Ковыряться… Подарили.
— Рази дареное-то дарят? Себе оставьте, нехорошо дареное… — отказалась решительно.
Внешне успокоенные, в тревожном оцепенении шли они, время от времени заглядывая друг другу в глаза, шли рядышком, понимая друг друга без слов, как два зверька красивых, шли уже не по дороге, а как придется, лабиринтом лесным. Павлуша поднимал и отводил от лица девушки встречные ветки. Затем, когда замшелый, глубоко в землю закопавшийся ручеек перепрыгивали, подал Павлуша девушке руку да так и оставил, задержал в своей ладони горячие, помеченные ссадинами, цыпками, бородавками и все же ласковые пальцы.
— Ой, — вскрикнула, непритворно встревоженная. — А прутушки?! Да маманя меня на порог-от не пустит без вязанки. Куды это мы вышли?
Расступились шатровые, зелеными колокольнями уходящие ввысь могучие, седым мхом помеченные вековые ели. Разомкнули шумливое, шелестящее кольцо взявшиеся за руки длинноногие здесь, в глубине леса, березы и осины. Впереди только пушистый метровой вышины подлесок топорщился, и — свет! Огромная чаша света.
Вдали, в центре лесной поляны, под старинной чередой полусухих, корявых тополей, под рябинами разросшимися и яблонями одичавшими угадывались сморщенные серенькие избенки какой-то деревни. И странная тишина, исключающая всякое шевеление жизни, вытекала из этой чаши, через край проливаясь на слух и зрение стоявших у ее подножия молодых людей.
— Неужто Кроваткино? — ахнула Капитолина, по-старушечьи всплеснув ладонями. — Это куда жешь мы вышли? Во пустыню какую?!
Несколько в стороне от деревьев, принакрывших собой деревеньку, на конце недвижной жердины колодезного журавля шевельнула крыльями толстая, неповоротливая ворона, наверняка заметившая с верхотуры появление посторонних этому захолустью существ. Затем птица каркнула дважды и нехотя снялась со своего наблюдательного поста, плавно, изящно изгибая крылья в полете.
— Это что за пункт? — поинтересовался Павлуша. — Может, табачку в деревне стрельнем? Курить чего-то захотелось, — присочинил он, еще не привыкший к табачному зелью, рисуясь перед девчонкой.
— Да што это вы, али не знаете? Не живут после войны в Кроваткине. Недавно последняя бабушка померла. Остальные — кто в Кострому, кто в Кинешму. А бабушка эта, Килина-травница, травкой лечила. Ходили к ней сюда и с порчей, и с грыжей, и если змея укусит — прибегали. Она еще скризь видеть могла…
— Как это… видеть?
— Вот случается — на фронте мужик чей в поле убитый, погибает. Она, Килина-то, посмотрит скризь воду… Мисочка у нее была медная… Волшебная. Посмотрит и видит. Живой он али холодной уже. Возвернется в дом к своим али не ждать его вовсе. Знахарка, одним словом.
— Мура все это. Пережитки. Темнота. Еще бы — тут, в такой глуши… У нас в Ленинграде расскажи про такое — засмеют на всю жизнь.
— В Ленинграде, может, и засмеют. А у нас хорошо вспоминают бабушку. Потому что денег с людей не брала. Бесплатно лечила. И угадывала бесплатно. На пропитание какую-нибудь корочку оставляла, ежели приносили… А злые люди про нее врали, что она кошек ела. Обдерет, мол, и сварит в супе. А шкурку на варежки. Только неправда это, мама сказывала. Которым не помогла ее травка — те и злобились. А кошек она сама кормила. Похоронили ее этой весной. И что померла — не знали про то целую зиму. Сказывают, лежала как живая. Не спортилась вовсе. Правда, морозы в тую зиму страшенные были. На кладбище в Козьмодемьянское не повезли, здесь, в Кроваткине, и закопали. На ейном огороде. И быдто кошки на могилке так и живут, не сходя с места. И мертвую, когда она зиму лежала в избе, не тронули, не обгрызли. И мышам не дали.
— Пошли посмотрим! — воодушевился Павлуша. — Интересно ведь: целая деревня, и вдруг — никого. Не верится даже. Хоть кто-то да есть. Разве такое бывает, чтобы совсем никого? Населенный пункт. Название имеет. На карте района небось точечкой обозначен.
— Чего не знаю, того не знаю… Да и домой мне пора. А вы как хотите. Только не советую. Не ходят сюда наши по одному.
— А как же ты одна дорогу назад найдешь? — насторожился Павлуша, втайне надеюсь, что Капа не оставит его здесь, в этой неприятной, мертвой местности.
— Уж я-то дороги не сыщу?! Да господи! Вот, от солнца напротив — туда и пошла по ручью. В аккурат по нему к тем вербочкам и выйду, где камень блистючий. Возьму свои прутушки — да на фабричную дорогу, она там в одном шаге. От камня до Жилина три версты всего… — Отвечая на вопрос, Капитолина, по всему было видно, старалась нездешнему Павлуше помочь сориентироваться.
— А волков не боишься одна? — выпытывал парнишка, надеясь и для себя нечто утешительное от нее услышать.
— Двуногих волков боюсь… Ну, я ушла.
«Неужели сбежит? Известное дело — баба. Все они одинаковы. А была бы мальчишкой… Вон Серёньку силком надо гнать домой». И ему вдруг захотелось мгновенно переубедить ее, заинтересовать чем-то, сделать или хотя бы пообещать на словах что-то хорошее, ценное, искреннее. И вдруг будто бес копытом лягнул: «Не на колени же перед ней становиться?! Обойдется».
И тут Капа оглянулась, как бы приглашая его молча к себе, призывая не связываться с неизвестностью.
— Капа! — крикнул он, зардевшись.
— Ходите домой, — проговорила, опустив глаза.
— Еще чего, — прошептал он себе под нос, довольный, что позвала. Теперь самое время проявить себя мужчиной и не согласиться. Двинуть в неизвестное, может статься опасное.
— Ладно, бывайте, — затопталась она у входа в лес, не решаясь так сразу оборвать паутинку близости, протянувшуюся от сердца к сердцу. — В субботу мне опять у вас полы мыть… Так что до свиданьица! — крикнула она, уже невидимая, из леса, как из гулкой пещеры.
Павлушу вовсе не радовал ее уход. Он уже подумывал: не догнать ли ему девушку, как вдруг со стороны пустой деревни, отчетливый, истерически-визгливый, вспыхнул и долго не потухал собачий лай.
«Выходит, никакая не мертвая, не пустая… Живет кто то в деревне! — обрадовался и одновременно испугался догадки. — Насочиняла Капка. Небось напугать меня хотела. А потом и посмеяться: мол, струсил городской… Теперь-то уж обязательно схожу в деревню, узнаю, что да как».
Давно не езженная тележная колея вывела Павлушу на бугорок, на макушке которого торчали деревья, уже с первого взгляда отличавшиеся от деревьев лесных. То были деревья домашние, взращенные человеком, и не походили они на своих диких собратьев так же, как домашние животные на зверей. Приземистый, широкоплечий дуб, под которым не росла трава и где прежде собиралась молодежь, звучали частушки, стучали каблуки, дробившие суглинок в залихватской пляске, — дуб этот неувядающий вновь обрядился в молодые листочки. Еще полуживые дуплистые ивы, скрюченные, скорченные стволы которых проедены дождями и огнем, пробиты местами ударом молнии — насквозь, навылет. Да пара заматеревших, дремучих лип. Да стройный, словно в футляре выросший, клен. И вдруг — раскудрявая, еще прозрачная, с незагустевшей кружевной кроной рябинушка. А под ней, на поросшей жилистым подорожником тропе — настоящая шавка, дворняга с загнутым кочережкой хвостом и прошлогодним репьем на серой, цвета солдатской шинели, взъерошенной шерсти.
Собака минуту-другую молчала, пружинисто припадая на передние лапы, и вдруг, подняв вертикально столбиком морду, на кончике которой поблескивала влажная черная кожица, начала скулить, затем выть и яростно лаять. А над собачьей головой, там, в молодой пушистой листве стародавней рябины, как птица в клетке, сидел на разлапистом сучке черный кот. И, приоткрыв розовую, растянутую ромбом пасть, пугал собачонку гнусавой, занудной трелью.
Павлуша решил не связываться с неполадившими животными, перешел на другую сторону деревенской улицы, однако собачка, хоть и была крайне занята, все же заприметила парнишку; поджав хвост и раскачивая задом, на полусогнутых лапах покатилась под ноги человеку, всем своим видом и поведением убеждая того в намерениях мирных, не вздорных. Павлуша похлопал себя по колену ладонью. Собачка и вовсе на задние лапы встала, целоваться полезла. Ничего дикого, мрачного, звериного в замашках песика не наблюдалось. Обыкновенный уличный кабысдох.
— Ну что, Бобик? Одичал? Или не совсем? Жевать небось хочешь по-прежнему? Извини. Пусто у меня в карманах. У самого в животе кошки скребут.
Избы в Кроваткине располагались не по обе стороны дороги, а лишь по одну, и этак по дуге, полукольцом. Как древнее городище. Короткая, еще не вошедшая в рост пушистая травка запорошила улицу. И эту шелковистую травку, и круглые блинки молодого лопуха, угловатые, с мягкой, байковой изнанкой листья мать-мачехи — всех обогнала молодецкая крапива, устремляясь в своем естественном порыве ввысь и вширь, обступая теперь избы не только с огородных задов, но и спереди, пробиваясь на свет прямо из щелей дощатых завалинок, на которых обычно сидят старики и старухи.
Окна первой от края избы заколочены, словно перечеркнуты, каждое двумя нетесаными ольховыми дровинами. Стекла местами выбиты. Черная немота за ними недвижна. Следующая изба оказалась заколоченной несколько аккуратнее: окна ее были зашиты настоящими досками, наглухо, так, что и стекла в избе, вероятнее всего, уцелели. Перед покосившимися, но плотно запертыми воротами этого дома стоял… велосипед. С твердыми надутыми шинами. На рулевой колонке — бирка пензенского завода.
«Ну, Капка, зараза! Чего насочиняла… Пустыня! Да здесь на велосипедах ездят…»
Павлуша засобирался идти прочь, встречаться ему ни с кем не хотелось, как вдруг собачка, топтавшаяся позади него, с размаху уперлась лапами в калитку, на которой негромко звякнуло ржавое железное колечко. Натужно заскрипев, дверь калитки отошла внутрь. Собачка проскользнула во двор. За те несколько мгновений, когда в калитку протискивалась собачка, успел Павлуша многое разглядеть в глубине двора. Зеленый рюкзак, стоявший прямо на земле, вернее — на мелком чистом булыжнике, которым был замощен двор, и пару ступенек, ведущих на крыльцо дома, и дверь, настежь распахнутую, различил. А главное: человеческую фигуру в фуражке с зеленым кантом заприметил. Человек стоял спиной к воротам, но, когда заскрипела калитка, мгновенно обернулся, встретившись взглядом с Павлушей. В руках дядьки мелькнула какая-то непонятная вещь: то ли книга, то ли картинка небольшого размера, темная, но с каким-то цветным изображением.
Калитка захлопнулась и минуты две не открывалась. Затем тот же мужчина, но уже с пустыми руками, в сгорбленном состоянии выбрался из приземистого отверстия калитки, как бы врезанной в плоскость ворот, и медленно распрямился перед Павлушей, оказавшись высоким и неожиданно недеревенским, потому как носил под козырьком фуражки круглые в рыжей, чешуйчатой, похожей на червячную кожу оправе очки.
— Вы кто?! — испуганно и вместе с тем задиристо выскочило у Павлуши.
— Видишь ли, паренек. — Мужчина не торопясь обхватил огромной ладонью свой клинообразный, острый подбородок, напоминавший только что извлеченный из земли, поросший редкими ниточками волос корнеплод. — Если я скажу, что перед тобой Чарли Чаплин, ты ведь не успокоишься…
— Мне говорили, что в этой деревне никого нет.
— Совершенно верно говорили.
— А как же… вы?
— А я проездом. В должности лесной состою. И по обыкновению чай в этой деревеньке пью.
— С вами серьезно, а вы… Чарли Чаплин!
— А я не хочу серьезно. Надоело, понимаешь? С кем ни повстречайся, обязательно сразу серьезно себя веди… На собрании — серьезным сиди. К начальству тебя вытребуют — в кабинете непременно серьезно себя веди. На улице, в очереди тоже не улыбнись, иначе за дурака примут. Может, и беды-то все оттого, что слишком серьезен человек, угрюм слишком, вечно брови ему сводить необходимо, улыбнуться лишний раз на людях нельзя, не смей…
— Вы лесник?
— Да. Такие вот в сказках лешие, как я… Похоже? А зовут меня дядя Федя. Чаю хочешь, Витек?
— Хочу! — рассмеялся парнишка и смело протянул дяде Феде руку. — А я Павел!
Павлуша сам не заметил, когда ему дядька этот нескучный, с глазами, полными улыбки, нравиться начал. Некрасивый, даже страшненький, лицо необычное, вытянутое, нос как рюха городошная, на остром подбородке не борода, а какие-то водоросли. И еще эти очки под фуражкой — как корове седло… А голос приятный, хотя и простуженный, сиплый. Добрый голос. Веришь такому голосу.
— Тогда пойдем в избу.
На дворе рядом с крыльцом, покосившаяся, со следами синей облезшей краски, стояла собачья конура. Из нее выглядывала собачья морда, поваленная на пучок старой, полуистлевшей соломы.
— Кучум! — позвал мужик. Пес очнулся. Приоткрыл один глаз. — Отдыхаешь? Валяй… А мы чайком побалуемся и — по коням.
— Вы что — купили этот дом? — Павлуша растерянно озирался, поднимаясь на усыпанное прошлогодними листьями, давно не подметавшееся крыльцо.
— Здесь Килина жила. Бабушка такая известная… необычная. Мы с ней дружили. Лет двадцать подряд. С перерывом на войну. Чаем она меня угощала всякий раз. А в прошлую зиму умерла она тут. Вернее — замерзла. В крещенские морозы. Занедужила небось, а протопить некому. В марте я на совещание пробирался, в Кинешму. Заглянул, как всегда, погреться, чайку глотнуть… Водки-то я не пью. Ну и… обнаружил. Теперь она под яблоней лежит. Во-он под той, которая розовым цветом цветет, — указал дядя Федя длинным, как дуло от парабеллума, пальцем.
— У нее что же… и родственников никаких не осталось?
— Родственники, ежели во всесоюзный розыск подать, может, где и обнаружатся. А вот которые родные, самые близкие люди, таких у нее уже нету. Всех пережила. За девять десятков ей было. Со счету сбилась. А голова ясная на плечах. Глаза так и светились, будто оконушки ночные… А над моими очками потешалась: «Чего это ты, Федя, рамы-те зимни до холодов поставил?»
— Она что, колдунья была? В какую-то мисочку смотрела…
— Килина больных пользовала. Врать не буду. Шли к ней. Да она одними взорами на тебя посмотрит, ласковыми да успокаивающими, — ни один укол так не утешит, не поспособствует в страданиях. Вот именно, что пользу она людям приносила, потому и шли. Колдовство ее добрым было. Ну и травы знала наперечет — какая от чего. Тут уж она — гомеопат натуральный. А то, что без диплома… Так в жизни мало ли красоты, чудес разных мало ли, которые сами по себе, без официального подтверждения. На доброе сердце бумажку не выдашь. На право ношения оного.
Когда вошли в темное помещение, сразу же сеновалом пахнуло: столько разных трав, сучков-стебельков по углам да по стенам торчало-лохматилось. У кухонного окошка, которое во двор выходило и незаколоченным оставалось, стоял крепкий еще стол, накрытый старенькой, вросшей в столешницу клеенкой с не различимым уже узором. На столе было чисто. И еще на столе стоял самовар. Живой, горячий, попахивающий дымком.
Из остальных, заколоченных, окон в щели дома просачивался острыми лучами напористый майский свет. В глубине избы, приглядевшись, можно было различить большую деревянную кровать, накрытую цветастым лоскутным одеялом, горку подушек в ситцевых наволочках. На кухне много посуды по занавешенным полкам. Из-под печки целый набор кочережек, ухватов, сковородников торчит. И помело: печку после нагрева под хлебы заметать.
— Да, да… Все цело. Ни единой щепочки с места не сдвинуто. Городские не добрались еще. А деревенские, которые из соседних деревень, по старой привычке или памяти уважают это место. Ну и побаиваются малость. Как-никак ворожея… Однако доберутся рано или поздно. Грибники какие-нибудь. Заволжские-кинешемские. Вот я и решил иконки Килинины отсюда унести. У нее ими целый угол завешан был. Хочешь, одну тебе дам? В бога не веришь, конечно?
— Да нет. Еще чего! Скажете тоже… Что я — бабушка?
— Дурачок. Это ж произведение искусства. Художник эти иконы рисовал. Живописец. Смекаешь? — Дядя Федя нацедил в граненые стаканы кипятку из самовара, долил в них до полного какой-то ароматной заварки из чайника с отбитым наполовину носиком. Пододвинул Павлуше мраморный осколок чистейшего сахара. — Пей, Павлик, бабушкин чай. На ее травах пользительных заварочка. Смесь, букет… Помянем рабу божью Акилину. Чтобы ей там, под яблонькой, весело лежалось… Сам-то откуда будешь? Не ленинградский?
— Ленинградский! Как это вы… угадываете? От бабушкиного чая передалось?
— Речь у тебя нездешняя. Не окаешь. Хотя и не акаешь по-московски. На букву «и» нажим производишь. «Чиво», «нинада». Так питерские мазурики балакали… Бывал я в ваших краях. Належался в болотах. Еле разогнулся после войны. Спасибо Килине опять же… Растиркам ее бесподобным.
— Вы что же, под Ленинградом воевали?
— Воевали, — улыбнулся огромным, будто резиновым ртом дядя Федя, обнажив длинные бобровые зубы. И что удивительно: губы его при улыбке не вширь разъехались, а вверх и вниз завернулись.
— Кем же вы… в очках-то воевали? Писарем небось?
— А воевали мы — солдатом. Простым, значит, бойцом. Пока не контузило и зрение не испортило. А как эти самые окуляры нацепил, так сразу и повышение вышло: в саперах отделением, то есть артелью, бригадой, командёрствовать научился. С топориком в основном. По бревенчатой части. Давай нацежу еще стаканчик. Вкусная жидкость?
— Вкусная, спасибо… Приятная.
— На здоровье. Хотя вон ты какой розовый, выпуклый на щеки. В наших-то краях зачем оказался?
— К отцу приехал. В Жилино. А щеки у каждого свои — какие есть. У вас они тоже не очень-то приятные. И по части мазуриков поосторожней. В Ленинграде не мазурики, а ленинградцы. Которые, кстати, немцев к себе не пустили.
— Опять ты, Паша, чересчур серьезно заговорил… Ну да ладно, извини, если не так сказал. А батька твой никак учителем?
— Не «никак», а на самом деле… У него образование высшее.
— Не Алексей Лексеич?! То-то, смотрю, напоминаешь ты мне будто кого! Да у тебя, Павлуша, не отец, а, можно сказать, — человек!
— Вы его знаете?
— Еще бы! Не только знаю, но и запомнил навсегда. Случай со мной случился в прошлое лето. На смычке… На пароходе «Урицкий», который с одного берега на другой по Волге плавает возле Кинешмы. В город я за радиоприемником тогда собрался. На «Рекорд» у нас с женкой сумма была накоплена. И лежала эта сумма у меня под дождевиком в левом нагрудном кармане гимнастерки. На медную пуговицу застегнутая. А вор — он что? — в самую гущу толпы непременно вонзиться норовит. Чтобы с тобой покрепче обняться, ощупать тебя, как курицу: нет ли у тебя яичка золотого под одеянием?
Как только «Урицкий» боками своими лохматыми о дебаркадер заскрипел, еще матросик чалку как следует не завинтил о кнехт, а народ уже к сходням рвется: сгрудились, сузились в проходе, а потом, когда выперло нас и очутился я на смычке, первым делом карман свой ощупал: цело! Бугорок под плащом на месте. Я и успокоился. Обилечивали прямо на смычке. А проверяли — на выходе. Раз-два! — переплыли матушку, приставать собираемся. Народ опять в кучу — масло давить… Личности примелькались уже, которые при посадке локтями работали. Мужичонка мне один, махонький, востроглазый, даже подмигнул, и я ему улыбнулся. Ну и выкатились в итоге на кинешемский песочек. Сейчас, думаю, в гору вздынусь и на базарной площади в столовку зайду: винегрету пожую. Погладил себя для страховки по дождевику, а пальцы скользни в какую-то щель… В прореху! Глянул, а на груди по дождевику разрез. И пуговичка с кармана гимнастерки — тю-тю! Под самый корешок… — Дядя Федя обнял пятерней свою редьку-подбородок и комично так провел по нему пальцами, как бы воду с него стряхивая дождевую. — Обработал меня какой-то умелец, пока высаживались. Скорей всего — тот, который подмигнул. Помнится, стою, как будто меня мешком пыльным огрели. Улыбаюсь, челюсть сама так и отпала. И по карманам себя обыскиваю, хотя наверняка знаю, что деньги в нагрудном ехали… А я и в заднем, и плащ весь перетряс, словно бекасов этих самых, которые вши, ищу. И подходит ко мне, думаешь, — кто? Гражданин в синих очках. Ну, форменный мазурик питерский. Это если с первого взгляда. И особенно после того, как тебя только что радиоприемника «Рекорд» лишили, который с проигрывателем. Радиола по-нынешнему… «Извините, заявляет, не могу ли чем помочь? Полезным быть? Вы, кажется, озабочены чем-то?» — «А вот пройдемте», — говорю и крепко так беру его за руку и веду на рынок — в сторону пикета милицейского.
Он почему-то не сопротивляется. Меня это поначалу смутило, а чуть позже, как базаром шли, насторожило даже: любой карманник непременно или канючить начнет, или попытается руку свою из твоей выдернуть и с толпой смешаться, благо толпа на рынке самая подходящая для этой цели.
Заявляемся в милицию. Я его, очкастого, сразу же к барьеру и свой дождевик порезанный к лицу дежурного пододвигаю: нате, мол, вам, любуйтесь вещественными доказательствами. И правый кулак с изнанки в щель-прореху просовываю. «Вот!» — говорю, а сам чуть не плачу, хотя и улыбаюсь. «Что значит „вот“?» — переспрашивает усатый старый лейтенант, такой милицейский дедушка, и глядит на меня несерьезно, как на фокусника, которые на рынке обыкновенно в «три листика» играют.
«Как это что?! Денежки, которые на приемник, — вырезали!» — «На какой такой приемник?» — якобы не понимает ничего лейтенант. «Не важно, говорю, на какой… Нету их теперь, вот в чем загвоздка. И подозреваю лично этого гражданина в очках. Проверьте у него документы. Сразу видно — гастролер!»
Смотрю, улыбается мой воришка, очки с носу снял и головой из стороны в сторону покачивает, будто у него вода в уши налилась.
Проверили документы. Откуда-куда — поинтересовались. Оказывается, учитель. Фронтовик недавний, раненый, и так далее, и тому подобное. И еще: будто бы я его выручил однажды. Там, на войне… Признал он меня. На грудь кинулся. А я и не вспомню никак поначалу-то. На войне каких чудес не происходило с людьми. Во сне не приснится такое… А теперь-то он с конференции учителей, которая в Кинешме проходила, возвращался. Домой, к себе в Жилино. Проверила милиция документы, все сошлось. Я, конечно, загрустил, извиняться начал. Мол, так и так. Приемник хотелось послушать… Всю войну другую музыку слушали. Короче говоря, достает «воришка» из своего дождевика бумажник и аккуратно из него какие-то деньги вынимает и мне их протягивает: «Возьмите… Здесь сто рублей. Я домой теперь еду. И мне они пока что не нужны. А вам в городе понадобятся».
И адрес мне свой пишет на обрывке газеты. Вот так мы с батькой твоим и познакомились вторично. Позднее-то я и в гостях у него был, и чай пил. Благо жилинские леса моего кордону. Раньше мимо чешешь, а теперь непременно в его школе остановку делаешь. С председателем тамошним, Автономом Голубевым, интересы у нас разные. А с Алексеем Лексеичем сходные.
— А как же приемник?
— А приемник я подешевле купил. Простенький, трехламповый. Однако ловит и музыку, и последние известия. И футбольные игры. Я за ЦДКА болею. А ты за кого? Небось за «Зенит»?
— Я за себя болею. А что? Нельзя, скажете? — улыбнулся хитренько.
— Можно, почему же… За себя постоять никому не возбраняется. Но если постоянно за одного себя болеть, можно и проиграть… У людей так не принято. У хороших людей… Вон твой папа…
— Ну и что — мой папа?! На днях он за какую-то пьяную тетку заступился. И в глаз от ее мужика получил. Синяк и теперь еще не растаял.
— Во! Это и есть, братка, самый главный знак отличия — такой вот синяк, который за доброе дело получен. Орден Справедливости. Ты на своего батьку молиться должен. Бога благодарить, что живой он у тебя из геенны огненной вышел. А что, неужто промеж вас несогласие?
— Зануда он! Учитель, одним словом. Дотошный. Давит, давит… Что я — кролик подопытный? «Учись, учись, пропадешь, погибнешь!»
— Ну а… забывши все это, которое не по нраву, — учебу, наставления, — ежели как на духу, скажи-ка вот — любишь отца?
— А это уже мое дело!
— Заплакал бы, если б его, не дай бог, убили или в тюрьму запрятали?
— Не говорите чепухи! Странный вы какой-то… — Павлуша осторожно, как в заминированном пространстве, привстал из-за стола и к растворенной двери, на выход, попятился.
Дядя Федя, задумчиво улыбаясь, голову чуть ли не к самому столу опустил, на Павлушу якобы ноль внимания. Снаружи избы, где-то далеко за лесом, все отчетливее погромыхивал гром. Когда ухнуло особенно явственно, так что в стакане дяди Феди меленько, чуть слышно задребезжала чайная ложечка, лесник, огладив корешок своего подбородка, взбил на морщинистый низенький лобик очечки и тихо так, вкрадчиво попросил Павлушу:
— Миленький, папу-то своего… того — люби. Кто папу любит, ну и маму понятное дело, тот и землю свою… и все ему дорого в этой жизни. И радости у него больше, чем у холодных эгоистов. Ладно, ступай уж. Ты ведь и сам грамотный. По глазам вижу. Только ведь и сердце в человеке постоянно обучать необходимо. Сердешной грамоте. И здесь любая секунда, тобой прожитая, учителем способна обернуться. Война, лес, одиночество, гром небесный или вот с тобой встреча: вона сколько учителей у меня… И все одному главному учат: спеши из себя человека сделать, а не скотиной оставайся, или зверем, или там еще каким червяком…
— Мне идти нужно, — раскраснелся, застеснялся Павлик, порываясь бегом бежать от разговоров, словно уличающих его в чем-то, и вот комедия! — справедливо уличающих… И в то же время отмахнуться от человека, напоившего тебя чаем, наговорившего о твоем отце столько интересных слов, так хорошо и необычно улыбавшегося (не вширь, а как бы вверх!), было уже невозможно.
— Привет Лексеичу передавай. Скажи, мол, кланяется Федор Иванович Воздвиженский. Передашь?
— Передам. Обязательно.
— Вот и умница. Беги, сынок. И гроза ежели захватит — под большое дерево не становись. Лучше в кусточки, в ельничек-лапничек. Беги, не то батька хватится. И еще просьба: не унывай! Улыбайся почаще. А не то язву желудка наживешь раньше времени.
Выйдя на крылечко, Павлуша носом к носу столкнулся с Кучумом. Собака, встав на задние лапы, передними уперлась в перила крыльца и пристальным взглядом провожала парнишку, пока тот на яблоню розовую оглядывался, в окно дяде Феде рукой махал, а как только за колечко гремучее калиточное взялся — сорвалась с места и, весело вращая пропеллером хвоста, прошмыгнула вместе с Павлушей наружу — на пустынную кроваткинскую улицу.
Небо над головой синело огромной сверкающей прорубью, в центре которой плавало солнце, а вокруг — по всей ширине — венчиком клубились громадные, хлопковой белизны, облака, на западе будто подкопченные, овеянные грозовым дымком, перерождающиеся в угрюмую ворчащую тучу.
Глава восьмая. Княжна
Из шестнадцати лет, которые удалось Павлуше прожить на земле, шесть смело можно назвать скитальческими, непутевыми. Его маленькая, невзрослая, но весьма жилистая философия — устоять, проскочить, вывернуться, выжить — воспитала в нем за годы войны, а еще больше за месяцы колонии множество способов выживания. И прежде всего был он крайне внимательным. Ежели спотыкался, то непременно оглядывался: обо что? Запоминал. Изучал повадки взрослых людей. И частенько благодаря своей внимательности предугадывал события. Мог, где это было выгодно, заплакать или, наоборот, окрыситься, зубки показать.
Однако наряду с приобретенным уживалось в нем и врожденное — скажем, если не доброта, то жалость. Во время войны и в колонии прибивались к нему собаки, ибо знали, бессловесные, что этот — даст. Пусть не сразу, не тотчас, с оглядкой, но что-нибудь непременно отломит, отщипнет и незаметно уронит, чтобы другие мальчишки не видели и слабость в нем эту не заприметили. Однажды в колонии, когда проигравшегося в карты, красивого, из интеллигентной актерской семьи, мальчишку выпало Павлику казнить или миловать, когда остальные пацаны воровского толка стояли возле дверей чулана, где Павлуша при свечах должен был избить, унизить проигравшегося, стояли в ожидании рыданий и стонов, чтобы дружно хором запеть «Катюшу» и тем самым плач проигравшегося заглушить, — шепнул вдруг Павел своей жертве: «Кричи, дурак! Притворяйся, натурально чтобы… У тебя ж родители артисты: играй роль, красавчик… Ну, раз, два, три! На-ко тебе, сука!» Бац! — треснул Павлуша кулаком о свою ладонь, затем о стенку чулана. И пошла как бы катавасия. Заскулил, засопливился хлюпик довольно-таки натурально, а потом и вовсе на собачий вой перешел, задергался на полу, в пыль-грязь вымазался. Под дверью «Расцветали яблони и груши» поют что есть мочи. В общем, отлично они тогда комедию разыграли. Ко всему прочему Павел, пожалев слабака, верного слугу в его лице приобрел.
А сегодня отца сделалось жалко. Как никогда прежде. Павел запоздало сообразил, что отец, прослышав о взрыве, наверняка переживает исчезновение сына… Смутная вина перед отцом пробиралась в сознании мальчика, как путник сквозь метель. И как бы на самом выходе из этой метели, на дневном ярком свету представился Павлуше отец, согнувшийся над нечвой с винегретом, с нерассосавшимся синяком под больным глазом, городской, нездешний, в огромных деревенских валенках… Павлуше захотелось немедленно побежать к отцу, что-то сказать ему необыденное — нежное, ласковое, что-то такое, на что у подростка зачастую духу не хватает. И… не побежал, не зажегся той нежностью. Только вспыхнуло в нем доброе желание и тут же потухло. Есть такие спички. Не идеального качества. Хоть одна да отыщется в коробке. Неполноценная.
Не побежал. И это несмотря на сосущую сердце жалость к отцу. Пугали очки… Вернее, то, что под ними таится. Неприготовленные уроки расхолаживали. Конечно, он знал, что в итоге все равно вернется. По причине ли жалости или разумения трезвого, то есть расчета, а скорей всего по зову желудка, ощутившего винегретную тоску, так или иначе, но возвращаться в школу предстоит неминуемо.
Синее небесное море над головой сузилось до размеров глухого, прощального окошка. Еще несколько мгновений, и громоздкие, казалось, такие неповоротливые на первый взгляд облака проворно замурозали, заткнули синюю дырочку. Откуда-то слева, затем справа и, наконец, над самой головой Павлуши раздались короткие грозовые разряды. Молнии он почему-то не заметил. Сверкнуло минуты через две. Резко и как-то размазанно, во всех направлениях. Павлуша начал считать про себя и досчитал до пятнадцати, когда воздух — и казалось, не только воздух, но и землю — потряс многоступенчатый обвальный грохот.
Пес Кучум, поджав хвост, припустил по безлюдной улице к дому бабушки Килины. Павлуша так и не понял: чей он, Кучум? В конуре лежал тогда, будто он в ней родился и вырос. Но ведь в Кроваткине жителей никаких нету. Дядя Федор — лесник с кордона — просто чай по старой привычке пьет, на пути к своему дому. И собака Кучум не иначе его собака.
Но уж такой сегодня день суматошный выпал на долю Павлуши: едва от одной встречи отделается — другая подстерегает. И где? Можно сказать, в пустыне лесной…
Порожний желудок все отчетливее давал о себе знать, словно закручивался внутри живота снизу вверх — тряпочкой в трубочку. Ноги сами несли по мшистым подушкам кочек вдоль молчаливого, надежно замаскированного травой ручья. Сейчас Павлуша выбежит на прозрачную вербную долинку, где камень блистючий, а рядом с ним и дорога; в одну сторону на Жилино идти, в другую, через село Козьмодемьянское, — на Александровскую фабрику. Все ясно, все четко как на ладони. Вот и вербочки, вот и… фигурка человеческая возле камня! Неужели Капка, чума болотная, дожидается его?
Первые капли, редкие и огромные, как хулиганские плевки, звучно шлепали, ударяясь то там, то тут о прошлогодние листья на проселке, о неровную поверхность воды в ручье, о молодую зелень над головой Павлуши, а вот теперь — и по самой голове стукнуло.
Фигурка возле камня сидела живая, беспокойная, полностью накрытая прорезиненным макинтошем, вертела под ним головой непрестанно и явно подсматривала за происходящим вокруг — в щель не доверху застегнутого плаща.
«Откуда у Капки макинтош?» — остановился Павлуша в недоумении, прячась за вербным кустом, на котором, как дым от костра, висело еще множество потемневших от дождя сережек.
Из-под плаща, приглушенное прорезиненной тканью и расстоянием, донеслось игривое хихиканье, перешедшее в неподдельный визг сразу же после того, как лес пронизал разряд электричества и страшный грохот накрыл собою все живое и неживое на земле.
Грозы Павлуша не боялся. Ни в розовом, уютном детстве, когда отец, гуляя с ним по Ленинграду, однажды специально продержал его под дождем минут пятнадцать, объясняя пятилетнему сыну это красивое явление природы и словно ловя молнии рукой. А застала их гроза, помнится, где-то возле Невы, чуть ли не напротив Медного всадника. Отец тогда еще удивился: такой кроха, такой комок трепетный, а глаз от грозы не прячет и даже улыбается навстречу, будто на празднике новогоднем при виде иллюминации елочной.
Не боялся Павлуша грозы и тогда, когда один, без родителей, посреди военной сумятицы очутился. Не потому ли и все наземные, рукотворные грозы переживать ему было как бы сподручнее: ночные, с подвешенными на парашютах гигантскими люстрами, бомбежки; артиллерийские дальнобойные дуэли, в зону которых он попадал вместе со всеми не причастными к военным действиям существами — птицами, зверюшками, насекомыми, рыбами и деревьями; не от этого ли врожденного отсутствия громобоязни он и войну беспощадную перенес легче других сверстников, многие из которых по ночам еще долго будут вздрагивать и потом холодным обливаться. Мало того — он даже любил страшненькое: зачарованно смотрел не только на грозы небесные, но и на земные пожары, на большую весеннюю воду; ветер шквальный, мускулистый, нравилось ему головой насквозь пробивать. И когда позднее, в школе, «Песнь о Буревестнике» наизусть усваивал — делал это не механически, а с вполне осознанной радостью.
Мирное, размеренное течение жизни действовало на него истязаюше, и выносил он эту пытку покоем гораздо мучительнее, нежели тревогу.
Дождь грянул напористый, пулеметный! Под плащом заверещало еще заливистее, а когда электрический разряд вспыхнул, казалось, где-то перед глазами, сразу же гром словно от камня блестящего мячиком вверх отскочил! Существо, притаившееся под плащом, не выдержало и громко позвало:
— Ой, Павлушенька, миленький! Боюсь…
Павлуша, раздвигая рукой стебли дождя, не торопясь, степенно подошел к камню, возле которого притулилась фигурка, заглянул под плащ, и тут его цепко горячая рука ухватила и под навес к себе как миленького втянула.
«Княжна Тараканова!» — ужаснулся Павел. Сердце у него вмиг словно испарилось, растаяло от страха и предощущения беды.
— Вот ты и попался, воробышек! — задышала ему в ухо. — Теперь уж я тебя не выпущу… Ой! — И Тараканова неожиданно резко подскочила, так как в ямку возле камня, где она сидела, змейкой метнулась из травы шальная пузырящаяся вода.
— Бежим! — Княжна потянула Павлика за собой куда-то в глубь леса, в тишину лохматую, под ельник лапчатый, водонепроницаемый.
Павлуша, когда под плащом у Таракановой очутился, мгновенно дразнящие запахи съестного успел уловить: скорей всего хлебом свежим пахло и салом с чесноком. «Что это у нее в узелке?» — плотоядно подумал.
— Павлик, а я тебя поджидала.
— Зачем тебе?.. Шпионишь!
— Капку возле кирпичного завода встретила. Она и проговорилась.
— А меня там не ищут? Не слыхала?
— А чего тебя искать? Не маленький, чай… У меня к тебе просьба. Как к мужчине. Поможешь?
— Чего еще?
— Мадам Олимпиада, мамаша моя, в Козьмодемьянское меня командировала: бабке нашей могилку подправить. Тут и идти-то всего пару километров. Управимся — пообедаем с тобой. У меня яички, сваренные вкрутую, хлебушек с маслом и даже вон колбаска.
— Что, думаешь, я колбаски твоей не видел? Да я до войны… торт «Полено» вот такими кусками ел! А яйцами бросался! Да-да! Сырыми. Не веришь? Я в детском саду уже хулиганил. А дома, когда мать на работу уйдет, увижу в окно: какая-нибудь шляпа по двору идет, ну и р-раз! — в нее с четвертого этажа. Однажды с дворником пришли. А меня бабушка ничья, которая в коридоре без прописки проживала и тюрю ела, в сундуке своем спрятала.
Княжна Тараканова порывисто погладила Павлушу по голове, откинула ему со лба волосы мокрые, дождевые, нежно и пристально в глаза парнишке посмотрела.
— Бедовый ты… Герой, — прошептала. — Я ведь и про завод знаю. Кто его нынче на воздух поднять хотел. Скучно тебе здесь, Павлик, удалая головушка. А ты со мной подружись, поиграй. Мне тоже скучно. Мы с тобой одинаковые. И земляки вдобавок. Подумаешь, на год я тебя старше… Ну, на полтора. Разве это разница?
— Не в разнице дело. Ты девчонка. И все надо мной смеяться будут.
— Я не девчонка. Я женщина, Павлик. Я женщина, ты мужчина. Хочешь, я тебя целоваться научу?
— Да я… да я тебя сам чему хочешь научу! Училка…
Тараканова невесело улыбнулась. Взяла Павлушу за обе руки, долго стояла так, в сантиметре от него, глядя в серые, с весенней зеленцой, испуганные глаза парнишки, и вдруг потянула его на себя. Резко. Бесстрашно падая назад, на спину, — без оглядки, правда, в отчаянье зажмурив перед падением свои сумасшедшие глазищи. Упали они под вербный куст на мягкие, осыпавшиеся с ветвей, теперь мокрые сережки.
Павлик прижал Тараканову к земле так сильно, как будто боялся, что она вырвется и улетит в небо. И вдруг Княжна ни с того ни с сего хитренько щекотнула его вдоль спины по ребрам, будто гвоздем раскаленным провела, да так, что дыхание у Павлуши от веселого ужаса перехватило, и мигом он от земли, от груди Таракановой вверх подпрыгнул, а затем, словно щенок, змеей ужаленный, в траву покатился.
На ноги встали одновременно. Девушка юбку клетчатую, «шотландку», одернула, на поясе вокруг талии туда-сюда покрутила, не переставая улыбаться, жакетку черную бархатную от приставших к ней вербных шишечек отряхнула, сумку с провизией из-под куста извлекла.
— Идешь со мной?! — задорно и вместе с тем требовательно спросила-приказала. — Проводи меня, Павлик. Боюсь я лесом. Шляются здесь всякие… которые абажуры из кожи людской делали. Вон Груздева Оля, почтальонша… Где она? Как в воду канула. А ты, Павлик, мужчина, мне с тобой не страшно будет. Тем более что не на танцы… На кладбище иду. Боязно. Проводишь?
— Ладно. Идем. Кладбища испугалась. Землячка называется.
— Не кладбища, а привидений. Которые от покойников исходят… Павлуша, у тебя мама в Ленинграде… на каком похоронена?
— Не знаю! — вздрогнул, съежился вдруг парнишка. Насторожился, словно его обмануть или обидеть попытались. — Не знаю, поняла?!
Не дожидаясь, пока Тараканова с места сдвинется, остервенело от нее отвернулся, прыжками — с ноги на ногу — выбрался из кустов к дороге и так, держась несколько впереди Княжны, поскакал в сторону Козьмодемьянского.
— А ну постой! — крикнула вдогонку. — Остановись, говорю… Вкусненького дам!
Остановился как бы нехотя. Прутик зеленый пушистый-запашистый сломил. Начал от воображаемых комаров отмахиваться. Нагнавшая его Тараканова голубую пачку «Беломора» на ходу распечатала, выдавила из образовавшегося отверстия папироску. Предложила парнишке:
— Кури. Это тебе не махра, не самосад навозный. Питерские! Фабрика Урицкого! — И, как бы предупреждая Павлушкино любопытство, пояснила: — Мамашины кавалеры снабжают. Бери, угощайся.
— Ничего себе «вкусненькое», — разочарованно сорвалось у Павлуши.
— А тебе что же — сладкую конфетку подавай?
— Заткнись, конфетка! — Павлуша выхватил папиросу, степенно, как это делали некоторые взрослые курильщики, размял пальцами табак, а твердую бумагу мундштука дважды промял-сплющил с разных сторон. Павлушины спички на дожде окончательно размокли, так что прикуривать пришлось от зажигалки «заграманичной», которую Тараканова опять же из своей многообещающей кошелки извлекла.
На кладбище пришли часа в два пополудни. Грозовые облака умчались куда-то вбок, не по ветру, а несколько левее, обнажив ярко-синее глубокое небо. Изрядно припекало. Тараканова сняла с себя нарядную бархатную жакетку, расстегнула кофтенку белую, крепдешиновую, затем как-то незаметно, в момент, когда Павлуша вослед убегавшим облакам смотрел, осталась в голубом, воздушного цвета, лифчике и таких же штанишках, обшитых кружевами.
— Можно, я… позагораю? — спросила кротко, потупив взор.
— А могилку дядя будет обрабатывать? Говори, что делать? Да и неудобно тут… загорать.
— Одно другому не мешает, глупенький. Солнышку не все ли равно: на пляже человек загорает или на кладбище? Раздевайся. Вон, белый как молоко. Лопату возьмешь, песочку от берега наносишь.
Ограды сельское кладбище давно уже не имело. Располагалось оно в полукилометре от Козьмодемьянского — выше по реке, зажатое с трех сторон глухим кустарником, а с четвертой стороны повисшее над самой водой реки Меры, которая неустанно, год за годом подмывая в паводки берег, вгрызалась в кладбище, некогда удаленное от реки, точила, рушила бугорок погоста, будто решила во что бы то ни стало к определенному сроку смыть его с лица земли. Если глянуть на кладбище снизу вверх от реки, особенно по весне, сразу же после большой воды, то и доски гробовые, торчащие из толщи берега, обнаружить можно.
А вообще-то местность здешняя для приезжего глаза приятна. И сердцу полезна: успокаивает. Случись вам однажды здесь, на кладбище, на старую, с удобными, плавно выгнутыми ветвями-сиденьями сосну забраться и посидеть там, озирая мир без суеты желаний земных, — тут-то и постучится в сердце ваше восторг робкий, не нахальный, и вы, повинуясь его шепотку неназойливому, как бы прозреете ненадолго, не навсегда, увидев картины беспечальные, доселе неведомые, только за гостеприимную сосну крепче держитесь. Тогда прежде всего долину реки обнаружите. Вся неровная, клубящаяся зеленью и синью, налитая сизым воздухом и посеребренная увилистым пояском речной влаги. Разве питали вы свой мозг чем-то подобным, живя от этого дива в двух шагах, рукой подать, смотря на все это уставшими от очков, бессильными глазами горожанина и ничего, кроме поверхности земли, не ощущая? Питали, конечно, но чем? Блеском неживых репродукций? А здесь, над простором ожившим, над зеленью дышащей, что-то толкнуло вас как бы, восторг какой-то сердце обволок, и вы прозрели изнутри, духовно. Любовь ли тому виной или нечто проще, но произошло чудо: вы увидели красоту. В обыденном.
Княжна Тараканова, как на грядке морковной, деловито полола траву на могиле, неодетая, такая живая, яркая. От сырой земли на ее тело веяло зимней стужей застойной, глубоко проникшей внутрь под почву, и девушка, ощущая этот подземный холод, иногда поеживалась бессознательно, с удвоенной энергией выгибая спину навстречу солнечным лучам.
Из глубины жасминового куста извлекли спрятанную год назад ржавую лопату с полуистлевшим черенком. Здесь же, на территории кладбища, Павлуша обнаружил покореженное ведерко с проржавевшим насквозь дном. Закрыл дыры на его донышке щепками, стал носить в ведре песок береговой — устилать им середину могилки и все огороженное оградой пространство Таракановых. На кресте черной тушью из пузатой баночки подправили даты жизни усопшей в войну старушки: «1870–1943 гг.» А также буквы фамилии — «Куницына».
— Мы Таракановы по отцу. Замуж выйду — обязательно сменю фамилию.
— А вдруг у твоего мужа еще страшнее фамилия будет? К примеру, Червяков? Что тогда?
— За Червякова я не пойду. У тебя хорошая фамилия. Овсянников! Нравится. Махнем, не глядя?! А что? Может, одолжишь через пару годиков? Когда тебе восемнадцать исполнится?
— Это почему же?
— Потому что ты еще… права голоса не имеешь. Вот почему.
— Болтаешь, Танька, как ненормальная… Чего разделась-то? Заболеть хочешь?
— А тебе что же, выходит, жалко меня? А ты и пожалей. Погладь меня по головке. Я несчастная. У меня бабушка умерла. Слушай, Павлик! — Переменила тон и, резко забравшись ногами в юбку, заторопилась куда-то, засуетилась, подхватывая кошелку с продуктами и подталкивая Павлушу локтем на выход с кладбища, туда, к берегу реки, на зеленый, прогретый солнцем бугорок. — Давай-ка с тобой перекусим. А то и впрямь знобко что-то…
Все из той же неисчерпаемой кошелки доставала Тараканова розовое полотенце, стелила на еще не высокой, но упругой, жилистой траве. Положила на тряпку полкаравая хлеба настоящего, ржаного, нарезанного ломтями, маслом склеенными. Рядом с хлебом — колбасы краковской полкружочка, четыре яйца, крашенных луковой шелухой, пасхальные еще, расположила; соль в спичечной коробке присоединила; бутылку молока, газетной пробкой заткнутую, выставила. «Ну и ну! — Ударила снедь по голодным глазам мальчика. — Это тебе не винегрет батькин, не силос. И откуда у бухгалтерши харч такой мировой, красивый?»
— Садись, Павлик, опускайся на траву. Это еще не все, у меня ведь не только закуска, но и… под закуску имеется! Эх ты, котенок! — рассмеялась она безрадостно, хотя и беззлобно, неожиданно подмигнув Павлуше левым глазом, упершись позади себя руками, откинув голову и выпятив грудь в лифчике. — Ты бы на меня так смотрел, как на… колбасу смотришь. Чудной ты еще, Павлик. Что с тебя взять.
Тараканова выудила из кошелки большой плечистый флакончик с голубой завинчивающейся пробочкой — то ли из-под тройного одеколона, то ли еще из-под чего непродуктового, химического.
— Во! — взболтнула содержимое бутылочки. — Первач! Свекольный… Отначила у мамаши. Пей да дело разумей, понял?!
— Думаешь, я твоего первача не видел? Да я в войну коньяк французский из бочки пил. Не веришь? Хочешь, расскажу?
— А ты сперва глони… А потом рассказывай хоть «Тысячу и одну ночь»! А лучше «Декамерон». Ну, выпьешь со мной? Нашего, русского первачку?
— Выпью… если не отрава.
— Вот и молодчик. Отвинти пробочку. Ты сильный. А я ноготки могу поломать, испортить. Мне мои ноготки жалко. Маникюр-то еще с Кинешмы держится. Пей!
— Что? Прямо… так? Из пузыря?
— Еще чего. Вот! — протянула ему смешную рюмку, у которой не было ножки, и вообще стоять она не могла, так как имела круглое, будто у лампы электрической, выпуклое дно. — Вот! — тернула внутри емкости полотенцем. — Не бойся, чистая баночка. Ее, когда на спину ставят во время простуды, то непременно спиртом протирают. Иначе она держаться не будет. Особенно, если на животе…
— А ты лихая девчонка, Танька! Одно слово — питерская.
Тараканова рот распахнула от неожиданности и удовольствия. Крепкие, без единого пятнышка зубы, вспыхнувшие на лице белой молнией, сделали ее лицо откровенно счастливым. В глазах бирюза небесная с болотной зеленью перемешалась, так и переливаются! Опаленные солнцем волосы на лоб чистый, крутой навалились, ветерком их так и подбрасывает…
Схватил Павлуша баночку с синевато-мутноватой жидкостью, зажмурившись, затолкал в глотку огненную вонючую самогонку. Еле дух перевел. Глаза выпучил, будто в петлю попал, захлестнулся… Тараканова выпила еще более неумело. Закашлялась, заплевалась. На лице неподдельный ужас отразился. Слезы из глаз брызнули. Зубами вырвала она пробку из молочной бутылки, глотнула молока. Потом они молча минут пять жевали колбасу с хлебом, прогоняли изо рта вкус и запах поганенькой водочки.
— Ух и крепкая, зараза! — первым взбодрился Павлуша. — Чистый спирт. Неразведенный. Предупреждать надо в таких случаях. Иначе — сгореть можно… Были случаи.
— До сих пор не сгорели. Не боись… — едва отдышалась Тараканова. — Будь здоров напиточек! Это тебе не французский. Это тебе наш, жилинский коньячок! Ну, расскажи, расскажи про это самое… Что ты там пил такое на войне?
— Это в Латвии было. В одном бывшем имении лазарет немецкий располагался. Я тогда на хуторе у хозяина скотину пас. Две недели походил подпаском, кнутом щелкать научился и — до свидания. Ушел. Надоело на одном месте. Иду это я, значит, через имение, где немецкий лазарет… Машинами все проулки уставлены. Фургоны с красными крестами. Так-то у них черные кресты повсюду, а на медицинских машинах красные, как и у всех. Ну, что первым делом? Первым делом — жрать охота. На войне всегда первым делом — чего-нибудь съесть требуется, потому что мне пайка от взрослых людей не было положено никакого. Ни от наших, ни от немцев тем более. Беженец, малявка. Лишний всегда рот. Нюхаю первым делом, где тут кухня дымит? Вдруг да отломится чего? Черпак каши или супа. Или — черпаком по голове. У меня и котелок на поясе всегда почти с собой привешен был. И ложка немецкая с вилкой — складная — и кармане. И вдруг вижу, немец из огромадной бочки такой деревянной что-то шлангом отсасывает… Ну, думаю, бензин в деревянных бочках никто не возит. Керосин — тоже. Наверно, что-нибудь съедобное, вкусное в той бочке, соображаю. Сироп какой-нибудь. И тут вижу: немец канистру нацедил, шланг из бочки выдернул и на траву бросил. Дырку в бочке затычкой заткнул неплотно и на кухню со двора скрылся. Что, думаю, в шланге? Какая такая продукция? Разве пройдешь мимо, не проверив? Да и по опыту знаю: в таких шлангах длинных да тонких, извилистых непременно что-нибудь да остаться должно, граммов этак несколько, а то и все двести. Вставил я один конец шланга себе в котелок и незаметно так всю мотушку приподнимаю высоко, сколько могу, и на сучок сосновый всю эту спираль резиновую вешаю. Глядь! В котелке у меня жидкости коричневой на два пальца плещется! Незаметно, бочком прочь ухожу. А пить мне тогда ужас как хотелось. Лето, жара, от хутора я километров десять протопал, потея. Ну, значит, удалился я за сараи, за кучи навозные, и сел там в тенечке, за копной прошлогоднего сена. Осторожно котелок к носу подношу. Привычка выработалась на войне: прежде чем что-нибудь языком попробовать, обязательно сперва носом понюхать. Потому что однажды на ядовитую жидкость от насекомых, клопов и вшей, нарвался. И вот чую теперь: пахнет странно как-то… Не то чтобы плохо, даже приятно, вкусно пахнет, но незнакомо. Главное, чтобы не химией, съедобно чтобы. Употребительно. В детстве так виноградом пахло — осенью, дома. Когда он на тарелке ночь простоит и маленькие мушки вокруг него виться начинают… Догадался я, конечно, хоть и не сразу, что в котелке моем — вино! Ну, думаю, не выливать же добро. Может, и от него сытость какая никакая, а придет в желудок. И выпиваю жадно. Благо — мокрое, льется без задержки. И во pry первые мгновения — сносно. А потом сразу же испугался. Как вот ты теперь от первача. Закричал. Грудь сперло, слезы вот так же, как у тебя сейчас. А мимо какой-то дядя на телеге в это самое время лошадку погоняет. И — тпруу! — останавливается. «Заполел, мальтчик?» — спрашивает. По всему видно, мужик этот с хутора. Хозяин. «А-а, говорю, выпил вот… Немцы угостили. А что пил — не знаю. И давай, говорю, катись колбаской по улице по Спасской!» Говорю ему так, потому что выпитое начинает на меня действовать, пьянею, значит. «А ты тай и мне немножко, говорит, попробую, скажу тепе, что ты пил…»
Протянул я ему котелок, на дне пара глотков еще плескалась. Нюхнул и он, видать тоже ученый был по этой части, не пил с маху. А затем медленно так высосал, все до капельки из котелка. «О! — причмокнул даже. — Коньяк, лудзу! Париж! Наполеон! Сходи туда еще. Попроси… Я тепя стесь потошту. Сала кусок дам. Шпек! Во! — И показывает мне завернутое в тряпицу розовое сало. Как попку детскую. — Ити проси… Ты мальтчик, тепе татут. Скажи: бапушка помирает, пить просит».
После коньяка ужасно мне есть захотелось, ну просто так и щелкают зубы один об другой. Посмотрел я на мужика, примерился к его фигуре, нет, думаю, не осилить мне его, не отнять сало. Жилистый дядька. И от голоду его не шатает, по всему видно.
Ладно, есть захочешь — не на такое пойдешь. Котелок на ремне за спину задвинул, прихожу на больничный двор. А там народу, что людей! Галдеж, суета, машины фырчат, немцы командуют, собаки лают. Что, думаю, такое? Неужто пропажу в шланге обнаружили? Немцы — они дотошные, мелочные. Каждому гвоздю место знают. И тут вижу: с машин одни носилки за другими — и в дом — так и мелькают, так и мелькают! Оказывается, партия раненых прибыла. И многие стонут. До коньяка ли им, думаю, сейчас? И сам к бочке все ближе подхожу, а чтобы внимание от себя отвлечь — наклоняюсь и щепки по двору собираю, как бы уборку произвожу. Немцы это любят, когда чистоту наводишь. Подобрался я таким макаром к бочке, затычку расшатал, шланг с сучка одним концом в отверстие пропустил и за бочку, сзади ее, спрятался. Сижу, отсасываю, однако минут пять пыхтел — никак не идет коньяк. Сноровка нужна, а откуда ей взяться? Да и духу не хватает. Последний раз поднатужился, и вдруг он ка-ак польется! И на штаны, и за рубаху… Я скорей котелок наполнил и, оглядевшись, прочь за сарай нырнул. Расплескал половину… К тому же — шланг из бочки забыл выдернуть: такое добро в землю уйдет… Во всяком случае, дядьку этого на лошади я тогда умаслил. Дал он мне сала. И хлеба кусок мягкого, вкусного, как вот твой, выделил. А сам выпил все, что я ему принес, и говорит: «Вон, видишь, немец… Подойди, скажи ему: „Ду — шайзе!“ И я тебе еще чего-нибудь дам. А хочешь — с собой на хутор возьму жить? Поживешь, молочка попьешь. У меня и дочка есть — такая, как ты».
Смотрю я, немец за сараем… Ну, это самое — штаны снял, оправляется. Я к нему поближе. Обернулся он ко мне лицом, даже застеснялся от неожиданности. А я ему: «Ду — шайзе!» — возьми да и брякни. Тут он на меня… чтобы, значит, изволохать. Да вспомнил, что штаны сняты. А я и не убегал. Застегнул он ремешок и ко мне — хвать за ухо! Да как дернет! Чуть не оторвал, зас…! И по носу мне. Вон нос-то и теперь немного кривой… А мужик лошадку кнутом огрел и лататы!
— Бедненький, — умилилась Тараканова. — Иди ко мне. Ты забудь, забудь… Ну их всех! С войною вместе. Иди, пожалею, родненький…
Над ними птицы взмахивали крыльями и застывали как приколотые к небу; мухи жужжали, опускаясь им на лица; трава удлинялась; желтые цветы одуванчиков упруго пригибались к земле, когда на них садились суетливые пчелы.
…Домой в Жилино возвращались хоть и вместе, но как бы не видя друг друга. Павлуша заторопился, брови до отказа над переносицей свел. На Таню не оглядывался. Словно боялся вместо нее сказочную бабу Ягу увидеть.
В воздухе незаметно посвежело, в лесу темней вдвое сделалось. Таня макинтош на плечи набросила, по ногам тяжелая материя ударяет, передвигаться препятствует.
— Ну и беги. Подумаешь, выискался… Цаца! — шептала она себе под нос, раскрасневшаяся, разморенная погоней. — Мне вон худо совсем… Тошно. Ради него и отраву-то эту приняла. Угодить думала. Ох, лишенько!
Павлуша улепетывал от Тани потому, что и его мутило, подташнивало. Он боялся оконфузиться, показаться беспомощным хлюпиком. Наконец, не выдержав, свернул с дороги в ольховые кустики.
Из зарослей вышел бледный, обмякший и как бы подобревший. Дождался Таню, взял у нее из рук увесистую кошелку, беспомощно улыбнулся. И вдруг, поднеся ко рту резного петушка, заливисто кукарекнул!
Отец стоял на крыльце школы, скрестив руки на груди, и внимательно смотрел на закат. Выражение лица его таило укоризну, словно видел он перед собой не солнце красное, которое в данный момент за непроглядный, темный лес закатывалось, а настырную, настороженную физиономию сына-волчонка.
А Павлуша в этот момент находился в двадцати шагах от родителя, меж двух закутанных в сумерки берез, и никак не решался выйти из своего укрытия. Он беспрерывно жевал молодые березовые листочки в надежде заглушить во рту запах спиртного. Он знал, что обижает отца своим отсутствием, но боялся, что возвращением своим обидит его еще больше.
Глава девятая. Супонькин
Супонькин любил, когда его… не любили. То есть когда боялись. А боялись Супонькина редко. Чаще сторонились, избегали: знали, что чокнутый, но не жалели, потому что не юродивый, не убогий, а злой и почему-то опасный. Такой о Супонькине слух в воздухе висел, испарение такое прозрачное, неуловимое, а значит — и малообъяснимое.
Родился он в Жилине в самом конце прошлого века и вплоть до начала революционных событий семнадцатого из чащобы лесной не вылезал. Потом его подхватило. Исчез надолго. Лет на двадцать. Забыли его все, кроме матери Павлины, старухи древней, теперь — девяностолетней. Супонькин и на военной службе успел послужить, и участником войны являлся. Непосредственно в боях Супонькин не бывал, в штыковую атаку не ходил, а все больше кого-то сопровождал, пломбы на вагонах охранял, от посторонних лиц объекты караулил. А после войны, на гражданке, служил в милиции, да таких дров по злобе наломал, что выгнали его оттуда, но за недостатком мужиков направили уполномоченным по заготовке леса для города в леспромхоз, в районе Жилина расположенный. Ничего, что контуженый, решили, мужик настырный, своего добьется. Да и контузия-то у него не фронтовая, а базарная, кулачная: перестарался, так сказать, в рвении служебном.
Иногда Супонькин наезжал к матери, гостил у Павлины в избе, оклеенной вместо обоев плакатами, которые привозил с собой из города вместо гостинцев. Общался в эти лесозаготовительные денечки исключительно с председателем Автономом Голубевым, дружить с ним близко не дружил, а так, молча, друг против друга — они сиживали. Бывало, и выпивали.
В Павлининой избе со стен на председателя взирали всевозможные призывы беречь лес от пожаров, не загрязнять водоемы, уничтожать вредителей урожая, хранить деньги в сберкассе, подписываться, перевыполнять… Гость непременно после первой чарки, потирая руки, говорил хозяину:
— Хорошо у тебя, Супонькин! Как в музее. А главное — уверенность в мозгах появляется сразу. Уверенный ты человек, Супонькин, сучок тебе в спину. Чтобы, значит, плакаты на него вешать…
Чаще всего Супонькин лежал где-нибудь на телеге, в сено увернутый, или в разбитом кузове попутной полуторки сквозь дыры в полу смотрел на серо-желтый суглинок дороги, уводившей его в глубь леса.
И еще имелась на ремне у Супонькина старая кирзовая кобура от револьвера, выполнявшая функции подсумка, если не торбы дорожной, так как держал он в кобуре и курево, и что-нибудь перекусить, и принадлежности письменные в виде карандаша химического с чернильным грифелем.
Тогда, в птичьем гаме майских денечков, под раскаты загадочного, нереального в здешних местах взрыва Супонькин развил бурную деятельность, ходил с блокнотом по домам, снимал показания: слышал ли взрыв данный человек, где в момент оного находился и так далее. Заглянул он и к учителю. На кухне прошел прямо к столу, не снимая фуражки, застегнул снизу доверху китель свой рыжий, даже на крючки воротник захлопнул, сел на табурет, низко склонился над блокнотом и вдруг:
— Фамилия, имя, отчество… Год рождения.
Учитель к этому времени как раз плиту истопил, с горшками возился, обед готовил, самовар старым Лукерьиным катанком, то есть валенком, раздувал. И вдруг такие вопросы! Казенные, неприятные…
— Вы что, Супонькин… в своем уме?
— Привлекались?
Алексей Алексеевич невесело улыбнулся, снял с лица темные очки и, так как уполномоченный сидел к нему спиной, прошел к столу и сел за стол с другой стороны — напротив Супонькина, чтобы лицом к лицу.
— Привлекался…
— По какой?
— Сперва по гражданской… Затем по Великой Отечественной!
— В плену был?
— Был. А что?
— А то! Взрыв позавчера слышали?
— Слышал.
— А где в энтот момент находились?
— В энтот момент находился я… в сортире!
— Кто подтвердить может?
— Послушайте, Супонькин… Вы серьезно? Может, сразу отпечатки пальцев снимете? Бросьте прикидываться, Супонькин… Хотите чаю? Самовар вскипел.
— Вы мне зубы не заговаривайте. Ежели все, кому не лень, взрывы начнут производить. На колхозной земле… Которая есть собственность граждан… Что тогда? Вы мне ответьте, гражданин педагог, ежели вы грамотный такой… Можно в мирное время военные взрывы производить? Или не можно?
— А вы кого-нибудь подозреваете? Меня, что ли?
— Подозревать мне никто не запретит. Это мое личное дело. Я факты собираю, которые вещественные…
— У вас что — ордер на обыск имеется? Кто вы такой, Супонькин? Предъявите документы. А лучше — опомнитесь побыстрей, иначе я на вас жалобу в райотдел настрочу. Не донос, а жалобу, просьбу.
— Строчить-то вы все умеете. Грамотные шибко! А ты бы вот лучше из пулемета хорошенько строчил! Чтобы как положено — по врагу. А не в плен сдавался…
— Да как ты смеешь, мерзавец?! — Учитель начал вырываться из-за стола, но, плотно завязнув там, не сразу выдернул ноги из-под лавки, засуетился в гневе, раскраснелся; кожа на виске возле покалеченного глаза бешено затряслась откуда-то изнутри, словно электрический ток по ней пропустили. — Да меня проверяли, идиот… Не такие деятели, понял, ты, артист?! Да я тебе в морду сейчас плюну, тварь ты поганая!
— Вот и плюнь. Протокол составлю. Срок получишь. За оскорбление действием… представителя…
— Да какой ты представитель?! Ты придурок самый натуральный. Тебя в больницу нужно законопатить! До скончания дней… Вон пошел отсюда! — Учитель схватил Супонькина за плечо и резко повернул от стола.
И Супонькин вдруг съежился, заозирался. Заскреб ногтями по столу, стараясь ухватить блокнот, свалил карандаш под стол, хотел было нагнуться за ним да передумал, попятился, прошептав нерешительно:
— Оружие применю… Ежели што…
— Я тебе применю, гнида! Ты ведь и стрелять-то из него не умеешь небось. Да ты ж меня по самому больному полоснул! Ты знаешь, что я раненный дважды? Что я награды имею?! Придурок ты этакий… Нет, вот ей-богу плюну… И собирай тогда свои вещественные. Неси на анализ.
Супонькин вдруг снял фураньку с головы и мелкомелко закивал, то ли прощаясь так униженно, то ли паясничая.
— Вот и поквитались. А то все: «Супонькин не воевал! Супонькин сторожил! У Супонькина бронь! У Супонькина грыжа!» Каково по больному-то? А-а-а… Вот так-то, защитнички… И вас проняло! Подуй, подуй на ушибленное. Может, и полегчает. Кушайте на здоровье!
Алексей Алексеевич, не дослушав излияний уполномоченного, начал нервно подталкивать его к двери. А тот кобуру приоткрыл под кителем, но так и не применив свое несуществующее, мифическое огнестрельное, вывалился на крыльцо, уже без всякого стеснения матерясь и размахивая руками.
Заколосилась, а затем и созревать начала выбеленная дождями и солнцем августовская рожь на небогатых напоминающих острова лесных полях вокруг Жилина.
Обеспечивая к предстоящей зиме город дровами, Супонькин летом в Жилине вовсе не появлялся, так как заныривал в длительные скитальческие рейды по лесным хозяйствам Заволжья.
Наконец, очутившись в ближайшем от Жилина леспромхозе, решил у матери побывать. Узнав про колхозное собрание, которое перед уборочной созывали, Супонькин с удовольствием согласился — по приглашению председателя — принять в общем сходе участие. Ему хотелось напомнить людям о себе, сказать речь, пошуметь, покритиковать. Соскучился по родной деревеньке. К тому же на собрание новый партийный секретарь ожидался, Торцев Авдей Кузьмич, человек без правой руки, недавно вернувшийся в соседнюю Гусиху из госпиталя с незаживающей раной-свищом в боку, хрипевший во время курения, как прохудившийся насос, и откомандированный из своей, более крепкой, Гусихи в Жилино — для «государственной пользы делу». Необходимо было и на новое начальство поглядеть, и себя проявить, как говорится, с лучшей стороны.
Позавтракал Супонькин тремя картофелинами, сваренными с шелухой. Здоровых зубов у Супонькина во рту оставалось немного, штук пять. Остальные разрушились до основания или имели непоправимые изъяны. Крупная серая соль, в которую Супонькин макал картошку, неприятно застревала в дуплах, будила застарелую боль. Дряхлая Павлина хозяйства крестьянского уже не вела. Не справлялась. Не было у нее ни коровы, ни козы, ни овечек. Была, правда, курица — большая, черная, и петушок, хотя и взрослый, даже старенький, но вдвое меньшего размера, нежели курица. Птиц этих, не домашних, а скорее бродячих, Павлина не кормила вовсе, разве что зимой, в самые лютые морозы что-нибудь сыпанет им. Несла курица по одному яйцу в день. Яйцо это Супонькин съедал в обед после долгих раздумий. И всегда, прежде чем выпить сырым, отчаянно махал рукой, рубил воздух ладонью, словно говоря кому-то: «А-а, была не была!»
Мать Супонькина, Павлина Ивановна, и в молодости выглядела некрасивой, угрюмой, широколицей. Нос такой, как и у Супонькина: мизерный и словно клещами прищемленный, копеечную площадочку на кончике имел. Когда ее сынок, вдовец пятидесятилетний, надолго из Жилина отлучался, за старухой присматривала дальняя родственница Павлины — Голубева Автонома теща Авдотья Титовна. Старуха добрая, веселая, понимающая веру в богу по-своему, то есть — не молитвы шептала и не рукой размахивала, осеняясь знамением крестным, но предпочитала действовать конкретно: кому боль массажем уймет, у кого ребенка малого на время беды-печали отберет и у себя поселит, а кому и просто кашу сварит да с ложки покормит, ежели беспомощный. В доме своем Авдотья Титовна почти не сидела. И все у нее без слов получалось, без причета, само собой как бы…
Прополоскал Супонькин несладким холодным чаем рот, чтобы соль его не разъедала, затянул ремень широкий брезентовый потуже, чтобы кобура наганная в определенное, привычное место на ягодице встала, и вышел задами через проулок на огороды. А затем и в поле, махорки, сидя на камушке, покурить. Нынешний день числился по календарю выходным, воскресным. Правда, собрание правленцы назначили раннее: на десять утра. Покурил Супонькин на камушке, покрутился тощей задницей туда-сюда и, ощутив неудобство и жесткость гранитную, решил размяться, пройтись до вышки топографической, что посреди главного поля с озимой рожью торчит. Благо до начала собрания еще целый час.
«А вот я на вышку залезу! — решил про себя. — За лесом понаблюдаю. Чтой-то дымком тянет душистым… Не иначе торфа за Латышами взялись опять».
На вышку Супонькин сперва лез охотно. Что-то давнее, ребяческое, на миг в голову вступило. Но с подъемом постепенно выветрилось. Все чаще под руками и ногами Супонькина вздрагивали рассохшиеся перекладины ступенек, все чаще вообще вместо опоры открывалось свободное пространство, ибо, как зубы во рту уполномоченного, ничто в мире не вечно, и многие ступени башенной лестницы выпали, а чтобы через выпавшее перемахнуть — не тот харч нужен, не те три картофелины с солью, а нечто более существенное.
На первой же площадке Супонькин решил остановиться и дальше вверх не лезть. Зыркнул по сторонам глазками сонными, неумытыми: деревня сверху как на ладони, вся в сивой ржаной гриве так и утонула. Ежели б не деревья, не тополя да липы, за которые, как за поплавки, держались домишки, захлестнуло бы кудрявой хлебной волной селение с головкой.
Супонькин вдаль хорошо видел, лучше, чем у себя под носом. И вот там, на краю ржаного поля, возле самого леса, уловил он в колосьях какое-то шевеление, соринку какую-то постороннюю обнаружил в ровном колыхании житном.
«Ба! Дак ить — воруют…» — вспыхнула догадка в мозгу уполномоченного, мигом избавившегося от сонливости, как бы прозревшего от слепоты куриной.
Супонькин не стал проверять догадку, даже не посмотрел больше в ту сторону. Он, как вдохновенный пожарник, как жертвующий собой спаситель, ринулся вниз на одних руках, обдирая ладони, цепляя занозы. Ногами он только обнял одну из лестничных стоек и, словно по канату, разом скользнул туда, в пенное море, островком ржавеющее среди океана леса.
Чтобы не спугнуть нарушителя, Супонькин пробежал до леса по дороге в три погибели согнувшись, не высовывая головы из посева. Достигнув леса, он так же бегом забрался чуть глубже, лесистее, затем сторожко вышел на потравщика прямо из-за его спины и — раз! — сцапал объект за воротник рубашки, материя которой тут же негромко затрещала, расползаясь под его беспощадными пальцами.
— Замри, пакостник! И не вертухайся… Оружие применю, ежели побежишь.
И тут на руку Супонькина что-то капнуло. Теплое что-то, даже горячее. Оглядел Супонькин задержанного повнимательнее и, к своему удовольствию, обнаружил, что преступник хлипкого телосложения, мал ростом и вообще — мать честная! — ребенок… Сережка Груздев, дристун капустный! «М-да-а… Вредителишко вшивенький споймался, прямо скажем».
Пригляделся Супонькин к Сережке, а у того в кулаке пушистый такой букетик зажат, и колоски усатые с неспелым еще, молочным зерном так и торчат дыбом, словно волосенки на голове мальца.
«Ишь нюни раздул… Слезой разжалобить хочет. Отпусти такого, он тебе в другой раз косой тех колосков нарежет. Проучу!»
Уполномоченный перехватил худенькую косточку руки пацана, покрытую не то загаром, не то грязью несмываемой, всю в цыпках да царапушках, ту самую, которая букет держала, и, потянув ее за собой, направился в сторону деревни, обочь поля.
«Проучу, постращаю, чтоб неповадно…»
— Ты что же это, Груздев, государство разоряешь?! В прошлом годе неурожай, бедствие… А ты? Воруешь?
— Я сестренке… Замест цветов. Вот и василечки туда вставил. Болеет Манька, к стенке отвернулась…
— Болеет?! К врачу везите! Ты бы, ежели такой заботливый, в лес сбегал, ягод сестренке насбирал. Малина вон с кустов текет… Так нет же — его, пачкуна, в запретную зону влезть подмывает. А ты знаешь, что за это полагается? Тюремное наказание! Слыхал про такое?
— Слыха-а-ал… Отпустите меня, дяденька Супонькин. Я вам той малины целое ведро насобираю.
— Ты что же мне — взятку сулишь, так, что ли, тебя понимать?
— Я малины вам… А хотите — на вышку залезу?! На самый верх?! Не побоюсь, вот честное пионерское!
— Ты бы, «честное пионерское», воровством не занимался… А то — «мали-и-на»… Родину, которую твой батька смертью своей защитил, грабишь, стригешь ее, как мышь, обгладываешь! Ты бы вот, ежели искупить вину хочешь… ты бы взял и рассказал мне честно про кирпичный завод. Кто мину подорвал, чья работа? Наверняка ведь знаешь, с приезжим этим шпаненком питерским стакнулся, дружишь. Небось слыхал, что да как?
— Слыха-ал…
— Ну што, говори!
— Слыхал, как это… трахнет! И дым над лесом. У нас в избе даже кирпич в трубе обвалился. Дымит теперь печка. И кошка наша, Мурка, в тот самый раз от страху окотилась. Один рыженький, остальные серенькие…
— Ты мне в ухи-то не заливай! «Один рыженький»! Сказывай по существу. Кто диверсию учинил?
— Не знаю.
— Тогда пошли в правление. Колоски-то крепче держи, не роняй. Вещественное доказательство они. Шагом марш!
Сережка широко открыл глаза, рот его не закрывался с момента, когда Супонькин мальчонку за ворот рубахи взял. Босые, в ушибах, смелые ножки ребенка невесело побежали рядом с неумолимыми, в сизой пыли, парусинками уполномоченного.
Не пройдя и сотни шагов по волнистой полевой дорожке, Супонькин вторично попытался склонить Грузденыша к признанию, накренить его в свою пользу, но мальчик упрямо держался отрицающей версии. Слезы на затвердевших глазах давно высохли. Вся фигурка его напружинилась, словно к прыжку изготовилась. Он понял, что пощады ему от дяденьки Супонькина не будет, и, как мог, приноровился к обороне. О том, чтобы повиниться и тем самым выдать, предать Павлушу, Сережка втайне подумывал, но решил в конце концов, что Павлик лучше Супонькина, а стало быть — шиш «намоченному»! Их с Павлушкой двое, а Супонькин один. К тому же у Павлика вторая мина имеется. Возьмет да и применит.
— Скажи, хто взорвал, — отпущу на волю. У тебя вот сестра без вести пропала. Может, и ее хтойсь… взорвал. Сестру тебе жалко?
— Не-немного, — вспомнил Серёнька про Олю, которая теперь в далеком городе Гурьеве. — Мне Маньку, младшенькую, жалко. Болеет. К стенке отвернулась…
— Вот видишь, какой ты вредина! Старшую сестру не жалко…
Супонькин мрачно, с презрением смотрел сверху вниз на Серёньку, как на что-то бесполезное, лишенное смысла. Левая, не занятая ничем рука его потянулась к красному, примороженному зимой уху мальчонки. «Так бы вот и завинтил штопором. Да слишком поганое оно, ухо это припухлое… Ишь, шелушится, дрянь…»
— А-а, да што с тобой балаболить! Ступай, покажу тебя людям на собрании. Чтобы знали, какой ты есть пионер липовый, колоски воруешь.
Тропинка, по которой Супонькин конвоировал Груздева, проходила через обкошенный квадрат клеверища, где стояла вышка, как бы под брюхом сооружения, меж ее толстенных деревянных ног, проскальзывала. Неожиданно из-под одной такой ноги прямо на Супонькина вышел Павлуша. И заступил уполномоченному дорогу.
— Отпустите Сережу…
— Ты хто такой?! — Супонькин потянулся к Павлушкиному воротнику, не выпуская из другой руки рубашонку Грузденыша.
Павел сноровисто увернулся, отступив на шаг в шершавую рожь и одновременно выбросив из-за спины руку вперед: на раскрытой Павлушкиной ладони стоял деревянный расписной петушок.
— Берите…
— Што это? — опасливо отшатнулся заготовитель дров.
— Петушок. Художественное изделие.
— Мне?! — словно от близкого огня, заслонился Супонькин ладонью от протянутого гостинца. — Што ты, што ты… Зачем она мне, изделия эта? Не маленький.
— Не возьмете? У нее ведь и голос имеется.
Павлуша фукнул в петушка.
— Нет! Без надобности. — Супонькин постоял, остолбенело глядя на Павлушу, потом повернулся и пошел прочь. Сережку он от себя так и не отпустил. И вдруг побежал, тяжело дыша, в сторону деревни, оглядываясь и чуть ли не волоком таща за собой мальчишку.
В избе правления колхоза на собрании присутствовало человек двадцать народу. Собрание было общим, то есть обыкновенной сходкой. Пришли те, кто смог, и еще те, кто был обязан прийти, активисты. Если учесть, что в Жилине и вообще-то не более полусотни человек проживало, то посещаемость можно было назвать хорошей.
Помещение, в котором собрались жилинские колхозники, представляло собой квадратный зал, всю полезную площадь бревенчатого дома, исключая крыльцо и тамбур. Налево от дверей, возле самого входа, — давно не беленная, с пятнами от «прислонений» высокая печь-голландка с добавлением в виде плиты на две конфорки и отдельной топкой. На плите огромный, ведерной емкости, зеленый эмалированный чайник, зализанный черными языками копоти. И алюминиевая кружка на цепи, прикрепленная к дужке чайника. У противоположной входу стены обыкновенный стол, обеденный, сейчас покрытый красным полотном. В обычные дни — это рабочее место председателя Автонома Голубева. Пять длинных и достаточно широких скамеек, скрипучих и до костяного блеска отполированных штанами, простирались вширь до упора — поперек зала, как пять труднопреодолимых барьеров, не оставлявших между собой и стенками ни сантиметра просвета.
Зная сию особенность меблировки правления, Супонькин, держа мальчишку так же цепко, как и в поле, с ходу начал брать скамеечные препятствия, протискиваясь бесцеремонно в щели между спинами сидящих, благо собрание еще официально не началось и по-пчелиному глухо гудело, окуренное самосадом — табачком зловонным.
Сережка, которого тащил за собой целеустремленный Супонькин, пробежал по всем пяти скамейкам, не касаясь пола, как над пропастью, по пяти жердочкам.
— Вот, граждане колхозники, товарищи дорогие… Изловил. Они меня петушками разными купляют… Вон и матка его тута… Доколе этих стригунов, которые государственный урожай на корню жизни лишают, доколе мы их терпеть будем, товарищи коммунисты и большевики?!
— Погоди, Супонькин… Ты почему без регламенту и, вообще, нарушаешь почему? — заговорил Автоном. — На кой мне такая самодеятельность, колосок тебе в горло! Чтобы, значит, не кашлял! Давайте-ка, товарищи, все как след, по порядку, без самодеятельности.
— Нет! — заволновался Супонькин. — А по-нашему не так! Налицо — из энтого преступление вырасти может. Колоски того… режут! А вам, Голубев, али неизвестно, чем энто пахнет? Свобода надоела?! Мальчишку проучить надоть.
— Не ори, сядь, — посуровел еще больше председатель. — Сядь, говорю, ежели присутствуешь. Здесь собрание колхозное. А ты хто, Супонькин? Ты разве член артели? Где ты пашешь? Ни городской, ни жилинской… Деятель, одним словом. С футляром. Не гневи людей. А то составят на тебя жалобу. На кобуру твою дурацкую…
Собравшиеся, поначалу как бы ошарашенные появлением Супонькина, волоком притянувшего за собой мальчонку, понемногу начали приходить в себя. Бабы, среди которых находилась и Алевтина Груздева, Сережкина мать, вдовица лет за сорок, еще красивая правда, глаза огромные, чайного цвета, глубоко запали, ввалились в глазницы, и коса пушистых, коричневых, словно переспевших волос, разлохмаченная, — сединой поражена; бабы эти, мужественные хранительницы жизненного огня в семейных очагах, верховодившие колхозным укладом во время войны, чувствовали себя внутренне — в сравнении с Супонькиным — раскованнее, если не полномочнее вершить суд над кем-либо из их круга, тем более над мальчонкой, возникшим как душа человеческая под их непосредственным наблюдением. Да и смешно многим из них сделалось, так как знали они Супонькина и к его выходкам необузданным привыкли. Вот они, не сговариваясь, придвинулись к председательскому столу, перемахнув с кряхтением через пять скамеек, плотным кольцом окружили Супонькина, державшего посиневшую ручонку Серёньки, из которой по одному время от времени выпадали на пол злополучные колоски. Что-то неразборчивое срывалось с потемневших в бабьем одиночестве губ, какие-то слова корявые, бугристые, ударяющие Супонькина в толстостенный бронированный китель, будто булыжники, отскакивающие от плотного панциря, не причиняя содержимому кителя ни малейшего вреда.
Незаметно женщины и к дальнейшим действиям перешли, и первым делом ручонку Сережкину из лап уполномоченного — настойчиво так — высвободили. И колоски мигом подхватили, попрятали, с полу все до единого подобрали и куда-то затиснули, в щели какие-то незримые, словно в трещины коры земной, пропихнули, чтобы с глаз долой. Затем и самого Сережку обволокли, опутали руками, словно поглотили без остатка, отлучив мальца от притихшего вдруг Супонькина.
Однако Супонькин, как это выяснилось чуть позже, без боя своих позиций сдавать не собирался.
— Хулиганничаете… — выдохнул он шепотом. — За такое статья полагается. Ежели по закону! К примеру, взрывы энти… Дознался я, какие петушки энтим занимаются.
— Тихо ты, — обернулась к нему самая внушительная на вид, грузная, может просто опухшая от воды, громадная женщина. — Ребенка испужал, ирод… — проговорила она спокойно, без надрыва и суеты, а может, просто сил не было горлопанить. — Оставь дитю в покое. Ручку вон всю как есть изломал. Синяя теперь. А то мы тебя с твоим пиштолетом в яму компостную затолкаем, право слово.
— А ну, бабы, садись по местам… Кому говорю! — подал начальственный голос Автоном Голубев. — Брысь чтобы у меня! И никакой самодеятельности. Мальчонку домой отведите. Потом разберемся. Уборочная на носу. Не дозволяю ни колоски рвать, ни от дела отвлекаться. Все! Ша, мамаша! Чтоб у тебя…
— Граждане колхозники, товарищи дорогие, — начал вдруг веселым, отвлекающим тенорком незаметно как пробравшийся к столу партийный секретарь колхоза Авдей Кузьмич Торцев. — Товарищ Супонькин, будьте любезны так, сядьте и живенько включайтесь в собрание. — Торцев свистяще-громко дышал, широко размахивал своей единственной левой, держа свободный правый рукав гимнастерки под широким кожаным комсоставским ремнем, усеянным двумя рядами дырочек и с медной пятиконечной звездой на пряжке. — Собрание общее, открытое. Так что и присоединяйтесь. Тем более что вы есть бывший житель данной деревни, коренной… И весьма, я бы сказал, официальное лицо в данный момент, представитель, уполномоченный…
— Я шкоду в поле обнаружил. Потраву! А вы мне зубы заговариваете. Задвигаете меня в угол! Да покуда вы тут слова разные произносите, бабы все мои доказательства, которые вещественные, уничтожили! Не позволю! Преступная халатность — вот тут што налицо, а не собрание колхозное! И взрывы опять же… Не сегодня-завтра на воздух подымут, пока вы тут заседаете.
— Дозвольте мне! — обратился, поднял руку сидевший возле теплой плиты даже летом зябнувший Яков Иваныч Бутылкин, вступивший в колхоз только во время войны. — Я хоть и без стажу у вас пайщик. В колхозе всего пятый год состою. Зато у меня христьянского стажу хоть отбавляй: скоро сто лет. В ту субботу справлю.
— Ай да Яков Иваныч! Почитай, уже двадцать лет от тебя слышим: скоро сто! А ты все такой же. Да тебе уже все двести небось, дедушка? — поинтересовалась громадная женщина, так ловко оттеснившая уполномоченного от Серёньки.
— Дозвольте! — направился дед прямо к столу начальства. — Я здесь старшей всех. И вам полезно будет мое мнение узнать. С мальчишкой надоть разобраться, и не после, а в первые минуты собрания. Прав в энтом Супонькин. Но разобраться для чего? — Бутылкин указал в сторону зажурчавших было опять женщин. — Для того, чтобы объяснить мальцу мнение наше о воровстве! И отпустить его с богом. Мы его здеся и так до смерти напужали. Что у него там сейчас, в головешке той? Небось — горе-ужасти, беда, одним словом. Хватит, говорю, над дитем измываться! Вот мое слово как старшего здеся… Да и не крал! Свое попробовал. На один зубок только…
— Не ты здесь старшой! — вскинулся на Бутылкина Супонькин, челюсть нижнюю выпятив так, что носик его с площадочкой так весь и загорелся, будто лампочка от фонарика карманного. — Не ты здесь старшой, а вот… секретарь. Пусть он и решает, — махнул Супонькин рукой в сторону Торцева.
— Дак ведь чего решать? Я ведь как народ… А народ у нас вот — бабы, извиняюсь, женский пол, — заулыбался Авдей Кузьмич. — Мальчонка теперь надолго запомнит. Запомнишь, Сережа?
И тут бабы разом расступились, и, словно из-под их подолов, возник смущенный, напуганный Грузденыш.
— Ну, что скажешь? — спросил его председатель Голубев Автоном.
— Не стану… боле.
— Вот и молодец… А теперь поведай это дяденьке Супонькину. Чтобы он на тебя бумагу в район не сочинил. Скажешь?
— Не стану боле.
Супонькин долго смотрел в пол, как бы решаясь на что-то. Затем подкинул на голове своей фураньку, которую, как говорят злые языки, не снимал даже в бане, так в ней и парился, и вдруг, совершенно неожиданно выхватив из толпы поименно двух баб, начал их тут же при народе срамить за несознательность.
— Вот ты, Евфросинья, почему ты подписалась, а не вносишь? Где твои сто рублев?
— Нетути…
— Достань! Займи, продай, а что положено — отдай!
— Ишь как складно заговорил…. Хоть на гармоньи ему подыгрывай, — пропела какая-то бесстрашная бабушка. — Тебе-то что до этого?
— А сознательность где? Как ты людям могешь в глаза смотреть? Они-то ведь сыскали, внесли…
— Да на ты меня, зараза, бери всею! Вешай меня на вешало! Где я возьму, окаянный, таки денежки теперь?! — налетела вдруг в полном отчаянье Евфросинья на уполномоченного, да так, что тот попятился к дверям, плюнув в сердцах кому-то на подол и тут же получив толчок и пару горячих слов вдогонку. С перекошенным лицом оглянулся в дверях.
— Ну, председатель… Смотри, мать твою за ногу! Хорошие у тебя собрания! По всем законам! Смотри, как бы за это кому-сь куда следоват не усвистать за таки порядки!
— Вот и поговорили, — развел было руками Авдей Кузьмич, забыв, что у него их всего одна в наличии. Только где-то возле самого плеча чуть шевельнулась под гимнастеркой незримая культя. — А теперь по существу.
Глава десятая. Облака
После раскаленного, никлого прошлогоднего лета нынешняя, с прозрачным, словно увеличительное стекло, небом сухая весна, казалось, вела дело к тому, чтобы безжалостно повторить неурожайное, худосочное, голодным звоном звенящее лето, как вдруг с середины июля клубком закрутились по небу тучи, заворочались в них тяжелые, крупного калибра, грозы, пошли накатом — один за другим — дожди брызгучие, шальные, стеной стоящие. В лесах пожары от молний загнездились, дымком тревожным потянуло окрест…
Не обошлось и в Жилине без событий, упавших, можно сказать, прямо с грозового неба. В открытую форточку к Павлине Супонькиной шаровая молния влетела. Долго в избе по воздуху передвигалась, словно плакаты на стенах рассматривала, пока не зацепилась за что-то и так трахнула, что хлебавшая в этот миг квасную с первой огородной зеленью окрошку Павлина девяностолетняя — враз навзничь с табуретки упала. В доме пожар случился. Хорошо еще — время обеденное, многие из работавших в поле домой под дождем бежали и взрыв в Павлининой избе услыхали. Старуху, потерявшую сознание, на дворовую травку вынесли. Огонь в избе кое-как сбили. Правда, плакаты пришлось посрывать: основательно их огоньком лизнуло.
Прибежал на звон пожарной рельсы и Алексей Алексеевич. И что же он видит? На огороде бабы старую Павлину в землю закапывают. И Бутылкин Яков Иваныч туда же: лопатой шурудит, бабулю оглушенную сырой почвой обкладывает. Налетел учитель стремительно, лопату из рук Бутылкина вырвал, в картофельную ботву откинул. Павлину от земли освободил. На рогоже ее разложил, одежду расслабил на груди — искусственное дыхание делать начал. Пришлось ему дряхлую Павлину в сморщенный рот крепко поцеловать, чтобы дыхание спертое вызвать, сдвинуть «шестеренки», остановившиеся в столетнем Павлинином организме. И — ожила!
Не кричали бабы от мистического ужаса, руками не заслонялись — молча, с уважением, по домам разошлись. Но почему-то с этих пор чаще и ярче, с явной охотой при встрече учителю улыбались.
— Павлуша, посмотри на дорогу… На этот раз определенно что-то скрипело.
Алексей Алексеевич поджидал подводу, которую председатель обещал ему на собрании. Транспорт был необходим учителю, чтобы привезти из лесу дровишек на школу. Пяток кубометров колхоз уже поставил. Привозили дрова бабы, ворчали, потому как работа эта в счет трудодней не шла, а производилась как бы в шефском порядке. Бутылку Евфросинье за старание не поставишь, неловко… От чаю она отказалась, некогда, да и пугалась учителя, синих его очков. Судя по прошлой зиме, пяти кубометров до весны ни за что не хватит. И тогда учитель решил ехать в лес собственными силами. Единственно, что требовалось от председателя, — это подвода.
Вот и ждал ее Алексей Алексеевич, всем настороженным организмом улавливая каждый посторонний звук вокруг школы, потому что времени у него было в обрез: каникулы иссякли, скоро дети придут, за парты сядут, а у него еще побелка печей предстоит, за керосином не съезжено (электричество к Жилину еще не подступило). А тут еще парты кое-какие расшатались, скрепить надлежало, а уж с дровами и вовсе беда: мало их из лесу под стены школы доставить, нужно их еще на чурки пилить, а также колоть. Правда, колоть полуметровые березовые чурки собирался учитель не все сразу, а каждое утро и вечер помаленьку, растягивая удовольствие чуть ли не на всю зиму, так как любил он это занятие, заменявшее ему зарядку. С нескрываемым весельем брал в руки топор или колун, будто гантели комнатные, городские, и хрякал и хакал во время колки безо всякого стеснения и оглядки.
— Павлуша, вроде тащатся?.. Выгляни в окно. Павлуша смотрел в окно и ничего не видел. Дорога проходила хотя и возле школы, но пряталась за цепочкой ракитника и ольхи. Цепочка эта постоянно вырубалась, прореживалась и все-таки каждое лето вновь загустевала, закрывая обзор, но и в какой-то мере заслоняя собой попутно здание школы от зимних метелей, образующих здесь, перед кустарником, своеобразный снежный заслон, увал гладкобокий, покрытый в морозы фарфоровой прочности настом.
По этой дороге проселочной, уходящей мимо школы в лес и дальше, на один из латышских хуторов заброшенных, давно уже никто не ездил. А сейчас, за серединой лета, старая замшелая колея и вовсе как бы исчезла в траве высокой, густой. После хорошего грозового ливня незримые в мураве колдобины наполнялись чистой небесной водой, и не было ничего приятнее, чем, раздевшись до трусов, ступать по обманчивой зелени, иногда проваливаясь по колено, а то и выше в теплую, ласковую глубь.
Но вот из кустов на школьный, не огороженный забором двор и впрямь что-то выбралось и не поехало, а как-то вперевалку потащилось и вдруг встало, замотав рогатой головой, словно отказываясь от дальнейших действий. Это приехал на бычке Яков Иванович Бутылкин.
— Вот шары-те! — возмущался дед, бросая веревочный кнут, спиралью намотанный на кнутовище, в телегу, состоящую из трех досок: одна внизу — пол или дно повозки, и две по бокам — как бы стены ее. — Ну и шары-те… Лошадку пожалели для-ради школы. Своех же детишек тута умом-разумом обеспечивают, а лошадку дров привезть — не бери, не смей. Потому что в Гусиху на лошадке за водочкой необходимо… А то за чем же еще? Не за карасином же…
Алексей Алексеевич, радостный, выбежал на крыльцо встречать подводу. Обнаружив возле бычка старика Бутылкина, поначалу засомневался в успехе мероприятия, а затем, поразмыслив, наоборот — приободрился. Пожал руку Якову Ивановичу, головой вежливо тряхнул, поклонился, едва очки на носу удержались от усердия.
— Никак в помощники нам, Яков Иваныч?
— А это как посмотреть… Можа, и в начальники. Небось на таком механизме и ездить не приходилось? То-то. Выскочит из оглобель — что делать станете? Бычок он, не гляди, что махонький, а тоже характер имеет… и прочие недостатки.
— Он, что же, прямо из стада?
— Какое стадо. Тягловый он, в ярме с юных годов. И прозвище ему, как полагается лошади: Митя. Повезло рогатому. Давно бы его в добрые времена скушали… С ногами и рогами… А тут война, разор. С транспортом нелады. Глядишь, и повезло угрюмому. Подольше живьем продержится. Травки-сена понюхает. В обыкновенное-то, мирное время бычки, мужское коровье население, почитай, все на поголовное истребление обречены. Окромя производителей матерых…
С собой в лес бутылку молока взяли, хлеба по кусочку да картошек несколько вареных. Топор и пилу на всякий случай в телегу пихнули. Веревку лохматую, всю в узлах и надвязах, для скрепления воза Яков Иванович прихватил с колхозной конюшни.
Алексей Алексеевич в сапоги резиновые обулся, в те самые, которые при школе чем-то вроде транспортного средства числились: зимой и осенью, на снег или дождик выскочить по надобности — запрыгнул в них, и… поехали. А по возвращении непременно их у порога оставляешь, так как права вхождения в дом сапоги эти не имели.
Павлушу отец с большим трудом уговорил хотя бы спортсменки к ногам привязать: за лето ноги у парнишки привыкли к свободе, и всякое над ними насилие принималось в штыки. Ничего не поделаешь, обулся, потому как нынче они в лес намеревались углубиться, а там и колючки разные, и гадючки… Вон Яков-то Иванович — весь снизу доверху в материалы различные упакованный: на ногах лапти мягкие, разношенные, из пахучего лыка липового, с молоденьких деревцев по весне дранного, из которого мочалки банные, запашистые, на ять получаются; под лаптями — онучи домотканые, белые да плотные, хотя и покладистые, ребристой скалкой на кругляке березовом прокатанные, и не кем-нибудь, а бабушкой Авдотьей Титовной, председателя тещей, которая на деревне вроде «тимуровца» при одиноких людях состояла. На чреслах штаны байковые, из одеяла военного сконструированные. Сверху пиджачок бумажной ткани, на локтях заплаты из той же солдатской байки; под пиджаком гимнастерка, наглухо застегнутая доверху. И все это — при температуре плюс двадцать пять. А на голове еще, как на самоваре заглушка, — фуражка выгоревшая, бесцветная, неизвестного происхождения.
— Уши не отморозьте, — насмешничал Павлуша, развязывая шнурок на футболке.
— У меня кость мерзнет… К тому же клещ в августе присасываетца. Так и порхат, зараза, по кустам, так и порхат! Береженого бог бережет.
Ехали невообразимо медленно. И это порожняком. А что будет, когда дрова на телегу погрузят? Павлуша несколько раз уходил по тропе далеко вперед, но всякий раз возвращался, потому что Алексей Алексеевич кричал на весь лес: «Павлу-у-уша! А-у-у!» Ну просто смех. Будто он все еще маленький, и сейчас его серый волк сцапает и к бабе-яге отнесет.
Бычок Митя передвигался в одном раз и навсегда усвоенном ритме, то есть — как черепаха. Ни бегать галопом, ни трусить рысью тварь эта не могла. Широко растопыренные, на каждой ноге по паре, копыта глубоко увязали в песке или болотной лесной жиже; на твердом грунте копыта эти напоминали прохудившуюся обувку, пополам разорванную да так и не починенную.
Наконец выбрались на делянку, где лесничеством было отведено место под заготовку дров. В разреженном лесу дрова, сложенные в небольшие, с двух сторон подпертые вбитыми кольями укладки, белели свежими торцами то тут, то там.
Неожиданно из одной еще зеленой кучи сучков-веток, отсеченных топорами при заготовке, выскочил здоровенный заяц, бурый, в русых подпалинах, и так он большими задними лапами смешно начал подкидывать из стороны в сторону свой круглый задок, удирая во все лопатки, что Павлуша улыбнулся. Отец, заметив на губах сына эту робкую улыбку, почувствовал, как сам он вспыхнул изнутри, преображаясь, и что дивный прилив сил буквально всколыхнул его, — так ему жить опять захотелось, и верить, и глазами на мир глядеть, и руками работать…
«Ничего! Оттает мальчонка. Слава богу, не все в нем одеревенело. Выдюжим. Лишь бы улыбался почаще, лишь бы доверился. А уж я… во имя этой его улыбки горы сверну!»
Дед Бутылкин появление зайца встретил по-своему, сокрушенно взмахнув кнутовищем и с завистью проводив убегающее «мясо» голодным взглядом.
— Килограмм на пять косой… Ишь копыта-те задрал, короед!
Дровишки Алексей Алексеевич нагружал один и с явным наслаждением. К штабелю никого не подпускал. Бутылкину велел только на возу полешки ровнять. Нагрузил, сколько бычку увезти и сколько Яков Иванович позволил. Сам и веревку под телегой цеплял, сам и крепил ее другим концом где-то на хвосте жердины, пронизывающей телегу, раскраснелся, помолодел. Очки на время работы снял. Прическа его аккуратная пришла в негодность. И вдруг перед глазами лицо девическое возникло… И за собой как бы зовет. Хорошо сделалось, беспечально. Алексей Алексеевич озираться начал вокруг себя: не насмеялись бы над ним окружающие! Павлуша-то вон какой серьезный да сдержанный. Загнал учитель в себя улыбку счастливую, как ему показалось — грешную, непозволительную в его положении и возрасте, спровадил ее с лица своего и вдруг новую улыбку зубами не удержал: Павлуша что придумал! Целую пригоршню, верхом наполненную отборной спелой малиной, из кустов вынес и одну половину отцу, другую Бутылкину протягивает.
— Хороша малина ноне! — вскрикивает Яков Иванович и не ест, а первым делом нюхает ягоду: долго, со свистом, глубоко вдыхая неповторимый лесной ее дух. А затем смешно задирает бороду, отъединяет от бороды усы и, широко раскрыв рот, бросает в него ягоды. Однако, захлопнув рот, не сразу принимается жевать, а лишь пару мгновений спустя, когда малина во рту сок даст.
У Павлуши опять губы затрепетали в усмешке. И птицы лесные сразу же засвистали, запели, будто на празднике. Шум по вершинам деревьев вместе с ветром промчался. Солнце сквозь щели в листьях спицы свои золотые на дно леса обронило. Светло сделалось и радостно. Пусть ненадолго, зато пронзительно. От поверхности до истоков жизни.
Назад ехали, помогая бычку в вязких, труднопроходимых местах, упирались кто в колесо, кто в березовую плашку на повозке. Потом на одной лесной поляне, выбившиеся из сил, все вместе разом упали в траву (бычок Митя тоже не удержался, подогнул ножки) и полчаса отдыхали, глядя кто в землю, кто на облака, пролетавшие над лесом.
— А что там, за облаками?
— Там, Павлуша, ничего и одновременно — все. Во всяком случае, не прогадаешь, если на небо время от времени посматривать будешь. Мы ведь неба-то и не видим почти… Глазами в землю живем. А без неба нельзя… Без ощущения беспредельности.
— Неясно. А дальше-то что? За звездами? Есть там стена… или дно какое-нибудь?
— Нет. Говорю тебе: там — бесконечность. И ничего существенного, кроме звезд…
— Не скажи, — вмешался в разговор Бутылкин, — как же так — ничего существенного? А бог? Извини-подвинься… Мы хоть и не ученые, а какие-сь книги тоже читали. Божественные.
— Книги, Яков Иванович, люди сочиняют.
— Как это — люди?! Люди обыкновенные книги пишут. А божественные — они от бога. И дураку ясно.
— Дураку-то, может, и ясно, Яков Иванович, а вот умные опровергают.
— Опровергают, говоришь?.. Делать им нечего.
— А зачем бог? — вновь смело, детски бесцеремонно задал вопрос Павлуша.
— А затем, чтобы ты улыбался почаще, понял аль нет? Чтобы людей от зла всяческого оборонять, а радостью одаривать.
— Для смирения гордыни бог придуман. А также для утешения, — поспешил вмешаться учитель.
— Слухай ты его больше. Вот ты меня малиной угостил. Кто тебя надоумил? Митя, что ли, бычок? Бог и надоумил. Для добрых дел — вот для чего.
— А кто Гитлера надоумил войну начать? — Павлуша повернулся на бок, лицом к Бутылкину, и, подперев голову рукой, вопросительно подмигнул деду.
— А энтого сам диавол надоумил, не иначе.
— Кто такой еще?
— А самый главный мазурик… Который супротив бога идет. И на плохие дела людей подбивает. Вот, скажем, куришь ты от батьки втихаря. Или без спросу чего берешь…
— А… женщин любить? Это как? Плохо или хорошо?
— Эка ты хватил, малец. Да бабу-то любить оченно непростое это дело. Тута сама природа верховодит такими вопросами.
— Значит, всех выше природа?
— Задурил ты мне голову, парень. Сбил в кучу все понятия. Одно знаю: у добрых людей — любовь, у злых — только кровь… Одна жидкость в сердце. Всего лишь…
За то время, пока Бутылкин с Павлушей философствовали, успел Алексей Алексеевич над собой в небе три кудрявых облака взглядом проводить. Очертание одного из них, мягкое, овальное, представлялось ему женским лицом в зеркале неба… И само собой пришло решение: завтра чуть свет побежит он в Кинешму с Евдокией поговорить, доказать попытается, что пятнадцать лет разницы между ними — это не океан, который вплавь не одолеть. Разве не любит он уже? Сын и тот заметил в нем перемены… И не осудил. А даже как бы одобрил.
— Слышите, — обратился он к Бутылкину с Павлушей. — Слышите, как шуршат облака?!
— Облака, говоришь? Шуршат? — приподнялся с земли Яков Иванович. — М-да-а… Это, парень, с непривычки. Перестарался ты на дровах. Вот и шуршит. Давление в башке подскочило. У меня у самого так-тось шуршит иногда. Особливо после бани. Перепарюсь, ну и шуршит, а то дак звенит аж! Однако пора нам, господа хорошие. Митя вон пообедать успел, пока мы валялись. Вон как лужок-то остриг зубами…
Возвращались хотя и голодные, но как бы просветленные, по крайней мере учителю так казалось.
Вечером за самоваром и винегретом попытался Алексей Алексеевич причину своего внеочередного похода в Кинешму Павлуше объяснить.
— У меня, Павел, не просто дела в Кинешме. Увидеть мне кое-кого необходимо…
— Евдокию?
— Как ты догадался?!
— Очень просто. По газете.
— По какой еще газете?
— А вот по этой! — протянул Павлуша отцу старенькую «Приволжскую правду», всю испещренную чернильными закорючками, рисунками, словечками. — Вот, пожалуйста. Голова женская. На кого похожа? На Евдокию. Нос и губы ее. И коса. А завитушки вот эти… Что означают? Букву «Е»? Тринадцать штук насчитал…
— Ну и что скажешь, следователь? По поводу этой буквы? Плохо, да, с моей стороны?
— Нет, почему же… Забавно.
— Нет, нет… Скорее — смешно. Пожилой, сорокалетний человек… Советский учитель. И вдруг — головки чернильные! И всякие там буковки.
— Ты ведь маму нашу любил? И Евдокию полюбишь…
— Не слишком любил. Себя любил больше.
— А потом разлюбил?
— Мама первая опомнилась. Когда другого встретила.
— Кто это может подтвердить?
— Как кто?.. Мама, естественно.
Отец потянулся с другого конца стола, взял Павлушину ладонь в свою. Попытался улыбнуться.
— Не смейся! — отдернул сын руку, словно обжегся. — Я помню маму. И голос ее помню. Такой растерянный всегда… Будто она чего-то все искала. И не могла найти. А Евдокия тоже красивая. Ты не думай, я не против. Только я помню. И не забуду… Слышишь, никогда не забуду! Поезжай к своей Евдокии. Можешь ей привет передать. Я тебя понимаю, отец…
— Ты это искренне?
— Зуб даю!
— Зачем же так страшно? — Отец даже очки снял, долго глазами моргал, головой крутил из стороны в сторону, искоренял в себе смущение перед сыном. — Понимаешь, Павлуша… Я мигом вернусь. Только проверю себя: серьезно это или так? Понимаешь?
— Да понимаю, понимаю…
— А как же вы тут без меня? Лукерья — она ведь слабенькая… Смотри не обижай ее. Оставляю тебя за хозяина. Пожару не наделайте, а главное — Негодника голодом не уморите. Из-под печки его доставайте. Его если молочком поманишь — на молочко он непременно выйдет.
— Скажи, папа… а Танька, Княжна, — это от бога или от дьявола?
Отец не удержался, смех потряс его, давая разрядку нервам, мозгу, всему существу, еще недавно напрягавшемуся в единоборстве с сыновней колючестью, бесцеремонностью.
— А про это, Павлуша, у Якова Иваныча Бутылкина спроси… — едва отдышался от смеха учитель. — Это по его части. Ну а мое мнение: от бесенка она! Не от бога и дьявола, а непременно от бесенка бедового твоя Княжна.
И вдруг отец как бы полностью очнулся. Смех с его лица осыпался до крупинки. Потускневшие было глаза через мгновение вновь засветились, но каким-то мягким, теплым светом.
— А мама твоя… Машенька… ни в чем не виновата. И прекраснее женщины я не встречал.
— Расскажи! Не темни…
— Вот вернусь, и поговорим. Одно знай: не она… сам я от нее отказался. Струсил, сбежал. Да, да! Сам и терплю одиночество.
Глава одиннадцатая. Деньги
Павлуша спал и сквозь сон ощущал, как собирается, завтракает и уходит отец в эту Кинешму, на свидание с этой своей Евдокией… Павлуше хотелось сказать отцу что-то ободряющее и одновременно жалобное, чтобы отец, добираясь до городка, чего доброго, не надумал жениться на Евдокии. Пусть бы привел ее просто так сюда, в лес, потому что интересно пожить рядом с такой молодой, незнакомой. Хотелось и еще что-то главное, тревожное сказать, но Павлуша никак из сна не мог выкарабкаться, потому что в шестнадцать лет, да еще в пять утра, сделать это добровольно нельзя. Или почти нельзя.
Разбудила его Лукерья. В доме уже солнце вовсю копошилось. Окна отцовского кабинета и комнатушки, в которой Павлуша спал, смотрели на запад. Солнце проникло в дом с другой стороны, и сейчас оно с кошачьим любопытством просовывало под дверь комнаты свою рыжую веселую лапу.
Павлуша вспомнил, что он нынче в доме хозяин, и деловито осведомился у Лукерьи:
— Домашнее животное накормлено?
— Это какая ж такая животная? Козенка, что ли, моя? Дак она в поле теперь.
— Не козенка, а кот. Отец велел его из-под печки выманивать. Молоком. А то он мышей в помещении не ловит.
— Тьфу ты, господи! «Животная»! Да эта чума пыльная в пять утра уже под ноги бросается. Едва только бидоном звякну — Розку подоить. Так и летит, глаза включивши! Это он от вас прячется… От батьки, от его строгостей да принципов. — Лукерья, не один десяток лет проработавшая в Ленинграде на производстве, иногда поражалась как бы «по-городскому», но деревенская, псковская закваска неизменно брала в ее лексиконе верх.
Лицо ее, с нежным румянцем, почти лишенное морщин, черные брови, белая пенистая коса и легкая, не старушечья, а какая-то звериная, от изящной оленихи перенятая походка делали ее образ радостным, жизнеемким.
— Теть Луш… отец ушел?
— Чуть свет улетел. Мешок за спину и — ходу. Даже не поел как следоват. Каши пару ложек вчерашней соскреб с горшка да стакан чаю глонул. А до Кинешмы двадцать пять верст, енергии не хватит.
— Не верст, а километров двадцать пять.
— Кака разница! От чаю-то известно что за енергия появляется: успевай за куст становиться. А силушки никакой. Так что и вставай уж, сыночек. Я тебе новой кашки стушила, пшенной, с молочком. Така корочка золотая на ей — аж у самой слюни текут.
— Сейчас, погоди немножко… До ста досчитаю.
— Сосчитай, коли умеешь. А мне недосуг. Самовар бы не убег!
— Убежит — поймаем, теть Луш! Свяжем, скипидаром намажем! — рифмовал Павлуша, с улыбкой глядя в зеленое с синим окно, туда, в мир, битком набитый деревьями, воздухом, птицами, синевой небесной.
И тогда лицо Танькино, смеющееся, белыми зубами кипящее, на память пришло. Именно такое оно возле кладбища Козьмодемьянского над ним в траве склонилось, и губы, дурашливые, смеющиеся, нервно искривленные радостью победы, Танькины губы по его губам огнем тогда прошлись… и тут же остыли в испуге-смятении и ввысь, в небо — прочь от него вознеслись, умчались.
«Нужно сходить к ней, увидеть ее непременно! Весть о себе подать. Может, Серёньку Груздева с запиской подослать? А вдруг проболтается кому малек? Пригрозить ему пострашней. Разорву, мол, на части… гранатой! Или тетку Лушу подговорить? Уроки, мол, вечером вместе готовить будем с Княжной. Не пойдет на такое старая, не поверит. Или сядет тут же на кухне и про фабрику „Скороход“ рассказывать начнет. Часа на два».
Опять приходила в комнатушку Лукерья, опять соблазняла кашей пшенной, леденцами в жестяной коробке бренчала, которые к чаю приготовила и которые по старинке «ландрином» именовала — по фамилии дореволюционного конфетного фабриканта.
— Небось до мильена уже сосчитал, лежебока, облом кучерявенький… А загорел-то, загорел-то — чисто негра!
Пользуясь отсутствием отца, Павлуша устроил себе вялое, «задумчивое» вставание и належался на душистом матрасе-сеннике всласть, до полного насыщения негой.
За горячим самоваром сидели раскрепощенные, не было рядом сдерживающих, серьезных синих очков отца, а потому — свободно чавкали кашей, скребли с горшка прямо в рот, сербали чай из кружек, позабыв о непременных «приличиях», завезенных сюда отцом с берегов строгой, чинной Невы.
— Теть Луш… Скажи, а ты всю блокаду в Ленинграде пробыла?
— Всю, до последнего денька. А то как же! Быдто не знаешь? Вон и медаль у меня в шкатулке. «За оборону Ленинграда». Все путем. А тебе, сынок, али не верится?
— Верю… Только я не о том. Непонятно мне кое-что. Скажи, а с мамой моей вы что — не дружили?
Лукерья при перемене Павлушей темы разговора, когда он о матери своей вспомнил, заметно смешалась. И всегда-то розовые щеки ее вспыхнули, будто жаром печным изнутри на них дунуло-дохнуло.
— Глупости говоришь — «не дружили». Как это понимать? Да мы с ей свои, чай! Кака тут дружба могет быть? Родня и есть родня. И любовь, и бяда одна. А Маня-то ко мне и вовсе как к матери родной — всегда с уважением, с моим почтением… Чего это ты напридумывал?
— Непонятно. Родные-близкие. Любили-ладили, а во время войны, когда нас с отцом не было в городе, вам бы вместе объединиться, а вы наоборот — потеряли друг друга. Как же так? Мы вон когда в беженцах по дорогам тащились — непременно тесней держались, скопом. Варили и ели из одного котла. Лечили, перевязывали, если кого поранит, сообща, кто чем мог. А вы… Где мама?! Куда она делась? Скрываете вы от меня что-то. На каком она кладбище — не знаете. А твой братец на вопрос, где мама, и вовсе какую-то чепуху городит. Заливает мне, будто исчезла она… Что она, призрак, что ли, — исчезать? От кого? От меня, что ли? Да?
— Стало быть, сказал он тебе про счезновенье-то? Открылся?
— Теть Луш! Ты ведь меня любишь… Сама говорила. Не обманывай меня, расскажи, пожалуйста. Слышишь?! Живая она, что ли?
— Дак и живая, стало быть. Только ведь и я не все знаю, сыночек. Авакуировали ее — ни живую ни мертвую. Дистрофик, одним словом. Я-то почему выжила, не померла в блокаду? Потому что работала на фабрике, двигалась. А мама твоя чаще лежала. Вот ее и увезли. Сперва в госпиталь, а потом еще куда-то подальше. Хороший человек помог. Мир не без добрых людей.
— Живая она!
— Да кто знает, сыночек… Увезли, а там и затихла. Не знаю, не ведаю. Врать не хочу. Только переписывались вроде, отец-то с ей… Подрастешь, сам все и определишь: кто прав, кто виноват. Одно тебе, сыночек, сказать могу: не суди ты их строго, родителев своих. Время-то какое. Посмотри: весь наш народ в каку заваруху погибельную попал. Хорошо, ежели кто живой остался, а то вон какие мильены лежат, ба-а-т-тюшки!
— Зубы-то не заговаривай — милье-ены! Мать одна, а мильенов твоих много. Почему она вестей о себе не подает? Они что… виделись с отцом? Поругались? Развелись они, что ли? Какой там у мамы «хороший человек» появился? Говори, не темни!
— Сказала — не знаю, значитца — не ведаю, вот тебе крест! И греха ты мне на душу не клади, миленький, не возьму! Хошь силком пихай, а не приму…
И тут во входные наружные двери кто-то постучался. Залязгала щеколда накидная от замка висячего, скрипнула, а затем тяжело вздохнула теплая, обитая войлоком и клеенкой дверь, медленно отворяясь, кем-то потянутая на себя из тамбура.
— Привет землякам, здрасьте! — просунулась в щель озорная, сверкающая улыбкой голова Княжны Таракановой. — А что, учителя нету дома?
— Зачем он тебе спонадобился? — подхватилась со скамьи Лукерья, словно курица закрывая подолом-крылом единственного цыпленка, машинально сосущего прозрачный желтый леденец и еще не пришедшего в себя после разговора о матери.
— Председатель справиться велел.
— Небось на гитаре играть? Господа хорошие… Осоюзить вас некому! — вспомнила Лукерья один из своих полузабытых «скороходовских» терминов.
— Интересовался, не поедет ли Алексей Алексеевич в Кинешму? Не привезет ли ему оттуда водочки казенной бутылку?
— Не привезет. Потому как уже гдей-то возле Кинешмы находится, Волгу, я чай, на смычке переплывает… И просьбы вашей не услышит.
— Проходи, Таня, — тихо, но твердо, по-мужски позвал, пригласил Княжну Павлуша. — Налей чаю гостье, теть Луш.
Лукерья взмахнула руками, изобразив не столько негодование, сколько удивление, шлепнула себя по бедрам и вдруг, что-то смекнув, угождая племяшу ненаглядному, развернулась к Таракановой — вся радушная, затормошила, заприглашала ее к самовару.
— Не хошь ли яичка, доченька? Или кашки молочной? Чайку с ландринчиком?
— Спасибо, бабушка Луша. Чашечку чаю, если не трудно… — А сама по Павлуше так и бегает глазами, так и подзадоривает. Улучив мгновение, когда Лукерья в печку зачем-то полезла, шепнула парнишке: — А я к тебе! Пойдем куда-нибудь сходим…
Павлуша, все еще не пришедший в себя от разговора с Лукерьей, не знавший: радоваться ему или злиться, бунтовать, а то и в себя уйти, в полном смятении от сыновних чувств (мать жива!) и в то же время взъярившийся от обиды на отца (скрыл, не доверяет, с другой путается!), ухватился, как за круг спасательный, за приглашение Княжны.
«Вот я им покажу, как сына от матери отнимать, я им сделаю! Может, она в Ленинграде уже? Искать ее нужно. Поехать туда, в милицию пойти. Правда, нельзя мне в милицию… Все равно буду ее искать! Найду, узнаю, как она ко мне относится. Мать не может не любить сына. А вдруг — может?.. Там видно будет. А сейчас — в Кинешму! Сейчас отца необходимо найти и денег от него потребовать на дорогу в Питер. А может, у него здесь какие-нибудь денежки припрятаны? Школьные, казенные? Возьму их, потом отдам как-нибудь… Сам, папочка, виноват! Не лишай сына матери родной. А родной ли? Почему сама-то молчит, не ищет почему? Разошлись, поругались они с отцом? А сын страдай по их милости? По колониям сиди? Он им покажет еще…»
— Тебе нездоровится, Павлик? — услыхал он веселый, ободряющий голос Танюшки. — Хочешь, на Меру сходим? Искупаемся последний разок. Дождики скоро пойдут, вода в реке остынет.
— А как же уроки? Отец наказывал, чтобы уроки беспременно, — встряла прислушивающаяся к ним Лукерья.
— А чихал я на них и кашлял, на уроки ваши! — выплеснул из себя Павлуша.
У Княжны брови от удивления поднялись и чуть с лица не улетели. А Лукерья только руками еще раз взмахнула да охнула в панике: «Ба-ат-тюшки светы!»
— Теть Луша, миленькая, — Павлик выбрался из-за стола, обнял старушку одной рукой, пожалел грубовато. Другой рукой волос ее чистых, почти прозрачных, коснулся. — Прошу тебя, не обижайся. И о нашем с тобой разговоре никому ни звука. Понимаешь ли…
— Да понимаю, а то как же. Хоть и глупая уже сделалась… Зато как собака — чую за версту. Ты, сыночек, не переживай лишку-то. Погоди-тко, вернемся мы в Ленинград. На могилку к Тамарочке ты меня сводишь. Небось травой заросла могилка-то, спряталась, поди. У тебя-то глазки острые. Вот ты мне и поможешь поискать… Диво-то какое: в блокаду дровы какие? Никаких нету. А ведь кресты с могил не воровали. И Тамарочкин уцелел.
— Это тебе только кажется, что не воровали, — начал было Павлуша.
— Спасибо за чай, — улыбнулась Княжна Лукерье, вставая и платье свое выходное, нарядное, из тяжелой материи оправляя.
— На здоровье, доченька. А нарядилась-то чаво? Али собралась куда?
— Как это — куда? К вам.
— К нам-то и попроще можно. Не музей, не театырь, — подмигнула Павлуше хитренько.
А Павлуша возле Княжны задержался, и вдруг задела она его невзначай боком своим, бедром гуттаперчевым. Вспыхнули у парнишки глаза, будто бензином кровь ему разбавили через то прикосновение и подожгли тут же, горячую искорку заронили.
— Я сейчас… Иди, иди, Таня. Соберусь только. Обожди меня на дворе, — говорит он ей так, а сам с места сдвинуться не может, будто магнитом она его держит возле себя. Наконец смилостивилась: повернулась, прочь пошла.
У Павлуши невеселая задача: денег на отъезд к матери раздобыть. Проник он в комнату отца босой, на цыпочках ступая, боясь половицей скрип произвести. Лукерья хоть и глуховата была, но ощущалась за стеной, гремящая ухватами так явственно… Павлуше и прежде доводилось заставлять себя брать чужое. Однажды у спящего в кочегарке пьяного немецкого унтера отстегнул он гранату с пояса. Дрожащими руками. Воровство? Или борьба? Кусок хлеба у зазевавшегося повара хватанет, бывало… Преступление? Или вынужденная необходимость?
У отца Павлуша в ящике стола бесшумно покопался, по карманам пальто полазал и в складках серенького домашнего костюма порылся. Неприятно сделалось. Жарко. Пот пальцы на руках склеил. Кровь на щеках двумя ожогами кожу прижгла. Ничего стоящего не найдя, на книжный шкаф переключился. Шкаф этот стоял незапертый, створки дверок прикрыты, а в замочной дырочке ключ медный торчит: открывай, интересуйся. Как ни старался Павлуша бесшумным быть, ничего из этого не вышло: дверцы шкафа неприятно взвыли, сухим таким смехом козлиным засмеялись. Павлуша даже присел от неожиданности. И пулей в свою комнату из кабинета выскочил. Однако Лукерья не появилась. То ли не прислушивалась уже, то ли на двор вышла. Вернувшись к шкафу, Павлуша шире раздвинул промолчавшие на этот раз дверцы и сразу там, на нижней полке, деньги увидел! Целая пачка трехрублевок. Зеленоватой бумажной лентой заклеенная. И Павлуша медленно взял эти деньги. И в карман своих брюк положил. Закрыл шкаф. Вышел из отцовской комнаты.
У себя в комнате суетливо положил в ботинки чистые носки, связал обувь шнурками, затем открыл форточку и повесил обувку на шпингалет так, чтобы эти самые ботинки очутились снаружи помещения. Туда же вывесил и пиджачок желтенький, хлопчатобумажный, еще новенький, недавно купленный отцом в подарок сыну.
На кухню вышел остывший, как ни в чем не бывало. Лукерья уже прибрала на столе, где повеселевшие, насытившиеся мухи чистили себе крылья. Пол подметен.
А сама Лукерья, кряхтя и согнувшись в три погибели, на коленях протирала порог мокрой тряпкой.
— Ну, я пошел… — расклеил рот Павлуша. Уходить он почему-то медлил. Если ему кого и жалко было терять, так это именно Лукерью, любившую его открыто, бескорыстно, позволявшую ему многое, баловавшую его еще с пеленок, отдававшую себя Павлуше полностью, хотя и не знавшую всего этого умом. — Пошел я, теть Луш…
— Иди, миленький! Я щец спроворю, пока вы на Меру бегаете. Смотри, малец, не очень-то… — зашептала она ему снизу вверх, со своего коленопреклоненного положения. — Защекотит тебя русалка эта непутевая. Гляди не поддавайся горазд.
— Ладно уж тебе! — засмущался, вспомнив о Княжне, ибо все его существо переполнялось в данный момент другой заботой: а именно — совершенным поступком, дерзким и страшным по отношению к отцу, к Лукерье, всему доброму миру, а значит, и к себе, — поступком, имя которому — воровство.
И вдруг Павлуша резко наклонился, поцеловал, словно клюнул, Лукерью в седую голову. Слезы ударили ему по глазам, затмили происходящее. И тут он почти машинально, в полном отчаянии перешагнул порог, а с ним и Лукерью — жалкую, слабую, ничего о нем, оказывается, не знавшую. Старушка поняла его поцелуй по-своему, улыбнулась вслед, приговаривая:
— Ладно уж, не подлизывайся. Не скажу про твое купанье никому. Беги, играй, пока играется, родненький.
Обежав дом, Павлуша подобрался к своему пиджачку с ботинками, снял их со шпингалета оконного и, выйдя за деревья, высокой стеной огораживающие школьную территорию, очутился на едва различимой дорожке, вытекающей из леса и струящейся возле колхозного поля, засеянного картофелем, на ботве которого изредка вспыхивали фиолетовые, белые и чуть розоватые цветы, отдаленно напоминающие соцветия комнатной герани.
А впереди, там, где эта дорожка возле деревни объединяется с дорогой на Кинешму, на развилке утоптанной, где сходились картофельные борозды и нависали желтой гривой хлеба, едва различимые в голубом воздухе, угадывались две разноцветные девические фигурки — белая и синяя. И Павлуше их было никак не миновать, потому что условился он идти купаться с той самой, которая в синем. Не нырять же теперь в картофельные заросли, чтобы ползком проскользнуть мимо обеих?
Еще на подходе, издали определил он, что в белой кофтенке, платочком ситцевым белым от жары повязанная, стоит возле Княжны Капитолина. В руках у нее лукошко, обмотанное сверху таким же, что и на голове, белым платком, сквозь застиранную ветхую материю которого красными чернильными пятнами просачивалась малина, верхом набранная в плетушку.
— Вот, зову девушку с нами купаться идти… Невозможно уговорить. Условия не подходят! — окатывает Павлушу белопенной улыбкой Княжна.
— Какие еще условия? — хмурится озабоченно Павлик.
— Голенькими плавать. Чтобы без трусов. Теперь во всем мире так плавают. Голубев Автоном, председатель, он и в Германии был, и в Венгрии, и еще где-то. И везде, говорит, плавают без трусов. А Капка, дура, не согласна. Во-первых, экономия: сушить, выкручивать ничего не надо, во-вторых, тело не жмет, а в-третьих, красиво! Правда, не у всех. Вот бы и определили, у кого лучше? Соревнование! Темная ты, Капка, от жизни отстаешь. А то пойдем скупнемся?
Капитолина молча отвернулась от ребят и, низко опустив голову, понесла свое лукошко, ступая босыми ногами настороженно, словно по стеклу битому, острому дорожку себе прокладывая. Потом она остановилась на миг, голову низко склоненную не поднимая, поворотилась к ребятам и, глядя себе под ноги, едва слышно обронила:
— Постыдобилась бы…
— Кого?! — хохотнула Тараканова, передернув плечами. — Павлика, что ли? Так ведь он мой!
Павлуша вздрогнул, как после укола. Ему и нравится, что Княжна вот так быстро, без оглядки присвоила его, не утаила, что между ними теперь «отношения», и в то же время слова ее, вернее, это бесцеремонное «мой», уязвили Павлушкину гордость мальчишескую, которую он в любых передрягах жизненных старался держать в неприкосновенности.
— Скажешь тоже — «мой»! — буркнул он, отворачиваясь.
— А чей? Ее, что ли?! — погасила улыбку Таня.
— Свой… Собственный.
— Ну, это пожалуйста. Мне главное, чтобы не Капкин. Глупенький, ясное дело, что не мой ты, а батькин, да мамкин, да бабы Лушин. Ничей, короче говоря. Просто мне приятно поиграть в богатую. Или не понимаешь?
— Не понимаю. Хотя, пожалуйста… Играй. Если тебе приятно.
— Я тебе нравлюсь? Нравлюсь. По глазам вижу. А чем нравлюсь?
— Всем. Кроме вот этого твоего сумасбродства. Что на уме, то и на языке! Хотя и это почему-то нравится.
— Да без этого-то я — не я! Вон Капка… Она ведь не урод, все у нее на месте. А телка. Тютя-матютя. Вся как забинтованная с ног до головы. И зубов небось не чистит, потому и не улыбается. А я и порошком их, и живицей-смолой, и хвойных иголочек нажую — для укрепления десен. Зато и пахнет, как от сосны! Хочешь понюхать? — потянулась она к Павлуше губами, но парнишка так и отпрянул, затем, оступившись в борозду картофельную, забавно попятился, едва не упав.
А Капитолина ушла не оглядываясь. Светлым пятнышком она еще долго маячила над дорогой, пока не достигла деревни и не свернула за первый попавшийся сарай, чтобы с глаз долой от этих городских…
На Меру пришли еще до полудня. И хотя продвигались в основном лесом, в тени благодатной, но одеты были для жаркого августовского дня несколько тяжеловато — потому и бросились к еще прозрачной, не зацветшей воде со всех ног, на ходу снимая с себя одежду и подбрасывая в воздух обувку с ног.
Река лежала здесь в песчаных берегах и, как плохая, давно не чиненная дорога, была покрыта по дну всевозможными ямами, колдобинами и островками бугристыми. Зато уж водную поверхность имела идеальную. Ни рябинки, ни пятнышка радужного, нефтяного, ни бумажки или еще какой приметы «цивилизации» на ее зеркале не возникало. Там, где глубина реки на солнце просматривалась, как в аквариуме домашнем, особенно если на теплый мягкий берег присесть и смотреть, близко наклонившись к воде, — то можно и рыб стоячих, плавниками задумчиво шевелящих, увидеть. Здесь ведь и голавли, и язи, и лещи приличные, не говоря уж об окуньках и пескариках мелких.
Павлуша разделся первым и уже плавал наперегонки с язями и голавликами, когда увидел чуть ниже по реке, там, за нависшими над водой ивами, — белое тело, рыбиной мелькнувшее в воздухе и упавшее в воду почти бесшумно.
«Смотрите-ка! Разделась начисто… — с ужасом и восторгом одновременно соображал Павлуша. — Ничего не боится. Вот девка так девка! Ну и пусть! Ведь у меня праздник: мама нашлась!»
И вдруг понял, что Княжна может и к нему подплыть. Вон как лихо она загребает. И не по-лягушачьи, не плавно по-женски, а брассом, рывками и вперевалку с одного бока на другой. Мощно плывет. И вся в радуге брызг. Павлуша не заметил, как прочь, к другому берегу от шальной девки отпрянул.
Над рекой еще долго раздавался радостный смех. И визжали они, и кувыркались, провожая золотое, загустевшее сочной зеленью лето, пока от дороги к ним, на пустынный, но праздничный пляж, не съехал, урча разношенным двигателем, трехосный с прицепом «студебеккер», загруженный хлыстами, — целыми деревьями, наскоро очищенными от сучьев и собранными в одну громадную и тяжеловесную метлу.
Шофер «студебеккера», потный и чумазый дядька лет пятидесяти, спокойно разделся, не глядя на ребят, и в огромных темно-синих сатиновых трусах полез в воду, сперва зайдя в нее по колено, и, наклонив голову, начал отрывать от реки воду ладонями и с кряканьем брызгать себе на усталое лицо.
Павлуша прежде и внимания не обратил бы на такого «зачуханного», пожилого, почти деда, мужика скучного; теперь же с нескрываемым изумлением принялся разглядывать огромные мускулы дядьки, всю его атлетическую, бугристую, рельефную конструкцию, завидно отличавшуюся от Павлушиной мощью, силой невероятной, добытой в труде постоянном, каждодневном. Парнишка настороженно в сторону Княжны глазами повел: интересно, как на такое тело Танька реагирует?
Но дерзкая Княжна почему-то незнакомого мужика моментально застеснялась, сиганула от того места, где они прежде резвились, как торпеда, уйдя за куст ивовый, и там, незримая для глаз мужских, выбралась на берег.
А Павлуша, смекнув, что шофер едет в нужном направлении, в сторону Кинешмы, решил попытать счастья: не подбросит ли дядя за троячок до берега Волги?
Княжна, конечно же, опередила Павлушу с одеванием: пока он за кустами трусы выкручивал и на одной ноге прыгал, вытряхивая из уха водичку теплую, непрошеную, Таня уже грелась в своем шерстяном ярко-синем платье, обхватившем ее фигурку, как пластырь, мертвой хваткой.
— Поедем, Таня, в Кинешму, а? Вечером вернемся…
— Чего там делать? У меня с собой ни копейки.
— Поехали. Придумаем что-нибудь… У меня такие новости интересные: мать, оказывается, жива! Вернее, в блокаду-то она вовсе не умерла. Вывезли ее, понимаешь? Хорошие люди. Наверняка живая еще! Как ты думаешь?
— Вот бы здорово! Только непонятно… Война-то уж закончилась. Если живая, почему тогда молчит? А что, Алексей-то Алексеевич знает про это самое? Про то, что живая она?
Павлуша рот уже раскрыл, чтобы отца обвинить, заругаться на него, но почему-то не посмел.
— В том-то и дело, что не знает он ничего… Вот мы его в Кинешме и разыщем, в роно сходим, узнаем, где он остановился. Скорей всего — в Доме крестьянина. Он любит в Доме крестьянина останавливаться. Поехали, а?
— А тебе-то кто сообщил про маму?
— Сообщили… Ты что думаешь, писем я не получаю?
— Не получаешь. За почтой теперь я хожу.
— Не твое дело. Сообщили, и все! Сорока на хвосте принесла… — Очень уж не хотелось ему про Лукерьины признания распространяться, про все эти тайны семейные, непонятные, ради разъяснения которых он и рвался сейчас в Кинешму, к отцу, потому что не было терпения носить в себе радость и одновременно обиду на то, что радость эту от него скрывали так долго.
— Ну что ты, миленький… Не злись. Рада я за тебя не меньше других. Поедем, конечно. Хоть я и маму не предупредила. В Гусихе почту на обратном пути заберем. Завтра ходить не надо будет. Только вот деньжат бы…
— Есть деньжата. Взял я из дому. Лукерья снабдила. И тебя в ресторан свожу, вот! Как в кино. Была не была! Шоферюгу бы уговорить. Чтобы он нас подбросил до переправы. Предложи ему трояк. Тебя любой козел послушается, только рот раскрой.
Польщенная Княжна не замедлила применить свою улыбку и, одарив ею сначала Павлушу, понесла ее животворящие чары в сторону грузовика, где, освежившийся и помолодевший, набрасывал на себя черную от масляных пятен гимнастерку шофер «студебеккера».
Павлуша не слышал, о чем они там поговорили, но вскоре увидел, как Таня часто-часто замахала ему рукой, приглашая в кабину. Сама она сразу же полезла на подножку, а затем и на сиденье вскарабкалась и рядом с шофером, с его рычагами да педалями уселась.
«Нужно было мне рядом с шофером. Измажет он ей платье… и вообще», — мелькнуло соображение в голове парнишки.
Ехали медленно. Дорога состояла из одних ям и перекосов. Казалось, сверни с нее и поезжай целиной или напролом лесом — будет лучше, спокойнее. Машина стонала, огромная тяжесть давила на все ее железные и стальные кости. Казалось, конструкция рано или поздно не выдержит и скелет машины рассыплется, но ничего такого ужасного не происходило: фронтовая закваска вездехода как раз и сказывалась, не давая автомобилю издохнуть или хотя бы захандрить. В кабине было чисто. Шофер попался некурящий и малоразговорчивый. В самом начале он только спросил Княжну, дернув головой в Павлушину сторону:
— Братишка? — давая тем самым понять, что за старшую он принимает именно ее, а не кудлатого пацана с переносицей, обсыпанной деревенскими, не отмытыми за лето веснушками.
Километров за пять перед Волгой выбрались на булыжное шоссе, старинный тракт, уходящий в костромские леса сквозь бывший Семеново-Лапотный уезд, мимо знаменитого теперь Щелыкова, овеянного славой великого русского драматурга Островского. По булыжнику ехали, как по воздуху, тряски после проселочной болтанки и вовсе как бы не ощущалось теперь. Другим концом тракт этот, как бугристая кожа гигантского змея, выползая из леса, свешивался к самой волжской воде, обрываясь на крутом спуске, забитом лошадьми с телегами, машинами, людьми, собаками, дожидающимися с кинешемского берега парома.
Еще далеко от Волги, на подъезде к ней, в открытую, с приподнятым лобовым стеклом кабину «студика» принесло ветром живой, неповторимый запах реки. Пахло водой, немного рыбой, рогожей, пеньковым канатом, смолой-варом, пропитавшим борта многочисленных лодок, водорослями гниющими, отбросами, фруктами, овощами и, конечно же, нефтью, ее производными; пахло землей, через которую веками прогоняла река свое тело; пахло небом, солнечным и дождливым; пахло жизнью. Запах Волги. Воздух Волги. Целебный, воскрешающий душу, если она занеможет на чужбине или еще в какой неволе; воздух надежды и памяти, истории нашего государства, воздух дружбы, объединившей судьбы людей с долей человечнейшей из рек Волги-матушки…
Выйдя из машины и сразу позабыв о переворошившей все внутренности дороге, Павлуша жадно уставился на открывшуюся его глазам ширь. Волга… Сколько он слышал о ней. И не в школе, в которой толком и поучиться-то не успел, и не от механических экскурсоводов — просто от людей, от жизни самой наслышался. Песни, стихи, чистые улыбки, когда люди имя этой святой для русского человека реки произносили… Случайная открытка с пейзажем, на котором свечкой — белая церковь над зелено-светлой долиной, реки торчит…
Павлуша так искренне вглядывался, радуясь видению, так навстречу реке устремился, что более уравновешенная Княжна обратила на это внимание, обошла Павлушу со всех сторон, в глаза ему заглянуть успела, а потом и за руку потянула.
— Павлик… Да что ты, миленький?! Проснись. Смычка подходит. Ты чего-нибудь забыл, да? Денежки небось? Так ты наплюй! Обойдемся… Морячка, которому билеты предъявляют, я тоже уломаю. Пропустит нас и так. Только проснись, пожалуйста. Чего уж ты так-то? Мне боязно, миленький.
— А, чего? — встрепенулся наконец. — Стою смотрю! Хорошо! Все хорошо, прекрасная маркиза! — Павлуша даже ботинком притопнул и некое коленце изобразил, хотя плясать в прибрежном песке было ему не с ноги. Обнявшись с Княжной, пошли они к сходням, а Павлуша тем временем уже другую, питерскую песенку напевал:
Дворник улицу метет — Сережа! Он танцует и поет! — Ну и что же?Очнулся Павлуша на каменном полу, по которому бегали какие-то шелковистые серые насекомые. Луч солнца, пройдя насквозь решетку маленького, не имеющего стекол оконца, вонзился в цемент пола прямо перед носом лежавшего. Пахло хлоркой, как в общественной уборной.
На деревянном топчане, поджав под себя ноги, сидел сморщенный, круглолицый, узкоглазый старичок азиатского происхождения. Старичок неотрывно следил за движением солнечного луча, который хоть и медленно, а все ж таки перемещался по полу, упрямо подбираясь к веснушчатому носу паренька, распростертого на цементе. Когда осторожный луч решил все-таки дотронуться до лежащего и тот, вздрогнув, проснулся, желтенький старичок на топчане неожиданно громко захихикал тоненьким злобным голоском.
Павлуша резко приподнял свое туловище и, упираясь в пол руками, стал с нескрываемой ненавистью рассматривать старичка, не пустившего его, Павлушу, на нары или спихнувшего его ночью оттуда, как паршивую собаку.
— Твоя пила много вчера, — заулыбался старичок пуще прежнего, не раскрывая потаенных глаз. — Твоя сам лег под нары. А моя поднимать не моги тяжелое… Моя гришу имеет в животе.
Павлуша, сообразив, что попал он скорее всего в милицию и находится сейчас в камере предварительного заключения — капезе, несколько собрался внутри, ощетинив силенки и ощутив себя как бы на прежнем, доотцовском режиме. Опыт подсказывал, что в камере необходимо сразу же заявить о себе как о «законном» пацане, воре, которому море по колено и тюрьма — мать родная. Старику хорошо бы сразу же в лоб дать. Иначе он так и будет мораль ему читать да хихикать, как ненормальный.
Павлуша хотел стремительным броском, по-кошачьи, со всех четырех «лап» приподнять себя от пола, но вчерашнее ресторанное разгуляйство изжевало его жиденькие, не закаленные трудовым опытом мускулы, внесло в них инфекцию страха, нерешительности. Однако же к деду он подскочил довольно резво и за грязный, рифленой вязки, бесцветно-серый воротник шерстяного свитера ухватиться успел.
— Ты это что же, падла! По-сонному — человека на пол кидать?!
И вдруг — боль! Острая, отвратительная, парализующая руку. Старичок сделал какое-то едва уловимое движение, что-то неладное сотворив с Павлушиной рукой.
— Ты что?! — заорал парнишка, пустив голосом петуха. — Дорвался?!
— Моя прием применила, — невозмутимо пояснил старичок. — Давай научу, хочешь? Гляди, башка, запоминай. Пригодится другой раз. Моя твоя за горло берет, понял? А ты — раз! — и мала-мала делаешь мне больно. Вот так. Моя твоя за руку берет, понял? А ты — раз! — и делаешь мне больно. Вот так. Моя твоя за брюхо берет, понял? А ты — раз! — и делаешь мне козья морда. Моя твоя обнимает, в клещи берет, а ты — раз! — и я землю кушай.
Показывал свои приемы невозмутимый старичок (да и старичок ли?) очень ловко, стремительно, и всякий раз не Павлуша ему «козью морду» делал и не старичок в три погибели сгибался и «землю ел», а как раз наоборот: усыпленный болью, Павлуша послушно сгибался и кланялся, предоставляя старичку командовать собой.
Выручил милиционер. Залязгав засовами, начал он открывать двери камеры. Старичок выпустил из своих хватких, хищных конечностей Павлушу, и тогда, ослепший от боли и обиды, мальчишка плюнул в круглое личико, да с таким остервенением, что даже натренированный старичок не успел отпрянуть, увернуться, и кровавый плевок (Павлуша губу во гневе прикусил) пулей ударился в «буддийскую» переносицу старца-болванчика.
Дежурный, делая вид, что не замечает поведения задержанных, позвал на выход Павлушу.
Пиджачок на Павлуше безнадежно завял, измятый лежанием на полу и покрытый белыми пятнами стенной известки, а также пятнами неизвестного происхождения и цвета. Не было пуговиц и ремня в брючатах. Правда, ремень ему вскоре вернули, и штаны он первым делом подтянул, укрепил, потому как нет ничего более унизительного, чем ощущать на себе падающие штаны.
Чубатый лейтенант, добродушно куривший за барьером, взял со стола пачку «Звездочки» с нарисованным на ней военным мотоциклистом, надвышиб из пачки одну папироску, высунувшуюся мундштуком наружу, протянул парнишке. Тот машинально принял угощение. Не дав прикурить, лейтенант обратился к Павлуше с вопросом:
— Малолетка? Паспорта не имеешь еще?
Павлуша охотно ухватился за протянутую лейтенантом версию, решив приубавить себе денечков.
— Да… Конечно, малолетка. Пятнадцать и три месяца. Дайте прикурить, пожалуйста, — потянулся к лейтенанту.
— Обожди маленько. Денег у тебя было сколько? Пятнадцать рублей? Так?
— Пятнадцать? — жалобно переспросил Павлуша и опять, вовремя сообразив, что с лейтенантом лучше всего соглашаться во всем, торопливо кивнул. — Кажись, пятнадцать… Точно — пятнадцать!
— Остальные, что же, прогулял? И еще вопрос: откуда денежки?
— Как это откуда? Оттуда… — бешено соображал Павлик, что бы ему такое правдашнее сморозить. И вдруг из недавнего прошлого достоверная деталь, фактик один всамделишный всплыл на помощь: картошка! Продавал же он ее, молодую, в прошлом году, когда из колонии тикал в Ленинград? Продавал… — Как откуда? А картошки вот продал. Из деревни привозил.
— Так ты что же… из деревни?
— Да. Вообще-то я городской. Эвакуированный.
— Откуда?
— Из Ленинграда.
— Из Ленинграда?! А не врешь? Хотя разговариваешь и впрямь не по-здешнему. Питерский, значитца? Ну, ну… Моя мечта голубая: до Питера прокатиться. Везде был: в Болгарии, в Югославии, на озере Байкал. А в Питере… Ну да ладно. Успеется. А ты-то когда назад домой? Может, адресок дашь? В гости зайду. Примешь?
— Приму, конечно! — весело согласился Павлуша, а сам про адресок тут же и подумал. «Шиш тебе, миленький! Знаем мы вас, придурка нашел. Дам тебе адресок, только липовый, от потолка».
— Пишите: Васильевский остров, Тридцать вторая линия, дом тринадцать дробь один, квартира пять.
— А зовут? Фамилия, имя…
«Вот шиш тебе — фамилия! Знаем мы вас…» А вслух:
— Сережей зовут. Ивановым. Отчество — Яковлевич.
— Спасибо, Сергей Яковлевич. Случайно, певец Лемешев не тезкой тебе доводится?
— Не знаю такого…
— Ну ладненько. Жди гостей. В Ленинграде. А здесь-то у кого проживаешь?
— У бабушки Килины. В Кроваткине. На той стороне Волги, — рассмеялся одними глазами Павлуша, вспомнив, какой адрес продиктовал он лейтенанту. Ведь никакой Тридцать второй линии на Васильевском острове не было никогда. А лейтенант пишет себе и пишет. Бумаги ему не жалко.
— В Кроваткине… Это что же — Костромской области?
— Вам видней.
— А мы с тобой где сейчас находимся?
— В Кинешме.
— А город Кинешма какой области?
— Ивановской.
— Правильно. За географию пять. А за то, что пьяный вчера ругался и сегодня на старика Ювана плюнул, десять. Рублей, конечно… Из другой области притопал и — плюешься и… Нехорошо. Итого, за вычетом штрафа, — пятерку тебе на руки. Получи и распишись. Под протоколом о задержании. Хотя ты и малолетний по слухам; на всякий случай — не помешает бумажка… Оставлю на память. На вид тебе пятнадцать, а на самом деле — одному богу известно, сколько. Вон дедушке Ювану на вид семьдесят дашь, а по документам полста. Ну, Сережа, или как там тебя, счастливого возвращения в мечту моего детства — любимый город России — Ленинград.
— Спасибо, до свидания.
— До свидания на Тридцать второй линии!
Выйдя на свет из прохладного, лишенного окон помещения, Павлуша сразу же попал в гущу базарной толпы, сообразив попутно, что ночевал он в камере тутошнего пикета, на территории рынка.
И сразу же в памяти обрывки вчерашних похождений всплывать начали. В ресторане с Княжной были? Были… Где? На пристани или на вокзале? Туда и туда заходили… Съели по солянке сборной. По винегрету опять же… И чего-то такого ужасненького выпили. Княжна заказывала. Потому что на Павлушу пожилой официант — инвалид с деревянной ногой — посмотрел неласково и обслуживать, водку ему приносить как бы отказался. Так ведь Княжна-то кого хочешь уговорит! Потом вдруг денег очень мало осталось. И сама Княжна исчезла. Он долго искал ее, бегая по рынку, намозолил глаза всем. Вот его и забрали. Снилось ему или нет, будто Княжна на пароходе куда-то от берега отплывала и рукой ему долго-долго махала…
Одно было ясно: в Жилино к отцу возврата ему больше нет. Деньги, триста рублей, целая пачечка, скорей всего казенные, отпущенные отцу на нужды школы, исчезли за вечер. Не ахти какие денежки по тем суровым временам, но ведь денежки…
Грустно было Павлуше ощущать себя врагом отца, его обидчиком, причинившим вред, а может, и беду.
Глава двенадцатая. Возвращение
Люди на рынке, казалось, не торговали, а занимались какими-то несерьезными делами: вот дядя с красным, будто ошпаренным лицом держит в руке фанерку на манер теннисной ракетки, слегка раскачивая ею перед собой. А на фанерке у него глиняные курочки стучат-клюют весело. В другой руке у дяди меж двух лучинок — деревянная обезьянка вращается, ногами дрыгает. Еще один дядя, сидевший прямо на земле и не имевший вовсе ног, на маленьком фибровом чемоданчике предлагал желающим сыграть в «три листика». С невероятной быстротой менял он местами три карты на поверхности чемодана. Затем показывал соблазненному, то есть партнеру по игре, одну из карт и настоятельно просил, даже умолял слезно — следить за его руками, чтобы через энное количество секунд вступивший в игру мог угадать нужную карту. Еще один сообразительный инвалид привлек себе в компаньоны какое-то непонятное животное — то ли крысу, то ли собачку такую крошечную, смотревшую на мир вытаращенными пузырьками глаз и по сигналу инвалида достававшую из прозрачного плексигласового ящичка скатанный в трубочку билетик, предсказывающий твою дальнейшую судьбу. Бывший морячок в остатках тельняшки, сидевший на земле с единственной и оттого казавшейся очень длинной, вдаль протянутой ногой, просто играл на шикарном, сверкающем разноцветным перламутром аккордеоне. И пел. Высоким кликушным тенором. «На позицию девушка провожала бойца…» Допев эту довольно длинную, дополненную куплетами собственного сочинения песню, без малейшей паузы начинал щедро «Раскинулось море широко…», затем «Маруся отравилась синильной кислотой…» и так с утра до обеда, затем пауза на принятие под винегрет в рыночной столовке, снова — музыка! Печальная, земная, грешная, пропитанная кровью, гневом и слезой. Музыка времени. «Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война…»
А купля-продажа, торговля, на фоне этой музыки хотя и имела место, но пряталась как бы в тени. Ходячие инвалиды предлагали штучные папиросы, шустрых мальчишек отгоняли от себя клюшками; продавалось много самодельных конфет: петушков на палочке, черных, нарезанных ромбами маковок; продавались морс ядовито-красный на сахарине, семечки и даже мука — не на вес, а всего лишь стаканчиками, а то и рюмочками. На базаре люди просто сходились поговорить о событиях в мире, о политике, ценах, семейных дрязгах, слухах, о редких нежданных радостях и даже о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, чаще — трофейных, заморских. Подвыпившие шелестели безобидными анекдотами.
На базаре общались. Место это, соседствующее с парадной городской площадью, отгораживалось от этой площади забором и всевозможными ларями, киосками, павильончиками; другой же своей стороной нависало оно над неукрепленным, песчаным, постоянно осыпающимся высоким берегом Волги. Несколько недорогих дощато-фанерных рыночных сооружений угрожающе накренились к воде и, покинутые обитателями, ждали неизбежной участи старинного мясного навеса, полностью съехавшего в прошлый паводок в мутные, мусорные волны и уплывшего вниз по течению…
Павлуша любил рынок. Для него он был одним из тех мест, где можно наблюдать происходящее, не вызывая у блюстителей порядка тревоги и подозрения. Здесь люди чувствовали себя как бы в полудомашней обстановке. Могли подмигнуть, подарить улыбку или затрещину, спеть могли и сплясать задарма, рассказать «случай»; здесь кормилось много птиц, в основном голубей, воробьев, на подхвате шныряли вдоль и поперек веселые голодные собаки, таились робкие, менее решительные к действиям кошки. Беспризорному или находящемуся в бегах от родителей, школы или колонии малолетке на рыночном пространстве тоже иногда кое-что перепадало: упавшее с прилавка и покатившееся по планете яблоко, горсть семечек, взятых «на пробу», или втоптанный в землю сладкий леденец, который, если его подержать под артезианской струей водоразборной колонки, можно смело использовать, то есть — скушать.
В каждом посещенном городе и, естественно, в Кинешме у Павлуши имелось еще несколько почитаемых мест, где на тебя не очень-то обращают внимание и где наверняка пусть не сразу, но непременно можно будет чем-либо поживиться. И прежде всего это — вокзал. А летом в навигацию — пристань. Далее, масштабом поменьше, причислялись Павлушей к «кормящим» местечки общественного питания: буфеты, столовые, распивочные забегаловки, где подгулявший или мрачно вошедший в «штопор» выпивоха мог и рублем невзначай одарить, а то и порцию чего-то остывшего, с воткнутым в пищу окурком, после себя оставить. Реже, только в крайнем случае, посещал Павлуша в бродяжнические будни церковь. Место это тихое, непонятное, какое-то печальное, где собирались люди не веселиться и выяснять отношения, а для того чтобы помолчать, а то и поплакать. В прохладном, как пещера, помещении стояли или медленно передвигались в основном в черненькое закутанные старушки с заплаканными или никакими, припрятанными глазами. Сидели и тут инвалиды. Возле церковных дверей. Но здесь они ничего не пели, ничем не торговали, а только, положив перед собой кепку, ждали чего-то… А скорей всего — денег, которыми делились заплаканные старушки. Павлуше здесь ничего не перепадало. Притягивала разве что тишина. И не похожая ни на что торжественность. Как будто все чего-то ждали. И казалось, вот-вот дождутся. Не подождать ли и ему? Но больше манило сюда другое. И опять же не что иное, как деньги, имевшие и в этой благостной тишине свое хождение. Однажды видел Павлуша, как некий церковный старичок, забавно одетый в театрально яркие одежды, нес на руках сквозь толпу старушек красивое серебряное блюдо, а на нем лежали деньги. Монетки и бумажки. «Значит, и здесь чем-то торгуют… А стало быть, и поживиться можно».
Кинешемская церковь какой-то особой, редкостной красотой не отличалась. Таких обязательных, непременных храмов вдоль опушенного лесом верхнего течения Волги было в свое время как грибов в урожайный год. Теперь же, когда строений этих, не столь, как прежде, необходимых, изрядно поубавилось, то и красота их необъяснимая, устремленная от земли к небу, как бы выпуклее сделалась и обращает на себя внимание резкой неожиданностью, нереальностью линий и красок. Подплываешь ты, скажем, на рассвете к городу и видишь с борта древнего пароходишка, трясущегося от усердия и дряхлости, не просто ряд серых домишек и труб закопченных, фабричных рощицу, но и нечто непонятное, светлое, расположенное в городишке на самом видном месте. Белые стены, пусть не золоченые, а всего лишь синие или зеленые купола, обязательные колокольня и крест, царапающий небо. Ничего сверхъестественного в общем-то. Штришок всего лишь дополняющий, а состояние в пейзаже праздничное. И вот что удивительно: присутствие штришка придает виду некую завершенность, как на старых полотнах, изображавших Русь.
Выйдя с территории рынка, Павлуша направился к берегу Волги и, неожиданно для себя, очутился прямо возле церковной ограды, у подножия высокой, обмотанной сверху кружением птиц, как старушка косынкой, колокольни. Птицы — воробьи, галки, вороны и голуби — кричали, поскуливали и даже шипели друг на друга, разевая красные изнутри клювы. Неизвестно, за что они боролись, что отстаивали, шумя крыльями и посыпая околоцерковную территорию пометом и выпавшими в суете перьями. Павлуша, единственный, кто обратил на них внимание, задрав голову, долго следил за их перемещениями вокруг колокольни, а когда опустил глаза до обычного уровня — сразу же отца увидел перед собой, очки его темные, внимание прохожих привлекающие.
Отец был не один. Под руку, как слепого, вела его по булыжной мостовой девушка, аккуратно, в чистейшую белую кофточку и черную шерстяную юбку одетая. «Ну конечно же — Евдокия!» — обрадовался почему-то Павлик.
Вышли они откуда-то из-за церкви, из-за ее громады, потому так неожиданно и возникли. Павлуша не пытался увильнуть. Его как бы сковало, свело при виде родителя. Кровь пропитала щеки, прилила к голове, закипев в корнях волос: сделалось жарко и жутко.
А Евдокия уже заметила его и узнала. Всего-то и виделись однажды тогда, весной, во время ее инспекторской поездки в Жилино, а поди ж ты — запомнила. Да и отец уже очки снимает и висок себе пальцем массирует. Соображает, наверное, как и что.
— Павлик… Случилось что-нибудь? Произошло? — Отец почему-то галстук начал поправлять, узел под подбородком расшатывать. — С Лукерьей что-нибудь? Или… школа?
— Деньги. Которые в шкафу на полке лежали. Триста рублей… — Павлуша, готовый вот-вот заплакать, не мигая смотрел отцу в глаза.
— Деньги? Всего лишь? Фу ты, господи! Успокойся. Обокрали, стало быть? Кто же это? Хотя мало ли. Вон сколько их шляется по лесам, амнистированных. Погоди-ка, ружье у нас будет. Встретил я тут дружка одного старинного, лесника. Воздвиженского Федора Иваныча. Одарить хочет ружьем. У него теперь новое. Вот мы и займем оборону.
— А… в Ленинград? Ты что же, не думаешь в Ленинград возвращаться? — Павлуша весь напрягся и зло так посмотрел с прищуром на обоих. — А ведь вы знаете, прекрасно знаете, что мама моя жива! Да, жива… И скрываете. Подло это! Да, подло… И деньги я украл! Потому что в Ленинград хотел уехать. К маме! Вот.
— Как же так? Не предупредив, тайно от всех… Разве так можно? — сморщился Алексей Алексеевич.
— А про мать можно не говорить? Можно, да?! — Слезы рвались из глаз наружу, рукавом пиджака смахивал он их, прогонял, а они все выплескивались. И тут вдруг чистенькая, аккуратная Евдокия смело и крепко, даже дерзко, обхватила его, прижала к своей белоснежной кофточке мокрое лицо парнишки и долго-долго не отпускала от себя. А Павлуша и не сопротивлялся почему-то. Как ни был он ершист и самостоятелен, какие огни с водами ни прошел, а под напором ласки не устоял. Да и сочувствие неподдельное ощутил в судорожных объятиях молодой женщины, какую-то безрассудную жалость материнскую в ее движениях уловил.
И тут вдруг заплаканной щекой своей уперся он во что-то упругое, ошеломляющее своей реальной таинственностью. Грудь. Ее, Евдокиина, под белой кофточкой. Сообразил и сразу же вырываться из ее рук начал. И наконец отпрянул — красный, испуганный, еще более растерянный и как бы пришибленный происходящим.
— Это… это страшная несправедливость! — прошептала она, глядя Алексею Алексеевичу не в очки, а куда-то ниже, в подбородок. — Вы, Алексей Алексеевич, должно быть, не понимаете, как жестоко поступили… Простите, но жестоко! Ужасно. И ради чего?
— Ради будущего Павлуши! Ему семилетку необходимо закончить. А сделать он сможет это только у меня.
— И что же? Ради какой-то семилетки…
— Да! И еще раз да! Иначе ему погибель. Только железной рукой.
— А мать?! — закричала вдруг Евдокия, да так, что церковные старушки на паперти вздрогнули, а с колокольни птицы потревоженные снялись.
— А мать, что же… Мария… Она ведь сама от всего этого отказалась…
— Что?! От сына отказалась? Не верю!
— Она замуж вышла. Ты ведь знаешь, Дуняша.
— От вас отказалась. Но при чем тут сын?
— Да потому, что я отвечаю за него! Я, черт возьми, тоже его люблю, вот почему! Еще одну зиму, только одну… И я подготовлю его. Я верну его для жизни… Вот на что я поставил. Сделать из него интеллигента! А для этого ему Ленинград необходим.
— Для этого не Ленинград, — задумчиво посмотрела в глаза учителю Евдокия, — для этого душу живую необходимо иметь.
Разговаривая так, все трое незаметно для себя спустились по булыжному съезду к воде. Взрослые, размахивая руками и часто оступаясь на неровностях дороги, шли впереди Павлуши, который плелся следом за ними, все еще судорожно, хотя и бесслезно вздрагивая.
Евдокия посадила их на паром, долго махала им обеими руками, провожая. Посылала Павлуше потешные воздушные поцелуи, улыбалась жалостливо и преданно. И тут, когда смычка от берега отплывала, оба они увидели, как с Евдокией что-то такое произошло, непонятное, возмутительное. Какая-то тетка или бабка, наглухо повязанная черной косынкой до бровей — так, что лицо белело из платка маленькое, с кулачок, — вдруг, подойдя к Евдокии, толкнула ее кулаком в грудь, а затем и ладонью по щеке смазала. Евдокия растерянно улыбалась все эти фантастические мгновения, как бы не различая перед собой старухи. А пожилая в платке что-то кричала, словно речь произносила перед толпой на трибуне, утопая в прибрежном песке малоподвижными ногами.
— Что это?! — воскликнул Павлуша, как только ударили Евдокию. Рука его потянулась к берегу, указывая отцу на происходящее, а видевший плохо Алексей Алексеевич сорвал с себя синие очки, дернулся было в сторону трапа, вытащенного матросиками на палубу смычки, и, сообразив, что бессмысленны его порывы, обратился к Павлуше:
— Что там произошло? Ты хорошо видел?
— Бабка какая-то… в черном платке без лица… Евдокии нашей как врежет по щеке! А Евдокия даже сдачи не дала. Только смеется. А могла бы и садануть! Молодая, спортивная, а завяла…
— Стыдись, бабушку бить…
— А бабушкам драться можно? Меня там не было…
Отец опустил голову, задумался. Он-то знал, чего домогалась Редькина, эта богомолка неверующая, в платок черный запечатанная. Винить ее было смешно. В той школе, где учительствовала Евдокия, работала одна молодая особа, доводившаяся Редькиной дочерью. Парой слов Алексей Алексеевич с той молодой особой перебросился, всего лишь. Но этого было достаточно, чтобы возомнить невесть что. Женихов тогда, после войны, нехватка была. Многие бойкие женщины цеплялись за кого попало, лишь бы семью соорудить. Вот и жилинский учитель нарасхват шел. Короче говоря, возомнила старуха Редькина, что жених он, этот чернявый учитель, а за свое счастье — разве не постоишь?
— Эта женщина… которая ударила Евдокию, — больная, убогая. Нервы у нее, Павлуша, не в порядке. Она уже подходила сегодня ко мне. И тоже приставала.
— Психованная, что ли?
— Отчасти… У нее, видишь ли, дочка есть. Такая же, как Евдокия. И ей, понимаешь ли, обидно, что я с Евдокией, а не с ее дочкой познакомился.
— Ну дает бабуля! Лечиться ей нужно. Послушай, отец, а мама моя, она что, тоже кого-то полюбила? Почему она замуж-то вышла? Разрешения у тебя не спросила?
Отец раскрыл было рот, хотел сказать, что не знает подробностей. Напрашивались недобрые мысли, но Алексей Алексеевич вовремя удержал себя от необдуманных слов.
— Павлуша, ты должен знать: мама твоя очень хороший человек. И она — я это точно знаю — никогда не переставала любить тебя. И вы с ней скоро увидитесь. Будущей весной. А мы с ней… как бы тебе объяснить… не любим больше друг друга. Да и не любили, скорей всего, никогда. Вначале, когда мы с ней встретились, нас захватило прекрасное, светлое чувство. Но это не была любовь. Теперь, когда прошло много времени, — и какого времени! — теперь стало ясно: мы обманулись. И вот мама встретила человека, который необходим, который роднее, нежели я, для нее… Но, учти, она зовет, помнит и любит тебя. Я не хочу тебе говорить: выбирай, кто из нас достойнее, кто из нас роднее для тебя, — к тому и ступай. Нет! Так поступить я не могу. Я хочу, чтобы ты для нас обоих, для меня и для матери своей, оставался сыном. Ты уже взрослый почти. И скоро поймешь, что я прав.
— Ладно, понимаю. Чего уж тут сложного. Только вот зачем скрывал от меня про то, что она живая? Нечестно…
— Я, конечно, виноват, Павлуша. Признаю, прости. Растерялся. Но ведь для пользы дела скрывал! И Машеньке запретил до поры с тобой видеться. Чтобы ты от основной цели не отвлекался, чтобы на правильный путь твердо встал. Ты все равно к ней поедешь скоро в Ленинград. Потому что и она туда скоро вернется.
— А где же она?
— В Ташкенте. Но прописка ее ленинградская не пропала. Как, собственно, и моя… Бронь. На время войны. Сдашь весной за семь классов. Я уже договорился здесь, в Кинешме.
— С Евдокией?
— Не задирайся. А Евдокия, конечно, в курсе всего. Так что — сядешь и поедешь. Вот и весь мой коварный план против тебя.
— А ты со мной разве туда не поедешь?
— Нет. Я тебя ждать стану. На каникулы. Я теперь сельский… Опять сельский. От себя не уйдешь. И права Евдокия: интеллигентно жить нигде не возбраняется. И самим собой оставаться — тоже.
— Вы с Евдокией поженитесь?
— Если позволишь. Хотя… нужен я ей! Сам видишь: старый уже я.
— Не прикидывайся. Какой ты старый. Мужик как мужик. И симпатичный вдобавок.
— Ну, это ты хватил.
— Послушай, отец, а мне твоя Дунька нравится! Добрая. Справедливая. И сильная… Она бы если ту бабку двинула — хоронить не надо: пылью б рассыпалась старушенция!
— Во-первых… — Алексей Алексеевич начал снимать очки и вдруг покачнулся от толчка, едва не выронив окуляры в Волгу: это смычка наконец-то уперлась бортом в старые автомобильные покрышки заволжской пристани. — Во-первых, приехали. Дорога у нас с тобой длинная, на целый день ее хватит, так что успеем наговориться. Но дело не в этом. Почему — Дунька?! Грубо так почему, черт возьми?! Вот что возмутительно. Откуда это у тебя? Хотя ясно откуда… Сам говоришь, что добрая, хорошая, — и так грубо, по-уличному: Дунька!
— Подумаешь, цаца! Что мне ее, по имени-отчеству?
— А почему бы и нет? Она учительница и старше тебя.
— Хорошо. Как там ее… по батюшке?
— Гавриловна. Евдокия Гавриловна. А что?
— Как что? Вот и стану теперь Гавриловной ее звать. Очень красиво звучит. Будто старушка какая.
Алексей Алексеевич за Павлушкино плечо цепко ухватился, потому что в этот момент толпа поднаперла, и, чтобы не потерять друг друга, пришлось сойтись более тесно. Так они и по узким вихляющим сходням, чуть ли не обнявшись, на берег переместились.
Возле воды, где дорога, спускаясь с берега, делала широкую петлю для разворота машин и телег, на густо помеченной мазутными пятнами и конским навозом площадке всегда можно было договориться с попутным шофером или, по крайней мере, с возчиком на предмет «подброски» в тот или иной глухой уголок Заволжья.
Сейчас на этом бойком пятачке постукивал сработанными «пальцами» двигателя один трехтонный «зисок» с дырявым, измочаленным кузовом да стояла плюгавая полуторка, вся увешанная клочками серой ваты, обрывками пряжи, лоскутами разноцветного тряпья.
Учитель, наведя справки у суматошных бабешек, нагруженных пустыми бидонами и перекинутыми через плечо котомками, выяснил, что полуторка с Долматовской ткацкой фабрики и что можно было бы и на ней пуститься, если бы не второй вариант — с трехтонкой, которая пробиралась еще дальше, за Долматовскую, вверх по реке Мере, чуть ли не до самого Козьмодемьянского, откуда через Кроваткино до Жилина всего пять километров.
В деревянной кабине ЗИСа кто-то уже сидел, какой-то счастливец. Учитель с Павлушей забрались в кузов и сразу же прислонились к кабине, держась за ее крышу, так как пол кузова пестрел проломами и передвигаться по нему было небезопасно. Неожиданно, в самый последний момент, когда уже тронулись было с места, в кузов с необыкновенной энергией стали запрыгивать какие-то люди, которые сразу же садились на дно «экипажа» и весело вертели головами в разные стороны, словно спрашивая у окружающих: с чего бы это нам так повезло? Видимо, людишки эти не имели определенной суммы, которую с них затребовал шофер, и держались они до поры до времени в тени, а когда транспорт двинулся, улучили момент и — в кузов!
Старенькая, но, должно быть, очень выносливая машина, крича мотором, как истязаемая скотина, наконец-то выбралась на высокий берег по булыжному подъему и там, на обдуваемой ветрами высоте — неожиданно для всех — остановилась. Открылась дверца, не имевшая стекол, на подножку ступил небритый, немытый, но, как ни странно, веселый, хотя и пожилой, дядька-шофер. Вот он уже и рот раскрыл, зубовной сталью предупреждающе сверкнул, приготавливаясь схватиться с «зайцами», и вдруг, сокрушенно плюнув на дорогу, поднял руку, вытаращил огромный, как палка, указательный палец и угрожающе помахал им перед носом какой-то хихикающей старушки. Затем нырнул задом в свою кабину, как скворец в скворечню, со страшным скрежетом переключил зубчатку скоростей и сперва не очень быстро, а потом все быстрей и быстрей погнал по Семеновскому тракту, раскочегарив урчащий, неприхотливый «зисок» до вполне приличной скорости.
Ветер сразу же гладко причесал волосы у стоявших возле кабины Павлика и его отца. Говорить не было никакой возможности. Стоило приоткрыть рот, как встречный воздух набивался в него ощутимым, упругим комом, и слова застревали, не произнесенные, не вытолкнутые наружу. Тряска в кузове была неимоверной, неправдоподобной. Люди, казалось, летели по воздуху, не опускаясь на доски кузова, удерживаясь обеими руками за борта и дыры машины. Алексей Алексеевич снял, спрятал под плащом очки, боясь, что они могут упасть и разбиться. Трясло возле кабины полегче, зато ветер наваливался со всей силой.
— Павлуша! — позвал Алексей Алексеевич, повернувшись к сыну лицом. Росту они были почти одинакового, еще год — и наверняка сравняются. — Павлуша… А ведь ты прав… Не стоит ее Гавриловной звать. Действительно некрасиво, старомодно как-то…
— А я тебе что говорил?! Дунька она! Дуняша!
— Не хулигань! — заслонялся рукой от ветра Алексей Алексеевич. — Не смей… ее Дунькой… А Дуняша — хорош-шо! Хорош-шо — Дуняш-ша!
Павлику нравилось, что отец, вдруг таким дурашливым сделался, таким веселым и молодым. А что? Отец у него хоть куда! Ни лысины, ни, тем более, пуза. Очки свои мрачные снял, стройный стоит, сильный. А умный! Не голова — Дом Советов!
И вдруг Павлуша про деньги вспомнил. Про зелененькие трешницы, которые в Кинешме с Княжной Таракановой распушил. И сразу словно кто за желудок его холодной, в резиновой перчатке рукой взял!
— Отец… — сначала тихо, раздумчиво позвал. На ветер отнес это круглое слово, как надувной резиновый шарик, что в Ленинграде на демонстрациях люди над головой носят. И тогда Павлуша отца за рукав плаща взял и тихонько так на себя материю потянул.
— Ты меня?
— Тебя. Послушай, папа… Почему ты про деньги меня не спрашиваешь?
— Расскажи сам.
Шофер резко тормознул перед изрядной колдобиной. Павлуша так и влип в отца. И тут Алексей Алексеевич полуобнял сына и долго не отпускал его от себя, покуда тот не осмелел и не выговорился.
— Нету их уже… денег этих. Я в милиции ночевал. Ты меня… прости, пожалуйста. Я работать пойду… Все тебе до копеечки отдам! Веришь? Ну, кивни… Ну, моргни хотя бы… Да?
— Чего уж там… Верю я… Надеюсь. Уповаю, как говорили в старину. На кого ж мне еще рассчитывать, как не на тебя, сынок? А деньги, Павлуша, — зло. Учти это раз и навсегда. И богу этому не молись: не поможет.
В Козьмодемьянском, изжеванные ветром, пришибленные тряской, овеянные пылью, покинули сквозной, полупрозрачный кузов машины. На землю ступили нетвердо, словно после длительного межпланетного перелета.
Облезлая церковь Козьмы и Дамиана с отпавшей, обнажившей красный, мясного цвета кирпич штукатуркой выглядывала из кладбищенской зелени, как большое запущенное надгробие на могиле старой деревни. Павлуша вдруг с непонятным смущением вспомнил, как пару месяцев назад под весенней звонкой грозой целовался он на этом кладбище с Танькой Таракановой. Вспомнил и осторожно — краем глаза — на отца посмотрел: «Интересно, а взрослые так целуются или по-другому? Отец с Евдокией целовались? А почему бы и нет? Все целуются. Вон даже голуби возле колокольни…»
Когда проходили безлюдной, пахнущей яблоками и навозом улицей села, возле последней, окраинной избы со скамеечки, такой низкой, словно провалившейся в землю, поднялся им навстречу дедушка с лицом отрешенным, не имеющим выражения. Глаза его были слепыми, зрачки, словно белыми прозрачными льдинками, покрыты бельмами. Дед был высок и опирался на тоненькую, почти прутик, палочку ореховую. Лицо почему-то белое, кожа лица не деревенская, без загара-дубления, борода прозрачная, не заслоняющая лица. На голове фуражечка со светлым верхом, помещицкая как бы. Белая нижняя рубашка выпущена прямо на темно-синие офицерские галифе, явно не свои, а сыновние или еще чьи. На ногах галоши на босу ногу.
Дедушка этот, выпуклый, рельефный, вероятнее всего, заслышал приближение учителя с сыном еще издали, заранее, потому что на большом от них расстоянии привстал, ожидая.
«Наверное, закурить попросит», — решил про себя Павлуша. Алексей же Алексеевич заметил старика в самый последний момент, так как шел, задумавшись о своем, тем более, что скамеечка, с которой дед приподнялся, пряталась целиком в ароматной тени раскидистой яблони, обвешанной розовеющими, «мордастыми» плодами штрифеля.
Остановившись перед дедом, учитель соображал, что же ему — такому красивому, с такими страшными глазами — надо?
А дед потянул воздух носом, обнюхал путников и, что-то поняв, отвернул свое мраморное лицо прочь. И вдруг смилостивился как бы, спросил нехотя:
— Што, война-то… совсем перестала? Или разговоры одне? Откуль сами-то? Городские?
— Бывшие городские, дедушка. А нынче жилинские. Учитель я. А вы что же, газет не читаете? Извините, радио не слушаете? Война уже давно закончилась…
— А мне приятно услышать. Вот и спрашиваю. Да и ничаво она не закончилась. Убивают, слышь-ко… Чую: плачут человеци невинные. Воплям жалосливым внемлю… Ничаво не закончилась, а только малость притихло. А я-то слышу. У меня слух што надо! Не радиву твоему чета. А из города сюда почему? Вытурили али как? Сейчас народ-от весь в город бегит. А вы что же супротив ветру?
— Отдохнуть, знаете ли, хочется, успокоиться после всего, что произошло, — почему-то принялся объяснять свое в здешних местах присутствие Алексей Алексеевич, удивив тем самым Павлушу, который воспринимал отца человеком не очень-то компанейским, малоохотливым на слова.
— Опосля чаво отдохнуть-то собираетесь? — невозмутимо, с каменным выражением лица вопрошал дед. — От трудов праведных устают. А где оны — праведные труды?
Дед явно хотел поговорить, освободиться от терзавших его мыслей. За рукав учителева плаща огромной своей ручищей костлявой ухватился. Павлик отца с другой стороны подталкивает, сдвинуть, увести пытается.
— А разве война, в которой мы землю свою отстаивали от нашествия, — не праведный труд был? — Учитель подбросил солдатский вещмешок за спиной, пытаясь тем самым сползавшую с плеча лямку на место возвратить.
— То-то и оно, што не так. Война — это што такое? Стихея! Как вот засуха или мор. И от людей сея стихея не зависит. Вот как урожай. Даст боженька погодку радостну. Дождики, солнышко теплое… всего в меру. Вот он и урожай. А не даст… Никаки ваши химикалы, никако колдовство ученое, суетливое не споможет. Сгорит, вымерзнет, на корню съябурится.
— Что-то вы такое странное говорите, дедушка. Вы уж извините, только мы пойдем. Недосуг нам. Впереди еще дорога. А мы устали.
— Впереди не дорога… Впереди радость вечная.
— Всего доброго вам, — торопился учитель, пытаясь плащ свой от тяжелой руки старца освободить. — Как-то вы, извиняюсь, странно рассуждаете. Война у вас стихия. Гитлер, что же, по-вашему, тоже стихия?
— Аще чаво! Стихе-ея… Крупица он малая от стихеи, твой Итлер. Дождина или градина, из тучи летящая. А стихея-то куда шибче! У нее, у стихеи-то, под рукой целые земли, как мячики, скачут! Вот оно како-сь по нашему-то раздумью. Наслухались радива — вот и бягите хто куда… Глазы-то залупивши.
Наконец отцепились от словоохотливого старика. Шли теперь скорым шагом, словно боялись, что дед поднатужится и еще до того, как они углубятся в лес, настигнет их, увяжется за ними, чтобы лишить их на дороге покоя.
Было далеко за полдень, а точнее — стрелки на отцовской трофейной штамповке четыре часа показывали, когда густой, непроглядный еловый лес, на дне которого и трава не росла, одна хвоя многолетняя сухая землю выстилала, неожиданно кончился, не поредел и постепенно на нет сошел, а сразу стеной оборвался, и Павлуша с отцом из него, будто из темного, гигантских размеров здания, наружу вышли.
Со всех сторон окруженная лесом, показалась на еще зеленом травянистом взлобке понурая, серенькая деревушка.
— Кроваткино! — узнал, определил Павлуша, заметив характерный журавль над колодцем и рядок старинных, полуживых деревьев вдоль улицы перед порядком домов. А вон и дуб возле Акилининого «колдовского» домика, где они с лесником Воздвиженским чай пили. Но что это? По деревне бегали собаки, ребятишки… Лошади звякали погремушками, паслись, траву щипали. Дымом живым от деревни несло, пахло. И даже какая-то музыка в воздухе висела и голоса! Голоса людей. Кроваткино, мертвое, нежилое Кроваткино дышало…
— Смотри-ка, отец! Живут в Кроваткине! Ведь никого не было…
— Живут, — улыбался отец, вглядываясь в деревню, как в зазеленевшее после обильного дождя, сухое, уже отпетое ветрами дерево. — Живут, надо же! Неужто вернулись? Или… да нет. На дачников не похоже. Вон и скотина, и телеги. И мужик руками машет… Траву косит.
Из деревни навстречу им выкатился какой-то клубок тел, поднявший над дорогой небольшое облако пыли. Чтобы попасть в Жилино, не обязательно в Кроваткино заходить: на развилке жилинская дорожка, а вернее, тропа, забирала круто вправо. Учитель так и хотел спервоначала поступить, но, завидев шевеление жизни в Кроваткине, передумал. Необходимо было воочию удостовериться в происходящем: откуда, что, почему люди?
Тем временем быстро-быстро перебирающий лапками клубок тел подкатился к ногам путников. Сближение произошло на разветвлении путей. Резко затормозив перед учителем, клубок в ту же секунду распался, и на дороге, тяжело и радостно дыша, нарисовались две лохматые красноязыкие черные собаки среднего роста и мальчик! Вылитый цыганенок. Смуглый, полуобнаженный, с черным костром волос на голове.
И сразу все стало понятно… Алексей Алексеевич сбросил на землю перед собой заплечник, развязал-расшнуровал горловину мешка. Достал из его глубины три небольшие конфетки-«подушечки», начиненные кислым повидлом. Протянул цыганенку.
— Тебе и твоим собачкам, — улыбнулся Алексей Алексеевич, завязывая мешок.
Мальчонка, не улыбаясь, высоко подпрыгнул над дорогой, проделав что-то забавное, плясовое ногами. Затем, так же молча, раскусил одну «подушечку» пополам, протянул сперва одной шавке, затем другой — по кусочку мизерному. Собаки мордами своими тянулись осторожно со вниманием и тактом. Слизнув угощение, сразу же возвеселились. А цыганенок, положив за щеку оставшиеся конфетки, зыркнув горячим глазом на Павлушу, вдруг снялся с места; собаки его моментально обогнали, и вся лохматая троица понеслась назад к деревне.
— Так что вон какие здесь жители поселились, Павлушенька… Цыгане, стало быть, заехали. Табор остановился. Может, на зиму решили расположиться?
Глава тринадцатая. Новый год
Осень осталась незамеченной. Оттого ли, что была яркой, прозрачной, теплой, а главное — не дождливой, не занудной, похожей на лето, оттого ли, что зима наступила сразу, без подготовки? Только сузилось, сжалось это обыкновенное унылое время года меж зимой и летом до едва уловимой щелочки.
Дети пришли в школу как бы еще летом: сентябрь блистал солнцем, синевой, дал много грибов после коротких, но мощных, местами грозовых, дождей.
Павлуше осень, то есть серенькое пространство во времени меж днями, когда облетели на деревьях листья и выпал первый, сразу же утвердившийся, заматеревший снег, запомнилась одним событием: письмом от Княжны Таракановой, которая исчезла тогда, в Кинешме, во время их воровской ресторанной прогулки и не подавала о себе вестей около месяца. Девчонка рванулась тогда в Ленинград, будто из клетки выпорхнула. Едва через Волгу переправилась, паровозный гудок, долетевший до ее ушей с вокзала, заслышала — сразу же небось и завелась. Деньги на билету пьяного Павлуши «позаимствовала» и незаметно с поля его зрения испарилась. Матери открытку уже из Ленинграда, когда официанткой в ресторане Московского вокзала устроилась, опустила: «Живу хорошо, чего и вам желаю. Приезжайте, мама, а то я у тетки Ани временно прописалась, а нам своя площадь положена. Надо вам заявление самой подать, так как вы есть совершеннолетняя, а я только через три месяца. Целую, Танька. Всем привет, особенно учителеву Павлику. Ему отдельное письмо будет».
В письме к Павлуше Татьяна культурно извинялась за то, что без предупреждения взяла деньги, так как Павлуша, по ее словам, на вопросы тогда не отвечал и сидел «вовсе без памяти». Да и на поезд она торопилась. «А насчет нашей любви — не беспокойся. Вернешься в Ленинград, заходи прямо с поезда ко мне в ресторан. Денежки — сто двенадцать рублей — отдам все до копеечки. Только по средам у меня выходной. Жду ответа, как соловей лета».
Павлушу побег Татьяны поверг в некую приятную для него меланхолию, он сразу же напустил на себя дымку «разочарованности в жизни», так как недавно прочел с отцом «под винегрет» «Евгения Онегина» и сразу же «Героя нашего времени». При посторонних сжимал теперь губы дольше обычного, хмурил брови, глубокомысленно вздыхал и с пренебрежением отчаянно сплевывал на заиндевелую траву.
Первая любовь получилась, как и положено, «трагической», «неудачной». Павлуша даже стихи начал писать.
О ты, которая сбежала, Еще заплачешь, погоди! Пускай любовь моя кинжалом Торчит в изменческой груди!Зима ошарашила необыкновенной чистотой и упругостью обдутого ветрами снега. Побелело за одну ночь. Снег начал падать с вечера, законопатил, оштукатурил все выбоины на равнинах, просочился сквозь ветви на дно леса, шел кряду часов десять. Утром небо разъяснило, на земле подморозило. И так он и остался, снег этот внезапный, курьерским поездом налетевший, лежать на здешней земле до будущей весны. На него еще многими слоями настелются потом другие, более свежие, новые снега, по которым запляшут метели и пурги, а то и оттепели влипнут, вгрызутся в поверхность метрового покрова, но тот внезапный самый первый снег, резко отграничивший осень от зимы, останется там, возле земли, на ее «коже», чтобы весной, в половодье, в щебете примчавшихся с юга скворцов, под звонкое бульканье ручейков истаять последним.
Павлуша, пока свет, целыми днями бегал на лыжах. Отец, занятый в школе, чуть меньше стал уделять внимания сыну. Хотя и спрашивал заданные уроки по-прежнему строго, без поблажек. Но то ли приспособился Павлик «долбить» науку, то ли впрямь умнее сделался, только все он теперь усваивал гораздо быстрей, сноровистей, шпаргалок на ладонях почти не писал. Успевал не только заданное «переваривать», но и много книг хороших, которые у отца имелись, добровольно прочел, порядком истощив запасы школьного керосина, с которым, кстати, сделалось полегче, так как по деревням стала ездить автоцистерна.
Помимо беганья на лыжах Павлуша теперь с удовольствием колол дрова. Нравилось ему это занятие прежде всего потому, что колка получалась. Как бы талант в себе дополнительный обнаружил. Самые несговорчивые кряжи суковатые, витые, пополам — при помощи колуна или клиньев березовых — с кряком разваливал.
Воду из оледеневшего отверстия колодца извлекал, стеклянную от прозрачного льда цепь на ворот с наслаждением наматывал, из деревянной бадьи ключевую по ведрам с шумом разливал и домой бегом, стараясь ни капли из ведер на снег не обронить, нес. Окреп заметно, напружинился.
В предновогоднюю ночь сидели они все трое — Лукерья, отец и сын — за праздничным самоваром и вели житейские разговоры, будничные, земные, хлебные. Недавняя денежная реформа, предстоящая отмена продуктовых карточек, о которой ходили слухи весь осенне-зимний остаток сорок седьмого года, — все это волновало, окрыляло, сулило возникновение чего-то нового и обещало продолжение прежнего, довоенного достатка, помноженного на послевоенную, победную уверенность в будущем благополучии.
На столе, возле самовара, на чайном блюдечке диковинным вареньем краснела глазастенькая, пузырьками, лососевая икра, привезенная отцом из Кинешмы вместе с двумя банками крабов, которые никому, кроме отца, не понравились. Крабами решили заправить фирменное жилинское блюдо — бессмертный винегрет, в котором сегодня было чуть больше масла, и не конопляного, а подсолнечного. Больше было блеска в глазах обитателей школы, того ровного, безалкогольного, что возникает исключительно под воздействием на организм морального допинга. Больше было — если хотите — шалости, резвости в движениях, мыслях, репликах.
Недавние, прозрачные погоды, скрипучие, звонкие, морозные, сменились пушистыми, мягкими, метельными. В классе со вчерашнего дня, поставленная комлем в ведро с водой и закрепленная в ножках перевернутого табурета, проживала красавица елка. Учитель по своей инициативе устроил жилинским детишкам праздник с чтением стихов, причем дети читали не только традиционно «елочные» сочинения, но и нечто серьезное, скажем: «Мчатся тучи, вьются тучи…» Пушкина, «В минуту жизни трудную…» Лермонтова, некрасовского «Власа» и «Школьника». Сам Алексей Алексеевич под гитару исполнил несколько русских песен и романсов. Председатель Автоном, который подарки для детей организовал (по паре печенин, по пятку карамелей и по яйцу, сваренному вкрутую), сплясал, трезвый и серьезный, а затем попросил учителя подыграть ему на гитаре «Шумел сурово брянский лес…» и довольно прилично спел эту песню каким-то не своим, высоким и резким, острым, как лезвие ножа, голосом.
На елку пришли, конечно, и взрослые. Кое-кто из молодых вдовушек-солдаток попытался отметить елку, «как положено», — принятием вовнутрь, но Алексей Алексеевич мягко и настойчиво выпроваживал «подверженных» на воздух, приводя в качестве аргумента пример самого председателя, устоявшего перед соблазном и по этой причине шибко серьезного и в разговоре с подвыпившими крайне сурового.
Пришла на елку принаряженная, но все такая же тихая Капа. От нее пахло земляничным мылом и снегом, метелью. Румяная, сдержанная в движениях, словно застегнутая сверху донизу на незримые пуговки, Павлуше она протянула душистую ветку еловую, обвешанную, словно медными гирьками, стукающимися друг о друга тяжелыми, плотными шишками.
— С наступающим, Павлуша!
Он бесстрашно, умудренный недавним «роковым» романом с Княжной Таракановой, посмотрел Капитолине в глаза, отчего та, почему-то заслонившись рукой, прыснула и плавно уплыла в класс, где в это время председатель Автоном Голубев исполнял детям фронтовую «Темную ночь».
А сегодня, перед самым наступлением Нового года, в школе было тихо и пустынно. Однако елка, оставленная в классе на время каникул, распространяла по дому праздничный аромат, и некое неизъяснимое чувство радости не покидало сердца обитателей школы. Отец поминутно бегал к себе в комнатуху и там прикладывался к наушникам детекторного приемника, ожидая каких-то новостей и сообщений. За окнами бесшумно крутило, завивало спиралью, пошатывало и вдруг резко бросало к земле или в небо вздымало огромные рои снежинок. Бывают такие — плавные, невесомые, без ворчливого завывания ветра — славные метели, которые и на слух-то не определишь, пока за двери из дому не выйдешь и лицом к лицу с мешаниной снежной не столкнешься. Так было и теперь. На какую-то минуту воцарилась полная тишина. Даже самовар, прежде посапывающий и тоненько иногда попискивающий, неугомонный их «полковник», и тот затаил дыхание.
Тогда-то, в этот очищенный от посторонних звуков промежуток времени и прозвучал отчетливый, всеми услышанный плач! То ли женский, то ли ребячий, а может, и зверя какого рыдание. Вздрогнули разом все. Лукерья поспешно перекрестилась. «Свят, свят!» — пролепетала. Отец голову вздернул, прислушиваться начал.
— Может, волки? — предположил, оживляясь и глазами вспыхнув, Павлуша.
— Нет, не волки… — задумчиво протянул Алексей Алексеевич. — Плачет кто-то. Скорей всего — женщина. Плохо кому-то. Поди, сынок, выйди. Посмотри. Может, помощь кому нужна?
Павлуша нерешительно приподнялся из-за стола. Выйти в ночь — чего уж тут такого необычного? Выходил, и не раз. Правда, никто в прежние разы не плакал снаружи… В тишину и покой прежде выходил. Хотя и во мрак. Вот снова послышалось. Сперва протяжно, затем как бы взахлеб, судорожно и довольно отчетливо. А ведь не улица городская за окном, не двор каменный — лесная поляна. Полупустая деревня и та в километре от школы спит, клубочком свернулась, метелью теплой накрывшись.
Думай не думай, а выходить нужно. Иначе что отец тогда подумает? Слабак, мол, трусишка. А ведь разве так? В каких переплетах побывать приходилось. И когда людей на телеграфном столбе вешали в двух шагах от него, приказывая: смотри, пухни от страха, на ус мотай — ежели что, и тебя так-то запросто! И под дулом карабина немецкого у стенки стоял, и в сугробе однажды целые сутки просидел, от часового перед складом продовольственным прятался, ногти потом с помороженных пальцев сошли на руках и ногах (спасибо — новые отросли). И уши до сих пор красные, на холоде пухнут и чешутся. И вообще — всякого хватало. А тут плачет кто-то всего лишь. Вон, вон — опять всхлипывает! Ладно, иду… Чего уж там.
Едва ноги от пола оторвал, шатнулся на ход — Лукерья вскочила будто ошпаренная, руку Павлуше с виду немощными пальцами сжала мертвой хваткой, будто клещами кузнечными. Не пускает.
— Сам ступай! — полыхнула глазами на брата. — Мальчонку во тьму-тьмущую толкает. А вдруг там беси какие-сь… Специально ждут, чтобы погубить… Долго ли до греха? Не пущу! А, господи!
Отведя от себя дрожащие, взъерепененные тревогой Лукерьины руки, Павлуша решительно направился к двери. Лукерья только шапку на светлую голову племяша успела насадить. Так он и вышел, словно зачарованный страхом. И вдруг Лукерья, искренне испугавшись за мальца, как-то даже взвизгнула ошалело и на Алексея Алексеевича кулачком ветхим замахнулась!
— У-у! Ирод! Погубить мальчонку затеял. Небось Дуньку свою не послал бы!
— Не послал бы… — как эхо, повторил. Затем очки с лица сдернул и сразу же, как будто землей-полом подброшенный, побежал, полетел за дверь, следом за Павлушей.
«Это она! — свистело в мозгу. — Это Евдокия кричала и плакала! Это она погибает там сейчас… Его, кретина несчастного, на помощь зовет! Не расчухал, дубина, сердцем. Павлушу воспитывать принялся, экспериментатор аховый!»
И все же Павлуша на улице первым очутился. Он уже с крыльца сошел и в метель углубился, «Кто там?!» крикнуть успел, когда следом за ним из тамбура, теряя и ловя на ходу очки, выскочил в ночь простоволосый отец.
— Эге-ге-ге-а-а! — завопил истошно. — Дуня-яша-а!
Однако Павлуша и здесь опередил отца, сумев почти в непроницаемом непроглядье различить-нащупать глазами там, под двумя березами, где летом в тени ветвей гамак для прохлаждения вешали, — успел заметить махонькую фигурку неясную, звенящую комариным голоском.
— Ты, что ли… Сережка?! — потянулся Павлуша словами, зрением, всем существом — туда, под голые березы спящие.
— Я-а-а…
— Держи руку! И бегом за мной! В школу. А то я простужусь и заболею. А потом умру. Жалко тебе меня?
— Жа-ал-ко-о…
— Тогда держи руку! Побежали?
Подскочил отец. Обшарил руками Груздева. Потом облегченно вздохнул и, схватив Сережку в охапку, понес в помещение.
На кухне размотали на мальчугане тряпки, которыми вместо шапки была увернута голова. Вытряхнули его из ватника, а также из валенок больших, должно быть сестринских, к столу потянули. Чаем стали отпаивать, всхлипы его сопливые горячим настоем заливать, тушить. Лукерья не удержалась, поцелуем в затылок Серёньку клюнула.
И тот наконец воскрес.
— Рассказывай, что стряслось? Почему сразу не постучался и под березы залез? Разве так можно? А ну как замело бы? В сугробе-то и уснуть недолго. Откопали бы весной. Как мамонта, — наседал развеселившийся учитель.
— Язык-то без костей. Напужаешь дитю, — шуршала Лукерья.
— Напугаешь такого! Да он герой! Один в такую ночь канительную, беспросветную из дому потопал!
— Чего плакал-то? — спросил его Павлуша по-свойски, по-мальчишески отрывисто. И «герой» заговорил.
— На елку… Вчера-то я не мог. Вчера Ольку нашу прятали. От Супонькина. Все плакали. Мама плакала, я плакал. На елку хотел… И Ольку жалко.
— Олю, говоришь? Так ведь она в Гурьеве? — проговорил Павлуша.
— Убегла… обратно к нам. Соскучилась. А Супонькин ее и за-а-арестовал! — вновь захныкал, задергался малышок.
— Не плачь, говорю, — свел брови учитель. — Мы с председателем прошение подадим в Кинешму, куда следует. Простят вашу Олю. Надо же, нашлась.
— Не-е… Не простят. Я зна-аю-у…
— Откуда тебе знать? — схватился за висок Алексей Алексеевич. — Мы еще Авдея Кузьмича Торцева попросим. Он секретарь партийный, воин, сам страдал… Он поймет. Как скажет, так и будет. Не плачь, нехорошо под Новый год плакать. А то, смотри, все триста шестьдесят пять дней проплачешь. Примета имеется.
— А как же… подарок? Всем давали, значит, и мне положено?
— Положено, положено! Не беспокойся. Сейчас выносу. Я его подальше спрятал, чтобы целей… Ты обожди маленько. — Алексей Алексеевич ушел за перегородку.
Бумажных пакетиков, склеенных из прошлогодних, использованных детьми тетрадей, наготовлено было к елке с лихвой. Правда, карамелек на всех учеников не хватило. Сережке учитель отсыпал из своих скромных запасов десяток «подушечек», положил в кулек печенья, а также горсть сухофруктов компотных, кусок сахара колотого. Получился сносный подарок. Вынес его торжественно. С улыбкой вручил, и не на кухне, а возле елки, на которой зажег два маленьких свечных огарка.
Сережа сразу в кулек полез рассматривать, проверять содержимое и, не обнаружив там вареного яйца, заерзал на месте, головой завертел, завздыхал обеспокоенно.
— Ты чего?
— А где же яйцо? Всем яйцо было. А мне, выходит, не положено?
— Сейчас чего-нибудь сообразим… Ты извини. — Учитель побежал на кухню и там попросил Лукерью срочно сварить в самоваре яйцо.
— Откуль я табе возьму его? Яйца-то куры несут. А где у нас куры? Коза да кот — вот и весь скот, — запричитала Лукерья, заметалась из стороны в сторону.
— А в подвале что-то такое белело в мисочке. Что-то такое в глаза мне бросилось, когда я за картошкой лазал. Свари, не жалей мальчонке…
— А Павлику? Он что же, не мальчонка, по-твоему? Да там их и всего пяток… Ишь, слепой-слепой, а скрозь пол видит.
— Вот и свари. Обоим. Поделись.
Достали, извлекли из подвала яйца. Завернули в марлю, под крышку самоварную опустили. В итоге подарок у Серёньки из ущербного во вполне приличный превратился. Мальчик успокоился, оттаял. На щеках что-то там такое затеплилось, зацвело. Потом, после винегрета, — чай и вкусные бутерброды с икрой. Мальчонку быстро сморило. Он уже на лавке перед столом ко сну располагаться начал, кренясь в пустоту угла, туда, за самовар, в потемки… Но тут его, уже спящего, на руки взяли и на печь угнездили.
Перед сном учитель обыкновенно прогуливался. «Вот и схожу чуть попоздней в деревню… Объясню Груздевой, чтобы не беспокоилась за мальчонку».
Ближе к полуночи метель за окном не только не унялась, но как бы окончательно стряхнула с себя дрему, залихватски засвистав в трубе. Ветер с размаху стебал подсохшим снегом, как плетью шуршащей, по чутким, звучащим бревнам строения, будто по корпусу какого-то огромного музыкального инструмента.
Лукерья увернула фитиль в лампе, перемыла граненые стаканы, из которых чай пили. Начала убирать со стола. Павлушу дрема тоже не обошла: незаметно, как метель, окручивать, овевать принялась. Пытаясь усидеть за столом до момента, когда стаканом клюквенного кваса собирались они отметить приход Нового года, отец положил себе на колени гитару и, защемив по привычке губы зубами, начал наигрывать что-то свое, стародавнее, что ласкало ему сердце на протяжении жизни: «Счастливые годы, веселые дни, как вешние воды, промчались они…»
Павлуша возле самой лампы принуждал себя читать книгу про ненормального тощего рыцаря с деревянным копьем, влюбленного в какую-то даму. События в книге были не сказочными, хотя и обыкновенными их не назовешь. Павлуша любил, чтобы в книге угадывалась жизнь натуральная, события узнаваемые, а тут все чужое: от мест и обычаев до людских фигур и поступков, которые они совершали. Поневоле клонило ко сну, и, незаметно выскользнув из светлого круга, распространяемого лампой, Павлуша бесшумно растянулся на лавке, положив под голову увесистый том.
И вдруг загрохотало в двери! На крыльце затопталось сразу же много чужих ног. Сотрясающий чуткие стены здания долбеж по наружной двери повторился с еще большей бесцеремонностью. Гитара из рук Алексея Алексеевича скользнула на пол. Едва он ее за гриф ухватить успел. Павлуша в темном углу за самоваром то ли затаился от страха, то ли проснуться не успел, во всяком случае, на свет оттуда не высунулся. Лукерья о передник деловито руки начала вытирать и, похоже, меньше других испугалась, так как сразу к дверям наружным повернулась идти. Однако учитель ее за рукав придержал и сам в тамбур выглянул, раздумывая на ходу: открывать ему двери или подаренную лесником Воздвиженским берданку с гвоздя в кабинете снимать? А уж только после этого наружу выпячиваться?
— Кто там? — нерешительно бросил во мрак два крошечных словечка, как две горошины об стенку.
— Открывай! Ексель-моксель! — полузнакомым острым, как шило, голосом проткнули снаружи дверь и вновь ударили кулаками по доскам. — Оглох, что ли, Алексеич?! Ревизия! Отпирай, говорю…
Тишина мерцала в сердце огоньками… Вдруг как застучится кто-то кулаками! —напишет впоследствии Павлуша свои вторые по счету стихи.
Между тем что-то неуловимо комичное, а стало быть, и не такое уж страшное почудилось учителю в напиравшем на дверь голосе. Что-то несерьезное и вместе с тем знакомое, свойское содержалось в нем. Напряжение внутри Алексея Алексеевича чуточку ослабло, и этого было достаточно, чтобы руки сами потянулись к засову.
На пороге стояли, забинтованные метелью, три мужские фигуры.
— Руки вверх! — выдохнула ближайшая фигура, овеяв ноздри учителя тошнотворным запахом алкоголя. — Вы арестованы!
Как ни ломал свою речь председатель, как ни коверкал во рту слова, рассекретил-таки его учитель: по «аромату» слов, по их выпуклой фактуре, по едва уловимой хулиганщинке, приобретенной Автономом Голубевым в военных траншеях и землянках, подхваченной им в разношерстной, разнослойной толпе солдатского общества, где порой с виду незаметный, скромный деревенский паренек в два счета перерождался и на глазах «изумленной публики» делался совершенно не похожим на себя прежнего: менялись походка, интонация речи, сам запас слов, а также внешний облик, и пилоточка его иначе на голове восседала, и галифе как бы плотнее обтягивали, и сапоги на ногах шикарнее морщились.
— Что же это вы, Автоном Вуколыч, пугаете так?
— Принимай гостей, школа!
Председатель тут же, в темном тамбуре, полез обниматься, однако, ощутив меж собой и учителем какой-то посторонний предмет, а именно гитару, оживился еще больше.
— Гуляй, братва! Учитель с музыкой встречает!
Клубком пушистым вкатились пришельцы в помещение. С остервенением снег с себя обколачивать принялись. Капюшоны да башлыки с голов развеселых, праздничных, откидывать. Подсчитал Алексей Алексеевич народ: четыре гостя получалось вместо трех, первоначально в дверях наметившихся.
— Смелей, Курт! Проходи, механик, не стесняйся! — уговаривал председатель замыкавшего шествие. Им оказался немец-шофер, нерешительно топтавшийся возле порога и раздеваться не торопившийся. — Заходи, знакомься. Учитель, он тоже стреляный воробей… Воевал. Все мы тут солдаты, все, стало быть, хлебнули горячего… Сымай свою куртку на рыбьем меху. Готовь зубы — сало кусать будем! Просыпайся, душа с тебя вон! Чтобы футляр проветрился!
Курт вопросительно склонил голову в сереньком солдатском треухе, ловя глазами Шубина.
— Разоблачайся, Курт. Погреемся маленько. Если хозяин позволит! — Шубин сунул квадратную пятерню снизу вверх — к животу учителя. Тот даже отпрянул от неожиданности. — Здравия желаю! Чайком попотчуете? Мама родная!..
Пришлось Лукерье самовар доливать, кипятить заново. Вторую лампу, «классную», на кухню внесла, стекло продула, тряпицей внутри стекла прошлась, засветила агрегат. Стало еще праздничнее.
— Приветствую тебя, пустынный уголок! — продекламировал Шубин, подняв руку, застывшую в приветствии.
Еще один пришелец, Яков Иванович Бутылкин, пришел к учителю — как выяснилось впоследствии — самостоятельно, чтобы узнать: нет ли там чего по радио насчет отмены карточек?
— Садись, Ляксеич, с нами! — приглашал председатель хозяина за стол, широким жестом утверждая на его поверхности три зеленые поллитровки с засургученными картонными пробками. — С Новым тя годом! С новым счастьем! Давай шевелись, Лукерья, ставь, говорю, стаканы! Необходимо успеть, чтобы тютелька в тютельку… По сигналу в наушниках! Давай, учитель, команду, лови сигнал.
И тут Павлуша из темного своего угла голос подал:
— Нельзя ли потише?! Разорались…
— Павлик! Не груби, сынок, старшим, — посоветовала Лукерья.
— А чего врываются?! Командуют. Бутылок ихних не видели…
— Не ихних, а их, — поправил сына Алексей Алексеевич и, повернувшись решительно к председателю, добавил твердо: — Хотите — судите, хотите — милуйте… Только пить у нас водку не надо. Даже сегодня…
Председатель было опешил, ладони потирать в недоумении принялся. И вдруг улыбнулся растерянно.
— Вот и хорошо, вот и чудесно. Уважил, школа… А где же нам ее, проклятую, употребить тогда? На дворе, что ли? Позволишь, Ляксеич, на дворе? В сугробе — разрешишь? В культурном обществе нельзя… А в кабине ежели промерзлой — разрешишь, снизойдешь?!
Алексей Алексеевич снял очки с лица, подошел к председателю и, как ребенка, погладил Автонома Вуколовича по голове.
— Можно, дорогой, и здесь. Как тебе откажешь? Только не надо. Как друг — прошу… Пойми ты меня, голова. Не столько сына жалко, который против пьянства выступил, сколько нас всех. Да вы оглянитесь по сторонам: куда пришли? Родименькие, это ведь школа! Школа!! Храм, куда идут ваши дети светлеть умом и сердцем. Нельзя пить в школе — вот причина моего упрямства. Школа — место святое. Какие бы страшные бури за ее окном ни происходили, школу необходимо сберечь! Огонек в школьном окошке не должен погаснуть. Ибо огонек этот вселяет надежду. И веру! Веру в человека. В то, что человек — дитя разума, света, а не тьмы безумной. Простите за красивые слова. Только я вам лучше спою сейчас!
Учитель порывисто, как неутешного ребенка, прижал к груди гитару. Замер на мгновение, вспоминая, что же ему спеть этим людям, этим снежинкам заоконного вихря?.. И, подняв глаза к потолку, негромко, но отчетливо запел:
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело…Песня знакомая, все ее слышали прежде, но как бы издалека она прежде доносилась, из-за глухой стены, а теперь — вот она, душевная, печальная, так и сжимает вам сердце горячими ладонями, так и летает по школе, подгоняемая гитарным журчанием.
Ой, беда приключилася страшная! Мы такой не знавали вовек: Как у нас — голова бесшабашная — Застрелился чужой человек! Суд наехал… допросы… — тошнехонько! Догадались деньжонок собрать: Осмотрел его лекарь скорехонько И велел где-нибудь закопать…Притихли все как один, даже немец Курт, неплохо соображавший по-русски. Лица обмякли, глаза утихомирились. Каждый, на сколько мог, ушел на это время в себя. Присмирел, умилился. Внутри словно что-то отслаивалось, струпья какие-то вековые отпадали, и очищалось, обнажалось первозданное: человеческая душа, добрая и беззащитная, светлая и не убитая, бессмертная.
Будут песни к нему хороводные Из села по заре долетать, Будут нивы ему хлебородные Безгреховные сны навевать…Замер голос, перестали дрожать струны. Сделалось тихо. Никто не хотел первым разрушать нечто благоговейное, некаждодневное, создавшееся сейчас под сводами школы. Даже Павлуша голову набок склонил и безо всякого стеснения рассматривал какого-то нового, небывалого прежде, отца…
Но так уж устроены «механизмы» людские: нельзя им долго в скованном состоянии пребывать. Восторг восторгом, благодарность благодарностью, а без движения никакая душа долго не высидит. Первым очнулся председатель.
— Добрая песня… душевная. Спасибо. Но человеку, живому существу, который такие песенки грустные слушает, необходимо после этого, чтобы не застрелиться, чего-нибудь веселенького дерябнуть… Да-да! Чего-нибудь — у-ух ты! Чтобы снег до зеленой травки сгорел! Частушку али прибаутку, душа из нее вон, чтобы, значит…
— Погоди ты, Вуколыч, со своими частушками. А песня-то какая?! Так вот и разгладила все внутри, мама родная! — пропел просиявший и как бы в другое измерение переселившийся Шубин.
— Да кто ж противу песни? Я про это самое… — показал Автоном Шубину на пальцах, чего он, собственно, желает в данный момент. — Необходимо до ветру…
— А я вот, к примеру, знаю автора этой песни! Некрасов, во! — продолжал в восторженном состоянии пребывать Шубин. — И желаю прочесть вам его стихи. Ты, Вуколыч, уши-те разинь да послушай, может, он как раз для тебя вирши эти… «Внимая ужасам войны» называются…
Некоторое время еще и пели, и стихи читали, как дети… Все раскраснелись, дышали глубже, чаще. И радовались веселью, состоянию умов небывалому, не стесняясь расслабленности чувств.
— Давайте, братцы, чайку разольем! — решил еще больше воодушевить компанию учитель. — Самоварец созрел. Вот вы — как насчет чайку? — обратился учитель к немцу.
— О, шайку мошно! — закивал стриженный под бокс блондинистый шофер.
— Ну, хорошо… — Председатель потер затылок сразу двумя ладонями и, принимая решение, встал, выпрямился над столом. — Пойдем-ка, Шубин… Сказать пару слов требуется. Секретных.
Сгреб председатель бутылки со стола, к выходу направился. В этот миг из глубины дома, из дальней комнатушки, раздался Павлушин ликующий крик:
— Куранты! Двенадцать!
Председатель, на ходу зубами вместе с сургучом выдергивая пробку из бутылки, ринулся за дверь. За ним послушно потянулись Шубин с Бутылкиным. За столом остались Курт и Алексей Алексеевич.
— А вы что же? Или не пьете? — поинтересовался учитель.
— Мошно… Только не нушно… Са рулем опасно… шнапс.
Первым со двора воротился дед Бутылкин, порозовевший, на лысине снежинки так и тают, посверкивают. Сразу же к Курту подсел, разговор с ним затеял.
— Иди глони, парень… Велено сказать… Ожидают тебя начальники.
— Не нато…
— В твоем-то положении только и пить… Чего еще делать? Мух-то не лови, ступай глони, говорю.
— Спасипо.
— Скажи, только честно, — не унимался дед, — не нравится тебе снег, глухомань тутошняя?
— Нет-нет, нравится! Только я есть са рулем.
— Вот строка приказная, что делат! Как кремень…
— Я есть сегодня не солдат… Я есть шофер, Курт.
— Ну и соси ты лапу, коли не хочешь по-людски…
— Правильно, дед! — хлопнул Бутылкина по горбу вернувшийся с холода председатель, да так, что старик с лавки едва не соскользнул.
— А чаво? — нахохлился Яков Иваныч, как воробей потревоженный. — Как ни крути, а всяк своей точки держится… Будто за титьку мамкину.
— Сиди уж, дед! Замолкните, говорю… Новый год наступает… Тихий, непокалеченный покуда. Не спугнуть бы… Правильно, трезвенник? — обратился председатель к учителю как ни в чем не бывало.
— Сегодня праздник. Извиняюсь я перед вами, товарищи… — растерялся, заскользил в разговоре Алексей Алексеевич, ибо уже не надеялся на мирный исход в отношениях с председателем. — Как-то не сообразил, что обижаю. Мальчик вот воспротивился… Ну я и поддержал. Не обессудьте. Пусть каждый делает сегодня, что хочет. Хотя бы сегодня…
— Я, можа, хвистнуть однем местом хочу… — начал было сильно уже захмелевший Бутылкин.
— Ну и хвистни! — поддержал его Автоном. — А учитель нам сейчас вприсядку спляшет!
— То есть как это? — Алексей Алексеевич положил на лавку гитару. — Давайте-ка, господа хорошие, вот о чем договоримся: не хамить. Ни в малейшей дозе. Не обижать друг друга. Иначе поссоримся мигом.
— Да я не про то… Причина у меня для твоей пляски есть. Никто еще не отказывался, ежели по такой причине. Аж на передовой под пульками плясали! — С этими словами достает Автоном Голубев из пиджачка своего задрипанного, бумажного, в крапинку, из внутреннего кармашка целых два письма. На каждом марка синяя: летчик с очками-консервами на лбу. — Пляши, педагогия. Оба женской рукой написаны. Только одно — с Ленинграда, а другое — с Кинешмы. Хотелось мне распечатать хотя бы одно. Больно уж редко мне пишут. После войны — за два-то годика — всего одно письмишко словил. И то от покойника. Дружок один фронтовой из госпиталя нацарапал… А потом соопчили, что помер. Так что — сбацаешь, Алексеич, ничего с тобой не случится… Али колониста свово заставь… Пусть отца выручит — станцует по-городскому.
И сплясал Алексей Алексеевич. Понял, что не отвяжешься от Автонома на словах. Схватив нервно с лавки помощницу семиструнную, задребезжал аккордами «цыганочку», распространенную повсеместно и способствующую к ножным выкрутасам. Тревога уже пропитала мысли учителя. Догадки одна за другой вспыхивали в мозгу: от кого письма? Он даже на слово «колонист», оброненное председателем, внимания не обратил, хотя считалось, что про Павлушину колонию никто в деревне не знает. Учителя другое взбудоражило: от кого письма? И почему — два? И от всего этого напряжения ноги как бы захмелели, взвинтилась в них кровь, и пошел, пошел остервенело заколачивать в пол незримые гвозди, аж очки на носу подпрыгивают, а председатель, ладоней своих не жалея, подъяривает, подшмякивает звонко, вляписто: «Ать, ать! Та-та-та!»
Дольше всех под открытым небом пропадал Шубин. Вернулся он не один. Прежде чем самому в двери протиснуться, пропустил в прихожую школы запорошенного снегом человечка. Белые некогда валенки, залатанные по изломам и протертостям, полушубок овчинный, огромный, на голове толстый, глухой плат старушечий. Из платка лицо девичье, некрасивое, остроносой мышкой выглядывает. Глаза маленькие, круглые, красными веками обведены. Рот узенький, трубочкой два крупных белых зуба обнажает.
— Вот… то ли девушка, то ли бабушка… В потемках не разобрать, — сказал Шубин, проведя рукой по заснеженному ежику волос.
— Олька… Груздева! Ты, что ли? — перестал хлопать в ладоши председатель, протянул письма оборвавшему пляску учителю.
— Я-я, дяденька Автоном… Серёнька наш не здесь ли, сопливец?
Учитель повесил на гвоздь гитару, повернулся лицом к вошедшей.
— Здравствуй, Оля… Проходи. Снимай тулуп свой. А братишка твой на печке спит.
Сообщение это вовсе не успокоило девушку. Склонная к истерике, худенькая, нервная, она вдруг тонко заголосила и, не снимая полушубка, мешком бухнулась на колени перед председателем.
— Помилуйте, дяденька… у-у-а-а… Автоном!
— Ты што, ты што, окаянная?! Перед кем на коленях стоишь? Позоришь Совецку власть, пакостница… Встань, подымись живо!
— Мамка-а велела-а! Поди-и, говори-ит, упади-и-и… Прости-и-ит. И от Супо-онькина защити-и-ит… Супонькин меня ло-о-овит… Повезу, говорит, в город, изоли-и-ирую-ю… У-у-а-а!
— А не беги! Кто за тебя хлебушек будет сеять? Да картошечку? Солдатики, которые в землю полегли? Защищая тебя, пакостницу?
— Дак я ить верну-улась…
— Вот и молодец. И скулить тебе, значитца, не к чему более… И подымись, стал быть, кому говорю?!
И тут в дверину входную опять постучались. Не робко, но и не хулигански, как председатель. Деловито, настойчиво дали о себе знать.
«Ну и ночка! — подумалось Алексею Алексеевичу. — И все в школу!»
— С Новым годом… — мрачно поздравил присутствующих, переступая порог, Супонькин. — Груздева Ольга… не у вас прячется?
— Для чего она тебе спонадобилась? В такое время?
— Дома должна сидеть. Как велено. Завтра в город повезу. Пойдем, Груздева, не заставляй меня бегать. Иначе запру в холодном чулане.
Супонькин фураньку свою заснеженную приподнял, длинные красные уши из-под нее так и прыгнули по обе стороны головы, так и распрямились. Нос копеечный изморщился весь от брезгливости.
— Слышь-ко, Супонькин, — разговаривал с уполномоченным председатель, остальные помалкивали, — вот тебе мое решение: уходи отсюда. И про девку — забудь. Не твое это дело. Ступай, ступай от греха… Ты меня знаешь. Я ведь и покусать могу. Праздник портишь. Замашки-то свои урезонь… Олька — моя колхозница, я и в ответе за нее. Уймись. Хошь вот — глони с праздником, — протянул председатель поллитровку, которую держал в пиджаке, во внутреннем кармане. — Только пить на улицу выходи… По новой моде.
Супонькин будто мимо ушей пропустил председателеву речь.
— Пойдем, Груздева. Кому говорю! — и потянул девчонку за воротник полушубка.
И вдруг Автоном Голубев отчаянный прыжок совершает и вплотную с Супонькиным, бок о бок, оказывается. И — хлоп, хлоп того по кобуре… по пустой, порожней, всю ладошками обхлопал.
Ольга неприятно так заверещала, уйдя, как улитка, в платок свой слоеный. На печке Серёнька Груздев проснулся и тоже заплакал тоненько, отчаянно.
— Ты это что же, гад… псих ненормальный, детишек тиранишь? — оскалил зубы Автоном.
Отсоединили Автонома от Супонькина Шубин с учителем. Курт как сидел за столом, прихлебывая чай из граненого стакана, так и на время драки не переменил ни позы, ни взгляда. На лице его было написано: «Что ж… Так, видимо, надо. Таков здесь порядок, таков закон. А мы против закона или порядка не выступаем».
Супонькина, а также Сережку Груздева и его сестру увезли на машине в деревню Шубин с Куртом. Рассовали их по домам. Вернулись за председателем, который ехать в машине с Супонькиным наотрез отказался.
«Ну как?» — одними глазами спросил Автоном майора.
— Зашиб ты его… Автоном Вуколыч. Мама родная!
— Ничего, отдышится… Такого червяка пополам перережь, он тебе к утру опять… склеится.
— Подаст он на тебя… За побои. Дермистый мужичонко, за версту пахнет, — сказал Шубин, а Бутылкин, который за столом возле Курта уснул и все последнее время в тени пребывал, выполз на свет и задумчиво так предложил:
— Можа, издохнет к утру… Тогда и подавать будет некому. Сам, шкарпиен, и убился… башкой об пол. Я в свидетели куда хошь пойду, покажу на него. Сам по пьянке достукался… колобашкой своей дурной… А то в сумасшедший дом засадим, он по нему давно плачет. Пойдем-кось, Автоном, по домам, хватит в школе ночевать. Людям воздух портить.
Обнялись они, Бутылкин с Автономом, и так из желтых керосиновых потемок комнатных во тьму непроглядную, новогоднюю вывалились.
Учитель во время скандала письма распечатывать не решился. А теперь, надорвав первое из двух, определил, что оно от Марии, Павлушиной матери, и сразу же сына позвал, чтобы с ним вместе читать. Но Павлуша на зов не откликнулся. Алексей Алексеевич по комнатам пронесся, держа письмо в руках, затем гулкий, пустынный класс обследовал и, не найдя там Павлуши, вновь на кухню выбежал, смертельно напугав Негодника, который, пользуясь отсутствием Лукерьи, затворившейся на время драки в своей избушке-баньке, ходил пешком по обеденному столу.
Напрасно звал Алексей Алексеевич Павлушу. В доме его не было. Не было и в баньке Лукерьиной. Вернулся в школу. Сунул под свою подушку письма. Опустил фитиль в лампе до минимума, фукнул в горячее отверстие закопченного стекла. В полной темноте вышел наружу и, не раздумывая, в сторону деревни направился, вдоль неясно торчащих из-под снега макушек придорожного кустарника.
«Мальчик вспыльчивый… Легко ранимый… Что ему в голову взбрело? Не понравились ему гости, безобразие не понравилось — вот и ушел. А то и… мину очередную мог подложить, взорвать. Хотя вряд ли… Не поднимется у него рука на живое. Так… звук произвести — может. А чтобы кровь пустить — не способен, по всему видно… И по рассказам его военным…»
Оглянувшись на школу, Алексей Алексеевич не увидел ее. И сразу же пожалел, что не оставил на подоконнике зажженную лампу — для ориентира. Пройдя метров пятьсот, остановился и, прикрыв рот варежками, позвал что есть мочи: «Павлу-у-уша!» Протяжно позвал, как волк провыл. А в ответ — только свист метельный, дыхание неба шумное, словно вселенная, утроба звездная, склонилась над букашечным, курьезным человеком и с улыбкой на лохматом лице рассматривает беззащитного, перед тем как втянуть его в нутро бездонное или, наоборот, сдуть, смахнуть с планеты, как пылинку с ладони…
А Павлуша тем временем прямиком, минуя деревню, на маяк скрипучий, метелью от глаз отгороженный, вышел. Баньку Якова Ивановича, в которой первоначально укрыться задумал, в буранной свистопляске так и не обнаружил, мимо нее просучил ногами. Мороз хотя и был не ахти, градусов пять, но, перемешанный с ветром, постепенно как бы раздевал Павлушу, охлаждая тело. Гонимый ветром и страхом, пронесся он мимо деревни, и, должно быть, на том краю поля уперся бы он, в конце концов, в лес, где ветер потише и от присутствия деревьев как бы уютнее… Но получилось иначе.
Страх, который проворнее ветра подгонял Павлушу в спину, возник еще в школе, за новогодним чаем… Когда председатель про колонию проговорился… Слово «колонист» в речи своей употребил. Значит, известно им про его побег, про его на птичьих правах проживание у отца осведомлены. Небось и приехали-то затем, чтобы забрать… С отцом поговорят, растолкуют ему, что и как, и — в машину! А там… Известное дело, что там… Ну так нет же вам!
Когда на скрипучую, стонущую гнилыми бревешками вышку набрел, не отпрянул от нее, а неосознанно, подхлестываемый страхом, за перекладины ее ступенек ухватился и вверх, прочь от земли клыкастой, неласковой, полез, как бы на небо карабкаясь, но выше первого этажа, то есть площадки, которая простреливалась мчащимися снежинками, будто дробью разящей, подниматься не стал. Вверху, над головой, словно снасти корабельные из романов Стивенсона или рассказов Станюковича, стенала, незримо клонилась, зловеще потрескивала отжившая свой срок конструкция.
И тогда от деревни, с той стороны, откуда весь этот белый бедлам кубарем по земле катился, донеслось до Павлушиных ушей летящее по ветру имя его собственное: «Павлу-у-уша-а-а…»
«Отец! Что ему надо? Неужели… отдать меня согласился? Или… боится, что потеряюсь, замерзну?»
«Павлу-у-ша-а!» — надрывно, отчаянно, жалобно и неотступно прорезывал крик отца непроглядную снежную муть.
И тогда затрещало над головой, словно молния летняя в десятке метров над ним разрядилась, хотя и без вспышки и последующего грохота, но именно треск молниеносный, а вслед за ним — другой, более вялый, замедленный треск. И что-то со страшным, каким-то посторонним, дьявольским свистом, перекрывающим свист непогоды, рассекло над головой Павлуши бушевавшую ночь, а затем рухнуло туда, вниз, на сокрытое тьмой и снегом поле.
Павлуша остался стоять на площадке, словно и не произошло ничего. По-прежнему свистела над ним и под ним метель, и только скрип незримых снастей стивенсоновских прекратился.
Неизвестно каким чутьем влекомый, продрался к вышке сквозь тугие, неподатливые снега Алексей Алексеевич. Его вынесло туда буквально минутой позже того, как вся верхняя часть топзнака, отделившись, подобно цветку подкошенному от основания стебля, далеко отлетела прочь, ударившись о мерзлую землю довольно звучным стуком, несмотря на пухлую подстилку.
Алексей Алексеевич закричал, не сдерживая себя. Он давно догадался, что сын его где-то здесь, что вот — то ли взорванная Павлушей, то ли ураганным ветром перекушенная — рухнула вышка и что под ней, под обломками ее, может оказаться изуродованное тело сына, еще недавно как бы возникшего из пепла и вот… утраченного столь бессмысленно.
— Павлу-у-ша-а!
— Я зде-е-сь! Папа-а-а!
Они встретились на лестнице. Отец, проворней обезьяны, кинулся вверх, а Павлуша навстречу ему вниз заскользил, едва не сев отцу на голову.
Эта необыкновенно красивая, полубредовая и в то же время как бы пляшущая, праздничная ночь сблизила их тогда еще больше. Уже раздетые, лежавшие каждый в своей кровати и внешне успокоенные, они еще долго обменивались словами через незакрытые двери отцовского кабинета. И каждому хотелось жить, любить друг друга и всех вокруг.
И только когда умаявшийся Павлуша уснул и, как в детстве на Васильевском острове, стал забавно попыхивать губами, словно после сытного ужина отдуваясь, только тогда отец позволил себе окунуться в другую тревогу: тоску по Евдокии. Затворив дверь в свою комнату, нашарил он спички на столе, затеплил лампешку, не успевшую остыть от предыдущего возгорания, извлек из-под подушки один из конвертов. Выпало — с ленинградским штемпелем.
«Здравствуй, дорогой Алексей!
Теперь, когда мы расстались, позволь называть тебя просто по имени. Не виделись мы целую вечность. В памяти моей, как ни странно, остался ты не учителем в белой с галстуком рубашке, а солдатом: небритым, нестираным, страшным. В глазах — ужас. Ты вырвался тогда из плена и все не верил, что можно жить дальше. Потом, через несколько дней, ты ушел опять… И мне показалось, что — навсегда. Собственно, так и получилось. Теперь, если и встретимся когда, все будет не так, а как бы из другой жизни. Кто виноват? — часто спрашиваю теперь себя. Кто виноват, что я потеряла прежнюю семью, а главное — сына?
Теперь принято спихивать все на войну. Однако и на войне многие устояли. Любви у нас не было… Вот в чем дело. Той самой, единственной, которая в огне не горит и в воде не тонет. Не обижайся, но ведь так оно и есть. Меня очаровал твой умный голос. Там, на Севере, где я в школу ходила, твое появление было равносильно чуду, знамению. Ты сразу же сразил меня, на колени перед собой поставил. А любовь — поднимает. С колен, от земли — ввысь. Любовь всегда от добра сердечного, а я лишь восхищалась тобой, благоговела перед твоей начитанностью, знаниями, перед внешностью твоей благоговела. Ослепил ты меня, короче говоря. А для любви открытые глаза необходимо иметь. И сердце открытое. И еще… Ты ни разу не вызвал во мне чувства сострадания, ни разу я тебя не пожалела, понимаешь? Такой ты всегда сильный, самостоятельный, уверенный в себе был. Даже когда последний раз виделись, не пожалела. Потому что сквозь копоть военную сверкала твоя неистребимая выправка духовная. Ювелирный блеск в словах, в жестах, в осанке, а главное — в мыслях. Вот и не состоялось. А женщине, помимо всего прочего, и пожалеть ближнего своего хочется… Материнского в нас хоть отбавляй. Спасать кого-то постоянно своей любовью. В этом миссия наша женская. Сам учил, помнишь? Только поняла я это самостоятельно.
И все же благодарной тебе я останусь навсегда. И прежде всего за то, что научил меня строже мыслить, проникать глубже в суть жизненную, не суетиться лишний раз попусту, за то, что много небабьего в душе моей посеял… Но самое главное — за Павлушу тебе благодарна! Сын у меня. Живой. Мой! И ведь ты его от меня никакими запретами не отдалишь. Я еще потерплю маленько. Твоя просьба для меня — закон. Потому что она якобы на пользу Павлушиной судьбе. Пусть так. Тебе виднее. Ты — мудрый. Если хочешь, я сама попрошу мальчика, чтобы он пока не приезжал ко мне и только учился, учился… Как будто счастье не в радости материнские глаза перед собой опять видеть, а лишь в учебе, в глубинах знаний, в этом песке сыпучем, который всех нас в итоге с землей сровняет. Извини за мрачные мысли. Словом, терпела я много и еще потерплю. Пусть. Но одно ты должен сделать незамедлительно — это сказать мальчику, что я жива и люблю его! Люблю и живу им!
У меня есть человек, муж, которого я могу жалеть, спасать, любить, наконец. Ты знаешь нашу историю по предыдущему письму. Расскажи, если захочешь, сыну… Все! Миша не дал мне умереть в блокаду. Я уже глаза закрыла. Но пришел он, словно ангел-хранитель прилетел. И прогнал смерть. Теперь он сам тяжело болен. У него туберкулез. И — протез вместо ноги. И мы с ним одинаковы в своих горестях и радостях. Мы с ним страдали вместе, на пару… Это спаяло. И я как бы все время отдыхаю теперь душой. С ним. Но порой ощущаю призрачность всего, что имею. Не покидает меня печаль, боль моя незатухающая — Паша, сынок! Растет он без меня и скоро взрослым сделается. С обидой в сердце растет. На маму свою. Так с этой обидой и в жизнь уйдет. За что мне такое? Объясни ты ему, Алешенька, все. Ты ведь честный человек. Оправдай меня. И дозволь написать ему. Вот сейчас эти строчки возьми и передай ему от меня!
Пашенька, радость моя! Люблю тебя и всегда зову к себе, ожидаю! Учись, конечно. Папу слушайся. И приезжай… когда-нибудь, когда все наладится. Целую тебя, родименький!
Твоя мама».Глава четырнадцатая. Сульфидин
После новогодних шумливых денечков поселилась в Павлушином сердце радость. Вместе с письмом, полученным от матери. В котором она в любви объяснялась, а главное — звала к себе в Ленинград. Жить стало как бы просторней. Письмо сулило непредугадываемые встречи, события.
Павлуша охотнее учился, работал по дому, словом жил вдохновеннее: читал, писал стихи, катался на лыжах — страстно, с упоением. Лыжи он просто обожал. С ними открылась ему удивительная возможность — вихрем проноситься над непроходимыми прежде местами: над болотной трясиной, оврагами, пнями, над канавами и прочими препятствиями бесснежного времени года. Забирался он теперь в отдаленные, глухие углы района, незаметно выбегал на пространства, доселе непосещаемые, и однажды выскочил по незначительной речушке, впадавшей в Меру, прямо на улицу Александровской фабрички, той, что неизменно подавала гудок, по которому жители округи сверяли время на часах.
А сегодня лыжи скользили без прежней легкости. То ли к перемене погоды, то ли в Павлушином организме что-то нарушилось, вот и вспотел он некстати больше обычного. Домчавшись до Меры, к тому именно месту ее, где над рекой деревня Гусиха домишками рассыпалась, Павлуша купил на неделю хлеба (уже не по карточкам), уложил буханки в заплечник и, решив возвращаться домой через Козьмодемьянское, а значит, и через Кроваткино, монотонно, без удовольствия задвигал ногами.
Когда вялый, порядком утомившийся добрался он до Кроваткина, решил в деревне передых сделать. Достаточно было одного взгляда, чтобы определить: в Кроваткине опять никого… Цыгане на зиму не задержались, куда-то в другое место подались. Печально сделалось… Деревни и видно-то не было, так занесло ее снегом. Вместо домов сугробы под деревьями угадывались. И Павлуша представил, как лет через двадцать на этой поляне поднимется молодой лес и, сровнявшись зеленью с основным лесом, навсегда похоронит под собой память о Кроваткине. И никто даже не вспомнит никогда, что была за Волгой такая невеселая деревенька, что жили в ней люди… От недетских раздумий своих очнулся Павлуша, почувствовал на спине противный озноб. Чтобы разогреться, нажал на лыжи со всем азартом молодости, но вскоре почему-то выдохся окончательно и дальше плелся еле шевеля ногами.
Возле школы он еще постоял минут пять, а то и десять, разговаривая с неразговорчивой, до сих пор обиженной на него из-за Княжны Капитолиной. Капа убирала школьное помещение и теперь вытряхивала на снегу половики. Отец задержался в классе с отстающими. Лукерья накрывала на стол в кухне, чтобы всем обедать сесть, когда Павлуша, войдя в дом, вдруг шатнулся и, побледнев, почувствовал жар и озноб.
Когда же парнишка без всякой на то видимой причины отказался от вкусного горячего обеда (щи со сметаной, каша молочная, пшенная, хлеб свежий, еще теплый, то ли дух выпечки сохранивший, то ли от жаркой Павлушкиной спины нагревшийся), тогда-то и запало у Лукерьи подозрение: а не захворал ли малец?
Отец, по Лукерьиному сигналу отпустивший своих подопечных, торопливо в кухню вошел и, ни слова не говоря, ко лбу сына ладонь свою сухую, костлявую тыльной стороной приставил.
— Все ясно! И градусник не нужен…
Отец потянул Павлушу за руку на себя. Тот послушно, хотя и мешковато, с явным трудом поднялся с лавки, поплелся за отцом в комнату как завороженный. Лукерья заохала, руками по бедрам заударяла. Стали раздевать парня, а он уже и глазами осоловел, и телом размяк, хоть бери его и разбирай по частям. Постелили белье чистое на коечку. Самого, как новорожденного, в свежее переодели. И так положили, не зная, что же предпринять? Дело к вечеру. За фельдшером в Гусиху бежать — не справиться засветло. К Авдотье Титовне, председателевой теще, обратиться — единственное средство.
— К председателю! — выдохнул Алексей Алексеевич Лукерье и стал торопливо набрасывать на себя одежонку.
Голубев Автоном сидел возле открытой дверцы топившейся плиты, на которой, утопленный в конфорку, дымил паром чугунок варившейся картошки, сидел и Портил глаза: подшивал просмоленной дратвой прохудившийся валенок. Свет за окном иссяк, керосиновую трехлинейку на время сумерек, то есть до ужина, не зажигали. Вот председатель и корячился, согнувшись в три погибели на махонькой, ростом с невзрослую кощонку, скамеечке перед плитой, которая, как и во всякой тутошней избе, была вмонтирована в передок русской печи.
Не узнав поначалу ворвавшегося в избу одновременно с громким стуком в дверь учителя, председатель, повернув от печки накрашенное жаром лицо, долго всматривался в темноту, пока учитель, отдышавшись, не проговорил «здравствуйте» и тем самым помог Автоному сориентироваться и определить, кого принесло.
— Беда, Автоном Вуколыч! Сынишка у меня… огнем горит!
— Что?! Иде?! — вскочил председатель, отбросив неподшитый валенок во мрак избяной, в котором вдруг закопошились какие-то всполошившиеся существа домашние. — Иде горит?! Школа?! Чего стоим?! Бяжать…
— Да не школа… Сынок мой, Павлуша… Захворал. Боюсь, как бы не помер до утра.
— Когда захворал-то?!
— Да разве… этим поможешь?! «Когда-а»?! Огнем, говорю, горит! Сознание отключается…
Председатель опять на скамеечку плюхнулся, харкнув в огонь, принялся сворачивать козью ножку.
— Напугал ты меня, Алексеич! Тьфу, мать твою… Думал, пожар… А тута вон што. Сколько, спрашиваю, болеет сынок-то? Почему днем не пришли? Отвез бы, куда след…
— Так ведь только вот и заболел… С лыж сошел… да так и поплыл, как свечка на огне! Выручай! Где твоя бабушка Авдотья? Пусть для начала посмотрит. Может, травки какой заварит? Охлаждающей жар?
— А и здеся я, миленький, туточки… Ужо побегим, справлюсь только. Ноженьки страсть как опухши… Катанки не налазят, хоть халявки надрезай. Жар, говоришь, у сыночка? А вот мы ему цвета липова заварим! Малинки сушеной. И пить поболе давать. Морсу клюквенного. Чтобы потел. Она, хворь-то, с водичкой и выйдет наружу. Кабы лето сейчас, ольхового листочка живого на простыню настелила бы да и обернула той простыней всего, как куколку… И где твой жар?! Как рукой сымет… Меня сама Килина кроваткинска тому способу обучала.
— Вот и применяй, мать, способы свои. Да говорилку-то прикрой, потому как ногами надоть сейчас шевелить, а не губой, печать на нее сургучная! Чтобы не открывалась зазря… — Председатель нашарил в темноте валенок и начал пристраиваться к топке, чтобы продолжить починку.
— Баба! — крикнул он куда-то в глубину дома. — Лампу запалила б, что ли… Гости у нас. Слезавай, печку наскрозь протрешь. А не поможет старуха со своей малиной липовой, завтра я тебя, Алексеич, к Шубину на санях подброшу. Ты хоть и не разрешил ему водочку в помещении пить, на мороз выгнал… Однако, думаю, не откажет в помощи. Добрый он мужик, по приметам. И тебя уважает… За ученость. Стихи, вишь ты, складывает, вояка… Становись там, Аляксеич, на колени, в ногах валяйся — проси у дохтура лекарство. У них есть. Сейчас, говорят, такое ценное лекарство против простуды имеется — как бог исцеляет! Самого ихнего Черчилля от воспаления легких спасли. А он, гляди-ко, старый какой да рыхлый… Ан отходили. Как рукой сняло, говорят…
— Да хто говорит-то? — вышла на свет председателева теща, ревниво оберегавшая авторитет лесной медицины. — Сарафанное радиво, чай? А наши-то травки всего пользительнее… Испокон веку…
— Городи! Будут тебе Черчилля травками поить… На них вся планета работает, на таких-то деятелей: и химия, и физика, и… разная там астрономия…
В школе Авдотья Титовна велела Павлушу раздеть, теплой самоварной водой на полотенце всего обмыть и мазью медовой на каком-то сале вонючем грудь ему растерла. Павлуша вяло сопротивлялся, не переставая и в полубреду стесняться своей наготы, которой касались чужие, незнакомые руки.
И тут учитель вспомнил про термометр, имевшийся в школьной аптечке, но никогда еще не применявшийся на практике. Дети в школе как-то не жаловались на простуду, чаще болели животами, расстройствами, случались нарывы, порезы, цыпки на руках, даже трахома на глазах, а простуда их то ли обходила, то ли не обращали они на нее внимания.
У Павлуши температура, когда ее измерили, оказалась не просто повышенной, но подскочила на шкале до сороковой отметки. В груди у него явственно шумело, на губах кожа потрескалась, глазам смотреть сделалось больно, и Павлуша, даже в моменты просветления, держал их закрытыми. Со стороны можно было подумать, что он спит, хотя на самом деле мозг его находился в болезненном полузабытьи. Наплывали видения. Вместо бабушки Авдотьи вдруг возникла Княжна и целовала его влажным поцелуем. На самом же деле — это Лукерья протягивала из-за спины Авдотьи руку и смачивала ему губы кисленьким морсом без сахара. Начальник колонии, сухощавый, неулыбающийся инвалид войны с тяжелой искусственной правой рукой, неожиданно, как синие очки, снимал со своего лица… глаза, оставляя на их месте пустое плоское пространство. Распрямившись над Павлушей, начальник вновь водружал на свое лицо органы зрения и тут же превращался в отца, растерянно теребящего дужку очков.
Очнувшись, Павлуша всякий раз улыбался отцу виновато, а бабушке Авдотье — смущенно. Лукерье же озорно подмигивал.
Прослышав о Павлушиной болезни, приплелся Яков Иванович Бутылкин. В граненом стакашке принес медку светлого, липового. Напоили Павлушу малиновым отваром и меду с грехом пополам в пылающее его нутро затолкали. Под утро температура упала, но незначительно. Сделалось ясно, что воспалительный процесс в груди мальчика только разгорается. Так он яростно опалил на морозном ветру верхушки легких, так, пропотевший на трудной, тугой лыжне, охолодал внезапно у школьного крыльца, что как бы и не простуда в нем вспыхнула, а будто огонь дьявольский, зверем потроха пожирающий, под ребрами обосновался.
Едва дождавшись утра, Алексей Алексеевич ринулся к председателю за обещанной подводой, чтобы на лошадке к Шубину ехать и там лекарство у него выпрашивать.
Учитель и сам однажды едва не затих от простудного огня и не единожды видел, как люди умирали в госпиталях и просто на вокзалах не от ран фронтовых, а всего лишь от простуды, не поборов того огня всепожирающего, не переступив кризиса воспалительного, и теперь одного желал — умом, сердцем, конечностями, всем клубком своего тела желал — успеть! Успеть до черты, до края, до того, как болезнь поднимет горящую душу высоко-высоко, чтобы швырнуть ее оттуда в пропасть неизмеримую, откуда возврата не будет никому, даже самым невинным и светлым…
Жительство Шубина располагалось в гущере не потревоженного войной леса, там, за много верст от замшелого Жилина, откуда незамерзающим ручейком струилась кривоколенная проселочная дорога, по которой день и ночь ходили помятые, деформированные в лесных лабиринтах «студебеккеры».
Голубев Автоном, запрягший в легкие, раскатистые двухместные саночки своего единственного выездного мерина, держался весело, даже залихватски, не давая учителю вешать нос и, видимо, «подзарядив аккумуляторы» на случай озноба или уныния-печали.
Прежде саночки у председателя были обиты кожаной полстью, от чего остались одни медные шляпки старинных гвоздей — по передку и бортам экипажа. Сейчас на дно возка председатель натолкал измельченной, прошедшей сквозь молотилку соломы, а также немного сена для мерина, костлявого и грустного, принакрытого от мороза дырявой попоной, скрепленной за концы под брюхом лошади обыкновенной гужевой веревкой, а не гладкими душистыми ремнями сыромятными.
Поверх коленей укрывались седоки огромным, былых времен, дедовским тулупом, на один только воротник которого пошла шкура целой овцы — лохматая и очень грязная.
— Не переживай шибко-то, Ляксеич! Образуется! Мальчонко у тебя крепкий, жилистый… Хоть и городского происхождения, а не маменькин сынок: видел и то и это, успел… Сколь лет без семьи, без призору, а живой и умом соображает за милую душу! Я ведь, Ляксеич, все про вас знаю. Про ваши по белу свету мотания. И про оккупацию Павлушкину, и про плен-от твой… И про колонию малолетнюю…
— Знаешь, а чего же молчишь тогда? Или доложил? Про Павлушкин побег?
— Доложил… Моя должность такая: докладывать… по совести. Колуном ей по затылку! Чтобы не вздрагивала… А ты как думал?
Алексей Алексеевич в ужасе отпрянул от председателя. «Выходит, что заберут Павлика? С учебы сорвут? А я-то планы строю, воздушные замки возвожу… Господи, что же это?! Погибнет мальчик окончательно…»
— Стойте! Остановите же… Нельзя ему в колонию! — Учитель схватился за брезентовые вожжи, осаживая мерина, меланхолично трусившего по накатанной шинами снежной дороге.
Из глубины леса на них выползал огромный, плашмя поваленный, бревенчатый треугольник, обитый по низу железными уголками-полозьями, нагруженный сверху для балласта белым заиндевелым булыжником. Треугольник тащился за трактором, вспарывая своим острым углом, как корабль волны, слежавшийся, утрамбованный снег.
Председатель, пропуская трактор, съехал на обочину. Возок их накренился, и, чтобы не упасть, Алексею Алексеевичу пришлось цепко ухватиться за рукав Автономова полушубка.
— Вот так-то… Держись за меня! А не то загремишь! — подмигнул учителю председатель, высвобождая из-под тулупа ногу и становясь ею на дорогу для перевеса саней в другую сторону. — Сказал: не боись, значитца — не боись! Главное: лекарство нам это редкостное у Шубина выпросить! Вот проблема! Все остальное — лабуда.
— Какая же лабуда?! Мальчик только оттаивать начал… Книжки читать. Ко мне прислушиваться. Уроки у него пошли, соображать приспособился. Даже вон — девушку полюбил… И все, стало быть, насмарку?! Нет! Если вы человек… вы позволите мне увезти Павлушу в Ленинград, к его матери…
— Тю! Сдурел мужик… Парень-то и помереть может, пока мы тут… Спасать его необходимо, а не разговоры разговаривать. Кому сказано: не боись?! Просил я за твово мальчишку. В Кинешме… Живет, говорю, тихо, при батьке… Уроки учит. Преступлениев не совершает. Ручаюсь, дескать, за него… Про взрыв его хулиганский я, понятное дело, не донес, промолчал.
— И… И — что же?
— А то же! Вот, ежели б судимый он был… По статье… Тогда б и речи не было. Повязали б еще по приезде. И куда надо доставили б. Ну а при таком раскладе, когда парнишка в несовершенных летах, малолетка можно сказать, — махнули оне рукой. При отце состоит — вот ему и лучше не надо.
— Да что вы? Неужто… согласились?
— А зачем его государству кормить-обихаживать? Лишний рот? Когда у него родители есть!
— Вы и про… мать осведомлены?
— Мы про все… того — ведаем. Должность такая.
— Спасибо, дорогой… Скажите, Автоном Вуколыч, а вы-то как? Вам-то что грозит… за этого Супонькина?
— А чего мне грозит? Ничего. Живой он, Супонькин-то. Вот ежели б подох… тогда другое дело. Только ведь бессмертный он, Супонькин. Никакая хвороба таких не берет… Потому как сам он и есть — хвороба. Людям в наказание даден. Псих ненормальный. И не вспоминай мне про него! От одной фамилии тошно.
Подъезжая к месту, Автоном и учитель явственно уловили запах горелого жилья. Натренированный на различных дымах войны острый нюх бывших фронтовиков сразу же определил, что пахнет именно сгоревшим жильем, а не просто дровами, торфом или еще какой, лишенной человеческого духа, «структурой».
На территорию сани Автонома Голубева не пустили, хотя прежде охотно пускали, так как он уже неоднократно приезжал сюда вместе с Шубиным и слыл хоть и не за своего, но во всяком случае не за чужого человека. Помимо запаха гари во всем, и в лицах людей прежде всего, угадывалась тревога.
Попробовали через дежурного узнать что-нибудь о Шубине, но получили молчаливый отпор и с расспросами больше не лезли. Хотели уже поворачивать оглобли, чтобы там, на дороге, где груженые машины надсаживаются, договориться с первым попавшимся шоферюгой и в Кинешму за лекарством, а то и за врачом нестись, когда у ворот заскрипел вдруг снег под колесами «виллиса», фыркнул двигатель, запели тормоза и наружу из деревянной, защитного цвета будочки-салона автомашины выскочили — совершенно квадратный, в белом полушубке и на тоненьких пружинках ног, обутых, несмотря на мороз, все в те же, что и летом, хромовые сапоги гармошкой, — Шубин, скуластый врач Бабахин и Курт.
У Шубина глаза были так широко распахнуты, с таким неподдельным удивлением смотрели на все, что его сейчас окружало в жизни: на ворота, на телефонный столб, на ободранную железным кузовом «студика» елку, на снег, людей, что со стороны могло показаться, будто он ослеп.
И вдруг Шубин квадратную короткопалую пятерню, как тарелку с угощением, плавно так Алексею Алексеевичу подносит и словно прозревает, узнав, кто перед ним стоит. Затем председателя Автонома той же тарелкой чугунного свойства по плечу, не сверху, а — по причине малого роста — сбоку ударяет. И вновь к учителю глаза свои прозревшие поворачивает.
— «Буря мглою небо кроет…» Вот такие, брат, дела… Плохо. Чепе у нас. Погорели. Бя-да-а! Ни минуты свободной, мама родная!
— У меня тоже вот… горе, — попробовал было учитель втиснуться со своей бедой.
— Вот когда посвободнее буду — заеду к вам в пустынный уголок, там и потолкуем. Согласны? А сейчас увольте, совсем нет времени, мама родная!
— Послушай, Коля… — обратился по-свойски председатель Автоном к Шубину, потому что в свое время за бутылкой Шубин и ему пытался стихи читать. — У нас тут такое дело, понимаешь… Болеет, а правильней сказать будет — помирает паренек один хороший… А точнее — сынок учителев, Павлик. Да ты ж его видел. Блондинчик кудрявый… который водку пить у себя в доме не разрешает… Припоминаешь? Одним словом, выручай. Огнем горит, простыл, кашляет. Боюсь, как бы легкие себе не выкашлял к вечеру…
— Да, да… Припоминаю. Кашляет, говорите? А что же я?.. Чем же я-то помочь могу? Для этого Бабахин имеется. Профессор по данной части. Прошу, доктор, не приказываю: сообрази, окажи… Ты ведь у нас голова по… поносной части.
Бабахин, врач медпункта, человек с очень большими скулами выдающимися, хотя и не восточного типа, молодой, лет тридцати, носивший на лице вдобавок ко всему еще и мелко вьющиеся, как бы дымящиеся рыжие баки, за «поносную» часть, похоже, основательно обиделся на Шубина, скулы его с лица вперед настолько выдвинулись, что казалось, будто из этих выпуклостей вот-вот рога коровьи наружу пробьются. Стало ясно, что Бабахин заупрямится и помощь оказывать не станет или сделает это по принуждению и далеко не сразу.
— Товарищ Шубин — Бабахин сурово прищурился, глаза на самые скулы посадил, нервничает. — Что вы мне, товарищ Шубин, про какого-то постороннего паренька чиликаете, когда у меня своими медпункт набит.
— Посторонних, Бабахин, в Советском Союзе нету. Окажи… Не виляй.
— Не могу ехать.
Наконец-то Алексей Алексеевич уяснил для себя, кто есть кто и что доктор в деревню к ним наверняка не поедет. Да и не нужно. А вот порошочков выпросить необходимо во что бы то ни стало. И тогда решил Алексей Алексеевич и впрямь совету председателя Автонома последовать: в ноги врачу упасть и лекарство то вымолить, пусть даже таким странным методом. Очки с лица отвел, на память сразу Олино, Сереньки Груздева сестры, лицо мышиное пришло — как это она тогда в школе перед председателем в ноги бухнулась! — и сам с открытым взором и бледной улыбкой застенчивой на одно колено в снег опустился… А потом — и на другое.
— Товарищ доктор… Ехать вам, извиняюсь, никуда не нужно. Дайте порошку порцию… Того самого, от воспаления легких… Хотя бы немножко. Температуру сбить. — Алексей Алексеевич руку трогательно вперед протянул, ладонью раскрытой вверх. А другой рукой как бы на эту ладонь пальцами трусить-посыпать стал. Нечто сыпучее… Голубев Автоном, стоявший чуть поодаль, поначалу испуганно улыбнулся, следя за действиями учителя, а затем, напружинив шею и как бы бодая Бабахина головой, стал ждать. После манипуляций, проделанных Алексеем Алексеевичем, согласно вдруг закивал, поддерживая просьбу.
Шубин учителя за подмышки тут же ухватил, от земли, как пьяного, приподнял. Бабахин же презрительно скулами качнул, глазами лениво на просителей повел.
— Сульфидину, что ли? — засомневался Бабахин. — Так бы сразу и говорили.
— Того самого… От которого Черчилль не помер, — уточнил председатель.
— Так бы сразу и… чиликали! А то развели… комедию… — Бабахин повернулся к калитке проходной, а следом за ним и наши пришельцы, подталкиваемые широким жестом Шубина, устремились на территорию медпункта.
Лекарство Бабахин отсыпал им в стеклянную баночку светло-коричневого стекла с притертой, плотно затыкающей отверстие пробкой. Объяснил, как его принимать. Учитель попытался несерьезный денежный знак взамен баночки Бабахину всучить, но врач руку учителя прочь отпихнул. Рыжие бакенбарды его словно огнем вспыхнули.
Автоном лекарю, в свою очередь, полкисета самосаду протянул, но и самосад оттолкнули. Что ж, значит — за здорово живешь получили… Бывает. Стали прощаться. Бабахин так и не улыбнулся ни разу. Скорей всего — не умел. Скулы мешали. Или еще что. Ушел за перегородку, захлопнув белый полупрозрачный шкафчик и свирепо посмотрев на просителей, которые мигом испарились.
Шубин, наоборот, пытался радоваться вместе с учителем, но что-то его тяготило, свое, то есть казенное. На прощанье он все-таки широко улыбнулся, так широко, что показалось, будто он не одними губами да глазами улыбается, но и грудью, руками распахнутыми и даже широченными галифе, а также сапожками пружинистыми, веселыми. И вдруг снова померк. Пришел как бы в себя, снова своими заботами наполнился.
— Спасибо тебе… Выручил! — Председатель глубоко затянулся козьей ножкой и, как горячий паровоз, выпустил из себя ядовитое сизое облако. Глаза его удовлетворенно заблестели.
Залезли в сани. Мерин, казалось, примерз к земле — так долго не хотел он с места стронуться: не менее минуты раскачку давал, словно раздумывал, покуда его председатель кнутовищем под хвост не шаркнул. И вдруг все стало понятно: сено! Пока они лекарство у Бабахина добывали, кто-то их мерину настоящего клеверу душистого солидный клок подкинул. Вот она, травка-то, и спаяла конягу с тем местом. Остаток клевера председатель аккуратно со снега подскреб и в сани втиснул.
Павлуша навсегда запомнил то невероятное, истерзанное, взбудораженное тревогой и радостью, полузнакомое из-за отсутствия на нем синих очков лицо отца, которое вспыхнуло в комнате над ним, лежащим в объятиях болезни, как тусклое, но негасимое солнце в разрыве облаков.
В комнату к болящему прорвался и председатель, что сиял за спиной Алексея Алексеевича улыбкой чемпиона, только что обогнавшего всех на дистанции и готового получить за это медаль, а то и орден. Однако Лукерья яростно замахала на него руками, невежливо оттеснив на кухню к столу, где и налила ему чего-то сокровенного, единственно ей известного, способного не только унять закипающий в суставах ревматизм или прострел в пояснице усмирить, но и зажечь в охолодевшей на морозе крови «огонь безумных желаний и непредугадываемых устремлений».
Алексей Алексеевич ворвался тогда в комнату больного с протянутой далеко вперед коричневой баночкой, словно содержалось в ней не какое-то химическое соединение белого цвета, не имеющее отчетливого вкусового оттенка, а, скажем, помещалась в той закупоренной баночке та самая неуловимая, никем не зафиксированная душа человеческая, в данном случае — Павлушина, которая попыталась было улететь, покинуть насиженное место, но за которой, как Паганель с сачком на бабочек, погнался Алексей Алексеевич и вот настиг, ухватив за крылышки, поместив, резвую, в стеклянный пузырек, чтобы вернуть ее владельцу.
Далеко не сразу, не в первый день после принятия порошков отступила, попятилась от Павлушиной постели болезнь.
В один из этих муторно-тягостных дней, когда Павлуша, выздоравливая, поминутно окунался в густое, медлительное спанье и вылезал из него с трудом, как в летнюю жару из речки спасительной, увидел он в проеме открытых на кухню дверей необыкновенно раскрасневшееся, зажженное морозцем и решимостью лицо Евдокии. На ее короткой кроличьей шубенке, за спиной узенькой, висел громадный рюкзак мужичий. В руках лыжная палка, о которую она опиралась, едва держась на ногах. Евдокия молча кивнула Павлуше, вопросительно при этом улыбнувшись. И сказала всего только одно слово:
— Пришла…
Затем ее лицо куда-то в сторону отъехало. В дверях появился отец. Он стоял, потрясенный радостью. В его глазах, как в зеркале, как в приборе оптическом, Павлуша продолжал видеть Евдокию.
Однажды, когда Павлуша уже вставал и даже, закутанный, ненадолго выходил из дому на воздух, чтобы сквозь вязаную варежку, поднесенную ко рту, морозной свежестью подышать, увидел он в небе синем, прозрачном белый самолетик, высоко-высоко пролетающий. Потом и гул его моторов расслышал. «Надо же, — подумалось вдруг, — на такой вышине, в синеве ледяной, такой одинокий с виду самолетик… А ведь в нем люди сидят. Пилоты. Может, курят в данный момент. Или… песенку поют. И печечка электрическая каюту отапливает. И лампочки на приборной доске светятся».
Не так ли и сам Павлуша летел до сих пор, и никто из посторонних людей не задумывался над тем, что и эта душа может любить, плакать от счастья, верить, что внутри у нее, под «обшивкой», жизнь мудреная, хрупкая, теплая, неповторимая притаилась — жизнь человеческая.
1982Под музыку дождя (Повесть)
Посвящается Светлане Вишневской
Что предание говорит?
Прежде Евы была Лилит.
Прежде Евы Лилит была,
Та, что яблока не рвала.
Не женой была, не женой,
Стороной прошла, стороной.
………………………………………
Улыбнулась из тростника
И пропала на все века.
Вадим ШефнерГлава первая. Даша
на оторвалась от холодного облака и теперь падала на землю. Тоненько посвистывал воздух, обтекая прозрачное податливое тело. Сверху и ниже ее, а также с боков уносились к земле похожие на нее создания. Но это были другие создания.
Капля ударилась о Дворцовую площадь, оставив на брусчатке забавную кляксу.
На лице женщины, возле которой упала капля, очнулась тихая улыбка, наверняка не исчезавшая с этого лица даже во сне.
Улыбка брала свое начало в глазах. Далеко оттолкнувшиеся друг от друга, глаза эти, на первый взгляд несерьезные, простодушные, налитые нерастраченной синевой детства, обладали изрядной живостью и даже властью.
К примеру, стоило Даше войти в полупустой трамвайный вагон, как ее сразу начинали видеть все. Одновременно. А ведь рост ее, вместе с каблуками, не превышал ста шестидесяти пяти сантиметров. Возвышали глаза. Чистые, утренние, спокойные. Резко в них почти никогда не вспыхивало, но как бы все время рассветало.
Свет излучали даже ее зубы — сильные, здоровые, сбереженные. На прямом, хотя и не очень заметном носу во время улыбки возникали веселые бороздки, как бы ставленные лучами света, исходившего от ее глаз.
За модой она следила, но рассеянно, не пристально, как, скажем, следят за поведением неба обыкновенные граждане: луну, повисшую над городом, заметят или дождевые облака — не больше.
Официально замужем еще не была, но имела, как говорили прежде, этаких воздыхателей, этаких стойких, но грустных и жалких нахлебников по «чувствительной части», этаких цепких, надежно за нее ухватившихся невеселых молодых людей. И надлежало их не любить, но как бы все время выхаживать, спасать от немочи духовной. И обошлась бы она без них, да прочно, видать, застряли в ее характере замашки «сестрицы милосердной».
С одним из таких одуванчиков познакомилась она год назад при следующих обстоятельствах. Выйдя наружу из прохладного храма, где работала экскурсоводом, возвращалась домой по территории Петропавловской крепости, как вдруг почувствовала неясное беспокойство. Как будто призыв чей-то, вялый, о помощи уловила. Откуда-то из-за стены, то есть снаружи крепости исходящий. И она побежала туда, на этот призыв.
Сперва за ворота вырвалась, затем по берегу вдоль воды устремилась. Какие-то типы пригнувшиеся кинулись от нее врассыпную. И вдруг под самой стеной, в каменном, сыром холодке наткнулась на поверженного человека неопределенных лет, во всяком случае не старика еще. Помогла ему очнуться, брызнув под нос духами, извлеченными из сумочки.
Когда они затем на проспект вышли, многие на них оглядываться стали. Оглядывались скорей всего потому, что в сравнении с ним была она неуместна. Опрятно одетая во что-то светлое, воздушное, прикасалась к нему бесстрашно, не замечая безобразия его теперешнего, не ощущая на себе посторонних взглядов.
У него по измятому, в свежих ссадинах лицу еще минуту назад текла кровь. Мышиного цвета вельветовый пиджак изрядно выпачкан, швы местами, и прежде всего под мышками, разъехались, на спине отпечатался огромный след чужого ботинка.
— За что они вас? — Даша сделала попытку удержать пошатнувшегося незнакомца и вместе с ним едва не упала на подстриженную траву сквера.
— За что, спрашиваете? — сплюнул он, нисколько не стесняясь девушки. — А за то, что деру не дал. Не отвалил в сторонку. Как это принято у граждан по вечерам. Пили там подонки одни. Распоясались. Три рубля спрашивать стали у всех. Бутылки о стену! Пляж загадили. Никто ни словечка шутникам. Я только хмыкнул иронически. В их сторону. И за это…
— Вы знаете… — потянулась к нему голосом. — Я их, кажется, видела! Так что, если понадобится, я и в свидетели пойду.
— Спасибо. Да вы не подумайте: я им тоже насовал будь здоров.
— Главное, вовремя подоспела! От таких жестоких людей всего можно ожидать. Когда они убегали, в руках одного что-то сверкнуло! Наверняка не зеркальце. Хотите на себя взглянуть? — протянула раскрытую пудреницу, от которой он вяло отмахнулся. — Дайте-ка я оботру вам лицо. Царапины припудрю…
Незнакомец разлепил заплывшие, заголубевшие от побоев веки, вытаращил на Дашу неудачного землистого цвета жиденькие глаза и вдруг нерешительно и как-то некрасиво улыбнулся, неясно догадываясь, что женщина эта молодая, неизвестно откуда взявшаяся ни в малейшей степени унизить его не собирается и ведет себя так придурковато — непонятно почему. Скорей всего, познакомиться хочет. Наверняка хромая или еще с каким изъяном…
И тут они с размаху на лавочку сели. Под деревом.
— Эдик, — протянул он ей грубую, неопрятную пятерню. — Геолог. Вот уволился. Отдыхаю.
Даша руку геолога приняла, пожала, не придав значения аромату, исходившему от слов подвыпившего Эдика.
— Повернитесь ко мне… — осторожно коснулась грязных ссадин душистым платком.
— Теперь от меня, как от парикмахерской, будет… — вяло сопротивлялся геолог, торопливо рассматривая женщину, словно боясь, что глаза его побитые вот-вот полностью закроются оранжево-голубыми складками опухоли.
Когда попробовали со скамьи приподняться, Эдик громко застонал и покачнулся, шевельнув маской лица.
— Мы, кажется, окрасились, — прошептал, ощупывая штаны и одновременно теряя сознание.
Потом было такси, которое кричащим, беспомощным, а в итоге удачливым движением руки выловила Даша на вечереющем проспекте. Потом она повезла его туда, где он проживал, но по дороге шофер такси посоветовал ей отвезти геолога в травматологический пункт.
Когда геолог, нюхнув нашатыря, очухался, поехала к нему домой — сопровождающей. Жил он возле самого Смоленского кладбища на одной из последних по счету линий Васильевского острова в огромной коммунальной квартире. В комнате у него отчетливо пахло одиночеством. Явно прослеживалась тропинка, проложенная в застарелой пыли от дверей к мутному оконцу, под которым сонной облезлой дворнягой лежала дряхлая, с ввалившимся животом тахта. На подоконнике в граненых стаканах — букетики из окурков. На стене, сорвавшиеся с одного гвоздя и чудом державшиеся на втором, огромные лосиные рога.
Эдик, как только вошли в комнату, сразу же уселся под эти рога и стал пристально, с нескрываемым изумлением рассматривать Дашу, раздвигая веки опухших глаз при помощи рук — поочередно.
— Ладно, хорошо… Но кто вы? Откуда взялись? — спросил невесело, видимо стесняясь своей расслабленности, запустения комнатного.
В ответ она только утешающе улыбнулась ему. Затем прошла по тропинке через всю комнату к тахте, неуверенно положила ему на голову, на неприбранные волосы свою легкую ладонь.
И тут геолог сплоховал, приняв это ее движение за обыкновенное согласие побыть наедине. Он стремительно перехватил ее прохладную руку своей правой, а левой попытался обнять Дашу пониже пояса.
Даша вздрогнула от неожиданности, но вырываться из глупых рук не стала, потому что думала сейчас о другом, а именно о мужской неловкости, которая неприглядней неловкости женской, детской и даже инвалидной.
И тогда геолог в лицо Даше посмотрел. И то, что он там увидел, остановило его. В глазах ее добродушных обнаружил он вовсе не страх, но всего лишь обволакивающее тепло милосердия.
— Нет, нет… вы меня неправильно поняли… — причитал он в жидкой, слезливой истерике, раскисший от всего с ним происшедшего, от каждодневных бессмысленных возлияний, от потерянности своей во времени и пространстве, причитал, размазывая тяжелые, злые, похабные слезы по небритому лицу.
Потом Даша ушла, оставив на стекле, на пыльной поверхности замурзанного оконца номер своего телефона. Подушечка пальца, которым она писала, сделалась черной, и девушка долго еще потом оттирала многолетнюю копоть с пальца, спускаясь по вонючей лестнице навстречу светлому, переходящему в белую ночь вечеру.
Работала Даша экскурсоводом в Петропавловской крепости. Попутно, обучаясь на заочном отделении института имени Репина, приобрела искусствоведческое образование, а на интуристских курсах упрочила знание английского, дававшегося ей легко еще со школьной скамьи. Иногда позировала друзьям живописцам, мечтала написать роман из эпохи Возрождения и поэму о своем любимом композиторе Антонио Вивальди. Еще умела испечь в газовой духовке «моментальный» пирог с яблоками, сама себя обстирывала, обшивала. Жила не одна, а в обширной семье: мать, отец, братья и еще полный дом каких-то странников — не то родственников, не то бессемейных, одиноких людей.
И вот еще особенность: с ее-то лишенной отчетливых дефектов внешностью, с ее добромыслием в огромных глазах — до сих пор не сумела она выйти замуж… Не то чтобы не смогла, но как бы не догадалась.
Человек, родственный ее помыслам, проживал пока что в облаках ее воображения. Два-три реальных Эдика, за которыми ходила, как нянька, и которых молчаливо терпела, были при ней всегда. Но отнюдь не из их среды появлялся в ее мечтах тот в меру таинственный, а подчас и конкретный облик, боготворимый ею. Он был сам по себе, Эдики — сами по себе. Вечерами ходила она тайком от всех на воображаемое свидание со своим Героем… Но обо всем этом чуть позже.
Сначала о выражении ее глаз. Потому что именно выражением глаз останавливала она встречных людей. Глаза ее излучали радость. Это их главное свойство срабатывало моментально. Недаром собаки запросто подбегали к ней на полусогнутых и, склонив набок головы, начинали задумчиво помахивать хвостами. Присутствие в окраске глаз синевы небесной в сочетании с синевой душевной, пожалуй, и порождало этот магнетический эффект добра, эффект, исключающий всякий намек на сокрытие чувств. Благодаря глазам на лице Даши ни когда не было маски.
А ведь посмотрите-ка в глаза толпе, взгляните на ее неуправляемое лицо-муравейник: сколько там, особенно в городе, где-нибудь на Невском в летний, «обнаженный» период, сколько там высокомерных прищуров, напускной меланхолии, откровенных позывов, «таинственной» сомнамбулии, бесшабашной залихватчинки, наигранной, лжесчастливой умиротворенности и напускного равнодушия. Недаром прежде шляпы, плаща или зонтика, выходя на улицу, запасаемся мы сподручного выражения личиной, и под ее опекой живем весь день, не срывая ее с лица даже в столовых, даже в уборных, даже, отходя на сон.
Даша любила свой город непринужденно, не задумываясь над этим движением души. Любила — весь, целиком. Дружила со многими местами, но чаще — с открытыми, не зажатыми в каменные объятия домов. Нева с ее набережными, Василеостровская стрелка, мосты и даже кладбища с незабвенными могилами Тютчева, Достоевского, Блока. Мощенный булыжником двор Петропавловки, Марсово поле… А вот Невского проспекта стеснялась, предпочитая любоваться им со стороны, а то и вовсе по памяти, не вторгаясь без надобности в его многострунную копошащуюся стремнину.
Но почему-то лишь на Дворцовой площади, возле которой родилась, как возле озера детства, охватывали ее приливы редчайшего восторга и благодарности перед жизнью, перед летящей в бескрайнем пространстве Землей — за возможность дышать, видеть, впитывать, преклоняться и верить в многомерность, неслучайность, многозначимость бытия. Иногда ей хотелось тихонько лечь на брусчатку, как где-нибудь на лесной поляне в изумруд-траву, свернуться клубочком и слушать, слушать город… Город, в котором она возникла, который познакомил ее с солнцем и городскими птицами воробьями, музыкальными дождями, листвой парков, стриженой, послушной травой, с дворовыми кошками и бродячими собаками, с глазами матери и улыбкой отца, с богами и богинями, которые, позеленев от времени (не от злости!), разбрелись по крыше Зимнего дворца, с громоздкими, но такими ручными Атлантами, безропотно подпирающими своды небесные, а точнее — тяжкие своды эрмитажного крыльца, с крылатым ангелом на вершине столпа, склонившимся к земле в изящном полупоклоне…
С этим металлическим или каменным, достаточно прочным, неизменным, а стало быть, основательным народцем, там и тут возвышающимся на улицах прекрасного города, завелась в Дашином воображении как бы некая торжественная игра. Еще в школьные времена, наглядевшись досыта на сопливых, пропахших табаком горлопанов, а позднее соприкоснувшись и с более взрослыми разгильдяями мужского пола, Даша, не оскорбляя суетливых достоинств взъерошенных сверстников, в тайне от них, в «свободное от работы время», не долго думая выбирала себе скульптурного кавалера или рыцаря, приглашала его спуститься на грешную землю и так вот, поддерживаемая металлической или каменной рукой под локоток, передвигалась по городу, навещая свои любимые места, молча разговаривая с тем или иным спутником-идолом на темы вечные, лишенные признаков суеты, а также безнадежности.
И совершенно ей было тогда все равно, как на нее посмотрят со стороны, не усмехнутся ли ехидно, застав ее фланирующей с очередным красавцем, скажем с каким-нибудь бронзовым юношей, оставившим крылья на дворцовой крыше, на лице которого якобы произрастала шелковистая опрятная бородка с малахитовым медным отливом, а длинные иконописные кудри на голове, до блеска и хруста промытые благозвучными дождями, отшлифованные там, в вышине, шуршащими снегами и свистящими ветрами, ласково позванивали… Случалось, что спутника себе на сказочную вечернюю прогулку выбирала она из фигур весьма примечательных, таких, как закованный в доспехи Марс, смотрящий за Неву с пьедестала на Суворовской площади и призванный скульптором изображать величие и славу замечательного русского полководца, не отличавшегося в своем натуральном виде богатырским сложением. А как-то в одну из белых ночей попросилась она бесстрашно к самому Петру Великому — на лошадь. И царь-плотник, отличавшийся при своей жизни не только жестокостью и деловитостью, но и фантазией нрава, не отказал девушке: протянув ей руку, помог усесться впереди себя на коня, а затем прокатил Дашу по городу достаточно резво и неповторимо…
Приступов своей душевной восторженности Даша от посторонних глаз не скрывала: могла вдруг совершенно бесстрашно что-нибудь учудить, нашалить с удовольствием, но беззлобно, не причиняя кому-либо вреда. Звонила же она Александру Блоку! Не испугалась.
Дома огромный в красном коленкоре адресный справочник «Весь Петроград» за 1916 год на антресоли пылился. И вдруг Федя, младший брат, девятиклассник, книжной горячкой заболевает. В смысле собирательства. Шкаф за десятку в мебельной комиссионке приобрел, такой древесный одер, едва живой, в блокадные времена осколком от снаряда пробитый навылет. Принялся его книгами заполнять. Учебу запустил. Бутылки усиленно в приемные пункты сдавать взялся, макулатуру всевозможную, дающую право на приобретение ходовых книг, на помойках квартала выуживал. По книжным букинистическим магазинам обходы стал совершать. С «жучками» книжными стакнулся. Портфель громоздкий завел. Ходит по городу, как грузовик с кузовом. Что-то обменивает, с кем-то шепчется. От отца родного подзатыльник отрезвляющий не так давно схлопотал, не повлияло. У себя дома Федя ревизию всем закуткам учинил. И однажды до антресоли добрался и справочный тот фолиант осторожно, как вазу хрустальную, дымчатую (от пыли), с верхотуры снял и в ванную комнату отнес — влажной тряпкой обрабатывать. А на другой день Даша в справочник этот заглянула и сразу же адрес любимого поэта разыскала. И, не откладывая, позвонила Александру Блоку на Офицерскую, ныне улицу Декабристов. Впереди старинного пятизначного номера двойку набрала, в конце — ноль. Ответили печальным женским голосом: «Миленькая, сегодня он поздно вернется. У него лекция в Сосновом Бору. На атомной электростанции. Что передать Сашеньке?» — «Передайте, — сказала, — что я люблю его». Печальный голос сразу повеселел и забавно так в трубку булькнул: то ли смешок проглотили, то ли затяжку дыма сигаретного. А потом: «Вот это я понимаю…» И все. Даша трубку на аппарат положила.
Дворцовую площадь Даша пересекала как минимум дважды за день, потому что жила неподалеку от нее и на работу в Петропавловку ходила пешком.
Сегодня Даша возвращалась со службы раньше обычного, так как в соборе, где она проводила экскурсии, какой-то ненормальный, а попросту хулиган облил один из царских мраморных саркофагов ярко-красной жидкостью, скорей всего нитрокраской, из химического баллончика с распылителем. В общем, испакостил, осквернил. Его моментально отловили, потому что и сам он весь в краске той перемазался с ног до головы. При царе бы с него за такое шкуру с живого чулком сняли. И нынче, конечно, не похвалят. Даже запросто остричь могут и в колонию на годик запихнуть.
Во всяком случае, доступ в храм на сегодня пришлось раньше обычного прекратить, иначе приезжие старушки иностранные такого после наговорят — святых выноси.
В момент, когда хулиган баллончиком своим зашипел, Даша обслуживала немногочисленную группу англоязычных интуристов. (Одна старушка, такая чашечка фарфоровая, вся в трещинах-морщинах и с девическими зубами, вживленными в челюсть, поинтересовалась, каким размером обуви Петр Великий пользовался и какой западной фирмы того времени ботфорты предпочитал.)
Интуристы и фарфоровая старушка в том числе, когда негодяй по белому мрамору красной струей прошелся, сразу же на него осуждающе по-английски залопотали, а потом, когда нарушителя милиция повязала, стали, в свою очередь, на милицию осуждающе посматривать. Но уже молча.
Даша, выходя из крепости, в зоопарк решила заглянуть, на бессловесных тварей для поднятия настроения посмотреть. Перед этим, как всегда, в продуктовый магазин забежала, курицу мертвую купила, хлеба, сыру, и так вот, нагруженная, почему-то не домой устремилась, а к зверюшкам в гости. Подошла к большущей клетке, где тигр у самой решетки дремал или делал вид, что дремлет: глаза полузакрыты (или полуоткрыты?), морда на лапе, как на подушке, лежит. Протянула руку (кто-то сразу ахнул!), пощекотала у тигра в ноздре. Зверь глаза полностью открыл, однако не отпрянул. Позволил Даше поиграть неприкосновенным носом. Тут же ее примеру, когда она от клетки с тигром отошла, последовал один какой-то подвыпивший интеллигент в очках, разговаривающий на эстонском языке; потом уже про него рассказывали в толпе, будто он писатель, пишущий для детей, наивный такой человек в шортах, незагорелый и возомнивший, что теперь-де как бы все несколько изменилось в доступную сторону и что даже полосатых бенгальских тигров запросто можно руками трогать. Ну, тигр его и ударил. Челюстью. По указательному пальцу. Которым писатель на машинке стучал.
Затем Даша у себя на Дворцовой очутилась. Неминуемо. Как воды Невы — в Финском заливе. Жила Даша позади площади, сразу же за мостом через Мойку, возле Капеллы — в большом проходном дворе, которым люди с улицы Желябова на Дворцовую к Эрмитажу пробираются.
К вечеру заметно похолодало. Приплывшие с запада серобокие облака пометили веснушками дождинок недавно обновленный асфальт площади и ее заново вымощенные брусчаткой подступы к колонне. Прохожие, напуганные коготками дождя, поспешили убраться.
Навстречу Даше неожиданно, как колонна из-за колонны, вышел баскетбольного роста мужчина, одетый в форму гражданского авиатора. Они благополучно разминулись, а затем, обойдя монумент, повстречались вторично, уже по другую сторону столпа.
При ближайшем рассмотрении мужчина оказался молодым и на лицо приятным, но уж очень высоким! Даша, на него глядя, голову до отказа вверх задрала, так что повлажневший на мимолетном дожде узел ее тяжелых волос уперся ей чуть ли не в спину.
Помолчали немного. И Даша не выдержала:
— Если хотите… давайте познакомимся. Не караул же кричать? — пролепетала под нависшим над ней, как фонарный столб, незнакомцем. — Меня Дашей зовут.
— Не страшно? — спросил он, сведя брови. — Одной-то? Во чистом поле?
— А я не одна. Почему вы так решили? — улыбнулась отчетливей.
— Не одна? А с кем же? С мешочком полиэтиленовым? Имя-то какое позавчерашнее: Да-ша… Ну, так с кем вы? Колечко на пальце отсутствует…
И тут Даша, старательно изображая экскурсовода, дрогнувшим голосом принялась знакомить летчика с обступившими их строениями, как с живыми людьми.
— Вот, рада представить: синьор Растрелли, — указала на Зимний дворец. — А это… — оборотилась к колонне, — это господин, а точнее — мсье Монферран! А вот мастер с фамилией попроще. Всего лишь Захаров. А посмотрите, как изящно выглядит, — ткнулась ее рука в сторону Адмиралтейства. — А там, слышите?.. Оттуда, от Капеллы, приближается маэстро Вивальди. Хотите, я вас представлю ему? Правда, он несколько замкнут…
— Не озябли? — опрометчиво дотронулся летчик до ее светлой кофточки, совсем как тот, в зоопарке, которому тигр указательный палец испортил.
Даша поежилась. Тогда летчик вскинул свои брови, как бы изумляясь.
— Посмотрите на себя: вы же синяя!
— Это не от холода. Мне тепло.
— Понимаю… Это от глаз, они у вас заоблачного цвета. Верьте очевидцу: треть жизни — за облаками. В мае тепло коварное… Можно вокруг колонны побегать. Или потанцевать: такая шикарная танцплощадка! Вот только без музыки…
Даша засмеялась. Открыто, непринужденно. Будто ребенок, которому понравилась новая игра.
— Ой, да знали бы вы, сколько на эту площадь музыки пролилось за три-то столетия! Здесь все музыкой пропиталось… Недавно я флакончик на антресоли нашла. При помощи младшего братца. Прабабушкин. Из-под духов. Конец прошлого века. Париж. Фирма.
— Неужели с духами флакон? — поинтересовался ради приличия летчик.
— Понимаете… порожний флакончик…
— Не понимаю.
— Представляете, пахнет из него! Не заткнуто вовсе, а доносится аромат из другого столетия. Я это к чему? Ощущение такое, будто музыка с этой площади тоже полностью не испарилась. Только флакончик других размеров. Почему вы так посмотрели на меня? Все правильно. Мне уже двадцать шесть. Старая дева.
— Нынче девушкин возраст до сорока растянулся. Косметика, тряпки модные… Послушайте, давайте представимся наконец друг другу. Зовут меня Стасиком. Штурман. Летаю. Иногда очень далеко. Приглашаю вас… ну, хотя бы в мороженицу. Такая встреча… Сколько можно вокруг колонны ходить?
— Всю жизнь. Все двадцать шесть. Правда, первый год — в коляске. Иногда я смутно припоминаю самое начало, свой первый день на планете. Мама подобрала меня здесь, на ступенях возле монумента. Завернутую в красную бархатную скатерть. В такой обрывок зари. Непременно — утренней!
— Красиво. И все-таки — меня Стасиком зовут. Запомнили?
— А я думала Эдиком.
— Не понимаю. В загадочную играете?
— Не обижайтесь… Мы ведь так неожиданно с вами столкнулись. Как две эпохи. Или два стиля… Скажем, Ренессанс и Модерн. И я, конечно, волнуюсь, понимаете, Стасик? Нет, лучше — Стас. Мужественнее. Не обижайтесь, просто я уже знаю двух Эдиков.
— Всего лишь двух?
— Зато каких! Совершенно необыкновенных…
— Каких-нибудь гениев тихих, засекреченных? Или космонавтов будущих? Суперменов? Чем еще удивить можно, какими экземплярами?
— Подумаешь, супермены! Это что… У меня один Эдик, который на гитаре играет, геолог по образованию, пить бросил! Во… Разве не чудо? Полгода капли в рот не брал, представляете? Правда, на большее его не хватило…
— Ну а другой Эдик? Он что же, небось кушать прекратил? Один не пьет, другой пищи не приемлет. Теперь это модно — чего-нибудь не делать: не работать, не рожать, не любить, не ладить…
— А второй Эдик у меня самоубийца. Наполовину. Так что не отгадали.
— Жить не желает? Оригинал, тоже мне… Перегрелся? И почему только наполовину?
— Второй Эдик, который художник, из настоящего ружья стрелялся. У себя в мастерской, в башне. Правда, не до смерти. А всего лишь до полусмерти.
— Из-за вас, конечно?
— Вовсе нет! Господь с вами… Да как бы я жила после этого? Вы что, сомневаетесь в моей нравственности? А вы представьте… Может, я неплохая вовсе. Клянусь — совпадение то, что мы с вами столкнулись. Случай. Берите в его величество Случай? Просто я устала немного. Зима такая длинная, серая… И вдруг май! И потом я ужасно люблю это место. Вот эту брусчатку. Свернуться, прикорнуть на этих камешках… и растаять на дожде. Под этот панцирь просочиться. Чтобы остаться там навсегда, под этой площадью.
— Пугаете? А живете далеко?
— Рядом! Во-он в том дворе за мостом. У меня идея: хотите в гости? Ко мне, к нам?
— А как же ваши эти… ну, Эдики? Они ведь заворчат при виде меня. Интересно, которого из них вы предпочитаете? Трезвенника или того, что рисует неудачно?
— Мне их обоих жалко. Не смейтесь над ними: они страдают. А художнику я даже намекала, сулила как бы, обнадеживала. В смысле женитьбы. Лишь бы он не стрелялся повторно. Не грозил…
— Тоже мне! Нашли кому обещать! Самоубийце… Да еще липовому, не до конца дело доведшему.
— Вы знаете, он серьезно стрелялся. Хотя и дробью. Легкие были задеты. И теперь он кашляет. Не оставлять же в беде…
— Оставлять! Какой это человек? Какая это беда? Небось горячка белая, вот и стрелялся?
— Стрелялся из-за того, что не гений. Не Тициан. Один ядовитый искусствовед растолковал ему. А разве так можно? Ну не Тициан… Ну Потемкин. Тоже звучит. Все равно он настоящий художник: страдать может. И я его так не оставлю. Не успокоюсь, пока на талант свой, богом данный, покушаться не перестанет.
— Какая-то вы, извиняюсь, не тутошняя. Со своими сказочками.
Даша испуганно посмотрела на сомневающегося Стасика и вдруг откровенно залюбовалась мощью его тела.
Миновали площадь, направляясь к набережной Мойки. Летчик послушно плелся следом. В его руках белел Дашин мешочек, в котором оттаивала курица, черствел хлеб, мрачнел сыр, бродило в дремотном состоянии купленное в «Кулинарии» тесто для пирога с яблоками и постепенно приходила в себя, в мягкое рыбье состояние, безголовая мороженая рыбка путассу.
От Мойки до улицы Желябова дома образовывали целую связку проходных дворов, соединенных арками. Даша проживала во втором по счету из тех дворов, до поздней ночи многолюдных, журчащих говором и шуршащих подошвами ног. Правда, люди во дворе не задерживались, все время наружу вытекали, исключая замечтавшихся влюбленных…
В своем дворе Даша подошла к серенькому автомобильчику, от которого веяло зноем недавнего пробега. Вставила ключ в замок, отворила дверцу.
— Моего старшего брата «Жигули»… У меня опять идея! Поехали за город. Нюхнем кислороду на заливе. Горючки полбака. Предлагаю по Приморке. Не все ли вам равно? Я же вижу: гуляете, на часы ни разу не взглянули… Ну так как? Считайте, что меня понесло! И еще интересно: поместитесь в машине или нет? Если поместитесь и голова из машины торчать не будет, познакомлю вас со своим табором. Вы, конечно, допускаете, что табор может быть и не цыганским? Скажем, японский табор или шведский, якутский? Согласны?
— Допустим.
— У нас — русский табор. Самый угрюмый. Нет, самый серьезный! Разговоры только о мировых проблемах, о смысле жизни, вечности. И, конечно, о судьбе России. Ниже этого уровня ни-ни! Даже за игрой в лото. Я их очень всех люблю. И смеяться над ними не позволю. А теперь согнитесь быстренько и полезайте в машину.
Сняв с головы фуражку, Стас подобрался, как перед прыжком, и довольно сноровисто проник в машину. Обосновавшись на переднем сиденье, нашарил возле пола рычажок, откатил сиденье назад — до отказа. Колени его все равно торчали высоко. Стас послушно и как-то по-собачьи грустно положил голову себе на ноги, стал ждать развития событий.
Даша взяла у него фуражку, метнула ее к заднему стеклу на полочку, свернула вдвое, постелив на сиденье, чтобы не измялся, летчицкий пиджак.
— Ждите меня, я мигом! Отнесу им продукты.
…Возвратясь, неумело принялась сдавать машину, пятилась рывками, наконец поставив машину лицом к воротам, рискованно разогналась, проскочила меж двух кирпичных столбов, на которых чугунные створки ворог подвешены, и, выехав на Дворцовую, повернула направо.
— У вас, что же, и водительские права имеются? — смиренно поинтересовался молодой человек.
— Понимаю вас. Привыкли в небе безо всяких препятствий. А здесь, в городе, столько всякого: выступы, углы, люди, собаки, кошки. Над головой провода… Документы у меня в порядке, не липовые. Только я время от времени засыпаю за рулем. Специально чтобы сына увидеть.
— Сколько вашему сыну? — машинально поинтересовался Стас.
— Нисколько. То есть — немного. Самая малость. Его Платошей зовут.
— Ну, а… папаша у Платоши, кто он? Имеются сведения?
— Отец у Платоши, конечно, воображаемый, не материальный. Из сна. Я его толком и разглядеть-то не успеваю — такой короткий сон. Короткий и всегда один и тот же. Иными словами, навязчивый. Правда, яркий и вместительный. Вся моя жизнь в нем, как желток в яйце, умещается. Да и не сон это никакой, а… музыка!
Даша резко вильнула на дороге, объезжая что-то мизерное, то ли яблоко, то ли зеленоватую лягушку: давить колесом нечто цельное, еще не разрушенное, она так и не научилась.
Ездила Даша рисково. Правда, реакцию имела отменную. И все же талон ее был дважды проколот компостером инспектора. От преждевременной смерти, помимо бронзовых архангелов и веры в удачу, хранило ее одно немаловажное обстоятельство: ездила она трезвой. Всегда.
За рулем свободно разговаривала, как пела. Оценив обстановку впрок, могла посмотреть в сторону, не теряя нити…
Миновав пост ГАИ, Даша въехала в предзакатную синеву, выжимая из «жигуленка» не менее сотни километров в час. В районе Репино после парковочного знака свернула с дороги к асфальтированному углублению стоянки — невдалеке от успокоительно вздыхающего накатом волн берега Финского залива. Опустила стекла сразу с двух сторон. Ворвавшийся в машину ветерок донес запахи большой воды, беспокойного морского пространства.
— Я про сон не досказала. Будете слушать?
Стас распахнул дверцу, выпустил наружу слегка затекшие ноги, уперся ими в асфальт, развернулся на сиденье лицом к Даше.
Постепенно воздух вокруг как бы загустевал. Высокие взрослые сосны, огораживающие шоссе от водного простора, способствовали набуханию в машине сумерек.
— Сон длится одно мгновение. Он — как вспышка! Но за время той вспышки я успеваю родиться и умереть. Условно. И не только это: успеваю как бы всю дальнейшую биографию свою разглядеть. Сына… Ожидаемого в мечтах. Потому что я уверена, я знаю: он уже есть! Есть где-то там, в пространстве и времени. Обитает уже. В конце видения, как бы под занавес, и мужа вижу. Или нечто его напоминающее… Символ. Сон этот проникает в меня с такой скоростью, что иногда пятидесяти метров дороги хватает на его просмотр. Во всяком случае, дорожный знак, возникающий по ходу движения, не успевает промелькнуть, а я уже сон посмотрела и знак этот глазами проводила…
— И что же, выходит, запоминаете такой короткий сон? Лично я даже самые длинные, многосерийные, которые всю ночь снятся, забываю начисто.
— Так ведь один и тот же сон… Несколько лет подряд — с тех пор, как машину вожу. Наизусть выучила. И что интересно: когда на такси приходится ездить или там в автобусе, ничего подобного не возникает. Не говоря уж о постели… Только за рулем, когда сама веду.
— М-мда… Скорей всего — нервное. К врачу обращались?
— А зачем? Мне даже правится предчувствовать. Я даже как бы специально жду. Садишься и предвкушаешь: вот сейчас… Вот еще пару километров, и — увижу сыночка! После чего — удар, вспышка в мозгу… И все возвращается: дорога, машина, запахи, звуки, скорость. Угасшая жизнь возвращается, разве такое чудо за один раз познаешь? И по всему телу восторг…
— Сегодня тоже видели?
— И сегодня. Я ведь и езжу-то в основном из-за этого. В городе скорость нельзя превышать, вот я и приспособилась за городом. Мимо ГАИ на цыпочках… А там и нажмешь! Всего лучше, отчетливей, когда скорость за сотню переваливает. Контрастность предельная. И проникает мгновенно.
— Рассказывайте, я слушаю…
— Во-первых, музыка. Еще за минуту перед сном, когда скорость к сотне приближается, начинает звучать музыка. Из «Времен года» Вивальди. Слыхали о таком?
— Это о котором песенка? Под музыку Вивальди, под старый клавесин?
— Антонио Вивальди… Флорентийский монах. Вместо крови по жилам текла музыка! Сплав мысли и веры. Духовная… Но дело даже не в этом. Поначалу мозг обволакивает музыка этого итальянца. И я начинаю видеть себя со стороны… Не приходилось? Очень забавно. Притом вижу себя с самых давних ребяческих пор. На Дворцовой мама вокруг колонны в коляске меня обвозит. Затем — ржавая крыша нашего дома и дальше — горными отрогами — такие же крыши… Мне пять лет. Я тайно от взрослых с дворовыми мальчишками забралась на чердак и через слуховое окно прямо на крышу города! Внизу, под ногами огромные провалы дворов-колодцев. Перед глазами крест на Александровской колонне. Затем я в школе, в первом классе. Красивый мальчик в каштановых кудряшках, задумчивый, не такой, как все, — ко мне на перемене подходит и как бы пронзает своим декадентским, северянинским, придуманным взглядом! Пронзил, и как бы что-то после этого застряло в мозгу. Навсегда. Восторг магический, тайна неистребимая. Как в том флакончике французском… Восторг перед мерцанием мужского взгляда — ложного, вымученного, псевдодемонического. И я улыбаюсь!.. Затем в институте Репина. Первый курс — дневной, это уже потом, по пришествии ума на заочное перевелась. Чтобы маме легче. А на первом курсе постоянно в толпе талантливых мальчиков, длинноволосых, с жиденькими бородками. И все они — великие художники… в мечтах. А я — модель. У меня отсутствие дара. Тогда я с парашютом прыгать затеяла. Для самоутверждения. В автомобильном сне обычно самый первый прыжок возникает. Трепещу возле открытой дверцы. Попутно внушаю себе: перед тобой незнакомая планета, прыгай, такой замечательный шанс предоставляется. И прыгаю… И ничего нового. Узнаю землю, где родилась. А затем — сынок! Платоша… Рожденный без мук, как бы под наркозом и почти сразу же заговоривший на трех языках. И — дорога! Не просто шоссейка столбовая, но как бы та самая, которой говорят — Путь, Стезя, Юдоль. Короче — Судьба. И не чья-нибудь — моя Дорога. Извечная… Хотя и асфальтированная, с четырехсторонним движением. Самая современная дорога, которую в специальных справочниках под номером один обозначают. И я мчусь по этой дороге безо всякого напряжения, не управляя вовсе, а как бы сливаясь с машиной, асфальтом, движением… Из-за дерева, а может, из-за столба или какой-нибудь булки придорожной неожиданно — поперек моего движения — выносится на проезжую часть какое-то живое существо! В последний момент резко забираю вправо, разваливаю перила какого-то моста и плавно падаю то ли в реку, то ли просто в пространство. Удар. Вспышка молнии. И, вспотев сразу всем телом, я просыпаюсь за рулем «жигуленка». Знак, который я заприметила перед тем как отключиться, — еще перед глазами. Вот он остался позади. Об ветровое стекло, пока я спала, успела разбиться всего лишь одна опрометчивая муха. Муха эта застряла в моей памяти еще до удара, как в паутине. В каких-то двух сантиметрах от мчащейся машины. Такой вот стремительный сон. Всегда один и тот же. Меняется лишь укрытие, из-за которого выбегает некто. Да несколько раз вместо мухи о ветровое стекло разбивалось какое-то другое насекомое. С преобладанием чего-то зеленого в организме.
Даша замолчала, а Стас поймал себя на том, что не ждет больше момента, когда «мадам» перестанет наконец ломать комедию и не превратится в обыкновенную «чувиху» с Невского. В самом начале, когда девушка с композитором Вивальди хотела его познакомить, Стас, втянутый в события ее непорочной улыбкой, как в поток нагретого солнцем ветерка, не переставал с недоверием повторять: «Что-то здесь не так, какая-то дурь сентиментальная. А все эти белые ночи! В искаженном свете потому что… Ни одному слову не верю». Не более часа прошло с того времени, а Стас и думать забыл о своих сомнениях, и скепсис его неустойчивый давно отпал за ненадобностью. Столбняк, полученный от первого соприкосновения с Дашей, прошел сам собой. Появился азарт зрителя, вовлеченного в интересную игру, когда играющий забывает, что он игрок.
Единственно, во что поверил он сразу и бесповоротно — это в естественное поведение ее глаз. Глаза не юлили, не прятались, не напрягали силенок, от них исходило доброе к вам участие. Их главный мотив — благодарный восторг — моментально располагал к себе, и на то, чтобы ощутить этот их «мотив», не требовалось никаких усилий: достаточно было простого совмещения взоров — вашего и ее.
И еще: девушка воодушевила его неким несоответствием формы и содержания, соседством земного с эфемерным. Робкой не назовешь, однако достоинств внешних безудержно не выпячивает, как бы забывает о них в суматохе.
«И все-таки мутота какая-то… Не про тебя эта фея, Стасик, — размышлял штурман, как бы причесывая свои взъерошенные чувства. — Хлопот с такой старушкой не оберешься. Но какие глаза непридуманные!»
…Вышли к заливу, на утрамбованный морем песок. Даша к самой воде подступила, и тут взгляду ее предстало множество мелких предметов, выброшенных городом в залив: куклы-утопленницы с оторванными головами, вывихнутыми конечностями, пластиковый кораблик, автомобильчик надувной, флакончики с завинченными пробками, шариковые ручки, огромный блин какого-то плавучего вещества — то ли краски, то ли клея и бесконечное количество деревянных предметов, а также их обломков. Прохладная влага пыталась лизнуть Дашины босоножки, но тут ее ноги конвульсивно отпрянули, не с брезгливым омерзением, но как бы с ужасом… Море. Несчастное, униженное, больное. И она, пересилив неприязнь, потянулась к нему рукой, присев на корточки. И тут же увидела нечто и вовсе отвратительное, бескровным, резиновым червяком растянувшееся в пульсирующей воде…
Она ничего не сказала Стасу о море. Она шла теперь торопливо вдоль берега, намеренно ступая в воду — так гладят отчаянные ребятишки какого-нибудь шелудивого котенка, не боясь подцепить от него блох. Даша насквозь промочила обувку, тогда как остроносые ботинки Стаса, такие величественные, на высоком каблуке, такие «фирменные», такие искусственные, словно тоже выброшенные морем, оставляли на песке, в полуметре от воды, четкие, как из-под пресса, отпечатки.
— Я вот подумал сперва, что пугаете… Ну, этой своей потерей сознания за рулем. На прочность испытываете. А теперь почему-то верю. Где-то читал. Скорей всего в «Науке и жизни». Про лунатиков. Могут ходить, огибать препятствия, глазами смотреть и не видеть, руками шевелить и в то же время отсутствовать как бы в этом мире. И не секунду, а гораздо больше. Или вот — летаргический сон. Телепатия, ясновидящие всякие, о которых на Западе пишут, предсказатели… Загадочные, одним словом, объекты. А ведь сколько еще со временем раскусят, рассекретят разного. А сама жизнь на земле — разве не загадка? И все же элениум или там димедрол не принимали перед тем как за руль сесть? Может, от беспокойства все?
— Да разве можно — элениум за рулем-то? Летчик, называется. Про всякую там заторможенность реакции разве не слыхали?
— Да я просто не понимаю… Засыпать за рулем! Боязно как-то за вас.
— Да не сплю я за рулем! Вылетаю в небытие на секунду… Вот, если дорога — это лента, тогда представьте, что в этой ленте появляется дырочка, нет, лучше не дырочка, а разрыв шириной в миллиметр всего лишь. Человек, менее внимательный, чем я, проскочит эту щелочку без последствий. Потому что не заметит, не ощутит. А я проваливаюсь в нее, в эту трещинку. И не в туманное небытие, а как бы в надбытие! Простите, а вам действительно жалко меня?
Даша настороженно задержалась взглядом на спутнике, словно ожидала от него какой-то необдуманной грубости или глупости, на губах ее не переставала пульсировать улыбка, и вдруг она доверилась его бескорыстию.
— Да не переживайте так! Я вовсе не хочу с этим бороться. Мне так интереснее. Словно телевизор включается…
— Изображение цветное?
— Издеваетесь? Хотя почему же… Вы знаете, как-то не задумывалась. Скорее всего — цветное. Потому что у мальчика, у Платоши моего, глаза непременно голубые. Как две незабудки.
В это время солнце, давно уже коснувшееся горизонта, на глазах по миллиметру стало исчезать, оседая, за потемневшие контуры деревьев, которые выбежали на острогрудый мысок, далеко вдававшийся в пространство залива. Еще немного, и золотые краски заката поблекли. И хотя похолодало в воздухе несколько раньше, еще до исчезновения солнца, только теперь, в свинцовых сумерках почувствовала Даша, как по ногам под одежду к ней начинало взбираться сырое дыхание ночи.
— Холодно, — обронила естественно.
Чутьем, не умом отстранив себя от Даши, Стас не дал волю рукам, не «пригрел» зазябшую… И правильно сделал.
В машине какое-то время сидели молча. Вела Даша плавно, без надрыва, размеренно. И Стас понял эту ее успокоенность по-своему, то есть что не произвел на девушку сильного впечатления. Не оглушил, не ошарашил ни ростом-фактурой, ни ясным, «устремленным» лицом, ни голосом бодрым. Не потряс. А ведь с другими-то у него получалось куда как лихо… Время от времени.
«И чего это она?»
Меж тем на дороге вовсе без происшествий не обошлось. Да и ожидались они Стасом, происшествия эти. Что ни говори, а симпатичная женщина за рулем как лошадка среди машин, — до сих пор на это чудо некоторые пешеходы и даже водители засматриваются. А тут еще и не просто женщина, а с завихрениями… Когда к Сестрорецку подъезжали, из кустов под колеса дикая собачка метнулась: то ли гналась за кем-то, то ли жить расхотела — ударили ее задним колесом по морде. Стук этот — мягкого о твердое — сразу же ощутили. А собачка даже не завизжала. На обочину перекатилась, откинулась. Лапами часто-часто заперебирала.
Даша моментально остановилась, из машины выскочила, даже дверцу захлопнуть позабыла, понеслась к песику, на колени перед ним бухнулась. Платком кровь с нюхалки обтирать принялась. Тут же бегом к машине за аптечкой вернулась: нашатырю дворняге сунула.
А сама приговаривает:
— Глупенький… Что же ты под колеса-то? Боже мой… Ну, просыпайся, Шаричек! Ну, полай на меня, на идиотку несчастную…
Собачонку пришлось подальше от дороги оттащить. Сделал это Стас. Даша долго от бездыханной не отходила. Затем, когда в машину уселась, вроде как и вовсе отключилась: Стаса не замечает, в одну точку перед собой смотрит, на лице жалкая нежность с остатками улыбки перемешалась…
«Да сможет ли она теперь машину вести? — засомневался Стас. — Попрошу-ка я у нее руля. Далеко ли до беды?»
— Могу подменить. Слышите? Поменяемся местами?
— Нет, зачем же. Просто обидно: такой славный вечер. И вдруг…
— Случайность элементарная. И людей давят. Даже хороших.
— Я всегда ладила с ними. Ласкала их, сюсюкала. В общем, радовалась. И вдруг стала убивать. Села за пуль — и началось. Уже двух псов и одну кошечку… И мне страшно. Я боюсь привыкнуть. Скажите, вы опытнее меня, можно привыкнуть к несправедливости?
— Привыкнуть, Дашенька, можно ко всему. Даже к нелюбимому. Так говорят, по крайней мере…
— И вы так считаете?
— И я. Хотя — нет… Нельзя же, скажем, привыкнуть к острой боли. Кричишь до потери голоса или терпишь до потери сознания. Тут без наркоза не обойдешься. Или к тому, что тебя по морде, по морде каждый день! И притом — ни за что. Попробуй к такому привыкнуть… Хотя к такому-то как раз и привыкают. Правда, это лишь мое мнение.
— Ого… Да вы, Стас, не такой уж и технарь. С вами поосторожней надо. Я его просвещать взялась, а у него свое мнение. Ну, и как, по вашему мнению, отмахнуться мне от тревоги? Постараться привыкнуть к собачьей погибели хотя бы?
— А что о ней о мертвой думать? Главное, чтобы следующую не задавить. Моя жена Инга, когда распсихуется, по лицу меня бьет. По «роже», как сама она выражается… А мне смешно. Потому что я забыл о нашей любви. Как вот о собачке раздавленной забуду. Потому что Инга меня никогда не любила. Теперь-то я знаю. Помудрел.
Левее от шоссе тянулся однообразный каменный забор, оштукатуренный и окрашенный нескончаемым желтым цветом.
— Взгляните! — опять ожила Даша. — Там, за этим забором, совершенно другой мир. Мир больных. Видите, как их отгородили от нас. А ведь это не они убивают, насилуют, воруют… Тихие они, беспомощные, грустные…
На заборе кой-где для оживления взгляда — афиши театральные, концертные. Аршинные буквы. И вдруг название нестандартное и очень длинное, такое, что глаза не успевают полностью прочесть — проехали уже. «Она в отсутствии любви…» И еще чего-то…
— В отсутствии любви и… чего еще? — поинтересовалась Даша. — Не запомнили?
— И смерти. «Она в отсутствии любви и смерти». Пьеса Э. Радзинского. Намалевано: «в отсутствие». По-моему, ошибка?
— Ну и зрение у вас!
— Профессия. В постоянном ожидании непредвиденного.
— Это вы в постоянном ожидании, — усмехнулась Даша. — А вот она… в постоянном отсутствии… Любви да еще и смерти. Хотя отсутствие любви — это и есть смерть. В отсутствии любви. Нет. Я понимаю, если в отсутствии, скажем, ненависти, зависти, обиды, холода, вообще — зла… А в отсутствии любви — не понимаю. И не хочу понимать. Жестоко это и неестественно.
Глава вторая. Табор
После того как зашибли собачку, ехали в основном молча. В самом начале, когда это событие еще как бы не схлынуло с них, под его впечатлением — выговорились и притихли.
Стас высадить его где-нибудь в городе почему-то не попросил, и Даша завезла его к себе во двор.
Во дворе, когда она запирала на ночь машину, хлопая дверцами, Стас решил не обрывать ниточки знакомства. Что-то удерживало от резких движений. Он тут же решил докопаться до причины: что именно удерживало? Красота сногсшибательная, умопомрачительная? Нет, не она. Красота, конечно, имелась. Однако не помрачительная, а скорей просветляющая. В чем-то беспомощная, несговорчивая красота-ребенок. О такой красоте необходимо постоянно заботиться, чтобы ее ветром не задуло, чтобы она под машину не попала, в глубокую воду не ступила или из окна вместо дверей на улицу не вышла… Но почему тогда волнует? Чем? Ведь не этой же своей незащищенностью, придурковатостью невыгодной? Нет, нет… Просто она для него мечта с паспортом в сумочке, живущая по определенному адресу, продрогшая в майских сумерках…
— Пойдемте, я вас чаем напою, — прервала Даша размышления молодого человеку. — У нас еще не спят. У нас еще в лото играют.
— Во что? Взрослые люди — в лото?
— Да. Но с философическим уклоном.
И тут Даша летчика за руку осторожно берет и старательно за собой тащит, не оглядываясь, куда-то в темень парадной. И вдруг останавливается, съежившись, как бы вспомнив нечто важное. Отпускает руку Стаса и, поднявшись на три ступеньки, сровнявшись в росте, стучит ему пальцем в грудь.
— У меня опять… идея. Послушайте, Стас. Помогите мне маму обрадовать. Ну что вам стоит? Она у меня больна. Да-да, такой неоригинальной болезнью. Неизлечимо. Скажите ей знаете что? Что вы — мой муж! Да-да. Законный. Скрывали. Улетал далеко. Очень далеко. А теперь вот прилетел ненадолго. Посетил… Пофантазируйте малость… Точно в пьесе старинной. Согласны? Не слишком обременительно?
— Послушайте! Что это вы говорите?! — опешил он. — Что с мамой? Неужели…
— Сердце… Понимаете, всего лишь одно-единственное, неизлечимое от любви материнское сердце. Груша такая под ребрами. И учтите: коли мы теперь муж с женой, то и разговаривать должны раскованней, на «ты» непременно. Играть так играть!
— Извините… Но вы забыли, что я женат! Правда, у нас конфликт с Ингой…
— Не имеет значения ваша женитьба. Я вас одалживаю. На один только вечер. Мне сейчас важно показать в таборе моим драгоценным, которые меня без устали любят, показать им… фактуру. Вон вы какой здоровенный! Войдете — все сразу попадают. Развеселятся сразу. За меня возгордятся. Договорились?
— И что же… поверят нам?
— В таборе? Еще как! Мы ведь из добрых побуждений…
Впоследствии Станислав, восстанавливая в памяти секунды, когда он здесь, на темной лестнице опрометчиво забавную роль сыграть согласился и в Дашину квартиру подняться решил, всегда первым делом своеобразный звук у себя в мозгу слышал, напоминающий как бы жидкие аплодисменты в пустом зале. А все отчего? В тот момент в открытом предночном окне лестничной площадки бешено захлопали, замахали, вернее, забили крыльями всполошившиеся голуби. И так это у них старательно, заботливо получилось, будто опрометчивый шаг Стаса одобряли безоговорочно.
Квартира была старинная, видимо, бывшая барская, с высокими потолками, лепниной, большим холлом-прихожей. Четыре просторные комнаты, отсеченные от остального пространства прежней гигантской квартирищи, в свою очередь разгороженные шкафами, таили в себе для непосвященного «однокомнатного» Стаса немало любопытной всячины.
Стаса в этой квартире многое сразу же удивило, если не поразило. И прежде всего — атмосфера, в буквальном смысле — воздух тамошний. Разлитая в его пространстве солидность сразу же дисциплинировала мозг. Запахи чего-то недешевого, в высшей степени приятного, однако не музейного, а жилого и даже как бы одухотворенного: старыми книгами пахло, чуть-чуть духами дорогими, ветхой мебелью, красками масляными отчасти, а также чаем-кофием. И какими-то бодрыми словесами все это было пронизано, исходившими от людей жизнеспособных, весьма деятельных.
Сразу же в прихожей — вешалка огромная, старинной работы, целая галерея деревянная, штук на пятьдесят пальто, такая обширная, словно для театра предназначалась. Одежды на вешалке мало. Несколько плащей устаревшего покроя. На крючках висели в основном зонтики, пластиковые пакеты, даже авоська с хлебом и какой-то футляр, похожий на детский саркофаг. На один из свободных крючков Стас нацепил свою фуражечку летчицкую и, развернувшись лицом к свету, поздоровался с людьми, находившимися в прихожей. В глаза почему-то первым делом Не людские живые лица бросились, а портрет, изображавший человека, Стасу очень знакомого, то ли известного по газетным снимкам космонавта, то ли еще кого, по телепередачам примелькавшегося. Располагался этот портрет, заключенный в дорогую, золоченую раму, меж двух старинных бра-канделябров с удлиненными, похожими на болгарские помидорчики, лампами.
Изображенный человек как бы прислушивался к чему-то. Глаза имел настороженные, выражение лица умное, как бы познавшее нечто, после чего люди непременно добреют. Там же, в портретном пространстве, на конторке красного дерева, которые и сейчас в мебельных комиссионках встречаются, лежала раскрытая нотная тетрадь. Страницы сплошь в мелких закорючках. На тетрадь, чтобы страницы дыбом не вставали, тяжелым грузом возложен крест, распятие католическое. И сразу видно, что портрет-то сам по себе не старинного, не классического письма, а явно теперешний, в наши сумбурные дни каким-то умельцем сработанный. Краски резвые, бодрые, без трещин и потемнения от времени, еще не окаменевшие, не покрытые даже лаком предохранительным. По всему было видно, что художник пытался создать образ как бы давнишний, не нынешний, хотя и знакомый, лицом напоминающий образ нашего современника; аскетически тощему лицу придано выражение внутреннего восторга; сквозь высокий лоб, на который как бы легкий ветерок едва заметные морщины нагнал, просвечивались мысли объемные, несуетливые. Сразу видно: человек задумался не над тем, как ему дубленку достать, а над чем-то более достойным. Черты прописаны резко, ярко, хотя и несколько плакатно, без теплоты и грусти музейных полотен.
Ниже, под портретом — телефонный столик. Тоже необычный, старинный, так называемый китайский, на круглом диске столешницы сцены из восточной жизни, фанзы, фазаны, лианы, лотосы и приятные раскосые люди.
В центре обширной прихожей под оранжевым с кистями абажуром — круглый раздвижной стол, за которым человек пять народу, играющих в лото.
Номера выкликал пожилой, стриженный ежиком человек с крупным генеральским лицом, лишенным мимики, казалось не заинтересованный не только в игре, но и вообще в «происходящем жизненном процессе».
— Четыре. Полста. Дедушка…
— Послушайте, Лахно, не гоните лошадей. У меня голова, а не эвеэм. Притом дряхлая, с наполовину закупоренными сосудами. И, вообще, нельзя ли поласковей цифры произносить? Поснисходительней? Дашенька, солнышко, я опять накурила. Не ругайся на меня сегодня: я сегодня в куражах, мне необычайно везет сегодня. Молодой человек, проходите! — пророкотала изящная, худенькая пожилая женщина, курившая «Беломор» и со спины походившая на девушку.
— Мама, — Даша вынула изо рта родительницы папиросу. — Куришь, сердечница? А у меня — сюрприз. Соберись с духом. Этот молодой человек, — знаешь, кем он мне доводится? Мужем… Вот так. Представь себе. Нравится?
И тут Даша над ухом матери склонилась и озорную просьбу свою скороговоркой зашептала:
— Последний разок потерпи, родненькая. Ну, как бы репетиция генеральная. Понимаешь, он хороший, скорей всего. Не хам. Симпатяга. Хочу его женой побыть на людях. Пусть в таборе поволнуются, попразднуют…
— Вот как?.. — дрогнувшим голосом выдавила из себя Дашина мама. — Не «жених» даже. А сразу, стало быть, муж? Ор-ригинально… И очень приятно. — Повернулась к столу. — Мы к любым неожиданностям готовы. Надолго ли к нам? Меня Ксенией Авксентьевной зовут.
— Стасик, подойди поближе, — позвала Даша.
Штурман засомневался было, не зная, как ему выпутаться, как поступить, чтобы никого не обидеть и самому в памяти этих людей свиньей не остаться?
И вдруг он представил себя тем, чью роль навязывала ему сейчас Даша. И ощутил смятение. Как вот если бы на большой выигрыш совпал только номер облигации, а серия и разряд не совпали… И, отвечая Ксении Авксентьевне на ее «надолго ли», произнес, широко улыбаясь:
— А если навсегда?
— Господи! — выронила деревянный бочоночек лотошный родительница. В полной тишине кругляшка долго еще катилась, совершая на полу непредсказуемые пируэты. — Господи! Такой большущий. Такой в мундире…
Начав привирать, Стас как бы через канаву скользкую, неприятную перемахнул, но, перепрыгнув, о препятствии том не забыл и как бы все оглядывался. На время, правда, сделалось спокойно: Дашин веселый взгляд умиротворил. Собственно, ничего плохого своим согласием на роль Дашиного мужа никому он не делал. Даже Инге, жене своей суматошной, давненько бежать от него нацелившейся к мирам более чудесным, хитроумным.
Не знал Стас одного: прежде Даша если и приходила в табор с незнакомыми мужчинами, то самое большее объявляла их женихами. Звания мужа, до появления Стаса, никто в ее чудачествах не удостаивался. Отсюда и волнение среди таборян более интенсивное, нежели когда-либо.
Стас решил играть, как получится.
— Мне, знаете ли, частенько улетать придется. Так что вы, Ксения Авксентьевна, сразу с этим фактом смиритесь.
— И как долго будете отсутствовать? И почему бы вам тогда не посадить рядом с собой в самолет… э-э, вашу новую жену? — потянулась за новой «беломориной» пожилая хозяйка дома.
— Что уж тут поделать, мама! — вмешалась Даша. — Такая уж наша доля женская — терпеть разлуку. Ярославной со стены Петропавловской крепости плакать, птицей зегзицей кричать!
Даша раскраснелась, завелась не на шутку.
От игорного стола, где на единственной в толпе стульев табуретке сидел кто-то, поначалу совершенно неприметный, приподнялся пожилой кряжистый мужичок простоватого обличья, волосы паклей льняной, лицо обветренное, губы мягкие, глаза тихие, серенькие, на руке, меж большим и указательным пальцем шрамик, след сведенной татуировки: должно быть, якорек на этом месте когда-то синел.
— Ну, здравствуй, Стасик! — протянул штурману руку. — А я Дашин папа. Батька то есть, Афанасий Кузьмич. Значит, летаем? Это хорошо. А я вот фонари на улицах чиню. Всего лишь. Тоже как бы над землей… Видал небось нашу технику? Постучу ключом, шоферюга меня и поднимет. Туда, где лампочка перегорела или плафон пацаны камнем разбили. Короче, рад тебя видеть, сынок. Располагайся. И сразу тебе скажу: чай чаем, кофий кофием, а мы с тобой чего-нибудь покультурнее сообразим. И генерал поддержит. Поддержишь, Лукич?! — подбежал Дашин родитель к человеку, выкликавшему лотошные номера.
И тут люди в прихожей, доселе мирно игравшие в лото, как бы очнулись, из состояния балдежного вышли, задвигались, кровь по их жилам шустрей побежала. Даже на апатичном, отставном, небритом, словно заиндевевшем лице Лахно интерес к жизни, с которой он мысленно уже прощался, будто повторно возник.
Игру в лото сворачивать, однако, не спешили, так как игра эта помогала им независимое обличье сохранять при крайнем внутреннем перегреве. Все были изрядно взвинчены новостью. Кто-то абажур с кистями лохматый случайно головой задел, и, словно карусель пустили, — закружилось все, сдвинулось, поехало…
Даша, не ожидавшая столь мощного эффекта, произведенного объявлением о своем замужестве, малость даже притихла, стушевалась, забоявшись шаткой действительности, и, взяв осмелевшего Стаса за руку, отвела его в дальний угол прихожей, туда, где за канделябрами и портретом неизвестного композитора заполнял затененное пространство прихожей старинный, окованный железом сундук.
— Чувствуете, как засуетились, взыграли как? Не перебор ли с нашей стороны? Не нравится мне… Я ведь их со многими прежде знакомила, женихами. Усмехнутся, бывало, и дальше номера выкликают. А сегодня — иначе. Завибрировали. Не рассчитывала я на это. Придется им правду сказать.
— А я от вас не уйду теперь.
С лестницы в квартиру отрывисто, как бы случайно, неуверенно позвонили. Словно кто-то ткнул в кнопку пальцем и сразу же кубарем вниз по лестнице покатился.
Даша облегченно вздохнула, заслышав звонок, и, отстранясь от Стаса, метнулась открывать. Даша всегда, любому и каждому открывала двери охотно, даже радостно, словно всякий раз ждала того, кто приходил, и ждала с нетерпением.
В распахнутом дверном проеме никто долго не появлялся, словно тщательно там, перед дверьми, готовился к решительному шагу.
— Гера, миленький! Зачем же ты ботинки-то расшнуровываешь? С ума сошел, радость моя! Это что же… твоя кошка?
— А разве не ваша? Брысь тогда, пошла на помойку. Извините, но я, как всегда… по приглашению: чай вечером пить. Хе-хе! — обратился вошедший к отставнику Лахно как к самому внешне внушительному из присутствовавших под абажуром. Генеральски невозмутимый Лахно вежливо поклонился и не менее вежливо промолчал. Гера втянул носом воздух, зябко потер крупные ладони своих рук одна о другую.
— Пирог с яблоками! Чую!
— Угадал, родненький! Смотрите-ка, яблоки прошлогодние, от них уже ничем не пахнет. А Гера учуял, угадал! — обрадовалась Даша.
— Угадаешь… — невесело усмехнулся Лахно, встряхивая мешочек с лотошными бочонками. — Ежели пищу не каждый день принимать, непременно определишь. Хоть за тысячу верст.
Гера тем временем вынул из-под ремня тапочки, которые носил при себе, так как часто ходил в гости по разным адресам, зашифрованным в его записной книжечке, истрепанной от постоянного употребления до такой степени, словно книжечку эту держал он где-нибудь в ботинке под пяткой. Обувшись в тапочки, Гера стал еще меньше ростом, то есть не выше стула.
— А теперь, Гера, если у тебя такой уж нюх необыкновенный, отгадай мне совсем про другое. Скажи, вот этот высокий человек в форме — на кого он похож? В сравнении со мной?
— Как на кого? На вас и похож.
— На меня?! Вот этот? Смеешься… Чем же?
— А этим самым… Улыбкой, настроением, хе-хе…
— Интересно. А ты хоть догадываешься, кто это?
— Нет. Что я, дворник, что ли, здешний? Откуда мне знать?
— Это… мой муж.
— Я так и знал. Пирогом на всю лестницу веет. — Гера решительно потер ладони, словно от грязи их отмывал в незримой воде. Этот взъерошенный человечек, вошедший в квартиру вместе с ничьей кошкой, поспешно старался сориентироваться, угадывая: разыгрывают его или нет с Дашиным замужеством? Решив, что все-таки не разыгрывают, вежливо обратился к Стасу: — Я лично в полном восторге. Давно мечтал познакомиться, хе-хе! А то одне слухи. Супругу вашу обожаю. Она мне как мать родная… Хотя и моложе меня на десятку. Она меня спящего…
— Гера у нас поэт! — тоном экскурсовода пояснила Даша. — Стихи его того и гляди наделают шума!
— Стихи пользу должны приносить, а не шум, — вставил невозмутимый Лахно.
А Гера Тминный, игнорируя «литературные» дебаты, продолжал взахлеб вспоминать… или же сочинять (на то и поэт!).
— Она меня, отключенного, немножко загазованного, со шпал на Витебской дороге стащила. Под насыпь. В ров некошеный. В районе Вырицы. Можно сказать, из-под электрички выдернула. В пять утра. Представляете? Сейчас бы головы не было. А главное: разбудила и на станцию привела. Так что — по гроб… И ежели я хвалебные оды ей посвящать буду, не взыщите… Хе-хе!
Рассказывая, Тминный не переставал потирать руки, кружа возле Стаса, как вокруг дерева. Основательно познакомившись с летчиком, Гера переключился на сидящих за столом и в дальнейшем кружил и потирал руки в компании играющих.
Дашина мама, эта легкая старушка, да и какая старушка — балерина поджарая! — закрывая лотошным бочонком очередную клетку на карте, полушепотом обратилась к Стасу с доверительной интонацией в голосе:
— Неужели это… экспромтом у вас? Насчет женитьбы? Пожалели? Или — пожелали?
— А мы… как бы это правильнее сказать, любим друг друга! — весело предупредил он Дашину родительницу, отметая сим опрометчивым признанием усталую усмешку Ксении Авксентьевны и все глубже погружаясь в мнимое молодоженство.
— И что же, — не унималась «теща», — по какому принципу жить совместно собираетесь? На какой моральной основе?
— Чтобы все, как у людей!
— Во-во… Это теперь первейшая заповедь. И что же, значит, семья, ребеночек, тряпочки? — закрыла очередную клетку изящная бабуля.
— И ребеночек будет. Платоша. Все тип-топ.
— Тип-топ, говорите? А вы мне нравитесь. Какая семья без… тип-топ, то бишь без ребеночка?
Старушка, от игры бочоночной не отрываясь, продолжала теперь о своей дочке распространяться, причем несерьезно как-то, словно подсмеиваясь над Дашей, а не цену ей набивая.
— Она ведь у нас святая… Слыхали про таких? Блаженная. Нынче большая редкость подобная категория людей. Однако не перевелись. Это как гений, только необнародованный. Гении обыкновенно трех видов бывают: признанные, непризнанные и которые о своей гениальности не догадываются. Такая неподозреваемая гениальность чаще всего не в науке, не в художествах, а исключительно по сердечной части. И для чего, думаете, применительна такая, с позволения сказать, гениальность? Чтобы придурков различных чаем угощать? Не только. В основном, чтобы солнышку светить помогать. И греть. Дом или даже целый город от холода лютого оборонять. Одного такого блаженненького достаточно, чтобы целый город от погибели уберечь.
Чай пить в большую комнату перешли, в просторную, со скрипучим паркетом, прогибающимся под ногами Стаса, как болотная трясина. Огромный, черного дерева стол, тронутый резьбой и кой-где жучком-точильщиком. Темный буфет с остатками дорогой посуды, напоминавший средневековый замок. Стенные часы, круглые, как глаз гигантской птицы, наблюдающий за происходящим так же бесстрастно, как естественный спутник Земли.
На подоконнике толстый журнал, открытый настежь. На страницах журнала, похожие на отъевшихся, сочных клопов, — коричневые семечки от недавно скушанных яблок. Среди горшочков с кактусами и алоэ большая бело-серебристая люминесцентная лампа уличного применения, словно бритая голова небольшого Фантомаса. На стенах изрядное количество картин. Среди них несколько вещей «молодого» письма, подобных портрету в прихожей.
Стасу нравилось, что люди в Дашиной семье мягкие, тихие, не матерятся, не рыкают голосами, хотя и не пыжатся, а сидят себе и запросто в лото играют. И вместе с тем, обстановка в квартире солидная, монументальная, нерушимая. Не лотошная, серьезная.
А Даше новый знакомец почему-то начинал наскучивать. Чужой, громоздкий, неуютный. Да ко всему еще и женатый. Тянется к ней довольно безыскусно. Но — чужой. Невыстраданный. Короче говоря, не Он. Не Тот.
— Небось нагорит вам от своих? От семьи?
— Никакой семьи нету! — заспешил, скороговоркой зачастил Стас. — Два, этих самых, самолюбия всего лишь навсего… Банальная история, клянусь! Не разглядели друг друга, когда, пардон, обнюхивались… А потом, когда, в рейс уходя, двери за собой с облегчением закрывать стал, понял: чужие!
— Значит, у вас настоящая жена есть? Не шутили? Спасибо. Законная жена… Черт возьми! Да вы просто Рокфеллер! Такое богатство. А вот у меня всего лишь Эдики. И когда они при моей помощи созревают, когда на них опираться самое время, тут-то у них и подгибаются ноженьки. А мной овладевает… музыка. И чаше всего старинная: Глюк, Вивальди, Перголези, Бортнянский… Интересно вам про такое?
— Интересно. Хотите совет? Рядом с вами сильный, современный, удалой человек стоять должен. Чтобы вы не упали. Мужчина, одним словом.
— Такой, как вы?
— Откуда я знаю… А что?
— А то! Эдики мои — трогательные, смешные, беспомощные. Их выручать нужно. У беды отнимать. Проявлять сочувствие. А вас от кого спасать? Вас не спасать, вами подпирать что-нибудь хочется. Какой-нибудь дом покосившийся. Самый интересный из моих недотеп — это Эдик, который художник. Это его работы у нас: пейзажи, моя голова. А в прихожей заказной портрет Антонио Вивальди. Я заказывала. Только Эдик не взял с меня за работу. На день рождения подарил… Рисует Эдик совсем неплохо. Только чудит. А все почему? От непризнания. Признали бы, в Союз художников пригласили бы, дали бы выставиться как следует — он бы сразу остепенился. Я знаю… У меня чутье на этот счет, в смысле боли потаенной. Очень одинокий художник Эдик мой… Единственный друг у него, кроме меня, — Гера Тминный. А ведь Гера сам непризнанный. Эдик Потемкин дробью стрелялся. Гера с Исаакиевского собора спрыгнуть хотел. Да я отговорила. Нас тогда на подмену в Исаакии попросили поработать. Веду иностранцев наверх, город им показываю с птичьего полета. Вдруг вижу: маленький человек прислонился к перилам ограждения, голову под руки себе опустил. Я думала: человеку плохо, кружение перед глазами или еще что… Я даже за ребенка его поначалу приняла. А когда он от перил глаза приподнял, вижу: плачет человек. И не какой-нибудь Филиппок растерявшийся — взрослый мужчина. Я к нему. Что случилось? А Тминный, это был он, грустно так поинтересовался: «Скажите, — спрашивает, — а еще повыше нельзя? Во-он туда?» — и указывает на самый последний ярус, который давно уже на ремонт в соборе закрыт. Тогда я все поняла и за руку Тминного беру, чтобы вместе с ним на землю сойти. Ухватился он за мою руку, да так цепко, что я в тот день работать больше не смогла: повела Тминного в табор чаем отпаивать.
— А про шпалы на Витебской дороге? — иронически улыбнулся штурман. — Вы что же, дважды его спасали?
— Про железную дорогу он сочинил. У него про это самое поэма написана. Ему кажется, что про железную дорогу правдоподобнее. Он всем рассказывает, что я его спасительница. А ведь Гера не только чудной, он еще и смелый, отчаянный. Однажды в Летнем саду на высокое дерево залез и никак его оттуда снять не могли. Пока я не пришла и оттуда его не выманила. Когда спрыгнул, пришлось у милиции прощения за него просить. Законной женой назваться. Иначе в больницу свезли бы.
В этот момент на кухню, где Даша со штурманом уединились, прислали за самоваром Тминного, и рассказ и нем оборвался.
Внешне Тминный напоминал коненковского деревянного мужичка-лесовичка, только очень волосатого, обремененного могучей, цвета пакли шевелюрой. А шея — тонкая, ребеночья.
На кухню Гера прибежал, воодушевленный стопкой водки, которую перед чаем преподнес ему Дашин отец Афанасий Кузьмич, человек простецкой формации, чувствовавший себя в родной семье несколько сиротливо, хотя и не обойденный любовью ближних.
С Ксенией Авксентьевной познакомился до войны, до ранений, бравым физкультурником, уступив ей в июльское пекло, последний у газировщицы, стакан воды: не успел к губам поднести, как зашипело, газ в баллоне кончился, и вся очередь поскучнела моментально. Тут-то Афанасий и протянул тоненькой девушке огромный свой кулак, в котором воробышком малым, от страха запотевшим, стакан газировки поблескивал.
К Тминному, человеку улицы, на которой Афанасий Кузьмич фонарями заведовал, к этому современному бродяжке, пилигриму квартирному, льнуло безыскусное сердце Дашиного отца, как льнет на дожде и ветре дерево к дереву где-нибудь в городском саду. И если с отставным полковником, а по другим сведениям — генералом Лахно у фонарщика отношения сложились хотя и дружественные, но какие-то торжественные, то с Тминным Афанасию Кузьмичу было куда проще хотя бы глазом всего лишь перемигнуться: держись, мол, Гера, где паша не пропадала!
И сразу же, после того как Тминный самовар под мышки взял и прочь с ним умчался, на кухню женщина прибежала, озабоченная, немолодая, но и не старая и, как про себя отметил Стас, еще недавно принимавшая участие в игре в лото. Ее движения были двоякого свойства: то резкие, нервные, крутые, то внезапно плавные, заторможенные, в глазах смесь изможденности и какого-то бешеного восторга. Целеустремленная и одновременно бесшумная, как ночная птица, напоминала она заряд замедленного действия, готовый взорваться в любую секунду. Счастье занятости, причастности, нужности людям — вот причина ее восторга, вот магический состав, проникший в душу и плоть этой бессемейной женщины и приподнявший ее над изнурительностью быта. Человека, отмеченного этим счастьем, можно безошибочно выделить из толпы, как можно выделить из толпы заболевшего или опьяненного. Женщина эта лихо подвесила на свои указательные пальцы по фарфоровому чайнику с заваркой и так же плавно, как и появилась, летучей мышью отпрянула из кухни.
— Это Нюра Хлопотунья, мы ее Хлопотуньей прозвали. Мамина очень дальняя родственница. Откуда-то с Волги родом. Хлопочет постоянно. Общественница. Сейчас она за какую-то старушку с запутанной трудовой биографией хлопочет. Намерена ей пенсию на десять рублей увеличить. Нравится ей хлопотать. Слово-то какое… птичье! Словно крылышками — хлоп-хлоп! Только у нас в России могло такое усердное словечко возникнуть: хло-по-тать! За кого-то о чем-то просить, доказывать что-то, беспокоиться, усердствовать.
— И что же… так вот и «хлопочут» каждый день за столом?
— Лото внедрил генерал. Он самый молчаливый в компании, и затея с лото — его тактический маневр. Чтобы руки были заняты, а мыслям простор.
— И о чем же говорят? Мемуары небось устные? Что, почем до войны стоило?
— И мемуары. Только чаще — на ощупь рассуждают. Шарят, за что бы им зацепиться, за словечко какое или мысельку. А там и поехало! Обычно Шишигин Игнатий, сегодня он отсутствует, проповедник одиночества доморощенный, который без собеседника дня прожить не может, так вот Шишигин этот какую-нибудь цитатку или фактик из головы у себя выдернет и незаметным образом, как дыма колечко, поверх лото подбросит, и все дружно начнут шарить, улавливать, а затем и вдыхать подброшенное, в том числе и я. Скажем, позавчера обронил он невзначай, да еще с долей сарказма, известную фразу: «Возлюби ближнего, как самого себя». И началось. Нюра Хлопотунья с возмущением пламенным: «Вам дивья ближнего любить! Вас вон тут сколько. А ежели нету его, ближнего? Ежели одна я как перст?! Нет, ты мне дальнего полюби… А то — „ближнего“. Да мы только и делаем, что ближнего любим, а ты вот-ка незнакомого, постороннего приголубь! От которого не то что спасибо — оплеуху в любой момент схлопотать можно!» Не разобралась в горячке, кто ближний, а кто, по библейским понятиям, дальний. Папочке Афанасию «как самого себя» не понравились слова. «Самого-то, говорит, себя любить разве хорошо? Это себялюбие называется». Ну а мамочка, как самая интеллигентная и начитанная, все нм в конце концов растолковала — как и что. Генерал наш Лахно, тот, в основном, помалкивает или вставит несколько слов, вроде: «Любить надо не ближнего, а достойного»— и опять онемеет, пока до него очередь «банковать», бочонки лотошные из мешка вытаскивать, не дойдет. А Шишигин согласится с объяснениями мамы для вида, а сам дальше пойдет в рассуждениях, что-де, конечно, любить человека можно и нужно, только почему меня-то лично никто не любит? И каждый, мол, так возропщет: почему не меня, почему другого ближнего? Я, что ли, не человек? Намерений благих много, а заглянешь в душеньку любого, то и что же ты там увидишь? «Свечечку одиночества, невесть кем зажженную, которую ледяной смертельный ветер задуть старается. И, в конце концов, задувает». А Гера Тминный, служитель муз, декадент самодеятельный, ручки потрет как бы от удовольствия и всех неприятно порадует: «И правильно, что задувает, и очень даже справедливо. Не задуй, так Земля с орбиты сойдет. От перегрузки. Жизнь — кино. Посмотрел ленту и лети из зала! А то рассядутся…» И тут Гера стихи поэта Баратынского непременно прочтет, про санитарную и вообще полезную деятельность смерти…
О дочь верховного эфира! О светозарная краса! В руке твоей олива мира, А не губящая коса. …………………………… Даешь пределы ты растенью, Чтоб не покрыл гигантский лес Земли — губительного тенью, Злак не восстал бы до небес.Вообще-то, я Геру Тминного всерьез очень редко принимаю — и как поэта, и как пугало… Просто он из несчастных, и для меня закон — таких жалеть. А ведь пугать-то он ох как любит! И тогда с Исаакием, и с деревом в Летнем саду. Или вот возьмет да и заявит всему табору, что-де самый гениальный поэт в России это Федор Сологуб, а не Пушкин. И стихотворение «Чертовы качели» того же автора — самые мудрые стихи. А то повадился на Смоленское кладбище ночевать ходить. Возле могилки того же Сологуба. Каждую весну ходил он туда запросто, как на мероприятие, как в оперу — торжественно, с цветами. И винца бутылочку прихватить не забудет. А чтобы охотнее шагалось, художника Потемкина напарником себе уговорит. Сядут возле Сологубовой могилки и празднуют. Их даже милиция оттуда прогонять перестала: за своих признали… Потом якобы заночевали в сыром склепе. Только не верю: пугает. А Шишигин книжки современные читает, за научными открытиями следит, нет-нет да какую-нибудь свеженькую гипотезу подложит во время игры в лото. Словно террорист. Подложит и наблюдает, как и что. О происхождении Вселенной путем взрыва на днях поведал. И еще о том, что когда-то, в самом начале, не только ничего живого не было, но и мертвого, неживого, то есть никаких даже мельчайших частиц элементарных, никакой материи, ничего абсолютно. Полный нуль. И что какая-то Сверхсила, Сверхволя взяла да и произвела взрыв. От которого все и пошло на все четыре стороны!
А в другой раз забудет, что уже говорил об этом на предыдущем «заседании», и опять про взрыв, но вдруг опомнится и, чтобы себя реабилитировать, примется как бы углублять или расширять прежде сказанное, что вот, мол, сомнительно это «на все четыре стороны», когда сторон этих, по разумению Шишигина, не четыре, а, скажем, пять, что эта пятая сторона как раз и есть та самая «сторона обетованная», куда люди всех времен душой-помыслами стремились, то есть — духовная область, а не Вологодская или Семипалатинская. А вы говорите: ло-то-о. Да у нас тут про самое что ни на есть глобальное калякают. Пока руки игрой заняты.
— А этот отставник… Видать, пожил в свое удовольствие? Такой на его лице покой нерушимый. И значение.
— Лахно?! Милейший дядечка. Хотя и угрюмец с виду. Не в своей тарелке человек. Понять можно. Его от армии отлучили, а он еще силы полностью не растратил. Вот он и окаменел внешне. Не обиделся, а как бы раскаялся. Внутри-то он не такой монолитный, я знаю. Представляете, чуть ли не всю жизнь военным был. Не числился, а являлся. Образ жизни железный. Вот он и побледнел, когда отставили. Из-за беспомощности мужской. И вдруг о моем отце вспомнил. Вместе служили. Теперь-то он не пропадет возле нас. Малость, конечно, переродиться ему предстоит, вот он и перерождается помаленьку. В основном путем молчания. Гражданский образ жизни постигает. Смиряется, прислушивается, прирастает к среде… Он ведь невоенной-то жизни и не знал. Нуте-ка, выпустите прирученного, дисциплинированного медвежонка в глухую тайгу за существование бороться! Он тебе и сядет на пенек, и пригорюнится, и задумается, когда в этот самый момент по сторонам необходимо главами рыскать, а носом принюхиваться. Да и когти заодно о колоду точить-вострить. Вот он и сидит пока что на пеньке и выкликает номера… Отец при его появлении стойку «смирно» все еще принимает. Это как рефлекс. Старшиной роты в его полку служил. А Лахно злится, когда отец стойку делает. Зубами пытается скрипеть, но больше — стулом. И зовет отца чаще фонарщиком, хотя отцу больше нравится, когда его Лахно старшиной величает. Отец лампочки перегоревшие в городе новыми заменяет. Провода оборванные связывает. Столбы фонарные, погнутые, выпрямляет. Отец славный. Не любит он только… Эдиков. Хотя не ругается на них, нет. Просто меркнет лицом при упоминании, огорчается. Он и вас потом в Эдики зачислит. Пойдемте к ним. Они понять хотят: кто вы? Маме-то я шепнула, как и что… Потому что и впрямь сердечница. За нее не переживайте: пусть повеселится. И учтите: если кто-то из них попросит вас рассказать о небе, то и рассказывать нужно о небе, самолетах, а не о том, что вы женаты и какая у вас красивая бурная Инга, и как вам терять ее не хочется.
Потом весь табор уселся за стол, не имеющий углов, довольно продолговатый, напоминающий уютный стадиончик, покрытый старинной льняной скатертью, пожелтевшей от времени, как прошлогодняя трава. Возле Ксении Авксентьевны самовар на мельхиоровом подносе. Все вдруг неожиданно резво привстали с мест и, словно с приветственными рукопожатиями, потянулись к ней с чашками.
Афанасий Кузьмич, человек внешне малоприметный, с длинной узкой лысиной, будто корова шершавым языком по голове его прошлась, тугоплечий мужичок, произвел какое-то, едва заметное движение, какой-то порыв в его мешковатом теле наметился, и сразу Ксения Авксентьевна поощрила супруга улыбкой и одновременно, словами:
— Скажи, родименький, не таись.
— А и скажу! Не заржавеет… Ежли это зять, тогда одно дело, а ежели Едик очередной, тогда другое. Что ни говори, а не каждый день мужья, то есть зятья в гости чай пить приходят. Короче говоря, тебе виднее, сынок, кто ты есть на самом деле. Ежли зять — держи пять! — протянул фонарщик руку. — А ежли сумлеваешься, так и скажи, не темни. Нам с энтим не привыкать. Дочка у нас нескучная. Нет-нет да и развеселит.
Не успел Стас решить про себя: брать ему или не брать руку фонарщика, как в дверях комнаты три молодых человека появляются. Один моложе другого, по ранжиру как бы. И ростом все трое ступенчаты: высокий бледнолицый шатен — Дашин братец Георгий, суровый, но любящий Дашу, как и все в доме, младший братец Федя, весь в отца-фонарщика (такой же сиволапый, приземистый и достаточно уравновешенный эмоционально), а промеж братьев — Илларион, Федин товарищ и дальний родственник. Глаза у этого недоверчивого большелобого юноши-подростка раскрыты настежь, распахнуты, в непреходящем как бы изумлении пребывают. Слез, сырости на их голубизне никакой вроде нету, сухие, даже как бы раскаленные зрачки, а приглядишься:; плачут глаза. Словно видят нечто, чего другие не замечают. Как сказал поэт: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Все остальное в подростке, если ему в лицо, в глаза блестящие не смотреть, выглядело достаточно прочным. Мальчик стройный, изящный, золотоголовый. В обтрепанных модных джинсах. Благородная вельветовая курточка на плечах. Однако же Стас, когда молодые люди в дверях появились, первым делом на этого странного подростка внимание обратил. Чем-то он, если хотите, Дашу неуловимо напоминал, малолетка этот простодушно-серьезный. Страстностью, незащищенностью. Но сходство меж ними явно прослеживалось. И различие. Помимо чисто наружного: на Дашином лице теплый свет, в повадках веселость, тогда как в Илларионе-Ларике прежде всего бешеная серьезность из всего облика выпячивалась. И не живой, горячий свет исходил, а как бы электрический, без огня и дыма.
Мальчики уселись на свободные места, и Стас тут же о них забыл. Его Даша интересовала. С каждой минутой все больше. Еще на кухне, перед чаепитием, Даша смущенно улыбнулась ему, брякнув просьбу:
— Стас, миленький! Пока никого на кухне, поднимите меня на руки к себе. Никогда еще никто на руки меня не поднимал. Кроме мамы… Хочется испытать, пока живая и не слишком старая, пока встречные мужчины улыбаются. Потом-то меня, когда бабушкой сделаюсь, разве поднимет кто? Санитар «скорой помощи»?
Стас смущенно и довольно нервно, отрывисто подхватил ее под коленки и одновременно под лопатки, выжал на руках тело девушки, словно посторонний груз, без улыбки, с окаменевшим выражением лица. И тут же по-быстрому вновь ее на ноги поставил.
— Спасибо. Теперь знаю. Очень похоже на сон. Детский…
У старшего братца Георгия, который Стасу руку с пренебрежением протянул, на верхней губе шевелились темные реденькие усики, напоминавшие длинноволосую шелковистую гусеницу. Сквозь усики эти просматривалась яркая, белая, городская кожа. Был он, братец сей, и движениях резок, спортивен, наверняка в секции каратэ занимался укрощением плоти, отчего определенная уверенность в повадках выработалась и отчетливый дух превосходства в темных глазах просматривался.
— Значит, муж? — улыбнулся Георгий задиристо, притом не губами одними, но и как бы бровями и одновременно редкими усиками шевельнув довольно комично. — Здесь уже привыкли к Дарьиным неожиданностям. И все-таки каждый раз не перестаешь ликовать и удивляться. До потери сознания. Потому что ни свадьбы, ни хотя бы скромненькой отметинки по данному поводу ни разу не было. Может, я подарок гименейский хочу сделать? Может, облобызать желаю родственничка очередного?! Вот и предъявите мне… штампик! Да-да. Которым женатых людей клеймят!
Наступила неловкая пауза. Те из присутствовавших, что пили чай, старательно забренчали ложками, увлеченно из чашек прихлебывать взялись. Даша вздрогнула и захохотала. И только серьезный мальчик с изумленными глазами, смотревший на Дашу непрерывно и безо всякого удержу, как смотрят дети на поразившее их явление природы, спохватился, сообразив, что Дашу обидели. Сообразил и сразу же ощетинился на обидчика.
— Почему, почему вы такой всегда жестокий, дрянной?! Ядовитый такой?! Да скажите же ему, — обратился подросток к Стасу, — скажите ему, чтобы он извинился! Если вы муж… Защитите!
— Да никакой он не муж. Что я, не вижу? Очередной Эдик. Разве не так? — поворотился Георгий лицом к Даше, в гармошку растянув свои иронические редкие усики.
Стас, красный, раскаленный от стыда и обиды, обиды невиновного, неуклюже приподнялся из-за стола, смущенно помаргивая и как бы ища глазами Дашиного позволения на дальнейшие действия, которые самостоятельно в незнакомой ему среде предпринимать не решался. Приподнялся над столом и Георгий. Не такой высокий, как Стас, но весьма агрессивно настроенный. Тело свое натренированное в струну вытянул, вот-вот зазвенит весь от напряжения… Но Даша опередила обоих. Мягко, словно и не руками вовсе, а все той же улыбкой всесильной, потянула она Стаса обратно на стул. Затем, домашняя, «уменьшенная» — без каблуков, к чернявому братцу подступила, ключик автомобильный, на стальное колечко посаженный, перед его усиками на пальце завертела.
— Жорик, лапушка, не наседай… Ты, наверное, из-за машины переживаешь? Разве так можно? Ключик я тебе все равно не отдам. Мне без машины нельзя: я при ее помощи восстанавливаюсь. Одни душ после работы принимают, третьи водочку или там на «бродвей» выходят в поисках ощущений, а я за рулем возношусь! «Балдею», как принято сейчас говорить. А вернее, от мыслей разных суровых, городских очищаюсь…
— Тебе нельзя ездить! Ты ворон ловишь во время езды! Я знаю…
— Тебе кого жалко-то? Меня или машину?
— Мать жалко! Поняла?! Надоели твои кандибоберы всем!
— Дурачок ты у меня, Жорик… Злючка-колючка. Ладно но уж, успокойся. Замирись. Пофантазировать нельзя… Ну, не муж, не жених! Штурман просто! Чем плохо? Не угодила опять? Простите, если обидела. Думала приятное сделать. А Стасик — рыцарь. Сейчас я его поцелую!
Все, кроме нервного юного Иллариона, словно загипнотизированного Дашиной улыбкой, отвернулись: кто в чашку с чаем уткнулся, кто ногти себе осматривать начал; даже Георгий к столу спиной встал, а через секунду и вовсе вышел из комнаты на кухню. Даша порывисто погладила Стаса по рукаву пиджака.
— Милый, добрый Стасик! Простите великодушно. Вот — уговорила человека во влюбленного поиграть… А разве в такое играют? Да еще ни с того ни с сего? Чего уж там темнить… Не проведешь их, родименьких наших…
— Значит, что же… не муж?! — выкрикнул, захлебываясь от волнения и неосознанной радости, мальчик и дорогих джинсах.
— Значит, не муж. Где уж нам уж выйти замуж.
— И не жених даже?! — взвизгнул юнец то ли обиженно, то ли восторженно.
— Да господь с тобой, Ларик! Чего уж так волноваться-то? — подала из-за самовара продубленный «Беломором», тяжеловесный голос Ксения Авксентьевна. — Уроки-то на сегодня приготовил? Без тебя-то разве не выяснят, кто кому кем доводится?
— Да как же, как же им не стыдно врать-то?! — вспыхнул паренек еще ярче, бросая гневные взгляды теперь уже в сторону Стаса.
И тут Даша придвинулась к мальчику, ласково погладила длинные волосы Ларика, бледными сосульками свисавшие с остроконечной головы. Представляя его Стасу, произнесла:
— Это Илларион. Понимаете, Стасик, его нельзя обманывать, даже из добрых побуждений. Все уже привыкли, притерпелись ко лжи, а Ларик не привыкает. И никогда не привыкнет! И запросто может умереть, отравиться ложью…
— А себя, себя-то вам не жалко?! — вспыхнул последний раз усыпленный Дашиными руками Илларион.
Наконец-то все чинно вокруг стола расположились, приглушенно чай втягивать принялись. И тут как расплата за обман, как наказание за насмешку над Любовью на миг в комнате, а может, и во всем мире возникла тишина звенящая… От неожиданности, от удара по нервам тишиной металлической каждому друг на друга посмотреть захотелось, но никто на это не отважился. Словно холодом из вселенной на них дохнуло, и какой-то как бы зигзаг ледяной трещиной по их ощущениям прошелся, парализовав на мгновение жар жизни, но сразу же и отпрянул, дав отдышаться и вновь приступить к постижению непостижимого, то есть Времени, Бытия.
Глава третья. Башня
Художник, который в свое время добровольно из дробовика стрелялся, обладал, помимо прочих особенностей, эксцентрической привычкой посылать своим знакомым крикливые телеграммы; не те банальные, поздравительные, а самые что ни на есть неожиданные, по любому незначительному поводу, и всегда — надрывные, истошные. Другой бы на его месте из телефонной будки за две копейки нужному человеку позвонил: так, мол, и так, а этот, натура художественная, истеричная, моментально телеграмму отбивал. И чаще всего обстреливал он своими визгливыми депешами доверчивую, участливую Дашу. Стремительно садилась она за руль семейного автомобильчика и сломя голову неслась на отчаянный призыв самоубийцы-неудачника, самоубийцы, так сказать, дилетанта. Не раз во время этих срочных вызовов подвергала себя смертельной опасности, превышая дозволенную скорость.
Чаще всего телеграммы Эдика заканчивались малопонятным для непосвященных старинным словом «обитель», применявшимся в депешах художника исключительно для ориентировки, чтобы Даша сразу могла сообразить, куда ей мчаться.
Обителью величали молодые художники свою мастерскую, помещавшуюся в довольно причудливом здании старинной конструкции совершенно неизвестного изначального назначения: то ли водонапорная башня, то ли сигнальный маяк или пожарная каланча, а может, и вовсе что-нибудь заводское, если не хранилищное, скажем, отсек элеватора. Однако художники, и прежде всего Дашин символический жених Эдуард Потемкин, толкуя о происхождении своей обители, предполагали нечто более романтическое, в духе возникновения рыцарских замков.
Здание это отличалось необычайной прочностью кладки и нерушимостью самого кирпича. Располагалось оно и Петроградской стороной на Островах, и не было снесено жизненными бурями единственно по причине своей редкой прочности. Неоднократно люди брались его разбирать, однако здание не дрогнуло, устояло, выдюжило, перемогло. Внутри сооружения имелись металлические винтовые лестницы, круглые этажи, которые иногда как бы обрубались по диаметру башни, и тогда в зале получался причудливый ступенчатый потолок; окна башни напоминали оборонительного свойства бойницы, но в этаже, где располагался рабочий зал мастерской, окон как таковых не было: по всей окружности зала простиралось этакое световое кольцо, перегороженное редкими стойками из кремневой прочности бетона. Над рабочим чалом художники оборудовали «едальню», в которую поднимались по винтовой лестнице. Винтовая же лестница из «едальни» вела под самую крышу, где отщепенцем обитал непризнанный гений, член групкома Эдуард Потемкин. Там он писал свои причудливые портреты, а иногда, по заказу групкома, плакаты для красных уголков и клубов района.
Ниже, под «непризнанным» обитали художники-профессионалы, члены Союза, ребята молодые, еще полные энергии и иллюзий, а также надежд и упований. От них веяло здоровьем, красотой и любовью, и не теми ли воспарениями молодости, что исходили от симпатичных ребят, воздымаясь к меланхолической келье отшельника, питался Потемкин, не отдавая себе в этом отчета, не по их ли светлой вине держался он на плаву и что-то там такое смекал, величая себя мастером, а ребят из рабочего зала «муравьями»?
Припарковывалась Даша, как правило, под корявыми, уродливыми, доживавшими свой век липами среди полудюжины разноцветных «жигулят», разбросанных по ядреному булыжнику территории возле обители и принадлежавших энергичным «муравьям» — талантливым монументалистам, обеспеченным подрядами, расписавшим в черте города и за его пределами множество клубов, бань, ресторанов, а также рынков и плавательных бассейнов, да так здорово расписавшим, что всех их однажды, скопом, на премию выдвинули. Ребята жили безбедно, в свободное время писали пейзажи, натюрморты, сообща веселились, вместе на рыбалку ездили, одним котлом питались в «едальне» и только на свидания с девушками уезжали каждый на своем «жигуленке» в своем направлении. С неуживчивым, а значит, и невезучим Эдиком дружили, иногда добродушно переругивались, когда он по винтовой лестнице спускался, чтобы выйти в уборную, и неизменно задерживался в их зале, чтобы немного поворчать, а то и поскандалить.
На своей верхотуре писал он портреты давнишних исторических деятелей, изображения которых не сохранились, до дней нынешних не дошли, а если и дошли, то весьма в расплывчатом, приблизительном виде. Такая у Потемкина труднообъяснимая особенность имелась, и даже не особенность, а скорее потребность: писать прошлое, замешивая его на приметах настоящего. Сюжеты свои Потемкин чаще всего извлекал из былого России. Образ того или иного деятеля лепил «из головы», не прибегая к услугам натурщиков, но как бы совмещая лица известных ему современных людей с обликом людей древних, известных нам не лицом, а исключительно своими деяниями. Волновали его такие фигуры, как Стенька Разин, митрополит Филарет (в миру — Романов Никита), а также Калита, князь Курбский, Владимир Красное Солнышко. Некоторые лики объединял, и тогда получалась композиция вроде триптиха «Лжедимитриада». Фигуры эти синтезированные весьма отличались от образов, устоявшихся в памяти народной, потому что принимали порой черты и выражения самые неожиданные, и чаще всего вздорные. Так, все три Лжедимитрия на триптихе имели явное сходство с тремя самыми удачливыми современными поэтами так называемого среднего, послевоенного поколения, тогда как оплечный портрет протопопа Аввакума недвусмысленно, откровенно напоминал об одном, теперь уже спившемся, актере кино, некогда весьма популярном и очень невеселом на вид, хотя и комиком по призванию.
Внешне угрюмый, притворяющийся свирепым, а на самом деле просто чудаковатый Эдик спускался по винтовой лестнице к монументалистам не просто похулиганить, но и как бы подлечиться, сбросить внутридушевное давление. В солнечном, до краев налитом утренней прозрачностью зале, где заспанным глазам «индивидуалиста» помимо кругового панорамного обзора зеленых островов попадались неоконченные работы юных живописцев, Потемкин, с неразлепляющимся ртом и огромным, непрерывно как бы увеличивающимся носом картофельной конфигурации, проходил мимо внушительного полотна, пахнущего олифой и еще чем-то очень свежим, бодрым, даже вкусным, — проходил, бурча себе под нос «комплименты», адресованные «муравьям», одновременно расчесывая гребешком свою культурную шоколадно-кофейную шелковистую бородку, аккуратную и потому несколько неожиданную на губчатом, пористом, как бы непрерывно умирающем, распадающемся на элементарные частицы лице.
— Эк, наворотили! — бросал он глухим, «бочковым» баритоном. — И куда же это они у вас? — спрашивал он всех и как бы никого, задирая бородку в сторону изображенных граждан, идущих кто с лопатой, кто с портфелем, а кто и просто с рюкзаком или пшеничным снопом под мышкой по дороге мимо типовых зданий, заводов, хлебных полей и одинаковых, а потому весьма одиноких — деревьев. — Оно конечно, — ухал филином Потемкин. — Оно конечно… Денежку зарабатывать никому не возбраняется… Но зачем же в таком количестве, граждане муравьи? Машете кистью-то, как помелом, прости господи… Этак и талантишки свои разбрызгать недолго. Рука расхлябнет, и где он — мазок? Тю-тю. Хлебушек с маслом поперек горла не становится? От таких трудов праведных? Кстати, о хлебе… — как бы ненароком вспоминал Эдик о насущном и, не дожидаясь со стороны хлопцев возражений на свои критические замечания, прямиком устремлялся в «едальню», гремя зимними сапогами по железным ступеням винтовой лестницы. А там у хлебосольных монументалистов непрерывно клокотал кипяток в электрическом самоваре, пахло приличной чайной заваркой, чесночной колбасой, пирожками, копченой рыбешкой, а то и пельменями с уксусом. С молчаливого согласия хозяев отшельник усаживался за грубо оструганный, «деревенский» стол и начинал поспешно поедать то, что ему умышленно оставляли ребята. Иногда, полузамаскированная, из-за самовара выглядывала початая бутылка спиртного, которую Эдик самодовольно подносил к своему чудовищному носу, саркастически улыбаясь, принюхивался к содержимому, словно не доверял случаю, затем, не касаясь бутылкой губ, взметывал посудину над отверстием рта, совершая при этом два-три мощных гулких глотка. Далее с остервенением сплевывал куда-то за самовар и, несколько оттаяв, помолодев и подобрев глазами затаенными, поднимался к себе наверх доводить до кондиции портрет татарского полководца-неудачника Мамая, напоминавшего современного казахского писателя, пишущего на языке эсперанто.
Даше мученик кисти впервые повстречался под сводами храма в Петропавловской крепости, куда Эдик, недоверчиво улыбаясь, забрел с определенной целью, а именно — прощупать взглядом, а если удастся, то и руками, скульптурное изображение Петра Великого, расположенное возле самого саркофага царя и отлитое в бронзе чуть ли не при жизни покойника. В те дни Эдик работал над портретом Петра, которого представлял себе почему-то обряженным в военную гимнастерку времен гражданской войны и обликом своим напоминавшим легендарного ее героя.
Даша в момент появления художника рассказывала англоязычным экскурсантам о деятельности знаменитого царя, о его реформах, воле, силе, бытовых профессиях, причудах, размере обуви и одежды, о его пристрастиях к морскому и плотницкому делу и дружбе с голландцами и вообще о прозападной ориентации императора. Эдик, как всегда, ироничный, недоверчивый, пристроился незаметно к англичанам или американцам (поди разбери их там!) и в момент, когда вплотную приблизился к миниатюрному бюсту царя, ловко руку вперед протянул и быстро-быстро ощупал скульптуру, словно пыль с нее смахнул.
— А руками нельзя, товарищ художник! — шепнула ему Даша на чистейшем русском.
— Откуда вам известно, — окрысился моментально Потемкин, — что я художник? Может, я слепой… И мне трогать — необходимо. Все подряд… И про Петра наплели. Никакой он не мощный, не волевой. Одинокий он прежде всего. Как вот я. Выдающаяся личность всегда одинока. К тому же у Петра печень больная… И вообще — сыноубийца. Грустный, жалкий, в глазах боль зацикленного зверя. А вы — «окно в Европу»!
Потом, когда к концу дня в соборе стало меньше посетителей, Эдик вынул из глубины куртки блокнот и довольно сноровисто сделал несколько набросков толстогубой круглолицей головы Петра Алексеевича Романова. Нечаянно Даша заглянула к нему в блокнот и громко расхохоталась: смешение образов царя и красного комбрига подействовало на нее ошарашивающе!
Разговорились. Пряча свой несерьезный, клоунский нос за страницами блокнота, Потемкин пожаловался ей на миниатюрность человеческой жизни, на нехватку времени, на то, что вряд ли доживет до известности как художник… Затем перескочил на другое, начав доказывать, что писать большие по размерам картины — неразумно. Человека с его маленькой, быстротечной жизнью такие полотна-де раздражать должны, отталкивать. Зритель ищет во всем невольного сходства с собой, со своими проблемами, а гигантские полотна, если они не росписи храмов и других общественных зданий, вызывают недоверие.
Потом она пришла к нему в мастерскую. Из чисто женского любопытства: живой и такой оригинальный художник! И вдобавок ко всему — мыслит как-то странно, как-то неуклюже, не как все… В «Огоньке» репродукций не печатает. Конечно, настораживало в его портретах несоответствие формы и содержания: скажем, Пугачев с его бунтом и жаждой власти на картине Эдика представал одетым в современные джинсы, даже бирка фирменная «Левис» тщательно прописана; над джинсами, этажом выше — не кафтан, не царские соболя и даже не халат арестантский, а модная майка с наименованием определенного сорта заграничных сигарет с фильтром.
— Зачем это вы? Удивить, да?
— Успокойтесь. Просто я так… вижу. Чего тут такого особенного? Это сближает эпохи. Убежден. И вообще на земле только одна эпоха — эпоха Жизни всеобщей. Правда, она раздроблена на всякие там периоды. Дело художника — объединять раздробленное. Убежден. Личность, то есть дух, содержимое телесной оболочки, всегда, во все времена остается цельной, нерушимой! Рассекаете? В какую эпоху ее, личность, ни сунь, она всегда проявит себя надлежащим образом. Пушкин будет писать стихи. Хоть в XXI веке Кулибин — изобретать. Наполеон — завоевывать. Стенька Разин — бунтовать. А папа римский — богу молиться будет. Хоть в сутане, хоть в галифе или вообще в колготках. Не имеет значения.
Поначалу художник приятного впечатления на Дашу не произвел. Очаровал он ее постепенно и как-то нематериально. Сразу было видно: с таким не соскучишься. Вот бы такого в табор привести. А заодно и забавных портретов от него с десяток прихватить, по стенам в гостиной развесить, людей на выставку пригласить. Рисует он даже весьма неплохо! Очень способный человек. Только вот… притворяется, чудит. Ей-то он растолковал: «Видение мира, мол, слишком свое, оригинальное…» А ей все равно кажется, что чудит прежде всего. То, что художнику было уже под сорок и он к этому времени оставался холостяком, объясняла жертвенным отношением Потемкина к призванию, к искусству. И почти сразу ей пригреть его захотелось, обмыть, от пыли вековой отряхнуть, пирог ему испечь яблочный. А главное: талант его уберечь, до людей донести. Когда же через год после их музейного знакомства художник попытался на тот свет себя отправить, пальнув по пьянке из дробовика, то и вовсе ужаснулась, попутно воспылав к Эдику материнской любовью и всепрощением. Она даже в Союз художников ходила, оставила там заявление, в котором просила обратить внимание на погибающий талант. Познакомилась там с одним видным художником-академиком, заручилась его поддержкой.
В благодарность Потемкин когда-то предлагал Даше руку, не просил у нее, а именно, растерявшись, свою предлагал. За что Даша искренне его поблагодарила, но в загс идти с художником отказалась. Из жертвенных соображений.
— Тебе, миленький, не в загс, тебе в Союз художников нужно идти. Из одиночества наружу высунуться. А главное — работать, писать. Государственная премия тебе нужна, а не семья. Чтобы честолюбие подхлестнуть и на место поставить. И вздыматься еще выше… На Олимп! А наши с тобой отношения, миленький, от этого не завянут. Не все ли равно, в какие одежды будут они обряжены, отношения наши? Это если твоей теорией портретной воспользоваться.
Много позже выяснилось, как и следовало ожидать, что художник был не столь уж и бескорыстен в своем отщепенстве. Успеха он жаждал ничуть не меньше монументалистов, даже гораздо сильнее их жаждал. И на этой почве изнуряющего жажданья все больше мрачнел с каждым днем. И тем самым пугал Дашу постоянно, словно к повторному выстрелу из берданки готовился.
На этот раз содержание телеграммы не поддавалось мгновенной расшифровке, что, естественно, насторожило и напугало Дашу.
«Зубы на полке. Муравьи озверели. Пахнет жареным».
Что он этим хотел сказать? И все же некий продуктово-провиантский подтекст депеши угадывался.
Даша притормозила возле гастронома, разменяла последнюю десятку, за которой — лишь ожидание получки. Пакетики с колбасой, сыром, маслом поочередно и вразнобой, как лягушата, норовили выскользнуть из ее рук на дореволюционный кафель бывшего «Елисея». Винного отдела в гастрономе почему-то не было. Мужчина, у которого дрожали руки и текли из глаз настоящие слезы, участливо растолковал, в каком именно переулке помещается теперь этот отдел. В голосе его прослеживались нотки солидарности. Он долго кивал ей вослед с задумчивым выражением лица, словно прощался навеки.
Еще в момент ознакомления с телеграммой Даша решила купить Эдику «маленькую» водки. Чего прежде почти никогда не делала. Сейчас ее смутила фраза о муравьях… Не намек ли это на, скажем, головную боль? Не горячка ли, не бред ли? Тараканы, муравьи… А там и черти. Что-то подобное она уже слышала в таборе, когда речь об алкоголиках заходила.
Оставив «жигуленка» в разноцветном стаде легковушек, принадлежавших юным художникам, Даша закружилась по винтовушке, ввинчиваясь в башню, звеня металлическими ступенями, туда, где под самым куполом хандрил сейчас ее гений, способный в любой миг выстрелить в себя из дробовика еще раз. И вот странно, чем выше она вздымалась, чем ближе подходила к мастерской монументалистов, тем отчетливей пахло… именно жареным! А точнее — рыбой. Молодые художники, сообща писавшие огромные, состоявшие из отдельных частей, словно из детской игры позаимствованные, картины, которые, написав, потом еще долго составляли в каком-нибудь не менее огромном помещении в одно целое, ребятишки эти жизнеспособные давно уже привыкли к «телеграфным» появлениям Даши. Ее тернистый путь наверх, к своему кумиру пролегал через их светлый круглый зал, через пронизанное солнцем пространство, на котором они приносили пользу обществу и одновременно зарабатывали неплохие денежки. За те несколько десятков шагов, что совершала она по их территории в направлении винтовой лестницы, успевали они всякий раз чем-нибудь ее угостить: шоколадной конфетой из набора, свежекупленой розой или гвоздикой, а то и чашечкой кофе с ликером, которую несли параллельно ее движению к винтовой лестнице на самодельном, разухабисто расписанном деревянном подносе. Даша, в отличие от Эдика, никогда не иронизировала, не язвила в их адрес. Более того, недурно разбираясь в их ремесле, иногда угадывала удачно прописанные бригадой места на необъятных полотнах и, выхватив эти места из серой беспредельности, незлобивым, восторженным взглядом указывала на них мастерам, приплюсовав совершенно безо всякой корысти несколько добрых, толковых слов.
Сегодня здесь, в обители, царило не просто оживление, а как бы восторг священный плыл, вдохновение буйное, действо горячечное, фонтанирующее энергией, клубилось!
— Пируете?! — взмахнула Даша кульками. — Произошло что-то? Хорошее, да?! Небось на премию опять выдвинули?
— Не угадала! Понимаешь… Сказочный заказ!
— Такой, что и не снилось прежде!
— Мечта голубая всей жизни! Поздравьте нас, Дашенька!
— Исаакиевский собор, что ли, заново расписывать предложили? — недоверчиво улыбнулась Даша.
— Ну-у, вы даете!
— Да что же тогда, господи?! Вы меня пугаете. Может, башню эту… обитель вашу на ремонт ставят?
— Эх, не угадали! Детский сад… Всего лишь. Понимаете: Красная Шапочка, крокодил Гена! Кащей бессмертный и сорок разбойников. Отдохнем наконец-то… Душеньку отведем. Детство, сказка! И-ех!
— Поздравляю. Действительно, радость.
— Вот, угощайтесь… Лещ натуральный! Вчера еще в Вуоксе обитал.
— Спасибо. Я с собой кусочек возьму. Если можно. Там и съем наверху. Я по телеграмме…
— Гения само собой накормим. А это вам. Сами ешьте!
— Вы его видели? Что с ним?!
— Не что с ним, а кто с ним.
— А кто, если удобно про это говорить?
— Такой маленький и очень волосатый гном.
— А-а… Так это же прекрасно! Я их сейчас накормлю. Они с голода, наверное, помирают…
— Даша, у нас к вам просьба. Упросите коротышку позировать. Конечно, не бесплатно. Мы с него Карлсона, который на крыше, для детсада напишем. Или гнома. Типичный персонаж. Просто отразим его, как в зеркале, и додумывать ничего не надо.
— Постараюсь, мальчики…
Наверху, в довольно просторном зальце, однако гораздо меньшем, нежели у энергичных ребят (башня уходила вверх, постепенно сужаясь), никакого священного трепета или хотя бы оживления не наблюдалось. Погибших голодной или какой другой смертью — тоже… И единственном кресле, похожем на кузов такси без колес или на половинку гроба, сидел, а точнее, лежал, свернувшись по-собачьи, поэт Герасим Тминный. Из кресла торчала огромная голова его, в данный момент дремавшая. При появлении из отверстия в полу Даши Тминный мгновенно проснулся и начал бешено потирать руки от удовольствия.
Сам художник Потемкин у зарешеченного отверстия, напоминавшего тюремное окошко, рассматривал в заляпанном красками зеркальном обломке заросшее волосяным бурьяном невеселое лицо.
— Привет, одуванчики! — Даша бегом добежала до угрюмого художника, стоявшего к ней спиной, заглянула ему в лицо. — Признавайтесь, что стряслось опять? Живы, по крайней мере?
— Живы, хе-хе… Но, хе-хе, не совсем здоровы, — попытался шутить выкарабкивавшийся из кресла, точно из ямы, Тминный.
Художник тем временем пристально продолжал рассматривать себя в зеркале, словно сомневаясь в подлинности увиденного.
— М-м-да-а… Что-то происходит со мной. Неладное что-то, — мямлил Потемкин, не собираясь «вылезать» из зеркала и не здороваясь с Дашей, чего прежде за ним не наблюдалось. — Черт знает что! Мне кажется, что я скоро исчезну… И произойдет это благодаря вот этой забабахе! — ухватил он себя за нос пятерней, как будто грушу с дерева снять вознамерился. — Растет, паскуда. И скоро я весь в него перейду… Как в постороннее тело перемещусь. Вот и возникают у наших невест сомнения. В связи с этим. А там и новые кандидаты на горизонте появляются. Двухметровые. В красивой казенной одежде.
— О чем ты, Эдик? Что с тобой происходят? Подумаешь, нос!
— А вот и «подумаешь»! Пока тут разной чепухой занимался, портретики мазал, замки воздушные строил… а нос-то и запустил.
Даша кульки судорожно к груди прижала. Из одного кулька серебристая головка алюминиевая на свет божий высунулась. Потом Даша все, что в руках держала, медленно в кресло на Тминного высыпала в забытьи. Съежившись, к Потемкину руки протянула.
— Нос как нос… — погладила медвежье, тяжелое лицо художника, в глубине которого, словно в двух колодцах, мерцали маленькие беспомощные глазки, чем-то напуганные.
— Я тебя почему вызвал-то? Страшно мне. В мужья не гожусь. Вижу, знаю. Не спорь! Какой из меня муж? Я — сумасшедший, помешанный… На красках. На печали какого-нибудь одуванчика полевого и на мировой скорби! Опять же нос — как булыжник. Не член Союза. Вот и не любишь меня.
— Ты, Эдик, себя любишь, свои холсты, краски. Сам признавался. И правильно делаешь. Эта любовь — перспективная… Я тебя, Эдик, тоже люблю, но…
— Но странною любовью?
— Чего ж в ней странного? Странно, что все вы от нее отказываетесь. Казалось бы, тонет человек, совсем ему плохо, а протянешь руку — так он не за нее хватается, а за какую-то соломинку. У вас у всех непременно своя соломинка имеется. Найти бы ну самого разнесчастного и в беде — доброго. Чтобы поверил. Не отказался от протянутой…
— Соломинки?
— Да. Только она — сердце. Мое сердце.
— Вон Тминному предложи. Может, ухватится? Хотя у него тоже соломинка. Правда, через нее он чаще кейф ловит, нежели спасается.
Тминный наконец-то выбрался из кресла, обеими руками волосы пружинистые к голове прижал, плечом дерзко повел.
— За Тминного слишком-то не переживайте. У Тминного книга скоро выходит. Его в Союз писателей примут. У него, у Тминного этого самого, по части мозгов — хоть отбавляй. Соломинку протягивают. Тоже мне…
— Ты что же, отказываешься? — Содрал Потемкин алюминиевую нашлепку с бутылочки. — Ну и дубье. От такой-то принцессы?
Даша ласково, как ребенка, обняла Тминного, дружески прижала его лохматую голову к себе. Была она ростом на голову выше поэта, и, глянув на них со стороны, Потемкин не сдержал усмешки. Смущаясь, Тминный высвободился из Дашиных материнских объятий. Кровь прилила к его рано изморщинившемуся лицу.
— Забавляетесь, — бормотал он, сдерживая себя изо всех сил, чтобы на крик не сорваться. — «Тминный, Тминный!» А ведь у меня имя есть. И отчество… Герасим Ильич!
Даша по-бабьи всплеснула руками.
— Обидела! Прости, Герасим Ильич! Ну ради бога! — и в полном отчаянье изо всех сил обняла Тминного. — Мне Эдик стихи твои читал — про коммунальную квартиру, здорово! И волосы у тебя шикарные… Тоже нравятся. И сам ты мне по душе… Я ведь заплачу, Герочка, если не простишь меня, болтушку…
И тут Тминный в глаза Даше посмотрел, нехотя, невесело. И вдруг настоящие там слезы увидел, только синие, тушью окрашенные. И сам едва не заплакал. Потом задергался, заозирался. Потемкина в помощь себе за руку ухватил.
— Да помоги ты ей!
Разрядил атмосферу голос, возникший в лестничном, люке. По гулкой чугунной винтовушке кто-то напористо, весело поднимался, подкидывая вверх перед собой зазывные слова, словно голубей почтовых:
— Поступило! Предложение! Отметить! Заказ! Всей! Обителью! Под! Леща!
Наконец, в отверстии над полом показалась голова — светлая, лицо в курчавой, застиранной бородке — молодое, румяное, приветливое.
— Приказано артелью: свистать всех… вниз! Так что опускайтесь, Потемкин. И вы, Даша, и вы, товарищ поэт. Через полчасика. Сказочный заказ отмечать будем. Не против?
Потемкин милостиво кивнул, соглашаясь. Тминный руки со страшной скоростью потирать начал. После того как малознакомый профессиональный художник, член Союза, поэтом его назвал, Тминный заметно воодушевился, примиряюще улыбнулся Даше и Потемкину. А сама Даша, промокнув глаза платком, рассмеялась блаженно, словно ее в этот момент сердечная боль отпустила.
— Слава богу! А то ведь я чего только не передумала, пока сюда ехала. Такая смешная телеграмма!
— Герасим, — позвал Потемкин поэта, игнорируя Дашино воодушевление. — Видишь ли ты крюк в стене, Герасим? Тот, на котором веревочка? Как думаешь, выдержит меня?
— Крюк? Или веревочка? — запрокинул дремучую головку Гера.
— Не смей иронизировать! — топнул разношенным сандалетом Эдуард. — Этот способ надежнее. И я его применю.
— Пугаешь? — улыбнулась Даша Потемкину, жующему колбасу.
— Совершенствую метод. Вернее — способ. Рацпредложение вношу.
— Старо, — выдохнул Гера Тминный табачное облако. — Применяли неоднократно. А телеграмма скорей всего так расшифровывается: «Муравьи одолели» — это — мысли черные…
— Не «одолели», а «озверели», толкователь! — поправил Потемкин Тминного. — И не мысли, а деятели, которые бани оформляют! — ткнул Эдик кусочком сыра в направлении винтовой лестницы. — Красят, красят… Дай им волю — весь город, всю планету разделают под орех!
— Ну а… «зубы на полку»? — робко поинтересовалась Даша.
— Жрать нечего! И жареным пахнет! Раздражает.
— Пугаешь, как всегда. И, как всегда, неуклюже.
Снизу в отверстие люка проникала зажигательная музыка. Даша ухватилась за нее моментально, тело ее пришло в движение. В белых вельветовых брюках, в белой «тряпочной» кофте, сшитой из старой простыни и очень поэтому модной, Даша взмахнула руками и весело закружилась по комнате, вздымая вековую пыль одного из самых запущенных углов обители.
— Ты чего радуешься? — Потемкин ковырнул спичкой в зубах. — Думаешь, рыбу есть согласился, так и все хорошо у меня теперь? Наладилось?! Ошибаешься, красотка. Учти, я жив, пока ты не отвернулась от меня. Поняла? Пока ты мне соломинку протягиваешь. И не вздумай отвернуться, отвлечься — сразу на крюк! Под потолок… А все почему? Потому что я бездарен. Во-во! И не делайте изумленных глаз. Не столько в художествах, сколько в другой области, не в живописной — в обиходе, в быту бездарен. Пробивной моченьки нетути… Не обладаю оной. Заели, загрызли муравьи белокурые!
Слушая Потемкина, Даша танец свой вымученный прекратила, вся как-то сжалась, сгорбилась. И к Потемкину со следующими словами вдруг обратилась:
— Не вели казнить, вели выслушать. Прости, если не так что. При твоей гордости, замкнутости кто тебе, кроме меня, поможет?
— Ты это о чем? — остановился напротив Даши Потемкин. — Ежели про женитьбу — не надо. Ничего у нас с тобой не получится. Сама знаешь… Я — богема. В чистом виде. Ты — ангел. Натуральный.
— Не о том я, миленький…
Потемкин замер возле Даши, словно принюхиваясь, словно таким способом предугадать ее намерения пытался.
— Уж… не глотнула ли? За рулем-то? Досказывай, не томи. Чего натворила?
И вдруг художник на цыпочках, трепетно приблизился к Даше вплотную, поднес к ее светлому лицу свою холмистую физиономию и с артистической аккуратностью, изящно поцеловал девушку в лоб. Глаза его, глубоко зарытые в складки лица, какие-то подпольные, робкие, внезапно возгорелись. Стало вдруг заметно и довольно-таки отчетливо, что бедолага этот угрюмый, в нелюдимость свою с головой вросший, вовсе уж не такой каменный, замшелый и к Даше относится весьма нежно, и очень, видимо, от нее зависит, от ее к нему расположения. И дружбой с ней наверняка дорожит. А всяческие словечки ершистые выпускал из себя в ее присутствия; исключительно из оборонных соображений, а также с ее, Дашиного, милостивого соизволения.
— Угадай, миленький, у кого я вчера в гостях была?
— Мало ли… С каким-нибудь англоязычником столковалась?
— Как тебе не стыдно? Сейчас упадешь, если скажу… У такой важной персоны кофеек пила, аж самой не верится. У академика Поцелуева!
Потемкин вздрогнул, словно баржа, наскочившая на мель. Гуттаперчевый нос его побелел от волнения, будто его морозом сорокаградусным мазнуло.
— Кофе, говоришь, пила? С этим вельможей? Откуда ты его… Он же барин, этот Поцелуев.
— Что ты, миленький?! Поцелуев — любезный старичок. Очень внимательный и очень тихий. Тактичный. Рассматривал меня исподтишка… Отворотясь в зеркало. Из скромности. Ему глаза мои понравились. Он их в блокнотик свой занес. Острым карандашиком.
— Где ты у него была? В мастерской? С какой стати?
— А я тебе кто по профессии? Искусствовед. У меня диплом.
— Работу о нем писать собралась, что ли? Только учти: о нем уже все написано. Хорошее — все. А плохое не принято писать. Ну, говори, не томи, зачем к мэтру заявилась?
— Работы ему показывала… твои!
— К-какие такие работы? — нос у Потемкина опять порозовел, словно его к штепселю подключили, снабдив электричеством.
— Прекрасные работы, вот какие… И Поцелуеву они понравились! Вот. Особенно «Времена года». Те четыре пейзажа, которые у нас в гостиной висят. И мою голову под Марию Стюарт тоже предъявила. Да-да… И портрет Вивальди.
— Да ты с… с ума сошла! Да Вивальди-то на портрете на кого похож? На известного космонавта!
— Знаю. Потому-то академик и рассмеялся. «Баловство», говорит. Потом походил-походил по мастерской… А она у него метров сто туда и метров сто обратно…
— Ясно! Дальше что?
— Походил, ногами пошаркал и опять к портрету петушком подскочил: «Баловство!» — прочирикал, а затем еще: «Однако забавно!» А в самом конце прошептал себе под нос, едва расслышала: «Хулиганит, мерзавец, но пишет твердо и вкусно…» Потом спрашивает: «У кого учиться изволил?» А я ему: «У вас, Митрофан Афиногенович». — «Что-то, говорит, не припомню данной манеры. Он, что, в годах уже, подопечный ваш?» — спрашивает. Ну, я ему все как есть и выложила. Погибнет, говорю, ноги протянет, если вы ему руку не протянете.
— Так и сказала?! Да ты в уме, дура?! Ну, даешь, Фр-рося…
— Пора бы, говорю, выставку ему. И в Союз принять пора бы. С такими-то данными. А старичок вдруг ка засмеется: «Мало, говорит, у нас своих пьяниц в Союзе!» А я ему: «Ошибаетесь!» А Поцелуев: «Ну, если ошибаюсь, тогда другое дело».
— Да разве про такое калякают с академиками? Дипломат выискался! — забегал, заспешил, как волк по клетке, Потемкин.
Даша над Герой Тминным, который опять в кресло залез, склонилась, изо рта у него сигарету вынула, машинально затянулась дымом, закашлялась, выронила окурок. И к Потемкину опять — вплотную.
— Эдик, родненький… Сходи к нему! Старичок хорошо настроен. Оптимистично. Попросил разрешения твои работы у себя оставить. На несколько дней. Наверняка покажет кому-нибудь. А моя голова в кружевах, ну, вот… один из первых портретов, под английскую королеву, — ух и разжег его! Я думала: сейчас купит! А что? У Поцелуева денежки есть. Какую-то штучку со стены снял и на освободившееся место меня подвесил. А потом как бы про себя, скрестивши руки на груди, произнес: «Очаровательно». Протяжно так произнес и едва слышно…
— Если едва слышно, так, может, совсем другое слово произнес? — засомневался Потемкин, а Тминный, потерев ладони, съехидничал на свой манер:
— Может, хе-хе… это самое, не «очаровательно», и «очковтирательство»?
— Рифмуешь? — незлобиво усмехнулся Потемкин, попутно распушив бороду и увеличив в размере кос. — Тоже мне… Дамиан Бедный!
— А что?! Рифма вполне…
— Плохая рифма. И портрет плохой. Первое впечатление от лица. Сейчас бы я его прописал как положено…
— Первое — самое достоверное! — опять на скорую руку срифмовал Тминный, а развеселившаяся Даша радостно ему зааплодировала.
— Эдик, лапушка… Сходи ты к Поцелуеву, посети. Главное — с места сдвинуться. У тебя и предлог для визита есть: картины свои забрать. Все естественно. Хочешь, я за тобой заеду на той неделе? Прихватим пяток работ, помягче, поласковей которые… Поверь мне: зацепило его что-то! Меня ведь не проведешь. Глаза у старичка так и проснулись! Вспомнил он что-то хорошее, глядя на твои пейзажи.
— Скажешь тоже… — неуверенно промямлил Потемкин, однако без прежней иронии в голосе.
И тут снизу, из лестничного отверстия, зазывный рев трубы раздался: это воодушевленные сказочным заказом мастера объявили о начале торжеств. «Врубили» магнитофон на полную, и вся обитель, как ствол гигантского орудия, напряглась, выплюнув из себя к небу восторг, рожденный «творческим энтузиазмом».
С Дашей нарасхват бросились танцевать белокурые «муравьи». Каждому из них в процессе танцевального покачивания пыталась она привить внушением тревогу за «очень все-таки способного» Потемкина, которого она — «просто обязана» спасти, вернуть обществу. За ним-де глаз да глаз нужен, так как не исключена возможность, что Потемкин вновь выстрелит в себя из дробовика или веревочку применить попытается. Даша умоляла розовощеких, добродушных мастеров взять посильное шефство над «старшим товарищем по работе». Тем более, что и он и они в свое время один и тот же институт имени Репина окончили, и сам Эдуард Потемкин в свое время, покуда не захандрил, не менее сказочные заказы от организаций получал.
Молодые удачливые монументалисты искренне соглашались с Дашиной оценкой «незаурядного дарования», помогать ему не отказывались, особенно продуктами питания, но тут же хором и вразбивку жаловались ей на него: несговорчив, обидчив, трудноперевоспитуем, мания увеличения носа и тому подобные нюансы некоммуникабельности, делающие общение с Потемкиным весьма проблематичным.
И действительно, слова Потемкина, его мысли, дела, даже поползновения пропитались, как кровь желчью, непомерным скепсисом. Отмахнувшись от суеты, от «сделок с совестью», и от заказов в том числе, поднялся он в подсобное помещение, прежде служившее художникам кладовкой, поднялся и одновременно — опустился, так как перестал бриться, в баню ходить, горячую пищу принимать, с нормальными людьми общаться. Это уж потом, когда Потемкин с Дашей познакомился, проснулось в нем прежнее ощущение жизни, стал он бородку свою холить, но все равно близко к себе намеренно никого не подпускал. Исключение: Даша и Тминный, с которым Потемкина опять же Даша свела. Тминный, до того как под куполом Исаакиевского собора с Дашей встретиться, лет десять в заядлых графоманах проходил, смертельно осточертев газетным и журнальным редакторам, и вдруг после встречи с Дашей, под влиянием ее добрых глаз и незлобивых критических замечаний, стихи его сделались понятными, удобоваримыми, слог выровнялся, появилось в них «конкретное видение» и якобы «свой угол зрения», во всяком случае так о Гериных стихах, опубликованных в полутолстом журнале, выразился однажды в местной печати пожилой критик-рационализатор, писавший свои рецензии по способу «раз и навсегда», то есть вставляя в рецензию на предыдущего автора новую, доселе неслыханную фамилию очередного стихотворца.
После непродолжительных танцев дружно обгладывали жареных лещей. За кипящим самоваром в тесной «едальне» кто-то попросил Тминного прочитать свои стихи. Тминный долго не соглашался, сползал с лавки под стол, прятался, маскировался, уродничал как мог, даже когда захмелевший и сытый Потемкин панибратски треснул его по плечу, подбивая на чтение, ни в какую читать не хотел. И только от Дашиной теплой улыбки растаял, ласковой ее просьбе внял, подчинился.
Правда, согласился он читать после непомерно длительных увещеваний, за время которых многие устали, многие отвлеклись на леща, короче говоря, момент был упущен, и читал Тминный свои стихи, мягко выражаясь, не в идеальной тишине и как бы не в комнате вовсе, и в бурчащем животе. Читал Тминный стихи о так называемой природе, о деревьях, рыбалке, о какой-то неясной, смутно обрисованной женской фигурке. Читал монотонно, безнадежно, словно мелким осенним дождем сидящих поливал… И тут ему вновь Даша на выручку пришла, по руке его незаметно похлопала и что-нибудь из «раннего», то есть графоманского, периода прочесть попросила.
И сразу гробовая тишина в «едальне» сделалась.
На кухню вызвали поэта и подбоченились жильцы. Соседка пепельного цвета взяла поэта под уздцы, затем на спину взгромоздилась, затем пришпорила бока! Отцы-самцы заходят с тыла, как безысходная тоска…Стихи из «коммунально-бытового» цикла понравились, имели успех. Были они мрачноваты, но люди почему-то улыбались.
Я мою соседку искалечу, я мою соседку изобью, я ее в стихах увековечу, чуждую и все-таки — мою!Потом пошли стихи о любви. Косяком. Эти были беспомощнее «коммунальных» и отличались неуклюжей иронией защитного свойства.
Душа моя — пустыня Гоби, и ты по ней, как по песку, переставляешь твердо — обе, а в них торчит по каблуку!Тминному аплодировали. Дружно, без натяжки. Радушно аплодировали. Самый белокурый из белокурых даже натурально обнял стеснительного барда и выпил с ним квасу на брудершафт. Ночевать Тминный остался у Потемкина. Провожали Дашу монументалисты. До машины у крыльца.
Даша сидела в машине, положив руки и голову на рулевое колесо. Тишина приятно ласкала взбудораженные чувства. Рано или поздно надлежало эту врачующую тишину вспугнуть, завести двигатель. Голова Даши скользнула вниз по руке, раздался резкий, визгливый звук сигнала! Даша подбросила голову, улыбнулась: надо же, задремать умудрилась. В машине уютно пахло чем-то неуловимо машинным: чуть-чуть бензином, чуть-чуть маслом, краской, искусственной кожей, резиной. И дорогой как бы.
Там, снаружи, за стеклами машины имелось еще достаточно видимости, чтобы не включать фары и габаритные огоньки. Правда, облака, захламившие небо, делали знаменитую белую ночь серее обычного.
Даша облегченно вздохнула, вспомнив, как вяло сопротивлялся Потемкин ее уговорам сходить к метру Поцелуеву. Теперь сходит. Непременно. Ради нее. И только таким образом будет спасен. Выкарабкается. Таланта ему не занимать. Вот только опустился изрядно. Но, похоже, и об этом забеспокоился. Нос в зеркале рассматривает. Не жених, конечно. Не приспособлен для такой роли. Но почему-то жалко, если погибнет. Замуж за него не пошла бы, но большого художника из него сделать попыталась бы! Только ведь испугается, не решится никогда дерзнуть. Не поверит в возможности, нахамит со страху. Такие у нее забавные женихи… Эдик-геолог ладанку с ее изображением носит. Вот и приходится комедию время от времени ломать. Как с этим летчиком послушным. Летчик, конечно, красивый, но и самый чужой: благополучный. Обеспеченный необходимым: женой, квартирой, окладом, высоким ростом, а значит, и вниманием женщин. Есть, правда, еще «дуплист» Шишигин. Постарше остальных, но и позаковыристей: этакий городской колдун, а попросту — сумасшедший. Так что в итоге у нее разве что всадник Медный в нерушимых, прочных друзьях остается. Зато уж не подведет. В любое время года согласен пообщаться. И обитает в удобном месте.
Даша засмеялась вдогонку надуманной радости, вставила ключ в замок зажигания, повернула. Вспыхнула потаенным светом приборная доска. В машине стало еще уютнее…
На Сенатской площади притормозила и, огибая по дуге сад, помахала кумиру, высунув из окна руку. На Дворцовой, несмотря на поздний час, народу было много, в основном парочки. Едва различимые в серенькой джинсовой одежде над серым асфальтом в сером воздухе. И роста как бы все одного. Но вот впереди, там, где ей в ворота Капеллы въезжать, на мосту через Мойку замаячила фигура, отличающаяся от остальных. Кто-то очень высокий. На голове фуражка… Стас!
На мосту возле Стаса Дашина нога машинально тиснула подошвой тормозную педальку. Оттолкнувшись от перил моста, штурман бежал к ней. Она еще подумать успела: какие, в сравнении с ним, перила низенькие! Запросто перешагнуть может… Страшно.
— А я ждал! Здрасьте… Смотрю: машины вашей нету во дворе…
— А я не ждала…
— Улетаю сегодня.
— Только сегодня? А я думала, что вы постоянно летаете.
— За кордон. Повидаться почему-то захотелось. У меня маршрут интересный. Что вам из Италии привезти? Какой сувенирчик?
— Из Италии? Не знаю, право… Я ведь там никогда не была. Вот если бы из Пскова или Риги. Хотя…. А вы действительно в Италию собираетесь? Не шутите?
— Вполне серьезно. Я уже год на международных.
— Знаете, о чем я вас тогда попрошу? Есть у вас полчасика? Я сейчас машину поставлю, и мы погуляем перед сном. Под окнами у Пушкина постоим, идет? Вдруг да там свет не погашен?! Я очень люблю, когда в квартире Пушкина или Блока свет допоздна горит… Особенно зимой. Хоть чуть-чуть. Свеча на столе или лампада возле, иконы, но чтобы непременно теплилась…
Загнав машину во двор, Даша присоединилась к Стасу, читавшему возле ворот Капеллы афишу, освещенную небом. Близилась полночь. Подойдя вплотную к афише, Даша протянула к бумаге свою ладонь и плавным, мягким движением руки обвела на афише два слова: «Антонио Вивальди». А затем едва уловимо, с оттенком задумчивости постучала по буквам пальцем.
— Вот это…
— Что «вот это»? Композитор?
— Что-нибудь о нем. Открыточку. Или пластинку. И хорошо бы с портретом. С каким-нибудь его изображением. Сувенирчик…
— Ах вон оно что… До меня по ступенькам доходит. Постараюсь, конечно.
— Ви-валь-ди! Запомнили? Лучше записать…
— Постараюсь. А что, здесь разве туго с этим?.. Вивальди? По знакомству доставать приходится?
— Да нет, не потому вовсе…
— Мода на него, что ли?
— Понимаете… У нас в Ленинграде, конечно, есть его пластинки. С его музыкой. Но мне бы хотелось оттуда! Понимаете?
— Оттуда? Понимаю…
— Он из Италии родом. И, скажем, пластинка оттуда с его музыкой, пусть даже наша, советская пластинка, но оттуда — все равно уже как подлинник воспринимается. А не копия…
— Кем воспринимается?
— Мной.
— Поня-ятно… — улыбнулся восторженно Стас и бережно взял девушку под руку.
Неторопливо двинулись они вдоль изгибистой здесь набережной Мойки, узкой, безлюдной и какой-то очень петербургской. Гранитные глыбы под ногами, неровные, сдвинутые с места временем, с незарастающими оспинами от осколков снарядов, а над ними чугунная решетка перил, а вдоль Мойки дома, чуть осевшие в хлябкий грунт; под низкими, отдававшими затхлой прохладой арками, ведущими во дворы-колодцы, старинный, истертый еще ободами тележных колес ломовых извозчиков булыжник, выбегавший из подворотен на набережную и тут же прятавшийся под дырявое одеяло асфальта.
Идти вдвоем по гранитным, метр шириной, плитам, образующим тротуарчик возле перил, было тесно, и Стас припустил Дашу вперед. И тут, как бы невзначай, а на самом деле оттого, что не видела его теперь в лицо, Дина заговорила с ним о его жене:
— Скажите, Стас… вы что, не любите свою жену?
— Почему решили?
— Так ведь меня провожаете!
— Вот те на! Да разве это возбраняется — кого-то провожать?
— Не кого-то, а меня. Я ведь могу подумать разное.
— Знаете, с Ингой у нас в данный момент как бы война. Инга у своей матери находится… в данный момент.
— «В данный момент»! Какой жуткий деловой язык! Вам не страшно ну хотя бы за себя? Врозь с любимым человеком? Я, кажется, умерла бы…
— Во-первых, вряд ли она еще меня любит. Знаете, мы из тех, о которых говорят: «обознались». Я работяга простой. По графику к машине… Сейчас ведь летчик что? Сел в лайнер, а это огромный такой дворец, нет — цех… Зашел в него по трапу, как через проходную, отметился — и за свое дело, к станку. Романтики почти никакой. Вот Инга и заскучала. Инге Амундсены нужны или, по крайней мере, Дон-Кихоты, князья Мышкины, которые деньги в печке сжигают, смотрели «Идиота»?
— Смотрела… И даже читала. Неужели так плохо у вас?
— Да куда она денется? Из-под штампа в паспорте? Думаете, он для галочки ставится? Многие только благодаря ему друг за друга держатся. Магия у него. У штампика. На психику давит. Как клеймо когда-то на каторжника…
Даша испуганно обернулась, но в белесых сумерках ничего в глазах, прикрытых козырьком фуражки, не прочла.
— Так плохо?
— Не хуже, чем у других. «Объединились» мы по первому зову. Непродуманно. Как все случайные люди. И винить-то, в общем, некого. Сперва азарт, телячьи восторги. Проворство! Как же: победитель! И все это под звон, под аккомпанемент хрусталя буфетного. Из тещиного серванта. Все в неестественном состоянии происходило. Или, как это принято теперь говорить, по пьянке. А когда праздник отшумел, посуду перемыли, глаза протерли, мозги проветрили… тут и пошла она, трезвая прикидка, что почем и кому сколько положено. Раньше-то, говорят, за девушкой годами по пятам ходили. С разной там сиренью-черемухой. Выясняли, притирались друг к другу. Это я вообще. А с Ингой у нас, конечно, интересней получилось.
— Не сомневаюсь, — пролепетала смущенная его откровениями Даша.
— Инга — яркая, дерзкая. В аэроклубе одной страстью мы с ней болели: небом. Только я со временем, по ее разумению, остыл, отрезвел. Начал работать в небе. А ей нужно было, чтобы я парил, витал, как, понимаешь, ангел! Нет уж. Пусть она сама витает. Отсюда, от витания, у нее и детей нету, и семьи в итоге. Так — болтовня и самолюбие непомерное. И конечно, модные вкусы. На тряпки заграничные, на бирюльки, на общение-поведение. А по мне, что-нибудь одно: или синица, или журавль. Или — или. Витаешь, быт занудный презираешь, щей сварганить не можешь — ну и витай на здоровье! Журавликом. Питайся эфирами да эолами. Как говорят в народе — лапу соси. И не жалуйся. А ежели тебя и портки модные волнуют, и конкретные денежки в конкретном количестве, тогда ты все врешь! Мать честная… И грош тебе цена.
— Не надо кричать, Стасик… К Пушкину подходим. Он в этом доме умирал. И всех простил перед смертью. Всех, всех обидчиков своих. Потому что и сам при жизни ангелом не был. А всего лишь гением. Не пойму, любите вы ее, что ли, Ингу свою? Если нет, тогда волнуетесь отчего? А-а… поняла! Вам себя жалко, да? Обидно?
— Еще бы! Вас бы на мое место.
— Бедненький. Ну, простите. Больше не буду. Только разве это грех: заграничные вещи любить при некоторой восторженности в поведении? Это скорей забавно, нежели неприятно. Мне кажется, если кого-то любят, то и прощают ему все, кроме…
— Вот именно, что «кроме»! А «кроме» у каждого свое.
— Модные портки? В смешении с некоторой неуравновешенностью? Ну уж и «кроме»…
— Да я и сам не понимаю себя. Иногда мне кажется, что я завидую Инге. Ее манере жить. И вам, Даша, завидую. Это ж надо — улыбаться так бесстрашно! Завидую вашей женской манере жить.
— Манере? Какая же это манера? Это дар. От природы.
— А мне все кажется с недавних пор, что она играет. Инга моя. В роль вошла. А потом задумаюсь или вот так побеседую с кем-нибудь — и начинаю сомневаться. И как бы витать вместе с нею… И это после того, как в аэроплане навитаешься досыта.
Даша заметно воодушевилась, голову выше подняла, глаза улыбкой сверкнули.
— Стас, миленький… Вы — ребенок! И слава богу. Вам страшно повезло: вы — любите!
— А меня?!
— Ну и чудак. Главное — любить. На что же вам обижаться? Когда вы на жену свою злились, я чуть не замерзла. Мне показалось, что снег на город выпал, что это не белая ночь, а снег белит… Теперь понимаю, что ошиблась. И рада. И жена у вас нескучная, по крайней мере. Это же подарок судьбы — такая Инга! Какого цвета у нее волосы?
— Да рыжая она, представляете? А что?
— Вот видите! Такая рыжая Инга! Такая нескучная, всевозможная Инга! Не желающая унывать…
— Не знаю, не знаю… И все же эта ее раздвоенность. Вот взять хотя бы вас. Мне кажется, что вы очень цельный человек. Что в вас, Даша, «журавлиная» линия преобладает. Тоже не подарок. Для нормального супруга. Зато уж что-то одно. И если рядом сильный, надежный мужик, не деляга, а по-хорошему земной человек, тогда, глядишь, и получается нечто идеальное в итоге. Уравновешиваются крайности…
— Послушайте, Стас. На прощание… Поговорим о чем-нибудь другом. Вот здесь, в этом доме, сто сорок пять лет тому назад умер Пушкин. «Солнце русской поэзии закатилось». И с тех пор по ночам… Смотрите, Стас: ни одно окошко в его доме не светится. По крайней мере, на набережной. А вот и калитка в воротах. Не заперта! Зайдем к нему во двор. Я здесь часто бываю…
— С кем?
— Как это «с кем»? С собой. Да хоть бы и с Петром!
— С каким же это Петром? — игриво переспросил.
— Великим. А то и с самим Суворовым. С ними удобно. Помалкивают, не перебивают. В душе у тебя на копошатся. Ой, посмотрите! Свет! Во-он в том окошке! Ближе к подворотне… Кто-то не спит. Должно быть, няня…
— Это лампочка от сигнализации. Техника. Двадцатый век. Пушкин-то при свечах жил.
— Вы так считаете? Техника, значит? — Даша поежилась, скрестив на груди руки и приподняв, ставшие острыми, плечи. — Сигнализация всего лишь, по-вашему? — И тут Даша ребячливо, как проходящему поезду помахала рукой бронзовому Пушкину, приютившемуся в глубине двора на прохладном постаменте. Затем она и Стас повернули в подворотню и не оглядываясь пошли прочь.
Простились на мосту. Как в старинном романсе на стихи Полонского. Даша, очнувшаяся от наваждения мужской близости, легко устремилась к Капелле, во свои родные дворы.
Глава четвертая. Ларик
«Здравствуйте, Дарья Афанасьевна!
Не удивляйтесь, что пишу Вам письмо. Старомодно, понимаю… Видимся редко и все больше за чаем в таборе, где много народа. Разве там поговоришь о наболевшем? Письмо это непременно дочитайте до конца. Потом можете выбросить. Обязательно разорвите его тогда помельче.
Знаете, я Вам доверяю. Мне кажется: Вы меня поймете и не поднимете на смех. У Вас, конечно, тоже недостатки есть. Со всякими подонками водитесь вроде небритых Эдиков дурацких. И все же Вы в какой-то мере — мой идеал. Такими должны быть все женщины. Внимательными и красивыми. И я Вас — не удивляйтесь — люблю. По-настоящему, кроме шуток. Можете смеяться сколько угодно. У Вас и смех приятный. Вы, конечно, постарше меня, но кто запретит любить? Только сама любовь. Почему, когда наоборот, когда мужчина старше женщины хоть на тридцать лет — можно, а если женщина на двенадцать, то нельзя? Бред какой-то. Разговаривать, скажем, время спрашивать можно, и даже место в трамвае уступить — пожалуйста, даже нужно, а вот любить — не смей.
На Вас я давно внимание обратил. Мы ведь с Вами из одного двора. Потом на площади повстречал, смотрели Вы куда-то наверх, скорей всего ангела на колонне рассматривали. И улыбались. У Вас улыбка особенная. Как будто Вам все известно. О людях и вообще… Вы так смешно улыбались, задрав голову и никого вокруг не замечая, что я еще подумал тогда: вот чокнутая! А потом, когда Вы глаза опустили и на меня посмотрели, а может, и не на меня, в глазах Ваших слезы были. Я только потом понял, что Вы плакали, что Вы необыкновенная, а тогда решил: ненормальная!
Я на цыпочках за Вами следом крался, думал, пьяная. А потом увидел Вас за рулем машины. Ну, думаю, дает! А с Федей, Вашим братом, мы уже давно дружим, по двору сошлись. Это он привел меня к Вам однажды. Помните, я еще язык прикусил, когда с Вами здоровался? Хотя откуда Вам про это знать? И вообще, я о другом.
Дарья Афанасьевна, мне хочется рассказать Вам про одно открытие: я не люблю своих предков. Учтите, никто меня за язык не тянет. Я эту опухоль в себе давно обнаружил! Вам первой признаюсь. То есть маму иногда жалко и я готов обнять ее, как прежде, но через минуту все проходит. Я знаю, что несправедлив по отношению к ним: они ведь не грабят, не воруют, не спекулируют. Даже не пьянствуют. Что еще? Короче говоря, ничего такого, за что по закону наказывают, не делают. Они просто живут. И ничего не видят вокруг. Не хотят видеть. Им наплевать, что Володьку Мокеева, сына дворничихи, одноклассника, мои джинсы за сто пятьдесят рублей оскорбляют! У него рубашка с протертым воротником, штопаная. Он студень магазинный и разную там хамсу на завтрак ест. А я паштет из гусиных языков! Мать не хнычет, не уговаривает, тихонько так подсовывает, я тихонько отодвигаю. Прошу покупать мне студень, тот самый, что Мокеев жует. И очень даже сносно. И ведь понимают, что мне тошно от их забот, и все суют, пичкают, навязывают исподтишка… Я джинсы под шкаф запихнул, так они решили, что разонравились. Купили мне вторые — за двести! И это умные, начитанные люди. Доктора наук. Заставили мою комнату шикарной мебелью, спать приучают на какой-то арабской тахте трехспальной, из „Тысячи и одной ночи“. Шведскую стенку оборудовали, чтобы я повесился на ней, что ли?! Коврами все устелили… А ведь Мокеев ко мне в гости приходит. Еще приходит. И все это видит. И глаза его темнеют, я же замечаю… А когда меня родители утром находят спящим на полу в чулане, мать слезы тайком проливает. Скрытно от меня, обо мне с врачами-психиатрами советуется. В школу меня еще с первого класса на машине подвозили. Теперь я наотрез отказался позориться: ребята наши кто на чем добираются… Тогда мои предки решили по-своему: купили мне личного „жигуля“. Впрок. Решили, что я потому в школу на их „Волге“ не езжу, что свою машину иметь хочу. Боже мой… Старая женщина с пятого этажа, бабушка Люба Кузьминишна, участница чуть ли не революции, пешком по городу ходит, голова у нее трясется и руки черные от времени. А я на машине буду мимо нее, развалясь… Дарья Афанасьевна, умоляю, растолкуйте им, что я сбегу от них. Жрать бутерброды с семгой, пряча голову под парту! У нас в стране такие люди удивительные историю делали: Ленин, Чапаев, Корчагин…. Подскажите, посоветуйте, что мне делать? Умереть раньше времени? На БАМ из школы сорваться? В Африку к повстанцам? Вчера подняли ропот, — нет, не скандал, не крик, а так, шепоток зловещий заструился по квартире… Из-за чего бы Вы думали? Из-за того, что книги, видите ли, даю читать ребятам не те. Из их „антикварной“ библиотеки! Из их книжной тюрьмы. Оказывается, на некоторых книжечках цена с двумя нулями! Целые две-три получки обыкновенные. А ведь книги умирают, если их не читать. Им нужны глаза, а не шкафы. Сейчас об этом говорят, говорят, пишут, пишут, а что изменилось?
Дорогая Дарья Афанасьевна, Даша… Вас я о чем хочу попросить? Возьмите меня к себе в семью. До окончания школы. Мне Ваша семья очень нравится. Мне ведь много не нужно. Спать буду с Федей. Питаться в столовой. На питание до восемнадцати лет предки мне обязаны выделять. Посоветуйтесь со своим, табором. С Федей я говорил, он не против. Даже обрадовался. Послезавтра, то есть шестого, я к Вам приду в Петропавловку, к концу рабочего дня. Кстати, в этот день Вашему любимому Пушкину сто восемьдесят три года исполнится. Отметим, если не возражаете. В какой-нибудь мороженице.
Ли свидания, Дарья Афанасьевна! Радостных Вам дней.
Илларион».Получила Даша такое письмо от мальчика и растерялась. Утром получила и весь день под впечатлением от него прожила. Голос мальчика вспоминала, лицо бледное, удлиненное, глаза жаркие, внимательные, как бы остановившиеся, внезапно пораженные увиденным. И все контролировала себя: не совершила ли, пусть бездумно, ненароком какой-нибудь ошибки, все прислушивалась к себе, приглядывалась к миру пристальнее, — и так весь день, пока на людях была. Экскурсии водила с тревожным усердием, ласково разжевывала иностранцам самые банальные истины: да, миленькие, Петр был высок, строги, тощ, узкоплеч; да, господа хорошие, Екатерина любила Потемкина, в том числе и Потемкина, да, поставила памятник на казенные средства Петру, а также сочиняла произведения и по национальности была немкой. И так далее, и тому подобное. Вежливо, кротко, терпеливо, с приветливым выражением лица.
Прихода Ларика под своды собора ожидала с тревогой и необъяснимым волнением. А все — письмо. Не по летам автора живое, болью пронизанное. К тому же это странное признание… в любви! Попробуй проникни в детское воображение, в этот фантастический, еще не полностью заземлившийся мир. Но главное — просьба Ларика, просьба, которую она не могла выполнить. Просьба о жительстве мальчика в таборе… При живых и весьма благополучных родителях — кто же отпустит сына в чужую семью? Никто. А Даше так не хотелось огорчать Иллариона…
«Его родители в милицию на меня заявят, если я у них мальчика умыкну. Пусть заявляют, куда хотят! — решила про себя. — Помочь ему просто обязана… Поговорю с ним. Может, поймет, что к чему. В пятнадцать лет и любят и ненавидят яростней, безрассуднее. Поговорю с ним на равных. Так быстрее истина до кипящего мозга дойдет. К тому же — какой никакой, но родственник он мне. Мать Ларика моему отцу то ли троюродной сестрой, то ли внучатой племянницей приходится».
Завидя в храме островерхую, луковкой, в золотых перьях волос голову Ларика, извинившись перед экскурсантами, помахала ему рукой и, когда тот, заметив ее, порывисто потянулся к ней улыбкой, кивнула, не смущаясь: «Я скоро!»
И вдруг она поймала себя на том, что рассказывает иностранцам не о Петре, прах которого здесь, в саркофаге, а вовсе о Пушкине, написавшем прекрасную поэму «Медный всадник», и что убили Пушкина иностранцы, хотя могли этого и не делать, проживая в чужой стране в гостях. Она вконец запуталась, смутилась, извинившись, начала сначала и уже только о Петре. Говорила сухо, монотонно, как никогда прежде, словно магнитофончик, встроенный в тело, подключила. А причиной тому неужто Илларион?
Она принялась разглядывать мальчика, не переставая изрекать машинальные фразы. И ей вдруг показалось, что не такой он и невзрослый, нормальный вовсе юноша, росту примерно с ней одинакового или чуть повыше ее, плечи мужские, небось в школе от физкультуры не освобожден, мышцы ног, обжатые потертыми джинсами, рельефны, ощутимы. Через пару лет настоящий мужчина из этой статуэтки сформируется. «Сколько ему? Кажется, скоро шестнадцать… В матери не гожусь ему, не смогла бы я в одиннадцать лет родить. А в сестры старшие запросто подойду».
Откланявшись последней группе ухоженных интуристов, в основном, как ни странно, стариков и старушек, Даша сама подошла к Иллариону и первая протянула ему руку, которую он цепко схватил своей холодной и чуть влажной нервной рукой.
— Простите, Даша… Афанасьевна…
— Ларик, дружочек, зови меня Дашей. Всего-то и осталось годика три-четыре до Афанасьевны. Рассказать мне о чем-то хочешь? Я знаю примерно, о чем… Из письма я одно поняла: тебе плохо. И ты очень правильно поступил, что написал мне, что пришел. Спасибо.
Даша путалась в словах и мыслях, удивлялась своей беспомощности, не знала, как вести себя, вела себя неестественно, что было ей несвойственно.
Они стояли в пустынном храме среди красивых царских могил, нарядных и угрюмых. Пожилая уборщица выметала из храма какой-то едва приметный мусор. Две Дашины напарницы по работе умчались домой с невероятным проворством, словно держали их в крепости не восемь часов, а восемь лет.
— Я написал вам, Даша, что…
— Да, да… читала! Про то, что любишь меня. Спасибо еще раз. Я тебе благодарна.
— Ну и что здесь такого?! Да вас-то разве можно не любить? Все, кто вас знает, все и любят. Кроме разве что Георгия.
— Братик-то?! Нет, нет… Просто он боится, что я в аварию попаду.
— А я не хочу ездить в машине! На своей машине! Мокеев говорит: «Если ты, Илларион, человеком хочешь остаться, то даже когда все на земле будут на чем-нибудь ездить, ты, Илларион, в школу все равно пешком иди! Вот тогда я тебя буду уважать. И, если пожелаешь, подвезу».
— Твой Мокеев шутит, смеется.
— Никогда он не смеется! Не шутит… Да и прав он. Возьмите хотя бы у нас в классе. Ребята до лета в одних ботинках, а мне каждый месяц что-нибудь подсовывают. И непременно импортное. Просто помешались: «Ларчик, скушай, Ларчик, накинь, Ларчик, примерь…» А я ведь все вижу, все знаю! Девчонки вон в классе — красивые, веселые, а на какой-нибудь цаце увидят дубленку и загрустят, задумаются. Каждый день я что-нибудь нехорошее для себя открываю. Если в этом и есть жизнь, если так все люди к жизни приобщаются, тогда я хочу остаться маленьким и глупым, чтобы подольше в носу ковырять!
— Понимаю тебя…
— А почему тогда не хотите к себе взять?
— Потому что я уже взрослая. И не такая, как ты, безрассудная. К сожалению…
— Жить с людьми, которых… за людей не считаешь. Для них квартира, этот храм полированный, целью жизни является.
— А может, все-таки не квартира? Может, все-таки ты для них цель? Или наука?
— Нет! Я их насквозь… И наукой они занимаются потому, что она им деньги дает. Настоящий ученый или там поэт, философ, музыкант — это прежде всего красивый человек! Он может быть голодным, забытым подвижником, нечесаным, нестираным, в лохмотьях, проживающим в пещере или бочке, но он обязан жить только идеей! Жить и умереть во имя этой идеи… Умереть — хоть под забором, хоть на плахе! А мои ученые… Они руки от удовольствия потирают, когда фирменную тряпку или престижную книжку домой притащат. Со службы возвращаются, как с ярмарки: обвешанные пакетами, мешками, котомками… И меня в свою артель заманивают каждый раз: то кепочку с кнопочкой, то курточку с бирочкой, черт бы их побрал!
— Родителей, Ларик, не выбирают, старая истина. Их любят или… прощают. Но чаще все-таки любят. А что касается твоего переселения, то лично я не против. Но кто нам разрешит? А главное: у тебя же есть родители. И эти родители, с обывательской точки зрения, ничего тебе плохого не делают. Даже наоборот: одевают и обувают лучше, чем в других семьях. Не бьют, голодом не морят. Так ведь?
— Они меня по-другому… Как же вам-то не понятно?!
— Понятно, родненький, еще как понятно! И потому говорю: идем к нам, к моей маме, к моему отцу. Они знаешь какие умные! Вместе обсудим, твоих позовем, так, мол, и так… Пусть Ларик с Федей поживет. У нас в таборе и не такие проблемы решались. Однажды я, сразу после окончания школы, в пожилого человека влюбилась. В одного, как мне тогда казалось, жутко умного человека, философа… И решила к нему незамедлительно перебраться… В дупло.
— Куда?
— В дупло. Так он свою комнатушку называл. Чуланчик у него был в коммунальной квартире. Его оттуда впоследствии силком выселяли, чтобы в нормальную комнату перевести… Только он и нормальную комнату в дупло превратил. Коренья, каменья, травы… Паутина. Под потолком вместо люстры огромный пень развесистый, еловый. Да что я тебе рассказываю… Встречал ты его у нас. Шишигин его фамилия. Мамин дальний родственник. Ты — папин дальний, а Шишигин — мамин. Работает Шишигин под лестницей сторожем, вахтером ночным сидит в Музее ветхостей, мыслит. Так вот я к этому Шишигину тоже перебраться хотела. Папа мой сразу в добровольное общество охотников и рыболовов вступил. Чтобы ружье приобрести на законном основании. И на Шишигина идти. Как на медведя. Мама передо мной на колени встала. Я в Мойку напротив квартиры Пушкина пообещала прыгнуть, утопиться, если меня к Шишигину не отпустят. А сам Шишигин молодцом оказался. В последний момент очнулся от своих идей «дуплизма», от колдовства и шаманства отошел и популярно мне все объяснил. Я, говорит, начистоту с тобой, девушка, буду. Хочешь знать, что тебя ожидает? Хочу, говорю ему, даже не говорю, а кричу что есть мочи! А вот, говорит, что: я тебя использую, поломаю, опозорю и за дверь выставлю. Вернее, сама выскочишь за дверь-то! Потому как поймешь рано или поздно: не туда попала. Жить со мной семейной жизнью нельзя. Противопоказано. И противоестественно. Я смысл жизни ищу. Ты же, говорит, ищешь на свою голову приключений! Правда, он еще откровеннее выразился. И, знаешь, Ларик, спасибо ему… Теперь-то мы с ним дружим и даже очень весело в глаза друг другу смотрим. И я даже бываю у него иногда. Время от времени. Он все-таки очень забавный и по-своему редкий человек. Однако переселяться к нему после того разговора расхотелось. Другие ветры подхватили… Наш табор, конечно, не шишигинское дупло, и все же подумай, прежде чем из родительского дома, не окрепнув, прочь уходить.
— Эх вы… Считал, что поможете… Думал, что вам поперек сердца всякая несправедливость!
— Видишь ли… Почему я сомневаюсь? Почему не хватаю тебя и не спасаю без разговоров? Потому что не знаю: можно ли несправедливость исправлять несправедливостью? Ты считаешь, что родители по отношению к тебе делают зло. Допустим. А теперь давай прикинем: будет им больно, если ты из дома сбежишь? Только честно ответь. По-своему они тебя наверняка любят. Даже — обожают. Отсюда и джинсы разные, и автомобили…
— Это они себя обожают! Я у них для комфорта.
— И так, и не так. Давай чисто арифметически подойдем. Они тебе зло одному причиняют. Ты, уйдя из дому, причинишь боль двоим.
— Боль?! Черта с два!
— Ладно, не боль… Пусть всего лишь неприятность. Но причинишь. И притом двоим. Они — одному, ты — двоим. Кто несправедливее? В итоге?
— А мне все равно стыдно. У меня за партой Мокеев и штопаных носках. И в брюках блестящих, вытертых…
— Вот и отдай ему джинсы свои. Правда, они и не твои вовсе, а мамины с папой. Все равно лучше уж такой жест, чем о жизни плохое говорить… Прости, кипятиться начинаю. С чего бы это?
— Отдавал я… Сперва Мокеев отказался, потом в уборной драться решил. Чтобы всем показать, как он на меня плюет. А на другой день взял. Нехотя так… Во двор я ему их вынес. И слово дал, что никому, под страхом смерти, не скажу про это. Вам говорю, потому что вы… вы для меня выше смерти, выше всего! Мне с ваши не страшно. Короче говоря, у меня к вам, Даша, Дарья Афанасьевна, один вопрос: вы, лично вы — берете меня к себе? Или не берете? Да или нет?
— Беру.
— Спасибо. Мне только это и нужно было узнать. А я потерплю… Ради вас, Еще пару лет поживу с этими ненормальными. И работать пойду. Хотя, бы вахтером, как этот Шишигин… Чем плохо?
Так они шли, разговаривая, и не однажды Ларик хватал Дашу за руку, но Даша незаметно высвобождалась от этой его хватки, и не потому, что боялась чего-то предосудительного, стеснялась — нет. Как ни простодушна была она, как ни всколыхнул ей душу болезненно ранимый подросток, но руку его потную, нервную удержать в своей не могла: брезгливый страх ощущала, какую-то слабость паническую, и немедленно нужно было отделаться от этой руки.
Они миновали Кировский мост и теперь, обойдя заполненную трамваями и машинами Суворовскую площадь, устремились на Марсово поле, на этот остров покоя, расчерченный дорожками, составленный из хрупкой, трепетной зелени и нерушимой, гранитной торжественности суровых могил.
Впереди, на дорожке, по которой они шли, показались толстый, завьюченный покупками, довольно угрюмый тип лет сорока и маленькая, лет семи, девочка. Девочка что-то беспрерывно бубнила себе под нос довольно занудным, комариным голоском. И вдруг мужчина, незаметно остервенев, шлепает малышку по попке каким-то пакетом или кошелкой, и довольно сильно шлепает, так что девочка на дорожку падает. Но и тогда она не плачет, а деловито, с кряхтением поднявшись на ноги, продолжает что-то бубнить насчет жвачки. Мужчина наконец-то прерывает молчание, срывается на крик:
— Папа за сосисками стоял, с тетками поругался, папа с ног валится, а ей резинку эту проклятую подавай!
И вдруг Ларик, ни слова не говоря, к папаше тому на рысях подбегает.
— Как… как вам не стыдно! Бить девочку! Такую маленькую… Мешком!
— Что такое?! — поворотился к Ларику мужчина.
— А то, что с ног сбили! Кем она будет, эта девочка, если ее с такого возраста бить?! Собакой она будет! С поджатым хвостом по жизни бегать! Вот!
— Да что же это такое! Почему ты… вы… По какому праву собакой, я спрашиваю?
— А по такому, что не смеете бить! Нельзя. Бить нельзя. Никого. Неужели не ясно?
— Тебе, парень, того, лечиться надо, — несколько успокоился папаша, сообразив, что дела его не так уж плохи: парень, похоже, трезв да к тому же и не один шляется, а с какой-то девицей.
И тут девочка, жвачку просившая, видимо за отца, на которого посторонние люди накричали, переживать начала и тоненько, как кулик на болоте, в голос заплакала. Папаша рукой, увешанной пакетами, девочку к своему бедру прижал и к подошедшей Даше за помощью обратился:
— Он что, с вами, этот мальчик? Девочку мне испугал. Ежели больной, пусть лечится.
— Это у него неизлечимое.
— Так бы сразу и говорили, что хроник.
— Аллергия. На чужую боль. Так что извините за беспокойство.
— Ладно, гуляйте… Ну, сорвался… За день надергаешься. Жена в больнице, эта вот пигалица в садике. Все на мне. Ну, шлепнул. Только мне вас не хватает. Гуманисты, понимаешь ли… Резинку им подавай!
Ларик на мужчину больше не наскакивал, на брюзжание его не реагировал никак, словно забыл о нем навсегда. Он лихорадочно рылся в карманах и, ничего стоящего не найдя, опустился в траву и козлом запрыгал по газонам, пытаясь развеселить девочку. Та украдкой поглядывала из-под отцовской руки на выкрутасы незнакомого высокого мальчика.
…У выхода с Марсова поля наткнулись на тележку с газированной водой, Ларик поднял стаканы с розоватой шипучкой, один протянул Даше, виновато ухмыляясь.
— За Пушкина? — то ли спросил, то ли приказал.
— Ой, а ведь точно! За Пушкина… Какой ты молодец, Ларчик! Вспомнил…
И они сдвинули стаканы.
Пожилой мужчина, продававший газировку и явной скучавший из-за временного отсутствия покупателей, предложил им «повторить» за Лермонтова.
Когда ко дворам Капеллы подходили, Ларик забеспокоился:
— Ничего им не говорите про меня… в таборе. Я пошутил. Как жил, так и дальше буду жить…
Даша недоверчиво посмотрела ему в тоскующие глаза.
Дома накрывали на стол, готовились к вечернему чаю. Нюра Хлопотунья бегала раскрасневшаяся, энергичная, словно профсоюзное поручение выполняла.
В большой прихожей под портретом композитора Вивальди, отдаленно напоминавшего известного космонавта, несколько человек из «постоянных» играли в лото. Размешивал в мешке и выдавал играющим деревянные бочонки «летаргический», как бы на ходу спящий Лахно. Лицо его казалось безразличным, отсутствующим. Вся его энергия, а также силы недюжинные остались в эпохе военной борьбы, там, на казарменном положении, где чувствовал он себя в родной стихии, а теперь как бы завял, но Даша-то знала, какой это добрый, беспомощный ныне человек, погруженный в пенсионную растерянность, словно в предоперационный наркоз.
К домашнему бунту Иллариона в таборе относились бережно. Никто не встревал с опрометчивыми советами меж Лариком и его родителями. Лахно, встречаясь в таборе с Илларионом, вообще предпочитал обходиться безе слов, а, если мальчик вблизи от него оказывался, протягивал нерешительно огромную солдатскую руку и робко гладил смущенного Ларика по голове. Иногда, так же молча, вместо приветственного прикосновения к голове подростка генерал, поколебавшись секунду, протягивал ему карточку лотошную, предлагая тем самым вступить в игру. Но мальчик всякий раз от игры вежливо отказывался и уходил к Феде, в его книжный мирок.
Дашин отец Афанасий Кузьмич, человек не менее деликатный и еще более незаметный в доме, нежели Лахно, к нервному, постоянно как бы напряженному изнутри мальчику питал если не чувство страха, то уважительного трепета. Правда, Афанасий Кузьмич и сыновей своих собственных задевать с некоторых пор не пытался, перепоручив всю полноту власти над ними жене, женщине острой, хлесткой, курящей и, главное, казавшейся очень современной — применительно к любой эпохе.
Сам фонарщик, объясняясь с провинившимися сыновьями, в момент наивысшего напряжения чувств неуверенно так по столу костяшками пальцев ударял, отрывисто и беззлобно, и всегда подскочивший от стола кулак и воздухе останавливал и с минуту в висячем, парящем состоянии удерживал, словно к чему-то прислушивался.
Ксения Авксентьевна как бы невзначай грубовато обняла Иллариона и предложила мальчикам принять душ, зная, что примут его с поросячьим визгом и прочими проказами.
Помимо Лахно и Афанасия Кузьмича в лото сегодня играли художник Потемкин, поэт Тминный, а также Игнатий Шишигин, человек очень эффектной, хотя и основательно потрепанной ветрами жизни внешности.
Черты лица мощные, впечатляющие, линии резкие, не смазанные: высокий и достаточно широкий прямоугольный лоб с двумя асимметричными морщинами-шрамами, которые никогда не разглаживались, даже в лучшие, восторженные времена; такой же высоты, что и лоб, сильный прямой нос, на котором, если смотреть Шишигину прямо в глаза, почти не видно ноздрей, отчего нос казался как бы приставленным к лицу, а не вырубленным из одной с ним массы; подбородок для такого внушительного лица несколько островат и потому начисто замаскирован огненно-рыжей бородкой. Цвет лица бледно-розовый, молочно-топленый. Глаза желтые, как маленькие птичьи яйца, разрезанные вдоль — желтками наружу. И все это накрыто огромной медно-красной шевелюрой, этаким буйным костерком, нарочито взлохмаченным, вернее, специально нечесанным. У людей чрезмерно ласковых, даже угодливых, обладающих трепетными чувствами, при встрече на улице с типами, подобными Шишигину, возникает неодолимое чувство почтения и желание немедленно поздороваться с таким незнакомым человеком. Добро бы, что-то вызывающее симпатию, какие-то токи целительные, умиротворяющие излучала подобная физиономия, так нет же! Скорее наоборот. Лицо это, возмутительное, грешное, беспощадное, если от него вовремя не заслониться, могло причинить вам если не беду, то, во всяком случае, беспокойство.
Подробней о Шишигине предстоит поговорить в следующей главе, а сейчас доведем до сведения читателя факт, что до своего ухода в «дуплизм», до сидения вахтером под лестницей музея Шишигин учился в университете на философском факультете и на последнем курсе, уже соорудив дипломную работу и даже всех на кафедре заинтриговав ею, на защиту не явился, передумал, и вообще больше в университете не появлялся никогда в жизни. Поговаривали, что он серьезно заболел. Что случилось у него нервное расстройство. Но все это были догадки. На самом же деле никакой дипломной работы Шишигин не сооружал, все это преддипломное время прокутил в одиночестве, у себя в дупле, где и пришел к концу преддипломного периода к обоснованию теории «дуплизма». По документам Игнатию было сейчас пятьдесят лет, но даже друзьям своим, которые знали его как облупленного, Шишигин время от времени заявлял, что ему то семьдесят, то шестьдесят, а то и все восемьдесят, в зависимости от настроения и самочувствия. Шишигин в Дашином таборе слыл за веселого колдуна, за своеобразного затейника с резонерским уклоном. Вреда он никакого не приносил, польза же от него, самая незначительная, улавливалась в том, что своим присутствием вносил он определенное оживление в компанию людей, отдыхающих за вечерним чаем от конвейера повседневности.
За игрой в лото, а также за чаем происходили разговоры.
Художник Потемкин сегодня за чаем долго объяснял (и в первую очередь самому себе), почему он пишет портреты лиц, внешне напоминающих лица других людей, и что скоро вообще переходит на писание одного — «абсолютного» лица, черты которого будет придавать всему человечеству. По его смещенным понятиям, для художника нет людей, но есть человек. Как есть камень, вода, растительность, зверь, птица, рыба, насекомое. И все это — в единственном, обобщенном, то есть абсолютном числе. И еще потому, дескать, что человек замыслен природой по образу и подобию одного сверхчеловека, праотца. Вот эти-то черты праотца и нужно лелеять художнику. Одним словом, сдвинулся малость человек «по фазе», как говорят студенты электротехнических вузов.
Остроязыкий и несколько прямолинейный в суждениях Георгий, старший Дарьин братец, ничего для себя полезного в рассуждениях Потемкина не уловил и потому высказался на свой манер:
— Вот вы все покончить с собой, говорят, собираетесь. Пугаете любителей искусства. Вот бы и повесились у нас в прихожей. Вместо так называемого портрета Вивальди. На том крючке.
Тут Потемкин неожиданно ударяет себя рукой по затылку, другой рукой за нос себя хватает, как за дверную ручку, и к весьма конкретным, земным, даже практическим действиям приступает.
— Ксения Авксентьевна, забираю у вас, конечно на время, свои работы. Спасибо Георгию — напомнил. Дела-с, уважаемые… Выставляться затеял. Не поминайте лихом.
— И это с вашей-то теорией?! — присвистнул впалощекий, язвительный Георгий, растопырив в улыбке колючие черные усики на губе. — Выставляться, а перед кем?! Перед «праотцем»? Да он вас за все эти выкрутасы зрения лишит! Или еще чего-нибудь не менее существенного.
— Вы, Жорик, сухарь, и для художника большой ценности не представляете. Особливо для такого, как я — беззубого…
— Работать надо, а не дурью маяться.
— Прекрати, Георгий! — возвысила голос Ксения Авксентьевна. — У человека великая тайна в голове! Уважать ее необходимо, даже если она некрасивая, даже если уродливая…
— Вот и пусть преклоняется самолично, уважает пусть дары свои чудесные. А то ведь он сам первый над ними измывается! — огрызнулся Георгий.
— Позвольте вас поздравить, Эдуард, э-э… — погладила Ксения Авксентьевна Потемкина по мелко дрожащей руке. — Выставляться изволите! Такое, знаете ли, не каждый день у Рафаэля приключалось. И где же выставляться будете?
— Пока в Доме журналистов повишу… Поцелуев одобрил. И Даша так решила. А на остальных мне плевать! — хрюкнул Потемкин носом в опорожненную фарфоровую чашечку с полумесяцем испитого лимонного ломтика на дне и так выразительно посмотрел в сторону Георгия, словно причислял его к «остальным» в первую очередь.
Чаепитие было в самом разгаре, когда Шишигин, принимая от Даши очередную чашечку с золотистым напитком, вложил в ее руку маленький прямоугольник бумаги. Не таясь, Даша раскрыла пальцы и увидела у себя; на ладони обыкновенную визитную карточку, на которой типографским способом значилось: «Аполлон Барнаульский, член Союза композиторов». И адрес композитора, а также домашний телефон. Правда, и адрес, и номер телефона были почему-то старательно зачеркнуты. На обороте карточки высокими, но до предела сжатыми, сплюснутыми буквами, похожими на комариные безмускульные ноги, было написано: «Приходите к Шишигину. Ваш друг Аполлон».
Даша вопросительно, с некоторым замешательством на лице посмотрела через стол в глаза Шишигину.
— Да, да… — как бы подтверждая Дашину догадку, согласно кивал Шишигин. — Тот самый, из ваших снов и надежд. Так что не теряйтесь. Аполлон временно у меня в дупле обосновался. Шлифую ему мозги. Представляете, Дашенька: одинокий гений, то есть разведенный Аполлон?! Натуральный бог! В профиль особенно.
— О чем это вы, Шишигин? — забеспокоилась Ксения Авксентьевна.
— Шишигин Даше очередного жениха подбирает, — предположил Георгий, поднимаясь из-за стола.
И тут позвонили во входную дверь.
Открывать пошел Тминный, как самый скорый на ногу. В более шумных компаниях, когда вставал вопрос, кому бежать за «очередной», первым тоже всегда откликался Гера, как самый малоимущий, потому что на постоянной работе не состоял, занимался исключительно писанием стихов, за которые ему никто денег не платил, то есть был надомником. Но и надомником липовым, так как писал на дому у родных и знакомых, иными словами — не у себя в общежитии, откуда его давно вытурили за тунеядство. Правда, если быть объективным, тунеядство его носило не злостный характер, а целеустремленный: забегая вперед, скажем, что цели своей Герасим Тминный добьется. А сейчас в определенных кругах разнесся слух, будто у Тминного наконец-то выходит книга, а стало быть, и погода в его судьбе основательно могла перемениться.
Вместе с Тминным из прихожей к столу, за которым, пили чай, вышла красивая женщина, такая как бы пожилая девушка лет сорока, изящная, легкая, под стать Ксении Авксентьевне, только еще вовсю щеголявшая выпуклой, но весьма аккуратной фигуркой, среднего дамского роста, вся в замше, в вельвете, по последней моде одетая, на шее, еще не слишком изуродованной морщинами, в замшевом просвете, нательный золотой крестик, тоже являвший дань моде. В ушах золотые сережки с маленькими, но отчетливыми бриллиантиками. На пальцах кольца. Волосы, правда, некрашеные, осыпанные сединой, но и это, похоже, соответствовало всеобщей изящной тональности и не мешало симпатичному, почти девическому личику ее обаятельно посматривать на мир серого, расплывчатого цвета глазками.
Стройная, щеголеватая дама, которую впустил поэт Тминный, приходилась фонарщику Афанасию Кузьмичу какой-то очень дальней родственницей. Корни их возникновения, и дамы, и фонарщика, уходили в суглинистую нежирную земельку так называемой Нечерноземной полосы, где некогда по берегам речки Шелони была рассыпана серыми избушками одна не слишком веселая, но и не такая чтобы вовсе грустная деревенька Тимофеевка, давшая фамилию не только фонарщику, а также отцу шикарной дамы, но и множеству других людей, разбрызганных, разметанных по земле, как семечки той разлюбезной травки, от которой, чем черт не шутит, получила свое название их деревня.
Но Тимофеевка Тимофеевкой, а дама наша была не просто дама, но и доктор определенных наук. Что-то по деревенской, агрономической части, по какому-то методу возделывания то ли капусты, то ли картошки. А может, чем черт не шутит, по выращиванию той самой восхитительной травки, Дашиной однофамилицы.
Дама сразу упала на грудь басовитой Ксении Авксентьевны и попыталась заплакать. Но грубоголосая старушка дала ей из своей пачки «беломорину», и дама мигом унялась. От общего стола отошли они в угол комнаты, туда, к монументальному буфету-храму, в уютный миниатюрный закуток, где можно было временно отпочковаться от остального табора.
— В ванной, милочка, он… С моим младшеньким пузыри пускают.
— Знаете, дорогая Ксения Авксентьевна, всему начало этот… этот Урия Гипп, как мы его дома с мужем зовем. Этот сыночек Нюшкин… Почему она соломенной вдовой проживает? Почему она замуж не вышла? А потому что Урия не позволил! До того как Нюша спилась, я ли им не своя была? И деньжат, и тряпочку, из моды вышедшую, ни разу не надеванную… Последнего Нюшкиного кавалера ночью, когда тот без задних ног на раскладушке спал, из бутылки… керосином напоил!
И тут к матери, из-за ее спины, накупавшийся, порозовевший Илларион подходит.
— Мама, — шепчет он ей, не сразу ощутившей появление сына. — Мама!
И опрометью кидается в прихожую.
Глава пятая. Дупло
Выходной день решила Даша провести на колесах. Братец Георгий отбыл в командировку, короткую по вымени и невероятно длинную по расстоянию: за несколько часов переместился он восточнее Ленинграда чуть ли не на десять тысяч километров.
За неделю на Дашин мозг наслоилось множество впечатлений от промелькнувших событий, вызвавших в сознании нерастворимый осадок беспокойства. От него необходимо было избавиться, и лучше всего при помощи машины, дающей телу разбег, мыслям — взвешенное, невесомое состояние.
Особенно остро, пронзительно, а значит, и болезненно повлияло на нее общение с малолетним Илларионом, этим пятнадцатилетним старцем, нетерпимым ко всему, что, в общем-то, и ей не нравилось в жизни. Люди на земле не менее часто сживаются с болью, со стужей, привыкают, а этот бунтует, этому одну сплошную справедливость подавай. Никому не прощает, никого из оступившихся не щадит. А ты вот снизойди попробуй. Расхмурь чело. Думаешь, это легко — улыбаться с занозой в сердце?
Но что-то и радовало, успокаивало, обнадеживало, скажем обстоятельства, складывающиеся вокруг Эдиков… Геолог, изгнанный из экспедиции за пьянку, откуда-то с Крайнего Севера, с отшиба выдворенный поближе к культурным центрам, наконец-то устроился на работу в совхозе под Ленинградом. Правда, не по специальности. В парниковом хозяйстве изыскание огурцов производит. Под гитару песни в совхозной самодеятельности исполняет… Художник Потемкин выставляться вознамерился, Молчал, по углам прятался, хмыкал, в гордого гения играл, а поманили, пообещали — и враз переменился. На нормального человека стал похож: побрился, подстригся, галстук на шею подвесил. Теперь побежит — не догонишь. Потому что конкретное ощутил, земное: денежку, успех, ласку самолюбия. Рассуждения-то не грели, не миловали, только душу будоражили, вспучивали в ней побуждения разные, изматывающие плоть и дух.
Теперь воспарит… Да и правильно все. Лишь бы не оглядывался. Потому что прошлое, то, от чего убегаешь, свою прелесть имеет, нередко даже более пронзительную, нежели прелесть предстоящая.
И еще одна встречала, неделе. Там, под куполом собора, где Даша кружится как заведенная над могилами царей, привыкая к этому вращению и одновременно погружаясь в него, как в безвоздушную, воронку, тоскуя по воздуху живой жизни, что свистит на ветру, за стенами храма, за стенами знаменитой крепости и там, дальше — в настоящем — как бы за стенами прошлого… Встреча с женщиной, удивительно красивой внешне, со сметливым, напряженным, целевым взглядом из-под нервных, ненакрашенных бровей, чуть изломанных напором, страстностью, пробойностью, бескомпромиссностью натуры. Женщина была если и моложе Даши, то незначительно. В храме, скрестив сильные руки на довольно высокой и тоже напористой груди, женщина откровенно рассматривала Дашу, словно приценивалась к ее глазам, губам, голове, фигуре… Потом женщина ушла, не сказав Даше ни слова, ушла, звонко щелкая каблуками босоножек по каменным плитам Петропавловки.
И, наконец, все эти вымученные, «на уровне века» разговоры в таборе. Не раздражать и не утомлять они ее начинали, нет… До этого еще не дошло. Просто духовность этих разговоров становилась постепенно несколько бескровной. Словно и там они все по кругу замкнутому вращаться начинали, и вот-вот над ними воронка с разреженным воздухом образуется, как в храме, где проживают именитые мертвецы. Недаром она по магазинам в последнее время с удовольствием ходит, лишь бы в очередях потолкаться, в глаза людям заглянуть. Притащит домой индюшку, украдкой начинит ее фруктами, специями, незаметно спрячет ее в зажженной духовке и, когда уже запах восхитительный по квартире распространится и многие из обитателей табора непонятное беспокойство в организмах ощутят, тогда она проворненько из дому выскочит, шепнув «букинисту» Феде про индюшку, и, подловив во дворе проголодавшегося Георгия, замыкающего дверцы «жигуленка», молча отстранит братца от машины, сядет за руль и, вырвавшись со двора на площадь, поздоровается с Атлантами, летя по дуге, повизгивая колесами об асфальт и ощущая в мозгу сосущее душу одиночество. Она уже догадывалась, что тоска ее была тоской по земному, насущному, что грезы не насыщали ее, но лишь тиранили, обольщали и утомляли. И, чтобы истощение духа не произошло преждевременно, срочно требовались витамины и соки — натуральные, земные. Необходимо было из дупла прежнего образа жизни высунуться, из тенет воображения выпутаться, чтобы с явью вплотную соприкоснуться. И прежде всего — посредством предначертанного природой материнства.
Сегодня езда на машине была для нее особенно ощутимой, как долгожданный, замораживающий боль укол. С полчаса ушло у нее на перекрестки, забитые деловым транспортом, потом «жигуленок» вынес ее на шоссе, ведущее в сторону Стрельны и Петродворца. Вообще-то, процесс катания с ветерком получался у нее лучше на другой дороге, на Приморском шоссе, на той стороне Маркизовой лужи, к северу от Ленинграда. Сюда же, в район между Стрельной и Петродворцом, манили ее развалины старорежимных дворцов, расположенных вдоль берега Финского залива, которые если и восстанавливались, то не столь проворно, как дворцы петергофские, окруженные толпой почитателей — доморощенных и заграничных.
Здесь же, в затишке, высились кое-где глухие, подзапущенные придворцовые парки с великолепными деревьями-скульптурами, пережившие на своем веку не одну смену войн, правительств, поколений людских. Какие-то вросшие в землю, поглощенные мхом каменные ступени, на которые, казалось, никогда не ступала нога человеческая; какие-то горбатые мостики с мраморными перилами, задумчивые, как бы из театрального реквизита, почерневшие от времени, висевшие некогда над речушками, ныне высохшими, от которых и следа не осталось; какие-то уставшие, морщинистые чаши, постаменты, пилоны, фундаменты… И конечно же — руины самих дворцов. Огромные кладбища кирпича, архитектурной мысли, уюта: в стенах если и не рухнувших до сих пор, то уже давно нежилых, изглоданных дождями, излизанных ветрами, пронизанных, как стужей арктической, забвением людским. Правда, некоторые из дворцов пусть медленно, но все же реконструировались, принимали тот, казалось, навсегда утраченный облик, словно умелый скульптор-анатом по бренным остаткам черепа, его лицевых косточек и предполагаемому на них наложению мышц восстанавливал облик давно исчезнувшего человека.
Но восторженная Даша, прислушивающаяся к жизни, как к музыке, любила останавливаться именно возле руин, а не возле омоложенных сооружений. Руины можно было пожалеть… Им можно было посочувствовать. Путем общения с ними можно было настроить себя на определенный, «антикварный» лад, притихнуть на момент, ощутить внутри себя «фосфорические» фигуры прошлого, блуждающие по аллеям вашего воображения… В голову могли прийти старинные стихи Апухтина или Случевского, а то и свои строчки сложиться. Однажды в ее голове замшелые руины накликали такое слово-плетение:
Великолепные руины, Роскошные сугробы праха!На большее Даши не хватило. И не потому, что рифма не далась, просто неприятно сделалось от своих же стихов.
Сегодня Дарья, побродив вокруг очередных руин, надышавшись ароматом цветущего бурьяна и благовониями, исходящими от старинного кирпича лежалого, едва не провалилась в прохладную преисподнюю огромного подвала, в потолочном своде которого, на поверхности земной, под Дашиными ногами зияла пробоина, замаскированная, должно быть, озорными мальчишками разной рухлядью и грозящая неопределенного срока заточением тому, кто в нее проскользнет. На дне подвала по упавшим туда кусочкам мусора угадывалась такая же старинная, как этот бывший дворец, неприветливая тухлая вода.
Даша не заметила, как проголодалась. Выйдя к машине, тут же, возле обочины шоссе различила укрытую корявой, изрытой дуплами липой часовенку, приспособленную под небольшой продуктовый магазинчик. В магазинчике продавались хлеб, плавленные сырки, вареная колбаса, рыбные консервы, курево и, конечно же, вино. Красное, дешевое, которое в России нынче именуют по-всякому: кто «бормотухой», кто «чернилами» или «марганцовкой», а которые оптимисты — «плодово-выгодным», антиподы — «подло-ягодным». За прилавком стояла пожилая женщина, можно сказать бабушка, глухо повязанная серым платком по серой седой голове, одетая в ватник, поверх которого мутнел некогда белый передник. Напоминала бабушка своим обликом скорее дворничиху, нежели продавца.
Покупательницей, и притом единственной, была неопределенных лет женщина с опухшим лицом, словно проплакавшая беспрерывно всю свою предыдущую жизнь. Взглянув на покупательницу, Даша беспричинно заволновалась. Что-то в облике женщины показалось ей знакомым. «Неужели Нюша-дворничиха, Мокеева Володьки мамаша? Гостит, наверное, у своих… Или дачу здесь снимает? Хотя вряд ли. Дачи в этом районе дорогие. А может, просто проветриться пожелала? Как вот я сама села и поехала. Только Нюша на трамвае небось, на девятом номере…»
Даша купила себе «городскую» булочку и сырок плавленный. На вопрос: нет ли чего попить? — бабушка предложила пакетик кефиру, раздутый от жары, как утопленник, и вдруг вспомнила:
— А енту… ну, как ее, папси-колу потребляешь аль нет?
Даша неуверенно подтвердила, что «потребляет», не надеясь, что старушка способна на такие подарки летом, в полдень.
— На-кось, милая, глони… — извлекла бабушка прохладную бутылочку откуда-то из недр часовенки. — Откупоришь, али пособить?
— Откупорю… Огромное вам спасибо! — Даша расплатилась.
— Спасибом не отделаешься. А ты-кось вот, ежели добрая, пособи мне из магазина Глашку наружу вывесть… Сморило ее. А здесь — не положено. Одной-то никак ей не уйти… Коленки небось дрожат. Вот ты ей и пособи. Она тут недалече квартирует.
Даша повернулась к беспомощной женщине, прижала к груди покупки, не зная, с чего начать. В голове жизнерадостная мысль пульсировала: «Не Мокеева, не Нюша… Другая вовсе!»
А женщина, словно ждала, когда на нее внимание обратят. Одетая в мужскую линялую рубаху-«ковбойку» и в довольно еще сносную джинсовую юбку, сперва нахально, вызывающе и вдруг как-то вся сникнув мгновенно, вкрадчиво посмотрела на Дашу, не переставая держаться обеими руками за прилавок.
— К-куп-пи б-бутылек… — прошептала.
— Вам помочь? — не поняла, что от нее требуют, Даша.
— Да-да… п-помочь! Куп-пи п-пузырек!
— Пойдемте, пожалуйста… Я вас довезу. У меня машина, — Даша руку, освобожденную от покупок, протянула.
— П-погоди, г-говорю… Маш-ш-ина, г-говоришь? Вот и купи! Денех-х к-куры неб-бось не клюют?!
— Ну хорошо, я куплю… Только пойдемте отсюда. Вам домой нужно идти.
— Откуда ты з-знаешь… к-куда мне нужно? П-по-дохнуть мне нужно!
Даша купила вино. Протянула женщине. Та вялыми движениями принялась запихивать огромную бутылку прямо за воротник ковбойки, от посторонних глаз прятать. Наконец, ухватившись одной рукой за Дашино плечо, Глашка сдвинулась с места, а еще через минуту женщины благополучно выбрались из часовни.
И тут навстречу им стали попадаться мужички. Видимо, наступило время обеда на предприятиях, расположенных неподалеку.
Даша, напружинив силенки, утешая и упрашивая, кой-как продвинула женщину к машине, открыла дверцы, усадила несчастную на заднее сиденье. Встречные мужчины с интересом оглядывались на них, отпускали замечания, терялись в догадках, пока одни, видимо знавший эту женщину основательнее, не обронил:
— Видать, дохтурша за Глашкой приехала. В санаторию принудительную устраивать.
Глаша, ощутив под ковбойкой тяжесть бутылки, заметно успокоилась и, похоже, пыталась даже задремать, расслабившись на сиденье.
— Скажите, Глаша, куда мне вас отвезти?
— А х-хоть к-куда!!
— Не поняли вы меня. Укажите, куда ехать, где ваш дом?
— А на к-кладбище м-мой дом!
И вдруг Глаша заметно переменилась в поведении, словно нашатыря нюхнула, протрезвев малость. В глубь машины по сиденью переместилась, голову к коленям прижала, съежилась, словно у нее рези в животе возникли. От часовни в направлении Дашиной машины продвигался худенький белоголовый подросток, одетый в плохонькие пятирублевые джинсы, босой и в такой тесной, размера на два меньше, майке, что обтянутые линялой материей рельефные ребра паренька запросто просматривались, как на экране рентгеновского аппарата.
— Алеш-шка… — испуганно выдохнуда в затылок Даше женщина. — Сыночек… Головушка золота… Сейчас он меня заарестует! Ой, да заводи, что ли, поехали! Боюсь я его, бабоньки…
Мальчик тревожно поглядывал в сторону машины, несколько раз обошел вокруг нее. И Даша не посмела уехать. Она теперь тоже как бы боялась этого грустного тонкошеего ребенка, недоверчивым, настороженным взглядом обшаривавшего ее «Жигули». Затем Алеша остановился возле дверцы, где за приспущенным стеклом сидела и робко ему улыбалась Даша.
— Здравствуйте, мама у вас?
Даша молча кивнула.
— Куда вы ее?
— Я хотела… Меня попросили помочь. Отвезти вашу маму домой.
Алеша без тени улыбки долго смотрел куда-то себе под ноги. Словно прислушивался к молчанию. Потом встрепенулся.
— Я вам дорогу покажу?! Можно? Рядом с вами сяду… — направился к противоположной дверце.
В машине сидел напряженно, глядя строго перед собой. Не оборачиваясь.
— Мне пристегнуться? — Алеша старательно принялся укорачивать страховочный ремень, подгоняя его под свои хилые размеры. Вероятнее всего, пареньку нравилось находиться в машине, и Даша, смекнув про этот его интерес, предложила:
— Прокатимся до Петергофа?
— Давайте! Только сперва к нам, если можно. Тут совсем рядом. И как раз в сторону Петродворца.
Возле одного из укрытых садовой зеленью домишек Алеша попросил остановиться. Глаша, обеими руками прижимавшая бутыль к животу, с трудом выпростала ноги из машины, поставила ступни на траву, и тут ей Даша с Алешей помогли выпрямиться. И вдруг Глаша заговорила, верней, кричать начала. Торопливо, как перед казнью, высказаться решила.
— Ишь ты, красивая какая нашлась! В замше… Молодая! На «Жигулях»! Чистенькая! Пепси-колу пьет! А я вот похабная! Отвратная! Да! Меня в машину запихивают, чтобы люди не видели. Мужик у меня с другой живет! Да! Вот так. Извини, сыночек… Г-головушка з-золотая… Пешком я хожу! Маникюры не делаю… З-зубы у меня выпали! Но я твоя мама! То-то! Какая есть! А вот взяла и родила тебя! На свет. Захотела и р-родила!
Алеша попросил незнакомую молодую женщину, сидевшую за рулем, обождать его маленько. В дом ее не пригласил. «Я сам» — и так умоляюще глянул на Дашу, что у нее сердце вздрогнуло.
«Какой мальчик золотой, — подумалось. — Вот, пожалуйста… И у этого мать больная, пьет. А мальчик — светлый. Слезы в нем душу не разъели. Не чета Мокееву Володьке…»
Вышел он с красным, заплаканным лицом, сгорбленный и, не поднимая головы, наотрез отказался ехать кататься:
— Спасибо, но я занят. У меня переэкзаменовка. Потом секция. Извините…
И поспешил в дом, бесшумно, однако плотно затворив за собой дверь.
Во второй половине дня начала портиться погода. Сделалось облачно, влажно. Затем резко похолодало. Появился даже как бы туман, только не на земле, а чуть выше, где-то метрах в десяти от нее. Видимость на дороге испортилась. Пришлось включить подфарники.
Раздумывая о встрече с Алешей и его матерью, Даша невольно возвратилась памятью к недавнему разговору с Илларионом. И ужаснулась, представив Ларика на Алешином месте. Вовсе даже неизвестно, как бы в такой ситуации повел себя Илларион? Как Мокеев — злобно? Или по-Алешиному терпеливо? А может, и вовсе заживо в прах бы рассыпался…
Замечательное впечатление произвел на Дашу Алеша своим мужеством ранним и красотой, которой светился весь его золототканый образ.
Так неужели же каждому свое? Своя боль, своя вера, свое отчаяние? Одного истязает благополучие, другого неустроенность, третьего мужество собственное, четвертого боль чужая…
Даша, погоняя машину и окунувшись в раздумья, смотрела только вперед, только в протуманенную даль дороги, совершенно позабыв о стрелке спидометра. И вот откуда-то, словно из глубины ее сердца, тревожная начала завихриться вокруг ее головы музыка! Это продолжались во времени и пространстве все те же «Времена года» Вивальди. Это наплывало восторгом — не опьянением и не обмороком, — ликованием страстным видение, ради которого она жила все последние годы: видение сына (а как ее Глаша-то поддела: «Захотела в родила!»)…
Приближаясь к перекрестку, Даша успела заметить на асфальте сотрудника автоинспекции, резко взмахнувшего черно-белым жезлом.
Молоденький лейтенант, — возле которого Даша, включив правые поворотные огоньки, остановилась, прижавшись к обочине, довольно отчетливо, хотя и скромно улыбнулся, приподняв руку к фуражке.
— У вас превышение… Здравствуйте. Дорожная обстановка, сами видите, осложнилась, а вы несетесь за сотню. Ваши документы.
Лейтенант хоть и улыбался вежливо, но дело свое, как говорится, знал. Уплатила Даша денежки, буковки и цифры на бланках квитанций внимательно, — как на берестяной новгородской грамотке только что найденной, перечитала и дальше поехала, позаимствовав у лейтенанта служебную улыбку на время, пока своя постоянная не вернулась и затуманенное раздумьями лицо не согрела. Въезжать в Петродворец, чтобы смотреть на веселые, жизнерадостные фонтаны, Даше почему-то расхотелось, и она, развернувшись на шоссе, покатила обратно в город. На Дворцовой площади, привычно огибая колонну, Даша чуть наклонилась к рулевому колесу, бросив мгновенный взгляд на вершину столпа, и… едва удержала в руках заметавшегося по асфальту «жигуленка»: на вершине в данный момент никого не было. Ангел, который уже вторую сотню лет стоял там в обнимку с крестом, не просматривался вовсе.
Позже ей будут объяснять это явление низкой облачностью, туманной бородой испарений, вязко повисших над городом; сама же она в тот ошарашивающий миг исчезновения ангела вспомнила почему-то чудаковатого, огневолосого Шишигина, руку его лохматую, протянутую над столом за очередной чашечкой чая.
Что это он ей наплел тогда? Так ведь еще и карточку визитную всучил! Какого-то композитора. Аполлона какого-то… Чуть ли не Бельведерского! Ну и вкусики у некоторых… Не псевдоним, а какая-то баба ромовая! Гора крема… Выбрал имечко, называется.
И решила Даша к Шишигину съездить. Посмотреть, что там за фрукт объявился. Любопытство женское, удержу не знающее, подтолкнуло. Шишигин скорей всего дома, выходной у него через сутки, а возле Шишигина никакой композитор, даже самый слащавый, не страшен. Ну, познакомятся… Наверняка интересный человек, если у философа поселился, интересный — в смысле занятный…
Шишигин жил в небольшой коммуналке вместе с тремя одинокими старушками, бывшими ткачихами, овдовевшими в военное время лет сорок тому назад и образовавшими своеобразную коммуну. Была когда-то и четвертая вдовица, но лет пять тому назад умерла, и вместо нее в квартиру подселили Игнатия Шишигина, который поначалу с бабушками не ладил, выходил на кухню чайник на плиту ставить в непотребном виде, в одних плавках, а то и в одной майке, как бы не считая старушек за женщин, пока одна из них по имени Ляля не брызнула ему на мохнатые рыжие ноги веселого кипяточку — как бы случайно. А когда Игнатий взвыл и руками размахивать начал, вдобавок еще и плюнула в его направлении. Тут сразу остальные бабушки, каждая из своей двери, высунулись и ну плеваться на его вид. Пришлось ему брючата тогда надеть, предварительно смазав на теле хозяйственным мылом покраснения от ожогов.
На другой день Шишигин, уходя на дежурство, запер всех старушек, каждую отдельно, в их комнатах — одну шваброй, другую рукояткой молотка, третью — ножкой табуретки. Шишигин ушел дежурить на целые сутки. Старушки подергались-подергались и стали через стены азбукой Морзе перестукиваться. Потом решили через окно милицию или пожарников вызывать. А жили они достаточно высоко, на четвертом этаже. Последний раз навалились они тогда на двери свои, как могли, изо всех некогда немалых пролетарских силенок — и тут из дверной ручки молоток выпал. И бабушка Ляля наружу из заточения вышла. И подружек задушевных освободила. Долго они совещались, как им теперь с Шишигиным поступить. Бабушка Липа, самая грамотная, вызвалась на Шишигина бумагу в ЖЭК сочинить, а копию — прокурору. Бабушка Клепа предложила дверь Шишигину дегтем вымазать, как это в старину на деревне у них делали, если осрамить кого хотели за непотребный грех. Но бабушка Ляля, самая мудрая, от предложений подружек отказалась, отклонив их как неэффективные.
— Господь с вами, бабоньки! Такой бугай рыжий… да чтоб он прокуроров ваших боялся или ЖЭКов — ни-ни! По-другому надоть за него браться… И не силком, а милком. Слухайте сюда…
И тут бабушки мигом Шишигину посуду грязную перемыли, бельишко, брошенное дуплистом прямо в общественную ванную, перестирали, а Клепа из своей норы горшочек герани вынесла и на кухонный стол Игнатия поставила — для успокоения мужских нервов.
Приходит Шишигин через сутки, а живые и невредимые бабушки чуть ли не хлебом-солью его встречают. Не устоял, мигом подтаял. Улыбки бабушкам, каждой по несколько штук, раздал и к себе в дупло убрался. Тише воды, ниже травы. А когда позднее в булочную за хлебом снарядился, у бабушки Ляли как бы невзначай поинтересовался:
— Помощь не нужна? Не стесняйтесь… Ежели что — всегда, посильную, оказать готов. Хлебо-булочными изделиями не интересуетесь? Могу обеспечить.
— Спасибо, сынок. Коли не трудно, тогда буханочку кругленькова на всю бригаду. Держи-кось пятиалтынный.
Так и пошло с тех пор: он им, они ему. Не квартира — экипаж космический, идеальная совместимость. А по праздникам даже торт на кухне общий. За самоваром бабушки Липы.
Но все эти «нежности телячьи» Шишигин в местах общего пользования терпел. К себе же в дупло бабушек не пускал — ни под каким соусом.
Самым высоким авторитетом для Шишигина неизменно оставался древний Диоген, и прежде всего уход знаменитого философа в бочку восторгал нынешнего дуплиста. Отказ от комфорта, от суеты (хотя какая уж там суета во времена Диогена, вот бы к нам его пригласить посуетиться: интересно, сколько бы старичок продержался — день, два?), стремление к уединению, дабы отловить истину, — все это очень и очень привлекало в Диогене Шишигина и являлось для него примером. Пример первопроходца! Вызывающий в нас безоговорочный восторг и уважение. Шишигин даже на определенные жертвы пошел в связи с этим: живописцу Потемкину поясной портрет своего кумира заказал. За пару сотен. Деньги выплачивал частями — по пяти рублен в месяц. Потемкин изобразил Диогена рыжим, с норвежской бородкой и вообще придал ему отдаленное сходство с самим Шишигиным. Портрет был круглым, и выглядывал из него Диоген, как изрядно повзрослевший царевич Гвидон, только что выбивший дно тесной бочки и возликовавший по причине своего спасения на водах моря-окияна.
В комнате, а правильнее сказать в дупле Шишигина мебели не было вовсе. Спал он в туристическом спальном мешке, который за ветхостью списали в одном спортивном обществе и уже хотели было выбросить на помойку, но подвернулся Шишигин и унес мешок к себе в нору для вечного пользования. Удивительно удобная вещь этот мешок. Бросил на пол, раздвинул горловину, забрался внутрь, и ни тебе простыни, ни подушки-пододеяльника — ничего такого не надо. Отпадает. Залез в мешок и хоть колесом по полу катайся — ничто с тебя не сползет, не слезет, в жгут под тобой не совьется, в комок не спрессуется. Мешок для Шишигина был как бы дуплом в дупле, вернее, той самой разлюбезной бочкой являлся. Возле окна на полу и на подоконнике валялись разной величины каменья. Булыжники, этакие миниатюрные глыбки, утесики, валунчики, бел-горючие камушки. Потом коренья, сучья, пенышки целиковые (один из пней, напоминающий оголодавшего осьминога, висел у Шишигина под потолком, заменяя люстру), — и все сухое, стародавнее, костяной прочности и одновременно как бы изысканно модное, в пределах хорошего вкуса. На самой обширной стене, в извивах кореньев и полуистлевших трав — упомянутый выше портрет Диогена-Шишигина. На окне — кактусы. Небольшая коллекция колючек. В консервных банках из-под рыбы. Правда, в общественном чулане среди пестрой рухляди, принадлежавшей вдовицам, содержал Шишигин, исключительно для гостей, довольно-таки приличную раскладушку.
В момент излагаемых событий на этой раскладушке уже целую неделю отсыпался поселившийся у Шишигина композитор Аполлон Барнаульский.
Барнаульский только что развелся со своей третьей «законной», оставив ей «все, все, все!!!» — и квартиру в том числе. Познакомился Барнаульский с Шишигиным и одном окололитературном салончике, куда Шишигина приглашали в основном из-за цвета волос и как «отца современного дуплизма». (В мире наблюдался еще и дуплизм традиционный, к которому Шишигин касательства не имел.)
Для одних Шишигин был подвижником типа старообрядческих отшельников, для других — старым пижоном, таскавшим молодежные джинсы, парусиновые студенческие туфли-кроссовки, майки-тенниски с надписями иностранного происхождения и не имевшим мебели тоже исключительно на почве пижонства. Шишигин любил в этом салончике, похлебав коллективных, в складчину, пельменей, и дернув рюмаху, поговорить о своей теории обобщения, о синтезе всех идей, вместе взятых, в одну правомочную, единую для всех идею. Нравилось ему улавливать в интеллектуально-прокуренном воздухе, неуловимую Истину-опору, столп мироздания… Все, прочие теорийки, по Шишигину, — лишь мельчайшие осколки этого, столпа, ничтожная его пыльца, отделяемая, от Истины всевозможными гнилозубыми грызунами, тщившимися подточить сей, нерушимый (хотя и неуловимый!) столп во что бы то ни стало. Шишигин в салоне чаще всего выкрикивал одну и ту же фразу: «Я отрицаю!» И, когда его спрашивали, что именно он отрицает, неизменно добавлял: «Все! Кроме… одного», намекая тем самым опять-таки на свой неуловимый столп…
А так как Шишигин действительно любил свое одиночество и в дупле ничьего постороннего присутствия дольше нескольких дней не выдерживал, то и решил Игнатий вежливым образом удалить от себя композитора Барнаульского. Именно вежливым, дабы в салончике не возникло нелестных для слуха Шишигина разговоров.
— Молодой человек, — обращался Шишигин к Барнаульскому перед уходом под лестницу Музея ветхостей, где сутками держал вахту, — в сравнении с вами мне девяносто два года, у меня опыт, и я сквозь годы, как сквозь стены, могу прозревать Истину. И поэтому говорю: если вас позовет женщина — идите! В миллионный раз — отправляйтесь. Без всякой укоризны. Вручайте ей свои музыкальные способности, как туманную перспективу на гениальность. И она приютит вас в сердце. А может, и еще где-нибудь, скажем, на набережной реки Мойки. Скажите ей непременно, что вы Аполлон… не Барнаульский, фи, а тот самый, вечный, по крайней мере копия с его изображения, или что вы современный Вивальди, что живете духовной музыкой, а не эстрадными песнюшками на рупь пучок. Деньжата у вас имеются, ибо песнюшечки исполняются. Пусть не столько посредством радио-телевидения, а всего лишь за счет треста ресторанов и столовых, а также молодежных танцплощадок, однако же звучат, вследствие чего ручеек серебристый на личном счету в сберкассе не иссякает. Вот и валяйте. Под музыку Вивальди, под старый клавесин! А мне, пардон, думать надо. Смекать. Сверлить незнаемое. А думать, сверлить, а также смекать, то есть действовать сосредоточенно, возможно только наедине с собой, в абсолютной от внешнего мира изоляции, в дупле, бочке, налитой до краев тишиной сладчайшей… и даже в камере или келье, но это как крайность.
Прочел Шишигин Барнаульскому напутствие перед своим уходом в Музей ветхостей, скатал в трубочку спальный мешок, поставил стоймя в угол, для надежности камнями дупло свое портативное привалил, чтобы Барнаульский, ворочавшийся на раскладушке, чего доброго под себя мешочек не подстелил и не продырявил его окончательно; расчесал рыжую норвежку металлической расческой, позаимствованной в парикмахерской, и, тщательно попрощавшись с Барнаульским, словно тот в заграничную командировку на раскладушке отбывал, не оглядываясь, покинул дупло.
Барнаульский был действительно красив. Даже утром. Когда у всех людей во рту и в глазах под веками — неприятно. Главной, а значит, и отличительной чертой Барнаульского, помимо всех его красивостей мужских и достоинств, была одна сногсшибательная черта: он никогда не улыбался! Даже во сне. Даже на свиданиях с женщиной. И даже когда его голого, но еще сухого в бане или на море неожиданно дети водой обрызгают. Даже тогда не улыбался. И не только не улыбался — лицо его абсолютно ничего, кроме мраморного достоинства и некой бронзовой загадочности, застывшей раз и навсегда, не выражало. Даже в момент, когда одна из его песен, а именно «Стара Адель моя, стара», из сугубо ресторанной превратилась в достаточно популярную, и ее выдвинули на конкурс вместе с полусотней других шлягеров сезона, и автора музыки, как и всех остальных авторов, показали по союзному телевидению, даже тогда, в этот свой звездный час Аполлон Барнаульский не позволил себе улыбнуться, а все потому, что не знал, как это делается, каким таким человеческим органом ему для этой цели пользоваться, какую в себе кнопку для производства улыбки нажимать — не ведал.
Барнаульский не слыл, да и в действительности не был глупцом, недоумком. У него всего лишь как бы не было… сердца. Нет, не подумайте буквально: насос для перекачки крови у Барнаульского функционировал нормально. У него, похоже, отсутствовала так называемая душа. Всю без остатка вложил он ее в свои песенки, которые иногда до слез трогали ресторанных посетителей. А на прочие жизненные проявления Барнаульскому ее как бы не хватило. Душа ушла в песню, как вода в песок, и лицо Барнаульского стало алебастрово-недвижным, заживо мумифицировалось. Даже в глазах его шоколадных почти не осталось тепла, и не сохранись в них мерцание страсти, сопутствующей мужчине с юных лет и до лет преклонных — иногда, в отдельных случаях, до весьма преклонных, — страсти, способной мертвецов на ноги ставить, не сохранись в нем этой животворящей энергии хотя бы в глазах, — загинул бы наш композитор от внутреннего переохлаждения.
В биографии Барнаульского, как три дождливых полустаночка, промелькнули три бездетных, безрадостных сожительства. За тридцать три года жизни. Союзы были деловыми, но бесшабашными, нерасчетливыми в результате и потому — ошибочными, с точки зрения самого их устроителя. Его супругами неизменно становились полезные на какое-то время редакторши. Радио, телевидения и Облконцерта — поочередно. Гонорары они ему обеспечивали порой солидные. А вот сердце не зацепила ни одна. Да и как зацепишь… отсутствующее? И Барнаульский, особенно в минуты озарения, то есть сочинения лирических мелодий, страстно мечтал полюбить старомодной платонически-телесной (такой вот коктейль мнился сочинителю) любовью! Иными словами, полюбить бескорыстно, зато уж страстно, с непременными свиданиями, букетами цветов, наблюдениями звезд, радуг, зарниц, северных сияний, спектаклей, музейных экспонатов, а также набухших почек на ветвях и, естественно, листопада.
И, когда в коммуналке Шишигина прозвучало сразу четыре звонка, а доподлинно столько полагалось их произвести человеку, решившему навестить Шишигина, Аполлон молодцевато выпрямился у подоконника, где, глядя на небритые кактусы, полировал свое прекрасное, скульптурное лицо электробритвой «телефункен», выпрямился не столько в ожидании, сколько в предчувствии чего-то необычного и даже больше: приятных в его судьбе перемен.
Правда, перемены эти уже как бы начались неделю тому назад, когда Аполлону пришлось на улицу из своей двухкомнатной кооперативной с двумя чемоданами выходить и, стоя под летним дождиком, свободу ощущать, вспоминая адрес дуплиста Шишигина.
Однако перемены эти недавние ничего хорошего Барнаульскому пока что не принесли. Вдобавок ко всему композитор остался без инструмента, с помощью которого делал деньги, то есть без фортепьяно. И все же открывать на звонки в прихожую Барнаульский отправился в приподнятом состоянии духа. Он знал, что прийти должна какая-то необыкновенная девушка, какая-то, если верить бормотаниям Шишигина, прелесть, способная приподнять тебя над промозглой суетой и увести при помощи одной лишь улыбки в даль светлую, где не нужно будет соображать, смекать, мозговать, а лишь улыбаться в ответ этому ангелу-спасителю.
Осторожно отпихнув от себя входную дверь, Барнаульский при свете тусклой лампешки, висевшей над лестничной площадкой, как при свете горящей папироски, увидел матово светящееся улыбкой какое-то эфемерное личико с глубокими, словно открытые настежь окна, глазами под козырьком замшевой кепочки. От лестничной площадки к дверям шишигинской квартиры вели три каменных ступени, и потому девушка привиделась рослому Аполлону как бы далеко внизу, словно возносясь ему навстречу из бездны повседневности. И моментально Барнаульский ощутил в своем организме некий микрокатаклизм! Землетрясеньице некоторое, страстью рожденное, и жар от глаз этих женских возносящийся уловил и в кровь свою рыбью, вялую жар этот пропустил. И вот оно чудо — доступное, реальное, мощное: со сведенного судорогой безразличия гипсового лица Аполлона, в одночасье подтаявшая, сползла маска… Мускулы, воодушевляясь, зашевелились, кожу легкий рассветный румянец пронизал, огромные, мохнатые, бархатные глаза Барнаульского загорелись изнутри неподдельным восторгом самца и любопытством человека.
И потому, когда уже там, внутри квартиры, на свету Даша взглянула на представшего ей мужчину, это был далеко не тот Барнаульский с его непробиваемой окаменелостью и монументальными повадками, это был человек живой, интересный, а главное — заинтересованный.
Глава шестая. Наваждение
В следующее мгновение Даша потеряла равновесие, голова у нее закружилась, и, не подхвати ее на руки Барнаульский, лежать бы ей на полу в коридоре, прямо возле дверей бабушки Ляли. Сказалась ли тут нервная напряженка перед неизвестностью или автомобильные вихляния по дорогам, включая молниеносную потерю сознания за рулем, или же сам демонический, расслабляющий в женщине волю облик Аполлона повлиял, но бедная Даша так стремительно обомлела, что Барнаульскому ничего не оставалось делать, как взять ее на руки и нести в каменистое дупло Шишигина. Там он, разбросав ногой булыжники возле шишигинского мешка, раскатал по полу той же ногой, не выпуская из рук Даши, спальник философа и осторожно, как спящего ребенка, опустил на примитивное ложе пришедшую в себя, но еще кроткую и совершенно снежно-прохладную, притихшую девушку.
Когда перед ней медленно отворилась эта лохматая, обитая каким-то невероятно ветхим клочковатым материалом дверь шишигинской квартиры, возвышающаяся над площадкой своими тремя ступенями, как некий сатанинский алтарь, и когда она лицо это беспощадно-красивое, совершенно небывалое, из тех, за которыми женщины всего мира в грезах своих по белу свету гоняются, когда она лицо это перед собой, как какую-то страну неведомую, увидела, Дашу прежде всего паническое чувство страха пронизало, так и прострелило насквозь во всех направлениях!
Потом у нее голова закружилась, и Аполлон ее на руки взял, и она это все хорошо запомнила, но поделать с собой в те секунды ничего не могла, да и не хотела вовсе…
Улыбка не покидала ее даже в миг наивысшей растерянности. Она бы не сопротивлялась этому лицу, этому видению долгожданному, даже если это лицо исказилось бы мерзкой гримасой, а не дрогнуло в смутной заинтересованной усмешке, даже если оно принялось бы вдруг плеваться и скалить зубы в ее направлении, вышвыривая изо рта непристойные слова, даже тогда она ни за что бы не отвернулась от этого лица, но скорее наоборот — еще стремительнее приблизилась бы к нему со своей незатухающей, врачующей улыбкой.
И еще запомнились его первые, как бы не совсем продуманные, обособленные от глаз, губ, жестов рук, всей музыки тела — его испуганные, машинальные, как стук первых капель дождя о жестяной водослив перед окном, слова:
— Я знаю. Я все абсолютно знаю… Мне, все досконально известно… Я в курсе… и все, решительно все о вас знаю…
Но главное все же состояло в ошеломляющей догадке: перед ней — Он! Ее идол, выношенный в мечтах и сомнениях. Тот, по которому она постоянно тосковала, черты которого присваивала скульптурным изображениям, — мысленно с которым ходила в Капеллу на старинную музыку, тень от которого падала на нее почти что с рождения, когда ее тонкая, спортивная мама, еще не курившая «Беломор», но такая же родная и милая, как и теперь, возила ее в коляске, по Дворцовой, площади и маленькая Даша, едва окунувшаяся бирюзинками глаз в небесный океан, разглядела высоко-высоко над собой и над площадью, над твердью земной летящие в синеве фигурки с крыльями и без оных.
«Значит, судьба…» — подумала Даша, боясь пошевелиться на жестком, издающем затхлые запахи мешке Шишигина.
Чувства их были настолько внезапны друг для друга, хотя, скажем, Даша и поджидала своего кумира не один год, настолько они оба неподготовленными оказались для такой бесцеремонно ворвавшейся к ним любви, что пришлось из предосторожности как бы символические таблички вокруг себя в атмосфере развесить: «Осторожно, огнеопасно!» Они теперь оба направо и налево окатывали весельем встречных, знакомым подарки делали — внезапные, незапланированные, цветами всех усыпали, пирожными, книгами. Аполлон с затратами не считался, потому как полностью от жизненной прозы отключился, про все серое на свете позабыл, счастье сделало его на некоторое время рассеянным, дурашливым, милым.
Встречались они на первых порах все там же, в дупле у Шишигина, когда он дежурил свои сутки в музее. Шишигин было ворчать принялся, жаловался, что влюбленные теорию дуплизма ему расшатывают… Но его с головой завалили подарками, улыбками, поцелуями, и прежде всего — пяток редчайших латиноамериканских кактусов раздобыл ему Аполлон у бабушек на Кузнечном рынке. Затем и по части камней: один поэт, с которым Барнаульский несколько социальных романсов написал и который по совместительству в Антарктической экспедиции геологом работал, когда с шестой части света возвернулся, то камень замечательный в распоряжение Аполлона предоставил, с красненькими мерцающими вкраплениями граната в белой кварцевой среде (геолог уверял, что помимо зримых гранатовых вкраплений в камне имелись вкрапления куда более дорогостоящие, хотя и неуловимые для невооруженного глаза). Камень тоже подарили Шишигину, дабы он смирился на время с разрушающей его теорию «дуплизма» стихией любви. Таинственный камень, доставленный с оборотной стороны земшара, Шишигин положил себе в спальник под голову и стал ждать перемены погоды.
Все лето Даша с Аполлоном носились по городу, искаженные, одурманенные чувством до неузнаваемости, не расставались ни днем ни ночью. Даже в собор, в котором она экскурсии проводила, являлись теперь вдвоем, и, пока Даша рассказывала иностранцам о возникновении города, Аполлон бегал на Сытный рынок за цветами, которые демонстративно возлагал на каменную могилу Петра. Приносил он Даше заодно с цветами мороженое в стаканчиках, пепси-колу, ягоды-фрукты и все это незаметным образом подсовывал ей, извлекая из объемистой кожаной сумки, подвешенной на плече.
Однажды после закрытия храма в конце дня, оставшись в торжественном и несколько угрюмом из-за могил помещении вдвоем, Барнаульский, заметно взвинтив себя изнутри, разволновался, сложил молитвенно руки на груди, подбородок ввысь, под сферическое пространство купола задрал и срывающимся, как бы собранным по крупицам баском пропел, прогундосил:
— Венча-аются раба-а-а бо-ожия Да-арья-я и раб бо-ожий Аполло-о-он! Мно-огне-я ле-ета-а!
Из какого-то потаенного отверстия, как мышка из норки, появилась бабушка с метлой и, прежде чем уборкой в храме заняться, с интересом голову набок склонила, глядя на Аполлона, прислушиваясь к его жизнерадостному поведению, словно вспоминая что-то далекое.
— Вот бы и обвенчались путем. Чтобы, значитца, по-божески. А то ведь ныне как: бумагу подпишут, сфотографируются, руку легистраторше помнут, шампанского лизнут под звуки… и на улицу — пенсию зарабатывать! А где слезы радостные, восторги благостные? Трепетание сердца иде? Тайна таинственная куды запропастилась? Ты вона-тка козлом блеешь, а получается, как на трубе архандельской! А почему, спроси? Потому что не помещения тута, а хра-ам! Всячецкую суету за дверью оставляли, когда в него входили. А входили зачем? Думаешь, только молиться? Да молиться-то где попало можно, хоть в пещере, хоть в фатере… Для трех главных дел строился храм. Ребенок родился — сюды его и принесут, перед дальней дорогой жизненной. Чтобы духу чистого высокого набрался. Далее, подросло дитя, жениться решило, опять его сюда приводят, чтобы серьезней мозгами думал, потому как не забавляться предстоит, а семью строить, дом. Ну а по третьему разу, когда телом остынет, опять его сюда доставят, чтобы, значит, в самую дальнюю дорогу спровадить… И не тяп-ляп, а чтобы торжественно опять же, потому как ты жизень прожил, а не цигарку выкурил, повидал всякого, уважение заслужил и слезу.
— Послушайте, бабушка! Да вам не метлой шаркать, вам лекции читать! О смысле жизни. Хотя бы в очередях. Или в поездах дальнего следования, — протянул Аполлон старушке огромную, как детский надувной шарик, грушу желтого, горячего цвета.
С этого дня запало Барнаульскому в голову — свадьбу играть. Даша не противилась, но и не лопалась от восторга, она как бы глаза на всю эту Аполлонову затею закрыла, предоставив ему суетиться в данном направлении. Нельзя сказать, чтобы она почему-то не доверяла Барнаульскому, нет. Она ему доверяла полностью, как доверяются люди счастью, пусть иллюзорному, но окрыляющему, хотя бы и временно. Не доверяла она себе. Своим возможностям. Инерция неудач настораживала, прежние фиаско на невестином поприще расхолаживали.
А Барнаульский так и ринулся в заботы, затраты, затеи! Снял с лицевого счета осевшие там музыкальные денежки, не одну тысячу рублей, и начал оригинальничать.
Сидя у Шишигина в дупле на каменьях, поглаживая невозмутимые кактусы горячей, взволнованной рукой, как котят против шерстки, Барнаульский расписывал Шишигину, зашнурованному в спальном мешке по самые уши:
— Даша не женщина, не жена. Даша — мир, судьба, произведение искусства. Только автор этого произведения не человек, а существо высшего порядка, гений!
— Инопланетянин, что ли? Из пришельцев? — раскрывал волосатую пасть рыжий Шишигин, потягиваясь в мешке, как в могиле. — Начитаются барахла разного… Фантасмагорий дешевеньких, досужих, ради металла липкого сварганенных, и раздувают жабры в восторге копеечном.
— Не бурчи, Шишигин, — выпячивал волосатую грудь Аполлон, невольно впадая в шишигинскую манеру изъясняться. — Ты кто сейчас есть? Одинокая, жалкая тварь. Мешок с… со скепсисом. Вот нарвешься, как я, на радость безмерную! Прохватит тебя ветром нездешним, вступит тебе в позвоночник не идея, не фантазия сумрачная, а музыка небес! Опалит на тебе, как на курице, все лишнее, не выщипанное… Вот тогда и посмотрим на тебя. Вот тогда и предстанешь, будто солнечный луч! Отраженный страстью и негой…
Шишигин невесело улыбается, скребет ногтями щетину на подбородке, стреляет в Аполлона желтым от длительного покоя глазом.
— Эк тебя рассупонило. Хоть студентам-медикам показывай. Меня, Аполлоша, не раз уже прохватывало. И вытряхивало не раз. И тебя вытряхнет! Ох и вытряхнет… До сантима, как говорится, до последнего тугрика. Совет тебе мой: работай, пиши. Не останавливай конвейер. Свершай. Чтобы струйка в сберкассе не иссякла. Иначе никакие пришельцы не спасут тебя от уныния. От прозябания на ветру жизненном. В сторожа ты не годишься: апломб. Философии своей не имеешь, того же «дуплизма» не разделяешь. Тебе если уж и дупло, то непременно кооперативное подавай. Пропадешь, одним словом, если песенки свои стрекозиные в ночной эфир запускать перестанешь. А в эфир-то их не при помощи зефира тихоструйного запускают, но исключительно при помощи старания: беготни по редакциям, по нужным адресам, по магазинам и ресторанам, где подарки для необходимых людей приобретаются. Меня не обманешь. Я все из своего дупла вижу. Оборвется струйка — и вся твоя затея с неземной любовью враз отпадет, завянет. В шалашах теперь, сам знаешь, не разживешься. Рыбу в ручьях выловили, дичь, которая осталась, сама не промах: голыми руками ее теперь не возьмешь, а на ружье запрет одиннадцать месяцев в году. Святым духом питаться? Это и вовсе из моды вышло. Кстати, за постой, — Шишигин палец о палец потер, указательный о большой, — за снятие у меня угла необходимость рассчитаться настала. Потому как сторожевой оклад у меня не ахти… А я не кактус, меня поливать иногда нужно. И не водичкой, а сам знаешь чем.
— Да не бурчи ты, Шишигин… Полью, не завянешь. Нужен ты еще людям… способным, любить. Поблагодари их за это. А работать я не отказываюсь. Всему свое время. Мы с тобой, Шишигин, одинаково самолюбивые люди, только, я удачливее. А ты самолюбивее. Но сейчас я не об этом. Сейчас я о Даше, вернее, о себе с Дашей речь веду. Понимаешь, Шишигин, с такой, как она, женщиной не хочется заурядно… По формуле: не хуже, чем у людей. Надобно ярче, бесподобней, фееричнее! Не так, как на самом деле, но поэтичнее, понимаешь?
— Понятно, — Шишигин надвысунулся из мешка, и в углу комнаты как бы возник его бюст, никем покуда еще не вылепленный, кроме матушки-природы. — Понятненько, ясненько, куда ты клонишь, донжуанишко второсортный. Все твои речи искрометные, фейерверки словесные — все они к тому, чтобы в загсе с Дашей не регистрироваться, Отгадал? Учти: не оригинально. Да и по бакенбардам схлопотать можешь. Не от меня. На этот случай у Даши братец имеется. Разрядник.
— Ты меня плохо знаешь, Игнатий. Я, конечно, птица другого полета, нежели ты. Перышки у меня и те забавнее твоих. Привлекательнее. Но комбинировать, что-то соображать, кумекать у входа в рай не стану. Войду с благодарностью и открытым сердцем! Дашин восторг, не говорю — любовь, восторг ее живительный — для меня свят. Заруби это у себя на своем кактусе рыжем! Ты, Шишигин, никакой ты не экзистенциалист. Трусишка ты — вот! Неженка. На ветру обуглиться боишься. А я говорю: вынут. Погоди-ка, безо всякой милиции извлекут. И кто бы, ты думал, на такое способен? Женщина. Она, Шишигин. Единственное средство в мире, способное тебя воскресить. И чует мое сердце: вьется уже над тобой отважная птичка, сужает круги… Недавно, когда ты под лестницей у себя в музее чай заваривал, влетела сюда одна рыженькая, на тебя похожая. Как бы случайно. Перепутав этажи… Я еще подумал: не сестра ли твоя? Только Даша ее сразу узнала, из-за плеча моего высунулась и сердечно так поинтересовалась у рыженькой:
«Это вы приходили тогда в храм Петра? Не лучше ли нам объясниться начистоту? К чему такая таинственность? Даже если вы не первая жена Аполлона, а всего лишь третья?» — выдала ей Даша, чем развеселила моментально и меня, и рыженькую незнакомку. А затем эта залетная канарейка пластинку Дашину как бы перевернула и резко так спрашивает нас обоих: «Шишигин дома?» А ты, Игнашка, притворяешься тут, в аскеты, в постники играешь. Врешь ты все, вот! В «дуплизме» своем ты до тех пор охотно пребываешь, покуда люди вокруг тебя шевелятся, по асфальту подметками шуршат. А замри, затихни вокруг все по какой-либо причине — враз выскочишь, заозираешься! «Ау!» — крикнешь. Без людей ты нуль, Игнаша. Как, впрочем, и все мы, грешные. А свадьбу непременно сыграем. И в загс, если Даша пожелает, сходим.
— Вот я и говорю: сходи! Уважь девку. Какая б она воздушная ни была, а загс этот самый и над ней довлеет, потому что — среда: не в безвоздушном пространстве живет, а среди мнений.
— Сходим, Шишигин. Только незаметно. Пешочком. Как в сберегательную кассу за получением денег, на которые потом разгуляться можно будет. И опять же — не по-купечески, не с разбитием зеркалов и витрин, а по-своему, интеллигентно, интеллектуально разгуляться! Где-нибудь в лесу ароматном, птицами набитом, или в городе Москве, среди людей занятых, мастеровых, с невыветренным восторгом в мозгах.
— И что же… безо всякого застолья? Без принятия вовнутрь? Без аренды столиков, без оркестра? Ор-ригинально… Тогда уж у меня в дупле.
— Еще чего. В таборе для начала. Или в башне. У Дашиных художников Башня из слоновой кости имеется. Храм искусств. Обитель. Вот достойное место для оформления чувств. Но скорей всего — в таборе.
— Так тебя, что же, всерьез, что ли, принимают в ее семье? Бывал ты хоть там когда? Появлялся уже?
— Нет, не бывал. Но Даша говорит — все обойдется. Поймут. И мне так кажется. Потому что приду я туда с открытой душой!
— Вот тебе еще один мой совет, Аполлошка: песенок своих стрекозиных там не играй, не навязывай. Не пройдут. Напортишь только себе.
— Да что я?! Да у меня есть другие сочинения. Я им «Осиротевшую мечту» или «Судорогу познания» выдам! Еще в консерватории напрягался. Говорили: шикарные поэмы. И в ногу со временем. Инструмент у них как? Не очень разбитый?
— Не знаю, не прикасался. Пианино как пианино. Старенькое, с подсвечниками. Только ты поосторожнее все же с «Судорогой» своей. Отец у Даши — простой мужик, без нюансов. Потом у них этот, друг дома один, постоянный, как бы комиссар доморощенный, отставник угрюмый по фамилии Лахно. Камень такой гранитный в галифе. Вряд ли судорогу переварит. Но главное — мамаша. Она верховодит. И воспитана в традициях. Скребанешь ей по уху своим сочинением, и — увы. Натура у бабули тонкая, смекалистая. Угодить надо всем, не спугнуть… А еще братцы! Георгий, старшенький, — инженер: видит насквозь, как прибор. Чуть что не так — сразу в ухо. На дуэль вызывать не станет. Прием применит — и считай носом ступени. А там их много: и приемов разных, и ступенек грязных. Да и поднадоело им изрядно с женихами дурацкими, со сватовством затянувшимся. Дашка чудит. У нее образ жизни такой составился, а родне печаль нескончаемая.
— Как то есть «чудит»? Какие еще женихи?
— Ты что, с неба свалился? А Эдики, а Стасики?.. Она тебе что же, не успела еще исповедаться?
— Ах, эти… Тоже мне женихи! Такими уродцами у нее вся жизненная канва обставлена. Включая, Шишигин, тебя. Такая длинная аллея через всю биографию. Из всевозможных несчастненьких, которых ей одно удовольствие выручать, брать на поруки, из преждевременной смерти выковыривать, как мышиный помет… Нет, Шишигин, такие кавалеры, знаешь ли, мне они не конкуренты.
В предсвадебные деньки Даша с Аполлоном по городу в основном перемещались на такси. Правда, на одной из автостоянок смиренно ржавел под открытым небом запущенный, до срока без хозяйской руки обветшавший пикапчик Барнаульского. Пользовался он им крайне редко, а теперь, когда композитор Дашей заболел, на машине этой и вовсе как бы крест был поставлен. Однако именно этому впавшему в круглогодичную спячку экипажу суждено будет впоследствии сыграть если не роковую, то весьма эксцентрическую роль в Дашиной судьбе.
Теперь же, покуда Барнаульский готовился к празднику женитьбы, Даша, глядя на его хлопоты, все беспомощней и отчаянней улыбалась куда-то в пространство, из которого, как ей казалось, в любую минуту мог прийти сигнал, отменяющий праздник, объявляющий радость недействительной. Не оттого ли в планы свои никого теперь не посвящала? Даже мать с отцом. Прежде, когда с Эдиками знакомилась, могла для домашних комедии играть, запросто приводить очередного молодого человека в табор, за общий стол усаживать и даже мужем своим случайного кавалера величать: не страшно было. Потому что шалость одна, баловство несерьезное, неосновательное. И вдруг эта сказка, эта встреча с Аполлоном, только уже не в фантазиях, а наяву. Если Эдики, обстреливая ее словами и взглядами, чаще всего в «молоко» попадали, то Барнаульский в «десятку» угодил, то есть в сердце.
Однажды, выбравшись из такси возле ателье мод «Смерть мужьям», где Аполлон для Даши платье заказал, не подвенечное, а как бы смесь бального с обручальным, столкнулись они нос к носу с Дашиным отцом Афанасием Кузьмичом. Одет папаша был в черный взявшийся пятнами хлопчатобумажный комбинезон и оранжевого цвета жилетку дорожного рабочего. На руках резиновые перчатки. Рядом с ним возле обочины у фонарного столба машина с подъемником. Афанасий Кузьмич уже ногу занес, чтобы на вышку свою выдвижную забраться и что-то там наверху, на кончике столба, отремонтировать, как вдруг счастливую и от этого очень даже заметную дочку свою в тротуарной толпе разглядел. Так она и вынеслась на фонарщика вместе с пижоном каким-то замшевым: ну, артист и артист, даже пудрить не надо! Натуральный тебе Лановой или Тихонов, только еще более жгучий, молодой и глаза имеет телячьи, огромные, зрачки голубой дымкой обволочены, и росту парень завидного. На голове — темный волос густой, словно приставленный, не своим ходом выращенный, а в магазине в виде парика купленный. Из недостатков явных, которые при первом знакомстве сразу же в глаза бросаются, отметил Афанасий Кузьмич огромные уши красавчика, которые даже под такой густой и длинной шевелюрой не умещались, прорезываясь наружу сквозь черное резкой белизной.
— Папа! — ухватилась Даша обеими руками за отцовскую канареечную безрукавку. — Вот, знакомься! Мой… это самое…
— Не надо! Н-не желаю… — вдруг не сдержался, воскликнул, рукой заслонился от дочери всегда уравновешенный, мягкий характером и лицом (от этой его мягкости физиогномической наверняка и Дашина улыбка пошла), так и не успевший поседеть, русобровый, сероглазый Афанасий Кузьмич. — Не надо, не балуй. Достаточно! — и руками замахал.
И тут Даша вспыхнула. Ногой о камень ударила. Улыбка с ее лица на мгновение сошла, сделав лицо несчастным, убитым. И сразу же Афанасий Кузьмич руками махать прекратил и виновато, за неимением хвоста, ногой по тротуару завращал, бесшумно шаркая резиновой подошвой.
— Папа, миленький, родненький… Это ведь Аполлон!
— Рыбкин! — без тени улыбки отрекомендовался композитор фонарщику, протягивая музыкальную, длиннопалую ладонь. — Аполлон Рыбкин.
— Очень приятно… — начиная стаскивать со своей огромной пятерни резиновую крагу, сказал Афанасий Кузьмич.
Даша скорей весело, нежели недоуменно подняла брови, пытаясь разгадать поведение мужчин и прежде всего Барнаульского, назвавшегося почему-то Рыбкиным. «Чего это он? К встрече, должно быть, не готов. Вот и чудит от неожиданности».
— Папа, миленький, успокойся. Ну, посмотри на меня: это — я! И на этот раз все как бы всерьез…
— Как бы? Или всерьез? — стащил наконец перчатку Афанасий Кузьмич и устало провел рукой по своему лицу, по закрытым глазам, попутно взъерошив правую бровь, отчего весь его неуклюжий облик сделался еще трогательней.
— Извините, — крепко взял Барнаульский Дашу под руку, — только в жмурки играть не обучен. Об чем речь? Терпеть не могу недомолвки и разные там недоглядки. Лично я всерьез и надолго!
И тут происходит что-то по теперешним меркам ужасное, не всякий выдержку после этого при себе сохранит: молодой, модный, замшевый, штаны подтяжками схвачены, прикушены, такой, на которого и так постоянно люди в толпе оборачиваются, яркий, хлесткий, удачливый, можно сказать баловень судьбы — Аполлон, можно сказать Бельведерский, нимало не заботясь о своих вельветовых штанах и о том, что о нем прохожие подумают, с размаху на асфальт перед Афанасием Кузьмичом коленками стукается! И голову покорно на грудь склоняет. А потом, глаза вверх подняв, смело заявляет:
— Абсолютно трезв, учтите. Как стеклышко. Так что со всей определенностью и ответственностью прошу у вас Дашиной руки. Руку вашей дочери прошу! Вот… К супруге вашей, Ксении Авксентьевне, за той же просьбой приду отдельно. С колен не встану до тех пор, пока согласия не получу.
— Ну что вы, ей-богу… — заволновался Афанасий Кузьмич. — Дарья, подыми его, брюки испортит.
Люди, идущие мимо них, сдержанно улыбались, не зная, что именно около столба происходит, во всяком случае что-то забавное… Некоторые долго, по нескольку раз оборачивались, прежде чем окончательно затеряться в толпе. Но никто из них даже не притормозил движения: наша хата с краю. И только одна бойкая, отважная старушка остановилась с твердым намерением разобраться, что к чему. Есть такие пружинистые, несгибаемого характера старушки на Руси. Из тех, скорей всего, женщин, которые в более свежем возрасте могли и в горящую избу войти, и коня, а то и просто автомашину на всем ходу остановить, преградить ей дорогу, выбежав на проезжую часть и замерев там бесстрашно, как деревце на ветру.
— «Скорую»-то вызывали? — обратилась бабушка к Афанасию Кузьмичу, как к лицу официальному, облаченному в казенную жилетку.
Но до нее ли тут было, до старушки ли неравнодушной? Афанасий Кузьмич Аполлону поспешно руку протянул. Композитор руку принял, но с колен подниматься не спешил.
— Дорогой папаша… Я ведь вас крайне серьезно, со всей ответственностью спрашиваю, — задрожал вдруг губами Барнаульский, подставляя себе под правый глаз холеный, музыкальный кулак, — согласны породниться?! Или не нравлюсь, черт возьми?!
— Да что вы на самом-то деле… — зашептал, залепетал, отвернувшись к машине, фонарщик. — Да вставайте же… Нехорошо. Ну, согласен, согласен! Ясное дело. Не спрашивают нынче родителей. — И тут дверца его фонарной машины отворилась, наружу высунулась голова шофера, напарника Афанасия Кузьмича. — Вот, Варфоломеич, познакомься… Моя дочка. Даша.
— А это что же? Хулиганют?
— Да нет… Зятек вроде, — усмехнулся Кузьмич.
— А что же… выпил малость?
— Не надо, не надо! — заворчал, отклеиваясь от тротуара, Аполлон и небрежно отряхивая серую пыль с темно-синего вельвета. — Ни грамма! Как стеклышко. И не жертву приношу, дяденьки, а сердце! Само собой получилось. Даже не верится.
— Так у вас что же, — заволновался Кузьмич не на шутку, — и эти, как его… штампики, того, проставлены?
— Заявление подано. Через неделю штампики.
— Тьфу ты, господи! — отмахнулась старушка разочарованно от непонятной для нее компании и, ворча себе что-то под нос, двинулась прямиком на красный свет поперек проспекта. Завизжали тормоза, но все обошлось. Старушка повернула обратно и, подойдя к Афанасию Кузьмичу, весело проговорила:
— Отпусти ты их, кормилец! Ну, дали промашку… С кем не бывает. Такие оба пригожие. Помилуй ты их, ради Христа. Слышь-ко… — потянулась бабушка ртом к уху фонарщика, но Дашин отец, напялив перчатки, стал резво карабкаться вверх по скобам подъемника и через мгновение был уже там, на круглой площадке, огороженной перильцами. Затем он резко постучал железякой о перильца, и шофер Варфоломеич включил подъемник.
Так что, когда вконец растерявшаяся бабуля взглядом вслед за Афанасием Кузьмичом скользнула, находился он уже высоко в небе, где долго, с необычной медлительностью менял в фонаре люминесцентную лампочку, зорко при этом посматривая вниз то на горячую старушку, то на свою дочку с женихом. На землю фонарщик опустился, когда у подножия столба никого из этих людей уже не было. Аполлон с Дашей прошли в ателье, где невесте предстояла примерка платья, а старушка попросту испарилась, как дождинка небесная на раскаленном асфальте.
Платье Даше изготовили на месяц раньше указанного в квитанции срока, а именно в тот же день, когда они на Невском возле неисправного фонаря просили у Афанасия Кузьмича отцовского благословения. Аполлон небескорыстно улыбнулся мастеру-закройщику. Последовала ответная улыбка — и платье было готово. Как моментальная фотография в киоске на Витебском вокзале. Выйдя из ателье, Барнаульский, глянув на столб, сокрушенно покачал головой.
— Все! Довольно трепотни. Начинаю семейную жизнь. Без промедления. Дашенька, ступай в ателье и быстренько там переоденься в новое платье. В подвенечный свой наряд. А я тебя здесь в каком-нибудь такси подожду. И ни одного слова поперек. Хотя бы сегодня. Обещаешь? — привлек он ее к себе, попутно опалив горячими губами Дашино ухо.
Переоделась она быстро, любопытство подгоняло: что он еще затеял? Аполлон поджидал ее в машине. Посадил невесту рядом с огромным букетом роз, занимавшим полсиденья, помог расправить платье, чтобы не измялось. В загсе Аполлон забросал розами официальное помещение, подарил кому-то авторскую пластинку со своим изображением на конверте, показал кому-то свеженькие, «натуральные» билеты на самолет, спросил: что ему делать, так как завтра длительная командировка на БАМ с концертами в пользу тружеников начинается? Короче говоря, в виде исключения, совершенно секретно, а также бескорыстно отмолил себе укорочение срока «на раздумье» до минимума, то есть до «завтра в это же время»…
Когда на другой день со штампиками было покончено, Аполлон, снарядив кожаный сак со всякой дорожной всячиной — от зубных щеток до миниатюрных баночек с гусиной печенкой, — понесся вместе с Дашей в аэропорт. Даше он сказал:
— Это не свадебное путешествие, это сама свадьба. Считай, что уже началось. Не за столом, не под крики «горько», а вот так, в беготне, суетне, во взлетах и падениях, под горячие сосиски в буфете. У нас не будет обряда. У нас будет кейф. А затем — состояние непокоя, образ жизни, схожий с постоянным, вечным выздоровлением, вознесением над мраком. На два дня в Крым! А? Неплохо? Тебе ведь во вторник на работу? Вот и отлично. Обернемся. И учти, что это не пижонство, не игра в купчика затрапезного… Это деталь действа. Самое сложное и почти невероятное из всего, с чем пришлось мне покуда встретиться, — это непроходимый, неразбавленный, мощной концентрации скепсис в глазах твоего отца, когда он на меня со столба смотрел… И еще — доставание билетов на самолет. Бархатный сезон, чтоб его моль побила!
Даша молчала. Улыбалась и молчала. Словно во сне. Приумолкла она с того самого момента, когда Аполлон возле фонарного столба назвал себя Рыбкиным. Молчала в загсе, молчала в самолете, молчала в Крыму и даже в Москве, через которую они с теплого полуострова возвращались и где решили провести несколько часов…
Нет-нет, конечно же не в буквальном смысле онемела. Замолчала она всего лишь нутром: умом, сознанием и даже как бы сердцем, захолонувшим от скорости, с которой их понесло по жизни. Слова-то она произносила, все эти «да», «нет», «пожалуй», «несомненно», «милый», однако существо зачарованное притихло, душенька ее разлюбезная помалкивала, напитавшись восторгом, от радости, свалившейся на нее, осоловела как бы.
И только однажды во время этой духовной летаргии произошло пробуждение, да и то ненадолго. В Крыму, когда они белые, почти прозрачные на фоне шоколадной толпы, словно Адам и Ева безгрешные, не употребившие яблочка рокового, заходили в море, Даше вдруг представилось, что сейчас она утонет, не успев сказать Аполлону те не тускневшие от употребления, словно из благородного металла отлитые слова: «Я тебя люблю». И сразу она переполошилась, очнулась, озаботилась за свое счастье, к Аполлону подплыла и руками его потрогала, убедилась: живой, настоящий, неподдельный… И вдруг обиделась на кого-то, вернее, на всех сразу: почему их счастья небывалого никто не разделяет, почему делают вид, что ничего особенного не происходит в мире? Отворачиваются почему? Чуть ли не с презрительным хмыканьем… Неужели все настолько несчастны, что чужая радость раздражает, выглядит пошлой, неуместной? Неужели все настолько заняты собой, что… Вот именно! А сама-то она? Разве не только очнулась? Разве не отгородилась от людей музыкой своей любви? Своей удачи? Разве не заслонилась от них цветением сердца своего?
В момент, когда она казнила себя за непреднамеренный эгоизм, за приятие вместе с любовью не только одних розовых лепестков, но и шипов, которыми можно ранить постороннего ни в чем не повинного человека (хищническое начало во всем, даже в святом чувстве!), в этот самый момент, в миг прозрения и раскаяния, Дашу с головой накрыла зеленоватая морская волна, веселая и бездумная, как сама молодость! И Даша вновь на неопределенное время погрузилась в состояние здорового, не мистического, а скорей зоологического транса, то есть такого сверхъестественного, объемного довольства души и тела, о котором принято говорить как о блаженстве.
Она потом напрочь забыла не только шуршащий прибрежным песком Крым, но и Москву, не говоря уж об отдельных людях, мелькнувших в этом астральном их полете пылью звездной глаз, улыбок, словечек… Окончательно пришла она в себя только в поезде.
Аполлон и здесь был верен себе, своему теперешнему состоянию «действа». Билеты обрел на «Красную стрелу», в мягкий, купе на двоих, вагон. Проводник попался вежливый и деловой, еще молодой, симпатичный, какой-то в обращении мягкий, домашний и в то же время надежный. Ехать сделалось не только приятно, но и уютно. Чай принес с лимоном и каким-то стародавним русским не поклоном, а вот именно — добромыслием… Плавно летела в ночь их маленькая передвижная квартирка, славно пахло стираным бельем, чуть-чуть дезинфекцией, чуть-чуть дымком табачным из коридора…
— Почему ты меня заметил? Я любопытная. И мне хочется узнать, чем я тебя… ну, удивила, что ли? Ведь ничего особенного. Тело как тело. Лицо как лицо. Видал небось и позабавнее. За что спасибо себе говорить впоследствии?
Барнаульский долго смотрел в черное окно. Потом опустил жалюзи, взял Дашину руку в свою, быстро-быстро заговорил:
— Это необъяснимо. Чем?! Удивила… Ха! Всем. Не ногой, не рукой в отдельности, не глазами, хотя они у тебя будь здоров, и не улыбкой. Всем! Не разъять, не расщепить. Кто знает, где ядро личности, ее центр? В мозгу, в облаке сознания, которое мозг вокруг себя создает? Где?! Откуда в человеке музыка начинает звучать? Что она? Тоже продукт мозга? То есть мяса, клеток белковых порождение? Не верю! Черта с два! У меня знаешь какая сейчас музыка в башке?! О-о… К бесу прошлое! Буду великим! Вернее, заодно с великими. Долой пошленькие мотивчики. К дьяволу. У меня сейчас такая музыка в башке, да что там в башке — в печенке, в сосудах, в нервах! Не музыка — аромат солнца! Вот! В ней все: и зачем ты на землю явился, и каким по ней манером пройдешь, и как затем успокоишься, приняв в поводыри Вечность… Для меня сейчас все в ней. И за ней, то есть везде, везде, где есть ты: твоя улыбка, глаза, кожа твоя, шелест слов твоих, запах одежды, буква, буква твоя, домик напоминающая, это заглавное «Д» на ножках, храмик слова, вмещающий твое имя… Ты теперь вся, до последнего атома, — мой воздух, мои соки, пища моя. Отними у меня это теперь — и я погибну…
— Ты смешной. Разве так бывает?.. Почему ты, родненький, когда с моим отцом знакомился, назвал себя Рыбкиным? Аполлон Рыбкин! Но ведь это ужасно смешно. Нелепо даже. Какой-то детский рисунок, а не имя с фамилией. Ты что… Не Аполлон вовсе?
— Аполлон. Только не Барнаульский. А Рыбкин. Зачем врать на краю блаженства? Зачем воду мутить? Барнаульский умер. Вместе с прежними песенками. С «Аделью, которая стара…». Я — Рыбкин.
— Ну и ладно. Рыбкин так Рыбкин. Какое это имеет значение — фамилия? Ты небось перетрусил из-за… ну, что теперь, когда ты не композитор Барнаульский, а всего лишь Рыбкин…
— Почему это не композитор?! Да, может, теперь только я и начинаюсь как музыкант! Барнаульского знают по двум-трем шлягерам, прожужжавшим уши. А Рыбкин… Рыбкин, конечно, не Вивальди, но кое-что и в его пользу имеется. Хотя бы тот факт, что он еще живой! Тогда как Вивальди весь в прошлом. Его раскапывают музыкальные археологи… Барнаульский — псевдоним. Кличка эстрадная. Не хочу, чтобы твоя родня знала меня как Барнаульского. У меня консерватория за плечами. С медалью. Позолоченной. Буду в штопаных носках ходить, в лоснящихся брюках, в сандалиях скороходовских! Собачий «стюдень» лопать начну. На рубль в день существовать. За дурачка станут принимать — пусть, плевать! Ради музыки на все пойду. Ради бессмертной музыки.
— Миленький, я, конечно, глупая. Вздор спрашиваю. Но все же… Какая она, твоя музыка? Радовать будет или терзать? Утешать или развлекать только? Дразнить?
— Думать! Заставлять думать! Мыслить.
— А моя — утешать…
— Что — твоя?
— Музыка… Она ведь у каждого есть. Только не все извлекать ее из себя умеют. Доведись мне извлекать научиться, уж я бы тогда непременно добрую выбрала. Которая утешать способна. Вот как старинная. Которая до «мыслительной» была. И до развлекательной. Музыка милосердия. Ах, какое хорошее слово — «милосердие»! Какое хорошее старинное, можно сказать, забытое слово… Музыка милосердия. Всего необходимее она… Потому что душа живого человека — это всегда рана кровоточащая. Впереди-то у нас что? Старость, печаль, невеселые мысли. Вот музыка и должна пролить бальзам…
— Бальзам, говоришь? Не обижайся, дорогая, но рассуждаешь ты наивно. Музыка — это вот как… сотворение Земли. Да что там Земли! Галактики! Из ничего — целое, ощутимое. Весомое, способное мыслить, жалить, врачевать. Да, да, и все она. Из ничего. Из аккумулятора, заряженного энергией гениальности! И вся — вне законов! Ни Паскали, ни Фарадеи, ни Джоули с Ленцами — ни в зуб ногой! Где она — формула радости, печали, объема мысли, квадратуры любви? Нетути!
После горячего чая и не менее жаркого разговора Аполлон уснул, как насытившийся младенец возле груди матери, мгновенно парализованный сном. На губах его еще шелестели прекрасные слова, которые он вяло выталкивал изо рта, а пространство его сознания уже обволакивала непроходимая, плотная дымка сна, граничащая с еще более плотной и непроницаемой мглой вечности, в которой плавали миры, в том числе и наш, земной.
Сорвавшись в забытье, Аполлон Рыбкин еще долго не выпускал из своей руки Дашину руку, протянутую с противоположной полки купе. Даше не хотелось прерывать прикосновения, но рука ее быстро затекла, словно вся кровь из ее тела по этой руке наружу устремилась; пришлось расстаться, разъединиться. В памяти всплыла неуклюжая строчка одного из теперешних «прозаических», заземленных поэтов: «Нас расцепят, словно мы вагоны». Другой, незатекшей рукой положила она красивую, не изуродованную мускулами, восторженную руку мужа на его выпуклую и в меру волосатую грудь. После чего вытянулась на мягкой полке, напряженно прислушиваясь к дыханию Аполлона: нет, не притворяется, спит искренне.
С закрытыми глазами лежала не шелохнувшись, не могла уснуть. Мягкие рессоры вагона баюкали тело. Блаженная истома новоиспеченного собственника умиротворенной улыбкой блуждала по лицу женщины: «Вот он, необходимый, неповторимый — рядом, возле… Дышит, смотрит сны, пошевеливает затворенными глазами, слышит свою, недоступную даже мне, музыку и не перестает все это время принадлежать мне! Завтра он проснется и первым делом посмотрит на меня. Какое кощунство — такие мысли, но и какое блаженство: мо-е! Пусть не навсегда, не надолго, на одну всего лишь ночь, но ведь мое, подчиненное моей любви».
Даша вовсе не знала, кто он, этот спящий возле нее человек. Никаких достоинств за ним, кроме отразившейся в его облике мечты девической, смутных очертаний идеала, который женщины склонны искать в людях тотчас при появлении на свет, кроме этой химеры зыбкой, никаких «пронзительных» свойств за Аполлоном Даша пока что не знала. Мимо ушей и сердца ее прошли в свое время песенки, сочиненные Барнаульским, не измеряла она и глубины его познаний, широты разума. Зачем, для чего ей все эти частности? Она увидела живьем образ, сотворенный некогда ее воображением: ощутила грезу сквозящую и, мигом, враз ухватясь за нее всеми силенками, устремилась с ней в одном направлении. А кто она, эта греза, зачем и сколько ее лучше бы и вовсе не знать, хотя узнать предстоит неизбежно.
Даша еще долго не могла уснуть, хотя и принуждала себя не ворочаться, не шевелиться, стараясь утомить себя этим принуждением, а когда, в конце концов, напряжение в мышцах ее сникло, подтаяло, близкая дрема возложила на ее глаза мягкие персты, поезд остановился. Это была его единственная остановка между Москвой и Ленинградом-Бологое. Прекратившееся движение заставило очнуться.
Даша приподнялась на руках от постели, увела вверх клеенчатую штору жалюзи, откинула край занавески, выглянула наружу. Там, за окном, на ярко освещенной платформе, стиснутой с двух сторон красными экспрессами, Даша разглядела одну-единственную фигуру. Из встречного поезда кто-то выбрался на воздух покурить, кто-то, кому так же, как Даше, не спалось в эту ночь. Хотя и не с кем было сравнить мужскую фигуру на безлюдной платформе, все же отменный рост курившего обращал на себя внимание. В белой рубашке, при галстуке. Правда, галстук круто сбит на сторону…
— Стас! — воскликнула Даша и хотела уже постучать по стеклу или вовсе опустить раму в окне, но заворочался во сне Аполлон, зачмокал губами сладко. Довольный, насытившийся счастьем. А тут и поезд Дашин медленно, мягко, почти неслышно взял с места. Что-то теплое, нежное затлело в груди ее, вырвавшись затем вместе со вздохом наружу, и, задержавшись, затрепетало на губах едва заметной улыбкой. И тут же вспомнила, как встретились они впервые у Александрийского столпа. И что-то обеспокоило, бестактно как бы проникло в ее помыслы. И она поспешно перевела взгляд на Аполлона. Вот он, ее ангел… Прежде носившийся где-то над городом и сошедший теперь вниз, к ней, к ее восторгу. Ангел? Или демон? Нет… Человек всего лишь. Но дорогой человек.
«Да и Стас ли повстречался? — засомневалась, освобождаясь от гаснущей, чужеродной по отношению к Аполлону нежности. — И все же — он. Фуражечка на голове… С крылышками серебристыми. А ведь я его запросто могла приручить», — хвастливо подумала, мгновенно застеснявшись подобных мыслей, заукоряла себя за беспутство, пусть мысленное, однако реальное.
Благодарно улыбнувшись Аполлону за одно только его присутствие, накрылась с головой простыней, захлопнулась от всего внешнего, постороннего, идущего мимо, как бесконечный, составленный из разноцветных вагонов, поезд, поезд бытия, волнующий ее и касающийся ее постольку поскольку… И вскоре уснула.
Глава седьмая. Явление народу
В таборе, естественно, паниковали. Повстречав Аполлона и почти не разлучаясь с ним, Даша напоминала о себе телефонными звонками, редкими набегами, чаще всего дневными, когда с чашечкой кофе в руке спешно обходила квартиру, производя как бы инспекцию, целовала Ксению Авксентьевну в ухо с налету, словно что-то с головы у нее склевывала, шептала ей:
— Потерпи, родненькая… Скоро покажу его вам. А сейчас не надо на меня злиться. Кажется, это — он… Понимаешь? Необходимо остепениться, соориентироваться, не испугать ни вас, ни его. На себя-то мне наплевать… Потерпи, голубушка. И других потерпеть заставь. Покуда я не отрезвею от него…
— Молодой? — только и спросила родительница. — Фонарщик-то наш на мои расспросы — ни-ни. Мое, говорит, дело сторона теперь: на свет появиться помог Дашке, образование получить поспособствовал. Остального пусть сама достигает. Иными словами, постращать тебя решил… А сам, притворщик, так и стрижет ушами: что да как? Сознавайся давай: молодой, старый?
— Вечный! Понимаешь?! — воскликнула Даша. — Он никогда не потускнеет. Мне иногда кажется, что он бессмертный. Такой — отлитый из благородного металла. И старше меня всего лишь на пять лет. Маловато пожить с ним придется. Я-то быстро поблекну. Каких-нибудь лет десять от силы и — бабушка. А Бельведерский! То есть Барнаульский… Вернее — Рыбкин. Его зовут Рыбкин, учти. Аполлон Рыбкин. Немножко забавно звучит, но я привыкла. Вот! Ангел. Рыбкин рассчитан на длительное хранение! Ха-ха.
— Выходит, чудишь по-прежнему? Ангелами бредишь?
— Да что ты, мама?! Разве я так себя вела, когда бредила? Говорю тебе: жи-вой! Натуральный! Да мы с ним уже расписались.
— О, господи! Он что — разведенный? До тебя-то у него небось…
— Было… Сам признался: трижды женат. Правда, брак не регистрировал. Это его словечко, язык сломать можно! Так вот, если тебя это интересует: формально женат единожды был. Разок! Остальные разки — совместно проживал. Совместно с той или иной женщиной… Ну что ты, мама, право. Хочешь, чтобы я заплакала? Не терзай. Мне Шишигин шепнул: «Прежде-то, говорит, Аполлоша и не улыбался никогда. А теперь светится! Чудо, говорит, да и только. Такого металлического красавца проняла». Это Шишигин про Аполлона, представляешь? Я Шишигина за его такие слова прямо в рыжую пасть чмокнула. Шишигин благотворно повлиял на Аполлона. Успокаивающие опыты над ним производил. Наложением взгляда своего проницательного. Шишигин… он знаешь кто!
— Придурок он, твой Шишигин! — улыбнулась Ксения Авксентьевна, перекинув «беломорину» языком в другой угол рта.
Ксения Авксентьевна к старинному резному шкапчику подошла, на дверце которого хищник, поедающий лекарственную, целебную травку, изображен. Извлекла вьетнамскую мизерную баночку с мазью-бальзамом, помазала себе виски, растерла. По комнате дух специфический распространился.
— Говоришь, расписались вы с ним?
— Расписались! Ты прости, мама, но ведь так спокойнее… Он такой впечатлительный. Музыкальный такой… Нервы натянуты. «Как струны!» — это его слова. Не распишись с таким — уведут моментально. А так, если даже и уведут — ненадолго. Вернется. За советом: что дальше делать? Потому что — непрактичный…
В конце концов назначено было конкретное число, дата определенная — явления Аполлона в таборе. Выбрали именно тот день, когда братец Георгий, беспощадный на язык и каратэшные приемы, уезжает за город на рыбалку, а в сущности, на свидание с тощей, поджаристой дзюдоисткой, с которой они этой восточной борьбой чисто по-мужски занимались. В одном вечернем клубе спортивном — укрощения плоти. В связи с этим необходимо обмолвиться, что братец этот вообще выдавал себя за противника межполовых союзов, содружеств и прочих ассоциаций, боролся с инстинктами как мог, охлаждал себя ледяной водицей по утрам и перед сном, голодал в меру, прекращая прием пищи за день до разгрузочного дня, комнатушку свою обставил будильниками, которые рявкали попеременно всю ночь, лишая Георгия регулярного сна; на теле носил он своеобразные вериги: аккуратные свинцовые накладки, попутно предохраняющие от случайных ушибов и проколов бренной оболочки, а также от проникновения в тело блуждающих радиоактивных лучей. В результате к своим тридцати трем годам был он не только не женат, но и со многими в этой области нюансами не знаком. К тому же постоянная борьба с самим собой сделала его злым, а значит, и мало терпимым в обществе. Бросался он чаще всего на влюбленных, а также на недавно женатых, доставалось от него и Даше, потому как влюбленной она была постоянно. Любила все подряд, и братца своего кипящего в том числе. Любила осадки, животных, деревья, цветы, машины вонючие, реку, в которой иногда люди тонули, и многоэтажные здания, из окон которых время от времени выбрасывались не сумевшие или не успевшие полюбить неврастеники, улицы любила, на которых под колесами автомобилей мыльными пузырями лопались сизые голуби, — да мало ли что она еще любила! Рожденная любить, была она всесильна. Братца своего вздорного мгновенно укрощала: улыбкой, взглядом, редко прибегая к словам и жестам, запросто размягчала бесноватого. Потому-то и не боялась Георгия совершенно. Ни прежде, ни теперь, когда он на Аполлона окрыситься мог и, естественно, напугать музыканта… За утонченного, погруженного, как ей казалось, единственно в музыку, не приспособленного якобы к людской грызне Аполлона, за новоиспеченного мужа своего с непривычки переживала больше, чем нужно, и с братцем некоммуникабельным сводить не спешила.
На этот раз к очередным смотринам Дашиного избранника в таборе готовились основательно. Как к свадьбе. Даша показала Афанасию Кузьмичу паспорт со штампом, и все сразу засуетились, как будто от этого знака эфемерного зависело, быть или не быть Даше счастливой.
Свадьбу Даша играть не собиралась, потому что ощущала себя противницей всякой игры (кроме игр детских). Аполлон ее в этом ощущении вдохновенно поддержал. Банально, пошло, тускло — все эти «горько!», подарки, униформа с фатой и непременным черным костюмом, — все это по мнению Аполлона, а ежели быть точным — по мнению Шишигина, все это не что иное, как издержки стадности: по принципу «не хуже, чем у других». А личность-де тем и драгоценна, по мнению дуплиста, что не разменивает себя ни при каких обстоятельствах, даже при самых знаменательных в биографии субъекта.
— И как же прикажешь именовать событие? — допытывался у Игнатия Шишигина Аполлон. — Что это — смотрины жениха, то есть теперь уже мужа? Или просто на чай-кофий соберемся? На посиделки? Все-таки поженились мы… в известной степени. И не с кем-нибудь, а с Дашей Тимофеевой! Которую ты уважаешь. Хоть она и не прельстилась моей фамилией, оставшись при своей девичьей. Теперь вот к ее родителям надобно заявиться. Впервые. Но каким, собственно, образом? Под каким символом, под каким заголовком все это происходить должно? Спокойнее как-то под… заголовком.
— А ты что же, билеты пригласительные печатать собираешься?
— Зачем же? Мне чисто психологически необходимо уяснить. Оконтурить словесно, чтобы потом на это слово опираться, как на костыль. В минуты самопотерянности.
— Так и назови: событие. Приглашаю вас на событие. Или — на раунд, ежели по-иностранному. А ежели официально: визит вежливости. Дурак ты, Аполлоша, непроходимый. Как тюменская тайга. Назови субботник. Девишник. Пикник. Междусобойчик. Банкет! Беседа. И развесь все это по стенам своей черепушки изнутри.
— Во! Неплохо: беседа! Что-то древнерусское и одновременно интимное. Так и запишем.
— Да где запишем-то?! — окрысился, рыжие зубы в рыжих усах показал Шишигин.
— А в уме. В сознании-подсознании. В звучании мысли. Кстати, на «беседе» я намерен кое-что исполнить. Свое, оригинальное, новое и, можно сказать, выстраданное.
— Смотри, не облажайся, лабух. Песнюшек своих не вздумай петь. Оскандалишься. Навредишь. И вообще — помалкивай чаще. На «беседе». Они тебя раскусят моментально, рассекут, как дыню гнилую, потому как разглядывать примутся, разнюхивать, ощущать всеми фибрами… А все почему? Потому что лицо у тебя редкой красоты мужской… Вот ты и ограничься показом лица. А я тебе помогу.
— Не смей! — рыкнул Рыбкин, довольно-таки естественно возмутившись.
— Да вовсе я не о прописке… Хотя куда ты без нее денешься, без жилой-то площади? На столпе Александрийском не устоишь: ветром сдует, дело-то к зиме. Я тебе о внедрении в их сердца толкую. Так что смирись, гордый человек, и не вякай, когда тебя само ходячее добро, по фамилии Шишигин, облагодетельствовать вознамерилось.
Ксении Авксентьевне Даша так и не смогла толком объяснить, что это за «простецкую беседу за чаем» решили они с мужем Аполлоном в ближайшую пятницу в таборе провести. Старушка все эти хитросплетения словесные приняла за неуемную деликатность молодых, не имеющих, вероятнее всего, достаточно средств, чтобы сыграть свадьбу, как положено.
Тогда смекалистая родительница решила собственными силами обставить «беседу» и для этой цели принялась в назначенный день с пяти часов утра печь пироги, крошить и заправлять доступной всячиной салаты, заливать в графины натуральные соки и морсы, отсылать Нюру Хлопотунью в «Север» за тортами, а в газовую духовку посадила загорать огромного гуся-гуменника, напоминавшего детеныша страуса, начиненного яблоками, курагой, инжиром и всяческими благими травами и намерениями.
Афанасию Кузьмичу поручено было проявить инициативу по части горячительных напитков, что он и сделал, доставив оные на своей фонарной машине в обеденный перерыв.
Даша просила родителей не звать гостей: «Кто окажется в доме, того и за стол!» Однако же народ кое-какой подсобрался, потому что и в прочие дни прихожан хватало, к тому же слушок о Дашином окончательном увенчании за стены табора просочился — вот тебе и гости — выходи встречай. Помимо завсегдатаев, на «беседу» пришли неожиданные люди: какая-то деревенская бабка по псковской, фонарно-отцовской линии, из глухой деревни Пеньки, из такой глухой, что в официальных списках населенных пунктов уже не числилась. Грибков сушеных привезла. И ягод в лукошке. Далее какой-то весьма ученый человек по петербургской материнской линии осчастливил — совершенно окаменевший в своей учености старичок, написавший некогда интересную и якобы необходимую людям книгу — еще во времена нэпа — и посвятивший всю остальную жизнь поискам этого уникального творения в магазинах «Старая книга», так как рукопись была утрачена в голодные годы… Почему именно в голодные, а не в какие-нибудь холодные или горячие годы — никто не знал. Назывался оный труд довольно-таки заковыристо: «Субституция сублимации» или что-то в этом роде — и отпечатан был в «тридцати нумерованных» экземплярах стараниями, а также иждивением автора.
Само собой разумеется, что в «беседе» приняли участие все партнеры по игре в лото, то есть Лахно, Хлопотунья, Тминный, Эдик Потемкин, Шишигин, Ларик и даже второй Эдик, который геолог.
Даша привезла Аполлона в табор одетым в бархатный концертный костюм с золотым отливом, в котором он еще недавно исполнял свои песенки в клубах и в красных уголках района.
Как ни просила Даша не встречать их торжественно, дабы не отпугнуть композитора излишней назойливостью, мольбам ее не вняли. В переднюю на звонок кинулся чуть ли не весь табор, и в момент первого соприкосновения с Аполлоном все ненадолго застыли в шоке, расположившись по дуге — вогнутостью к дверям. Замерли, кто выспренне руки скрестив на груди (художник с огромным, неудобоваримым носом), кто набычившись внешне, хотя и с добрейшей улыбкой внутри (Лахно), а кто и вовсе не скрывая ужаса (ранимый Ларик). Терять для себя Дашу никому не хотелось, и поэтому люди вели себя несколько нервозно, включая родителей.
Ксения Авксентьевна целый час воздерживалась от курения, но в самый последний момент сплоховала и, уже находясь в строю перед дверью, которую младшенький Федя на Дашины звонки настежь распахнул, дрожащими руками вставила в рот «беломорину» и так с торчащей этой штуковиной, правда незажженной, шагнула навстречу зятю. Фонарщик, бритый, при галстуке, держал свои обветренные кулаки впереди себя на костюме, как держат их защищающиеся футболисты перед пробитием по их воротам штрафного удара. Лицо его было серьезно, как на доске Почета. Но всех перещеголяла в усердии Нюра Хлопотунья. Неожиданно, когда Ксения Авксентьевна замешкалась, вынимая изо рта «беломорину» (на тот случай, если зять к целованию приступит), из-за ее спины вывернулась Хлопотунья с обыкновенной буханкой хлеба на полотенце, опять же обиходном, махровом, а не холщовом, расшитом петухами. На хлебном кирпичике — солонка с металлическими ножками, утопленными, вдавленными в верхнюю корку.
Когда молодожены порог переступили и сквозь строй проходить начали, кто-то на их головы овсяными хлопьями — за неимением целикового овса — сыпанул, отчего на Аполлоновом бархате образовалось несколько белесых пометок, как бы сделанных воробьями.
Квартира, насквозь пропахшая праздничными съестными ароматами, восторженно и в то же время затаив дыхание встречала Дашиного кумира.
Аполлон проворным движением фокусника извлек из бархатных глубин газовую зажигалку, дающую мощное пламя, напоминающее струю автогенного резака, дал прикурить худенькой своей теще, попутно оглядев ее сверху донизу опытным взглядом дамского портного. Затем он поймал руку Ксении Авксентьевны и аккуратно, без натуги прикоснулся губами к выпуклым, рельефным жилкам этой руки. Тут же раскланялся с остальными и, подойдя прямиком к портрету, изображавшему старинного композитора, секунд пятнадцать смотрел на него неотрывно. Затем, подмигнув очутившемуся возле него Тминному, изрек, глубоко вздохнув, как на государственном экзамене:
— Если это Вивальди, то художник, написавший портрет, — Леонардо да Винчи.
— Что вы хотите сказать? — зажал в кулаке бугристую грушу носа художник Потемкин, на которого сразу же почти все одновременно посмотрели умоляюще, призывая смириться хотя бы временно, то есть не рыпаться.
— А то, уважаемый, — выпятил колесом бархатную грудь Аполлон, — так написать композитора — не обязательно Вивальди, но вообще композитора — мог только гений! Художник уловил неуловимое… Это портрет самой музыки, того органчика, аппаратика того, откуда она по неведомым ручейкам из воображения человека наружу вытекает!
Потемкин удовлетворенно сглотнул, хрюкнул самоуспокаивающе носом, хотя полной уверенности, что над его работой, а значит, и над ним лично не смеются, у него еще не было. Во всяком случае, на прекрасном застойном, безветренном лице Аполлона Рыбкина уловить какие-либо нюансы иронии или наоборот восхищения не представлялось возможности. Тем более, что Рыбкин уже отвернулся от полотна и занялся стряхиванием овсяных хлопьев с бархатных как бы пропитанных огненными переливами плеч.
По всему было видно, что Аполлон табору нравился. Его рассматривали с воодушевлением, если не с удовольствием. Ярок, эффектен, театрален, можно сказать дьявольски красив был он настолько, что простые смертные в таборе как бы смысл дальнейшей жизни обрели, поверив в Дашину звезду. Гипнотическое свойство красоты, блеска, пробойная сила прекрасного не позволяли задуматься, анализировать, сравнивать, искать под этой золоченой оболочкой непринаряженную истину. Даже вечно настороженный, недоверчивый Ларик и тот в мгновение ока подтаял и теперь покорно улыбался новоявленному истукану.
Сцена знакомства в прихожей завершилась неловким, но достаточно красноречивым жестом молчаливого отставника. Бывший генерал, став во фрунт, попросил у окружающих внимания. Тяжелые складки на его лице так и не разгладились, несмотря на отчаянное волнение, всколыхнувшее организм. Из-за спины, из-за помятого, холостяцкого мундира выдвинулась его огромная рука, которой генерал, смертельно смущаясь, начал совать Даше какую-то коробочку.
— Это вот вам… тебе… А мне уже ни к чему. Потому как один. Берите, пожалуйста, носите. А это, ежели позволите, вам, молодой человек, — с этими словами из-за спины Лахно выпорхнула другая его рука, робкая, массивная, смешная рука с каким-то зажатым в пальцах полиэтиленовым прозрачным мешочком. В мешочке что-то увесистое желтело. Аполлон машинально перехватил у Лахно мешочек, поднес его к глазам.
— Часы какие-то, — усмехнулся. — Золотые, что ли?
Лахно испуганно закивал, подтверждая догадку Аполлона.
— Зачем же так сразу? И что же они — на ходу, что ли? Ну и будильник мировой!
— На ходу. «Павел Буре». Подарок вроде…
— И что же я с ними… — засомневался Рыбкин.
— В тон, замечу сказать, — засуетился Лахно. — В самый оттенок. К вашему одеянию. Теперь, говорят, модно старье разное…
— Ретро? Оно конечно. Однако позвольте. Я ведь не затем сюда пришел, чтобы обогащаться. Мы ведь с Дашей как встретились? Я дверь открыл на звонок, смотрю: судьба на пороге! И тут же я на руки ее взял. Потому что зашаталась и равновесие потеряла. Ясно? У меня денег у самого куры не клюют…
— От чистого сердца, — потерянно лепетал Лахно, пытаясь спрятаться за низкорослого Тминного.
И тут Даша стремительно перехватывает у мужа мешочек с часами и еще более стремительно к бывшему служаке подлетает и раз! — целует его в обе щеки.
— Спасибо вам, дорогой Митрофаныч! Это нам как бы на память, да? Я знаю… Это чтобы не забывали мы вас. Как бы эстафета от вас к нам. Да?
— От меня и от Машеньки эстафета. Сережки-то ее… Носите на здоровье. Належались, это самое, без применения. А на вас-то и засверкают опять.
И вдруг Лахно, вероятнее всего от смущения, неуклюже так себя по голенищам сапог хлопает руками, но лампасам выцветшим, как бы в пляс решаясь пуститься. И вдруг ногами засучил, затопал по синтетическому паласу, устилавшему прихожую. А надо сказать, что погоны к своему генеральскому мундиру Лахно почему-то не прикрепил. Скорей всего из-за отсутствия пуговицы на левом плече. Некоторый комизм в облике взыгравшего старика не затушевывал сиротской печали, в которой пребывал он с самого того момента, как потерял жену. Единственный сын Лахно, ушедший вслед за отцом по его дорожке, погиб еще неженатым лет двадцать тому назад.
Глядя на благодарственный Дашин порыв с поцелуями, иначе повел себя и Аполлон. Он моментально вытряхнул из мешка часы на ладонь, открыл полыхнувшую пламенем золотую крышечку, поднес часы к уху, удовлетворенно крякнул, защелкнул, опять открыл и защелкнул, взял часы за ушко двумя пальцами и шаловливо их в верхний кармашек бархатного пиджака опустил.
— Позвольте, позвольте! Раз на то пошло… — притворно суетясь, растолкал собравшихся огневолосый Шишигин и, войдя в центр полукруга, поднес молодым какой-то весьма замысловатой конфигурации древесный корень, напоминавший отдаленно кисть человеческой руки, причем один из ее шести пальцев был фривольно изогнут, и, просовываясь поочередно меж пятью остальными пальцами, образовывал как бы протяжный, удлиненный кукиш. — Позвольте! Дарить так дарить. Природа требует от людей продолжения рода человеческого. Для чего отдельные граждане объединяются в союзы. Вместо того чтобы жить уединенно в дупле, норе, скважине, жить, не расплескивая себя по мелочам. Это к слову. А вообще-то — рад! Рад искренне и через определенное количество минут непременно заплачу от умиления, приняв вовнутрь чего-нибудь прозрачного, как слеза… И вот вам, помимо моего умиления, своеобразный дар природы. Положите его у себя в комнате, обязательно у себя в комнате, то есть в своей, личной конуре, — подмигнул Шишигин Аполлону, — положите сей дар природы кукишем в сторону дверей, и в вашем дупле никогда не будет места нечисти!
В итоге все без исключения таборяне одарили молодых, кто чем мог. Оказывается, тайно от всех каждый что-то смекал, что-то соображал, чем-то на всякий случай вооружался сообразно событию и собственным вкусам, а также возможностям.
Тминный книжечку стихов, отпечатанную на чужой пишмашинке и аккуратно автором переплетенную, подарил. На обложке от руки оптимистическое название нарисовано: «Столики!»
Геолог рыбину дрожащими руками преподнес.
— А это… балык. Сам поймал, сам и закоптил, — смущаясь, промямлил, протягивая Даше обыкновенного леща. Мучимый жаждой и угрызениями совести, терпеливо дожидался он начала застолья, невесело поскрипывая зубами, словно готовился перекусить незримую ленточку, отгораживающую от него торжество.
Художник Потемкин откуда-то из-под плащей, с крючка вешалки снял тщательно упакованную в бумагу, перевязанную бечевой квадратную картинку 50x50 сантиметров. Когда ее развернули, многие ахнули: такого поразительного сходства с моделью никто из присутствующих увидеть просто не ожидал. Теперь ведь как: художники чаще свои фантазии рисуют, свои эпохальные замыслы воплощают, даже когда вы им позируете безвозмездно. Глянешь из-за плеча маэстро на такое, с позволения сказать, воплощение, и расхочется тебе не только в замыслах чьих-то присутствовать, но просто жить. Вместо уха — унитаз, вместо глаз — амбразуры пулеметные, вместо носа — вообще безобразие форменное. А на картинке Потемкина — извините: Даша на этот раз сидела как живая! Да что живая! — больше, чем живая: вся ее несуетливая, необоротистая, восторженная натура, вся ее прозрачная, просторная душа, пронизанная участием к вам и наивностью, так и выливалась через край с полотна. И вот что еще восхищало в портрете: внешнее сходство лица, осанки, линий, вся необычайно правдивая пластика образа уравновешивалась таким же мощным и емким нутряным, то есть духовным свечением в работе художника. Даша предстала сидящей на гранитных ступенях какого-то пьедестала, скорей всего на ступенях возле Александрийского столпа. Сидела она, повернувшись спиной к зрителю, но лицо свое обратила назад — к людям, щедро делясь своей возвышающей улыбкой. Волосы ее были распущены по медно-зеленоватой накидке, под которой угадывались как бы крылья, а может, и просто острые лопатки… И вот что интересно: выпуклое это несоответствие под складками накидки ни в малейшей мере или степени не искажало, не уродовало изображаемую, но как раз и дополняло незримые в обыденности штрихи Дашиной сути.
— Господи! — воскликнула в панике Ксения Авксентьевна. — Да такую-то разве можно показывать? Да такую не то что замуж — на свет божий выпускать боязно. Обманут моментально. Измажут… — и тут старушка заплакала незаметно, потом закашлялась, как бы дымом табачным подавилась.
— Это что же, в мой огород камушек? Насчет «обманут»? — встрепенулся Аполлон, беря из рук Ксении Авксентьевны окурок «беломорины» и жадно затягипаясь. — Я, что ли, измажу? А ведь измажу, факт. Невольно. Унижу… Одним своим прикосновением — оскверню! Тут уж или пан или пропал. Выбирайте… Тут уж, кому достанется, тот и… осквернит. Только ведь не виноват. Не виноват? — поймал Аполлон Дашины руки, на колено по странной своей привычке опустился театрально, как в оперетте. Губами по руке елозит. — И оскверню! Нате вот! Потому как — мое! Скажи им, Дарьюшка, ведь мое? Не виноват я перед тобой?
Даша проворно и как-то величественно, без принуждения склонилась над Аполлоном, поцеловала его в лоб, не переставая улыбаться, и под этой ее улыбкой не только Аполлон Рыбкин, но и все остальные, как под дождиком оживляющим, облегченно вздохнули, друг друга за неловкость минутную простили и в гостиную к накрытому столу перешли. Когда двинулись, то впереди Ксения Авксентьевна с портретом в руках, как с иконой, проследовала. В последний момент, перед тем как за стол усесться, улыбнулась хитренько и жалобным, хотя и грубым, прокуренным голосом обратился к дочери:
— Пусть она у меня повисит… Ты ведь, поди, упорхнешь теперь. Вот мне и радость на время разлуки. Договорились?
Даша поспешно кивнула в знак согласия. А потом, когда вспомнила, что «упорхнуть-то» ей как бы и вовсе некуда, озаботилась и, не теряя доброго расположения духа, спросила только:
— Думаешь, упорхну? Миленькая, а скажи, куда именно? Аполлон-то мой — он ведь бездомный сейчас. Прежде-то он где обитал? В моих мечтах всего лишь. В снах-грезах. Иными словами, вот здесь! — постучала она по своей голове пальчиком. — Вдвоем-то разве уместимся тут?
— Ну и слава богу, если останетесь! А портрет-то я все-таки… Хотя бы на время к себе… Можно?
— Не горюй, Даша! — ударил в ладони Аполлон Рыбкин. — Я тебе такую грезу отгрохаю! На кооперативных началах… К тому же — дача у меня фамильная. На Карельском.
После того как растерзали румяного, сочного и весьма душистого гуся, после коллективного «умытия» в ванной сальных, бесстыдных рук, которыми рвали бывшую птицу, разгоряченные охлажденным шампанским, решили культурно передохнуть возле пианино, чтобы собраться затем у самовара под знаменитый Дашин пирог с яблоками и под прочие кулинарные соблазны.
Каким-то образом обитатели табора прознали, что законный Дашин муж умеет играть на инструменте. Никто, правда, не ведал толком, на каком конкретно инструменте он играет. Просто мнение такое в воздухе плавало, что Аполлон Рыбкин с музыкой в родстве.
Музыкальных инструментов в Дашиной семье имелось два: гитара и пианино, которое загораживало собой закрытые наглухо двери в следующую комнату, где жили братья Георгий и Федя, проникавшие в свою комнату через дополнительный вход из коридора. Гитара висела тут же, в гостиной на широкой боковине старинного буфета, зацепленная голубой лентой за какую-то деревянную финтифлюшку этого громоздкого сооружения. В какой-то миг, создавшийся за столом без предварительной договоренности, все вдруг перестали жевать, обтерли губы салфетками и чего-то принялись терпеливо ожидать, бросая столь же наивные, сколько лукавые взгляды то на Аполлона, то на пианино с гитарой поочередно.
Напряженное состояние за столом неожиданно попытался расслабить, если не снять, изрядно захмелевший Эдик-геолог, облаченный в какую-то огромную псевдоцыганскую жилетку поверх желтой рубахи. Малый этот, не выдержав молчаливой паузы, сгустившейся над столом, сорвался с места, снял с буфета гитару и, выдвинув из-под пианино вращающуюся табуретку, уселся на нее, скрестив ноги и забренчав на гитаре и сразу же чуть ли не до полу опустив бородатую, патлатую голову свою. И тут его словно прорвало. Песни геологические, туристские, маршрутные, а также блатные, бардовые, возлекостровые, отрядные, но от этой их бодрой принадлежности не менее монотонные, напоминающие радетельное нытье кладбищенских старух по чужому покойнику, — полились, посыпались из геолога, как из прорванного рюкзака. Неизменная в этих песнях «пурга» рифмовалась как правило со словом «тайга» или «тоска», а ежели что-то там такое мерцало «в костре», то и мерцало оно обязательно «на заре».
Казалось, никакая сила теперь не остановит бородатика и станет он петь до скончания дней своих, но в жизни так не бывает. В жизни всякое зло добром уравновешивается, всякая печаль радостью умывается. Так и здесь. Не успели за столом люди от беспощадных, на один мотив нанизанных песенок озвереть: выручила псковская, из деревни Пеньки, бабушка. В данный момент, когда геолог душу у себя и у всех подряд наизнанку, как карман, выворачивал, вязавшая Даше из крестьянской шерсти носки на зиму старушка эта славная выронила огромный клубок пряжи, вернее, так он у нее с колен и соскочил, будто живой, размером со средний калмыцкий арбуз, соскочил, спрыгнул и в сторону исполнителя «диких» песен понесся! А вослед за клубком, встав на карачки, метнулась в ту же сторону и бабуля. Клубок в мгновение ока обежал вокруг табуретки, на которой сидел доморощенный бард, и, захлестнув ему ноги мертвой петлей, помчался дальше. Бабушка смело трогала геолога за штаны, бодала его головой, а когда он ботинки свои огромные от пола приподнял, развернула его на табуретке лицом к пианино, и тут ему пришлось прекратить игру, а заодно и пение. На помощь бабушке поспешил наиболее из всех присутствующих разбитной и весьма в данный момент агрессивно настроенный Шишигин. Ласковым, нерезким движением, как из рук сумасшедшего, вынул дуплист гитару из объятий пьяненького геолога, спрятавшегося в белесой, выгоревшей на сезонном солнце бороде, подмигнул ему шальным подмигом из своей городской, пламенно-рыжей бороденки и так сказал:
— Послушайте, Эдик… заткнитесь. Хорошего понемногу. У людей несварение от ваших рыданий!
И тогда на освободившееся место, раскинув бархатные фалды, опустился Аполлон Барнаульский, ныне Рыбкин. Он безрассудно крутанул себя на табуретке вокруг оси и, покатавшись таким ребячьим способом с полминуты, замер над клавиатурой. Он уже и руки хищно поднял, занес, будто коршун крыльями взмахнул… Но почему-то вдруг замер, словно обомлев, передумал, и руки эти самые нацеленные за спину, как ребенок, испуганно отвел. Вот он голову медленно в сторону Даши повернул и в глаза ей, ища поддержки, посмотрел. И сразу Аполлону дышать легче стало. Дашина улыбка сосуды мгновенно расширила. И осторожно, как будто весь хрустальным или фарфоровым сделался, обратился он опять к инструменту и, шевеля поначалу одними только пальцами, вернее, подушечками одними тех пальцев, заиграл нечто прозрачное, хотя и нервное, живое весьма, токами исходящее прямиком, как из генератора, из организма Аполлона. После натужного гитарного бряканья экс-геолога, после неприкаянных, неопрятных его песенок однообразного содержания, звуки, извлекаемые Аполлоном, свежим ветром пронеслись по квартире: многие из собравшихся успокоительно вздохнули, как бы осилив некий подъем. Музыка, которую прял или ткал на старинном, красного дерева пианино Аполлон Рыбкин, узорным полотном стелилась к ногам слушателей. Не всем эта музыка одинаково понятна была, но вот чудо: все ее приняли безоговорочно, как нечто абсолютное; всем от нее полегчало, словно побывавшие на прибрежном песке рыбешки опять в родной стихии очутились. Даже у псковской бабушки с вязаньем наладилось.
А Даша об эту музыку при первых же ее тактах как об нечто физически ощутимое ткнулась, ударилась! Всем существом — грудью, лицом, животом… Такая невесомая, но столь рельефная, хотя и болезненно робкая, словно лишенная кожи, музыка. И в первые минуты румянец, заливший Дашино лицо, походил на ожог, полученный от соприкосновения с этой музыкой. Но мудрая, немеркнущая радость жизни, которую несла в себе Дашина душа, от этого непредвиденного столкновения не померкла, и тихая, милосердная улыбка ее от мощного удара не исказилась, продолжая мерцать и высвечиваться сквозь ожог румянца.
Это была не просто незнакомая музыка, но чужая, чуждая ее чистому сердцу. Музыка, не столько волновавшая, сколько терзавшая. Терзавшая последовательно, рационально, умело, продуманно. Музыка ума. Притом мужского ума. Но далеко не разума. Музыка напрягшегося псевдоинтеллекта, окрашенная умением и усыпанная осколками изведенного, изуродованного бытом, расчетом, а затем и разгулом богемным таланта, дара бесценного. Дьявольская сила, излучавшаяся от сплетавшихся в экстазе звуков, окутывала, пеленала, сдавливала Дашин мозг куда беспощаднее расхлябанных песнюшек геолога…
— Что это?! — выдохнула она в отчаянии, когда Аполлон прекратил истязание и резким движением головы победоносно откинул со лба черное облако волос. — Это, это… не ваша, не твоя это музыка, Аполлон! Это чужое…
В это мгновение Даша поклялась себе — любыми жертвами, любыми усилиями — спасти Аполлона, его музыкальный дар.
— Ошибаешься, — возразил ей ничуть не смутившийся Рыбкин. — Чужое было — до. Во времена Барнаульского. А это мое. Кровное, нутряное. Это — от бога. Молиться этому идолу буду. Лоб расшибу, но заставлю, заставлю говорить о себе! А Барнаульского — под откос. Под насыпь, в ров некошеный! — засмеялся, захохотал, сверкая белыми, здоровыми зубами.
— Барнаульского? — переспросил низенький лобастый Гера Тминный. — Это не того ли Барнаульского, что песенки сочиняет? «Стара Адель моя, стара»? Или спортивная: «Под сводами бань в тазы барабань»?!
Аполлон пристально и достаточно долго посмотрел на обутого в личные, приносные тапочки невзрачного поэта и вдруг, оттолкнувшись от пианино, лихо приблизился к Тминному, затем, согнувшись чуть ли не пополам, церемонно поцеловал стихотворца в давно нечесанную голову.
— Барнаульский не сочиняет, а сочинял. До сего момента. Больше он этого делать не станет. Ша, Алеша!
— А что?! — вспыхнул, оправдываясь, Тминный, кстати ничуть не испугавшийся благородного наскока бархатного композитора. — А мне нравится! На фоне остальной халтуры Барнаульский — будь здоров! Его поют. Сам слышал… Пьяные люди в электричке.
— Все равно — под откос! В тираж его, иждивенца! — хорохорился Аполлон, притворно вздрагивая от гнева.
А в итоге выступление Аполлона и вообще его появление в таборе встречено было одобрительно, хотя и с некоторой долей растерянности.
Афанасий Кузьмич, искренне озабоченный Дашиным невезеньем в отыскании себе мужа, предыдущую ночь почти не спал, и, когда Аполлон Рыбкин на рояле заиграл, притом что-то заковыристое, серьезное шибко, чуть ли не симфонию какую-то, фонарщик не удержался и пару минут вздремнул прямо на стуле, раскачиваясь взад-вперед, как китайский болванчик. Очнувшись, Кузьмич решил взбодрить себя рюмкой водки, которую и принял за спинами друзей, тщательно скрывая от них эту свою одиночную акцию. А затем, когда многие с похвалой обратились к его музыкальному зятю, он и сам попытался что-то там такое произнести, какую-то свою шероховатую и потому упирающуюся, тугую мысль из головы извлечь.
— Не знаю, кто такой Барнаульский… С чем его люди едят. Зато вас, Аполлон Анатольич, с превеликим удовольствием! Потому как — мастер! Золотые руки. А мастеру в любой точке земного шара почет и уважение. Хоть на севере, хоть на юге. Я, может статься, от подобной музыки малость дурею. В сон меня, в потерю сознания кидает. Млявость, извиняюсь, одолевает, потому как с непривычки. И еще — тоска, если откровенно. Бодрости, боевитости маловасто… Так душеньку и выскребает! Однако — уважаю. Умелец вы, Аполлон Анатольич, шик, блеск! Это ежели снаружи глянуть. Бархат! А вот как бы эт-то поглубже копнуть, туда, за энти отвороты заглянуть… Сами понимаете — дочь она мне. И вот — теряю. Под такую, значит, музыку… Из пеленок собственноручно вынимал. Приросла… Когда и поговорить, коли не сейчас? Потом-то, может, и не удастся. Потом-то вы на меня, может, и кричать будете, ногами топать. А сейчас скушаете. Мне главное — унюхать, кто вы на самом деле есть, а не в бархате. Человек вы или… музыкальный инструмент всего лишь?
— Браво! — хлопнул мохнатыми ресницами Аполлон, не изменив выражения лица, то есть так и оставшись без всякого выражения.
— И еще вопросик. Чисто деловой, обиходный. В смысле профессии жизненной. Игра — не в счет. Какая она у вас, профессия, чтобы, значит, обеспечение семье будущей иметь? Должность, разряд? Звание? Потому как музыка — до поры… А случись, скажем, война, не дай бог, и куда вы с музыкой-то? За баранку шоферскую или к станку?
— Остынь, Афанасий, — вмешалась Ксения Авксентьевна, погладила мужа по голове, затем по руке, которой он рюмку очередную поднимал и все никак поднять и до рта донести не мог. И почему-то все, не сговариваясь, на эту его руку посмотрели, на огромный, обветренный и такой беспомощный рядом с хрустальной рюмкой кулак рабочего человека, покрытый зажившими ссадинами, с «наличием» под когтями, расплющенный, размятый в труде, потерявший изящество, приданное руке человека от рождения.
И Афанасий Кузьмич остыл. Сразу же застеснялся, за спину дородного отставника Лахно спрятался, загримасничал несерьезно, заусмехался — сперва глазами одними, затем усиками ржавыми да щеками дублеными, овеянными балтийской сыростью, жгучими уличными морозами прихваченными, когда в любую погоду поднимает тебя машина, чтобы ты провода лопнувшие связал или фонарь покосившийся выпрямил.
— Оно конечно. Так играть — в любой клуб заявись или там в ресторан — отбою не будет! И денег дадут, и выпить-закусить. Только ведь это все равно не работа, а баловство, забава. Веселия ради. А ведь работа — дело с виду скучное, однобокое. На работе люди себя в жертву приносят. Чтобы, значит, со смыслом-понятием. Безо всяких отклонений и развлечений. С полной серьезностью. Ты прежде норму мне выполни, план дай! И лампочки те хоть сам перебей, но замени! Определенное количество штук. А то… Я понимаю: Гера Тминный… Так он же — кто? Можно сказать, блаженный. На Руси таких всегда хватало. И вреда от них даже государи императоры не ощущали. Терпели, привечали даже. Какой двор без шута…
— Папа! — Даша не вскрикнула, она позвала отца тихо, но так исступленно-испуганно, с таким беспомощным отчаянием в голосе и печалью, что Афанасий Кузьмич вздрогнул и замолчал мгновенно. — Как ты можешь, папа… Гера — поэт.
— Я и говорю, что па-ет…
— Не все ли равно, как деньги зарабатывать, лишь бы честно, — вставил Шишигин, откусив от яблока. — Я вон под лестницей сижу, старые вещи, утиль разный охраняю. От кого? Неважно. Числюсь. А в этот момент, пока я под лестницей сижу, происходит во мне моя главная работа: в голове! Теория «дуплизма» шлифуется. Шариками мозговыми обкатывается. За стеной в музейных залах дореволюционные кофейные мельницы спят, самовары, граммофоны, прялки, скалки похрапывают, а я в это время гениальным философом становлюсь! Чем плохо?
— Но ведь сидишь! Под лестницей-то? И зарплату за это получаешь. А Гера где сидит? На нарах в вытрезвителе?
— Обижаете, — улыбнулся беззлобно поэт. — Я ведь только по чаю в основном. Да еще по кофию ударяю.
— А стихи… они что же, не кормят? — поинтересовался Лахно.
— Лично меня стихи и кормят, и поят. А главное — успокаивают. — Тминный с наслаждением потер ладони одна о другую. — Я людям стихи посвящаю, они мне — котлеты. Правда, есть кое-что и самому себе посвященное. Но здесь я экономно обхожусь, двумя-тремя словами. Хотите, прочту? Вот: «Бездельник — без денег!».
— Во! — встрепенулся Афанасий Кузьмич, но Ксения Авксентьевна вновь его по голове погладила, и фонарщик тут же уснул, не закрывая глаз.
— Говорят, у вас книжка вышла? Пропечатали? — не отпускал Лахно Тминного из поля зрения.
— Не вышла, а выходит только. Большая разница. Ощущаете? Я из тех поэтов, у кого не вышла, но постоянно выходит. Вот-вот, еще немного… и!
— Поня-я-ятненько… — нерешительно протянул Лахно. — А хотите, я вам какую-нибудь должностенку подыщу? По силе возможности? К делу приставлю? Пока эта самая книга ваша не созреет окончательно?
— Нет, не хочу. Потому что приставлен без вашего содействия. Богом-господом!
— А… это — жевать как же?
— А ничего, жую. У меня зубы целы.
— Извиняюсь, — обратился вновь встрепенувшийся Афанасий Кузьмич к Аполлону, — я опять за старое. Потому как — волнует. По части зарплаты. У всех получка, оклад. А музыкантам жалованье причитается? И сколько, если не секрет?
— Причитается, папаша. Только я еще и композитор, учтите. Я сам свою собственную, лично мне, — как вот это ухо! — принадлежащую музыку вам играл! Собственного приготовления. И мне за нее заплатят. И очень хорошо заплатят.
— А сколько же? И почему заплатят, а не заплатили?
— Это целый процесс. Пока исполнят, пока договор оформит министерство…
— Так на что же, на какие, извиняюсь, шиши жевать? Зубы-то небось и у вас целы? Не протезы? На Дашину, извиняюсь, сотенку, которую она в музее получает?
— За прошлый месяц две с половиной накапало. Мне лично.
Воцарилось молчание. Многие стали жевать собственные губы, как бы переваривая смысл названной суммы.
— Как это понимать? Двести пятьдесят, что ли? Тогда другое дело.
— Две с половиной тысячи. Авторские.
По комнате прошел гул. Словно песчаный африканский самум в окна ворвался.
— Две с половиной, говорите? — уже не одной, а сразу двумя руками обнял художник Потемкин свой жуткий нос, стиснул так, словно с лица его изъять вознамерился. — Две с половиной… за месяц? Да на такую музыку, братцы, молиться нужно! Такую музыку на руках носить необходимо… Как наручники! Вот это я понимаю, му-зы-ка! Учти, Дашка! И крепче за облучок держись, чтобы на поворотах не выкинуло… Да-а… Здесь ты картинку полгода мажешь, мажешь, а получишь, — если получишь! — полтыщи за нее, при благоприятном расположении планет над головой, и пляшешь от радости… полгода!
— Как же так? — смущаясь и от этого хмурь на себя напуская, зазвенел натянутым, будто струнка, голоском исступленным Ларик. — Как же так, ничего не понимаю! Дарье Афанасьевне… сотенку. А человеку, играющему на рояле, — тысячи?! Дарья Афанасьевна в любую погоду экскурсии водит. А играющий на рояле человек…
— Да не «играющий на рояле», а муж, муж Дарьин! — уточнил Шишигин. — Дарьин муж и должен столько получать. Тебе что же, не нравится такой расклад?
— Да за такую музыку грабительскую не на руках… — побледнел от решимости Ларик.
— Правильно, юноша! К стенке за такую музыку! В расход! — загорелся еще пуще прежнего Афанасий Кузьмич. — Вы что думаете… я цены себе не знаю? Знаю. Пара сот в базарный день. Вся моя зарплата выше этой отметины никогда не поднималась. В среднем. И — законно! Потому как выше не потяну. Потолок. По способностям. Я что, не знаю, что ли, куда попал, с кем за одним столом сижу? Знаю. Художники, па-еты разные! Композиторы, куда ни плюнь… А куда же, извиняюсь, после этого людям деваться? Которые нормальные? Вот и моя Дашка туда же, по искусству, по иконам разным да храмам. Ишь, вас куда от жизни-то относит! В кордебалеты всякие! В завитушки-побрякушки. А я им на морозе лампочки меняй?! Да?! И… и поменяю. А что? Мы народ покладистый… Но две с половиной!
— Успокойтесь, папаша. Не каждый раз две-то с половиной. Бывает и полторы…
— Пол-то-рры?! — еще пуще взметнулся фонарщик. — Не положено! За ш-што?! За энти вот трень-брень?!
— За талант, дядя, — спокойно уточнил Шишигин. — За редкую способность из ничего, как вот брильянт из угля, создавать красоту! У вас, пардон, талант лампочки менять, у Аполлона — звуки расстанавливать… В определенном порядке. Чтобы они сердце нам ласкали.
Первым не выдержал напряжения, перегорел Илларион. Издерганный неотступными мыслями о несправедливости, привитыми ему аскетическим злыднем по кличке Урия, постоянно укорявшим Ларика за ношение дорогих джинсов, за червонец, что выделяли Ларику родители «на завтрак» и который по-братски делился в школе на двоих с Урией, подхлестнутый разговорами о получках, а также бархатным, вальяжным видом Аполлона, его возмущающей душу музыкой, — выскочил Ларик из-за стола, опрокинув на ходу бокал с шампанским прямо на дореволюционный шевиотовый костюм дальнего Дашиного родственника, написавшего книгу под названием «Субституция сублимации».
— Даша, Даша! — покрылся Ларик пятнами по лицу. — Дарья Афанасьевна! Как же вы-то можете притворяться?! Вы… вы, святая, бесстрашная… и за какую-то куклу бархатную — замуж! Да он же обманывает всех! Какая свадьба, какой он вам муж?! Он просто… с Невского! И с летчиком, помните, такая же свадьба была, только тот человек, а это, это…
Даша, теряя улыбку, уже подбегала к мальчику. Последние слова Ларика вместе с его ртом уперлись ей куда-то в шею, повыше груди и потому расслышаны собравшимися не были. Даша испуганно гладила несчастного подростка по голове, пытаясь сообразить: что это он? Выпил и потому так расстроился? (Глаза Ларика плавали в слезах.) Или же не понравился ему Аполлон до такой степени? Скорее всего — последнее. И тогда она, желая оправдаться и одновременно защитить что-то бесспорно ей дорогое, заговорила, как бы размышляя вслух:
— Ну что вы, миленькие? Да вы только взгляните… Как говорят на улице в очередях: «разуйте глаза!» Он же красивый! Разве не так? Посмотрите! Согласны? Он же прекрасный… А значит, хороший. Красота не может быть плохой. Тогда она не красота вовсе…
— А почему, почему… не улыбается?! — сквозь слезы остервенело прорыдал подросток и попытался оттолкнуться от Даши двумя руками.
— А музыка?! А музыка у него какая! — не сдавалась Даша, обороняя Аполлона, который в это время, подняв бокал с шампанским, выжидал момент, чтобы затем произнести тост. — Такая музыка…
— А какая «такая»? — впервые возник доселе молчавший старичок, написавший несуществующую книгу. — Какая же она, по-вашему, эта, с позволения сказать, музыка? Тут я вам на это самостоятельно отвечу. Бесовская! Вот какая… Да! Диавольская. С нее-то все и началось. От нее-то, может, и все наши несоответствия, от судороги ее непотребной. Почище нейтронной бомбы или там газа паралитического. А главное — войны объявлять не нужно! Запустил ее — она и поползла вглубь, в душу. И пошла разваливать, подтачивать, кособочить, рыхлить почву под это самое…
— Значит, не отрицаете ее возможностей? — поинтересовался у старичка Шишигин.
— Я отрицаю не ее возможности, а ее самое — целиком и полностью! Как губительное, варварское оружие. И надо срочно заняться сбором подписей под декларацией, запрещающей эту музыку на вечные времена!
— Вот и займитесь, — ничуть не меняясь в лице, проговорил Аполлон. В его бокале, в его протянутой руке, словно остекленевшее, не шевелилось шампанское. Казалось, сама кровь в сосудах Рыбкина перестала циркулировать, и весь он окостенел мгновенно от холодящей сердце обиды.
— Прошу слова, — веско, как директор на планерке, пробасил Лахно, и его напор, волю моментально ощутили все, враз притихнув и повернув головы к бывшему генералу, словно последнего только что восстановили в должности. Неподвижным и как бы посторонним остался лишь Аполлон с бокалом отпузырившегося шампанского в руке. — Прошу внимания… Мы тут посовещались. С хозяином дома. С Афанасием Кузьмичом. И решили от лица старших по возрасту попросить у вас, товарищ Рыбкин Аполлон Анатольевич… этого самого — прощения. По всей форме, так сказать… Отныне вы тут человек полностью свой, зять, сродственник, и на всякую там критику Можете чихать.
— Зятек, дорогой, Аполлоша! Прости мое жужжание, дотошность мою. Иди, поцелуемся, как положено! — стал приподниматься, словно домкратом вывинчиваться, из-за стола фонарщик.
— Я поцелуюсь, конечно. Ради Даши я с кем угодно поцелуюсь. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, граждане, что мне у вас хорошо. Несмотря ни на что. Да. Не лукавлю. Смысла нет. Чем сковорода подо мной горячей, тем слаще жить! И я с места не сойду, покуда не выскажусь. Это не тост. Я речей не заготавливаю. Это — музыка. Слушайте. Наберитесь терпения и слушайте. Час, минуту, сколько? Не знаю. Пока не выльется. Никогда еще я не волновался так сверхъестественно, хотя и собран. Да, да, Шишигин, собран сам по себе. Без твоего парапсихологического воздействия, без колдовства. Спросишь, почему я собран, почему не нуждаюсь в твоих токах, в клее твоем волевом, в беэфе незримом? Отвечу. Потому что я — полюбил. Да. А кто полюбил, на того уже ничем воздействовать не возможно. Ничем посторонним. Ничем объяснимым. А твоя энергия, волны твои энергетические, колдовство твое, по последнему слову техники и науки оснащенное, объяснимо. Как объяснима там разная генетика с кибернетикой. Необъяснима лишь любовь! Сила, под чьей властью я оказался нынче. Необъяснима та музыка, которую вы только что слышали, слышали, но не все расслушали. Потому что ушам, видите ли, не сподручно: их, то есть ушки эти самые, — раздражает! Язвит! Все новое, товарищи дорогие, раздражает и язвит. Пора бы хоть к этой истине привыкнуть.
— П-позвольте, позвольте! — встрепенулся ученый старичок. — Если ваша так называемая музыка навеяна Любовью, да-да, именно с большой буквы Любовью, о который вы так хорошо сказали — «необъяснима, неподвластна», тогда почему же она язвит?! Почему жалит, терзает почему?! По какому антизакону?! Любовь-то — она что? Прежде всего — добро-с, милость. Отрада-с!
— Согласен. Я сейчас со всеми согласен. Любовь — милость, отрада. Но я-то, я, Рыбкин Аполлон, он же Барнаульский, черт возьми, я-то покуда еще никакая не отрада! Не добро. На меня любовь глаза только свои целительные навела. Я еще мельтешу, вибрирую под ее взглядом, увильнуть в сторонку пытаюсь. Но уже не тот. Уже пронизало! Уже моя скверна звуками смрадными из души испаряется. Я не боюсь сознаться… А вы как думали. Скверна! Отсюда и музыка двуединая. И манит она, и сластит пилюлю, и на раны елей льет, а в то же время — когтит, дерет нутро, шарит в нем воровски, рыскает в корчах и судороге. Процесс обновления только в зародыше. И всем этим я обязан не столько Шишигину Игнашке с его теорией дуплизма, но прежде всего всем этим перерождением своим обязан я Даше, Дарье Афанасьевне Тимофеевой, по прозванию Радость. И ведь не скажешь: «Моя Радость», хотя вот мы с ней поженились и штампики поставили в загсе, нет, не скажешь. Она — Радость для всех. Несущая благо. Думаете, подлизываюсь? Ничуть. Нашло просто. Музыка… Вот и таю весь, возношусь, испаряюсь как бы. Несущая благо! Как несет благо чистый воздух в зеленой долине, как несет радость цветок земляничный, обещающий ягоду сочную, ароматную всем. Несущая восторг!
За все время затянувшегося Аполлонова тоста или спича Даша, обнявшая Ларика и не отпустившая его от себя, хотя тот уже давно успокоился, и слезы на его лице высохли, и все лицо его стало как бы зеркалом Дашиного лица, сама Даша, слушая тираду воспылавшего незнакомым ей красноречием мужа, как где-то еще на середине «тронной речи» Аполлона раскрыла рот в изумлении счастливом, так до конца исповеди и не закрывала его, обнажив чистые, крупные зубы и время от времени проводя по ним кончиком языка. Словно недоступную прежде книгу, родителями для чтения запрещенную, но очень интересную читала. А Рыбкин продолжал откровенничать:
— Красива ли Даша?
Все взгляды моментально переместились в ее сторону, словно никто до сей поры не задумывался над этим вопросом и вдруг пришлось не только задуматься, но как бы проверить давно решенное, сопоставить миф о человеке с натуральной его величиной. А Рыбкин шел дальше:
— Никому и в голову не придет сомневаться. Ясное дело: красива. А каким образом? Вы что думаете, баб я на своем веку не видел, извиняюсь? И видел, и слушал, и осязал. Были и повыше росточком, и поярче волосом, и позвонче голосом. Не было Даши! Улыбки ее неземной, невинной. Какой-то нечеловечески невинной… Дашины глаза — телескоп души: самые далекие вспышки ее галактики приближают… Все до единой звездочки.
— А черные дыры и прочие бездны просматриваются? — встрял опять иронический Шишигин.
— Погоди, философ. Внимания прошу. Дашина красота безмерна, потому что берет начало изнутри, из Вселенной. Что такое, скажем, красивые ноги или изящная шея, изгиб талии, бедра, походка, интонация всего тела, звучание всего образа, что они — без красоты внутренней, потаенной, без красоты духовной? Всего лишь манекен, согласны? — вещал Аполлон истины, которые не исповедовал, но лишь фиксировал в подсознании, идя по жизни куда более «откровенным» путем. — Но не потому же я полюбил, что все в Даше отвечало эталону красоты! Я полюбил ее за милость. За то безрассудство, с которым она бросилась спасать меня… и куда бросилась? В омут непроглядный, под названием Барнаульский.
— Кто это? Почему так выступает? Что тут происходит? — раздался голос никем не замеченного братца Георгия, стоявшего в прихожей возле дверей гостиной вот уже минут пять и постепенно закипавшего от разглагольствований Аполлона, от манерного поведения человека, обряженного в огненно-шоколадный бархат.
Противник всяческого межполового сюсюкания, не застав на месте прежних свиданий свою напарницу по дзюдо и каратэ, давно разуверившуюся в возможности выйти за него замуж, Георгий только что примчался из-за города и был зол — в карих глазах бешеный огонек, ноздри подвижные, уши плотно прижаты к черепу, будто у злящейся собаки.
Вдохновенный Аполлон не обратил на появление Георгия ни малейшего внимания и, глядя куда-то сквозь потолок, в иные миры, продолжал, не меняясь в лице и не снижая воздетой руки с бокалом, громогласно вещать:
— Много ли бескорыстных, не поддающихся бытовой коррозии взглядов наблюдаем мы не только в толпе уличной, но и непосредственно возле себя? Среди родных и любимых? Вот то-то и оно! Да за один такой взгляд непорочный, святой душу отдать не жалко! И притом — не раздумывая. Потому-то я и предлагаю осушить эти бокалы. За теплые сердца! Не горячие, но теплые, жизнетворные! — и тут Аполлон отвел свои бархатные глаза от потолка, выпил остатки шампанского и, подбежав к пианино, заиграл что-то бравурное и вместе с тем бесшабашное, хулиганское, типа «Гоп со смыком».
— Да он ненормальный! — не стесняясь, довольно-таки громко произнес Георгий, несколько озадаченный. В острых, кусачих усиках Георгия появилась в самом зародыше растерянная усмешечка, отдаленно, как граненое стеклышко напоминает бриллиант, напоминающая Дашину улыбку. Однако же за шумом музыкальным, за всеобщим «оживлением в зале» никто необдуманных слов Георгия не расслышал, точнее, не придал им значения.
Затем Даша как-то ласково, невесомо, хотя и непреклонно повлекла Аполлона из дома наружу, подальше от каратэшных приемов братца Георгия.
Родители и часть гостей остались допивать чай, доедать пирог с яблоками, а также додумывать думу о Дашином замужестве, которое внесло в их риторически мыслящие ряды весьма конкретные, действенные зигзаги.
Даша понятия не имела, где они будут сегодня ночевать, и уводила своего бархатного мужа наобум, безо всякого предварительного согласования, как бы просто на улицу погулять, по наитию, одно решив про себя твердо: к Шишигину в дупло ночевать они сегодня не пойдут. Что-то такое, тщательно скрываемое дуплистом, успела она уловить в его заросших рыжиной, обеспокоенных глазах, какую-то тревогу смутную или зависть неосознанную… Но ведь Дашу-то не проведешь. Кого угодно Шишигин вокруг пальца обвести мог, а прозрачную Дашу — шалишь!
Еще в передней под портретом композитора Вивальди к Даше и Аполлону присоединились художник Потемкин с Герой Тминным. Они тоже засобирались вдруг прочь, потому как с уходом Даши неизбежно почувствовали бы себя не в своей тарелке. Потемкин, стоя под портретом композитора-монаха, разволновался не на шутку, несуразный его нос так и вспыхнул, как будто стоп-сигнал автомобильный.
— Я что сказать хочу… У вас, Аполлон, лицо совершенно нечеловеческой красоты. Вернее, не обиходное, редчайшее. С таким лицом нельзя, например, куда-нибудь в мясную лавку заходить или в туалет общественный… Потому что — кощунство! По своим классическим пропорциям, по своей отделке скульптурной оно феноменально. Похоже, лепили его каким-то иным, нежели остальные лица, способом. Ну как бы это попроще… Вот: если нас всех обыкновенные мастера сооружали, то ваш лик создавал Художник. Большой художник. Однако не гений. Потому как — незавершенность. Не одухотворил, простите, не обоготворил. Лицо прекрасное, однако мраморное. Не греет. И вот, если позволите, я попытаюсь…
— Одухотворить? — попытался улыбнуться Рыбкин.
— Да, нечто в этом роде. Словом, желательно рисовать ваше лицо. Оно как бы специально для художников сделано. Для проверки их, извиняюсь, «на вшивость». Справлюсь, оживлю, вдохну, стало быть, не зря жил, хлеб ел. Вот оно как обстоит. Так что и снизойдите. К тому же и переночуете у нас в башне. Дашенька, уговори супруга. Не пожалеете.
— Это что же, башня — символическое название такое? — зевнул Аполлон.
— Конкретная башня. Круглая. Старинного кирпича. Мастерские в этой башне… У хороших ребятишек. А на самом верху я. Диван, раскладушка, кресло. Не хотите позировать — я вас сонного порисую.
— Вот еще — сонного! Да сонный-то человек разве красивый? — заволновался Рыбкин. — Все равно что покойника рисовать. Вы меня лучше живого… В натуральном виде. Портрет композитора Аполлона Рыбкина. Звучит?
— Договорились! — повинтил туда-сюда Потемкин свой пламенный нос. — А башня вам непременно понравится, обитель наша нетихая. Такой мамонт архитектурный. Художники, поэты… Вот, кстати, ежели не в курсе, знакомьтесь: Герасим Тминный, настоящий поэт. Книга выходит, — представил Потемкин Аполлону коротышку Тминного. — А с музыкой у нас в башне не того. Исключительно из вторых рук: радио, телевидение, не считая магнитофона, через который эта самая музыка, как через мясорубку, проходит. Посажу вас в красный угол, под современные образа моего изготовления, гитару в руки — с бантом! Играйте. А мы — за карандаши да кисточки.
— Значит, реанимировать? — подмигнул Аполлон Потемкину. — Одухотворять?
— Не противься, миленький. Там хорошо. Переночуем, а дальше видно будет. У нас дома потеснятся с удовольствием. Или снимем. А сейчас — у ребят! Там раскладушек полно. И самовар! А главное — все там свои. Коммуна. Солидарность посвященных, а не обреченных. Такая планетка мыслящая, с паровым отоплением и запахом красок. А то, что порисуют тебя, разве плохо? Ты красивый. Не имеешь права отлынивать, жадничать… Тем более, что красота проходит. Иногда быстрее, чем молодость. Ее запечатлеть необходимо. На память.
Уговорили.
Откровеннее всех почему-то возликовал в результате согласия Аполлона Гера Тминный. Ладони свои непомерно крупные, если их с остальными частями тела сравнивать, ладони эти неухоженные, запущенные с таким тщанием и даже остервенением потирать принялся, будто оным древним способом огонь из себя добыть возжелал.
Глава восьмая. Одуванчики великолепные
А потом была зима. Грязная, серая, простудная, похожая на бесконечную осень: тошнотворные, пронизывающие до костей дождики сменялись мокрыми, липкими снегопадами; снег низвергался тяжелыми лепешками и тут же в дорожных лужах умирал. Обувь пешеходов не успевала подсыхать за ночь. Серые, никлые тучи сплошняком ходили над городом, утюжа сырыми провисшими животами крыши домов, не гаснувшие, раскаленные фонари на столбах, стремительно ржавеющие машины, сопливый асфальт, обработанный смесью песка с солью, а также лохматые шапки прохожих, напоминавшие мертвых пушных зверьков.
Пассажиры в автобусах и трамваях, отряхиваясь от тлетворного, на лету издыхающего снега, зябко, в каком-то терпеливом омерзении поводили плечами, передергиваясь всем телом, бурчали себе под нос или соседям в спины о каких-то сдвигах в природе, о каких-то кошмарных последствиях протыкания атмосферы (более начитанные говорили о протыкании ионосферы), которую сравнивали теперь не иначе как с дуршлагом. Собственно, зимы в обычном, «расейском» понимании этого слова не было: все эти долгие, простудные месяцы температура на ртутном столбике держалась около нуля, поднимаясь в январе до плюс семи градусов, что, как писали в газетах, наблюдалось чуть ли не до изобретения градусника. Отсутствие зимы беспокоило организмы, взвинчивало нервишки, притупляло умы, больно ударяло по кровеносным сосудам и даже как бы отдаляло перспективы, тем самым влияя не только на самочувствие отдельных граждан, но и на их взаимоотношения друг с другом.
Согласитесь, что рассказывать о непривлекательной зиме подробно, а тем более вставлять ее в столь ласковую, можно сказать, женственную повесть — грешно и жестоко. С молчаливого позволения здравого смысла мы этот промозглый и чахлый период времени опустили бы вовсе, дабы продолжить повествование о событиях, происшедших уже где-то ранней весной, когда всяческие жизненные повороты и зигзаги воспринимаются нами как бы менее болезненно, а то и вовсе с улыбкой… Но все же — о зиме. Самую малость. Вернее, даже не о самой зиме, а лишь о некоторых жестах бытия, возникших в сюжете повести помимо нашей воли зимой, пока над городом шел мокрый снег и безостановочно дули северо-западные ветры, подпирая разбухшие воды Невы.
Можно вычеркнуть из памяти не только отдельные времена года, но и целые эпохи, а также государства, но порой мимолетного взгляда чудесных глаз достаточно, чтобы помнить эти глаза всю жизнь, и никакие силы уже не помогут вам избавиться от колдовских чар ударившего по сердцу видения.
Так и у нас в повести: нету зимы, нету ее, лишенной милосердного смысла, оттеснили мы ее, некрасивую, за пределы видимости, но разве избавишься от последнего, выпитого болью, взгляда Ларика, исчезнувшего этой зимой? Собираясь писать об одном, как страстно мы желаем забыть о другом, менее привлекательном. И мы запираем другое в сейф памяти сердечной, стараясь отделаться от него с наименьшими потерями, но другое, как пепел Клааса, стучит в наше сердце, не дает уснуть совести нашей, памяти нашей, любви… И тогда мы пишем совсем о другом.
Тридцать первого декабря Иллариону исполнилось шестнадцать лет. Его родители тесным домашним кружком предполагали посидеть возле елки, поесть вкусного, послушать музыку, почитать стихи. Помимо соучеников Ларик пригласил к себе несколько человек из Дашиного табора, но сама Даша, к тому времени отяжелевшая будущим Платошей, потерявшая, по словам братца Георгия, «прежние параметры», несколько опухшая лицом, особенно губами, выходить на люди стеснялась и потому на день рождения к Ларику не пришла. Она и в Петропавловке временно переменила свою слишком обозримую, актерски откровенную, незащищенную от посторонних глаз работу экскурсовода и целый месяц, перед тем как уйти по настоянию Аполлона в отпуск за свой счет, а затем и в декретный, просидела за толстыми казематными стенами билетной кассы крепости, «обилечивая» нескончаемый ручеек посетителей этого дивного островка петербургской старины.
Отсутствие Даши на дне рождения Ларика, как впоследствии считала сама Даша, в какой-то мере повлияло на развязку этого предновогоднего дня, тогда как другие умы полагали, что причина исчезновения мальчика в его психической неуравновешенности, в той постоянной задумчивости, из которой он временно выходил посредством гневных вспышек, вызванных той или иной жизненной несправедливостью.
Из Дашиных таборян-одуванчиков явились к Ларику, в предвкушении богатых, нестандартных закусок, культивируемых Илларионовыми родителями, бессемейные, а значит, кое-как питавшиеся Тминный и художник Эдуард Потемкин. Заглянул туда же и младший Дашин брат Федя, юноша неяркий, но добрый и достаточно твердо стоявший на ногах.
Отмечать день рождения собрались где-то вскоре после полудня, чтобы дать возможность гостям разойтись пораньше: ведь каждый из них собирался продлить удовольствие праздничное за новогодним столом семьи или, как это планировали Тминный с Потемкиным, в кругу друзей.
Первой зловещей ноткой, прозвучавшей в устах Иллариона за ароматным рыбно-мясным, украшенным бананами столом, был его вопрос, обращенный к родителям:
— А где же Мокеев? Почему Мокеев-то не пришел? Вы что, не пустили Мокеева?!
— Мокеев придет… позднее, — солгала Илларионова мамаша, дабы не коверкать начала торжества, а также в надежде, что все образуется за столом. Научная дама, ранее запретившая «этому Урии» общаться с Лариком, упросила дворничиху не отпускать своего ядовитого сынка в этот вечер ни на шаг от себя, поднесла Мокеевой у себя на кухне стакан водки, сунув в брезентовый карман дворничихи сложенную вчетверо десятку.
Отец Ларика, жизнерадостный Михеев, сдобный телом ученый бодрячок с масленым, вечно праздничным лицом, неунывающий кругляш в обширнейших брюках, без пиджака, в белой рубашке, непрерывно щелкающий подтяжками, оттягивающий импортную резину помочей одновременно двумя большими пальцами и тут же ее отпускающий с хлестким треском, человек, не претерпевший в промежутке от сорока до шестидесяти лет никаких внешних изменений, попытался возжечь собравшихся за столом гостей, надев маску этакого ухаря. Сыпал старомодными прибаутками, хлопал школьных товарищей сына по плечам, а с поэтом Тминным, выпив на брудершафт, смачно расцеловался, подарив Тминному в обмен на рукописную тетрадочку стихов какую-то очередную «работу», изданную типографским способом и потому вызвавшую у поэта отвратительные чувства, в том числе чувство зависти. Подливая время от времени Потемкину в рюмку — настоящего «Наполеона», подбил того на моментальные карандашные рисунки-шаржи и за каждый блокнотный рисуночек заплатил художнику не сходя с места по пяти рублей гонорара, а за действительно комичный и очень узнаваемый шарж на самого себя отвалил целый червонец.
Когда в инкрустированной, арабской работы «стенке» нажали какую-то клавишу потаенную, полилась сразу с четырех сторон света не очень громкая, но удивительно отчетливая, «животрепещущая» музыка. Сама хозяюшка, малость оттаявшая, снисходительно глядя на чудовищный, лавообразный вулканический нос, возникший перед ней, пошла танцевать с художником Потемкиным, временно принимая его за кого-то другого, более значительного, скажем за художника Шишкина или Горюшкина-Сорокопудова.
И все эти жесты родительские, вся эта игра в развеселых людей производилась с единственной целью: растормошить именинника, отвлечь его от мрачных мыслей, навеянных неприходом Мокеева. Ларик сидел настороженный и в то же время — отсутствующий. Он прислушивался не к музыке, а к звукам в прихожей, был явно не в своей тарелке, лепетал что-то в ответ на поздравления одноклассников, среди которых тон задавала бойкая Света, этакий узкобедрый, спортивной формации «свой парень» с неукрощенной бюстгальтером сильной девической грудью, то и дело пытавшейся выпорхнуть из распахнутого настежь проема кофтенки.
Ларик беспрерывно посматривал на часы, к пище не притрагивался; не менее, чем сын, расстроенная, начинавшая вновь «заводиться», мать Ларика подумывала о мнимой правильности предпринятого ею шага с отдалением от сына «этого Урии». И когда Ларик, сорвавшись с места, понесся туда, на первый этаж, где гнездились Мокеевы, ловить сына за рукав не стала. Решила: пусть! Значит, где-то она промахнулась, что-то не до конца осмыслила.
Илларион отсутствовал минут пятнадцать. За столом начали черстветь не только продукты питания, но и настроение собравшихся.
А в это время Ларик «всеми силами души» уговаривал Мокеева подняться к ним в квартиру. Чтобы не разжигать бешенства в рыжем Володьке, Ларик давно уже ходил в обтрепанных брючатах отечественного производства и в грубом, сером, самодельной вязки свитерке, приобретенном на карманные деньги возле общественной уборной у одной сельского обличья женщины. Уговорив в конце концов Мокеева посидеть часик-другой за праздничным столом, Ларик пообещал Володьке лучший галстук из отцовской коллекции, а также деньгами четвертак сегодня же, сразу по приходе на именины.
Мокеев вырядился в новенький черный костюм, который недавно справила ему дворничиха на средства благотворительные, присланные неизвестным лицом. Месяц тому назад на адрес Нюши пришел почтовый перевод на сто двадцать рублей. Там, где на бланке место для письма, кто-то шариковой ручкой нарисовал: «Купите вашему сыну костюм». А затем буква «Л» и закорючка. Нюша, получив деньги, взяла в Гостином дворе костюм за сотню, а на двадцать рублей «замочила» его с товаркой из соседнего домоуправления. Костюм Володьке пришелся впору только отчасти, точнее — наполовину. Пиджак сидел без запиночки, словно по Мокееву шили. А брючата подкачали.
У Михеевых Володька просунул голову в петлю шикарного заморского галстука, черного с витиеватым серебристым шитьем, и стал бледным красавцем с глазами ярко-синими, с ресницами белыми, точно инеем схваченными, лицо в конопушках, столпившихся в основном на бескостном, как бы пластилиновом, обвисшем чуть ли не до самой губы носу. Мокеев был стройный, жердеобразный, плечи стесаны книзу на конус, вершину которого венчала желтая голова с дождеобразной растительностью.
Еще в передней, захлестывая галстук на своей жилистой лебединой шее, Мокеев, поглаживая блестящую, торжественную материю галстука, прошептал:
— Шикарная удавка… Такая не оборвется, хоть троих в нее заправляй.
В сравнении с постоянно казнящим себя за родительский достаток, одетым в обтрепанное, серенькое Лариком нарядный Мокеев выглядел сейчас принцем. За столом вел он себя вызывающе, давая понять приумолкшим одноклассникам, что пришел сюда сам по себе, захотел и пришел, и никого здесь не то чтобы не боится, но и «в упор не видит». И в первую очередь на родителей Ларика ноль внимания.
Старший Михеев напрасно лебезил перед несгибаемым; словно лом проглотившим, пареньком. Володька снисходительно и непременно молча брал из рук профессора предлагаемое и в ответ только резко потряхивал текучими патлами, да и то не в знак благодарности, а как бы возмущаясь терпеливо надоедливой, однако неизбежной мухой.
И лишь хозяйка дома, отнюдь не сломленная, но до поры до времени затаившаяся в своей ненависти к «этому Урии», на рыжего Володьку старалась не смотреть вовсе, а когда существо ее все-таки закипало и, казалось, она вот-вот брызнет на Мокеева словесным кипятком, настороженный, не перестававший страдать Илларион умоляюще посматривал на нее, прося снисхождения, и красивая, хлесткая, суперсовременная мама незаметно выскальзывала из комнаты, из компании, пряча себя на кухне за огромным холодильником, как неразорвавшуюся бомбу…
Если некоторые из одноклассников Ларика, в том числе и разбитная Света, позволяли себе пригубить шампанского, то рыжий Володька к спиртному не притрагивался: должно быть, на мать нагляделся, нанюхался «змия» с пеленочного возраста до отвращения.
Зато поглаголить высокопарно, иронически улыбаясь поверх собеседников, это Мокеев себе позволял.
Самая главная его идефикс состояла в неиссякаемой ненависти ко всему благополучному, устоявшемуся, ко всему размеренному, порядочному, не разлохмаченному, ко всему светлому, покойному, радостному, не изрытому оспинами страданий, ко всему тому, чего не имел сам и в достижении чего основная часть народонаселения планеты проводит всю свою недолгую жизнь. Он ведь не был против благополучия как такового, он отрицал всего лишь благополучие, не принадлежащее ему, чужую радость, посторонний свет и покой, и отрицал-то почему? Потому, что не имел своей радости. Отрицал и при первой возможности переходил в атаку: в классе, в магазине, в трамвае, в гостях. На него обычно не обращали внимания или отсылали подальше вместе с его завистью, желчью, апломбом. Но ведь были и такие, как Ларик, или почти такие, становившиеся жертвами его тирании.
Подойдя к журнальному столику, расположенному меж двух непременных кресел возле окон гостиной, Володька небрежно ткнул пальцем в кнопку шикарного магнитофона-приемника японского происхождения, два часа тому назад подаренного родителями Иллариону. Серо-черный, матово-манящий корпус «машины» посверкивал клавишами, колесиками, кнопками и фирменными бирками. Даже пахло от аппарата необыкновенно привлекательно, какими-то химическими составами, еще не выветрившимися и очень внушительными, основательными.
Возле магнитофона, как братья меньшие возле Человека, лежали подарки рангом поменьше: французский одеколон «Единственному мужчине», двухтомник Марины Цветаевой, металлический, стального блеска бюстик Маяковского, расчесанного и в металле на знаменитый «стоячий» прямой пробор, электронные часы «Кварц» и цветы, цветы, цветы. Три огромные хрустальные вазы с цветами.
— Это все тебе? — Мокеев надавил еще одну кнопку в магнитофоне, и в комнату, как штормовой ветер, ворвалась современная западная музыка. — Для чего выставил-то? Меня, что ли, позлить?!
— Это, это они! — быстро-быстро зашептал Ларик, как бы с собой разговаривая, не заботясь, услышит его Володька или нет. — Это все мамочка с папочкой. Это они меня так любят. Это они меня так… обожают смертельно!
— Чего шепчешь-то, как ненормальный? На-ка вот, держи! — протянул Мокеев прозрачный полиэтиленовый мешочек с чем-то увесистым. — Подарок от меня. Под названием Булыжник обыкновенный. При помощи которого на баррикадах сражались.
Ларик с воскресшей улыбкой принял «подарок», и тут Володька выключил магнитофон.
— Небось тысчонки полторы отдано за японца-то? Год питаться можно. Целой семьей.
— Если хочешь, возьми его себе, — просительно улыбнулся Мокееву Илларион.
— А я и возьму. У меня не заржавеет. Нас чему обучают? Сам погибай, а товарища выручай. Вот я тебя и выручу малость. Избавлю от угрызений…
Собравшиеся, в том числе и отец Ларика (мать заваривала на кухне чай), весь этот малоприятный разговор о подарках воспринимали как треп. И не оттого ли концовка вечера для многих явилась не столько тягостной, сколько неожиданной.
Провожая гостей, Ларик вышел вместе с ними во двор, на воздухе. В руках его приглушенно поскуливал и постанывал малогабаритный «японец». Во дворе во время курения сигарет на ветру и перебрасывания остатними расстанными словами Илларион, как это было воспринято всеми, попытался удивить общество своими барскими жестами, восстановив против себя, по крайней мере до следующего утра, большинство из приглашенных на торжество. Он еще раз, и наверняка всерьез, протянул магнитофон Володьке, и, когда тот презрительно усмехнулся, поворачиваясь идти, Ларик заплакал, вначале беззвучно, а затем все отчетливее, шумнее, с блеском во влажных глазах и мертвенным побледнением кожи лица.
— Ну, возьми, пожалуйста. Ну, что тебе стоит выручить меня? Я ведь его разобью сейчас все равно… Об асфальт!
— Разобьешь? — остановился, оборачиваясь, Мокеев. — А ну-ка, дай сюда. Нализались, братики молочные…
Он подошел, резко, обеими руками за блестящую ручку ящика ухватился и, когда Илларион отдал «японца», намеренно отстранился… Магнитофон свободно полетел на асфальт. Расстояние, правда, было всего ничего: с метр. И все же удар получился звонким и плотным, увесистым. Что-то треснуло, хрустнуло, и, казалось, дорогая вещь неминуемо должна была развалиться. Но подбежавшая к магнитофону Светка нажала кнопку радиоприемника, и неугомонный «японец» заговорил. Она нашла музыку, прибавила громкости, и в колодце двора закипели прозрачные, как ключевая вода, звуки!
— Берешь?! — опять высоко приподнял живучего «мага» Ларик. — Или…
— Не смей! — словно защищаясь от побоев, заслонила Света ладонью глаза, а другую руку к замахнувшемуся Иллариону протянула.
Плоская коробка магнитофона продолжала выплескивать из себя бездумную, верткую, мускулистую, как тело дикого зверя, музыку. В серой, но достаточно беспросветной тьме двора, лишенного в этом году снежных сугробов и даже той с ног валящей ледяной корочки на асфальте, истаивали последние влажные часы уходящего в память людскую старого года.
— Ладно уж, — смилостивился заскучавший как бы Мокеев, нарочито небрежно, словно яблоко с дачной ветки, снимая магнитофон с дрожащей руки Ларика. — Успокойся, старик, остынь… Людей не пугай. И не смеши. Добрый я сегодня. Пожалуй, все-таки заберу машинку твою. Вот только куда мне ее сунуть? У нас помещение, сам знаешь, не ахти.
Мокеев убрал звук в магнитофоне и, покряхтывая, словно ведро с водой нес, направился в парадное к своей двери.
Илларион возвращаться домой не торопился.
Он проводил ребят до автобусной остановки, купил им на Невском мороженое у одинокой зазябшей старушки, начал вдруг совать деньги, предлагая всем разъехаться на такси. Потом неловко и беспорядочно, словно перед самым отходом поезда, на котором уезжал куда-то далеко-далеко, стал одаривать ребят кого заморской шариковой ручкой с вмонтированными в нее электронными часами и календариком, кого записной книжечкой в серебряном футляре, кого ножичком перочинным с выстреливающимся из рукоятки лезвием, а Светке вложил в руку маленький газовый пистолет, привезенный родителями из заграничной командировки.
Когда в карманах не осталось ничего, Ларик беспомощно посмотрел вокруг, затем куда-то на небо, где за холодным синюшным слоем света уличных фонарей угадывались не веселые, но и не грустные в каком-то своем, внеземном состоянии пребывавшие звезды.
Гости, не уловив во взгляде Иллариона ничего сверх-обычного, начали прощаться друг с другом и, кто усмехнувшись, кто плечами пожав, покинули его, оставшегося на суматошном, пропитанном посторонним смехом и разгоряченными улыбками, праздничном тротуаре.
Домой Ларик возвратился без четверти двенадцать, когда большинство людей здешнего часового пояса изготавливались к встрече Нового года, провожая год минувший кто вздохом, кто улыбкой, чем бог послал.
Домашние Иллариона, изрядно взвинченные затяжным отсутствием сына, встретили его излишне бесстрастно, словно и не волновались. Размеренно, как-то даже деловито суетились вокруг новогоднего стола, словно и не отмечали несколько часов тому назад шестнадцатилетия своего единственного мальчика.
За столом, перед тем как родитель попросил поднять фужеры с шампанским, Ларик подошел к их маленькой «кабинетной» елке и осторожно положил к ногам низкорослого деда-мороза Володькин символический камушек.
И вдруг, в момент, когда на цветном экране телевизора заговорили главные часы страны, отбивая двенадцать торжественных ударов, Илларионова мать тревожно заозиралась вокруг, ища глазами магнитофон, и, не найдя дорогого подарка, поинтересовалась:
— Ты что же… забыл его у этих? Магнитофон свой? Там на него утюги будут ставить…
И здесь, предчувствуя неизбежность неприятного объяснения, предчувствуя боль, которую он неминуемо матери причинит, Ларик проворно и даже как-то изящно выскочил из-за стола и, накинув в передней кожаную курточку, сорвав с крючка вешалки шапку, исчез из дому.
И теперь уж надолго. А точнее — навсегда.
Противоречить самому себе, поступать вразрез данному слову почему-то не принято, даже если это самое данное слово ошибочно и пущено в оборот из легкомысленных побуждений. А ведь разумно противоречить себе время от времени просто необходимо, иначе в сознании произойдет застой, душа не пойдет в рост и неизбежно завянет при живой и даже цветущей телесной оболочке. Жизнь постоянно корректирует наши помыслы, «вправляет» нам, извиняюсь, мозги, за что ей спасибо.
Я это к чему? Единственно, из оправдания собственных несоответствий, в частности, некоторых зигзагов темы повествования, а также вибрации его сюжетной линии. Собираясь полностью исключить из повести холодное, невеселое время года и даже заявив об этом во всеуслышание, продолжаю пребывать в нем, будто в сугробе увязнув, ибо самые резкие, а значит, и яркие, но, стало быть, и самые печальные события в нашем рассказе произошли именно зимой, и прожить в отсутствие их, то есть в отсутствие неизбежного, хотя и нежелательного, никому не удастся, даже писателю в его зачастую иллюзорном, полуфантастическом мире.
Зима, которую мы решили подвергнуть остракизму, исчезновением Ларика не ограничилась, и теперь, чтобы не слишком утомлять читателю глаза, я лишь бегло перечислю те потрясшие мирок повести микрокатаклизмы, происшедшие за гранью светлого времени года, во власть которого целиком и полностью отдана наша мысль и наши образы…
Начнем по порядку. Хотя бы с того самого Эдика, которого Даша некогда возле Петропавловской крепости избитым подобрала. Зимой геолога обнаружили в парнике среди огуречной рассады. Сидел он на продавленной гитаре, как на пеньке, и очень громко смеялся. Черты лица его изменились до неузнаваемости, весь он как бы изнутри раздулся — наподобие шарика воздушного. Когда его малость успокоили, то на вопрос местного начальства парникового — кто он? — геолог ответил, что он, дескать, гитарист Орехов, лауреат колхозной премии и только что вернулся с гастролей по Командорским островам.
Зима не пощадила и великолепного, полного сил и наивной энергии Стаса, штурмана дальних авиарейсов, возвратившегося однажды к себе домой и нашедшего на обеденном столе придавленное порожней бутылкой из-под шампанского, разрисованное винными пятнами послание от жены Инги, в котором она торопливо отказывалась от замужества, оправдывая свой уход от Стаса отсутствием у последнего какой-то там «изюминки», а также «искорки».
«Для меня ты слишком хорош, слишком правилен. Не человек — рекомендательное письмо. А мне нужен бес! С дремучей душой! Пусть негодяй, но загадочный… Непрозрачный. Непроходимый. Которого я непременно боялась бы и одновременно жалела! Сквозь которого продиралась бы… Пусть — душа в клочья! А ты, Стасик, утомил меня, дорогой… Ну, утомил! Прости. Лучше расстанемся. Повода не было прежде, иначе давно бы уже… А теперь повод: я тебя с женщиной повстречала. Прошлым летом. Возле квартиры Пушкина. Вот и спасибо. Потому что я за себя рада и за тебя спокойна. Сдается мне, что женщина эта как раз по тебе: слишком прозрачна, вся ее начинка просматривается через глаза. Никаких тайн, никакой сумятицы. И мне помогли: кинулась я следить за ней, когда ты в Италию летал, и на удивительного человека наскочила! По фамилии Шишигин. Просто — ну как бы себя встретила… Сон свой несбыточный руками ухватила. И теперь уж не упущу. Прощай, Стасик. Мне тебя не жаль. Ты сильный. Правда, глазастенькая твоя на два фронта работает. С одним красавчиком приторным повстречала я ее. Так что будь осмотрительнее. Тебе очертя голову — нельзя… Это для меня такой прием: не глядя по сторонам — в бездну с открытыми глазами. (Слово „глазами“ перечеркнуто и вместо него нацарапано слово „сердцем“.) А ты летай по воздуху в свои капстраны. А я буду летать по Небу своей мечты. Ощущаешь разницу? И просьба: не скандаль в связи с этим. Иначе испорчу тебе анкету и станешь ты летать над родными колхозными полями, посыпая их навозом или чем там еще… Разводиться с тобой не собираюсь (пока Шишигина к союзу не склони?). Придет такая нужда — дам знать. Жилище твое покидаю без претензий, так как жить буду с „милым“, у которого в шалаше, то ость в „дупле“, — тот самый знаменитый „рай“.
С приветом — Инга».От пострадавшего, как бы внезапно поскользнувшегося, но устоявшего на ногах Станислава можно было бы незамедлительно к следующей «зимней» жертве перейти, продолжив сколь печальный, столь и забавный список потерпевших, но промелькнувшая в письме Инги фамилия Шишигина подбивает нас прежде всего к разговору о философе, тем более что все эти три судьбы в последнее время как бы объединились в одно целое: Стас, Инга, Шишигин — а значит, повествуя о двоих, так или иначе упрешься в третьего.
С Шишигиным Игнатием этой зимой произошло неприятное событие: его приняли за ненормального. В полупустом зимнем вагоне трамвая, не обращаясь, собственно, ни к кому в отдельности, начал он довольно громко развивать свою теорию «дуплизма», призывая граждан уходить в себя, отказываясь от всего суетного. Кто-то, естественно, возразил, не разделяя доктрины дуплиста, посоветовав философу закрыть «курятник». Шишигин с трамвая сошел обиженный. И тут же, как говорится, полез в бутылку. В ближайшей пивной принял «ерша» на троих. Руками стал размахивать, бородой своей неприятной о «третьего» тереться. В результате — скандал. Собутыльники разбежались, а философа в отделение пригласили, а там и в вытрезвитель. На учет к наркологу поставили. Обязав не менее двух раз в год на обследование отмечаться приходить. А кто виноват? Сам виноват. Тайком от сопровождавшего тогда Шишигина дружинника, пока его от пивной в милицию вели, сбросил он обувь с ног, оставшись в носках, и так шел по мокрому декабрьскому снегу. Сопровождающий вначале внимания не обратил на эту Шишигина выходку, а когда обратил, было уже поздно: обувь задержанного осталась где-то в вечерних извивах проходных дворов Петроградской стороны. Шишигин обувь с ног не случайно сковырнул, так как вместо прежней, разношенной и, можно сказать, дырявой и дурно пахнущей пары ботинок надеялся получить нечто серьезное, пусть казенное, однако прочное, основательное, такое, в чем регулировщики на морозе по нескольку часов подряд за милую душу простаивают. Однако мечты Шишигина не сбылись: ему выделили огромные резиновые сапоги-бахилы, да и то ненадолго, в которых и доставили в медвытрезвитель. А там — душ, клеймение ног чернилами, чистая постель и сладкий сон нагишом, как в далеком детстве.
Еще один одуванчик (или подснежник?) из списка пострадавших в зимнее время, то есть в период, отсутствующий в нашем повествовании, — Эдик-второй, или художник Потемкин, обладатель выдающегося носа и не менее выдающегося живописного дара, обремененный слабостью придавать далеким, давно отшумевшим историческим лицам выражения лиц современных. Собственно, пострадал он, если так можно выразиться, чисто символически, ибо пострадавшим себя не счел, оставшись при своем мнении, а также интересах.
Пострадавшим предстал он в глазах своих друзей, благожелателей и благоволителей, и прежде всего в глазах Даши, которая, желая утвердить искусство Потемкина в глазах общественности, сосватала его с очень влиятельным старичком Поцелуевым, способным производить определенные сдвиги в той или иной менее влиятельной, чем его собственная, художественной судьбе. У Потемкина под наблюдением академика был произведен тщательный отбор работ с «дальнобойным» прицелом: кому-то эти работы показать, кого-то в чем-то убедить, всколыхнуть в ком-то эмоции или хотя бы произвести задумчивость, а то и наметить оттенок некой заинтересованности. И все для того, чтобы приобщить Потемкина к профессиональному братству, объединившемуся в Союзе художников. Две небольшие выставки (одна в рабочем клубе, другая в Союзе журналистов) прошли у него с негромким, но основательным успехом, за портретистом признали «свою манеру», «свой глаз» и еще что-то свое, как будто все остальное взял он на прокат в соответствующем пункте.
И вот предстояло теперь Потемкину выставиться непосредственно в Союзе художников, в тесноватом, не главном, однако уютном зальце. Работы были отобраны так, что гарантировали если не сам успех, то, во всяком случае, факт выставки, отобраны «с учетом и во избежание» возможного раздражения «ведущих мастеров жанра». Несколько ранних портретов без обозначения, кто именно на данном полотне изображен, в том числе и портрет Даши. «Исторических» портретов, своими чертами напоминающих современных общественных деятелей, а также популярных актеров кино и телевидения, решено было ни в коем случае не выставлять, ибо прием подобный, по мнению академика Поцелуева, не что иное, как хулиганство, если не юродство.
Но, как говорится, кому на роду написано согнувшись ходить, того только могила выпрямить может, да и то неизвестно, сможет ли? Кто проверял? Накануне злополучного утра, когда Потемкину выставляться предстояло, художник почти всю ночь провел в казенном помещении, самостоятельно развешивая картины, тасуя их, меняя местами, ловя эффект освещения, подстраховывая лишним гвоздем крепления бечевок в рамах и подрамниках. Словом, нервничал, необычно суетился, разослал по стране ряд истошных телеграмм, не забыл попугать администратора применением крайних мер, вплоть до выстрела из берданки, естественно в себя, и даже запамятовал временно про свой неотвязно досаждающий, как бы живущий отдельно от лица нос, разбухший как на дрожжах и постоянно претерпевающий незначительные изменения.
Примерно в час ночи измаявшийся художник, насыщенный сомнениями, пришел к выводу, что подбор полотен к эксплуатации несколько односторонен и не отражает объема авторской сути. Позвонив на окраину города в обитель, то есть в башню, еще не полностью погруженную в предстоящую ночь, Потемкин извинился и попросил подошедшего к телефону муравья-монументалиста Фиолетова подняться в его, Потемкина, келью, дабы подозвать оттуда к аппарату Герасима Тминного, буде он там живой окажется. К счастью, а может, к полному отсутствию такового, Тминный ночевал в безногом кресле абсолютно живой, свернувшись эмбрионом и таким преспокойным образом дожидаясь своего друга. Потемкин Христом-богом упросил Геру взять определенную связку работ художника, обмотанную зеленым проводом, бежать с нею на стоянку такси, за расходы не беспокоиться.
А сизым, тусклым, как бы еще непроснувшимся декабрьским утром, когда первые посетители выставки, а именно — уборщица и старичок вахтер, дремавший в определенном закутке, неторопливо прошлись через зал, где выставился Потемкин, в воздухе, помимо аромата красок, олифы и еще чего-то сугубо казенного, запахло сенсацией. На свой страх и риск добавил Потемкин несколько «синтезированных» портретов, рассовав их по темным углам зальца, и оттого проступавших из основной толпы работ еще более неожиданно, если не вызывающе. Портрет протопопа Аввакума с лицом, похожим на комического киноактера, затем Петр Великий, изображенный в полный рост, в малинового отлива галифе. Пожалуй, только портрет Даши, написанный совсем недавно и весьма пронзительно действовавший на зрителя бездонностью изображенных глаз, этот бесспорный шедевр, никого, кроме модели, не напоминавший (если не считать прародительницы Евы), ничего предосудительного в эмоциях зрителя не вызывал. Но даже этот портрет исполнен был в такой странной выпукло-откровенной манере, что, глядя на него, начинаешь незамедлительно ощущать весьма определенное волнение в крови. Потемкин изобразил Дашу, словно вырезанную из кости или драгоценного камня, словно увеличенный во много раз барельефчик камеи перенес на полотно. И только. Всего лишь одна голова женщины, да шея, да самая верхушка бюста, но было это все таким теплым, плотским цветом подано, что первой мыслью при взгляде на портрет была мысль: а что дальше? За гранью портрета? И мгновенное ощущение: перед вами обнаженная. И все же, несмотря на отсутствие посторонних атрибутов, художник и здесь остался верен идее синтеза, обозвав Дашу легендарным, если не мифическим именем: под портретом значилось «Лилит». Там же, в углу зальца, только на другой стене, образующей этот угол, — портрет старинного авантюриста с лицом, как две капли похожим на лицо известного ныне поэта Пречистенского. На лбу бородавка. На щеке — другая. И все бы ничего: подумаешь, сходство! Ну, забавляется малый, резвится таким образом, себя ищет. Подвел Потемкина портрет одного стародавнего царского вельможи, синтезированного на полотне с обличьем влиятельного в художнических кругах академика живописи, с конца тридцатых годов ничего не писавшего, но в приемной комиссии игравшего определенную, весьма ощутительную роль.
В итоге кандидатура Потемкина с обсуждения была временно снята, а вторично подавать документы Потемкин расхотел. Забравшись после приемных треволнений в безногое кресло обители, Потемкин почувствовал себя вновь счастливым: слава богу, все позади, а главное, остался самим собой, хотя и с носом, зато с каким! Неповторимым!
Зарабатывать на жизнь ему стало чуть легче, так как добрые, сильные ребята, «муравьи» с нижних этажей башни, узнав о фиаско художника с приемом в Союз, стали регулярно подкидывать Потемкину заказик-другой.
Последний свой визит к Потемкину Даша нанесла, зимой.
Потемкин, заметно отощавший, вставленный в какие-то брезентовые негнущиеся штаны, держался возле окна, глядя на нечто на мольберте. Лицо Эдуарда, после недавно сбритой бороды, вновь поросло колючей растительностью, как скошенное поле травой-отавой. На щеках под скулами наметились морщинистые впадины, бугорчатый пористый нос набрякнул и набухнул до такой уродливой степени, что казался мертворожденным камнем, будто все мыслимые и немыслимые соли, кремни, глины организма сконцентрировались в нем.
Потемкин писал автопортрет. И получалось, что смотрел он опять, как в тот давнишний Дашин к нему приход, не куда-нибудь, а все в то же зеркало, не переставая исследовать свою персону и как бы со все возрастающим удивлением поражаясь увиденным. Зеркало, в которое смотрелся нынче Потемкин, отражало его незаурядную личность в несколько искаженном варианте. Потемкин воспроизвел себя в «идеальном» состоянии. Нет, он не омолодился на портрете и даже не облагородил некоторые черты, он нарисовал себя таким, каким хотел видеть в жизни, а именно — удовлетворенным. Не успокоенным раз и навсегда, но ублаготворенным. Процессом бытия. То есть не свершившимся, а свершаемым. Лицо его на полотне, израненное временем, искаженное непогодами и всевозможными подкожными реакциями, несло на себе печать победы! Достаточно было бегло взглянуть на изображаемый, лик, чтобы сразу и уяснить: ого, а ведь человек-то сей непременно чего-то достиг! Что-то этакое наверняка совершил. Его разум, отразившийся в едва сквозящей улыбке глаз, имеет право гордиться собой, а вся конструкция души, воссоздаваемая красками, пропитана токами, соками, а также веяниями добра, умащена милостью и удобрена снисхождениями. Короче говоря, Потемкин рисовал мечту. Спешил довершить на мольберте то, чего уже не чаял успеть внутри себя самого.
— Эдик, родненький! Как я рада, что ты работаешь. Но, по-моему, ты перестарался, — сказала ему Даша. — Это, прости меня, сказка…
— Ошибаешься, искусствоведка, — ответил Потемкин. — Это прощание с собой. Прежним. Я закрываю лавочку. Беру себе псевдоним Светозаров и начинаю новую жизнь. Разумеется, в живописи. Новую полосу. Буду творить. Как ты говоришь, сказку творить, потому что людей необходимо приучать к сказке, и тогда они, перестав дичиться ее, будут жить с ней в ладу и сами сделаются красивее, сказочнее. В этом заключена созидательная миссия, как сказал бы поэт… Кстати, о Тминном. Мне передали, что он вторично попытался совершить полет Икара, на этот раз с малоизвестной сельской колокольни на каком-то заросшем дремучей растительностью кладбище Новгородской области.
С закадычным дружком Потемкина Герасимом Тминным этой же зимой, только уже в новом году, в январе месяце случилось непонятное: горе к нему пришло… от счастья. Если Потемкина куда-то там не приняли, то он и успокоился сразу, во всяком случае, хуже ему не стало. С Тминным же все несколько иначе содеялось. Все знали, что Геру вот-вот напечатают, издадут его стихи отдельной книжечкой. Все настолько привыкли к этому утомительному ожиданию Гериной книги, что как бы и не ждали уже ее, словно эта самая книга за время ожидания ее гражданами устарела, обесценилась еще до своего рождения, и что говорить о ней, а тем более ожидать ее — дело бесполезное, как если бы граждане безо всякого на то основания принялись поджидать какой-нибудь свершившийся факт, скажем прошлогодний снег.
И вот тут-то вдруг у Герасима Тминного, у сего типичного представителя «неудачников (читай: одуванчиков) великолепных» в январе месяце, зимой, когда поощрители его таланта думали уже, скорей всего, о другом, как тарелочка летающая, инопланетная появляется в свет книга стихов «Брусничная вода». Появляется и… тут же исчезает, словно и не было ее никогда. И ее ожиданий бесконечных тоже. Произошла в итоге печаль там, где должно было произойти веселие, а также сенсация. Стихи прочли до половины, а кое-кто и на первой странице загрустил. Все, все без исключения, кто знал Тминного — прежним, «докнижиым», привыкли знать его в другом ореоле и по другим, более разнузданным и как бы нелепым стихам, а на страницах «Брусничной воды» зарифмованная пища подавалась как бы уже изжеванной. Этакие бульонные кубики о березках, полянках, рыбалках, грибной поре, о столбовых и проселочных дорогах и других атрибутах географии, этнографии, биологии, а также ботаники, приправленные вялыми позывами и призывами делать добро, идти только вперед, смело смотря в будущее и не отвлекаясь на несущественные пустяки, на всевозможные бытовизмы, прозаизмы и прочие «имажинизмы» и вдохновизмы, из чего, собственно, и прядется поэтическая ткань стиха подлинного, а не синтетического.
В Тминном мгновенно разочаровались. Гора, по мнению большинства, родила мышь. Забыли «Брусничную воду», забыли самого Тминного, словно и не было его вовсе. А где-то весной, по прошествии, то бишь истаивании неугодного нам времени года, исчез и сам автор «Брусничной воды», словно истек вместе с этой водой в неизвестном направлении, ибо даже деловитые, но щедрые на ласку «муравьи» из башни искусств потеряли его из виду, так и не успев нарисовать с него портрет Карлсона, который живет на крыше.
Этой же зимой умерла мать рыжего Володьки — Нюша Мокеева. «Сгорела», как говорили о ней впоследствии скамеечные бабушки, вышедшие с весной на солнышко, чтобы обсудить происшедшее за зиму. Володька Мокеев продолжал существовать как ни в чем не бывало, потому что жил и прежде, не беря мать в расчет, и теперь, после ее исчезновения, даже как бы вздохнул облегченно. Весной перешел он в десятый класс и серьезно подумывал о философском факультете университета. Ему помогали, и прежде всего Шишигин — советами определенного свойства и направленности. Оба рыжие, оба вздорные. Старушки даже поговаривали о потаенном отцовстве Шишигина применительно к Мокееву, но это была уже сказочка. Время от времени на имя Володьки продолжали поступать денежные переводы за подписью «Л» и — поросячий хвостик, закорючка. Помогали ему, как ни странно, и родители Ларика: одеждой, обувью, консервами.
И еще одно «зимнее» исчезновение. В таборе на традиционные игры в «философическое» лото перестал приходить непременный его участник Лахно.
И вообще, кто он — этот Лахно? Знали о нем крайне немного. Да и то с чисто внешней стороны. Понятно, что военная косточка, да, в свое время командовал каким-то количеством людей, среди которых рядовым, а затем старшиной роты состоял и Дашин отец Афанасий Кузьмич; да, угрюмый он, этот Лахно, неразговорчивый, как бы сдавший дела и отошедший в сторону покурить, но без иронической ухмылки отошедший, а так, по-военному, в приказном порядке, беспрекословно. Что еще? Бессемейный, одинокий. Молодая жена Лахно попала под трамвай еще на заре их брачного союза. Стало быть, в сердце Лахно имелась тщательно маскируемая, словно в бутылку запечатанная и в море брошенная тайна, трагедия, берущая свое начало в довоенных годах. А что еще? Какие истины исповедовал? Чему поклонялся? Никого эти вопросы в отношении Лахно не интересовали. Был он добрым, молчаливым человеком. Несколько неуклюжий на паркете. И всех этих сведений о нем хватало за глаза. Знали, правда, и кое-какие прозаические нюансы из его биографии: выйдя в отставку, собирался он якобы купить дачу и заняться разведением пчел, но вдруг, отыскав однополчанина, то есть фонарщика, крепко к нему привязался, молчаливо полюбил семью Афанасия Кузьмича, и душа генерала как бы целиком переселилась в этот мирок, насыщенный любовью и мыслями добрыми, а это уже кое-что, а не что-то… Конечно же, и в этом мирке имелись свои «диавольские» струи в жизнетечении — скажем, скрежет зубовный, исходивший от Дашиного братца Георгия, от его самоутверждения, — но все эти шумовые эффекты ни в коей мере не могли повлиять на душевную улыбку Лахно, которую он прятал под генеральской оболочкой и которой неимоверно стеснялся, словно юношеской татуировки на своем старческом теле. Было ему уже никак не меньше семидесяти лет, но крепок и строен, хотя и громоздок несколько, оставался до последних мгновений. Играть в лото перестал ходить в конце зимы, когда в судьбе Даши назрели глобальные перемены и пора ее неизбежного материнства приблизилась. А вскоре после исчезновения Лахно на Дашино имя поступили солидные денежки, помеченные все той же таинственной буквой «Л».
Глава девятая. Усекновение мечты
Мокрая сирень. Грозди ароматные, пышные, почти съедобные на вид, только что принесенные из-под дождя и поставленные в вазу Дашиной дачной комнатушки. Приходит вздорная мысль: «А не сварить ли сиреневое варенье? Наверняка будет вкусно, а главное — красиво».
Вечером Даша накроет на стол на веранде. С настоящим угольным самоваром чай у них будет на столе. С дымком и утробным самоварным пением-сопением. В розетках варенье необычного цвета. Аполлон скажет: «Какое странное варенье». А Даша ему ответит: «Весеннее. Сиреневое. Из роз — летнее. А это весеннее. Специально для не очень серьезных композиторов».
Где-то снаружи, в залихватских, мускулистых небесах погромыхивал гром, набегали скоростные, подгоняемые высотным воздушным потоком тучи, словно из пульверизатора посыпавшие дачный сад, крышу островерхого дома, умытые, набрякшие по концам ветвей молодыми побегами сосны, окружавшие дом, темно-зеленым гривастым караваном уходившие вдоль берега залива и прятавшие под своей ароматной сенью целые дачные поселки.
За стеной Дашиной комнаты, а точнее за матерчатой занавеской, заменявшей дверь в перегородке, послышалось старческое покряхтывание, нашпигованное искрами смеха, переходящего в деловое гугнивое бормотание. Это проснулся Платоша, Дашин сынок, мальчонка весьма забавный, которого Даша наблюдала еще в девических снах много лет подряд, к которому давно привыкла заочно и повадки которого предсказала заранее.
Даша поспешила в детскую. Платоша сидел за решеткой кровати-качалки и сам себя полегоньку, вместе с клеткой своей, раскачивал плавными движениями крохотного тельца. Правда, тельце его, если внимательно к нему приглядеться, было в сравнении с другими подобными тельцами не такое уж и крошечное; большинство существ в возрасте теперешнего Платоши (на третьем месяце жизни) в лежку лежат, запеленутые мамашами в кокон, а этот уже сидит, раскачивается и розовыми мизерными пальчиками время от времени кукиш людям, его наблюдающим, показывает. Недавно приезжал с поздравлениями Шишигин (Инга в дом почему-то не пошла, поджидала дуплиста на берегу залива, раздевшись до положения загорающей дачницы), так на Шишигина этот проказник Платоша самым натуральным образом взял да и плюнул! Прямо на рыжую бороду философа. Пришлось Игнашке деланно улыбнуться и бороду свою бумажной салфеткой обтереть.
Родных и знакомых Даша уверяла, что Платоша как бы даже разговаривает уже. Какие-то там одной ей понятные слова произносит. Но пока что эти слова якобы не из привычного нам словарного запаса, а как бы совсем из другого ряда, но что язык этот Платошин, хотя и не русского будто бы происхождения, однако земного, и он ей понятен, потому что она ему кто — мать, и оба они плоть от плоти, мысль от мысли. И, действительно, паренек голубоглазый, ангелочек розовощекий что-то там такое издавал, в смысле звуков нечленораздельных, хотя и весьма отчетливых. Последние две недели, обращаясь к матери, завидев ее перед собой, Платоша неизменно одно и то же кудрявое словечко изрекал: «Дарадуша!» И тут же пальчиком пухлым возле своего пушистого височка вращать начинал, как бы почесывая мягкий височек и одновременно голубым, как бы только что нарисованным, непросохшим еще глазом подмигивал.
Проголодавшись, Платоша, как и положено детям его возраста, начинал подавать голос, но отнюдь не плакал, а как бы ругался, бубнил, бормотал глухо журчащим, нутряным голоском и неизменно произносил другое (от «Дарадуша») слово: «Дурадаша!» Чем разительно напоминал говорящего попугая или скворца, вообще птицу.
Теперь о даче. Где-то сразу после войны Аполлона Рыбкина подобрали подброшенным на крыльцо одной из лучших дач Карельского перешейка, принадлежавшей некогда известному песенному композитору Анатолию Рыбкину. Правда, подбросили Аполлона композитору не в грудном, молочном состоянии, не в одеяльце, не в свертке с трогательными кружевами вокруг младенческой головки, как это принято в святочных рассказах преподносить, а чуть ли уже не в школьной форме, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту. Вместе а кляпом торчала свернутая в трубочку записка, документ, типа акта или накладной, написанный печатными буквами и вкратце излагавший биографию будущего автора песенки «Стара Адель моя, стара». Всего вероятнее, пятилетний Аполлон являлся плодом любви, не оформленной официально, не зарегистрированной в виде законного брака. Отсюда и все несообразности. За «лица необщее выраженье» необходимо расплачиваться. И прежде всего — сиротством. Буквальным или же символическим, скажем духовным сиротством, не менее тягостным, нежели сиротство элементарное, обставленное государственными благотворительными заведениями.
Солидный песенный композитор, кстати бездетный (знали, кому подбрасывать!), круглый год безвыездно отдыхающий у себя на даче, черноглазого подброска ногой с крыльца, как котенка приблудного, не отшвырнул, более того, с помощью домработницы нагрел в ванной комнате воды, как следует мальчика вымыл, продезинфицировал тройным одеколоном и положил, душистого, на чистое белье в своем кабинете на старый, покойный диван, нежно позванивавший дореволюционными пружинами. В ближайшем промтоварном магазине приобрела домработница необходимые носильные вещи для спящего сном праведника нежданчика, и стал бездетный композитор сперва негласно, а затем, спустя пару лет, и вполне законным образом воспитывать приемыша в духе времени, а также в музыкальном духе.
Может, и не расщедрился бы в такой изрядной мере композитор, тогда уже пожилой и довольно-таки скучный человек, не случись сразу после отмытия Аполлоши события, повлекшего за собой полнейшее изумление хозяина дачи. Сиротка (а в сопроводительном «реестре» помимо всего значилось, что «данное дитя есть круглый сирота армянского происхождения, имени-фамилии не имеет, обладает музыкальными способностями, знает несколько слов на русском языке, привезен сюда из глухой сибирской тайги»), когда он, отмытый и едва пришедший в себя после сна, шагнул в чем мать родила с поющего, органом грянувшего дивана, то не жрать первым делом попросил, а прямиком, сверкая босыми розовыми пятками, к ослепительно белым клавишам рояля последовал. С трудом, но как-то привычно забрался на вращающийся табурет и довольно бойко заиграл нехитрую пьеску Чайковского «Мой Лизочек так уж мал». Старый холостяк, подкарауливавший пробуждение подкидыша, вместе с домработницей стоял в дверях кабинета и широко открытыми глазами, ртом и ушами внимал, ловя происходящее, словно недостающий организму воздух. И все бы ничего (мало ли чудес на свете?), но когда после классического опуса приблудный музыкант старательно, хотя и несколько примитивно наиграл, как бы пунктиром обозначил, известную тогда песенку хозяина дачи «Полюбил ее, каналью», — сердце одинокого сочинителя дрогнуло. И судьба юного обладателя музыкальных способностей была решена. Усыновленный стариком, получил он, помимо фамилии Рыбкин, великолепное имя Аполлон, а в придачу все права наследника.
Рыбкин-старший умер лет десять тому назад под аккомпанемент собственного рояля, на котором Рыбкин-младший сочинял тогда «Судорогу познания», ту самую, ультрасовременную и архисерьезную, эмоционально-интеллектуальную вещь из допесенного периода Аполлонова творчества, которую он в Дашином таборе выдал за свое новейшее сочинение…
Явись Дашина душа миру в заурядном варианте, можно было бы и точку в рассказе о ней ставить: все у нее хорошо сделалось, все в удобоваримое состояние пришло. Муж, дите, дача, машина под окном, та самая, что, заброшенная, ржавела на стоянке Васильевского острова, а теперь, подлатанная, подкрашенная, всем своим видом так и подбивала на быстробегущую, бездумную жизнь. Многие так и живут, благодарные судьбе за свершившееся, прежде лишь в мечтах намечавшееся. Живут, прощая себе и своим близким ошибки, просчеты, усталость чувств и вялость духовную. Но Даша! Этот подснежник великолепный, необыкновенный, разве могла она смириться, пристроившись к обману, притулившись к праху надежд?
Случился обман. И не столько супружеский, сколько обман упований, веры, чаяний, обрыв нерва, связующего обоих, перелом столба позвоночного, на котором вся их конструкция любовная, трепетная держалась. Крах чтимого кумира ударил по Дашиному сердцу беспощадно. Тщетность приносимой жертвы оскорбила и попутно в панику ввергла. Но сама Даша с иссяканием ореола над ее кумиром не иссякла. Так что и последний сюжетный зигзаг в нашем рассказе, необходимый нам по ряду причин, на самом деле далеко не последний. И за пределами нашей повести Даше предстоит еще долго жить. Может, всегда.
Из событий, свершившихся в тусклое, пронизывающее ознобом зимнее время, самое грустное и самое, пожалуй, непоправимое событие произошло с самим Аполлоном Рыбкиным.
«Каждый умирает в одиночку» — сказано кем-то, но ведь сразу же и добавить необходимо, развить сей безрадостный постулат: умирает-то в одиночку, но и бессмертен каждый в отдельности, а не огулом. По делам к награда. Не всякая душа долговечна. Иную еще в молодости червяк себялюбия съест или моль озлобления побьет до полной непригодности.
В одни из дней той самой зимы, в разгар печали, осыпавшейся с беспросветных небес в виде мокрого мелкого снега, вновь, как и до встречи с Дашей, перестал улыбаться Аполлон. Лицо его свела судорога озабоченности. В бархате глаз вместо недавнего шелковистого блеска появилась собачья взъерошенность и как бы неприкаянность; в движениях вместо плавных победных жестов и повадок вибрирующая сумятица: прыжки, швырки, сование рук беспорядочное и даже нежданные пробежки с места в карьер. Как говорится, человека понесло. А причина самая тривиальная: денежки. Денежки, которые, исчезая, перекрывают нам как бы кислород, жизненно необходимый, — денежки, которые неизменно текли на Аполлонов лицевой счет, те самые авторские, гонорарные «мони-мони» неожиданно из тугой стабильной струйки переродились в вялую, тягомотную капель, а затем и вовсе как бы иссякли.
Беря в руки серенькую сберегательную книжечку, вынутую оператором из мозговитого аппарата, из бескомпромиссной счетно-электронной машины, которая бесстрастно и четко печатала такую прежде развеселую цифирь, Аполлон с замиранием сердца прочел: двадцать девять рублей тринадцать копеек. И это вместо прежних двух-трех тысяч месячных, вместо не столь уж далеких восьмисот и совсем недавних трехсот… Двадцать девять! Особенно жутко и как-то дьявольски бесстрастно подействовали на внезапно вспотевшего Аполлона именно эти вот проклятые тринадцать копеек… Откуда они-то, черт побери, взялись?!
Перестав улыбаться, Аполлон заозирался вокруг себя и нервной трусцой понесся в контору, занимавшуюся охраной авторских прав.
Несмотря на падение его акций, то есть денежного престижа, объективные бухгалтерийные девушки вежливо ответили ему на его робкое, подобострастное «здравствуйте». Он уже хотел, как всегда прежде, продолжить приветствие словом «девушки», однако предусмотрительно не продолжил. Не из чего было продолжать. Не из тринадцати же копеек?
И все же вежливость «девушек» ободрила. «Слава богу, — умилялся Рыбкин, — значит, помнят еще. Значит, на меня еще наверняка рассчитывают… А мистические тринадцать копеек — не в счет! С кем не бывает? Если этот денежный спад или перебой, как хочешь называй, если его, к примеру, с человеческими недугами сравнивать, то элементарная, скажем, пневмония или понос, во всяком случае не инфаркт миокарда». Мрачно пошутив сам с собой таким образом, Рыбкин двинулся по закоулкам конторы.
А по нешумному, задумчивому заведению довольно бодрым ветерком уже неслось полузабытое: «Барнаульский, Барнаульский…»
Оказывается, прежде, когда на лице Аполлона отсутствовала улыбка, ее при желании можно было вернуть, натолкнувшись на матерински-милостивые глаза Даши. Прежде Аполлон спокойно мог экспериментировать с улыбкой, то безжалостно прогоняя ее, то снисходительно возвращая на место, ибо твердо знал: с денежкой у него все тип-топ, то есть порядок. За несколько лет безбедной жизни привык Барнаульский ощущать монотонное истекание золотой струйки, да так привык, что в конце концов, лишившись элементарной бдительности, потерял над этой живительной струйкой контроль. И вот расплата: улыбка ушла, как вода в песок. Не потребовалось даже посторонних стимуляторов, таких, как игра в непризнанного гения, в осиротевший талант, в музыкальный айсберг, плывущий по воле волн среди моря непосвященных, скрывая две трети гениальности под водой равнодушия толпы… Улыбка ушла твердо, ощутимо, неумолимо, растаяв в наступившей тишине кошелька, словно монументальные шаги Командора в тишине фамильного замка.
Нельзя сказать, чтобы Рыбкин с истончением денежной струйки переменился моментально по отношению к Даше в худшую сторону. Наоборот, в разговорах с ней делался он час от часу ласковей, слова произносил трепетней, рукой по голове гладил ее осторожнее прежнего, потому что, теряя деньги, а с ними и улыбку свою призрачную, еще пуще боялся потерять улыбку Дашину, воистину для него спасительную, за которую держался инстинктивно, особливо теперь, по испарении «тельца хрустящего».
Да, собственно, и разлюбить-то он Дашу как следует за такой короткий срок просто еще не успел. Для этого подлого процесса определенный период времени требуется, даже когда любишь односторонне, то бишь не любишь как бы вовсе, а только тянешься, стремишься безрассудно, словно обуянная инстинктом рыбина, мчащаяся ввысь по горной реке к бессознательному блаженству. А тот факт, что блаженство может быть осознанным, одухотворенным, вдвойне действенным, отрицать во вдумчивой читательской среде не принято.
Спасение к Рыбкину пришло неожиданно, как гибель от упавшей с крыши сосульки. Выходя из конторы на Невский проспект, Аполлон столкнулся с душистой красавицей в расписной дубленке, так и овеявшей Рыбкина с головы до ног французскими ароматами. А произошло следующее: в момент, когда композитор из сырой петербургской парадной на проспект, словно из склепа могильного, вылезал, с крыши дома и впрямь небольшая, этак граммов на полтораста, молодая сосулечка оборвалась и где-то в метре от парадной о грязный, посыпанный солью с песком асфальт разбилась, напугав ароматную дамочку, так и запрыгнувшую на каменнолицего Аполлона, едва не свалив его с ног.
— Бар-рнаульский! — исторгла из себя дамочка и бесформенной массой рухнула в его рассеянные, однако моментально отвердевшие объятия.
Дамочка Аполлону подвернулась тогда не простая, а, можно сказать, золотая, давнишняя знакомая, с которой он лет десять тому назад обошелся не очень внимательно, не подарив ей, тогдашней девчонке, хотя бы улыбку (правда, улыбок-то у Барнаульского как раз и не водилось). Ирочка эта душистая понятия не имела тогда, что улыбка из Аполлона добывается так же непросто, как, скажем, натуральные алмазы из унылого суглинка Псковской области. Аполлон и сейчас не расщедрился на улыбку, хотя повзрослевшая и, можно сказать, похорошевшая, помощневшая как-то и одновременно помодневшая, приобретшая некую дьявольщинку в контурах и в телесных изгибах Ирочка узнала его моментально и в грусть его беломраморную, благодаря наметанному глазу, проникла незамедлительно.
— Все такой же! — зашептала ему в кожаное пальто. — Ангел писаный… Нет, Архангел! Архистратиг! Серафим шестикрылый! Демон падший! Угадала? Хочешь, верну тебе улыбку? Знаю, знаю… Наслышана о твоих бедах. Есть идея. Только обожди меня здесь минуток несколько.
Аполлон взял Ирочку за верхнюю пуговицу дубленки и хотел было уже легонько отпихнуть от себя, как букет пахучих цветов, случайно сунутых кем-то ему под нос (Аполлон недолюбливал парфюмерные «веяния»), но почему-то передумал, заколебался в последний момент, в нерешительность впал…
— Что еще?! Какая у тебя, Ирочка, может идея появиться кроме одной, самой древней?
— Самая немудреная, а значит, гениальная. Пора тебе, Аполлончик, самим собой, прежним Барнаульским сделаться. Прости, конечно, за фамильярный тон, только ведь я тебя не в шпионы вербую, а всего лишь в друзья. Иными словами, добра тебе желаю. Подождешь меня десять минуток? Да или нет?
— Ступай себе… Обожду.
— А ты умничка! — нырнула в промозглую парадную Ирочка, на мгновение перебив там лестничный кошачий запах запахом дорогих заморских духов.
Так было положено начало вызволению из небытия популярного некогда песенного композитора Аполлона Барнаульского. Лично сама Ирочка песен этого автора в эфир не запускала, на экраны телевизоров шуструю продукцию Аполлона за руку не выводила, но и в Ленинграде, и в Москве были у нее (не под началом, отнюдь, всего лишь в обиходе бытия — как принято сейчас говорить, в «сфере ее влияния», на орбите ее вращения) несколько десятков нужных ей деловых людей, лишенных так называемых розовых очков, а также поэтических восторгов и прочих, с точки зрения Ирочки, архаизмов, мешающих всматриваться в дождливо-туманную даль повседневности.
Проживала Ирочка в столице, и, когда ее ленинградская командировка подошла к концу, одержимая идеей возжечь на устах Аполлона угасший пламень, уговорила она его съездить в Москву с тем, чтобы возродить некоторые знакомства, повращаться среди новых «нужных» людей, преимущественно женщин, что-то редактирующих, чем-то заведующих, а также что-то одобряющих или запрещающих вовсе.
За три дня, оставшиеся до отъезда Ирочки в Москву, сочинил Барнаульский десяток бойких песнюшек на стихи безымянных поэтов, зарабатывающих деньги главным образом на «рыбе», на так называемых подтекстовках: кто-нибудь, скажем композитор или редактор, задает им нужную тему, а то и размер будущего стихотворения; и эти бойкие ребятишки на другой день приносят товар лицом. Оправдывая этих ребят, нужно сказать, что трудились они всегда в поте лица и даже самозабвенно, были в своем деле профессионалами неоспоримыми. К тому же многие из них писали и для себя, нечто весьма недурственное.
Продукция этих мальчиков отыскалась в нужный момент для Барнаульского буквально под боком — в шишигинском дупле. Лежали эти стихи, скомканные, полуистерзанные, в глубине спального мешка философа, ранее дававшего робким авторам свои глубокомысленные отзывы на их опусы. Во дни своей холостяцкой жизни, особливо зимой, когда у Шишигина зябли ноги, обкладывал он свои заскорузлые ступни стихами молодых поэтов, заворачивал в омытую поэтическими слезами бумагу мозоли свои изнывающие. С приходом в дупло экстравагантной Инги спальный мешок скатали в трубочку и, безжалостно вытряхнув из него стихи, поместили дряхлый инвентарь в кладовку, а под спанье приспособили великолепное ложе — в полкомнаты нестандартную тахту, купленную возле комиссионного мебельного магазина «с рук» у одной обреченной на прозябание старушки, дремавшей, а скорей всего, замерзавшей на этой тахте под открытым небом.
Две или три песенки Барнаульский сочинил на стихи тогда еще не исчезнувшего поэта Тминного. Особенно удачной и, как показалось Барнаульскому, обещающей ресторанный успех, а значит, и «карася» (так музыканты общепитовских оркестров именуют денежки, плывущие к ним из карманов подгулявших посетителей), получилась песенка на стихи Герасима Тминного под названием «Столики»:
Смотрит в душу пристально Глаз луны таинственный. Здравствуй, друг единственный, Посидим рядком… Навалясь на столики, Пусть шумят соколики, А мы с тобой, как встарь, вдвоем Про эти столики споем: «Столики нарядные, Круглые, квадратные. Сколько разных видели Вы чудес-проказ! С бирюзой небесною, С тишиной любезною, С непроглядной бездною Распрекрасных глаз!»Наспех, как курица лапой, нанес Барнаульский на толстые листы нотной бумаги развеселые закорючки, уложил клавиры новорожденных песенок в плоский чемоданчик-дипломат и, пообещав Даше вернуться из Москвы победителем, поехал на вокзал. Даша почему-то не обняла его, как прежде, провожая куда-нибудь, не поцеловала на дорогу: не нравились Даше музыкальные Аполлоновы марионетки, песенки прыгающие, не ласкали они ей душу. Скорее наоборот: чем-то они ее обижали, оскорбляли чем-то…
Билет Барнаульскому еще накануне отъезда купила деловитая Ирочка («У меня в городских кассах родная сестра первого мужа сидит: я ей Омара Хайяма, она мне билет на „стрелку“. Зачем тебе волноваться, любезный, по таким пустякам? Твое дело попевку ловить за хвост, шлягер к полету готовить. У тебя, Аполлончик, не голова, а Монетный двор! Сочиняй, чекань презренный металл. Тебе, маэстро, отвлекаться никак нельзя. Твое дело — капуста, „мони-мони“. Сиди, шинкуй. А я тебе помогу с коленей на ноги встать. Подаришь мне поцелуй воздушный или духи французские. Обож-жаю! У меня из них приличная коллекция составилась. Приходи, дам понюхать — обалдеешь!»).
По обоюдной договоренности Ирочка из Ленинграда двумя днями раньше Аполлона отбыла. Почву подготовить и все такое прочее… Каково же было изумление Барнаульского, когда он, прижимая к ногам дипломат, протиснувшись в двери двухместного покоя, обнаружил там… Ирочку! Или, по крайней мере, ее двойняшку. Выпуклую, в каком-то заморском кожаном комбинезоне, мощную, порывистую, проголодавшуюся по всем приметам, разложившую на полотенце по столику аппетитные бутерброды с балыковой колбасой, семгой, красной икрой и еще с чем-то, веселящим одновременно мозг и желудок. Мандарины марокканские из прорванной пластиковой сеточки разбрелись по пододеяльнику на постели. Бутылка коньяка лежала на откидной полочке для полотенца, как ребенок в люльке, мерцая в полутьме золотым глазом пробки.
Барнаульский, погруженный в завораживающее магнетическое поле уюта, интима, распространявшееся по купе вместе с отталкивающим запахом духов, в нерешительности топтался на пороге, лихорадочно прикидывая все «за» и «против» своей поездки на пару с Ирочкой (если это она).
Мадам, конечно, попытается штурмовать… А ведь он в этом плане далеко не Шлиссельбургская крепость, не Орешек, то есть не твердый орешек… Но главное: он совершенно не знает Дашиной реакции на такие его возможные просчеты. Угадать бы, как поведет она себя, оступись он по этой части? Может, и отмахнется? Она ведь у него святая, блаженная… Подумаешь, грех: с малознакомой, а то и вовсе чужой женщиной в двухместном купе прокатиться! Да и что с ним случится особенного? От одних Ирочкиных духов так бы и вылетел в вентилятор, под ясные звезды!
Аполлон решительно забросил чемоданчик наверх, в багажную нишу и, не поздоровавшись, подвесил на плечиках свое кожаное, подбитое ламой пальто. В зеркале, расположенном в купе напротив другого зеркала, там, в уходящей в беспредельность перспективе, куда посмотрел он краем глаза, сидела к нему спиной молодая нарядная женщина, размноженная отражениями, сидела, облокотившись о столик, курила, пуская дым на шикарные закуски.
Но почему, черт возьми, решил он, что это — Ирочка?! Похожа? Только отчасти. Ростом, конфигурацией, приметами типа, не личности. Но прежде всего — запахом духов. Ну, еще цветом волос, что ли. А вот лицом — не того. Расхождение неуловимое. Разнобой, разнотык с лицом. Правда, он ведь с Ирочкой лет десять до теперешней, ленинградской встречи не виделся. Отвык. Так что и бог ее знает: она ли это или еще какой человек, в сторону Москвы перемещающийся?
Они тихонько просидели напротив друг друга часов до трех Ночи, сопровождая возникающие мысли мелкими, крошечными, словно снежинка в рот влетела, глотками армянского коньяка.
— Представляете… Мы ведь никогда больше с вами не увидимся, — затягивалась очередной порцией дыма владелица коньяка. — Никогда! Миллиарды миллиардов лет разлуки «до» и не менее того «после». После этой вот ночи. Разлука длиною в вечность. И ради чего жили до сих пор — так и не сумеем друг другу объяснить. Через пять часов расстанемся навсегда. Только представьте себе это «навсегда»… Неужели не страшно? «Навсегда-а-а… Никогда-а-а…» Помните, как там у Эдгара По ворон каркает, этот птичий Мефистофель. Неверморр! Неужели не боязно, не зябко?
— Нисколько. Даже весело, — Аполлон капал себе на язык из стакана и бережно, как в старину хлеб на лопате в печь сажали, вносил эту каплю вместе с языком в рот. — Что ни говори, а повезло нам с вами: такая ночь! Другие-то кто где… Кто у станка в ночную, кто по шпалам пешком, а кто и в могиле. Радоваться нужно… Благодарить если не бога, так… кассиршу. Сколько людей, идеально пригодных друг для друга, несутся в данный момент в направлениях противоположных или параллельно, и никогда, права пташка, никогда пути их не пересекутся, не дотянутся они друг до друга рукой… Да что там рукой — мысленно и то не дотянутся! За ваше здоровье, мадам, за ваше тело, душу и что там еще… За вашу несбыточную химеру, то бишь Любовь. И за мою железную волю! К победе…
Темное декабрьское утро Москвы намекало на предстоящий день едва уловимым рассветом, таким робким и слабеньким, словно дыхание умирающего — хоть зеркало к губам подноси. На оцарапанном стальными скребками бесснежном бетоне платформы Аполлон и его попутчица сперва вежливо попрощались с проводницей, затаившей на лице ироническую, себе на уме, улыбку. Затем стали прощаться друг с другом.
— Кто вы? — поинтересовался протрезвевший Аполлон, выпуская ее из своего взгляда, как из клетки — на все четыре стороны.
— Зачем это вам? — она подвинула на плече, поближе к шее, кожаный ремешок сумки. — Вот видите… Сами не знаете — зачем? А все потому, что мы уже врозь. Инцидент исчерпан. Как тот коньячок славный.
— И все же… — скрипнул кожей пальто Аполлон.
— Меня встречают. Прощайте.
На другой день состоялась запланированная еще в Ленинграде встреча Аполлона с Ирочкой и какой-то эфирно-телевизионно-музыкальной дамой, жгучей брюнеткой, до того жгучей, что временами она казалась прожженной насквозь.
В довершение Аполлон так и не понял: с кем же он все-таки ехал в поезде? Духами пахло одинаково и от сегодняшней Ирочки, и от дамы в комбинезоне, с которой он вкусно поужинал в купе и о которой теперь старался не вспоминать; да, собственно, и от музыкальной брюнетки с такими сверхнапомаженными красными губами, словно их кто-то недавно наполовину откусил, пахло теми же французскими «Фиджи» или «Луиджи».
Однако, помимо духов и некоторого крена к последовательности в выборе нарядов (гладкая кожа в соседстве с замшей, джинсы с вельветом, «сафари», бархат, хлопчатка военного образца цвета хаки), вряд ли что роднило этих современных женщин, следящих за модой пуще, нежели за спасением души, чего не скажешь о встревоженной любовью Даше, по-старушечьи перекрестившей его однажды в темном дворе возле такси перед отправкой на концерт, как на фронт, с виноватой и в то же время беспомощной улыбкой на лице.
Подумав о Даше, Аполлон немедленно ощутил в себе мощное желание плюнуть на все затеянное Ирочкой, взорваться, нахамить, изваляться в еще большей грязи, но только не с Ирочкой, не в ее парфюмерной среде и сфере, а где-нибудь намного ниже, хотя бы и в привокзальном буфете, среди очумевших от дороги, вразнос пошедших милых, забавных людей, всплывших здесь, на столичной площади трех вокзалов, придя по темным коридорам, а то и трубам судеб своих откуда-то издалека, из бездонных глубин России, смешаться с ними на момент, а там и — домой, на покаяние к Дарье.
Но перед глазами Аполлона моментально возникла жалкая сумма в двадцать девять рублей тринадцать копеек. Причем тринадцать копеек мелочи сияли в разгоряченном мозгу Барнаульского, как табло электронных часов, мерцая въедливым, болотным, молчаливым светом крушения надежд… И Аполлон, передергивая плечами, словно стряхивая с себя угарное томление неизбежности, неотвратимости падения в зеленую яму греха, шел следом за Ирочкой по каким-то казенным коридорам, залам, кабинетам и галереям, совершая сакраментальные круги, после чего, по истечении определенного количества времени, на его лицевой счет вновь, со все возрастающей упругостью начнет ниспадать золотая животворящая денежная струйка.
Вернулся Аполлон победителем; к весне, когда родился Платоша, с финансами и впрямь наладилось, причем, продолжая «запускать голубей» (метафора Шишигина), то есть сочинять и тиражировать новые песенки, Аполлон надеялся, что со временем дела его пойдут все лучше и лучше, если и вовсе не достигнут прежних высот, когда он, подгулявший, сидя в каком-нибудь «неприступном» ресторане-крепости, посылал руководителю ансамбля, исполнявшего очередной его шлягер, солидного «карася» — зеленого, полусотенного колорита, с просьбой повторить!
Но вот чудо: после тогдашней его поездки в Москву, сумбурной и пряной, появилась в Дашиных глазах не печаль (она там и прежде ночевала, никем не замеченная), появилось в них как бы по облачку студеному, предзимнему, дождливому, холода близкие обещающему… Что-то непоправимое в них назрело. И главный знак беды проявлялся в постепенном исчезновении с Дашиного лица знаменитой ее негасимой улыбки, способной исцелять завзятых нытиков, возжигать огонь надежды в сердцах отпетых угрюмцев. Дашина улыбка меркла, но приобретенная Барнаульским в Москве прощелыжная ухмылка, якобы беззаботная, к физиономии его смазливой не приставала, отклеивалась постоянно, сползала подтаявшим гримом прочь, покуда на лице Барнаульского вновь ничего, кроме мраморного бездушья, не осталось…
И вот странно: никто Даше про обстоятельства тогдашней поездки ее мужа поведать не мог, исключалась такая возможность. «Тогда почему же она загрустила?» — спрашивал себя Аполлон. Не было ни анонимных писем пока что, ни звонков телефонных с придыханиями и умолчанием имени позвонившего, не было случайных обмолвок или определенных стечений фактов, когда что-то проясняется как бы само собой… Ничего такого не было, да и быть не могло. Аполлон искренне сомневался в происшедшем с ним падении: была поездка, была ночь, отдельное купе, а вот… был ли «нокаут», или просто потерял он равновесие, зашатался, одурманенный, не ясно.
Тогда почему, словно шагреневая кожа, уменьшалась, таяла Дашина улыбка? Нет, ее не смазало единым махом, не сорвало с лица, словно ветром шляпку с головы, она стала потихоньку убывать, истончаться, гаснуть, как бы выцветать на солнцепеке.
— Скажи, Аполлон… Про «вишенку» песенка, под твоей прежней фамилией Барнаульский, она что — давнишняя?
— Нет, новенькая.
— Ты что же, опять для ресторана стараешься?
— Нет, для народа. И для тебя в том числе. Ради вот этой курточки фирменной, антрекотика парного… Ради молочишка Платошинова из-под живой коровки, которых здесь в поселке на всю округу две штуки осталось. Реликтовое молочко…
— Понимаю…
Ко времени цветения сирени в дачном саду Барнаульского, то есть к моменту, с которого начиналась эта наша предпоследняя в повести глава, на лице Даши оставалось так мало улыбки, что впору было вызывать врача.
Исчезала с Дашиного лица улыбка, а вместе с ней исчезала помаленьку и сама Даша: знакомые ей люди все реже встречали ее на улицах города, домашние все чаще замечали ее отсутствующий взгляд. Потом в ее облике для них стали как бы пропадать отдельные черточки и штришки: ослаб румянец, один из уголков рта опустился, загустела, прежде почти прозрачная, воздушная синева ее глаз, нарушилась плавность и округлость движений, голосок пламенный, ясный, першащим как бы дымком подернулся, да и слов в ее копилке как бы поубавилось, молчаливее стала. И наметился весь этот ее ущерб по возвращении Аполлона из его тогдашней поездки в Москву.
Вернулся он в тот раз с глазами мутными, взъярившимися от реанимированного успеха на композиторском поприще, от столичной, вокзально-поездной суеты, полуослепший от множества сиятельных лиц и событий, от которых он не успел отойти, как сомлевшая нога, отсиженная в момент захватывающей беседы и не успевшая оттаять от сладкой, пузырьками нарзанными покалывающей боли.
Он долго пил тогда ключевую воду из красивого кувшина, стенки которого напоминали заиндевелое, морозное стекло, пил, словно помимо жажды старался заглушить, погасить в себе тревогу, вызревавшую в нем впрок, заранее до предстоящего общения с Дашей, перед которой чувствовал себя не столько виноватым, сколько неумытым.
С тех пор, с поездки этой курьезной, сто дней миновало, а хихикающий нервозно, без признаков улыбки, невпопад с настроением окружающих его людей, воспрянувший в денежном отношении Аполлон так и не распрямился полностью, ходил мимо Даши пригнувшись как бы, словно в ожидании чего-то неотвратимого.
Когда сегодня Даша кормила его зажаренным в чесноке и каких-то индийских травках цыпленком, когда она пирогом яблочным его потчевала, он и глаза-то на нее поднять побоялся, якобы трапезой увлекшись, и только отрывисто похваливал пищу, а также пышную, «сдобную» сирень, как бы пеной исходящую, выкипающую из вазы, умилялся ворчанием (или пением?) своего сына Платоши за стеной — и все это с прежним каменным лицом.
Потом они говорили недолго, но больше молчали. И Аполлон потерял на какое-то мгновение Дашу из виду, забившуюся в самый затененный угол спальни, и создалось впечатление, что Даша… исчезла. И деловой, алчный мозг Аполлона содрогнулся от мимолетного испуга, связанного с потерей опоры… В проводах и проводочках его сознания тревожным гудением неслась, волчьей вьюгой стенала паника, навеянная приближением одиночества.
Аполлон зоологическим своим чутьем догадывался, что теряет Дашу. И проистекала сия потеря буднично, на глазах, как время, как погода за окном, как отцветание трав, как осознание бренности всего материального…
— Даша, — подсел он к ней, осмелев от страха. — Что у тебя на уме? Откройся. Я ведь чую. Что ты надумала?
— Я полюбила другого.
Аполлон не упал в обморок. Не задохнулся от удушья, не побежал на рельсы под электричку ложиться и даже не побелел, как бумага, не закричал зайцем, не схватился за сердце, не затрясся в гневе, не бросился на Дашу с кулаками, глаза его не остервенели от бешенства, речь не отнялась. У него был опыт, который порождал бесстрашие.
— Кого? Летчика, что ли, штурмана долговязого? Или кого? Имя? Как зовут?
— Платошей его зовут.
— Кто это?! Смеешься?
— Нет, миленький… Не смеюсь уже. Кого теперь и любить, как не его?
— Сына?! Так и люби на здоровье! Я что, против, что ли? Я тебя о другом… О нас с тобой…
Даша медленно, с неподдельным усилием подняла руку, тихо погладила Аполлона по ухоженной, женственной голове.
— Бедненький… А ведь ничего теперь не поделать. Не до тебя мне теперь будет. Справишься? С музычкой своей? Один на один? Тебе ведь ее не из сердца добывать… Она у тебя всегда под рукой — музычка твоя дурашливая, веселенькая. А Платоша — не музычка. Платоша — душа. Его необходимо внимательно любить. Не вслушиваться, а любить. Постоянно, без антрактов. Любить, чтобы он без любви не остался, как ты…
— Заговариваешься, глупенькая. А ведь что, собственно, я тебе сделал? За песенки опять взялся. Ну и что? Это моя профессия — лудить песенки! И ради кого стараюсь-то? Да ради вас: ради тебя и Платоши. Я знаю, ты из-за Москвы! А кто попутал-то? Бес, что ли? Баба и попутала! Ваша сестра! Евино отродье! Из того же ребра содеянное, от которого и ты, миленькая, начало берешь!
— Ошибаешься. Я не от Евы. Я от Лилит. Я — прежде.
Глава десятая. Исчезновение
Есть такие цветы, по-моему, самые необыкновенные из всех дикорастущих, населяющих прохладную часть земной поверхности: это подснежники. Подснежники восхитительные — хотелось бы величать их. Неповторимо прекрасны они прежде всего потому, что являются взору первыми. После однообразного зимнего безмолвия и бескрасочья подснежники, если ваша натура не обросла изнутри ржавчиной, непременно заставят вас улыбнуться.
Фиолетовый глазок этой низкорослой, до отчаяния жизнерадостной травки оповещает мир о приближении тепла, о воскрешении из дремотного полубытия бактерий и насекомых, меланхоличных дубов и отощавших медведей; и все они славят Любовь, породившую эту жизнь, и не только породившую, но и охраняющую ее от исчезновения гораздо надежнее многих армий, вооруженных по последнему слову техники.
Не знаю, как кому, а мне лично подснежники (даже белые) милы еще и оттого, что недолговечны. Первыми появляются из-под стужи, первыми и нисходят в небытие на пороге красочного карнавала природы, именуемого в России словом «лето». Вестники радости, отдохновения духа — вот что означают для меня подснежники. Сигналы надежды всем отчаявшимся: вот, мол, взгляните на нас и знайте — не все, так сказать, потеряно, а может, как раз наоборот — все только впереди… И любовь, и смысл, и вера в значимость, нужность твоего явления миру — все это не за горами…
Так и некоторые люди являются мне в образе неких подснежников, несущих первую, столь необходимую нам радость, являются гонцами грядущей любви, света, надежд наших. Только люди эти, как и прообразы их синеглазые, некрикливые, обладающие едва уловимым ароматом и немудреной раскраской, слишком хрупки и ранимы, слишком недолговечны, и от первого же неосторожного прикосновения к ним грубой посторонней руки вянут, превращаясь если не в прах, то в воспоминание, для одних — мимолетное, незначительное, для других — стойкое, волнующее душу до глубокой зимы, а то и до нового поколения подснежников.
После того как мы оставили наших главных героев на даче возле Финского залива в самый разгар цветения сирени, прошел год. Но какой! Для Даши это был год прозрения: она увидела сына, себя в сыне. Год захватывающей новизны, неизведанных дотоле движений, звуков, видений, запахов. Год прорастания в ее сознании корней материнства.
Платоша часто болел. При всей его небывалой смышлености тельце его неокрепшее начало постигать жизнь с преодоления страданий. Простуды, расстройства, воспаления, истощения и, наконец, нечто странное, малообъяснимое, когда мальчик впадал как бы в беспредельную спячку, и его нужно было кормить искусственным путем. Глаза его были неделями открыты настежь, живые, распахнуты в мир живой, но мышцы не знали сокращений. Даша сутками просиживала над угасающим сыном, словно оглушенным свалившейся на него жизнью, шрапнельным разрывом грохнувшей у него над головой. Она пристально всматривалась в его отверстые безмолвные глаза, в затухающий румянец на щеках, в заговорщицкую, единственно не поддающуюся распаду улыбку на губах, обнадеживающую и, вместе с тем, отпугивающую.
Иногда мальчик прекращал голодовку, просыпался, начиная помаленьку вращать зрачками, шевелить пальчиками, разминая как бы сомлевшие мускулы.
Однажды после двухнедельной неподвижности Платоша внезапно очнулся, сделал несколько гимнастических упражнений руками, а затем даже сел в кровати торчком, и что важно — совершенно самостоятельно. Такой, не по годам развитый умственно, обжигал он Дашино сердце своей телесной беспомощностью, фигуркой своей распластанной, взывающей к ласке, снисхождению, жалости… И она жалела его до изнеможения, до забвения себя. Отрывали ее от Платоши только путем подмешивания в ее случайную пищу или питье снотворных порошков. Спасти дитя, выцарапать его из вялых, но цепких, липких щупальцев болезни! Этим и жила весь тот летаргический, смутный, не прошедший, но как бы нехотя сползший с них год.
Платоша, которому в конце концов полегчало, внешне ничем от детей подобного возраста не отличался. Разве что глаза его были крупнее обычных раза в два, чем он непрестанно пугал случайно очутившихся на его пути людей и прежде всего — старушек. Выскочит бесшумно из-за угла дачи да как глянет! Даже Нюра Хлопотунья не могла привыкнуть к Платошиным глазам, даже сама родительница неоднократно приседала от неожиданности.
Что ни говори, но сынок у Даши получался не совсем обычным. Таковым было мнение не только досужих, скамеечных кумушек, но и самого Аполлона и бабушки Ксении с дедушкой Афанасием, бывавших на даче Барнаульского редко не только из-за назревшей неприязни к хозяину дачи, но и по причине тайного панического страха, вселяемого в них малолетним внуком. Боялись они вовсе не глаз мальчонки, страшились речей его взрослых, нередко ехидных, словечек непонятных, а то и вовсе нехороших, боялись его непосредственности, его раскрепощенных манер в обиходе, когда он ни с того ни с сего мог громко произвести непотребный звук при посторонних, боялись подарков его щедрых, когда он запросто мог предложить прохожему собирателю винно-водочной стеклотары золотые отцовские запонки на добрую память, боялись чудовищной способности Платошиной — говорить о людях все, без утайки…
Сидя возле стола в детском кресле-невыпадайке, замкнутый на дощечку и с накрахмаленной солидной салфеткой на груди, заменяющей слюнявчик, нежданно-негаданно преподнесет Хлопотунье:
— А вы, тетя Нюра, опять в рыночную сметану палец совали, а может, у вас на пальце под ногтем вирус!
Хлопотунья моментально с лица сходила, начинала посудой скрежетать и оправдываться:
— Вот те хрест, не совала! Срам-то какой…
Или фонарщика, деда своего, смущал:
— А вы, дедушка Афанасий, опять тайком от бабушки маленькую бутылочку водки купили и лавровый лист жевали в уборной.
— А ты что же, подсматривал, как я жевал? Ах ты, стервец… — улыбался подогретый с устатку Афанасий Кузьмич. — С таких-то лет шпионить! Унюхал, Шерлахомс трехвершковый…
— А ты, бабушка Ксюша, в папину сберкнижку заглядывала… А это нехорошо…
Ксению Авксентьевну после Платошиного заявления целых полчаса валерьянкой отпаивали. И под язык кое-что совали.
А соседке по даче, расфуфыренной, вечно накрашенной без меры Нинели Кимовне прозорливый Платоша такое выдал, после чего она и вовсе перестала бывать у Барнаульских, чем многих обрадовала, особенно Аполлона, не терпевшего пряных запахов и вообще настрадавшегося от дамочек.
Ковыряя пальцем в носу, Платоша заявил:
— А к вам, Нинель Кимовна, приходил дядя в кожаных шортах и целый час чинил вам какой-то нагревательный прибор, хотя на дворе тепло, а ваш муж находится в командировке.
Естественно, что Платошу, имевшего к тому времени чуть больше десяти килограммов веса, многие стали побаиваться, старались не попадаться ему на глаза. Однажды сынок и на родного отца язычком своим неукротимым замахнулся и хотел уже что-то «душещипательное» при гостях поведать: «А ты, папа, в Москве, в гостинице…» Однако, не успев досказать, Платоша получил от родителя небольшую затрещинку. И вот что замечательно: в голос после этого не заплакал, но лишь пристально посмотрел на отца, затем на мать и, видимо, что-то уяснив для себя, сказал: «Больше не буду». И действительно никогда с этих пор ничего необдуманного не произносил.
Первым успел тогда пожалеть ошарашенного пощечиной Платошу Дашин братец Георгий. Он ловко, со спортивным изяществом выдернул племяша из хитроумного кресла, прижал малого к своей холостяцкой груди. Глаза каратиста налились сперва слезами, затем нежностью.
Впоследствии с дядей Жорой у Платоши возникнет многолетняя дружба. Начнем с того, что остроязыкий, экстравагантный носитель свинцовых вериг, противник брачных союзов, а значит, и всех семейных последствий, в том числе, казалось бы, и детей, этот обладатель множества приемов каратэ и дзюдо, неожиданно и почти совершенно преобразился, прижав тогда глазастенького Платошу к своему натренированному организму. Человек чаще всего сам не знает, что ему в жизни требуется для полного преображения, то есть для единственно правильного шага, после которого, как принято говорить, люди находят себя. И еще: Платоша и дядя Жора, несмотря на разницу в возрасте, были очень похожи друг на друга — и внешне, и характерами. Случается, когда окружающие говорят: а дите-то у вас в мать или там в отца удалось, а то и в дедушку с бабушкой, чего не скажешь о Платоше. Наше дите удалось в дядю.
Когда Аполлон с Дашей и Платошей на дачу к себе перебрались, Георгий, теперь уже дядя Жора, после работы мчался на «жигуленке» прямиком по Приморскому шоссе, попутно прихватывая в пригородных курортных магазинчиках необходимую снедь, но, в основном, так называемые игрушки. «Так называемыми» игрушки эти я не случайно обозвал, ибо игрушек в их заурядном, номенклатурном смысле и значении Платоша не употреблял, пользуясь для своего развлечения предметами более широкого профиля. Платоша очень любил играть, скажем, в книги. Допустим, откроет и как бы даже почитает, шевеля губами, приобретенную дядей Жорой в пути очередную уцененную, копеечную книжку, задумается, в затылке почешет и начинает из этих уцененных, никем не читанных книг домик строить. После туда какую-нибудь тварь садово-огородную обязательно поселит, вроде червя дождевого или плодожорки, а то и клопа вонючего, травяного — красивого, изумрудного; хотя чаще всего помещал он в сооруженный домик почтенного, тучного паука с великолепным крестом на спине.
Любил мальчик в дяди Жорины гантели и двухпудовые гири играть, которые за неимением необходимых силенок от земли пока что не отрывал, предпочитая катать их по полу, как недозревшие арбузы, круша на пути посторонние предметы.
Помимо проникновения в книги и способности часами слушать грустную классическую музыку, Платоша подолгу мог копаться в земле, работая миниатюрной саперной лопаткой времен войны. Копая, уходил глубоко в землю, в песок, иногда метра на два, и однажды его засыпало, и Даша с Хлопотуньей буквально с ног сбились, разыскивая его по участку, а затем и в поселке. И просидел он так в собственноручно выкопанной могилке довольно долго, пока дядя Жора с работы не примчался и бездыханного Платошу из-под песка не извлек. Сказался ли тут болезненный опыт, когда Платоша неделями мог трупом лежать, почти не дыша и вовсе не шевелясь, или еще какая сила повлияла, но Платоша довольно быстро пришел в себя, очнулся и дяде Жоре подмигнул. Родители по неопытности отшлепать его вознамерились для острастки хорошенько, да не тут-то было: дядя Жора мигом всех кого куда разбросал, от ребенка толпу отодвинул, на руки его схватил, а мальчонка весь к дяде Жоре так и прижался, щекой об него трется и всем поочередно кукиш с маслом показывает.
— Отдайте его мне! — угрожающе клянчил дядя Жора, окатывая родителей ребенка встревоженным, чумовым взглядом. — Я из него Председателя земного шара сделаю!
Необходимо дальше сказать, что песенки Барнаульского опять вошли в моду. Музыканты-исполнители на всем пространстве огромной страны, заполняя рапортички, повсеместно в графу «автор музыки» вписывали вертящуюся на языке, застревающую на шероховатой поверхности их запоминающего устройства фамилию Аполлона, вследствие чего живительная денежная струйка, падающая на его лицевой счет, вовсю наращивала благословенную целительную мощь.
Однажды Аполлон взлетел на крыльцо дачи, нагруженный подарками, — подобно ковру-самолету. Шикарный модный плащ для Даши и разные электроприборы для разглаживания кожи, завихрения волос и моментального приготовления скоромной, то есть мясной пищи. Французские духи, завязанные наглухо в два полиэтиленовых мешка, дабы не источали ненавистного Аполлону парфюмерного чада угарного, и еще кое-что по мелочи. Платоше настоящий, самоварного сияния альт-саксофон. Пусть приобщается, музицирует пусть, попутно развивая грудь и затыкая себе рот, способный извергать неугодные для родительского слуха словосочетания.
Барнаульский не менее часа слонялся по дому в поисках Дашиного к себе расположения, пытаясь разглядеть в извивах помещения ускользавший образ жены, бродил под аккомпанемент немудреной, но весьма осмысленной игры сына на саксофоне, моментально освоившего сверкающий инструмент. Мальчик ставил трубку, напоминающую курительный кальян Востока, изогнутым концом на пол, и, сидя на туалетном стуле с зияющим отверстием в днище, с нетерпением подбирал мелодии папашиного репертуара.
Аполлон перемещался мимо супруги на расстоянии нескольких сантиметров. Воздух, взъерошенный напором его тела, касался Дашиных ресниц, слегка вздымал ей волосы, но Барнаульский чуял, как она сейчас далека от него, и вряд ли имеет смысл вторгаться к ней со своими телячьими восторгами.
Наконец Даша сжалилась над ним и безмятежным голосом позвала к столу, к самовару кипящему.
Аполлон схватил ее за руку.
— Что происходит? Почему ты от меня прячешься? Объясни ради бога…
— Я не прячусь. Наверно, стала менее заметной…
— Почему, почему?
— Успокойся. Ты стал рассеянным. Видишь, я пришиваю молнию к штанам Платоши? Прежде я всегда что-нибудь тебе пришивала. Теперь чаще Платоше. Это закономерно. Тебя стало меньше, потому что от тебя отделился он. Отпочковался. Отсюда и ощущение, будто тебя позабыли…
— Ну что ты такое городишь, девочка?! Учти, с некоторых пор ты мне стала как бы еще дороже…
— Спасибо.
— Верни улыбку, Даша. Не жадничай. И сама улыбнись…
И тут притихший было Платоша торопливо, как-то кубарем, по-щенячьи бросается к матери, лезет, карабкается к ней, стараясь пробиться поближе, бессознательно хватаясь за ее руки, складки платья.
— Мама, мама! — заливаясь слезами, журчит, поскуливает, сопя и захлебываясь, Платоша. — Мамочка дорогая, верни ему эту его… улыбку! Не обижай папу, родненькая! Папа у нас талантливый.
Даша ласково обхватила ребенка, стала запихивать Платошу куда-то себе под шерстяной платок, накинутый на плечи, гладить малышу темные кудряшки на голове, где с каждым днем все явственнее проступали какие-то слишком взрослые, ранние залысины с обеих сторон лба, оставляющие посередине унылый волосяной мысок, говорящий о том, что и он, этот мысок, в недалеком будущем исчезнет.
«Мальчик не по годам серьезен, проницателен», — сжималось у Даши сердце от тоски, от ласки к своему восхитительному уродцу. Бережно, с каким-то невеселым трепетом поцеловала она сыночка в угрюмую головку, прощупала ее губами, как бы ища причину сыновней и своей тревоги. После чего смело и открыто к мужу подошла и, встав на цыпочки, вежливо так и самоотверженно поцеловала его в губы. Тихо и медленно, как перед незначительной разлукой.
Аполлон неуверенно улыбается, вздрагивая, как от удара током.
— Бедный, бедный наш папа. Он потерял улыбку. Только ведь у него ее никогда и не было. Моей пользовался… А мне она тоже теперь ох как нужна. Для сыночка. Для не очень веселого Платошеньки. У меня предложение: давайте мою улыбку разделим на троих? Вот бы славно… Так что и успокойся, Платончик. Не обижу я папу твоего. Просто я… постарела немного. За этот год. И мне сейчас по теории Шишигина, скажем, девяносто лет. По этой теории человеку в одно и то же время разное количество лет можно дать: то меньше, то больше, в зависимости от переживаний. Вот и тебе, Платоша, кровиночка моя, разве дашь полтора-то годика? А все почему? Способность переживать за других — не такая, как вот у остальных. Выдающаяся способность. Кстати, а что Шишигин? Что-нибудь слышно о нем?
— Игнашка с Ингой яхту купили… — слово взял дядя Жора. Растопырил язвительные усики в усмешке колючей, но тут же опомнился, подобрел на глазах, притушив в себе вздыбившуюся энергию, словно вулканчик, передумавший извергать из себя накопившуюся лаву. — Купил, значит, яхту. Ну, естественно, по нашим дачным меркам яхту. Захотелось им так величать свой катерок чумазый, даже краской на обшивке посудины обозначили: «Дупло интеллектуала». И в море вышли. Ну, не в море, а здесь, в Маркизову лужу. Средняя глубина — два с половиной метра. Ну, мотор и заглохни. Ветром и дождем понесло их в Балтийское море. В сторону одной капстраны, которая с нами при Петре Первом в состоянии войны находилась. Ну, их и взяли на абордаж пограничники наши. А затем и на буксир взяли. Они там с Ингой в «Дупле»-то своем полузатопленном так намыкались, натерпелись, так через край хлебнули, что потом их от пограничников оторвать было невозможно, так они с солдатиками обнялись крепко. Особенно философ усердствовал. В открытом-то море сразу всей своей затхлой теории отщепенства ревизию навел…
Затем Даша опять как бы выскользнула у Аполлона из глаз, но это с композитором скорей всего из-за наливки произошло. Озираться он начал, на стуле ерзать и, пожевав кое-как, с помутневшим взором выбежал во двор, потом сел на велосипед и куда-то поехал. Может, и на камушке посидеть поплакать.
— Что у тебя с этим… Рыбкиным? — решил наконец Георгий откровенно с сестрой на щекотливую тему поговорить. — Нелады у вас? Или раскусила ты его?
— Зачем же так грубо? Аполлон — не кость, я — не собака. Понимаешь, я сама виновата. Вот как черемухи бывает после зимы нанюхаешься взахлеб! От жадности… А голова-то и заболит. А то еще, сказывают, на юге цветок водится. Такой яркий, прелестный, а понюхаешь — и с ног долой. Сама я, Жорик, виновата. Не на том, не на его языке с Аполлоном разговаривала. Разные мы. Он и рад бы понять, что происходит со мной, да где уж тут… Про таких, как я, в его окружении говорят: «с луны свалилась». Помнится, в Петропавловке, когда экскурсии водила, заговорил со мной старичок один симпатичный. Австралиец. Не по-английски, а, как ему казалось, по-русски заговорил. Только я ничего понять не могла вначале. Старичок по церковно-славянским древним книгам язык наш изучал. Представляешь? Все эти «еси», «аз», «иже», «выя», «ланиты», «якоже», «ирцы»… Так и я по отношению к Аполлону. Думала, на русском объясняюсь, оказалось — на каком-то старомодном наречии… Сама ударилась об него, сама и лечить себя буду. У меня теперь сын. А Барнаульский не пропадет.
— Это уж — будь уверен! У Барнаульского — хватка…
— Меня другое, Жорик, изумило и обидело: куда Рыбкин-то подевался? Гений-то? Да и был ли он, имелся ли в природе? Помнишь, как на пианино-то играл? Мурашки по коже. Меня тогда всю так и перекосило, так и перекорежило. Теперь распрямись попробуй… Нет, каким был звонким! Такое ведь не придумаешь, не притворишься таким. Значит, было в нем что-то…
— Это не в нем было. Это над ним. А в нем — «Адель», «Столики квадратные», ресторанная метель-карусель!
— Выходит, что же — двойной?
— Да, как и все мы, грешные. В добре и зле. Одновременно. В кислороде, но больше — в азоте…
— Нет, не все. Вспомни Ларика…
— Ларика? Это который на всех кидался? Ну, знаешь ли, Ларик твой с завихрениями мальчик был, с тараканами в голове. Говорят, махнул он куда-то вдаль, чуть ли не на БАМ. Родители ничего, живы, кондрашка их не хватила. Должно быть, прячут парня от дружков-товарищей, заслали куда-нибудь.
— Нет, Жорик. Ты не знаешь. Вернее, не чуешь. А я чую, Ларик исчез, потому что отравился… враньем! И я тому невольно способствовала. Своими колебаниями, сомнениями. Надо было хватать парня и в дом тащить… А Барнаульский — инвалид духовный. Не талант. Талант — это свет во мраке сомнений. А получилось наоборот. Мрак жизненный светлее нутра Аполлонова оказался… Сердце-то хоть и звучащее, но искусственное. Не способное к моему прирасти. Как там про это пишут? Отторжение. Только в нашем варианте отторжение двух мироощущений… И обвинять, собственно, некого. Анализ духа не сделают в поликлинике. Мне бы и простить его, то есть понять. А я все жалею, жалею, ну как вот калеку очередного…
Летом, в теплом, душистом июле, окропленном частыми, но короткими крупнокалиберными дождиками, приезжал Стас. На выходной день — позагорать у балтийской водички. Адрес Аполлоновой дачи назвали ему Дашины старики, к которым он заглянул, возвратясь из длительной африканской командировки.
— Вы летчик? — спросил его первым делом маленький Платоша, никогда прежде не встречавшийся со Стасом.
— Да, штурман. Но как ты угадал, карапуз? Я ведь не в форме… И вообще.
— Во-первых, никакой я вам не карапуз! А такой же, как все, человек. Мужского пола. Так, значит, вы летчик? Пилот?
— Не пилот, а штурман. Однако — летаю. На международных линиях.
— А почему не космонавт? Почему не на межпланетных линиях? Необходимо дерзать.
Долговязый Стас неожиданно почувствовал себя не в своей тарелке, руки на животе сложил, как где-нибудь на медкомиссии, где догола раздевают, головой по сторонам завертел, ища поддержки со стороны Даши, сидевшей под сиреневым кустом на лавочке.
— Не обижайтесь на него, Стасик. Он ведь еще дитя… — Даша, неумело шевеля спицами, пыталась что-то вязать. — Платоша добрый мальчик, вот увидите…
— Даша, а я вам портрет композитора Вивальди привез. Помните, обещал? Сувенирчик! И набор пластинок с его сочинениями. Оттуда…
— Откуда оттуда?
— Из Италии! С места его рождения. Сами просили, чтобы непременно оттуда.
— Ах, как же, как же… Просила. И ждала. Некоторое время. И очень вам благодарна. А вы что же… так долго в Италии были? У меня уже сын родился.
— Нет, в Италии был я всего два дня неполных. Но потом я еще дальше улетел. Но музыку этого Вивальди с тех пор при первой возможности слушал. И поверьте — привык! На концерты хожу, друзья по этой линии завелись. Одним словом, пришлась мне, полюбилась музыка эта давнишняя…
— Неужели пришлась? Не верится как-то… Такой мощный. В таких шортиках несерьезных, с таким загаром африканским, и вдруг — музыка Вивальди… Монаха. Добровольца армии Христовой.
— Да я, знаете ли, вообще… У меня вот и профессия все еще романтическая, неземная… А что? Хоть и современная, а что-то в ней есть от вековечной мечты — подняться над собой! Ходить, плыть, на машине по шоссе мчаться, педали крутить, на лошадях или еще на каком живом существе передвигаться — все это в одном измерении, на Земле, в ее пределах, на ее поверхности. А тут ты в ином пространстве, бескрайнем, непознанном. С краешка, правда, только как бы ногу или голову просовываешь… и сразу отдергиваешь, как из воды ледяной океанской. Но уже — там побывал! В тайне. В будущем. А сам-то ты земной, земельный и всего лишь как бы нос наружу высунул ненадолго. Воспаришь малость, скользнешь вокруг планетки и вновь на посадку, в объятия «матушки». А музыку эту, чего уж там скрывать, исключительно из-за вас полюбил. Как старинное вино драгоценное употребляю, по капельке. Для наслаждения. Не для веселья, не для гульбы. Бальзам, одним словом.
Из обитого натуральной кожей (крокодила, бегемота, броненосца или утконоса?) чемоданчика плоского, тисненного по своей поверхности замысловатыми вензелями и монограммами, а также гербами, извлек Стас квадратный пакет с пластинками и литографированный со старинной гравюры портрет композитора, аккуратно вставленный в картонное паспарту, — хоть сейчас на степу вешай.
— Господи! Это ж надо запомнить. Одна беда: от хорошей музыки мне сейчас больно. И страшно. Как-то не по себе. Конечно, это временно… такая аллергия. А портрет я возьму непременно. Это не колготки заморские. Умница вы, Стасик…
Из-за куста вывернулся на своих мелюзговых ножках плешивенький Платоша.
— Скажи, мама, а это что — икона? На которую бабушки молятся?
— Нет, Платоша, это портрет композитора.
— Песенки сочиняет? Как мой папа?
— Это гениальный композитор, сыночек…
— А почему так плохо сфотографировали?
— Когда он жил, фотографии еще не было. С некоторых людей рисовали портреты. Часто — символические, на которых не конкретное лицо изображалось… Тьфу! — опять говорю, как на экскурсии, не отвыкнуть никак… Рисовался как бы его собирательный образ, а в нем весь смысл назначения, судьбы того человека…
— Ты хочешь сказать, мамочка, что на этом рисунке не обязательно композитор Вивальди нарисован?
— Нет, маленький, именно Вивальди! Только в жизни он, всего вероятнее, был другим. Внешне. Человек на протяжении жизни несколько, а то и множество лиц имеет. Плюс воображение художника, его своеволие. В итоге от Вивальди, которого видели, наблюдали его современники, его родственники, после колдовства живописца могло ничего не остаться. Особенно, если художник средних способностей. Гений неизбежно ухватил бы истину! Как бы она ни ускользала от него. А теперь, сынок, скажи дяде Стасику спасибо за картинку. И повесь ее у себя на гвоздик, на тот, где прошлогодний календарь висит.
Платоша принял портрет с достоинством.
— Спасибо, дядя Станислав. Мне музыка Вивальди тоже нравится. Меня дядя Жора три раза на его музыку в Капеллу в рюкзаке проносил. Чтобы людей не раздражать. Младенец заплакать может или засмеяться неожиданно. Это публика так думает. Как будто музыка сама не плачет и не смеется? И еще мне его музыка, Вивальди этого, потому нравится, что… маму напоминает! Да. Ты, мама, такая же красивая и грустная. А вы знаете, дядя Стасик, мама солнышка не заслоняет! Сквозь нее вообще видно хорошо: и море, и воздух, и дачу, и вот вас… Разве не так?
Стас неуклюже, судорожным движением захлопнул чемоданчик, прищемив себе палец. Деревянные, на толстой доске-подошве сабо его протестующе заскрежетали. А затем, опомнившись и взяв себя в руки, отважно, как перед хирургической операцией, исход которой весьма проблематичен, улыбнулся на прощанье.
— Все, знаете ли, ожидал. Но такого мальчика… Просто диву даешься!
— А мне нравится. Славный ребенок.
— Еще бы он вам не нравился! Вы — мама. Да и что вам не нравится, хотел бы я знать?
— Ой, да господь с вами, Стасик! Да мне ничего уже не нравится — ни вот как готовлю, даже пирог с яблоками… Вязать и то не получается. С мужем разногласия. С братом сына не поделить. Старики на дачу ездить перестали. Хлопотунья замуж выйти не может. Все мои друзья куда-то исчезли… А сама, сама-то я разве женщина? Разве жена? В трех соснах запуталась. Не нравлюсь я себе… Больше, чем когда-либо. Понимаешь, Стасик, для женщины нет ничего страшнее разочарования. Всякое разочарование — это всегда маленькая смерть, а то и не маленькая. Не все из нас признаются в печалях своих. Но душа-то их так же, как и моя, надламывается всякий раз, изничтожается постепенно от тех разочарований неизбежных.
…А потом была телеграмма от Потемкина, от бугристоносого паникера. Как всегда, истошная, визгливая, взывающая.
«Выручай. Есть возможность спасти от погибели Тминного. Шутки в сторону. Отзовись. Срочно жду обители. Еще не поздно. Эдуард».
А следом — вторая:
«Рассчитываю на твое доброе сердце. Ожидаю муравейнике».
Даша собралась моментально. Вернее будет сказать: Платошу собрала — в комбинезончик непромокаемый, дорожный, весь в молниях застегнула, запаковала мальца, зачем-то причесала редеющие кудряшки на его голове, а сама в чем была, то есть в одном дачном халате и с болтавшейся на волосах бигудиной опрометью из дверей вылетела, держа Платошу в охапке. Чмокнула Хлопотунью куда-то в ухо и, посадив на заднее сиденье пикапчика сына, запустила двигатель.
Хлопотунья за голову схватилась, слезы в ее глазах наметились. Тогда Дарья стекло в машине опустила и Хлопотунье «Прощай!» крикнула, а затем и еще несколько слов, но уже приоткрыв дверцу:
— В город я! Там и оденусь!
— Дашенька, голубушка, да разве так можно в город, в таком-то виде?! ГАИ оштрафует! Не собравшись, не причесавшись…
— Нюра, золотко, меня зовут! Телеграмма была! Может, успею! — и захлопнула створку, прищемив кусочек халата, который выглядывал из щели дверной, словно лохматое ухо нерасторопной собачонки.
И Даша умчалась.
Хлопотунья запомнила, как в последний момент, когда уже колеса «жигуленка» понесли, из форточки заднего сиденья высунулась серьезная голова Платона. На его неказистом, обычно угрюмом личике сияла такая широкая, по всему его облику разбрызганная улыбка, что у Хлопотуньи, поймавшей эту улыбку, малость отлегло от сердца. Улыбка мальчонки несла признаки такого огромного облегчения, словно и не в тесной машине уезжал он куда-то, а в просторы бескрайние птицей возносился.
Вместо эпилога
На берегах Невы, а также ее ответвлений в черте города есть такие плавучие ресторанчики, «поплавки», как принято их называть. На одном из этих уютных дебаркадеров, что причален к берегу в районе Островов, возле парка отдыха, встретились два человека, с трудом узнавшие друг друга, так как виделись в жизни всего несколько раз, да и то мельком, не проникая за время этих отдаленных одна от другой встреч друг в друга ни острым словом, ни оригинальной мыслью, ни, тем более, кардинальными поступками.
Объединяло этих людей, да и то незримо, потаенно, одно романтическое обстоятельство: оба они когда-то любили (по крайней мере, так им казалось, что любили) одну и ту же забавную (так им казалось, что забавную) женщину, забавную и одновременно славную, но все-таки больше славную, хотя и оригинальную.
Солидный песенный композитор Аполлон Барнаульский встретился со все еще летающим Стасом, уже не штурманом, но командиром, успевшим на такового переучиться, успевшим возвыситься в собственных и в чьих-то еще глазах, да и вообще — успевшим основательно утвердиться под небом.
Барнаульский в ресторанчик нагрянул с целой компанией пестро одетых людей, скорей всего музыкантов ансамбля и приданных группе солистов — женщин и мужчин. Эта группа, должно быть, отмечала какое-то музыкальное событие, связанное с «творческими усилиями» Барнаульского.
Помимо музыкантов, Аполлона сопровождала все такая же кожаная и душистая, все такая же нестареющая, загримированная раз и навсегда под девушку Ирочка, что помогла ему в трудную минуту захирения композиторской популярности. (Сам Аполлон, живя с Ирочкой вот уже пять лет, так и не осмелился завести разговор о ночном купе в «Красной стреле», о тех вкусных бутербродах под армянский коньяк, о той призрачно-метерлинковской встрече, дабы раз и навсегда, отринув сомнения, уяснить, с кем он тогда ехал: с Ирочкой или еще с кем-то, существенно не отличавшимся от нее?)
Музыкальная бригада заняла несколько столиков, сдвинутых плечом к плечу, тогда как Стас, все такой же стройный, огромный, выделяющийся в толпе, как неприступная крепость среди избенок, утвердился возле окошка в относительном одиночестве — незнакомая парочка за его столом торопливо доедала своего цыпленка, собираясь продолжить гуляние в парке, — и к моменту, когда на пилота обратил свой тщеславный взор Барнаульский, внешне начинающий помаленьку сдавать, наш летающий Голиаф преспокойно посматривал в замутненное, полуослепшее окошко плавучего заведения на «быстротекущие воды» Малой Невки, пребывая за своим столиком в одиночестве абсолютном.
Не мной первым замечено, что если пристально, концентрированно, этаким лазерным пучком посмотреть на человека, в данный момент отвернувшегося в противоположную сторону, то сие отвернувшееся лицо неизбежно ощутит беспокойство.
Барнаульский, обнаружив за столиком у окна внушительную фигуру, не менее минуты неотрывно сверлил немигающими глазами человека в летчицкой форме, мучительно вспоминая, где он прежде подобное нестандартное тело видел? В свою очередь, Стас незамедлительно ощутил легкое пощекотывание в мозгу, заерзал на стуле и, естественно, заозирался, ища источник импульса.
И тогда разомлевший от коньяка, популярности и женского щебета Аполлон с бутылкой шампанского и двумя чистыми фужерами, тщетно, как воду из камня, пытаясь выжать из себя улыбку, направился, чуть прихрамывая, через отведенное под танцы пространство прямиком к столику Стаса.
— Разрешите? — согнулся в актерском полупоклоне Аполлон, заведя руки с бутылкой и фужерами далеко за спину. Малинового цвета незастегнутый пиджак умопомрачительного покроя во время поклона распахнулся створками, словно дорогой, старинной работы шкафчик красного дерева…
Стас нерешительно приподнялся, нависнув над Барнаульским, точно изумленный садовник над кустом роз, распустившихся зимой под открытым небом.
— Барнаульский! Даши Тимофеевой бывший муж… Припоминаете?
— Даши Тимофеевой? У нее была такая простая фамилия? Бывший? А что же она? Жива… по крайней мере?
— Жива. А бывший — потому что развелись. Так вы не в курсе? Дела давно минувших дней… — каким-то замысловатым, но довольно ловким движением отвел Аполлон прихрамывающую ногу себе под стул, присаживаясь и сразу же разливая шампанское по фужерам. — Мне почему-то казалось, что она теперь с вами что-нибудь этакое… поддерживает, ну хотя бы переписку. Что же вы? Пластинки дарили… И вообще, под музыку Вивальди! Значит, в неведении? Жаль. Потому как и я достоверными сведениями не располагаю. Так, слухи одни… Когда разводились, я ей дачу предлагал: живи, пользуйся моей добротой. Собирай своих юродивых под одну крышу, рисуйте, стихи пишите, играйте в живых, в настоящих. Однако не приняла подарок, от такой дачи отказалась! И слава богу. Теперь я репетирую там. С ансамблем. По части употребления шампанского! Ха… Значит, в неведении? Ну, тогда помянем, как говорится, на добром слове. Женщина была нестандартная. Даже не женщина вовсе, а миф какой-то. Не так ли, э-э, Святополк или как вас — не могу в точности… Светозар? Помню, светлое что-то в начале имени…
— Станислав. Расскажите, если можно, хоть что-нибудь. Я ведь ничего не знаю. Работа… в пространстве. Страны, города… Семьи не имею. Слухами не пользуюсь. У нее ведь сын! Помнится, такой тоже… забавный мальчик. Развитый не по годам. Неужели о собственном сыне ничего не знаете? Как они? — Не получив моментального ответа, Стас резко поднялся и сам, минуя официанта, побежал в буфет, в ресторанные кулисы, принес оттуда бутылку коньяку и тут же налил себе и Аполлону по рюмке, опорожнив свою, не отводя глаз от композитора.
— Она от алиментов тоже отказалась. Представляете? Ходил к ее старикам, в табор этот дурацкий, предлагал деньги. Ну, чтобы, значит, ребенку их переправляли… Адреса-то я не знаю Дашкиного. Так эти самые родители ее… А! И говорить-то об этом противно, не стоит, одним словом.
— Отказались от денег?
— Еще как! Фонарщик этот, хамло, понимаешь… В спину стал кулаками толкать меня… Идиот старый. В общем, не знаю, не в курсе. От меня она сбежала… по телеграмме.
— То есть как это, по телеграмме?
— А так! Пришла телеграмма. От придурка одного. С которым она нянчилась постоянно. Завела машину… Кстати, мою, личную, затолкала в нее ребенка — и поминай как звали. В одном халате спальном слиняла.
— А где же все эти… ну, окружение ее? Рисовали, стрелялись, стихи писали… Все эти «одуванчики великолепные», как она их звала? Может, они в курсе, где ее искать?
— Одуванчиков тоже никаких не осталось. Знаете, почему их нет? И Дарьи в том числе? Потому что они были… ненастоящие: мнимые, не плоть от плоти жизни, а претензии одни. Я вот он и есть, и вы, Светозар, есть, и команда моя — вот она, и коньяк! Потому что мы — это сама жизнь, мясо ее! А их нету, одуванчиков, и правильно! Они приснились. Их и не было никогда. И пошли они к…
— Ну зачем же так сурово? Если вы есть и вам хорошо, тогда почему обижаетесь на призраков? Тени они и есть тени. Пусть себе сквозят в ночь. А? Или же… люди они? Только какие-то другие, нежели мы с вами? А я с превеликим бы удовольствием повидался с любым из них.
— Да искал я на первых порах. Только времени у меня в обрез, искать. Год назад от нечего делать заезжал однажды в мастерские художников, в башню такую… нелепую с виду. Дарья туда частенько наведывалась. Думаю, дай разведаю. Как-никак, а все ж таки отец я ребенку. Интересно узнать и все такое прочее. Только там теперь, в башне этой, не мастерские вовсе, а какой-то детский клуб спортивного назначения. По-моему, с альпинистским уклоном. Потому что дети на башню при помощи канатов залезают, лестницами вовсе не пользуются, а взбираются на этажи снаружи. У меня с Дашкиным исчезновением своих забот дополна появилось. Машиной меня сбило… Ногу вот покалечило. Одна короче другой теперь. Каблук на левом ботинке наращиваю. Едва оклемался. Какая-то «Волга» голубая или синяя, сумасшедшая одним словом, затормозить не успела. Кого-то догоняла, какую-то другую машину. От первой я увернулся, а вторая меня поддела… И давай бог ноги. А получилось… У меня колечко на остановке такси, обручальное, с пальца соскочило… Крутил, крутил его, поворачивал, задумавшись, привычка такая была, и вдруг — соскочило! И покатилось по асфальту. Кинулся я за ним, позабыв обо всем… Из-за газетного киоска. Сам, конечно, виноват… А потом — ничего уже не помню. Очнулся в травмпункте. На столе. Так-то вот… А Дашка?.. По версии Шишигина… Слыхали о таком? Дуплист, философ. Однако не одуванчик. Просто лентяй. Так вот Шишигин о Даше так сказал: Дарья роман пишет. О композиторе Вивальди. Работает в каком-то музее маленьком, куда люди почти не ходят: не успевают якобы… В больших, популярных музеях намыкаются за день, а на маленький уже сил не хватает. Так вот, мол, сидит там и пишет роман. О своем монахе. Все логично. Сидит и грезит. Только я Шишигину не очень-то верю. Потому что на мой вопрос: а что, значит, за музей такой, где расположен, — ничего путного не ответил. Я, говорит, и сам про это краем уха уловил. Треплется, скорей всего, дуплист.
— Ну а что он… Шишигин? Женат по-прежнему?
— А-а-а…. Тьфу ты, господи! Как же это я… Простите: выпало из башки! Может, вам неприятно, только у Шишигина трое детей. Квартира трехкомнатная. Игнашка изменился изрядно. Внешне. Бороду сбрил. Румяный, пузатый. Из-под лестницы Музея утильсырья выбрался окончательно. Работает на дому — что-то по кустарной части. То ли петушков на палочке сладких отливает, то ли кактусы на продажу разводит или рыбок декоративных. А Нюра так и сияет от счастья! Вот уж кто судьбой-то доволен…
— Что значит — Нюра? Вы хотели сказать — Инга?
— Нюра. По прозвищу Хлопотунья. Возле Дарьи все отиралась… В таборе с Шишигиным в лото играла…
— А Инга? А дети чьи?! Трое?..
— Дети — Шишигина. Все трое. Один ребенок, кажется девочка, от Инги вашей, пардон… И еще двойня — от Хлопотуньи. Инга буфетчицей на лайнере ходит… В капстраны.
— Та-а-к…
— Ну а вы-то как, простите, Святополк, вернее Святослав? Почему о себе ничего не расскажете? Хотя бы в двух словах.
— Для чего? Неинтересно. И все же… почему она, так сказать, исчезла? Ну, хотя бы по вашему разумению? Изменили вы ей? Или роман о Вивальди не позволяли писать?
— Слишком она… целиковая была, ни убавить, ни прибавить. Есть такие растения, забыл, как называются. Так вот, от растения такого нельзя не то чтобы листочка — волосинки малой отщипнуть не можно: завянет моментально. Обидится как бы и умрет.
— К Даше это сравнение не подходит. Она хорошо на ногах стояла. И листочки с нее обрывали, а душа в неприкосновенности оставалась всякий раз. А как же вы-то, композитор, работник искусства, неужели, живя с ней, не ощутили вы, что она… святая?
— Ощутил. Святая, убогая… Потому — и бог с ней! Не мое. И кстати замечу — не ваше. Да, да… Не ваше, не летческое, ни еще какое морское или сухопутное! Даша — ничья. Богу богово. А нам с вами — коньяк с шампанским. И вот эти вот воспоминания. Простите за беспокойство.
Аполлон Барнаульский, с трудом выпростав из-под стула покалеченную ногу, выпрямился, склонил голову в резком, театральном броске на грудь и, повернувшись от Стаса, довольно сноровисто заковылял на высоких своих каблуках в сторону раскрасневшихся музыкантов, где и затерялся спустя мгновение.
А Стас, которому сделалось вдруг нехорошо от выпитого, но еще более паршиво от общения с развинченным, малиновым Аполлоном, расплатившись, устремился к выходу из заведения.
Выбравшись из парка, поймал он такси, попросил шофера ехать на Дворцовую площадь. Там в ночном, опустошенном полумраке долго кружил вокруг гранитной колонны, где металлический ангел на освещенной вершине, как бы отсеченный прожекторным лучом от столпа, парил в небе бездумно и одновременно как-то неуверенно, словно недавний слепец, прозревший и отпущенный без поводыря во мрак ночной.
Бесшумно ступая по нерушимой брусчатке, неся на губах отблески давнишней Дашиной улыбки, прохаживался вокруг незримой колонны Стас, кружил, вспоминая далекую встречу с Дашей, блуждал до тех пор, покуда дежуривший возле Эрмитажа сержант не подошел к нему и не попросил огонька.
1983



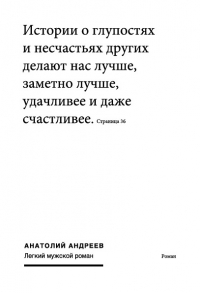



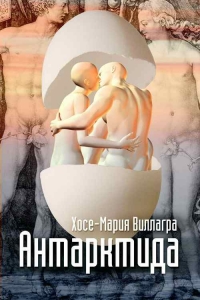




Комментарии к книге «Первые проталины», Глеб Яковлевич Горбовский
Всего 0 комментариев